Генри Олди Гарпия
Мы, маги, самонадеянны, как никто в мире. Создавая дворцы и разрушая города, жонглируя заклинаниями и играя чарами, мы носимся с Высокой Наукой, как дурень с торбой, как дикарь с палкой, к которой он впервые прикрепил острый камень, и не замечаем, что мироздание безразлично к новоявленным владыкам. Уверенные, что все познаваемо, подчиняемо и изменяемо, или в крайнем случае – уничтожимо, мы запираем себя в клетку предубеждений, держимся за прутья и хохочем в лицо каждому, кто заявит о нашей ограниченности.
Кажется, что наш хохот сотрясает основы бытия. Но нет, он всего лишь гаснет в пяти шагах от клетки. Там, в темноте, сверкают чьи-то глаза, там кто-то ходит на мягких лапах, там слышится жаркое дыхание зверя. Клетка, ты ограждаешь нашу свободу? – а может, ты просто спасаешь нас, могущественных калек, от шанса сделаться легкой добычей?
Из записей Нихона СедовласцаИ однажды воображение пришло мне на выручку, и я создал богов; а затем пришлось сотворить и людей, чтобы те поклонялись богам; а также и города, где они будут жить, и королей, которые будут ими править; но королям и городам потребны имена, и великие, веские имена нужны широким рекам, которые – я видел это – ночами текут по королевствам.
Эдвард Джон Мортон Дракс Планкетт, 18-й барон ДансениPrologus
– Большой курятник, – сказал дедушка, улыбаясь. – Это я о Реттии. Большой, грязный и, главное, тесный курятник. Тебе будет трудно там.
В голосе деда звучало понимание, спокойное и доброжелательное. Так солдата отправляют в разведку, откуда мало шансов вернуться с донесением, так благословляют на дальнюю дорогу и трудную работу, зная, что уходящий редко приносит домой удачу, а работник – богатство. Так разговаривают с равным, поручая важное дело и не оскорбляя слезливым, лишним сочувствием.
– Мы рождены для простора, а его в Реттии мало. Люди кидаются на каждую крупинку, стараясь успеть прежде конкурента. В итоге – свалка, давка, и никакого простора. Он затоптан ногами. Нам свойственно размышлять, не торопясь, а в столице для этого вечно нет времени. Суета – их девиз. Я знаю, я жил в городе шесть лет. И три года – при храме Шестирукого Кри.
Вперевалочку, неуклюже раскачиваясь, он подошел к самому краю скалы. Стоя над обрывом, дедушка смотрел туда, где ветер оглаживал ладонью мохнатые облака. Внизу, на гребнях волн, вскипали барашки – и буйными отарами неслись прочь, как если бы море пыталось уподобиться небу. Горластые чайки устроили базар, сбившись в стаю над Тарренским мысом. Осторожно, словно боязливая девчонка – пальцами ноги, солнце пробовало воду краешком диска.
От места соприкосновения тянулись ленты: алые, желтые, багряные.
– Ничего, дедушка. Я справлюсь.
Келена с любовью смотрела на старика. Она знала: едва покинув Строфады, она обратится для деда в воспоминание. Черно-белая картинка, факт, не отягощенный чувствами. Старик будет помнить все, что видит и переживает в данный момент, но не станет волноваться за внучку. Просто ожидание. Миссия Келены чрезвычайно важна для племени. Но сердце от этого не забьется чаще ни на одну сотую такта. Да и она сама, оставив родной остров позади, вспомнит о дедушке без лишних сантиментов.
Надо пользоваться радостью в настоящем. Грустить сейчас, восхищаться здесь; беспокоиться над обрывом, а не в ста шагах от него или в падении. Сиюминутность – единственная крепость, которая заслуживает обороны. Для обитателей Строфадской резервации нет якорей в прошлом и будущем.
За спиной Келены тянулся луг – бурый, высохший от летней жары. Когда осень осчастливит землю дождями, на лугу распустятся цветы. Гиацинты, фиалки, дикие пионы придут на смену весенним красавцам: ирисам и тюльпанам. Еще дальше пейзаж был выдержан в серых тонах, оживляем лишь желтизной зарослей дрока.
– Идет буря, – заметил дедушка. – Ветер усиливается. Воздух сухой, как глотка у похмельного забулдыги. Облака слоятся. Уверен, к полуночи грянет.
– Хорошо бы, – согласилась Келена.
На закате она отправлялась в путь. И очень надеялась на бурю. Дед прав: рваные края облаков, чехарда ласточек, резкое похолодание – все сулило шторм. С другой стороны, внезапная смена погоды могла быть результатом усилий заклинателя ветров, выполняющего чей-то заказ, или волхва-процеллера, нанятого на пиратский корабль – отводить непогоду в сторону. Если так, нет резона предсказывать, что случится через час – буйство стихий или полный штиль.
– Научись, девочка. Многие из наших считают твой поступок бессмыслицей. Кое-кто – безрассудством. Единицы – шансом построить мост над пропастью. Я бы назвал это крыльями, да боюсь показаться выжившей из ума развалиной.
Келена засмеялась. Слово «боюсь» потешно звучало в устах дедушки, который ничего и никогда не боялся. Страх мало свойствен обитателям Строфад, а дед прожил такую длинную, богатую, полную событий жизнь, что самый храбрый страх побледнел бы от ужаса и удрал со всех ног, предложи ему судьба принять в ней участие.
Старик обернулся. Келена подалась вперед, впитывая, запоминая черты дедова лица. Морщины, складки, «лапки-царапки» в уголках мудрых, чуточку насмешливых глаз. Горбатый нос, похожий на клюв орла. Пряди седых, местами – грязно-серых волос падают на плечи. Щеки запали, подчеркивая остроту скул. Подбородок резко выпячен вперед – борода у мужчин из народа Келены не росла, в отличие от усов, зато подбородок удавался на славу, соперничая с носом.
Родное, знакомое с детства лицо. Нет, поправила она себя. Это лицо, девочка, ты узнала не сразу. Раньше дед был красавцем. Скоро он опять станет красавцем – на год, в лучшем случае, на два. И тогда – все. Грусти сейчас, девочка, не теряй драгоценных секунд. На закате грусть останется здесь, а ты даже не обернешься, не взглянешь через плечо на одинокую, печальную грусть, брошенную на берегу, словно драное тряпье.
Впрочем, смотреть дальше, чем следует, ты тоже не станешь. Не увидишь тревогу, приплясывающую на том конце пути, и боязнь провала, и дурные предчувствия. Свора чаяний и опасений может изойти дребезжащим лаем – не вижу, не слышу, не знаю. Тебя не учили выборочной слепоте, ты родилась такой.
И ни разу не пожалела об этом.
– О деньгах не беспокойся. Стипендия тебе обеспечена. И достойное содержание. Нетрудно сторговаться, если потребности малы. Хочешь, мы принудим их раз в месяц покупать тебе новое платье? Парча, шелк, бархат – хочешь?
Оба улыбнулись. Прощаясь, они много и с удовольствием смеялись. К слезам, пророчила бабка Айзер-гюль, старейшина рыбацкого поселка на южной стороне острова. Бабка сама не смеялась, и другим не велела. У рыбаков слово женщин звучало громче мужского. Наверное, это и послужило причиной, по которой их род не оставил Строфад, когда острова объявили резервацией под властью Реттийской короны. Все переселились на Закмос, Тутир, Дактиль; самые бойкие – на материк, в восторге от обильных компенсаций. Даже монахи-скрытники, рыдая, покинули обжитые, намоленные землянки, а упрямцы-рыбаки не двинулись с места. Деньги от казны они получили, что называется, до гроша, отдали женам и матерям, те спрятали монеты в кубышки, на черный день, зарыли в тайном месте, под елью у развалин древней цитадели – и отправили мужей ловить морских черепах, ибо сезон.
У женщин корни растут глубже, думала Келена. А у наших женщин – еще глубже, хотя многие считают нас бесчувственными. Наши корни так глубоки, что достигают ваших бездн – потаенных, скрытых от вас самих. Философия, говорите вы. Религия, говорите вы. Высокая Наука, в конце концов, говорите вы.
Новые земли и новые пути, говорим мы.
Спасибо за доступность.
– Постарайся все-таки помочь больному. Боюсь, там очень запущенный случай, – сказал дедушка. Теперь слово «боюсь» прозвучало естественно и совсем не смешно. – Будь осторожна.
Он сделал последний шаг и кинулся вниз со скалы.
Келена выждала минуту-другую и подошла к обрыву. Пряный аромат лавра и шалфея, тимьяна и розмарина, вечный запах летних Строфад тянулся за ней, как плащ. Змея просквозила в траве и убралась подальше, в тень колючих кустов фриганы, стойких к засухе. Солнце блаженно тонуло в море, разбрызгивая винно-красную воду от горизонта к берегу.
– Я постараюсь, дедушка, – пообещала она.
В полночь началась буря.
Liber I Мрачная с Островов Возвращения Caput I
…Надломив крыло из ваты,
Ляжем в облака, как в склепы.
Мы, поэты, редко святы,
Мы поэты, часто слепы.
Томас Биннори– Купите цветочек, сударь!
Цветочница Герда считала себя плоть от плоти Веселого Тупика, и не без оснований. Двенадцать лет назад ее подкинули здесь – не вполне здесь, скажем честно, но рядом, за углом – к порогу храма Добряка Сусуна. Жрецы-отпущенцы сжалились над бедолагой, мокрой и синей от крика. Шесть месяцев дитя обихаживали, как могли, неумело, по-мужски проявляя заботу и втихомолку радуясь живой душе, далекой от греха. Затем девочку взяла под опеку бабушка Марго, верная прихожанка, укрепив благой порыв содержанием, назначенным ей от храма.
Жила бабушка Марго, считай, в Веселом Тупике. Ну ладно, считай не считай, а положа руку на сердце – близко, пять минут ходьбы, не больше. Перекресток Кладбищенской и Трубача Клауса, домик под крышей цвета свежей ржавчины, третий этаж. Герда была не первой у старушки. Кристиан, для друзей – Крис-Непоседа, еще один внук-приемыш, успел раньше девочки обосноваться в тесном бабушкином жилище и в просторном бабушкином сердце. Талант карманника, проявившийся в раннем детстве, дар брать без спросу и вовремя уносить ноги, за который Кристиан удостоился похвалы Прохиндея Морица («Сопляк, ты кончишь жизнь на виселице!») лишь добавлял парню любви близких людей.
«Что бы ни нес, лишь бы в дом!» – говаривала Марго, чихая от доброй понюшки табака, и морщинки славными лучиками освещали ее лицо.
Бабушка всю жизнь торговала цветами. На покой она вышла прошлой осенью, передав семейное дело в руки Герды, цепкие и надежные. С младых ногтей девочка привыкла ходить за Марго, цепляясь за передник бабушки, а там – и самостоятельно. Владельцы оранжерей вздрагивали по ночам от изумления, смешанного с ужасом. Им снилась прелестная крошка, милый бутончик, торгующийся за каждый лепесток с азартом конокрада. Девочка научилась безошибочно определять, какие цветы завянут в скором времени, и всучивала покупателю именно этот букетик. Звонкий голосок привлекал клиентов, наивное личико даже в прожженном цинике будило любовь к прекрасному, а проклятья, летящие в адрес скупердяев, поражали цель без промаха.
Иные брали по три, по четыре букета, только бы «дурное орало» заткнулось.
– Купите цветочек, сударь!
Вотчиной Герды вскоре сделался Веселый Тупик. Набегавшись по городу, она раз за разом возвращалась сюда: так хищник, затаившись, ждет в засаде у водопоя. В Тупике, месте укромном и скрытом от досужих глаз, часто случались дуэли. Победитель, секунданты, лекарь, а то и побежденный, если оставался жив, с охотой брали у «цыпочки» розы – алые, пурпурные и багровые. Герда не знала, отчего драчуны предпочитают розы, схожие с лужицами крови, насаженными на шипастый клинок стебля, и не стремилась разрешить загадку. Корзина опустела, и ладно. Здесь же, в Веселом, студенты любили прижать к стеночке хорошенькую зеленщицу или душечку-прачку, сорвав поцелуй. Астры, георгины, а бывало, что и принц-гладиолус всегда оказывались кстати, если у студента завалялась монетка-другая, чудом спасшаяся от вчерашней пьянки.
Имелась в Веселом Тупике еще одна причина, по которой жители Реттии, колыбели изящных искусств, захаживая сюда, с охотой обзаводились цветами. Но о ней Герда помалкивала, боясь спугнуть удачу. Девочка, хоть и была в ту пору глупышом-несмышленышем, помнила, как причина возникла сама собой, без видимого повода, приехав в столицу верхом на пегом муле – и острым умишком понимала:
«Что явилось ниоткуда, грозит исчезнуть невпопад!»
Да, Герда обещала в будущем стать достойной преемницей бабушки Марго – и в торговле, и в мудрости, и в добросердечии. Хотя последнее, услышь девочка о таком казусе, она оспорила бы в любом суде, не нуждаясь в адвокатах. Есть возраст и положение, когда доброе сердце числится скорее в пороках, чем в заслугах. Ты преисполняешься гордости, если тебя кличут злюкой, но отзывчивость звучит обидно, на манер рохли и мямли.
– Купите цветочек, сударь!
Мужчина, рослый дворянин при шпаге и плаще, не обернулся. Секундой раньше он вошел в Тупик, погружен в раздумья. Шляпа, надвинутая на брови, размеренная походка человека, который никуда не торопится – ждет не он, ждут его; стук колес кареты-невидимки, остановившейся за углом, ибо пассажир изъявил желание пройтись пешком – все выдавало в дворянине особу значительную, следовательно, денежную и, возможно, щедрую.
Мудрость улиц: «звону» в кармане не всегда сопутствует желание поделиться.
Дворянин (Герда для себя окрестила его «верзилой») в подробностях осмотрел сперва корзину, а после – маленькую цветочницу. На Герду так смотрели впервые: не видя, не замечая, скользя по поверхности, будто башмак по первому льду. Казалось, верзила способен с одинаковой небрежностью взять букет, ударить девочку по щеке или подпрыгнуть и улететь в вечернее небо.
Вместо этого дворянин почесал кончик носа, отвернулся и двинулся дальше. Герда шумно вздохнула, лишь сейчас обнаружив двух спутников верзилы – старичину и хлюпика, согласно ее личному реестру «кобелей». Хлюпик напоминал кузнечика, старичина – гусеницу. Первый – вприпрыжку, второй – ковыляя и охая, они поравнялись с девочкой, стараясь не отставать от дворянина в плаще.
«Драться явились, – решила Герда. – Верзила заколет хлюпика, а старичина подтвердит, что все было по-честному. Жалко, розы кончились. Ничего, продам георгины. Они тоже на кровищу смахивают…»
Она ошиблась. Драться гости Веселого Тупика не собирались. Верзила остановился у входа в заветный домик, где жила еще одна причина , и задумался, медля взяться за дверной молоток. Душа Герды запела: хвала Вечному Страннику, без цветов не обойдутся! Их трое, полкорзины заберут. День прожит не зря…
– Купите цветочек, сударь!
– Уйди, дитя, – велел хлюпик.
Это он напрасно. Чуя поживу, Герда становилась злее дикой кошки. Ради возможности укусить, вцепиться в живое мясцо, она частенько жертвовала и самой поживой – повод делался лишним, мешающим словесной баталии. Не в деньгах счастье, а оскорблять себя всяким прохвостам мы не позволим. Это нам-то уходить из Веселого? Это мы-то – дитя?
Герда не сомневалась, что с легкостью удерет от хлюпика, а уж от доходяги – и подавно. Значит, возмездия за дерзость можно не опасаться.
– Жадины! Скряги! Медяка пожалели бедному ребенку! Чтоб вас скрючило в три погибели! Чтоб ваши кишки играли отходной марш с ночи до утра! Чтоб вам зудело без почесуна…
Верзила с хлюпиком и ухом не повели. Зато старичина замер, как вкопанный, принюхиваясь. Герда была готова дать голову на отсечение – дряхлый мерзавец нюхал ее вопли. Шевелились мохнатые ноздри; слова влетали в них, отдавая хозяину не смысл, но запах.
Наконец старичина сморщился и чихнул.
– Пусть вам, жмотам, икается…
– Уймись, отроковица, – ласково произнес старичина, и Герда ощутила, как язык сворачивается в трубочку, где внутри, розовым червячком, спряталась немота, и снаружи тоже воцарилась немота, щекоча зубы опасным, зимним холодом. – Не надо желать случайным встречным целый ворох гадостей. Это дурно. Тебе говорили, что это дурно, или я у тебя первый?
– Оставь ребенка, Серафим, – велел дворянин. – Она не со зла.
– Разумеется, не со зла, – кивнул старичина. – Исключительно из благих намерений. Я же чую: она преисполнена любовью. Аж наружу брызжет. Отроковица, твое счастье, что Вышние Эмпиреи глухи к таким болтушкам, как ты. Кройся в твоем оре хотя бы одна скверная инвокация… Клянусь Нижней Мамой, я превратил бы тебя в чертополох и скормил на обед ближайшему ослу. Когда в следующий раз захочешь пожелать счастья ближнему, вспомни меня. Хорошо?
«Чтоб ты сдох!» – подумала Герда, тщетно пытаясь заговорить.
– Все смертны, – не стал перечить мерзкий старичина. – Рано или поздно я сдохну. Но не сейчас, к твоему великому сожалению. Давай сюда корзинку, моя прелесть. Люди искусства обожают цветы. Томас – не исключение. Вот и преподнесем…
Руки Герды помимо ее воли протянули корзину вперед. Хлюпик принял вынужденное подношение, не моргнув и глазом, а верзила достал из кошеля монету и швырнул ее цветочнице. Он бросал, не глядя, и промахнулся бы, угодив денежкой в водосточную трубу. Но хлюпик вдруг оказался в трех шагах от места, где стоял, взял монету из воздуха и через плечо закинул Герде прямиком в кармашек передника, вышитый по краю красным «живчиком».
Не теряя времени, Герда вытащила нежданную плату и остолбенела: на ладони блестел золотой бинар!
– Чтоб ты сдох! – запоздалым эхом вырвалось у девочки, даже не заметившей, что дар речи вернулся к ней. – Сударь, за такие деньжищи хоть каждый день!.. и ни слова, ни полсловечка… да хоть в чертополох, хоть ослу на обед…
Она тараторила, уставившись на сокровище, губы плясали джигу, язык молотил чушь, словно с привязи сорвавшись, а в «шустрой соображалке», как Герда звала голову, творилось невообразимое. «Стой! – кричала интуиция, первой учуяв возможную беду. – Угомонись, дурища! Не лезь на рожон…» Впрочем, верзила не обращал на цветочницу никакого внимания. Он стучал молотком в дверь дома, не замечая, что девочка смешно кивает, будто кланяется, в который раз сличая его профиль с профилем, отчеканенным на золотом. Вопли Герды сделались тише, превратясь в обыденную скороговорку, снизились до шепота…
– …ни словечка… никому!.. ваше величество…
Эдвард II, король Реттии, уже забыл о смешном ребенке. И королевские спутники – лейб-малефактор Серафим Нексус и Рудольф Штернблад, капитан лейб-стражи – повернулись спиной к Герде, пятившейся прочь из Веселого Тупика. Так оставляют поле боя, сдавшись на милость превосходящим силам противника – медленно, изо всех сил пытаясь не удариться в бега, сохраняя остатки достоинства.
Нечасто цветочницы продают георгины королям.
– …ни-ни…
Она действительно никому ничего не рассказала. Бабушка Марго, Крис-Непоседа, подружки, соседи – никто не узнал от Герды, что король без свиты, только с двумя близкими людьми (каждый из которых стоил целого сонма придворных), на ночь глядя явился в дом Томаса Биннори, барда-изгнанника.
Человека, о ком в последнее время шептались:
– Слыхали? Ага, рехнулся! С ума сбрендил, рифмоплет…
Молчать девочке стоило большого труда. Иногда – непосильного. Но, пожалуй, именно с этого вечера, научившись держать язык за зубами, Герда перешагнула межу детства, и судьба ее сделала резкий, опасный, неизбежный поворот, приведший ко многим последствиям. Истории часто начинаются так – с персонажа второго-третьего плана, о ком и забыть не грех, и вспомнить невредно.
Истории жестоки к своим участникам.
Но об этом – как-нибудь позже.
* * *
– Прошу вас, ваше величество!
– Я рад видеть тебя, Абель. Как он?
– Трудно сказать, ваше величество. Иногда мне кажется, что дело идет на поправку. А случается, что я готов молиться кому угодно, хоть демонам преисподней, лишь бы…
Привратник, слуга (единственный в доме, не считая стряпухи), друг и спутник поэта, а временами – нянька и сиделка, Абель Кромштель гордился тем, что король зовет его по имени. Даже не так – что король вообще помнит его имя. Он не обиделся бы, зови его Эдвард без затей: «Эй, ты!..» – приказывая мановением руки. У королей уйма державных забот, куда им помнить имена мелких людей, вроде Абеля! А вот поди ж ты… В мире было всего два человека, за кого Абель не задумываясь отдал бы жизнь, или убил по их велению – мэтр Томас и Эдвард II, кумир и благодетель.
В остальном он был начисто лишен гордыни.
Даже на рынке он стеснялся торговаться, потупляя взор. Мясники, хлебопеки и продавцы овощей знали это качество Абеля, и – удивительное дело! – не спешили им воспользоваться, теша сиюминутную корысть. Напротив, сбрасывали цену сами, а потом долго провожали взглядом нелепого покупателя, которого вроде бы грех не облапошить, и в глазах торговцев сияло что-то, напоминающее отблеск стихов Биннори – комических, трагичных, разных.
– Добрый вечер, Абель!
– И вам здравствовать, мастер Нексус! И вам, сударь капитан! Следуйте за мной, я провожу…
Узким коридором, где гости шли гуськом за Абелем, воздевшим к потолку канделябр с зажженной свечой, они выбрались во внутренний дворик. По дороге гобелены на стенах впитывали без остатка любое произнесенное слово, даже шепот, даже шелест дыхания. Ковровые дорожки гасили звук шагов. Плиты, которыми был вымощен двор, прошитые на стыках мхом, позволяли ступать бесшумно – шершавая поверхность приникала к подошвам нежно, будто чуткая любовница.
«Правильно, – думал король, ожидая встречи и боясь ее. – Вдохновение капризно, его легко спугнуть. Скрип, кашель, трость упала на пол – и все, пиши пропало. Гений исчез, оскорбясь, осталась пустая, страдающая оболочка…»
Этот дом подарил барду он. Не за счет казны – за личные средства, унаследованные от предков. Приобрел здание у прошлого владельца, сделал ремонт, купил мебель и уговорил Биннори принять жилище в дар, как знак уважения к таланту. С детства, еще сопливым инфантом, Эдвард привык так утверждать: приобрел, сделал, купил – хотя, разумеется, он лишь отдавал распоряжения. Вот уговаривать довелось лично, и труд, видит Вечный Странник, стоил остальных усилий с лихвой.
Какое там «труд»! – пахота, рудники, перетягивание смоленого каната… Строптивый, независимый Биннори сменил на дорогах изгнания десяток королевств, пять курфюршеств и одну маленькую, но чрезвычайно обидчивую деспотию. Перебравшись в Реттию, он готов был спать под забором и петь в тавернах срамные куплеты, беря с забулдыг по медяку за строчку, но ни в коем случае не зависеть от власть предержащих. Понадобилось время, прежде чем гордец понял, поверил сперва сердцем, а там и умом: король менее всего желает купить себе новую игрушку. Дом, содержание, приветливость венценосца – не подкуп, не милостыня, но знак признательности.
Самое мелкое, что может сделать богатый и властительный для талантливого и вдохновенного.
«Овал Небес, отчего простые истины – наиредчайшие? – думал король, глядя на поэта. – Я вспыльчив, упрям и капризен. Я хорошо знаю себе цену. Цену Биннори я тоже знаю. Вряд ли в будущем меня вспомнят лишь потому, что при мне творил этот человек. Надеюсь, сыщутся и другие причины помнить Эдварда II. И все же, все же…»
Томас сидел в кресле-качалке, дирижируя гусиным пером в такт каким-то своим мыслям. Перед ним не было чистого листа бумаги, чернильницы, ножичка для очинки перьев; перед бардом не было даже стола. Не ждала, прислоненная к поручню, верная арфа, готовясь запеть под ловкими пальцами – прибрасывая , как любил говорить Биннори, новый мотивчик.
«Нет, не пальцами, – вспомнил король. – Он играет ногтями. Встретив его в первый раз, я сразу удивился его ногтям – мало кто из дам способен похвастаться такой ухоженной, щегольской красотой. Тогда я еще не знал, что это – инструмент… Женственный изгиб арфы, струны из латуни, а ногти, чудится, вырезаны из слюды. Похожие окошки делали раньше в светильниках, прикрывая огонь. Проклятье, рядом с ним я сам делаюсь поэтом! А ему сейчас не нужен бездарный коллега, ему нужен спаситель…»
Длинные волосы падали Томасу на лицо. Вот он прикусил кончик пера, еле слышно рассмеялся и с силой откинулся на спинку кресла, едва не упав навзничь. Все происходило, как обычно. Если не приглядываться, то в доме царил рядовой вечер, один из многих.
– Он так сидит с рассвета, ваше величество, – тихо сказал Абель. Длинная физиономия слуги вытянулась еще больше, став грустней грустного. – Я трижды приносил ему поесть. Он отказался. Заявил, что эльфы и песнопевцы едят стрекозиные крылышки. Так и заявил: крылышки, мол. Воду, хвала небесам, выпил. Заходил лекарь Ковенант…
– И что?
– Ничего. Посмотрел, расстроился и ушел. Медицина, говорит, бессильна.
Эдвард кивнул, мрачнея.
– Твое мнение, Серафим? – обратился он к лейб-малефактору.
Прежде чем ответить, старик минуту или две смотрел перед собой невидящими глазами. Сейчас, анализируя мана-фактуру больного, он стал похож на безумца куда больше, чем веселый, спокойный, умирающий Томас Биннори. Длинный нос, состоявший, казалось, из сплошных хрящей, заострился до невозможной, бритвенной остроты, как у покойника. Космы седых бровей взлетели на лоб, словно чета лебедей; острые зубы прикусили нижнюю губу.
Можно подумать, Нексус согласился бы окаменеть навеки, лишь бы не отвечать королю.
По правде сказать, лейб-малефактор чувствовал себя отвратительно. Он наблюдал у поэта все классические признаки порчи, но в жилище порчей и не пахло. Никто не злоумышлял против Биннори, никто не калил в печи вынутый след, не наматывал краденый локон на веретено, пришептывая «окорот». Ни одна живая или мертвая душа не имела к происходящему касательства, кроме, разве что, души самого Томаса.
Ситуация противоречила естеству Высокой Науки: признаки – налицо, последствия – в полном наборе, а причина отсутствует категорически.
– Увы, мой король, – разлепил старик пересохшие губы. От его обычной ироничности, присутствующей даже тогда, когда он разговаривал с монархом, не осталось и следа. Для сведущих людей – а Эдвард и молчаливый капитан Штернблад, вне сомнений, были сведущими – это давало пищу для размышлений. – Я не вижу картины магической атаки. Наверное, старею. Велите, и я завтра утром подам в отставку.
– Что ты видишь? – спросил король.
Слова об отставке он пропустил мимо ушей. Лишь объявилась новая, строгая морщинка на лбу, уведомляя: король настаивает на более подробном ответе.
– Будь я моложе, я сказал бы, что этот человек хочет умереть. Что он избрал наилучший способ самоубийства, недоступный прочим беднягам. Но я стар, и не сделаю такой ошибки. Сударь Биннори не хочет умереть. Он просто умирает. Чахнет без повода, уходит куда-то, куда нам с вами нет дороги.
Лейб-малефактор закряхтел, страдальчески пытаясь растереть себе поясницу. Услужливый Абель мигом придвинул старцу второе кресло, и Серафим Нексус с блаженным стоном опустился на сиденье, плетеное из прутьев ивы. Право сидеть в присутствии королей он получил еще в царствование Эдварда I, отца ныне здравствующего монарха.
«Если тебя хватит удар в моем присутствии, – сказал его прошлое величество, скупой на привилегии, – я огорчусь. Но не слишком, и не надейся. Считай, я избавляю себя от твоих вздохов, оханья и скрипа суставов. Корысть, любезный Серафим, корысть движет миром. Копни поглубже благотворительность, обязательно найдешь корысть…»
Рассыпавшись в благодарностях, Нексус воздержался от комментариев.
Мало кто знал, что дряхлость, а вернее, ее внешние проявления сопутствуют матерому вредителю Серафиму с юности. Еще будучи учеником Йохана Порчуна, а позднее – студентом Универмага, он избрал такое поведение, как способ накопления маны. Каждому свое: маги Нихоновой школы практикуют «Великую безделицу», отчего становятся похожи на грузчиков, гармоники-ноометры вертятся в безумном танце, от которого у всех, кроме самих ноометров, возникает тошнота и головокруженье; рисковые некроты берут заем у Нижней Мамы, рассчитывая на сносные проценты, мантики по сто раз на дню прибирают свое жилище, закручивая энергетические потоки винтом…
Общую теорию накопления маны читали на первом курсе Универмага, не делая различия между факультетами. Впоследствии, на лабораторных работах, учащимся помогали вычленить и осознать индивидуальные особенности маносбора. Те, кто был глух к нюансам собственного тела, обрекали себя на пожизненную ограниченность.
Серафим Нексус поймал старость за хвост, когда она пробегала мимо, и превратил в инструмент. Будто мастер-резчик, приступающий к работе, он оглядывал пространство вокруг себя, определял количество и качество доступной маны, намечал цель, после чего начинал выбирать средства. Одних стамесок не меньше десятка: охи – прямые, ахи – фасонные, вздохи – радиусные, жалобы – коробчатые, сетования – уголковые, кряхтение – U-образный церазик, вид доходяги – клюкарз с поперечным изгибом лезвия…
Вооружившись, Серафим резал. Реакция окружающих помогала, создавая дополнительный вектор всасывания. Сочувствие уплотняло манопоток, насмешки сдабривали добычу перчиком, для лучшего усвоения. Лучше всего были тайные ожидания скорой смерти «Вредителя Божьей милостью» – они прессовали ману в дивный, питательный концентрат, долго хранящийся в резерве.
Когда пришла настоящая старость, он был к ней готов. А окружающие и не заметили – не всем дано отличить копию от подлинника.
– Значит, просто чахнет?
Король прошел вперед и остановился перед Биннори. Тот поднял голову и, не говоря ни слова, уставился на Эдварда сияющим взглядом. От блеска глаз и выражения лица Томаса любого взяла бы оторопь – осень, преисполненная счастья от скорого визита зимы.
Цветы, поставленные капитаном у ног поэта, Биннори не заинтересовали.
– Ты узнаешь меня, Томас?
– Конечно, – откликнулся Биннори. – Ты – самый большой гриб в здешнем лесу. И самый червивый. Я узнал бы тебя даже в супе.
Вздрогнул от испуга Абель: слуга знал, что владыки казнят и за меньшее. Капитан Штернблад с интересом разглядывал панно на стене: всадники схлестнулись в пыли и дыму, кромсая друг друга. Дремал в кресле лейб-малефактор, или делал вид, что дремлет, следя за происходящим на иных, недоступных обычным людям уровнях.
– Хорошо. Я – гриб. А ты? Ты кто, Томас?
– Я – лист. Я кружусь в воздухе, флиртуя с милочками-паутинками. Я – гном в красной шапочке. Я – вздох царицы фей. Я – клен в ярком уборе. Я – вкус родниковой воды, от которой ломит зубы. Я – это мы.
Внезапно, рассмеявшись, он запел:
Это мы –
Ночным туманом
Тихо шарим по карманам
Зазевавшейся души.
Есть ли стертые гроши?
– С ним и раньше такое бывало, – сказал король, обращаясь к Абелю. – Два раза. Нет, три.
– Три раза здесь, в Реттии, – слуга обеими руками пригладил бакенбарды. Те, кто хорошо знал Кромштеля, отметили бы: Абель донельзя взволнован, он на грани отчаяния. – У вашего величества превосходная память. И семь-восемь случаев во время наших странствий. От двух дней до недели, и он всегда приходил в чувство.
– Сколько это длится теперь?
– Месяц без малого. Поначалу я скрывал недуг, боясь дать пищу кривотолкам. Думал, обойдется. Раньше ведь обходилось? В конце второй недели я уведомил вас, ваше величество. Вы прислали к нам лейб-медикуса, сударя Ковенанта. Он и сейчас заходит… Ах да, я уже говорил.
Не слушая их, Томас Биннори продолжал петь:
Это мы –
Благою вестью
Подбираемся к невесте,
Приближая срок родин.
Ты не с нами? Ты – один.
– Надо кушать, Томас, – в голосе короля пробились интонации матери, уговаривающей ребенка. – Одними стрекозиными крылышками сыт не будешь.
– Да, – согласился поэт, делая пером странные движения: словно намеревался метнуть дротик, но в последний момент изменял решение. – Еще нужен лунный свет. Его намазывают на пенье соловья, как малиновый джем. Лучшее лакомство в мире.
– Это все чудесно. Как насчет миски доброй похлебки? Ты ведь любишь похлебку с цветной капустой, правда, Томас? И с мелко натертым корнем сельдерея. Ты еще шутил: возвышенность поэзии уравновешивается грубостью кухни. Самый тонкий ценитель прекрасного, случается, пускает ветры! Видишь, я запомнил.
Биннори наклонился вперед и пушистым кончиком пера ткнул короля в живот, между пуговицами камзола. Перо согнулось, но ость выдержала. Эдвард стоял без движения, не мешая – со спокойствием, достойным врача или няньки, он наблюдал за действиями любимца.
– Пускают змея, – сказал поэт, состроив потешную гримасу. Он будто сообщал неофиту величайшую тайну мира. – Воздушного змея. Его пускают по ветру. Нет, я не хочу похлебки. Раскрашивайте капусту без меня. Я сыт танцами.
И вновь затянул, притоптывая ногой:
Это мы –
Листвой осенней
Догораем в воскресенье,
Размечтавшись о весне.
В понедельник – первый снег.
– Что ты делаешь? – бледный, как полотно, прошептал король.
– Он танцует с королевой фей, – Абель понял и суть вопроса, и кому вопрос предназначен. Слуги, когда они друзья, понимают намного больше, чем друзья, когда они слуги. – На берегу реки. Под зеленой, как сыр, луной. Извините, ваше величество, он вам не ответит.
Зеленый сыр, вспомнил король. В детстве меня пичкали им сверх всякой меры. Говорили, от него улучшается аппетит. А я терпеть не мог этот сыр – в него добавляли сухие, растертые в порошок листья голубого донника, и мне казалось, что противнее нет ничего на свете.
– Он рассказывал, – извиняющимся тоном продолжил Абель. – Изредка.
Слуга опустил голову, словно чувствовал за собой тайный грех. На самом деле он просто боялся ненароком взглянуть в лицо Эдварду, и увидеть свое отражение: боль, сочувствие и страдание от невозможности спасти, отбить у судьбы счастливого человека Томаса Биннори.
– Позже, когда приступы становились воспоминанием, он делился ими: ночь, луна, река, феи… Танец. Песни, которые приходят из чащи и садятся на берегу, ожидая, пока их споют. Смех деревьев. Дубы хохочут басом, а ольха мелко подхихикивает. Поселок на холме, в получасе ходьбы от опушки. Он очень тоскует по родине, ваше величество.
– Серафим! – не оборачиваясь, позвал король.
– Я здесь, ваше величество, – с закрытыми глазами отозвался маг.
– Я хочу, чтобы ты провел консилиум. Собери всех, кого сочтешь нужным. Мэтры Высокой Науки – на твое усмотрение. Только без лишнего рвения. Я хочу правды, а не лживого усердия верноподданных. Ковенант подведет итог с медикусами. Тем временем в Реттию прибудет…
Король задумался. Он искал подходящее слово, не нашел, и завершил так, как получилось:
– Прибудет тот, за кем я уже послал. Гонец вернулся со Строфад. Они согласны оказать нам помощь, в обмен на деньги.
– Всего лишь деньги, мой король? – усомнился старец.
И правильно сделал.
– Деньги и выполнение одного условия. Не волнуйся, это наилегчайшее условие из всех возможных. Чтобы его выполнить, не придется сносить горы и обращать реки вспять. Даже искать скрытый подвох, и то не придется.
Серафим Нексус вздохнул.
– Я – дряхлый, выживший из ума вредитель. Многие годы я, как мог, оберегал ваше величество от напастей. И мой опыт подсказывает: такие условия – самые опасные. Надеюсь, вы знаете, что делаете.
Когда они уходили, им в спины неслось:
Это мы –
Без тени смысла,
Как пустое коромысло,
Упадем на плечи тьмы.
Не узнали? Это мы.
* * *
– Я отдам все, лишь бы этот человек стал прежним, – сказал король, выйдя из дома.
Серафим Нексус улыбнулся. Он знал цену таким заявлениям. Хотя выражение лица Эдварда II испугало бы лейб-малефактора, сохрани он способность пугаться.
– Как в сказке, ваше величество? Полкоролевства и дочь в придачу?
– У меня нет дочерей, – король остался серьезен. – У меня два сына. И оба слишком молоды для брака. Хотя… Пожалуй, я бы мог добавить сына к половине королевства. Сын подойдет, не правда ли?
– Не шутите так, ваше величество, – попросил Нексус.
– Я не шучу.
– Тем более. Слова бывают услышаны не теми, для кого они предназначались.
Caput II
Задающий вопросы стоит на пороге,
Задающий вопросы в тоске и тревоге,
Он, бедняга, не знал, задавая вопросы,
Что вопросы – столбы, а ответы – дороги…
Томас Биннори– Итак, коллеги, подытожим, что нам известно.
Приват-демонолог Матиас Кручек выдержал паузу. Он прошелся по гостиной, заложив руки за спину. Под ковром застонали половицы, вторя тяжкой поступи. Половицы знали, кто в доме хозяин – дородный, грузный Матиас всегда ходил, сопровождаем скрипом, как свитой.
– Судя по картине, обрисованной уважаемым лейб-малефактором, недуг Биннори не дает заметных проявлений на эфирно-астральном уровне. Я правильно вас понял, коллега?
– Совершенно верно, коллега.
В углу, борясь с обидой, еле слышно засопел малефик Андреа Мускулюс. Пять минут назад Серaфим Нексус в очередной, девятый за сегодня раз назвал его, действительного члена лейб-малефициума, «отроком». Маг высшей квалификации Кручек для старца, значит, «коллега», а он, Андреа (тоже м. в. к., между прочим!) – «отрок». И никому не интересно, что они с Кручеком дважды коллеги – с прошлого года Мускулюс читал спецкурс по практическому сглазу в Университете Магии, где Кручек занимал должность доцента.
«Похоже, для начальства мое отрочество затянется до седых волос, – думал Андреа, с раздражением шевеля пальцами ног. Вняв совету жены, он надел, идя в гости, новые башмаки, и обувь жала. – Все нам пеняют, все попрекают, а мы моргаем и утираемся. Перед Номочкой только неудобно. Еще решит, что мужа держат за мальчика на побегушках…»
– Налей-ка мне водички, отрок. Что-то в горле пересохло. Видать, злоумышляют на дедушку Серафима. Мыслят обо мне всякие гадости – вот оно и сушит. Ага, лей, не жалей…
Талант чтения мыслей за дряхлым хитрецом не числился, но Мускулюса от ужаса бросило в пот. В последнее время старец требовал, чтобы «отрок» сопровождал его едва ли не в сортир. Малефик с легким содроганием припомнил визит в Сорент, где довелось вылущивать злокачественный третий глаз у местного дурачка. Буквально через месяц у стен столицы обнаружилось гнездо черных пересмешников – его пришлось дренировать, отводя вредоносные хихоньки-хаханьки, под бдительным наблюдением Нексуса. А история с проклятием Нихона Седовласца? Беглый химероид, которого ловили всем лейб-малефициумом? Кутерьма со статуей императора Пипина, вдруг начавшей изрекать лже-пророчества?
Андреа терялся в догадках: то ли старец таким образом натаскивает своего будущего преемника (тьфу-тьфу-тьфу, спаси-пронеси!..), то ли до сих пор не доверяет «отроку» до конца. Смотрит: не оконфузится ли? Не возропщет?
– Позволь узнать, Серафим: до какого эфирно-астрального слоя была исследована структура личности Биннори?
Среди собравшихся в гостиной лишь супруга Мускулюса могла вот так запросто обратиться к лейб-малефактору Реттии. Красавица-некромантка прекрасно знала: ей сойдет с рук что угодно. И беззастенчиво этим пользовалась.
– Лейб-медикус добрался до четвертого эаса. Никаких патологий не обнаружено.
– Мы имеем прелюбопытнейшую ситуацию, – Матиас Кручек в возбуждении прищелкнул пальцами; энергичный вольт-пасс – и сноп голубых искр едва не прожег сюртук насквозь. – Ох, извините! Увлекся. Итак, в комплексе «тело-душа-аура» все взаимосвязано. Это прописные истины. Изменения любой из составляющих триады неизбежно влекут за собой изменения двух остальных. Но в случае с Биннори мы ничего подобного не наблюдаем!
Он ухватил со стола кубок, отхлебнул пунша, давно успевшего остыть, скривился и взмахнул ладонью, заново разогревая напиток. После чего залпом осушил кубок до дна, с удовлетворением крякнул и продолжил:
– Насколько я понял, недуг Биннори – душевного свойства. Бард до крайности рассеян, взгляд его блуждает, речи загадочны. Он забывает принимать пищу, не узнает знакомых, без цели бродит по комнатам или подолгу сидит в кресле. С лица его не сходит тихая улыбка, словно он блаженствует в стране грез. Я верно излагаю?
Нексус кивнул.
– Что же при этом творится с телом? Что говорят лекари?
– Они говорят, что телесное здоровье пациента вызывает у них опасения. Не столь сильные, чтобы требовались срочные меры, но… – Серафим в задумчивости пожевал губами. – Налицо изрядная ослабленность организма. Биннори медленно, но неуклонно теряет жизненные силы. Лекари считают, что это вызвано нерегулярным питанием. Лейб-медикус Ковенант с таким выводом не согласен. И я тоже.
– Вот! – приват-демонолог воздел палец к потолку, забрызгав остатками пунша лацканы многострадального сюртука. – Ухудшение здоровья выражено менее ярко, нежели дисгармония личности. Классический эффект запаздывания. Но! – палец вознесся еще выше, а в голосе Кручека зазвенел металл, вне сомнений, благородный. – Существенное изменение ауры должно было последовать без промедления! Фактически синхронно с душевным расстройством. Однако ничего такого не зафиксировано, что делает данный случай поистине уникальным. Кто-нибудь из вас сталкивался с чем-то подобным, коллеги? Я – нет.
– Жаль… – вздохнул лейб-малефактор, старея на глазах; хотя, вроде бы, дальше стареть ему было некуда. – Я искренне надеялся, что вы, коллега, как видный теоретик, просветите нас, сугубых практиков…
– Разумеется, я поищу в архивах описания аналогичных случаев…
Пора брать инициативу в свои руки, решил Мускулюс. Иначе так молча и просидим весь консилиум, время от времени подливая старцу целебной водички. Для храбрости он сделал большой глоток вина, поперхнулся и закашлялся.
– У тебя есть идея, отрок? – обернулся к нему Серафим. – Давай, не стесняйся.
– Я это… ну, в целом я… Судари коллеги , – прокашлявшись, выдавил пунцовый от стыда Мускулюс, – некоторые симптомы исследуемой болезни кажутся мне знакомыми. Предлагаю рассмотреть их с точки зрения специализации каждого из нас. Мастер Кручек, что вы скажете об одержимости демоном или бесом? Это ведь по вашей части.
– Одержимость?
Кручек устремил взгляд в окно, должно быть, надеясь высмотреть там подходящего инфернала. Увы, в саду, куда выходило окно, демонов не наблюдалось. По дорожке с важностью идиота расхаживал одинокий голубь. Первый желтый лист лениво планировал к земле: лето близилось к концу. Луч солнца, прорвавшись сквозь крону платана, мазнул кистью по лицу приват-демонолога.
Тот мотнул головой, став похож на лошадь, отгоняющую муху.
– Некое сходство действительно наблюдается, – признал он. – Поскольку демоны не обладают маной, мана-фактура одержимого практически не меняется. Сдвиги в линиях ауры незначительны. Общее ослабление организма… А вот тут не сходится! Физическая сила одержимого увеличивается многократно. Один correptus на моей памяти приподнял груженую телегу, которая увязла в грязи! В случае Томаса Биннори мы наблюдаем прямо противоположный эффект. Кроме того, демон, овладевший человеком, как правило, деятелен. Он стремится к какой-то цели. А сударь Биннори большую часть времени находится в блаженной прострации… Допустим, в него вселился особый, неизвестный Высокой Науке инфернал. Принципиально новый вид… Нет, маловероятно. Это не одержимость.
Он снова уставился в окно. Скоро осень. Начало семестра. Лекции, коллоквиумы, факультативы. Рутина ученых советов, будь они неладны. Проректор Гиппиус станет донимать напоминаниями об обещанной монографии. На научные изыскания, как всегда, не хватит времени. Придется работать по вечерам, при свечах. Этот внезапный консилиум – последний дар уходящего лета. Он будит любопытство истинного ученого.
– Спасибо, – Андреа Мускулюс вцепился в инициативу, стараясь не упустить эту скользкую рыбину. – А как насчет эфирной нежити? Дорогая, это твой профиль!
– Эфирная нежить? О да, общая слабость – явный симпто-о-ом!
Низкий, грудной голос Наамы сводил мужчин с ума. А если добавить к голосу остальные несомненные достоинства: фигуру, способную и в мертвеце зажечь огонь страсти, восхитительные ямочки на щеках, голубые озера глаз, русую косу до пояса… При взгляде на такую женщину все мигом забывали, что перед ними – член Совета Высших некромантов Чуриха! И что прозвище свое – Сестра-Могильщица – Наама получила отнюдь не за красивые глаза. А напрасно забывали, напрасно, летя мотыльками на огонь…
Короче, с супругой Мускулюсу исключительно повезло.
– Истечение из тела жизненных сил, мечтательная отрешенность… Веспертил выпил бы его за сутки-двое. Связь с суккубарой? Тогда истощение было бы скачкообразным. И ауральная картина дала бы знать… Спектрум-заклятие? Оно вгоняет человека в состояние мрачной подавленности. А поэт, по словам нашего дорогого Серафима, счастлив без меры. Есть много способов исподволь свести человека в могилу, – Наама из скромности потупила взор, – но при этом человек никогда не выглядит счастливым. Разве что… Призрак любимой? Вернее, ложный призрак?
– Эфирная нежить в облике призрака? – уточнил Андреа.
– Ты умница, милый. Лжец-мимикрант. Ты видишь того, кого хотел бы видеть, тянешься навстречу, а мимикрант вскрывает тебе душевные жилы… Это о-о-очень редкие сущности. Но и случай у нас особенный, не правда ли?
– Насколько мне известно, голубушка, призраки, истинные или ложные, не умеют овладевать людьми, – проскрипел из глубины кресла лейб-малефактор. – Или мимикранты составляют исключение?
– Ну разумеется, они действуют извне.
– В таком случае, – Серафим со значением уставился на опустевший бокал, и Мускулюс поспешил его наполнить, – вынужден разочаровать вас. Я тщательнейшим образом обследовал жилище на предмет возмущений астрала. И что вы думаете? Ни-че-го! В смысле, ничего не обнаружил. Уж призрака или нежить я бы почуял, не сомневайтесь. Порча или сглаз исключаются – это я проверил в первую очередь. Со всей определенностью могу утверждать: извне на Биннори никто не покушается. Причина – внутри пациента. Просто мы ее не видим.
Матиас Кручек поежился и глянул на камин, где на чугунной решетке были аккуратно сложены сухие березовые поленья. Сбоку кучкой лежали сосновые щепки с выступившими капельками смолы – для растопки. За окнами царила дивная погода, милостиво сменив палящий зной на благодатную теплынь. Но сейчас по гостиной пронеслось зябкое дыхание зимы, коснулось каждого – и сгинуло без следа.
Неизвестность.
Terra Incognita.
Манящая тайна, которая с равной вероятностью может одарить искрящимся фонтаном чудес – либо низвергнуть в ледяные бездны ужаса. К счастью, здесь собрались те, кому не впервой делать шаг во тьму, раздвигая пределы человеческого знания. Близость тайн будила в них дрожь не страха, но предвкушения.
Доцент заглянул в кубок, словно желая обнаружить на дне ответ. Увы, кубок отмалчивался.
– Мне кажется, коллега Наама ближе всех подошла к разгадке. Перед нами проблема, суть которой – вне компетенции Высокой Науки. Поскольку агрессивные воздействия мы исключили, остается одно. Некая сущность, аналогичная ложному призраку, гложет Биннори изнутри. Именно на ней сосредоточено все внимание пациента. Судя по видимым проявлениям, процесс сей достаточно… м-м-м… приятен. Вот почему бард не желает возвращаться из глубин постепенно разрушающегося «эго» во внешний мир.
– Позвольте, коллега! – не выдержал Мускулюс. – Лейб-медикус исследовал тонкую структуру личности пациента! И не обнаружил патологий.
– Вот потому-то я и утверждаю, что мы имеем дело с феноменом, понять и устранить который методами Высокой Науки невозможно. Пока невозможно, – с нажимом повторил доцент. – Впрочем, Высокая Наука имеет свойство развиваться, осваивая области, ранее ей неподвластные.
– Дорогой Матиас, я с вами полностью согласна. Но сейчас речь идет о душевном здоровье и, возможно, о самой жизни Томаса Биннори. Он нуждается в помощи, причем безотлагательно.
У человека несведущего слова прекрасной магички вызвали бы изумление. С чего бы это дама, посвятившая себя некромантии, беспокоилась о жизни и здоровье малознакомого сударя? Однако члены консилиума хорошо представляли, над чем в действительности работают некроты. В памяти Андреа всплыли слова Эфраима Клофелинга, гроссмейстера СВН Чуриха: «Смерть – вот истинный враг! Гибель человека – вот мишень для наших стрел!..»
– Я не маг-медикус, – Кручек в растерянности заморгал, сделавшись похож на филина, разбуженного средь бела дня. – Свои соображения я вам изложил. К сожалению, это лишь гипотеза. И я не представляю, как она может способствовать практическому излечению пациента.
– Выходит, мы бессильны?
– Увы, голубушка, – согласился Серафим. – Но, как я уже сообщил в начале нашей беседы, его величество распорядился пригласить… э-э-э… альтернативного специалиста.
– Эта чушь о «похищении душ»?! – взорвался Кручек. – Варварское шаманство?! Неужели вы не объяснили его величеству, что это антинаучно?! Нельзя строить лечение на замшелых суевериях! Ваш «специалист» сведет Биннори в могилу скорее, чем таинственный недуг!
Нексус выслушал гневную тираду, кивая в такт. Со стороны это выглядело так, будто старец согласен с каждым словом коллеги. Однако, едва лейб-малефактор вновь заговорил, обманчивое впечатление рассеялось:
– У его величества есть свои источники сведений. И они, полагаю, вполне надежны. Смею надеяться, я хорошо знаю нашего монарха – и не припомню, чтобы он пользовался непроверенными слухами. Тем более, когда речь идет о болезни его любимца.
Матиас Кручек прикусил язык. Все ждали продолжения – и оно воспоследовало:
– В ответе на высочайшее имя сообщается, что специалист не гарантирует исцеления. Но твердо обещает, что вреда пациенту причинено не будет.
– Хм… не ожидал, право слово, – буркнул доцент. – Весьма достойный ответ для… э-э… для шамана. Обычно подобные субъекты сулят златые горы. А тут…
– Если лечение окажется успешным…
Кручек вздрогнул, теряя нить размышлений.
– Если лечение окажется успешным, – повторила некромантка, – следует познакомиться с этим специалистом поближе. И, по возможности, перенять его методику.
– Перенять методику? Ерунда! – с горячностью возразил Кручек. – Сейчас в вас говорит чистый практик, коллега! Если шаман достигнет успеха, нам в первую очередь следует понять принцип! Теоретическую основу его действий. И вот тогда, на базе развитой теории… Извините, я опять увлекся. В любом случае, мне будет крайне любопытно увидеть, как… м-м… альтернативный специалист совершит чудо.
Он невесело рассмеялся, подводя итог:
– Что ж, нам остается только одно: набраться терпения.
Когда гости разошлись, Матиас Кручек сварил себе кофию, расположился на диване и постарался расслабиться. Его одолевала тревога, на первый взгляд, не имевшая под собой реальных оснований. Мерещилось, что он, скромный ученый, чужой волей назначен фигурантом некой истории, задуманной во мглистых далях, без ведома ее участников, и уже оформившейся до конца в воображении рассказчика.
Это пугало, обрекая на покорность фатуму.
Старею, подумал Кручек. Делаюсь мнительным. Так и не привык к одиночеству, особенно вечерами. Собаку завести, что ли?
* * *
В центральной части столицы имелась масса достопримечательностей самого разного свойства. Первой из них по праву считался Гранд-Люпен, королевский дворец. Начало ему положил Август VI, построив на берегу реки Волчанки охотничий замок, а позже превратив его в цитадель для защиты подступов к острову Сюр-де-Сюр. При Эдварде I замок радикально перестроили, снеся могучие башни, устаревшие и давно бесполезные в смысле обороны. Архитекторы изощрялись в выдумках, превращая крепость в роскошный дворец – возводились колоннады, создавались галереи, разбивались парки. Число фонтанов превысило все пределы разумного. Двор жаловался на вечный насморк – от водяной пыли дамы и кавалеры чихали круглый год. Десятки залов отводились для хранения коллекций – король обожал собирать медали, расписные плафоны, пюпитры для чтения, с легкостью бросая прежнее увлечение ради нового.
Архитекторов Эдвард тоже менял, как перчатки, частенько забывая выплатить гонорар. Но прозвище Щедрый он получил не за это, а за амурные похождения, где отличился на поприще увеличения числа верноподданных.
Любоваться Гранд-Люпеном вы могли сколь угодно долго и совершенно бесплатно – но снаружи, сквозь чугунную ограду. На территорию дворца зевак, понятное дело, не пускали. Да зеваки не очень-то и рвались, завидев у ворот стражу – детин с саженными плечищами, чрезвычайно неприветливых и вооруженных до зубов. Цокая языками, охая и ахая, восторгаясь шпилями и стрельчатыми арками, ротозеи – большей частью, приезжие – отправлялись дальше. Миновав сквер Пылких Любовников и тюрьму, где кое-кто задерживался, желая обозреть камеры пыток и поучаствовать в дегустации вин (идея казначея Пумперникеля, изыскавшего таким образом дополнительные средства для содержания преступников), гость столицы с неизбежностью выбирался на проспект Вышних Эмпиреев, и по нему – на площадь перед Университетом Магии.
Здесь проголодавшихся манила ресторация «Гранит наук», где преподаватели коротали время между лекциями. Зато молодежь, выйдя из стен alma mater, волнами растекалась по окрестным улочкам. Булыжник мостовых студенты успевали изучить куда быстрее, нежели азы избранных дисциплин. И то сказать: азы азами, а улочки были примечательны обилием питейно-закусочных заведений. В аустерии «Шустрый василиск» жарили дивные шпикачки, вымоченные в слюне единорога. Траттория «У папы Карло» славилась кручениками из рыбы-плаксы. «Медальон кокотки» баловал клиентов груздями-прыгунцами, возбуждающими аппетит. Кабачок «Разгуляй» поил в долг: «Слеза лешего» – душистая, крепкая, в стопках-наперстках; сладкое «Гулякандоз», если верить зазывале, доставляли контрабандой из Турристана…
Но более всего студенческой братии полюбилась таверна «Шляпа волхва», что в Грифоньем переулке. Два квартала по улице Соизволения, направо за лавкой ритуальных услуг – и вот она, «Шляпа». Захочешь – не промахнешься. Не случалось такого, чтобы без пяти минут маг с дипломом – во тьме, спьяну, заклятьем по темечку шарахнутый – мимо прошел. Профессура «Шляпой…» брезговала; прогуливая лекцию, ты не боялся нарваться здесь на куратора.
Тут подавали отличное пиво: светлую «Благодать» и темную «Демонессу». Сплетничали, будто рецепт «Демонессы» основатель «Шляпы…» получил непосредственно от Нижней Мамы, как залог страстной любви. Сказка или быль, но заказав три пинты «Демонессы», ты бесплатно обретал деликатес: плошку гороха со смальцем. А поскольку редко какой студент разменивался на меньшее, нежели галлон, то чавкали вечно голодные чародейчики от души.
И наконец, «Шляпа волхва» имела снисхождение к проказам. Буяньте на здоровье – только, чур, мебель не ломать. Ну да, здешние столы поди сломай: столешницу не всякий тролль лбом перешибет! А за битую посуду студиозусы честно расплачивались в складчину, боясь ссоры с Франтишеком Подшкварком – ибо добродушие хозяина имело пределы.
«Узреть Подшкварка в гневе, – наставляли старшекурсники зеленых первогодков, – страшнее, чем Горгулье сопромаг сдавать! Пикнуть не успеете, как он вас нашинкует, протушит и чесноком заправит…»
Сейчас в «Шляпе…» царила тишь да гладь. Лекции начинались на следующей неделе, большинство учащихся еще не съехалось в столицу, догуливая последние деньки перед семестром. Солнце перевалило за полдень, яичным желтком стекая к закату по дочиста выскобленной сковороде неба. Время стояло ленивое: для обеда – поздно, для ужина – рано.
Тем не менее, таверна не пустовала. Общими усилиями сдвинув два неподъемных стола, полторы дюжины вчерашних абитуриентов праздновали поступление в Универмаг. Света из оконца, которое умостилось под самым потолком, выходя на улицу вровень с мостовой, им не хватало. На столе горели масляные плошки, бросая охристые блики на батарею пузатых кружек – гуляки окопались надолго.
– Тебе хорошо, ты по коллежской квоте шел, – кипятился востроносый парень, обладатель щегольской клетчатой жилетки в багрово-аспидных тонах. – А меня всей комиссией валили! Тетка еще ничего… Космогонией пытала: Квадрат Опоры, Овал Небес, ярусы геенны, то-сё. Нормально. А толстяк как взял за душу…
– Тетка, между прочим, Горгулья. На зачетах хуже василиска.
Знаток выглядел старше остальных: лет тридцать, не меньше. Он отер пивную пену с усов, придвинул к себе миску с овощным рагу и начал есть с обстоятельностью крестьянина. Кажется, он один позаботился взять закуску.
– Да чего там, душевная тетка! Подход надо к женщинам иметь, и хоть сдавай, хоть сдавайся! – востроносик лихо взлохматил смоляной чуб. Пламя свечей на миг сверкнуло в его лукавых глазах. – Верно, Хельга?
Девушка, тихо сидевшая напротив юного бабника, была погружена в собственные мысли. Когда ее окликнули, она вскинула голову, машинально отпила из малой кружечки и закашлялась.
– Вот это подходец, Клод! Это я понимаю! – заржал патлатый нахал во главе стола. На месте верхних резцов у него блестели золотые «упырьки». – Как бабы на тебя глянут, так у них в зобу дыхание спирает! Небось, и Горгулью приворожить успел? Зачем тебе диплом? Иди диссертат защищать!
– Диссертат для Клода – мелковато!
– Его в Коллегиум Волхвования умоляют – главой Капитула!
– Ага! Он ведь подход имеет!..
Клод миролюбиво выслушивал подначки, улыбался с отменным добродушием – и под шумок успел пару раз перемигнуться с румяной Марысей Альварес из Нижней Тартинки. Они познакомились месяц назад, на абитуре: оба поступали без льгот и квот, сдавая собеседование по полной программе. Он – из семьи зажиточного владельца портняжной мастерской, она – дочь капитана торговой шхуны.
Согласно семейной легенде, в предках Альваресов числились дипломированные чародеи. Возможно, легенда и не врала: дар к колдовству у Марыси обнаружился с детства. Девчонкой она стала брать уроки у приятеля отца – заклинателя ветров по прозвищу Суховей. Как его звали на самом деле, никто в порту не знал: Суховей, и ладно. Нехитрому арсеналу «дуновений», а также умению мастерить простейшие амулеты, вроде «фарватера» или «ветрянки», заклинатель обучил Марысю за три года. Далее взялся натаскивать девчонку в азах теории – где, по правде, и сам был не силен. И вдруг замшелая истина: «Учитель плавания может стоять на берегу!» – проявилась во всей красе. Семь месяцев зубрежки ненавистных «Принципов чаровой комбинаторики» – и в кудрявой головушке Марыськи забрезжил свет.
Это оказалось проще пареной репы: соединить одно с другим, усиливая эффект. Главное – найти верную «склейку», или «юнктуру», как писали в книжке. Таблица типовых примеров «юнктур» приводилась в конце, чем девочка и воспользовалась. В итоге над Нижней Тартинкой объявилась невинная, похожая на медведя тучка, пролившись дождем из обожаемого Марысей клюквенного киселя. Нижнетартинцы долго ругались, отстирывая одежду, а испуганная колдунья отсиживалась дома, боясь высунуть нос на улицу.
К чести Суховея следует сказать, что ученицу он не выдал, и даже бранить не стал. Видел: капитанская дочка и так дрожит от страха. Проявив талант педагога, он угодил «в яблочко»: с этого дня учеба двинулась вперед семимильными шагами. Эксперименты Марыся продолжила, но теперь, прежде чем испытать новенькую «дрючку», всякий раз бежала к учителю: советоваться.
Через год она уже выходила в море на пару с Суховеем. Усмиряла малые ветра, пасла волны, предсказывала погоду; определяла курс в тумане или беззвездной ночью, когда небо затянуто стеганым одеялом туч; приманивала косяки сельдей, а кракенов и вредных ихтиандров, наоборот, отваживала…
Все книги по магии, какие нашлись в скудной библиотеке Суховея, а также три фолианта, привезенных отцом под заказ, Марыся прочла от корки до корки. Ночью разбуди, отбарабанит без запинки! Однако превращения в мымру-зубрилку, чей мир – пыль свитков и флаконы с зельями, она избежала. У веселой, полной озорства Марыськи (для кое-кого – Марысечки и Марысеньки!) всегда находилось время и с подругами язычок почесать, и на танцульки сбегать.
Когда только успевала?!
Ей исполнилось шестнадцать, и у Суховея состоялся серьезный разговор с капитаном Зигмундом Альваресом. Заклинатель намаялся за последние годы: девочка стала девицей, а Суховей понятия не имел, как рассчитывать влияние женских циклов на динамику чар, и очень стеснялся.
– Твоей дочери нужно систематическое образование. И диплом, – взял он быка за рога. – Нас, темпесторов, мало. С дипломом малышку возьмут даже на военный фрегат. Дальние страны, хорошее жалованье… А захочет сидеть дома – станет главной заклинательницей порта. В любом случае, без диплома тут никак.
– Понимаю, – Альварес надолго задумался, дымя трубкой из вереска. В силу профессии он редко бывал дома и для дочери рад был расшибиться в лепешку. – Значит, Реттия? Универмаг?
– Ты хороший отец, Зигги.
– Деньги на обучение я найду. Но…
– Не волнуйся. Она справится.
Суховей не был ясновидцем, но оказался прав: капитанская дочка справилась.
– …а я тебе говорю: он меня нарочно валил!
– Ха! Если б он тебя валил, ты б уже вещички паковал – домой ехать!
Спорщики никак не могли успокоиться. «Демонесса», оправдывая название, бурлила в крови, вызывая в памяти драматические картины собеседования. Зачислили далеко не всех: конкурс в Универмаг был изрядный. И теперь возбужденные победители заново переживали коллизии испытания, делясь подробностями.
– …А он мне: приведите практический пример! Ну я и привел. Саламандру вызвал!
– Саламандру?! Ты б еще бабаэля вызвал!
– Демоны – это третий курс. Демона я не умею. А саламандру – запросто! У меня ж вопрос по стихии огня был…
– А он?
– А он бровью двинул – и нет саламандры! Вы мне, тут, говорит, еще пожар устройте! У меня тут, говорит, казенное имущество. И этим… вульгарным эмпириком обозвал.
– А меня только по теории спрашивали, – робко подал голос мальчик в аккуратном, кое-где заштопанном камзольчике. – И то чуточку.
Его кружка с пивом стояла нетронутой. Похоже, будущий маг хмельным раньше не баловался и опасался последствий. Впрочем, причина могла быть и иной: мало кому пиво нравится с первого раза.
– Ты ж, небось, по квоте шел. По квоте не собеседка, а лафа!
– Ага, лафа, – проворчал бывалый усач. Он выскреб коркой хлеба подливу, дождался тишины и продолжил: – Чтоб лафу заработать, до седьмого пота пахать надо…
– Верно, – поддержал его востроносый Клод, забыв, как вначале хвалился перед квотниками. – Ее, матушку, задарма не получишь. Ни от Коллегиума, ни, тем паче, королевскую стипендию. Я знаю…
– Что, не дали? А как же твой подход? – патлатый нахал чуть не лопнул от хохота. – Или бабы нужной не подвернулось?
Марыся сердито зыркнула на хама. Вот же балбес! «Вякни еще разок – я тебе отсыплю фунт лиха с закруткой!» – решила капитанская дочка, готовясь к вызову миниатюрного торнадика. Но щелкнуть пальцами она не успела. Девушка и не предполагала, что в этот миг она входит в историю. В самовластную, незваную историю, которая без спросу вторглась в «Шляпу волхва». Слышите? Стук входной двери. Глухое звяканье колокольчика. Торопливые шаги – жеребячий суматошный галоп по ступенькам.
Конечно, слышите.
Из песни слова не выкинешь. Точно так же не выкинуть человека из истории, пускай он – чужой человек в чуждой ему истории. Зацепило краешком – все, увяз мухой в варенье. И не выберешься, пока история сама не сочтет нужным отпустить тебя и прошествовать дальше, мимоходом вовлекая в танец других бедолаг. Это люди то и дело что-нибудь не успевают. А серьезные дамы – История, Судьба и их сестры (не к ночи будь помянуты!) – никуда не спешат и никогда не опаздывают.
– Вы не поверите!
Молодой человек в куртке нараспашку, разгоряченный от быстрого бега, влетел в зал с такой скоростью, что сумел остановиться, лишь с разгону упершись руками в стол.
– Я из деканата! – торжествующе выпалил он, задыхаясь, и умолк, глотая пиво. Кружка принадлежала усачу, но тот даже не возмутился, настолько был заинтригован. – Из деканата… я… списки смотрел!..
Вестник отер губы тыльной стороной ладони.
– Знаете, кто будет учиться с нами на одном потоке?!
Caput III
Лихой подарок – бег времен,
Старт – жизнь, и финиш – труп,
Вот за спиною – век знамен,
Вот за спиною – век имен,
Вот прожит век, где я умен,
И начат век, где глуп.
Томас БиннориНочью громада Универмага производила страшноватое впечатление. Вознеслась к звездам башня астрологического отделения, выпятив площадку обзора; сегменты корпусов, разбросанные на первый взгляд хаотично, с флангов загнулись клешнями лабораторий, напоминая гиганта-скорпиона, ждущего в засаде. Днем впечатление пропадало, сглаженное касаниями солнца или струями дождя, а главное – толпой народа, желающего приобщиться к Высокой Науке. Но вечер сгущался, набирая бархатистой темноты, как выдержанное вино – крепости и аромата, звезды усеивали небосклон, и месяц секирой палача нависал над Реттией…
– Ух ты! – восхитился некий парнишка, бойкий не по возрасту, задержавшись перед университетом. – Аж жуть… Ты гляди, вон и глаз!
Глазом он назвал окно кафедры теормага – там горел свет.
– Выкуси, зараза!
Без злобы, исключительно по широте натуры, парнишка сунул в адрес окна кукиш, такой замечательный, что ему следовало бы находиться в музее, и припустил со всех ног. Мало ли, шарахнут в ответ молнией, либо из самого фигу скрутят – голову промеж ног, и пиши пропало… Крис-Непоседа, приемный внук бабушки Марго, сейчас впервые затесался в историю лично – и спешил удрать, пока его не приставили к делу.
При талантах Кристиана истории – не лучшее место для обитания. Оглянуться не успел, а тебя за ушко да на солнышко, и казенный бичеватель с кнутом похаживает…
Страхи парня были необоснованны. Во-первых, история строга, но справедлива. Без нужды она никого за ушко не хватает. Во-вторых, доцент Матиас Кручек, а это он жег свечи в пустом кабинете, меньше всего собирался швыряться молниями. Задержавшись в Универмаге, Кручек предавался занятию, которого избегал всю жизнь – читал стихи.
Днем он приобрел в лавке букиниста томик поэзии за авторством Томаса Биннори. Глух к изящной словесности, приват-демонолог знал за собой такой грех. Все поэты для него были в определенной мере душевнобольными, и Биннори – не исключение. Но хворь барда-изгнанника являлась вызовом научному естеству доцента, а в стихах он надеялся найти зацепки для гипотез. Так сыщик кружит по месту преступления, присматриваясь к пустяковинам:
«А вдруг?.. а если?!»
К сожалению, засидевшись над балладами и миниатюрами, Кручек не вынес особой пользы. Кроме окончательного уверения: да, Биннори скорбен разумом, и странно, что он не рехнулся давным-давно. Вот, например:
Мы, поэты,
Голы
Как глаголы.
Скажите на милость, может ли здравомыслящий сударь заявить такое? Голы, как глаголы? А местоимения, значит, носят штаны? Наречия – платья с оборками? Существительные щеголяют в приталенных камзолах? «Чародеи золы, как камзолы, – съязвил доцент, и сразу поправился: – Нет, иначе. Чародеи злы, как… как…»
Напрашивающаяся рифма ему не понравилась, и он вернулся к Биннори. Типичная мания преследования. Обремененная тягой к самоубийству. Плюс искажения в картине мира. Факт налицо:
Шагай за мной, человек мой черный,
Криви в усмешке сухие губы,
Твои движенья смешны и грубы,
Тебе поют водостока трубы,
Тебе метали лещи икру бы,
Когда б икринки – размером с четки,
А так, по малой – сдувайте щеки…
Матиас Кручек представил себя, идущего по тротуару, скользкому от икры великанов-лещей, в сопровождении черного человека, который делает смешные и грубые движения под аккомпанемент органа водостоков – и еле слышно хихикнул. Впрочем, он тут же укорил себя за нечуткость. Поэт, не поэт, а Томас Биннори тяжко болен, огорчая его величество.
Надо искать причину. Врач очищает нарыв от гноя, отставив прочь брезгливость и укоры больному, запустившему ерундовый порез. Отложив стихи, он взялся за «Историю Западного Эйлдона».
«Томас Биннори (ап-Биннори, Том Рифмач), бард. По слухам, в юности был похищен королевой фей, с коей и провел долгое время (по разным версиям, от трех до семи лет). Опрос эйлдонских фей факта похищения не подтвердил, но и не опроверг. Позднее на почве ревности Биннори убил в поединке Давида ап-Мэшима, оруженосца сэра Ричарда Виолле, и, заплатив виру, отделался изгнанием из страны…»
Тоскует по королеве? Чахнет от любви? Ну, допустим. Запросить Эйлдон? – пусть свяжутся с владычицей тамошних феечек, от лица Эдварда II попросят уделить влюбленному поэту минуту внимания, получат согласие, договорятся с властями об отмене изгнания, привезут Биннори на берег реки или на опушку леса, куда там велит королева…
Кручек почувствовал себя идиотом.
– Доцент Кручек? – ожило на стене связное блюдце, спасая приват-демонолога от неприятных чувств. По фаянсу с цветным изображением «Очарования», тюрьмы для магов, шустро катился нитяный клубочек. Там, где он прошел, тюрьма сменялась интерьером ректорского кабинета. – Это секретарь Триблец. Извините за поздний вызов. Я знаю, что вы еще на кафедре…
– Пустяки! – успокоил секретаря доцент, обрадован возможностью отвлечься. – Вы меня совершенно не побеспокоили!
– Нет-нет! – упрямился Триблец, возвышая голос. – Я знаю, что мне нет прощения. Вы искали решение теоремы Ярвета-Шпеерца, или сражались с неприводимыми представлениями Лоренца, а тут я…
– Ничего подобного! Я… ну, это… стихи читаю…
– Напрасно вы меня успокаиваете, доцент Кручек. Вина моя очевидна. И тем не менее…
– Сударь Триблец, я рад вам в любое время суток!
– Ну хорошо, – сдался упрямый секретарь. Он, словно вампир – приглашения в дом, всегда ждал, пока его трижды убедят в приятности визита. Ректор, как ни странно, поощрял такую особенность характера Триблеца, пряча жалобы под сукно. – Пожалуйста, спуститесь в ректорат. Вас ждут.
Заперев кафедру, Кручек отправился на поиски ректорского кабинета. Это было не так просто, как могло показаться. Кое-кто из студентов (и даже из молодых преподавателей) всерьез полагал, что ректорат самозарождается в недрах Универмага, как мышь – в корзине с грязным бельем, чтобы созреть, пережить период распада и вновь объявиться в совершенно другом месте. Фантазеров не разубеждали. А главное, не спешили объяснить, что если снять клубочек со связного блюдца и покатить перед собой, держась за кончик нити…
Если каждый начнет ходить к ректору, когда вздумается – далеко ли до идеи всеобщего равенства?
Сегодняшняя ночь выдалась удачной – всего лишь после двадцати минут скитаний Матиас Кручек остановился у двери с табличкой: «Хайме Бригант, ректор». В приемной доцента ждал секретарь Триблец – взъерошенный и несчастный.
– Будьте осторожны, – шепнул он. – Они не в духе.
Кручек не придал сказанному значения. Если верить Триблецу, ректор родился не в духе, и таким собирался умереть. Постучавшись, он дождался басовитого: «Да-да, прошу!» – и вошел в кабинет. Со стенных полок на гостя уставились пуговицы глаз – чучела василисков, химер и фениксов изучали вошедшего. Таксидермия бестий числилась первой среди многочисленных увлечений ректора. Ходили слухи, что Хайме Бригант, оставшись в одиночестве, спрашивает у чучел совета и руководствуется их мнением при управлении Универмагом.
– Я рад видеть тебя, Матти…
Судя по унылому виду ректора, он лгал. Но уже следующая фраза развеяла подозрения, объяснив все: уныние, поздний вызов, предупреждение секретаря.
– Час назад от меня ушла профессор Горгауз. Мы обсуждали проблемы, возникшие при наборе первого курса бакалавратуры. Матти, она хочет отказаться от кураторства!
Без посторонних они обращались друг к другу на «ты» – приват-демонолог Матиас Кручек и толкователь снов Хайме Бригант. Есть такая дружба, которая на шаг отстает от «закадычной», но давным-давно опередила и «близкое знакомство», и «взаимную симпатию». Это к Хайме обратился Матиас с просьбой растолковать сны с частым явлением Агнессы-покойницы, жены Кручека, умершей после родов от грудной горячки – к кому другому он бы постеснялся явиться с интимной просьбой. Это Хайме шесть раз подряд, едва не надорвавшись, посещал заказанные сновидения – тихо сидел в уголочке, шмыгал знаменитым носом, похожим на баклажан, а после вернулся в реальность, отдышался, взял в винной лавке бутыль мускателя, явился на ночь глядя в дом Кручека, обождал, пока приват-демонолог достанет кубки, и сказал:
«Нечего тут толковать, Матти. Однолюб ты, вот и все толки. Давай выпьем, что ли?»
На следующий день Хайме пригласил доцента к себе в мастерскую, где делал чучела. Там он битый час кряду рассказывал о каркасах, сетовал, что макет камелопарда в натуральную величину, выполненный из сырой глины, весит полторы тысячи фунтов, а плотный торф для формовки черепов не найти днем с огнем… Кручек слушал, поддакивал, восхищался или сочувствовал – и главное, старался не показать, как растроган доверием ректора.
Людей, допущенных в святая святых, можно было сосчитать по пальцам. А тех, с кем Хайме обсуждал проблемы таксидермии – по пальцам одной руки. Но дело не в том, что ты попал в число избранных, а в том, что Хайме утешал, как умел.
– Что с Исидорой?
Исидора Горгауз, для студентов – Горгулья, была в Универмаге притчей во языцех. Во-первых, ослепительно красивая старая дева – редкость из редкостей. Во-вторых, мелкая дворянка из провинции, которая, сбежав от бедных, но гордых предков, выучилась на бранного мага, воевала, сменила квалификацию на укротительницу джиннов, опечатала сотню-другую кувшинов, заслужила личную благодарность тирана Салима, рьяного женоненавистника, внезапно оставила практику, защитила диссертат, сделалась преподавателем, втолковывая лоботрясам основы теормага, и далее, как по писаному: автор трех учебников, доцент, профессор – короче, такая биография дорогого стоит. Сочинители авантюрьетт за такую биографию удавятся. А Горгулья сразу предупредила одного бойкого щелкопера: хоть главку, хоть страничку, хоть я под другим именем, хоть ты под псевдонимом – удавлю.
И, говорят, удавила.
– Ты списки видел? – вместо ответа спросил Хайме.
Списки лежали на столе. Взяв их, Кручек углубился в чтение. Так, тридцать два человека зачислено. Двадцать контрактников – эти оплачивают обучение сами или из родительских кошельков. Семеро королевских стипендиатов – великолепная семерка, невесть чем заслужившая высочайшую милость. Пять студентов идут по квоте Коллегиума Волхвования – здесь все ясно, птенцы кого-то из великих, опытные, натасканные, готовые чародеи, чья нужда лишь в дипломе.
Ничего особенного, обычный состав.
После трех лет обучения, получив степень бакалавра, все они могли выбирать: учиться дальше на магистра, определившись со специализацией – или вернуться домой и заняться колдовским промыслом, подкрепив репутацию дипломом. Случалось, диплом, заключен в резную рамку, вешался на стенку, а вчерашний бакалавр Высокой Науки продолжал семейное дело – содержал красильню, адвокатствовал либо разводил скаковых лошадей – изредка, навеселе, бахвалясь «золотыми студенческими годками».
– Еще раз посмотри, – дал совет ректор. Он видел недоумение Кручека. Что вызвало неудовольствие Горгульи, да еще такое, чтобы она пригрозила отказом от кураторства, оставалось для доцента загадкой. – Среди королевичей.
Королевичами в университете звались стипендиаты короны. Кручек, не возражая, перечитал заново: Иштван Пулярец, Гастон д\'Аренвиль, Келена Строфада, Дердь Габо… стоп!.. Келена Строфада…
Его обширная память хранила самые разнообразные сведения. В пыльном углу валялся и мелкий, обгрызенный по краю фактик: обитатели Строфадской резервации, выбираясь во внешний мир, часто берут название родных островов в качестве фамилии. Еще доцент помнил кое-что из мертвых языков, вызубренных в начале карьеры. Достаточно для элементарного перевода:
Келена Строфада – Мрачная с Островов Возвращения.
– Альтернативный специалист? Шаман, откликнувшийся на просьбу его величества? Так вот, значит, кто ты…
– Иди спать, – посоветовал ректор, морщась. – Горишь на работе, вон, уже бредить начал. Шаманы мерещатся. Мне одной Исидоры хватает, для счастья.
Доцент перегнулся через стол, горой нависнув над щуплым Хайме.
– Ты помнишь колье Горгульи? Ну, герб в центре?
– Разумеется. А что?
Колье было неотъемлемой частью профессора Горгауз. Она носила его всегда и везде. Злословили, что украшение – часть тела, в которой скрывается корень скверного характера Горгульи. Фамильная драгоценность: серебро, черные алмазы, и в центре, на короткой цепи – эмалевый герб.
– Забудь про шамана. Это тебя не касается.
– А что меня касается? Душевное расстройство коллеги, от которого я ждал помощи?
– Геральдика.
– Да при чем тут геральдика, скажи на милость?!
– Герб Исидоры. Центральный символ, согласно трактовке Джона Гилема, означает: «Свиреп, когда спровоцирован». Такие гербы даровали храбрецам, отличившимся в Плотийских войнах. Теперь ты понимаешь, отчего она не желает преподавать этой… как бишь ее?! – Келене Строфаде? Зов крови, Хайме, отголосок былых свар…
Ректор вздохнул. Отстранив возбужденного Кручека, он взял из вазочки желтую гвоздику и заложил за ухо. Это выглядело бы смешно, не знай оба, что у толкователей снов – свои способы копить ману. Гвоздики, особенно махровые, гнали дрему прочь. С цветком за ухом Хайме мог не спать трое суток кряду.
– Дорогой мой, я это знал с самого начала. Между прочим, знал тихо, спокойно, не брызжа слюной в лицо приятелю и, как ни крути, руководителю. У тебя есть добрый совет? Если нет, прием закончен. Мне и без твоего остроумия тошно. Горгулья требует, чтобы я отказал в обучении королевскому стипендиату! Проклятье, я между молотом и наковальней…
– Совет есть. Разбей первый курс на две группы, и поставь двоих кураторов. В приказе упомяни: «Под главенством профессора Горгауз…» Иначе Исидора съест напарника без соли. Ей предложи снять с себя учебную нагрузку. Если она согласится, я готов станцевать джигу у тебя на столе, во время ученого совета. Потом…
– После твоей джиги?
– Нет, после ее согласия на дробление курса. Ты скажешь Исидоре, что все индивидуальные занятия, лабораторные работы и практикумы в группе, где станет учиться эта злополучная Келена, возьмет на себя второй куратор. Тут она непременно согласится. Хотя сперва выпьет у тебя галлон крови, это уж к гадалке не ходи.
У ректора заблестели глаза – и сразу погасли, словно у чучела василиска, когда в пуговицах на миг отразилось пламя свечи.
– Ты гений, Матти. Добавлю: ты – гений-теоретик. Ты все разложил по полочкам, не назвав одной, ключевой мелочи. Кто тот безумец, тот самоубийца, который захочет стать вторым куратором под началом разгневанной Горгульи?
Матиас Кручек отобрал гвоздику у ректора, с хрустом обломал стебель и вставил цветок себе в петлицу сюртука.
– Я, Хайме. Твой покорный слуга.
Покидая ректорат, раскланиваясь с секретарем Триблецом, доцент не мог отделаться от неприятного воспоминания. Года три назад, подвыпив, Хайме Бригант сетовал ему на несовершенство законодательства. В частности, ректора удручал закон, принятый еще в царствование Пипина Саженного, который – закон, а не император! – запрещал изготавливать чучела из хомобестий.
Разум здесь не служил мерилом. Фениксы тоже разумны. Определяющим фактором, как ни странно, работала внешность. Если в существе присутствовал элемент человеческого, проявленный в должной мере – мертвого китовраса, русалку или, скажем, псоглавца следовало хоронить в земле или сжигать на костре, или иным образом выполнять традиционный для покойника обряд погребения.
– Ну почему? – чуть не плакал Хайме.
– Это же очевидно, – возразил тогда Кручек.
– Очевидно, – согласился ректор. – Но для искусства таксидермии – невосполнимая потеря.
Толкователи снов всегда отличались оригинальностью выводов.
* * *
– Зачем-зачем… По уставу положено!
Бородач-стражник отмахнулся от напарника, как от мухи-надоеды. Напарник был молод, зелен и пупырчат, служил без году неделя – и каждую минуту приставал с вопросами. Традиция: желторотики чистят ветеранам сапоги, а ветераны учат молодежь жизни. Казалось бы, вполне справедливая плата. Однако в случае с юным Тибором Дудой старший караула всерьез усомнился в справедливости мироустройства.
Говорят: повезет, так и петух снесет. А не повезет, так в ягодицу клюнет. Фортуна, драть ее на лыко! – угодить в одну смену с отъявленным болтуном! Да еще к Малым Угловым. Самые никчемные ворота. У всех названия, как названия: Пипиновы, или Небесные, или хотя бы Гиббса-Дюгима-Льюиса-Маргулиса. А тут просто в рожу плюнули: Малые Угловые. За день три калеки пройдет – толпа; телега проедет – событие! Валил бы народ, недосуг Дуде было бы вопросами сыпать, что маком из дырявого мешка…
– Но ведь уставы мудрецы пишут?
В вопросе шебуршала явная каверза.
– Ясен дрын, мудрецы.
– Значит, и алебарды нам от великой мудрости положены. Вот теперь и разъясни мне, скудоумному: отчего как стражник – так непременно с алебардой? Не с мечом, не с саблей, не с палашом…
– Не с языком до пупа…
– …не с копьем, не с шестопером…
– У тебя не алебарда, – безнадежно попытался старший увести разговор в сторону. – У тебя глефа, драть тебя на лыко…
Он с тоской покосился на сторожевую башенку. Там хранились арбалеты с запасом болтов, и аркабаллиста – поломанная, но грозная с виду. Еще в башенке дремал третий караульщик их смены. Эх, надо было на верхотуру лезть, а Густав бы тут отдувался…
– Да хоть протазан! – не попался на удочку Тибор, проявив внезапные познания в древковом оружии. – Один хрен – алебарда. Почему?
Старший внимательно изучил свои сапоги. Надраены до блеска, придраться не к чему. Надо отвечать. Он заворочался на скамейке, устраиваясь поудобнее. В конце концов, должен же кто-то наставлять сопляка?
– Вот представь себе: подъехал к воротам всадник. Все чин-чинарем. Ты ему: кто таков, откуда, по какой надобности? А он заместо ответа коню – шпоры, и мимо тебя в город. Твои действия?
Тибор в растерянности заморгал. Россыпь веснушек ярче проступила на бледных щеках. Чувствовалось: парень не на шутку переживает. Костьми готов лечь на боевом посту.
– Дорогу заступлю!
– Дурачина, – усмехнулся бородач. – Он тебя конем снесет. Скажи спасибо, если жив останешься. Да и не успеешь, ежели он с места в галоп рванет.
– Буду орать: «Стой!». Тебя на подмогу кликну.
– Уже лучше. Орать – святое дело. Ты, значит, орешь, я бегу, а он, подлец – вдоль по улице. За угол свернул, только мы его и видели. Ищи-свищи гада в городе. Кто виноват? – караул виноват, ясен дрын! Прошляпили. Думай, шевели ушами!
Пока Тибор потел, сдвинув каску на затылок и запустив пятерню в рыжие вихры, бородач размышлял, что все-таки это правильно – ставить желторотиков на Малые Угловые, где отродясь ничего не случалось. Пусть сперва пооботрется, узнает, почем фунт лиха – а там уж…
– Догадался! – просиял Тибор. – Орать «Стой!» – и глефой его, вражину!
– Ну вот, дошло наконец.
– Все равно не понимаю! – упрямо насупился юнец. – Копьем ткнуть – раз плюнуть. А нашей дурой пока-а-а размахнешься…
– Бестолочь!
С неожиданным проворством старший вскочил со скамейки и выхватил глефу из рук оторопевшего Дуды. Замахиваться ему не потребовалось. Глефа, словно ожив, лихо присвистнула и очертила в воздухе сверкающий полукруг – наискось, снизу вверх.
– Ух ты!
– Теперь понял? И не рубить, а цеплять. Крюк видишь?
– А за что цеплять?
– Ну ты и стоерос! Ясен дрын, за кошелек. У всадника завсегда на поясе кошель болтается. Ты его зацепишь, конь рванет, тесемки и лопнут.
– А дальше?
– А дальше пусть скачет себе. Кому он без кошеля нужен?
– А если он вернется?
– Чего ему теперь возвращаться? Денежки все равно на штраф уплывут…
– А как нас разбранят?
– Да с чего нас-то бранить, если мы поделимся…
– Эй, мудрецы! – донеслось со сторожевой башенки. – Гляньте: летит кто-то…
Стражники, как по команде, задрали головы и уставились на башню. Не обнаружив там ничего достойного внимания, подняли взгляды выше. На сей раз первым сориентировался молодой. Нахлобучив каску, он выбежал за ворота – чтобы городская стена не мешала обзору – и приложил ладонь козырьком к глазам.
– Птица летит, – с разочарованием протянул он. – Мелочь.
– Мелочь? Ты расстояние прикинь.
– Ой! И верно… Орел, что ли?
– Может, и орел… Хотя нет, орлы поменее будут.
– Грифон?!
– Хорош гадать, Дуда. Подлетит поближе – увидим.
Из башенки донесся скрип взводимой тетивы.
Загадочный летун приближался к городу со стороны Тифейского побережья, скрытого утренней дымкой. Блудная химера? Вряд ли… Севернее открывался вид на малахитовую зелень Глухой Пущи – та убегала прочь, кое-где прерываясь вкраплениями золота и киновари. Ближе к столице лес заканчивался, уступая место обширным полям, а там и предместьям, меж которых вилась пыльная дорога, пустынная в ранний час.
Впрочем, нет. Одинокая фигура, шагая с размеренностью бывалого ходока, оживила дорогу как раз в тот момент, когда стражники глазели в небо.
– Вроде, снижается…
Летун, раскинув крылья, заложил широкий вираж – и камнем спикировал к воротам, подняв вихрь пыли. Встряхнувшись, гость вразвалочку заковылял к стражникам. Тибор отчаянно вцепился в древко глефы, так, что побелели костяшки пальцев. Лицо парня исказила гримаса – смесь страха, мальчишеского восторга и недоумения.
– Что… что это за тварь?!
И впрямь, было отчего прийти в изумление. «Тварь» удалась невысокой – локтя три, человеку по грудь. Крылья, сложенные за спиной, сутулили фигуру, из-за чего существо казалось еще ниже ростом. Грудь и живот, отдавая дань морали, прикрывал корсет со шнурованным лифом. Формы, которые лиф частью скрывал, а частью – и какой частью! – преподносил зрителям в откровенном декольте…
О, эти дивные формы! О, аппетитные округлости! Один взгляд на два снежных холма, и крылья уходили на второй план, если, конечно, вы – Тибор Дуда, парень в самом соку! А если поднять глаза от восхитительного бюста, и посмотреть «твари» в лицо – все, прилетели, крылья, не крылья, когти, не когти, да хоть павлиний хвост, женюсь, и баста!
Есть на свете красота, от которой пробирает озноб. Туповатый парняга-страж от нее делается поэтом, судорожно роясь в памяти – где образы и сравнения, достойные увиденного? Лик статуи, выточенный из слоновой кости. Темный, влажный агат глаз. Рот – алый лук, цветочные стрелы. Тонкая линия носа, хищный трепет ноздрей. Арки бровей иссиня-черны, и над ними, контрастом, обжигающим до морозного холодка в затылке – лоб, высокий и чистый. Кудри цвета воронова крыла зачесаны назад и стянуты тонкой сеткой – чтобы озорник-ветер не растрепал их в поднебесье.
Алебастровую шею украшала нить жемчуга.
Смотри, брат, не опускай взгляда. Иначе увидишь, как гостья, безупречно ловкая в небе, ковыляет по дороге на птичьих лапах, коротких и мощных. Заканчивались лапы жуткого вида когтями, оставлявшими в земле глубокие борозды. А руки…
Рук у существа вроде бы и не было. Вместо рук – крылья с глянцевыми перьями, окрашенными в густой индиго.
– К-кх-х…
– А?
– Кх-х-то это?
– Это гарпия, парень, – старший приосанился, расправил плечи, дабы герб Реттии на мундире выпятился должным образом. – Что, никогда не видел?
Он тоже, честно говоря, видел гарпию лишь однажды, давно и издали. В городах крылатые хомобестии жили редко, брезгуя теснотой. Ветеран тайком вспоминал устав караульной службы, драть его на лыко – и никак не мог отыскать хоть одну статью, имеющую отношение к таким вот визитерам.
«Действуем по обстановке, – решил он. – В столице скоро от людей не продыхнуть будет – накось-выкуси, еще и птички-синички! Поналетели тут! Двойная пошлина, не меньше. Нет, тройная! Или лети обратно, горлинка…»
Он сообразил, что гарпия запросто могла перелететь через стену, избежав встречи со стражей, вспомнил скрип арбалетной тетивы в башенке – и ухмыльнулся в усы. Густав бьет без промаха! Знай, хомобестия, свое место – нечего над стенами по небу шаркаться!
Остановившись в трех шагах, гарпия по-птичьи склонила голову набок.
– Доброе утро, любезные судари. Это столица королевства, я не ошиблась?
От хрипловатого контральто гостьи у стражников завибрировали в душе невидимые струны. О наличии таких струн оба – пожилой и молодой – минуту назад даже не подозревали. Говорила гарпия ясно, правильно, только ударения в словах едва заметно плавали – трудно было понять, на какой звук они приходятся.
– И вам доброго утречка, сударыня, драть вас на… э-э… – поперхнулся старший. – В смысле, ага. Столица. В самое темечко угадали.
– Если так, позвольте мне пройти в город.
– А поговорить? – сощурился ветеран. Тибор Дуда на всякий случай придвинулся ближе, чуть не зацепив старшего крюком глефы за шиворот. – Кто вы, откуда и по какой надобности явились в столицу?
– У нас так положено! – поспешил добавить Тибор, и сам удивился: зачем встрял? Наверное, чтобы не стоять столбом.
Ветеран хмуро покосился на парня, но отчитывать при гарпии не стал.
– Извольте, судари. Келена Строфада, верноподданная реттийской короны. Гарпия, как вы могли заметить. В столицу прилетела по делу. В качестве… Как бы это получше сказать? – да, в качестве целителя. Также собираюсь учиться в университете.
Вежливая изморозь, казалось, сковала черты женщины-птицы. С терпением, достойным горы или моря, она ждала, когда досадная помеха наконец уберется с ее пути.
– А диплом целителя у вас есть, сударыня? Лицензия?
Лик гарпии на миг дрогнул. Растерянность? Смущение? Обман зрения? Вот же тварь, подумал старший, ничего не разберешь! Он считал себя отличным физиогномистом, но сейчас опыт дал осечку. Лицо гостьи было книгой, написанной на мертвом, давно забытом языке.
– Чтобы попасть в город, мне нужен диплом?
– Без разрешительного документа в Реттии целительствовать запрещено. Набегут шарлатаны, до смерти залечат! Опять же, честным лекарям – убыток и разорение… Так что, есть у вас бумага?
– Нет.
По крыльям гарпии прошла еле уловимая глазом волна. Когда она схлынула, в перьях добавилось ядовитой прозелени, тесня сдавший позиции индиго. Тибор в растерянности заморгал. Но старший, беря пример с хомобестии, хранил невозмутимость.
– Ничем не могу помочь, сударыня.
Он картинно развел руками, глядя на гарпию сверху вниз. Скрыть злорадство удалось с трудом. Все, ласточка, дошутилась. Реттия – для людей, что бы ни талдычили законы. Лети на свои Строфады, там и кукуй.
Краем глаза он заметил долговязую фигуру – та приближалась сбоку, по дороге, – но оставил Густаву заботы о новом госте.
– В таком случае, сударь, сообщите мне ваше имя. Для разговора с вашим начальством.
Давить на бывалого вратаря? Ха! По уставу следовало назваться. Но откуда залетной стерве знать устав? Его и горожане-то плохо знают, если не служили в карауле…
– Имена стражи разглашать не положено! Во избежание обид и покушений.
– Ы-ык!
Странный звук издал Тибор Дуда: то ли подтверждал сказанное, то ли желал привлечь внимание. Вздрагивая, парень косил глазом на ворота. Старший обернулся, желая знать, что взволновало сопляка, и сам подавился икотой.
У ворот стоял псоглавец.
Если не обращать внимания на кудлатую башку волкодава с ушами торчком, сплошь в серой шерсти… Ага, не обратишь тут, как же! Короче, в остальном псоглавец был человек человеком. Телосложением он напоминал старшего караула, за вычетом изрядного брюха. Могучий торс затянут в колет из тисненой кожи – блеск крючков, пояс с бляшками; ботфорты, походная сумка… Палаш в старых ножнах и длинный кинжал довершали картину.
– Быстрого неба, сударыня, – обратился псоглавец к гарпии.
– Веселой охоты, сударь, – Келена впервые улыбнулась, обнажив аккуратные, заостренные на концах зубки.
Удосужься стражники приглядеться, они бы обнаружили, что у сцены, разыгрывавшейся перед Малыми Угловыми, появился зритель. Юная цветочница Герда вряд ли смогла бы ответить, за каким бесом ее занесло в эту часть города. Девочка, как часто случалось с ней, действовала по наитию, оставляя логику занудам. В итоге, несмотря на ранний час, она успела распродать две дюжины пунцовых роз, а сейчас наслаждалась скандалом, любуясь парочкой хомобестий.
Зрелище с лихвой стоило потраченного времени.
Девочка и не подозревала, что история, впервые коснувшаяся ее в Веселом Тупике, подступила гораздо ближе, и вот-вот Герду унесет течением к далеким берегам. А даже если бы и подозревала? Это ровным счетом ничего не меняло.
– Пр-рохвосты! – зарычал псоглавец в адрес караула.
Собакоголовый, драть его на лыко, ростом вымахал в косую сажень. Смотреть на него сверху вниз не получалось при всем желании. Тем не менее, ветеран открыл рот, желая осадить наглеца, но псоглавец его опередил:
– Статья втор-рая, пар-рагр-р-раф тр-ретий! – рявкнул он, катая в глотке опасный хрип. – По требованию подданного Реттийской короны, либо жителя дружественной страны, прибывшего с частным визитом, караульный страж обязан представиться. В соответствии с уставом он еще должен отдать честь, но, учитывая вашу нр-равственность, об этом говорить не приходится. Всякого, если он не преступник, объявленный в розыск, следует беспрепятственно пропускать в город после уплаты входной пошлины. Лица, прибывшие по официальному приглашению, от пошлины освобождаются.
«Ишь ты, „лицо“ выискалось! – ругнулся про себя старший. – Морда!» Однако вслух оскорбить псоглавца остерегся. Устав тот цитировал слово в слово. И где только выучил, сукин сын? Обычно псоглавцы ограничивались краткими, рублеными фразами – их пасть была не слишком приспособлена для долгих монологов. Но адвокат гарпии выступал, как по-писаному. В свое время он наверняка потратился на хирургическую операцию, и не одну, чтобы получить возможность связной речи в течение минуты-другой.
– Забыли? Устав? – вот теперь собакоголовый уже лаял, как принято среди его племени. – Так я напомню! И доложу, кому следует!
– А вы что, тоже подданный его величества?
– С р-рождения! – сверкнули клыки. – Доминго, сын Ворчака. Любить не предлагаю. Жаловать – придется. Судар-р-рь.
– Платите пошлину и это… – старший поскучнел и слегка усох в размерах. – Добро, значит, пожаловать. Оба. Но заниматься целительством без лицензии не советую. Имейте в виду.
– Пошлина? – изумился Доминго. – Бр-ред. Я по пр-риглашению.
Он извлек из сумки малый свиток, перетянутый бордовым шнуром, и бросил стражникам.
– Приглашен… – забубнил Тибор Дуда, развернув свиток, – на должность… в качестве соискателя… Подпись: Рудольф Штернблад, капитан лейб-стражи. И личная печать.
Обалдев, парень шевелил губами, не издавая ни звука.
– Прощеньица просим, сударь соискатель, – старший вложил в эти слова всю издевку, на какую был способен. – Не признали! Милости просим.
«Вы, случаем, не капитанский сынок? – мысленно спросил он. – Или внучек? А то, я гляжу, личиком похожи. Мириться приехали, а?» У скверной шутки были основания. Вся Реттия знала, что Рудольф Штернблад на ножах со своим сыном, лекарем при графском дворе в провинции. Сын родился в отсутствие папаши, променявшего семью на умение ловко вертеть клинком, и впитал ненависть к отцу с молоком матери. Все попытки капитана наладить отношения наталкивались на броню вежливого отказа. Столько лет, у сына виски седые, пора бы остыть, простить, ан никак…
Жаль, не всякое лыко в строку. Пошути старший вслух, и арбалетная стрела с башенки могла опоздать. Этот барбос за поносные слова уши отгрызет, и не поморщится. А свои уши, извиняюсь, ближе к телу.
– Спер-рва – дама! – гавкнул Доминго.
Он ел старшего глазами, словно желал прочесть чужие мысли.
– У меня тоже приглашение, – внезапно сообщила гарпия. Во время пикировки она молчала. – Желаете удостовериться?
– Желаем! – в полном раздрае душевных чувств гаркнул ветеран.
– Извольте.
Крылья гарпии пришли в движение, приподнялись – и из-под них на свет явились…
– Руки… У нее руки!
– Вас это удивляет, юноша? – с ледяной улыбкой осведомилась Келена Строфада, поведя бровью в адрес Тибора Дуды. – Меня тоже кое-что удивляет. Например, полная безмозглость некоторых… Впрочем, неважно.
Изящные руки, которые гарпия до сих пор прятала под крыльями, будто под плащом, добрались до вышитого бисером кошеля, висевшего на поясе. Длинные пальцы лютнистки, вооруженные когтями – впрочем, когти покрывал гиацинтовый лак, – ловко справились с застежкой.
– Вот, пожалуйста.
На пурпурном сургуче печати, украшавшей конверт, встал на дыбы единорог – герб королевского дома Реттии.
– Нижайше извиняемся, сударыня…
Тибор Дуда согнулся в глубоком поклоне, следуя примеру старшего.
– Что ж вы сразу-то не сказали?
– Да как-то не пришло в голову. Ведь меня и так должны были пустить в город. Верно, храбрые воины?
– Все верно, сударыня, вы совершенно правы, просим прощения…
«Вот же дрянь! – думал старший, глядя вслед гарпии и псоглавцу. Две фигуры, долговязая и приземистая, рядом смотрелись диковато, если бы не солнце. Лучи били навстречу, создавали вокруг этих двоих сияющий ореол, превращая в неземных созданий из волшебной сказки. – Теперь, небось, наябедничает. Капитан Горчмыг такой фитиль вставит – Овал Небес с овчинку покажется…»
– Господин! Купите даме цветок!
Маленькая цветочница выскочила из-за створки ворот, словно бесенок – из табакерки.
– Р-розы! – оскалился Доминго. Он дышал часто и тяжело, вывалив язык. Уставной монолог не прошел для него даром. В глотке саднило, артикуляция давалась с трудом. – Кр-р-расота!
Псоглавец дал девочке монету, безошибочно выбрал лучшую розу и с поклоном вручил цветок Келене. За его спиной дружно крякнули стражники; Густав из башенки, и тот присоединился. Вратарей томило странное чувство – будто гарпия забыла про них в ту же секунду, как только двинулась дальше. Верней, помнить-то помнила, но бесчувственно, равнодушно, как помнят не нанесенное оскорбление, не удачную месть, а бросовый камень на обочине.
С одной стороны, повезло; с другой – обидно.
– Спасибо, сударь, – гарпия спрятала подарок под крыло. – Я тронута.
– Куда вы? Сейчас?
– В дом Томаса Биннори. Меня там ждут.
– Я бывал в Р-реттии. Дом Биннор-ри? – не знаю.
– Я знаю, госпожа! Я! Это в Веселом Тупике! Могу проводить, – заблажила Герда, и не преминула добавить: – Совсем недорого.
Гарпия обернулась к цветочнице. Они были одного роста, гарпия даже на вершок повыше. Но это ненадолго. Скоро девочка вытянется молодым деревцем, а женщина-птица останется прежней.
– Хорошо, – прекрасное лицо Келены оттаяло. – Я буду смотреть сверху, куда ты идешь, и следовать за тобой.
– Да, госпожа.
– Удачи тебе, Доминго, сын Ворчака. Надеюсь, еще увидимся.
И, расправив мощные крылья, гарпия взмыла в воздух.
Caput IV
Для чего стоять на крыше?
Для того, чтоб быть всех выше –
И точить, точить слезу
По оставшимся внизу.
Томас БиннориДля Абеля Кромштеля день не задался с самого утра.
Придя на рассвете во внутренний дворик, он с огорчением выяснил: мэтр Томас ночью сбежал из спальни, куда Абель вчера отвел его за руку, и сейчас спит в кресле, забыв даже укрыть ноги пледом. Бледный, утомленный, поэт весь светился, бормоча какую-то невнятицу и улыбаясь.
Попытка разбудить его и накормить завтраком ни к чему не привела. Томас спал, и все тут. Применять сильные меры – облить холодной водой, надавать оплеух, заорать благим матом – Абель побоялся. Он ограничился тем, что закутал барда от ступней до поясницы клетчатым пледом, принес из гостиной второй плед, накинул Биннори на плечи – и, отойдя на пару шагов, с минуту плакал, сетуя на несправедливость судьбы.
Когда никто не видит, плакать дозволено.
Пройдя на кухню, он долго готовил себе завтрак. Есть не хотелось, но простые действия успокаивали. Холодная баранья нога, нашпигованная морковью и чесноком – срезать с кости ломтики жесткого мяса, разложить на тарелке веером. Разжечь очаг, вскипятить воду в маленьком котелке. Бросить в кипяток мяты и чабреца, горсть сушеных ягод земляники. Над еще горячим очагом подержать лепешку. Вздохнуть, понимая, что мэтр Томас не разделит с тобой трапезу. Мэтр Томас далеко. Съесть лепешку, чуть-чуть баранины, запить отваром.
Выйти во дворик: все ли в порядке с бардом? Все в порядке, спит. Моим врагам такой порядок.
Поднявшись в кабинет, Абель достал чернильный прибор, стаканчик с перьями, песочницу – и занялся дневником. Кабинетом он пользовался редко, лишь в те дни, когда у мэтра Томаса начиналось обострение. Суеверие, смешное и нелепое: пока здесь кто-то пишет, скрипит пером, трет в задумчивости лоб – Томас Биннори будет жить.
Дурачок ты, Абель, тоскливо усмехнулся он. Томас Биннори будет жить вечно. Актерские труппы от Реттии до Бадандена играют трагедию «Заря», и зритель рыдает, задыхаясь от сердечных спазмов. Трубадуры на дорогах Анхуэса и Брокенгарца, Эстремьера и Шпреккольда, и даже далекого, сказочного Ла-Ланга поют «Балладу троих», «Балладу пятерых», «Лэ о королеве фей и Томасе Рифмаче», будь оно проклято, это лэ, и все, что его породило…
Он склонился над бумагой.
"Вчера вечером я сварил ему бульон. По-эйлдонски, как он любит: из жирной курицы, с корнем петрушки и зеленью. К счастью, он согласился поужинать. Я кормил его с ложечки, бульон тек на подбородок, на одежду, а он, глотая (хвала Вечному Страннику!), рассказывал мне, как луна висит над гребнем чащи, сгорая от страсти, и сны вереницей отправляются в деревню – их ждут дети, а взрослые могут спать и без снов… Я поддакивал, он радовался, был почти прежним, но очень слабым, съел гренок с маслом, потом замкнулся и сказал, что хочет остаться один.
Иногда я думаю: что стану делать, если он умрет? На что жить? – этот вопрос меня не волнует. Я непритязателен. На кусок хлеба заработаю. Но зачем жить Абелю Кромштелю без Томаса Биннори? Я – тень, спутник, сам по себе я ничего не значу. Я даже тосковать не сумею, так, как тосковал бы он, оставшись без меня – завивая тоску кружевом таланта…"
Внизу постучали. Сухой снаружи, стук дверного молотка гулко разнесся по дому. Мэтр Томас, помнится, ругался: мешает работать. Впрочем, когда мэтр Томас действительно работал, а не ловил музу-капризулю за вертлявый хвост, его нельзя было отвлечь и раскатом грома, начнись гроза прямо в кабинете.
Отложив перо, Абель заторопился к двери: встречать гостя.
Он не слишком надеялся на помощь альтернативного специалиста, вызванного его величеством, кем бы этот специалист ни был. Надежда – опасное чувство. Скользкое. Оно плюхается обратно в реку разочарования, а ты остаешься на берегу, несчастный и удрученный много больше, чем до явления золотой рыбки – надежды.
– Доброе утро. Меня зовут Андреа Мускулюс.
На пороге стоял грузчик, одетый для грузчика слишком добротно. Из рукавов куртки выглядывали мощные запястья и кисти рук, способных, пожалуй, свернуть шею быку. Простоватое лицо, тень от шляпы, застенчивая улыбка – так извиняются за беспокойство.
– Вы что-то привезли? – спросил Абель.
Случалось, поклонники отправляли барду тяжеловесные подарки. Правда, едва по городу поползли слухи о помрачении рассудка Биннори, поклонников как ветром сдуло. Без причины, наивно и глупо, они боялись заразы. Вслух никто не говорил, что от поэта можно подхватить мозговую чуму, но Веселый тупик быстро опустел.
«На похороны, небось, привалят!» – зло подумал Абель и ощутил укор совести.
Он не любил быть злым.
– Я? Нет, я ничего не привез. Я – член лейб-малефициума. Лейб-малефактор Нексус сегодня не придет. Он настоял, чтобы я присутствовал при первом визите альтернативного специалиста. Я не опоздал?
– Н-нет…
– Милый, ты не хочешь представить и меня? – из-за спины мага, похожего на грузчика, выступила красивая дама. – Или ты рассчитывал, что я провожу тебя и обожду в «Шкатулке Д\'Оро» за чашечкой кофия?
Детина побагровел, став похож на помидор.
– Ох, Номочка, прости! Ты же знаешь, я вечно… Рекомендую: Наама Мускулюс, моя жена, маг высшей квалификации.
– Некромант, – мило улыбнувшись, добавила дама. – Из Чуриха.
«Мэтр Томас еще жив! – хотел закричать Абель. – Убирайтесь прочь!» Мелькнула страшная мысль, что это и есть альтернативный специалист – Эдвард II замыслил ужасное, желая любой ценой сохранить мэтра Томаса при дворе… Но дама помешала ему, остановив истерику на полпути. Она шагнула вперед, странным образом заслонив богатыря-мужа, сняла обаяние, как вуаль с шляпки, убрала красоту, отвлекающую от главного, оставила лишь деловитость и спокойствие, после чего тихо сказала бледному до синевы Абелю:
– Я знаю, что приглашенный королем специалист гарантировал вашему другу, – гостья избежала высокомерного «вашему хозяину» с изяществом, достойным уважения, – полную безвредность своих действий. Возможно, это правда. Возможно, обман, вольный или невольный. Я гарантирую другое: пока мы здесь, мы сделаем все, что в наших силах, для безопасности Томаса Биннори. Если у вас есть сомнения, вы вправе отказать нам. И мы удалимся без последствий. Ваше решение?
Абель отступил, давая проход.
– Добро пожаловать, государи мои. Я рад видеть вас.
Он проводил супружескую чету во дворик, показал хозяина дома – Биннори спал, напевая во сне бессвязную канцонетту – и, по желанию малефика, оставил. Уходя, Абель обернулся: грузчик-чародей задумчиво изучал спящего, время от времени что-то шепча жене. Та кивала, обмахиваясь веером из расписного шелка. Над кромкой веера плясали сине-белые искорки.
Работают, понял Абель, и тут в дверь снова постучали.
Новые гости ввели бы его в столбняк, не будь меж ними знакомого – капитана Штернблада. Позади маленького капитана топтались два лейб-гвардейца и рослый псоглавец, вооруженный до зубов.
Включая зубы, поправился Абель.
– Здравствуйте, Кромштель, – капитан всегда обращался к Абелю по фамилии. Ему нравилось, как она звучит. – Его величество поручил мне обеспечить безопасность Биннори. Извините, если помешали. Вы с утра смотрелись в зеркало? Ваши дивные бакенбарды нуждаются в гребешке…
Он поймал взгляд Абеля, устремленный на псоглавца, и подмигнул: каков, а?
– Это Доминго, не пугайтесь. Он сегодня прибыл в Реттию и сразу нашел меня по запаху. Превосходное чутье, клянусь шипами ваалберита! В следующий раз, когда вы встретитесь, Доминго будет щеголять в такой же форме, как и эти два головореза. Уверен, мундир ему к лицу… э-э… ну, короче, к лицу. Вы пустите нас, или придется применить силу?
Капитан расхохотался. Рудольф Штернблад пребывал в чудесном расположении духа. Патент на имя Доминго, сына Ворчака, лежал у него в кармане. Мало кто знал, каких трудов стоил этот патент. С упорством маниака Штернблад день за днем, год за годом пробивал давнюю идею: в лейб-страже обязан служить хотя бы один миксантроп.
Если мы признаём за миксантропами, говорил капитан – слово «хомобестия» он терпеть не мог, – право считаться подданными короны, мы должны признать за ними и право охранять носителя этой короны. Иначе мы вслух декларируем необходимость мирно жить бок о бок, а на деле прячем нож за спиной.
«Но стоит ли начинать с лейб-стражи?» – спрашивали его.
Начинать, отвечал маленький капитан, надо там, где всем видно.
Штернблада не понимали, и даже звали бестьефилом, но шепотом, озираясь по сторонам. Оскорбить Неистового Руди в полный голос – не самый приятный способ самоубийства. Долго, знаете ли, грязно, и много неэстетичных подробностей…
– Прошу вас! – Абель провел бравых вояк во дворик, оставил здороваться с мажьим семейством и впервые задумался о важном. Если его величество так заботится о безопасности пациента, прикрывая Биннори чарами и железом – что же представляет из себя лечение? Или этого никто не знает, и страхуются от всего сразу?
Глупые мы, глупые, невесело хмыкнул он. Ограждаемся от допустимого, зная, что обращаемся к неизвестному. Стели, брат, соломку, и езжай за сто лиг кубарем лететь…
Вздохнув, он вернулся к дверям: пришел лекарь Ковенант. Когда же и лекарь присоединился к группе защитников барда, Абель случайно заметил, куда глядят капитан и верзила-псоглавец, не спеша привлечь внимание остальных. Он тоже поднял голову и ахнул. Внутренний двор не имел крыши – такие дворы по-анхуэсски называют «патио»; попадали сюда через два коридора, идущие от холла и угловой гостиной. Но, как только что выяснилось, существовал иной путь.
На перилах лоджии третьего этажа сидела гарпия.
* * *
– Чудесное утро, господа мои. Келена Строфада, к вашим услугам.
Гарпия замолчала. Ее негромкий, но внятный голос был слышен каждому, несмотря на расстояние. Пауза висела в воздухе, словно хищная птица, высматривая добычу.
На лбу Абеля выступил холодный пот. Он догадывался, кто здесь добыча. Присутствуй он при сцене, разыгравшейся у ворот города, то отметил бы, что гарпия опять «сменила наряд». Сизые крылья с белой окантовкой, аспидно-черный хвост. Серо-белые «штаны» на птичьих лапах – точь-в-точь перистые облака в вечернем небе. Когти намертво вцепились в перила.
«Какие громадины! Овал Небес, если она захочет…»
– Келайно, – сказала супруга мага-здоровяка. С чисто женской ревностью она изучала гарпию. Прекрасная соперница выглядывала из перьев, будто из волшебного платья. – Мрачная. Проклятье, я могла бы догадаться…
В ее устах слово «проклятье» звучало буднично.
– Вы знаете наш язык, – улыбнулась гарпия, демонстрируя острые зубки. – Это хорошо. Не соблаговолите ли представиться, сударыня? Ладно, мужчины помалкивают. Стесняются. Но какие церемонии между нами, слабыми женщинами?
– Наама Мускулюс. В девичестве – Шавази. Маг высшей квалификации.
Уточнять специализацию магичка не стала.
– Наама, – гарпия на миг задумалась. – Страус, если не ошибаюсь. На аль-аднан. Или аль-яруб?
– Аль-аднан. Меддийский диалект.
– Шавази, кажется, танец живота… Вы – некромантесса, да?
– Да. Как вы догадались? Толкователи имен обычно делали вывод, что я – танцовщица…
– Случайно, – гарпия позволила себе вторую улыбку. – Я видела, как страусиное яйцо подвешивают над могилами. Это означало воскресение и бдительность. Зовите меня Келеной, не утруждайтесь. Господа, к вам это тоже относится.
Слетать вниз она и не думала. Сидела королевой на троне; склонив к плечу очаровательную головку, переводила взгляд с одного человека на другого. Келена собиралась явиться раньше, но опоздала. Эта смешная девчонка Герда… Уследить за цветочницей, бегущей по лабиринту города, оказалось труднее, чем предполагала гарпия. Дед был прав: курятник. Приходилось раз за разом снижаться, делать круги и охотиться на Герду, словно на верткого обезьяныша в кроне дерева. Хорошо, горожане не привыкли глазеть на небо, считая ворон: гарпию заметили всего дважды, и без лишнего гвалта.
Зато кошки стремглав летели прочь с обжитых крыш, и собаки заходились хриплым, испуганным лаем. О голубях и речь не шла: сизари-толстяки исчезали в чердачных окошках с неприличной поспешностью.
Когда же девчонка остановилась, призывно размахивая свободной рукой – во второй она держала корзинку с цветами, – гарпия снизилась, опустилась на мостовую, и с интересом выяснила, что это не Веселый Тупик, а перекресток Кладбищенской и Трубача Клауса.
«Вам надо где-то жить, – без зазрения совести заявила хитрюга Герда, мило краснея. – Почему не у бабушки? У нас есть свободная комната: чистенькая, уютная. На третьем этаже. С балкончиком. Вон, видите? Он просто создан для вас: прилетели, сели – и сразу в комнате. Никаких лестниц, являйтесь, когда угодно… Совсем недорого, а?»
Келена хотела разбранить нахалку, подумала – и согласилась. Ей понравился балкон. Да и домик выглядел милым. В конце концов, цветочница говорит дело: жить где-то надо. Почему не у бабушки? Тем паче, что бабушка Марго уже выходила из дверей, здоровалась и звала отведать свежих плюшек. Крылья и когти новой постоялицы не смутили старушку. Плюшки, чай, слово за слово, уверения, что Веселый Тупик под боком, и в такую рань грех торопиться… Короче, псоглавец Доминго успел благополучно найти капитана Штернблада, защитники больного поэта собрались во дворе всем отрядом, а гарпия только взлетела с балкона – в путь.
К счастью, Герда не солгала: дом Биннори и впрямь стоял рядом.
– Расступитесь, господа. Вы заслоняете мне пациента.
– Вы собираетесь произвести осмотр? – спросил лекарь Ковенант. Унылое лицо лейб-медикуса вытянулось еще больше. – Если да, я готов оказать…
– Я собираюсь произвести первый захват.
– Захват?
Лекарь тоже кое-что смыслил в языках. Гарпия – от глагола «harpazein»: хватать, похищать. Хищники, гарпии привыкли хватать и похищать добычу. Это понятно. Но при чем тут пациент? Зачем хватать больного? Зачем его похищать, скажите на милость?!
– Да. Это необходимо, чтобы вынести дигноз. Господа, король доверил мне лечение сударя Биннори. Сейчас я предприму ряд действий. И хочу получить от вас заверения, что вы не станете вмешиваться, что бы я ни делала. Повторяю: ваше вмешательство исключено. В противном случае я немедленно покину Реттию.
– Что вы намерены делать? – спросил капитан Штернблад.
– Большей частью – просто сидеть рядом с пациентом. В остальном – это мое дело. Даже если мои действия покажутся вам опасными, вы не должны вмешиваться. Обещаете?
Капитан кивнул:
– Обещаем.
Рудольф Штернблад сказал это таким тоном, что оспаривать его право говорить за всех не решился никто. Многие еще помнили дуэль, случившуюся между капитаном лейб-стражи и Просперо Кольрауном, боевым магом трона, ее удивительный исход – и взгляд обоих дуэлянтов, который заморозил возмущенные трибуны, превратив буянов в овечек.
– Хорошо. Прошу вас, отойдите от пациента. Вон к той клумбе. Спасибо. Итак, приступим.
И гарпия, не говоря больше ни слова, сорвалась с перил. Взмахнув крыльями, вытянув перед собой лапы с ужасными когтями, хищником на добычу, она ринулась на спящего в кресле Томаса Биннори.
* * *
Позднее Абель Кромштель запишет в дневнике:
"Я ничего не успел сделать. Я и понять-то ничего толком не успел. Помню страх: липкий, молниеносный, он ударил меня под ложечку, и я задохнулся. Лишь сейчас, разбирая воспоминания, как пряха – кудель, я пытаюсь восстановить картину. Спасибо капитану Штернбладу: он ответил на мои вопросы – скупо, посмеиваясь, но этого хватило, чтобы заполнить лакуны.
Не все – такие рохли, как я. Не всем суждено махать кулаками после драки. Я помню, как жуткое существо неслось на мэтра Томаса. Беззащитный, закутанный в пледы, он ждал смерти с покорностью и, как мне показалось, с радостью. Конечно, я преувеличиваю: во сне нет ни покорности, ни радости, ни самого ощущения надвигающейся смерти. Но кто бы из нас не мечтал умереть во сне? – в счастливом сне…
Я хотел закричать, но горло сдавило, как петлей. Зато гвардейцы действовали, будто на учениях, с отменным хладнокровием и сноровкой. Тот, который стоял ближе к креслу, кинулся на перехват, подставляя себя под удар убийственных когтей. Второй выхватил кинжал, собираясь метнуть его в гарпию. Не знаю, успели бы они, и что вообще из этого получилось бы – глупо строить предположения, как замок на песке. Важно иное: первый лейб-гвардеец, не добежав, рухнул, словно бык на бойне, оглушенный обухом топора в руках умелого мясника. А у второго исчез кинжал – вот только что сверкал в пальцах, собирался уйти в полет, и сгинул, как не бывало.
Я неверно сложил кусочки мозаики. Разумеется, сначала исчез кинжал. Его отобрал у подчиненного капитан Штернблад. Я не видел, каким образом он это сделал, но оспаривать заявление капитана не могу. Мало ли чего я не видел? В конце концов, я не заметил и того, как кинжал совершил в воздухе пол-оборота – и концом рукояти ударил первого гвардейца в ямочку под затылком. Обладатель кинжала еще только завершал взмах рукой, полностью уверен, что продолжает владеть оружием, а его коллега уже валился лицом вперед, упав в опасной близости от кресла.
Все это время псоглавец Доминго стоял, не шевелясь.
– Отец ударит, сын вылечит, – с отменным равнодушием сказал капитан. – Пустяки…
За годы, проведенные в Реттии, я не раз слышал любимую поговорку Штернблада. Ее цитировали все, кому не лень. Другое дело, что единицы догадывались об истинном смысле слов капитана. Его сын, лекарь у графа Ла Фейри, терпеть не мог столичного отца. Он отказал капитану, когда тот изъявил желание увидеть внука. Они не встречались даже на могиле жены рано овдовевшего капитана. Сын заранее узнавал о визите отца, и сказывался занятым или уехавшим. Думаю, поговорка успокаивала Штернблада-старшего. Сладкая, неясная для посторонних ложь создавала видимость общности между формально близкими, но абсолютно далекими родичами…
Впрочем, я отвлекся.
Когда гарпия в последний, немыслимый момент свернула в сторону, чуть не задев когтями мэтра Томаса, и приземлилась у кресла, застыв в неподвижности, я услышал, как шумно выдохнул воздух маг, похожий на грузчика. Его супруга…"
* * *
Захват осуществить несложно, знала Келена. Один-единственный лепесток времени, краткий миг падения – тело становится невесомым, и душа обретает свободу, выскальзывая из плоскости тварного мира в пространство психонома. Мига достаточно, чтобы увидеть ближайший из якорей, схватить цепь и вынырнуть наружу. Простая, грубая работа.
Но для работы тонкой – а что тоньше коррекции чужой души? – необходимо длительное погружение. Гарпия, проникая в чужой психоном, остается беззащитной. Внутри пройдут часы, а снаружи – минуты; но эти минуты ты проведешь, застыв изваянием рядом с тем, чью душу исследуешь. Глухая, слепая, бесчувственная.
Такова плата за вход.
Перелет взорвал мироздание. Келена метила на локоть выше головы пациента – и влетела прямиком в грозовое небо. Воронка тайфуна с гостеприимством ада распахнулась перед гостьей, открывая аспидно-черный зрачок – трубу, канал, угольный колодец со стенами из бешено вращающегося вихря. Она падала в бездну исчезающе-иллюзорного «сейчас», закладки между прошлым и будущим, воспоминаниями и чаяньями, мечтами и сожаленьями…
Пока не рухнула в ночь.
Психоном встретил ее упругим ударом ветра, несущего запахи лаванды и бугенвилий, и горечи листьев, сжигаемых на кострах осени. Келена расправила крылья, поймала поток – и не удержалась: расхохоталась от переполнивших ее чувств. Единение с психономом: вы входите друг в друга, как меч в ножны, как двое нежных любовников.
Неповторимый и чудесный праздник – «сейчас».
О люди, вы даже не представляете, насколько вам повезло. Владельцы стран и континентов, на этих пажитях вы можете взрастить все, что пожелаете – пока живы. Рай и геенна, высокое и низменное, страсть и страдание – вы вольны засеять их сказочными драгоценностями, изумрудами прожитых мгновений, каждое из которых – неповторимо.
Это ли не дар свыше? И на что вы его растрачиваете?
Углубляетесь в воспоминания, эмигрируя в «уже было». Предаетесь мечтам, отплывая в «еще не было». Настоящее утекает песком сквозь пальцы, оставляя зияющие прорехи на ткани создаваемого мира. Вы жадно перебираете найденные когда-то медяки и вожделеете серебра, не замечая ежесекундно сыплющегося на вас золотого дождя.
Ветер усиливался. Келена стремительно неслась над окутанными тьмой землями. Внизу проплывали неясные очертания заброшенных городов и циклопических построек, не озаряемые даже робким лучиком света. Лишь вдалеке, на вересковых пустошах, жгли костры. Гарпия скользнула ближе к земле. То, что она ищет, не может таиться во тьме: она знала это по опыту.
В глаза ударило солнце. Из ночи она влетела в день, и не удивилась.
Небо переливалось сияющими разводами, раскрашивая облака во все цвета радуги. Внизу рос город. Земля влажно лопалась, из нее красноголовыми подрябиновиками лезли белокаменные дома, блестя черепицей крыш. На холме кольцом башен-боровиков встал к небу замок; деловитыми опятами проклюнулись хижины предместий. Вот уже и букашки-хлопотуны на улицах засуетились…
Нет, не здесь. Келена сделала круг над новорожденным городом, раздувая ноздри. Она даже облизнулась, пробуя воздух на вкус. Кислая медь на языке. Будоражащий запах перемен. Перемены пахнут смоленой пенькой, известковой пылью и рассветным бризом. Хотя псоглавец Доминго наверняка бы не согласился. Но псоглавец – там, а мы – тут.
Долгий и чистый звук колокола в вышине. С востока долетает манящий, далекий отголосок. В нем спрятан карамельный пурпур зари. Туда?
Да! – отозвалось эхо.
Келена чувствовала: лететь придется долго. Страна души поэта обширна – не чета иным куцым миркам; а паразит, видимо, притаился на другом ее краю. Путеводной нитью могло стать что угодно: стайка стрижей с изумрудными крыльями, густеющие пряди воздуха, прожилки черных трещин на хрустале небосвода… Гарпия взяла направление, как гончая – след.
Самый быстрый сокол не угнался бы сейчас за Келеной. Как обычно, внутри психонома тело гарпии изменилось. Лапы вытянулись, превратившись в сильные и стройные ноги, исчезли лишние перья… В поднебесье неслась не полуптица, но почти-ангел. Лишь острые когти выдавали в ней опасную хищницу.
Внизу плыли города. Ветхие лачуги, крытые соломой, соседствовали с дворцами, возведенными из радуг и цветов. Один из дворцов вдруг налился густеющим мраком. Цветы растеклись, обращаясь в смолу; радуги выцвели – вот уже клубятся арки праха, грустно шелестя на ветру…
Человек на осле покидал город, ставший чужим. Келена вгляделась. Уж не сам ли это Томас Биннори, бард-изгнанник? Верно, он и есть. Один из якорей – яркое воспоминание, причудливо искаженное восприятием. Место, куда Биннори часто возвращается. Но причина болезни – не здесь.
Она пролетела над сумрачным ущельем, на дне которого бродили неприкаянные тени. Эхо безмолвного стона долго преследовало гарпию. Ночь, пламя костров, искры до небес; ввысь рвется дикая, вольная песня – бубен, гитара, скрипка. Аромат жарящегося мяса; люди в нарядах из цветных лоскутов пляшут между огнищами; вино – рекой, степь – дыбом, дым – коромыслом… В бархате неба сияют алмазные шляпки вбитых в купол гвоздей. Можно подлететь ближе, коснуться звезд рукой, не боясь обжечься: сияние холодно, как лед.
День. Берег моря. Табуны волн с яростным ржанием обрушиваются на скалистый берег, взлетая брызгами белой пены. Это не метафора: скалы атакуют бесконечные орды коней – прозрачных, переливающихся на солнце благородным нефритом. Рассыпаются мириадами жидких осколков, чтобы возродиться и вновь ринуться на приступ.
На вершине скалы – замок. Сюда шум волн едва доносится. Кажется, замок спит тысячу лет, уставясь на море бельмами слюдяных окон. На главной башне застыли фигурки людей. Пятеро. Они неподвижны, словно навеки срослись с башней. Гарпия летит – над скалой, над замком, над морем. Дальше от берега волнение стихает, волны делаются ленивыми, в них больше не угадываются фигуры жеребцов. Но в таинственной глубине кипит жизнь. Гибкие тела скользят под водой, а на дне, в городах, построенных из кораллов, обитают русалки, и люди с головами мурен, и многорукие шутники-спруты, и дивными садами колышутся водоросли, и рождается музыка, идущая из бездны.
Правее, на горизонте, мелькнул остров. Сетчатый узор солнечных лучей, крики розовых чаек с клювами фламинго, водоворот, затягивающий в себя корвет с медными парусами, разлитый в воздухе комариный звон, от которого во рту появлялся горький вкус можжевельника – все ясно говорило: цель близка.
Берег прыгнул навстречу, как леопард из засады.
Сети из паутины, хижины-раковины отливают перламутром. Безлюдье. Дальше, дальше – лес, на вершине каждого дерева – раскрытый веер из шелка. Посреди леса, плешью великана, погребенного стоя – холм. На вершине сражаются двое. На сей раз Келена узнала барда сразу. В руках его пели стальные молнии: непомерно длинная шпага, чье острие истончалось в иглу, и дага с лезвием черней антрацита.
С Томасом Биннори бился золотоволосый юноша. На его белой рубахе алело кровавое пятно – строго против сердца. Невидящие глаза-пуговицы чучела. Движения марионетки, ведомой жестоким кукольником. Юноша был мертв, но, тем не менее, продолжал бой. Палаш врос рукоятью в ладонь, плоть от плоти мертвеца. Клинки плели в воздухе кружевную вязь, оставляя за собой мерцающие шлейфы из бисеринок алой росы.
Безжалостная мелодия смерти взлетела грозным крещендо. Палаш златокудрого отыскал брешь в обороне поэта – и вошел в грудь Биннори. Томас охнул и начал медленно, как во сне, валиться на спину. На лице его, одиноким путником в зимней степи, замерзала виноватая улыбка. Затылок коснулся земли; мигом позже Биннори вновь был на ногах. Бой возобновился. По кругу. Бой, смерть, воскресение, и еще бой, и еще смерть – без конца.
Второй якорь.
Куда сильнее прежнего.
Сражающиеся остались позади. За лесом блеснула серебряная нитка ручья. Здесь! У Келены невольно затрепетали ноздри. Она резко пошла на снижение. Благословенная тень посреди летнего зноя. Вода в ручье сладка на вкус, ее можно пить вечно, радуясь неиссякаемой жажде. Пригорок над ручьем – душистое разнотравье, в чьей глубине тлеют угольки цветов. Время от времени то один, то другой цветок взмывал в воздух, оборачиваясь чудо-мотыльком.
Рой цветов-бабочек вился вокруг головы поэта, сидевшего на пригорке. Босой, в льняной рубахе до колен, заросший мягкой русой бородой, Биннори улыбался. Эта улыбка разительно отличалась от той, что извинялась на холме за очередную смерть. Так погибший отличается от спасенного. Рядом с Биннори стояла арфа. Он не касался струн – арфа пела сама; он не размыкал губ – слова рождались из ветра, шепота листвы, журчания ручья. Эхом смеялась плакучая ива, полоща ветви в воде. И, вторя музыке, и песне, и смеху, вокруг Томаса Биннори, легко и грациозно, не касаясь земли, кружились в танце четыре феи.
Одна – бирюза и лазурь, плоть от плоти ветра, с диадемой из серебра. Другая – пламя осени, багрянец и янтарь, вся – натянутая струна: тронь, и зазвенит. Третья – зелень листвы, ласковый свет, лукавые искорки в глазах. Бархатная шапочка цвета малахита венчала ее голову. Четвертая – жемчуг и опал, нежность и сочувствие, и корона из белого золота, и шут-карлик у ног.
Здесь. Ошибка исключалась. Райский уголок, блаженная идиллия – именно отсюда больной не желает возвращаться. И угасает, счастлив и беспечален. Кто же из четверых? Паразит всегда умело маскируется. Его нелегко распознать. И он силен: Келена уже с минуту сопротивлялась давлению – оно росло, мягко, но настойчиво выталкивая гарпию из психонома.
Давление исходило от танцующих фей.
Кто из них?
Паразит могуч, но, к счастью, неразумен. Атаковать первым он не станет. Если не спровоцировать агрессию, он нарастит давление до невыносимого, заняв весь объем, и выдавит чужака вон. Дед был прав: очень запущенный случай. У гарпии один-единственный козырь: паразит привязан к якорю, как младенец в утробе пуповиной связан с матерью. Он никуда отсюда не уйдет.
Кто?!
…почувствовав, что задыхается, гарпия повернула обратно.
– Я буду драться за душу Биннори, – сказала Келена, вернувшись.
Абель заплакал, не скрывая слез. Он был готов ей лапы целовать, сумасшедшей птице, только за одни эти слова. Остальные молчали, переглядываясь. У кресла зашевелился и громко выругался, приходя в чувство, прыткий лейб-гвардеец.
Больной так и не проснулся.
Liber II Свиреп, когда спровоцирован Caput V
Словно капли в тумане – мы были, нас нет,
Словно деньги в кармане – мы были, нас нет,
Нас никто не поймает, никто не поверит,
Нас никто не обманет – мы были, нас нет.
Томас Биннори– Ничего?
– Да.
– Совсем ничего?
– Абсолютно.
Лейб-малефактор отошел в угол, где на крюке, вделанном в стену, висела клетка с ручным, третий год как слепеньким василиском Царьком. Ящерок оживился, учуяв хозяина, кукарекнул и распушил гребень короной. Гукая, будто младенцу, Серафим стал кормить его семенами цикуты.
Царек клевал с ладони, радуясь вниманию больше, чем угошению.
– Ишь, животинка… – с грубоватой лаской бурчал старец, складывая ладонь горсткой, чтоб ящерку было удобнее. – Вот кто меня больше всех вас, завистников… вот кто любит дедушку…
Василиск был племенной, из спец-питомника «Зеница». Яйцо-спорыш – от черного семигодовалого кочета, наседка – жаба-лауреатка, чьей родословной завидовали принцессы Анхуэса. Перед тем, как уложить под жабу, яйцо носила под мышкой лилльская девственница со справкой. Короче, Царек вышел на славу. Когда к Серафиму приходили гости, клетку накрывали плотной шалью. Теперь же предосторожность стала излишней – разве что клюнет, если надоедать с поглаживаниями. А в сказки об исключительной ядовитости василисков не верили даже дети – просвещенный век, не кот начихал.
Говорили, лейб-малефактор много лет подряд играл с василиском «в гляделки», постепенно, день за днем, увеличивая время игры – так, наращивая дозу, привыкают к яду. Говорили еще, что именно от таких игр Царек и ослеп.
Но это, пожалуй, враки.
– Я верю вам, сударь мой, – наконец сказал Серафим. – Опыт, квалификация, умение примечать детали… Нет, вы не могли ошибиться. Если вы говорите, что действия гарпии не отслеживались на доступных вам уровнях – значит, их не отследил бы никто.
Андреа Мускулюс – а это он докладывал сейчас начальству об итогах первого сеанса лечения – сперва не понял, а после оторопел. Он готов был привычно обидеться на «отрока», а тут, нате-пожалста: опыт, квалификация, сударь мой… Радоваться? Пугаться? Пропустить мимо ушей?!
– Ты не очень-то, – предупредил внимательный старец. – Не задавайся. Народная мудрость: каждому прянику – свой кнут… Сударь Кручек, ваше мнение? Шарлатанство?
Массивный доцент развел руками, чуть не снеся с полки статуэтку, изображавшую парочку в миг любовного соития. Страдальческие лица влюбленных, рты, разинутые в мучительном вопле, слезы, текущие по щекам – скульптор имел оригинальный взгляд на радости жизни.
– Какое тут мнение… Не думаю, что гарпия морочит нам головы. Она что-то делает. И, судя по рассказу мастера Андреа, делает не в первый раз. Признаюсь, я ожидал больше внешних атрибутов. Камлание, бубен. Экстатические пляски. Окуривание больного дымом от птичьего помета… Жалко, что я не смог присутствовать при сеансе лично.
– И все-таки?
– Надо продолжать наблюдения. Собирать материал. Если есть действие, будут и последствия. Звено за звеном, мы развернем цепочку.
– Согласен, – кивнул лейб-малефактор.
– И я, – Андреа вздохнул, понимая, кому именно достанется вся грязная работа.
Его смущало, что в лечении Томаса Биннори само лечение незаметно отходит в тыл, на заранее подготовленные позиции, уступая главное место наблюдению за гарпией. Научный интерес теснил заботу о чужой жизни на всех фронтах. К поэзии Мускулюс был глух. Восхищение творчеством Биннори не свило гнездо в его сердце. Но человек есть человек: жаль, если помрет. И король огорчится.
Заявить о своих соображениях вслух он не рискнул.
– Что – я?
– В смысле, согласен.
– Я тоже. Серафим, мальчик славно потрудился. Выпиши ему премию.
Андреа ничего не понял во второй раз. Кому принадлежала реплика о премии? – ну, не Царьку же! Василиск устремил на малефика, смущенного донельзя, взгляд бельм, прежде смертельно опасный, а теперь разве что издевательский. «Кто из нас слепец? – казалось, спрашивал Царек, с насмешкой цокая когтями об пол клетки. – Эй, парень, разинь гляделки…»
Завертел головой Кручек – доцент тоже недоумевал, ища ответа.
– Ладно, хватит, – подвел итог невидимка. – Давайте знакомиться.
Кресло у окна, стоявшее спинкой к магам, развернулось. В нем сидел такой глубокий старик, что Серафим Нексус рядом с ним, со всей своей дряхлостью и песком, сыплющимся из суставов, смотрелся…
«Отроком, – со злорадством подумал Андреа. – Точно, отроком!»
Худой, как скелет, лысый, без бровей, усов и ресниц, одет в черную хламиду, таинственный гость сидел с неестественностью манекена. Складывалось впечатление, что он сделан из хрупкого стекла. Одно резкое движение – кашель! вздох! – и человек разлетится на сотню осколков. Но все это разом уходило на второй план, едва ты видел глаза незнакомца. Две адские вишни, две черные дыры висели в воздухе. Словно сами по себе, опережая хозяина, они торопились первыми ощупать, расчленить на волокна, вобрать без остатка окружающий мир…
Прикажи эти глаза прыгнуть в окошко – Андреа Мускулюс, маг высшей квалификации, прыгнул бы, не раздумывая. И доцент Кручек, великий теоретик, прыгнул бы следом. И думать не хочется, что бы случилось, начни эти глаза приказывать Серафиму Нексусу, лейб-малефактору Реттии…
Может, в кабинете появился бы новый слепец – в пару к василиску. А может, за окном, на булыжнике, распластались бы три прыгуна-самоубийцы.
Истории бывают разные. Некоторым и одного героя – выше крыши. Ухватит за шкирку и волочет, как строгая мамаша – сынка-шалопута. По камням, по корягам; по цимбалам в терновнике – аж свистит! А иной гарема мало, будто султану. Казалось бы, мимо человек идет, не трогай, пропусти. Ан нет: цапнет-царапнет – вдруг пригодится?
– Кристобальд Скуна, – гулким, нутряным басом представился стеклянный. Разговаривая, он не моргал. – Гипнот-конверрер. Серафим, отрекомендуй меня мальчикам.
– Н-не надо, – хором сказали мальчики. – М-мы в курсе.
Встретиться с Шестируким Кри, величайшим среди гипнотов, что называется, тет-а-тет – это граничило с шансом прогуляться по набережной бок о бок с воскресшим Нихоном Седовласцем. Легенды не должны сидеть в креслах. Легенды не должны басить на весь кабинет. Легендам положено кружиться во тьме веков, подальше от грубой реальности. Иначе ты видишь: пятна возраста на блеклой коже, морщины, пучки волос в ноздрях…
И не сразу осознаешь: видишь ты это лишь потому, что легенда разрешила тебе видеть. Вот она слабо шевельнула рукой. Вот пригасила нестерпимый блеск глаз, давая окружающим перевести дыхание. Вот решила что-то сказать…
– Я работал с гарпиями. В частности, с дедом вашей Келены. Его звали Стимфал, и он стоил мне приличных денег. Можно сказать, он меня разорил, негодник. Тогда я еще был стеснен в средствах…
* * *
Лаборатория Кристобальда Скуны, которую позже назвали храмом Шестирукого Кри, располагалась на Тифейском побережье, близ Строфад. Андреа Мускулюс еще не родился, и Матиас Кручек – тоже, когда гипнот, изучая боевые навыки хомобестий и способы их совмещения с психикой человека, решил набрать очередную группу добровольцев. С детства мечтая о воинских подвигах, о битвах и сражениях, Кристобальд был жестоко обманут судьбой. Дурная наследственность закрыла ему вожделенный путь. Уникальная хрупкость костей, жидкая кровь – любая царапина грозила нагноением; что-то с сосудами, отчего мага постигла тотальная алопеция – выпадение волос…
Он нашел выход.
Он стал делать воинами – других.
Период жизни Скуны, о каком зашла речь, был временем творческого кризиса – от звездных надежд остались дымящиеся руины. Скрепя сердце, маг отказался от работы с геральдическими монстрами – психо-лекала чудовищ геральдики оказались несовместимы с человеческими. Наложение влекло за собой ужасные изменения: люди-геральдильерос превращались в убийц-берсеркеров.
В молодости мы часто ставим невыполнимые задачи, замахиваясь на Овал Небес. Зато рухнув с высоты лицом в грязь, приобретаем опыт. Уяснив, что стабильно-человеческая часть хомобестии – залог успешной совместимости, Кристобальд отправился в длительные поездки. У него и впрямь были проблемы с деньгами – храм еще не стал местом паломничества клиентов, согласных за любую цену приобрести уникальные навыки ведения боя.
Но гипноту гораздо легче, чем нам с вами, договориться с кем угодно – включая гривастого леонида и рогача-сатира.
После разговора с Шестируким Кри миксантропы соглашались принять участие в эксперименте с искренней, незамутненной сомнениями радостью. Словно всю жизнь только об этом и мечтали; словно шесть рук-невидимок влекли их к лаборатории. Единственным, кто дал добро не вследствии задушевной беседы, а из чувства благодарности, был гарпий Стимфал, дед Келены.
Его маг выкупил из плена.
Плотийские войны числились по разряду мелких, локальных войнишек. В учебниках это зовется движением народов. Безземельный сброд волной двигался на юго-восток, захватывая плодородные края Тифея. Распахивались долины, вырубались леса; в горах, дырами в головке сыра, возникали штольни. Это не слишком радовало коренных обитателей – фавнов, стокимов, гарпий. Но их мнение никого не интересовало, а восстания подавлялись с исключительной жестокостью.
Конфликт перешел в стадию партизанской войны. Аборигены брали знанием местности и животной привычкой существовать в трудных условиях гор и лесов. Пришельцы – численностью и беспощадностью к «тварям». Власти поощряли движение нищих масс, сперва – солдат, вскоре – поселенцев, готовых в любой момент опять взяться за оружие.
В архивах сохранились воззвания сенатов и лейб-канцелярий:
«Огромные участки плодородной земли ждут приложения вашего труда. Ваше прилежание будет вознаграждено. Каждый капитан, который предводительствовал отрядом в сорок человек, получит восемьсот акров хорошего леса, четырех волов, одного быка, трех коров и четыре свиньи. Командир двадцати пяти человек получит шестьсот акров земли, двух волов, две коровы и четыре свиньи. Рядовым бойцам в придачу к земельному участку выдадут сельскохозяйственный инвентарь; их наследникам подтверждается безусловная собственность на землю. Ремесленники также отлично устроятся на новом месте, ибо продукты здесь дешевы, а работы сколько угодно…»
Стимфала захватили во время налета стаи гарпий на поселок рудокопов. Идея обращения хомобестий в рабство еще не была окончательно отвергнута и запрещена законами колоний. Поэтому Стимфалу оставили жизнь. Ему и другим пленникам собирались подрезать крылья – верней, сжечь кончики маховых перьев. После такой операции полет становился невозможным, если не считать полета в никуда, вниз головой со скалы на гальку берега.
Ковыляющий гарпий, приземленный калека – что может быть страшнее?
– Он дрался до последнего, – сказали Кристобальду Скуне, когда гипнот, возвращаясь в лабораторию, остановился в поселке на ночлег. – Сильный, падлюка. Ничего, отработает…
– Это не работник, – ответил маг. Он смотрел гарпию в глаза, и тот отвечал гипноту прямым взглядом, не отворачиваясь. Цепь, которой Стимфал был прикован к стене форта, тихонько звенела, будто жаловалась. – Это боец. Продайте его мне. Вам не будет от него пользы.
Скуна мог бы принудить рудокопов отдать ему Стимфала даром. Простые, незамысловатые люди – таких легко подчинить. Но что-то подсказало гипноту: нельзя. Не из-за жителей поселка – назавтра они скажут друг другу, что поступили верно, отдав пленника магу, и сами поверят в это.
Но Стимфал не простит, если его украдут, словно вещь.
Равного – выкупают.
Гипнот отдал за деда Келены все, что имел при себе. И подписал долговое обязательство на приличную сумму. Кузнец снял с гарпия цепь и плюнул в сердцах. У кузнеца при налете погиб сын. Следовало бы, конечно, свернуть крылатому гаденышу его тощую шейку. Но деньги есть деньги. Сына не вернуть, а дочь выходит замуж, нужно приданое…
– Пойдем, – сказал гипнот, не прибегая к своему мастерству.
И Стимфал пошел за ним, не пытаясь взлететь.
Ночевка в поселке сорвалась. Спать им довелось в горах – маг оставил там собранную группу хомобестий, благоразумно не приглашая их завернуть к рудокопам. Прижавшись к теплому боку здоровяка-сатира, Кри втихомолку следил за новеньким. Нет, гарпий не намеревался удрать, хотя имел к этому все возможности. Ищи иголку в сене, а птицу – в небе…
– Три года. Он прожил в моей лаборатории три года. И улетел лишь тогда, когда я закончил эксперименты. «Ты не скучаешь по дому?» – спрашивал его я. Он пожимал плечами. Знаете, гарпии умеют очень выразительно пожимать плечами. Нам так не дано. «Совсем-совсем? – спрашивал я. Жестоко, да. Но мне было непонятно: отчего он врет своему спасителю, другу, наконец! – Ты не тоскуешь за семьей?» Я еще не знал, что гарпии не умеют тосковать по утраченному или далекому. Уверен, оставив меня, он часто вспоминал Кристобальда Скуну – но без грусти или иного чувства. Так вспоминают математическую формулу…
Работать со Стимфалом оказалось труднее всего.
Сатир или леонид, псоглавец или русалка – эксперименты шли, будто карета по мощеной дороге. Войдя с хомобестией в уни-сон, гипнот создавал конфликтные ситуации, управляя грезой, следил за действиями подопытного в иллюзорном бою – и фиксировал в своей колоссальной памяти, не упуская наимельчайшей подробности. Хитрый удар копытом, пикирование на добычу, мертвая хватка на горле жертвы – все добросовестно копировалось Скуной.
Но гарпий…
В первый раз, войдя в уни-сон со Стимфалом, он был потрясен способом входа. Обычно видение складывалось частями, на манер мозаики. Спокойный, не требующий контроля процесс. Но Стимфал засыпал иначе – проваливаясь в «око бури», в центр бешеного урагана, сражаясь с ветром, и наконец вылетая в полностью готовый, сформированный мир сна.
Мага гарпий нес на руках, защищая от буйства стихий.
Никогда раньше Шестирукий Кри не сталкивался с такой обидной беспомощностью, как в данном случае. Гипнот не мог повлиять на развитие сна. Любая попытка смоделировать необходимую ситуацию не имела последствий. Так падает перо в бездну – ни следа, ни звука.
К счастью, гарпий оказался добросовестным сотрудником. Выяснив, что требуется магу, Стимфал сам находил приключений на свою пернатую задницу. Он устраивал разнообразные баталии и терпеливо воевал, пока гипнот, высаженный в безопасном месте, наблюдал и запоминал.
Закончив, гарпий поднимал Скуну и нес дальше. Во сне он выглядел иначе, чем в реальной жизни. От птицы оставались только огромные крылья – всегда разного цвета. В остальном гарпий был зрелым, хорошо сложенным мужчиной.
– Ах да, еще когти. Когти у него оставались: кривые, страшные…
– Вам это не мешало? – спросил Кручек, любопытный до всего нового. – Я имею в виду изменение облика. Мне кажется…
Гипнот отрицательно покачал головой: чуть-чуть, скорей намек, чем полноценное движение. Шевельнулись тонкие руки. Человеку, хорошо знакомому со Скуной, а здесь таким был лишь Серафим Нексус, это говорило ясней ясного – маг взволнован сверх меры, окунувшись в воспоминания.
– Нет. Не мешало. Ухватки оставались те же самые…
Сны деда Келены, первого из племени гарпий, с которым экспериментировал Скуна – позже согласились и другие – еще кое-чем отличались от обычных снов. Они были цельными. Всякий гипнот знает: сновидение – фрагментарно. Какие-то участки прописаны до мельчайших деталей, какие-то – эскизно. Между ними зияют лакуны, серые пустоты, куда лучше не забредать. Это азы, основы теории снов.
Плевать хотел гарпий на теорию.
Его сны не имели ни лакун, ни эскизных участков. Четко детализированный мир от горизонта до горизонта, на пространстве такого размаха, что гипнот долго приходил в себя от потрясения. Более того: крылатый Стимфал время от времени опять нырял в зрачок урагана – и оказывался в новом, принципиально ином сновидении.
Характер местности, обитатели, природа – все выглядело иначе. Не будь Стимфала рядом, гипнот заподозрил бы, что из сна одного существа он перебирается в сон другого. Видения разных созданий могут иметь столь серьезные отличия. Но видения одного и того же гарпия…
Кристобальда Скуну посещало безумное подозрение:
«Что, если это вообще не сны?»
Однажды он задал Стимфалу прямой вопрос и получил прямой ответ:
– Да. Это не сны.
– А что же?
– Души, – ответил гарпий, сидя на ветке над головой гипнота. – Не забывай: мы, гарпии – захватчики.
Наверное, пошутил.
В конце третьего года экспериментов Стимфал предупредил Скуну, что скоро оставит лабораторию. Плотийские войны закончились подписанием Тифейского договора. Земли отходили под власть реттийской короны, хомобестий Тифея уравняли в правах с остальными верноподданными; были очерчены территории резерваций. Гарпиям, чье число сильно сократилось в результате конфликтов, выделили Строфадские острова – Острова Возвращения, горькая ирония судьбы.
Бывший мститель, бывший пленник, бывший сотрудник, единственный, кто мог похвастаться, что носил на руках Шестирукого Кри, Стимфал желал присоединиться к сородичам.
– Я буду скучать за тобой, – сказал Кристобальд Скуна. – А ты?
– Я – нет, – ответил гарпий.
– Но помнить будешь? Хотя бы помнить?
– Помнить – да. Скучать – нет.
Воцарилась тишина. Лишь квохтал в клетке незрячий василиск, жалуясь на пищеварение, скверное в его годы. Гипнот смотрел строго перед собой: казалось, он боится, что взгляд способен прожечь дыру в том, на кого обратится. А стены не жалко, стену и отремонтировать недолго…
– Знаете, – внезапно улыбнулся Скуна, – это было совсем необидно. Он говорил, что не станет скучать, будто все, что случилось между нами – пустяк, ерунда, не стоящая внимания… А я чувствовал: нет, никакой обиды. Просто я чего-то недопонимаю.
– Понял? – спросил лейб-малефактор.
– Да. Понял. Я не умею летать. Он не умеет скучать. Что в этом обидного?
Поднялась рука с платком, вытерла лоб – чистый, без испарины. Слегка утих, приглушен изнутри, неистовый мрак взгляда. На лицо гипнота словно набросили кисею.
– Извините, мне пора. Помогите мне встать.
Внуками к любимому деду, «отроки» кинулись к гипноту. Андреа Мускулюс подхватил слева, Матиас Кручек – справа. Как вазу эпохи Син, привезенную из Ла-Ланга за сумасшедшие деньги, они вознесли Скуну из кресла. Лейб-малефактор строго следил за вознесением – ни дать, ни взять, коллекционер, заказавший драгоценную вазу и готовый проклясть недотеп-грузчиков.
Даже василиск бросил квохтать.
Позднее маги недоумевали: с чего бы это они подвели Скуну не к двери, а к окну? Да еще в полной уверенности, что окно – именно то, что ему нужно… Внизу ждала карета. Маленькая, черная, без украшений. Молодой кучер сыпал зерно в торбы, подвешенные на шеях лошадей. Едва Скуна воздвигся в окне, кучер поднял голову и кивнул, не произнеся ни слова.
– Мой ассистент, – сказал Шестирукий Кри. Встретясь взглядом с «кучером», он стал гораздо бодрее, чем раньше. – Славный мальчик. Из хорошей семьи: отец – лекарь, мать – травница. Я заметил, что дар гипнота чаще сопутствует медикусам, чем остальным. У меня в роду многие посвятили жизнь целительству…
– Знакомое лицо, – задумчиво произнес Кручек.
– Все гипноты выглядят родственниками, – улыбнулся Шестирукий. – У нас одинаковые глаза. Если отбросить это сходство, в остальном мы очень, очень разные…
– Глаза? Не знаю…
Кручек вздохнул. Ему казалось, что дело не только в глазах.
– Не будьте строги к мальчику, мастер Кручек, – говоря об ассистенте, гипнот теперь его называл «мальчиком», а доцента возвысил до «мастера Кручека». Это, пожалуй, дорогого стоило. – Год-два, и я отдам его в ваши руки. Бакалавратуру он сдаст экстерном. Я лично его готовил. И возьмемся за диссертат магистра.
– Стационар?
– Заочное. Я не хочу лишиться такого помощника.
– Не рановато ли? – усомнился малефик. – Для диссертата?
Сам Мускулюс защитил магистерский диссертат поздно, в тридцать два года. Каждого юного магистра он воспринимал, как вызов. Знал за собой эту слабость, боролся с ней – и проигрывал вчистую. Он тоже готовился заочно, без отрыва от работы. Работа и подсказала тему: «Специфика малефакторных воздействий на инферналов в свете теории Кручека-Цвяха». Тема – верней, ее первопричины – иногда снилась Андреа по ночам.
В такие ночи жена бранилась, что он громко стонет.
– В самый раз. Говорю ж, славный мальчик. Счастливо, Серафим. Не провожайте, я спущусь один…
Будто подслушав, молодой гипнот внизу стал отвязывать торбы. Крупный, плечистый, резкий в движениях, он ничем, кроме глаз, не походил на Скуну. Все время, пока карета не уехала, доцент стоял у окна и гадал, кого напоминает ему грядущий магистр.
Не догадался.
– Знакомое лицо, – эхом откликнулся малефик, держась за подоконник. – А приглядишься, и вроде бы ничего знакомого…
– Вы собираетесь у меня заночевать, судари?
Ехидства старому лейб-малефактору было не занимать.
* * *
Утреннее солнце плясало в витражных стеклах. Зайчикам не сиделось на месте – стаей они гуляли по площади, радужной пургой мели по толпе, превращая студиозусов в красноносых паяцев, желтолицых тугров и синюшных мертвяков. Кто-то из старшекурсников наложил на окна фасада «лихой финтифлюгер», решив таким образом отметить первый день занятий.
Праздник удался. Приподнятое настроение витало над толпой, вливавшейся в гостеприимно распахнутые двери. Новички с восторгом вертели головами, бакалавры подшучивали над «школярами» и уступали дорогу важно шествовавшим деканам. В холле у расписания занятий образовалась толчея. Рокот голосов отражался от высоких сводов. Со стен на молодежь, снисходительно фыркая, взирали портреты великих чародеев прошлого – основателей и первых профессоров реттийского Университета Магии. Портреты выглядели на удивление живыми, словно вчера вышли из-под кисти художника.
Обмениваясь между собой знаками, от комментариев они воздерживались. Кому охота в чулан? – темень, сырость, диспуты с голодными мышами…
– Вступительная лекция «Основы манонакопления», – вслух прочел мальчик в заштопанном камзольчике. Он вцепился в планшет расписания обеими руками, очень боясь, что людской водоворот унесет его отсюда, завертит – и выбросит где-то, где нет в жизни счастья. Недоверие, свойственное тем, кому удача улыбалась редко, омрачало детскую радость. Неужели правда? Он, Яцек Деггель из Лотрены – королевский стипендиат?!
Даже недавняя попойка в «Шляпе волхва» не смогла до конца убедить Яцека в реальности происходящего. Утром болела голова, хотелось пить, а веры не прибавилось ни на грош.
– Аудиторию глянь! И корпус.
– Корпус – главный. Аудитория 5-14. Это где?
– Здесь. На пятом этаже, небось. Дальше у нас что?
– Введение в теормаг. ГК, 3-04.
– Нормально, – тоном бывалого студента отозвался Клод. – В другой корпус топать не надо. Яцек, вылезай, а то опоздаем…
Выбраться из напирающей толпы оказалось труднее, чем достичь сердцевины. Когда Яцек наконец предстал перед сокурсниками, оправляя растерзанную в давке одежонку, его подхватили и волоком доставили в безопасное место – через холл шествовала процессия без пяти минут магистров с факультета интенсивного экзорцизма. К этим старались близко не подходить: каждый экзорцист нес клетку – дно из железа, купол из прутьев олеандра. В клетках верещали мелкие бесы – улов с летней практики.
Корча рожи, приплясывая, дерзко выпятив налитые кровью приапы, они – бесы, а не экзорцисты – обещали любому, кто согласится на одержимость, сорок бочек наслаждений.
Последним, ухмыляясь, шел толстяк – староста группы. Он нес глазурованный, опечатанный по всем правилам кувшин. Из недр кувшина доносился смачный храп джинна. Похоже, тот был рад отдохнуть тысчонку-другую лет от разрушения городов и возведения дворцов.
– Ого, сколько наловили!
– Тоже мне невидаль! – скривился Хулио Остерляйнен, взлохматив пятерней свою примечательную шевелюру. – Это разве бесы? Мелочь пузатая!
– Ты хотя бы мелочь поймай, герой.
На плечо Хулио легла тяжелая лапа самого старшего из первокурсников – усача Теодора. Подначить по-деревенски обстоятельного, невозмутимого Теодора не получалось даже у записных насмешников. Зато усач был единственным на курсе, способным по-доброму утихомирить любого зубоскала.
– Видел я эту мелочь. Пакостят по-взрослому…
И никто в это время не смотрел на Яцека Деггеля, который провожал экзорцистов странным, остановившимся взглядом. Не может, не должен так смотреть мальчишка, которому не исполнилось и шестнадцати; сопляк, в восхищении чуть не извертевшийся на пупе: я!.. студент!..
– Не смейся над бесами, – сказал мальчик, и Хулио подавился заготовленной остротой. – Иначе они посмеются над тобой.
Когда-то семейство Деггелей знавало лучшие времена. Яцек этих времен не застал, но много слышал о них от бабушки. Долгими зимними вечерами, забравшись под теплое стеганое одеяло, украшенное, как и все белье в доме, красивым вензелем, мальчик внимал историям – о славных деяниях предков, о былом величии и богатстве рода, о знатных гостях и блистательных приемах.
Рассказы украшали реальность, как привявший цветок – лохмотья нищенки.
Родился Яцек в ветхом деревянном домишке на окраине Лотрены. Огород за домом, пыльная улочка за окном, редкие походы в лавку. Мать с утра до ночи пропадала в ратуше – на ее скудное жалованье архивариуса жили три человека. Отца Яцек не знал. Мать говорила, что отец был полковником и погиб в сражении. Чопорная бабушка со скорбно поджатыми губами, пропалывая капусту или прибираясь по дому, надевала полотняный фартук и белые перчатки, застиранные до дыр. Злословие соседок Эмма Деггель молча игнорировала – и те в конце концов отстали от нее.
Скучно бросаться дерьмом, не видя результата.
Бабушка всегда ходила с прямой спиной, гордо подняв голову. Внук старался ей подражать. Выходило не очень, но он старался. Статус нетитулованных нобилитов, если честно, более чем скромный, представлялся малышу графской – королевской! императорской! – короной. Предок Заслав, которого герцог д\'Лариньоль пожаловал дворянством, был для Яцека героем. Стычка с вражеским отрядом, где отличился Заслав – величайшей битвой всех времен и народов!
Что уж говорить о крошечном поместьи Деггелей к северу от Лотрены, проданном за долги? Мальчик ни разу не видел поместья, но воображал себе дворец из сказки. Множество слуг, одетых в ливреи, фамильные угодья простираются на сотни лиг… Возвращаться из мира грез в сквозняки убогого жилья было ужасно!
К пяти годам, благодаря стараниям бабушки, Яцек научился бегло читать. С этого момента он попал в кабалу, вынужден ежедневно штудировать историю своей семьи, увековеченную на пожелтевших от времени страницах – тяжеленный фолиант в переплете из телячьей кожи стоял на почетном месте, в шкафу под стеклом. История обрывалась за два года до рождения Яцека: именно тогда у Деггелей закончились деньги на оплату семейного биографа.
Надо отдать бабушке должное: она, как могла, пыталась дать внуку всестороннее образование. Чтение и каллиграфия, арифметика и история, два иностранных языка – все, что знала сама, Эмма Деггель передавала мальчику, видя в нем единственную надежду на возрождение их облетевшего, подрытого свиньями генеалогического древа.
Про отца он все же сумел узнать правду. Правда была отвратительна. Бабушка хотела смягчить удар: дескать, пусть не в сражении, но отец Яцека погиб на дуэли. Увы, врать она не умела. Да и соседи помогли, просветили: Ференц Деггель, игрок и гуляка, промотав семейное состояние, был убит в драке мясницким ножом.
Известие мальчик воспринял стоически. К тому времени красивая сказка и так рухнула. Реальный мир безжалостно вторгался в мечты насмешками ровесников, обидными дразнилками, разбитым в кровь носом – защищая честь рода, Яцек рискнул затеять драку.
Драться он не умел. Не хватало силенок, а главное – ярости. Но книги и бабушка научили его другому: упорству. Смешному, нелепому, великому и самоубийственному упрямству, которое умеет все, кроме сущего пустяка – сдаваться и отступать. Когда Яцеку не давалась арифметическая задача, он мог потратить на поиски решения час, день, неделю, вцепившись в задачу мертвой хваткой, как бульдог.
В книгах ничего не говорилось об уличных драках. Там описывались битвы, дуэли и поединки чести. А подставить ножку, и кулаком по физиономии – какое тут благородство? Значит, надо вызвать обидчика на дуэль.
Все следующее утро Яцек, позаимствовав на кухне нож и выломав доску из ящика для овощей, выстругивал себе меч. Дважды порезался, устал, но к обеду меч был готов. Выйдя на улицу, он громко вызвал на бой белобрысого Мирчо. И получил в ответ град насмешек:
– Ха, рыцарь! Из-под юбки вылез!
– Сопли подбери, недомерок!
– Беги домой, к бабке!
– А камешком в лобик, тютя?
В Яцека полетели комья земли и камни. Один рассек мальчику бровь, едва не выбив глаз. Мир заволокло красным. Бедняга заорал – от боли и бессилия. И от этого отчаянного крика сердце лопнуло, как созревший нарыв. По лицу текла кровь. Яцек зажмурился, но продолжал видеть – сквозь опущенные веки, затылком, ушами, щеками, шеей… Казалось, повсюду выросли глаза. Красное пронизали темные нити. Мальчик стоял внутри бумажного фонаря, на чьих стенках художник черной тушью изобразил все, что было вокруг.
Свечкой в фонаре служил он сам.
Беззвучно шевеля губами, словно рыбы в пруду, пятились обидчики. Нет, не от героя-паяца с деревянным мечом! – из калитки за спиной Яцека выбиралось существо, в котором внук не сразу признал любимую бабушку. Эмма Деггель сделалась плоской и прозрачной, как промасленный лист пергамента. В правой руке она сжимала тесак для рубки мяса. Дюжина косматых уродцев, до краев налитых злобой, бесновалась внутри старухи – в голове, в печени, в иссохшем чреве! – но не это было главной причиной неузнавания.
Никогда раньше бабушка не двигалась подобно бешеной собаке. Крадучись, выгнув спину, вздыбив лопатки, она приближалась к внуку: защищать или убивать, этого Яцек не знал. Ноздри Эммы широко раздувались – тварь, в которую превратилась женщина, чуяла свежую кровь.
Яцека бросило в жар. Огонь поднимался из раскуроченного взрывом сердца, охватывая все тело. В голове путалось, как во время горячки; зимой, заболев, он едва выжил – спасибо лекарю Ганчиреку. Сейчас лекаря Ганчирека рядом нет. А бабушка – рядом. С ножиком, каким враги зарезали папу.
А теперь зарежут мальчишек, не знающих законов чести!
«Бабушка, не надо! – хотел крикнуть Яцек, чувствуя, что готов простить гадкому Мирчо что угодно: камни, оскорбления, драку не по правилам. – Ты их уже напугала! Они больше не станут меня обижать!»
«Это не твоя бабушка, – ответил чужой, взрослый голос. Это он минутой раньше взорвал сердце Яцека Деггеля. – Это временное жилье крыс, мерзких пакостников. Она одержима. Берегись…»
Косматые злыдни не уйдут просто так, понял Яцек. Им нужно что-то дать взамен бабушки. «Берегись…» – повторил осторожный голос. «Другое тело…» – услышал мальчик, пораженный странной, выборочной глухотой. Никакого другого тела, кроме своего, у него не было.
Он поднял к небу руки, как колдун на картинке в одной из книжек:
– Ко мне! Идите ко мне! Все идите! Я зову вас!
Из него к бабушке хлестнули крепкие, просмоленные нити с рыболовными крючками-тройчатками на концах. Крючки впились в косматых, выволакивая их наружу. Трясясь от ужаса, соседские дети потом скажут: «Он превратился в костер.» Так и скажут: стоял, мол, и горел. И будут кричать по ночам, обмочив простыни, когда им приснится: вой, собачий вой летит в небо из глотки старухи, а из ее живота прыскают глянцевые кляксы.
Мерзко корчась, кляксы спешили к пылающему Яцеку.
Бабушка упала, забилась в конвульсиях, выронив нож. Глаза ее закатились, став похожими на два вареных яйца. На губах выступила пена, хлопьями стекла на подбородок. Женщина словно пришла к цирюльнику: бриться.
– Бесы! Спасайся! – завопил кто-то, самый сообразительный.
Но бежать не смог никто: ноги отнялись.
Бесы упирались, норовили повернуть назад, но некая сила тянула их к воплощенному крику: «Я зову вас!» Ныряя в Яцека, бесы с сухим треском сгорали без следа, как насекомые в пламени костра. Это длилось и длилось, сводя окружающих с ума, а потом бесы закончились, и огонь погас. Яцек качнулся, мешком осел на землю и застыл без движения.
Мальчишки бросились наутек.
– …в порядке. Пусть отсыпается – у него упадок сил. Выброс маны не проходит даром. У вашего сына огромный потенциал, сударыня. Но он должен научиться держать себя в руках. Иначе я ничего не гарантирую…
Держать себя в руках? Как нож? Чужой, незнакомый голос. Острый запах снадобий. Он заболел? К нему пришел лекарь? Снадобья пахнут иначе, чем зимой…
– Спасибо, мастер Ламберт! Вы уверены, что кроме вашего отвара Яцеку ничего не нужно?
Мама. Почему она не в ратуше? Где бабушка?
– Совершенно уверен, сударыня. Сон, хорошее питание и мой отвар – по десертной ложке три раза в день. Не волнуйтесь: ваш сын…
Слабость. Зверский голод.
– Мама, я хочу есть!
Над ним склонились два лица в туманных ореолах. Мама и… Кажется, он видел этого человека. В городе. Мастер Ламберт. Он что, тоже лекарь?
– Как ты, сынок? У тебя что-нибудь болит?
Яцек немного подумал.
– Ничего не болит. Есть хочу. А где бабушка?
Ламберт Геррен, дипломированный колдун, обитавший на другом конце Лотрены, примчался к дому Дегеллей сам, без вызова. Такой мощный выброс маны, как извержение вулкана, не мог остаться незамеченным. Восстановив картину по остаточным чаровым отпечаткам и свидетельствам очевидцев, Ламберт был потрясен. Спонтанный экзорцизм без оформления заклятиями, с одновременным уничтожением легиона матерых бесов – и это сотворил ребенок девяти лет от роду?!
Он не соврал: Яцек быстро встал на ноги. Бабушка приходила в себя намного дольше. Вернувшись к хлопотам по дому, она отказывалась говорить о происшедшем. На внука поглядывала с незнакомым прежде благоговением; встретившись с ним глазами, спешила отвернуться. Эмме Деггель было стыдно. Она, женщина с происхождением и принципами, пустила в душу гнилую бесовщину! При виде камня, угодившего в голову внука, она со страстью пожелала сорванцам ужасной смерти! – и стала воплощением мести.
Все это Яцеку позже объяснил приехавший в Лотрену волхв Грозната. Волхва вызвал мастер Ламберт. Колдун знал: Грозната разъезжает по всему королевству в поисках талантливых детей, беря их в первичное обучение.
– У тебя дар, мальчик, – подтвердил Грозната заключение колдуна. – Это прекрасно и опасно, как река, перегороженная сомнительной плотиной. Тебе необходимо учиться Высокой Науке. Иначе дар однажды убьет тебя. Хочешь стать магом?
– Хочу! – с замирающим от восторга сердцем пискнул Яцек.
Грозната хмыкнул. Так ответил бы каждый мальчишка. Но вскоре волхву предстояло убедиться: упорство Яцека – высшей пробы. Он хотел и умел учиться. Идея стать магом захватила ребенка целиком. Он станет великим чародеем! И сбудутся бабушкины мечты о возрождении славного имени Деггелей.
Сказка восставала из пепла. В облике сурового волхва она стояла над Яцеком, задумчиво дергая себя за бороду. Вечером волхв имел разговор с женщинами: Эммой и Жанеттой Деггель. Обе выглядели скорей испуганными, нежели обрадованными. Бабушка первой справилась с замешательством.
– Если у мальчика талант, он должен учиться. Но у нас не хватит средств…
– Об этом не беспокойтесь, – прогудел Грозната.
Отпустить ребенка с волхвом женщины отказались наотрез. Грознате пришлось задержаться на полгода, для начала обучив Яцека контролю манорасхода. Затем волхв уехал, оставив ученику два баула книг с закладками. Не дрогнув, Яцек вгрызся в гранит Высокой Науки.
Впоследствии Грозната регулярно наведывался в Лотрену. Проверял усвоенное, устраивал практикумы, оставлял новые книги. В перерывах между визитами волхва Яцек повадился ходить в гости к мастеру Ламберту. Он не знал, что заботливость колдуна – отчасти результат долгих переговоров между Ламбертом и Грознатой. Впрочем, Ламберту было лестно, хотя и страшновато, возиться с парнишкой, чей запас маны превосходил его собственный на порядок.
Через шесть лет Грозната объявил, что подал ходатайство о выделении Яцеку Деггелю королевской стипендии. Прошение было удовлетворено. Обучение у меня закончено, сынок, ухмыльнулся волхв, счастливый, как всегда, когда выпускал птенца из гнезда; прощайся с женщинами, целуй руку дядюшке Ламберту – и вперед, в Реттию.
Яцек заплакал от счастья.
* * *
– Первый курс! – крикнули с площадки лестницы. Преподаватель в коричневом сюртуке походил на оживший комод. – Молодые люди, я к кому обращаюсь? Извольте следовать за мной. И не отставайте, а то заблудитесь…
Caput VI
Когда хулили и хвалили,
Когда толкали и тянули,
И выпили, и вновь налили,
И опьянели, и заснули,
В том странном сне я понял вдруг,
Что значат крест, звезда и круг.
Томас Биннори– Рада приветствовать вас в храме Высокой Науки. Прошу садиться.
Радости в голосе Исидоры Горгауз не уловил бы и самый закоренелый оптимист. Студенты опускались на жесткие скамьи, стараясь не издать ни звука. Казалось, тишина защищает их от Горгульи – немолодой, стройной, властной красавицы. Укрыв плечи рдяно-багровой мантильей, она возвышалась на кафедре, будто воин в доспехе – на сторожевой вышке.
Взгляд куратора скользил по аудитории, дольше мига не задерживаясь ни на ком. Можно было не сомневаться: дама запечатлела в памяти нестираемый образ-отпечаток каждого из присутствующих. Словно бабочек иголками приколола, классифицировала – и вынесла приговор: ценности не представляют.
– Университет Магии – старейшее и наиболее уважаемое учебное заведение такого рода. Подчеркиваю: не только в Реттии, но и в сопредельных державах. Если, конечно, уровень просвещения сопредельных держав позволяет им сделать верные выводы. Пребывание в сих стенах накладывает на вас суровые требования.
Она взяла паузу, позволяя слушателям лучше осознать сказанное. Горгулья владела аудиторией, как скрипач-виртуоз – инструментом. Казенные сентенции в ее устах приобретали характер непреложных истин; аксиом, не подлежащих обсуждению. Чувствовался опыт бранного мага: приобретя навыки лектора, Исидора не утратила мастерства командира.
С фресок, украшавших высокие своды аудитории, на оробевших первокурсников взирали седобородые лики. Одно время ректорат полагал, что роспись отвлекает студентов от учебного процесса. Однако закрасить – или хотя бы задрапировать! – работы великого Болеслава Портиньи никто не решился.
Выход был найден тридцать лет назад. Совместными усилиями гипнотов с кафедры общей суггестологии и волхвов-комбинаторов на фрески наложили слоистые заклятия. В свободное от занятий время любой учащийся мог сколько угодно любоваться шедеврами, не испытывая дискомфорта. Но стоило ему уставиться на потолок во время лекции – и через минуту он переставал воспринимать что-либо, кроме голоса преподавателя. Кое-кто из профессоров даже рекомендовал группе сосредоточиться на потолке – для лучшего усвоения материала.
Увы, как позже выяснилось, такая методика срабатывала лишь в случае фресок Портиньи. Обработка картин других живописцев давала обратный эффект, плюс длительную головную боль. Над решением проблемы бились четверть века. Теоретическую базу, проанализировав уникальность манеры Портиньи, подвели давно. Однако дальше голой теории дело не продвинулось.
– Для начала хочу представиться. Исидора Горгауз, профессор кафедры теоретической магии. Профиль – интерактивная конфликтология. Мои лекции начнутся у вас со второго семестра. Сейчас же я остановлюсь на ряде правил, обязательных для вас. Правило первое: вы – студенты, я – главный куратор потока.
«Вы – никто, и звать никак, а я – Вечный Странник,» – откликнулось под сводами удивительное эхо. Передернув узкими плечами, отчего мантилья плеснула императорским пурпуром, Горгулья продолжила:
– Правило второе: халатного отношения к учебе я не потерплю. Посещение лекций, практических и лабораторных занятий является…
Хулио Остерляйнен наклонился к сидевшему рядом Клоду и, ухмыляясь, жарко зашептал соседу на ухо.
– Молодой человек! Встаньте. Вы обладаете талантом делать несколько дел сразу? Повторите, что я сказала.
– Что не потерпите, если кто-то явится на занятия в халате!
Аудитория прыснула. Хулио шутовски раскланялся, довольный произведенным эффектом.
– Остроумно, молодой человек, – в голосе куратора плавал лед, грозя затереть дерзкого пловца и утащить на дно. – В труппе комедиантов вы имели бы большой успех. Чему вы намерены учиться в этих стенах?
– Высокой Науке!
– В таком случае, – Горгулья наклонилась вперед, и наглец вдруг ощутил незримые клещи у себя во рту, на корне языка, – запомните: на лекциях вы говорите в одном-единственном случае. Если вас спросит преподаватель. Все остальное время вы молчите. Вы – безъязыкий болванчик.
Клещи раскалились. Терпеть было еще можно, но трудно.
– Вы – тварь бессловесная. Вы – сосуд для знаний. Сосуд можно наполнить. Но можно и разбить.
Клещи сжались – и отпустили.
– Вы поняли меня?
– Д-да, – пролепетал белый, как алебастр, Хулио. – Я…
– Садитесь. Смотрите на потолок, не отводя взгляда, в течение минуты. Потом разрешаю опустить голову.
Горгулья мазнула пальцем по аспидной доске, проверяя ее чистоту, и вновь повернулась к аудитории. Ряды скамей из малабрийского бука, потемневшего от времени, амфитеатром уходили вверх, к стрельчатым окнам. Крайнее окно было открыто настежь ввиду хорошей погоды. Куратор ждала. Никто не пытался нарушить тишину. Хулио таращился на потолок. Аж вспотел от усердия.
– Правило третье: вы уважаете здешние традиции.
«Без вариантов…» – шепнуло эхо.
– Занятия, даже пропущенные по веской причине, вы должны будете отработать. Правило четвертое: неуместные шутки с использованием магии караются без пощады. Трижды подумайте, прежде чем сдавать зачет посредством жульнических чар. Только честные знания и навыки позволят вам успешно сдать сессию.
Изящным щелчком куратор смахнула невидимую пылинку с рукава платья. Казалось, Исидора Горгауз к чему-то прислушивается. Она напоминала охотника, почуявшего приближение добычи.
– Правило пятое: здесь не опаздывают…
Порыв ветра метнулся по аудитории, взъерошив волосы первокурсников, сидевших ближе к раскрытому окну. Парусом хлопнули крылья. Звякнули, будто изумившись, стекла.
Несмотря на страх перед Горгульей, обернулись все.
– Я опоздала, – сказала гарпия. Подоконник скрежетнул под ее когтями, но устоял. – Прошу прощения. Больше это не повторится.
* * *
После визита к Биннори она два дня отсыпалась.
Естественная реакция на психоном, зараженный паразитом-доминантом – здоровый сон. Из дома Келена не вылетала, просыпаясь лишь для того, чтобы слегка подзакусить. Казна не подвела: с курьером на квартиру доставили оговоренное месячное содержание. Бабушке Марго была выделена часть с внятным указанием: плюшки – хорошо, а еще лучше – мясо, и побольше! Наевшись до отвала жареной телятиной или курицей, тушеной с горой мелко рубленого лука, гарпия возвращалась в снятую комнатку, вспрыгивала на дощатый стол, втягивала шею в плечи и опять задремывала.
Подобное лечат подобным.
Мигрируя в снах по здоровым психономам, с которыми познакомилась в течение жизни, захватив их в свою сферу доступности, Келена отдыхала душой и телом. Так, устав от рутины, уходят в кругосветное путешествие. Моря-океаны, острова-материки, болота и вулканы, обитатели новых земель – мудрые и наивные, безобидные и опасные, над кем несся крылатый ветер…
Вертексиды, Дети Ветра – так звали гарпий на старореттийском.
Ее не слишком беспокоили. Сон гарпий чуток, а возвращение мгновенно. Стучалась бабушка Марго, звала ужинать. Герда практически не бывала дома, убегая рано и возвращаясь поздно. За полночь, когда бабушка тихо храпела у себя в каморке, девочка скреблась в дверь к Келене. Час-другой она терзала новую постоялицу вопросами. Гарпия не препятствовала: ей удавалось отлично выспаться за день, и часть ночи можно было уделить маленькой цветочнице.
Второй внук, Кристиан, к ней не заходил. При встречах за столом паренек удерживал голову чуть ли не руками – лишь бы не пялиться на грудь и лицо соседки. Герда прыскала в кулачок; Кристиан, в остальных случаях наглый и острый на язык, смущался. Складывалось впечатление, что он не замечает птичьей части тела гарпии. Словно подглядывал в женскую баню, задыхаясь от смутного томления – не видя клубов пара, ржавчины на шайках, вульгарности поз, руки в интимных уголках, не ласкающей, но смывающей грязь…
Первая любовь слепа и глупа, как новорожденный звереныш.
В день начала занятий, позавтракав, Келена выбралась на балкон. Минут десять сидела на перилах, глядя в небо. Солнце раскрашивало облака в телесно-розовый колер. Внизу шуршали колеса тележки зеленщика, звучал дробный топот детских ног. Тщедушный песик облаивал галок, с опаской косясь на гарпию: а вдруг вступится?
– Мася! – рявкнул на углу брюхан-лавочник, открывая заведение. – Мася, душа моя, чтоб ты сдохла! Где мой безмен?
Мася отозвалась, и лавочник еще долго пыхтел, переваривая вежливость супруги и почесывая то место, куда он, по мнению Маси, вчера с пьяных глаз засунул безмен.
Время она рассчитала точно. Где расположен Универмаг, выяснила заранее; аудиторию для нее узнал Кристиан. Парнишка рад был оказать гарпии любую услугу. Прикажи Келена обокрасть сокровищницу Гранд-Люпена, Кристиан не колебался бы ни минуты. Залез бы, и в лапах охраны молчал, и под пыткой ни словом не выдал бы истинную вдохновительницу. А номер аудитории разузнать – это, знаете ли, тьфу, плюнуть и растереть.
– Там окно раскрыто, – сказал он, потупясь. Взгляд будто силой тянуло к вожделенному декольте. – На пятом этаже, в главном корпусе. С утра жарко, закрывать не станут. Тебе… вам… ну, это – если с крыльями, то лестница ни к чему. Я так думаю.
– Верно думаешь, – кивнула гарпия. – Молодец.
И парнишка удрал, счастливый.
Келена уже собиралась взлететь, когда ее окликнули. Под балконом торчал конопатый птенчик в форме стражника. Мундир и прочую одежонку рачительный каптенармус выдал птенчику «на вырост». Все висело мешком и топорщилось. С тупой гвизармой в руке, конопатый был похож на слугу великана-людоеда, который несет хозяину столовый нож и опасается, что угодит прямиком в тарелку.
– Здрасте…
– Доброе утро, – гарпия хлопнула крыльями, намекая, что спешит.
– Я – Тибор. Тибор Дуда. Вы что, не помните?
– Помню.
Он мялся, краснел и мучительно пытался ввести разговор в привычную колею. Птенчик не умел разговаривать, если ему отвечали кратко, с отменным равнодушием.
– Я в карауле стоял. А вы пришли… прилетели, значит. Мы еще пошлину… и диплом…
– Помню. Что дальше?
– Я извиниться… увидел вас, и думаю: дай-ка извинюсь…
– За что?
– За пошлину… за диплом… Ну, за все. Вы, небось, обиделись…
– Я? Нет.
– Полно брехать-то… Ой, простите! Это вы из любезности. Всякий бы зло затаил. Посейчас бы помнил…
– Я помню. Зла не держу. У вас все?
Он задрал голову, уставился на гарпию – и вдруг понял так остро, словно понимание ему вонзили ножом под лопатку: она действительно не держит зла. На него,Тибора Дуду; на старшего караула. Помнит – да, но не испытывает по отношению к ним никаких чувств. Безразличие, полное и абсолютное, как вода, смыкающаяся над утопленником.
Это правда, и лучше бы этой правды не было.
Желая загладить обиду, Тибор вдруг сам обиделся – смертельно, до дрожи в пальцах. Гвизарма чуть не выпала на мостовую. Такое отношение убивало. Он почувствовал себя булыжником, на который ступают и идут дальше, не вспоминая о камне, даже если тот больно впился в ногу через подметку башмака. Кто станет возмущаться камнем? – только дурачок.
Значит, он плюнул этой крылатой гадине в душу, потом раскаялся, решил искупить, в ножки поклонился – а ей чихать из поднебесья? На плевок, раскаяние, поклон? Обгадила сверху донизу, словно голуби – памятник императору Пипину, и упорхнула прочь? В душе закипела ненависть. Будь гарпия внизу, он бы рубанул тварь – наискосок, от шеи к боку. Как же так? – я прощения прошу, а выходит, не за что? Не надо, выходит?
Ну, знаете…
– Я тороплюсь, – сказала Келена. – Не возражаете, если я улечу?
Чувства птенчика она читала, как открытую страницу многажды изученной книги. Надо было соврать, подсказывал здравый смысл. Сказать, что принимает его извинения, что еще сегодня утром злилась на них, так злилась, что аж в подмышках мокро, а теперь простила. Но притворяться она не хотела. Вот вам правда – когтистая, как птичьи лапы.
Не нравится – не лезьте.
– Тварь, – прошептал Тибор Дуда, глядя, как гарпия кругами набирает высоту. – Ах ты тварь…
Он не знал, что обошелся твари в пять минут опоздания на лекцию.
* * *
Со скамьи первого ряда Матиас Кручек наблюдал за происходящим. Он не вмешивался в ход лекции, ожидая, пока Исидора объявит со-куратора и передаст ему слово. Сейчас доцент тихо радовался, что каждый на своем месте. Исидора – на кафедре, гарпия – на подоконнике; он – на скамейке, выведен за скобки. Нечасто имеешь удовольствие видеть, как не профессор Горгауз берет паузу, а пауза берет профессора Горгауз, встряхивает – и лепит по своему разумению.
Вряд ли кто-то из студентов заметил бы изменения в лице и позе Горгульи. Тем паче, взгляды первокурсников были прикованы к гарпии. Но годы преподавания бок о бок, в одном учебном заведении – о, это сродни долгой семейной жизни! По вздоху, трепету ресниц, по мельчайшему жесту начинаешь различать такие оттенки настроения…
Исидора подалась вперед. Пальцы сжались на ограждении кафедры. Взгляд налился мерцающей глубиной, с иглами-искорками на донышке. Крыльями плеснула над узкими, обманчиво-хрупкими плечами мантилья – рдяное пожарище. Вторая птица восставала у доски из пепла; демон-горгулья напрягся на краю крыши, готовый рвать и терзать.
Казалось, две хищницы вот-вот ринутся навстречу друг другу.
Боевым зерцалом сверкнуло колье на груди Исидоры. Закачался, свесившись на цепочке, герб семьи. Кручек знал, что там изображено. Лазурная, закованная в броню гарпия на златом фоне. Волосы развеваются по ветру, лицо искажено гримасой ярости. Напротив, на подоконнике, сощурилась настоящая гарпия – глаза Келены, способные с вышины различить ящерицу в густой зелени фриганы, вне сомнений, увидели герб во всей его красе, вплоть до муравьиных письмен по краю.
«Свиреп, когда спровоцирован,» – девиз Горгаузов.
Первое значение изображения гарпии в геральдике, согласно Джону Гилему. Второе значение, если имелся в виду побежденный враг, гласило: «Символ порока и страстей». О комментариях же Гилема предпочитали забывать. А зря, ибо он писал в «Малом Гербовнике», имея в виду героев Плотийских войн, получивших гербы за отвагу:
«Гарпий следует выдавать людям по окончании страшной битвы, чтобы они, глядя на свои знамена, могли раскаяться в глупости нападения…»
Мудрый человек, подумал Кручек. Фаворит веселой королевы Линон. Любитель хорошо поесть и сладко выпить. Жил долго и умер смерью праведника: во сне. Похоже, Джон, в людях ты разбирался не хуже, чем в расписных щитах и вышитых стягах.
Сам доцент детали скорее восстанавливал, нежели видел. В последнее время зрение стало сдавать. Носить окуляры он стеснялся: стекла превращали его и без того упитанную физиономию в монументальную грушу с двумя слюдяными окошечками. Обратиться к коллегам-медикусам Кручек тоже не спешил. Успеется. Гарпия на подоконнике, на фоне светлого неба, в обрамлении витражных створок, выглядела силуэтом, вырезанным из черной бумаги. Исидора куда больше походила на орлицу…
– Вам повезло, – ледяным тоном произнесла Горгулья. Рука ее поднялась, пальцы взялись за герб, словно ища поддержки, и отпустили, не найдя желаемого. – Вы успели вовремя.
– Я опоздала, – повторила гарпия. – Извините.
– Нет, голубушка. Вы даже не подозреваете, насколько вовремя вы успели. Я только начала объявлять правило пятое, насчет опозданий. Успей я огласить его до конца, вы бы не отделались легким испугом. Займите место в аудитории, и продолжим.
Зашевелились студенты. Буря прошла стороной. Молния повисела над головами и змеиным жалом спряталась в пасть туч. Как всегда после минувшей опасности, нервное потрясение искало выхода – смешки, шепоток, возбужденные комментарии прокатились по аудитории. Исидора не препятствовала. Вернув самообладание, она равнодушно – ну, почти, если хорошо знать профессора Горгауз! – ждала, пока новенькая вольется в дружную семью первокурсников.
Кручек усмехнулся. Ему претили штампы и шаблоны, давно потерявшие смысл. Славу известного теоретика он добыл, как солдат, в бою – со стереотипами и общепринятыми представлениями. Громил нещадно, выдирал с корнем…
– Что еще?
Вопрос Исидоры прервал его размышления. Завертев головой, Кручек обнаружил, что гарпия сидит в предпоследнем ряду, на верхотуре, на спинке скамьи. Ей было неудобно расположиться, как человеку, на сиденьи. Слишком мало пространства оставалось между спинкой и столешницей, чтобы забраться туда, имея за плечами могучие крылья. Да и рост гарпии… Втиснись она в эту щель, подбородок Келены уперся бы в край столешницы.
Коршуном на ветке, гарпия возвышалась над морем голов.
Но не это вызвало справедливое раздражение профессора Горгауз. Хулио Остерляйнен, встав с места, где он сидел неподалеку от гарпии, пробирался к проходу между рядами. Соседи шипели, когда Хулио наступал им на ноги, но в целом помалкивали, делая вид, что глухи, слепы и вообще ни при чем.
– Куда вы собрались, молодой человек?
– Я пересяду.
– По какой причине?
– От меня воняет, – преспокойно объяснила гарпия, опередив Хулио. – Курятником. Да, наверное, курятником. Или птичьим пометом? Что скажете, сударь: курятник или помет?
– Да, воняет! – выкрикнул Хулио, красный как рак. – Я не желаю!.. не желаю, и все…
Проклятая клуша испортила ему праздник. Такая возможность продемонстрировать свое презрение к хомобестии, а заодно чуточку подольститься к ужасной профессорше… И вдруг – полный облом. Хулио действительно хотел пройтись насчет курятника.
Но теперь, когда она сама, да еще так небрежно…
– И ничем не воняет, – пробормотала Марыся, втянув ноздрями воздух. Девушка не сообразила, что своей поддержкой оскорбляет гарпию больше, чем хам Остерляйнен. – Даже наоборот… Мускусным деревом, вот. У нас во дворе росло… цветочки розовые, загляденье…
– И еще чем-то, – робко согласился тихий Яцек. – Пером. Нет, не только… Фруктами?
Гарпия наклонилась к мальчику с высоты «насеста». Длинные волосы Келены упали Яцеку на плечо, и он вздрогнул, будто от ожога. Но отстраняться или менять место не спешил.
– Перезрелыми фруктами. У вас отличный нюх, сударь. Кстати, от вас пахнет молоком. Топленым молоком, с пенкой. Дивный аромат.
– Вы не возражаете, если мы вернемся к теме лекции? – осведомилась Горгулья. Ее голос превратился в черного аспида, до того он стал ядовит. – Я начинаю чувствовать себя лишней…
Опомнившись, аудитория закаменела.
– Отлично. Итак, правило шестое…
Матиас Кручек без интереса следил, как Исидора расправляется с правилами. Последнее, шестнадцатое, она подчеркнула резким взмахом руки – словно по шляпку вбила гвоздь в тупые головы студентов. Чувствовалось, что профессор Горгауз клянет себя за несдержанность. За миг, когда поводья вырвались из рук опытной наездницы, и конь ситуации понес, выйдя из-под контроля.
Что-то смущало Кручека. Малость, неуловимая, как оттенок перезрелых фруктов в естественном запахе гарпии – если, конечно, мальчик не ошибся… Раньше он полагал, что причина конфликта, из-за которого Горгулья недолюбливает гарпию, кроется в происхождении Исидоры. Ну хорошо, допустим, дед воевал с аборигенами Тифея. Получил дворянство за отвагу. Даже погиб в героической схватке с гарпиями…
Нет, гибель деда от когтей миксантропов ничего не объясняла. Тем более, что дед вполне мог умереть в постели, окружен толпой рыдающих друзей и родственников. В нелюбви – сильное слово «ненависть» Кручек приберег до лучших времен – Исидоры к новой королевской стипендиатке крылось отравленное зерно, пока не имеющее объяснений.
Свиреп, когда спровоцирован.
Тысяча бесов на острие шпаги! – чем спровоцирована Исидора?
«Сходить в университетскую библиотеку, – взял он на заметку. – Глянуть, что есть по Плотийским войнам. Историю – кратко. Главное: сплетни, слухи, неподтвержденные россказни. Как показала практика, именно в этой чаще прячется жирная добыча…»
– …со-куратор, доцент Матиас Кручек!
Машинально встав, доцент неуклюже раскланялся. Приветственные кличи звучали отовсюду. Особенно усердствовали те, кто, читая распределительные списки, обнаружил себя во второй, подведомственной Кручеку группе. Избавиться от кошмарной опеки Горгульи – гип-гип-ура! А этот комод, видать, не зверствует, и сердцем добр…
Старшекурсники могли бы просветить молодежь насчет доброго сердца «комода», особенно на зачетах по теормагу. Но зачем лишать себя удовольствия? Видеть, как зелень разбивает нос о преграды, на которых засохла твоя горячая кровь – есть ли радость выше этой?!
– Мастер Матиас, прошу вас!
Уступив место на кафедре, профессор Горгауз двинулась к выходу из аудитории. Со сводов ей вслед с изумлением смотрели лики, тряся седыми бородами. За годы унылого обретания на фресках делаешься наблюдательным. Горгулья отступает – с развернутыми знаменами, вооружена до зубов, в боевом строю, да, но все же, все же…
Чуть слышно хлопнула дверь.
– Основы манонакопления, – сказал Кручек, воздвигаясь на кафедре.
Он подождал, пока схлынет волна радости по поводу «смены командования». И с задумчивостью, которая охватывала его всегда, когда ему доводилось читать эту лекцию, начал:
– Итак, мана. Карл Густав Унгер-младший писал в XIV главе «Эона»: «Все элементы бытия можно свести к общему знаменателю». И уточнял: «Общим знаменателем элементов является мана». Я надеюсь, со временем вы ознакомитесь с работами Унгера – это в высшей степени достойные труды. Но не будем усложнять. Каждый из вас…
Его слушали. Даже буяны притихли. Кручек знал за собой умение брать аудиторию без лишних эффектов. Еще срабатывала смена «допросчиков» – с «сердитого» на «чуткого». После Исидоры слушали кого угодно, стараясь заручиться доверием лектора. Роль пряника, идущего на смену кнуту, раздражала Кручека, но он не дал раздражению волю.
– Каждый из вас много раз сталкивался с проявлениями маны. Вы изменяли, трансформировали, превращали – все это делала мана. Присутствуя везде, она накапливалась в вас, повиновалась вашим приказам и влияла на предложенную вами цель. Если я скажу, что и вы, владыки и повелители, в то же время подчинялись приказам маны – вы не поверите. Поэтому я промолчу до лучших дней. Лучше ответьте мне: что есть мана?
– Сила! – выкрикнул с места Клод.
– Сила! – поддержали его сокурсники, радуясь удачному сравнению.
– Значит, сила? – переспросил доцент. Он задавал этот вопрос десятки раз, надеялся, что однажды получит другой ответ, а не вечный крик про силу… И с грустью понимал: не сейчас. – Что ж, вы не оригинальны.
– А вы? – перекрыв гомон, спросил усатый студент. Усач был старше остальных. – Что скажете вы, мастер Матиас?
«Запомнил имя, – отметил Кручек. – Внимательный…»
– Усилие. Я скажу: усилие. Чем, по-вашему, отличается сила от усилия?
Воцарилось молчание.
– Не знаете? – доцент обождал еще минутку. – Хорошо. Попробую объяснить. Сила – самодостаточна. Она может валяться на диване, уставясь в потолок, ничегошеньки не делать, и все равно она вовеки пребудет – сила. Сила – хозяин, не работник. У силы нет причин совершенствовать мастерство. Достаточно приложить к объекту большее количество силы – и все задачи, какие сила обычно ставит перед собой, будут решены. Представьте, что вы получили в свое распоряжение огромный резерв силы. Зачем вам учиться?
– Ха! – мечтательно выдохнул Клод, фактически ответив.
Хохот аудитории вернул его на землю.
– Вот именно. Будь мана силой, все, пронизанное ею, утратило бы стимул к развитию. Лук силен. Натянув его, мы получаем представление: насколько силен наш лук. Но смысл лука – в выпускании стрелы. А смысл полета стрелы – в поражении цели. А наличие цели говорит о человеке, выбравшем эту цель. Сложная, взаимосвязанная цепочка, где сила – лишь одно из звеньев. Эту цепочку я называю усилием. Почему?
– Ага, почему? – без тени насмешки выдохнул Хулио.
– Усилие производит кто-то или что-то. Усилие направлено на некий объект. Усилие – способ решения. Усилие дубины, сокрушающей кости, и усилие острого кончика шпаги, пронзающей сердце. Да, первое – больше. Но второе – искусней. Итак, мана – это усилие. Она нуждается в накоплении, целеполагании и трансформации не меньше, чем будущий объект воздействия. Вы и ваша мана сливаетесь в едином, сложно организованном усилии. И все-таки…
– И все-таки сила солому ломит, – хмыкнул усач.
– Согласен. Ломит. Не для всех проявлений Высокой Науки необходим большой резерв маны. Ювелиру ни к чему кувалда. От этого ювелир не делается хуже молотобойца. Но ману копить необходимо, вы правы. Все здесь обладают достаточно развитым маноресурсом…
Кручек замолчал, сосредоточась на мана-фактуре студентов. Синий огонек, синий, светло-голубой, фиолетовый… ого! – апельсиновый, глянцевый, как зрелый плод…
– У вас, юноша, – он кивком указал на оробевшего Яцека, – потрясающий запас маны. Очень, очень высокий уровень. И качество – редкой чистоты мана, впервые вижу. Не обижайтесь, если мой вопрос покажется вам слишком личным… Врожденная способность, да?
– Да…
Яцек озирался по сторонам, словно ждал града насмешек. Видя лишь восхищение, да местами – зависть, мальчик чувствовал себя не в своей тарелке.
– Я уже говорил… на собеседовании…
– Вы не должны этого стесняться. Но и гордиться тоже не должны. Слух у музыканта, точность руки у краснодеревщика, гибкость у цирковой акробатки – если это дано природой, а не развито годами труда… Алмаз в естественном виде некрасив. Красоту ему придает огранка, создавая условия для многократных внутренних отражений. Каким образом вы копите ману?
– Книжки читаю…
Яцек зарделся, как маков цвет. Соседи даже отодвинулись подальше: а ну как обожжет случайной искрой? Мальчику его способ накопления маны, отчасти сформированный усилиями бабушки в раннем детстве, всегда казался немужским, игрушечным, словно он пополнял запас, играя с куклами в дочки-матери.
– Нет, я честно… книжки…
– Замечательный способ, – Кручек сделал вид, что не заметил хихиканья в аудитории. – Вот здесь я и впрямь готов позавидовать. У каждого из вас, – он медленно поворачивал голову, изучая студентов, и волны утихали, наступал штиль, а редкие шалуны-барашки старались не слишком пениться, – успел сформироваться индивидуальный способ. Иначе вы не могли бы практиковать. В университете вы освоите общие принципы накопления маны, формулы концентрации и очистки, теорию обмена… Опробуете новые, несвойственные вам методы, изменяя каналы всасывания…
– Зачем? – пискнула Марыся. – Мы и так… уже…
– Однажды у вас будут свои ученики. Которые «не так» и «еще». Ваш способ вряд ли подойдет им. Если, конечно, вы не пользуетесь универсальными методиками – «Великой Безделицей», например, или пляской ноометров. Ваш учитель не поленился подобрать ключик к вам. Неужели вы откажетесь сделать то же самое по отношению к вашим будущим ученикам?
Вокруг зашушукались. Об учениках никто не задумывался. Призрак ответственности, скучных забот, опеки над желторотиками, а в итоге – старости, слонялся по аудитории, трогая студентов зябкими пальцами. Казалось, призрак колдует, отращивая первокурсникам длинные бороды, добавляя седины в кудри и бесов в ребра.
– В принципе, – продолжил Кручек, – любой человек расположен к Высокой Науке. Средний уровень маны не-чародея – 0,05 декасингеля по шкале Кирхмайера. Этого, при определенных навыках, достаточно для слабых воздействий и трансформаций. Повторяю: любой человек…
– Можно вопрос, мастер?
– В следующий раз, прежде чем спрашивать, поднимите руку. Но раз мы уже остановились… Я слушаю.
– А правда, что у хомобестий…
– У миксантропов. Здесь я хочу слышать этот термин. Запомнили?
– Да, мастер. Правда ли, что у миксантропов – нулевой уровень маны? – Хулио Остерляйнен ухмылялся во весь рот, сверкая золотом «упырьков» на резцах. – Как у шмагов? Я имею в виду: как у сломанных?
Матиас Кручек вздохнул. Он ждал чего-то подобного. Парень хочет взять реванш. Такие не угомонятся, пока не кинут во врага если не копьем, так хоть кучкой экскрементов. К счастью, гарпия осталась невозмутима, изваянием застыв на спинке скамьи.
– Мой сын родился сломанным, – внятно, без лишних эмоций произнес доцент, и наглец Хулио вдруг сдулся, как проколотый иглой пузырь. – Шмагом, как вы изволили выразиться. Нулевой, точнее, нейтральный уровень маны. Ложные, провокативные видения. Насмешки окружающих. И другие прелести жизни.
Память услужливо подсказала: приговор мага-артифекса, размышления – и склянка яда в руках. Зачем жить, если Яцек никогда… ни разу в жизни… Смешно, подумал Кручек. Сын – тезка мальчика-студента с невероятным резервом маны, данным от рождения. Я часто звал своего Яноша уменьшительно-ласкательным – Яцек. Судьба любит пошутить. А я готов посмеяться. За давностью лет яд выдохся, утратил силу – заноза в сердце, эхо застарелой тоски, и все.
Можно продолжать.
– Извините, мастер, – бормотал Хулио. – Я не знал… я не хотел…
– Вы виноваты не в том, что задели меня. Подумайте на досуге: в чем вы действительно виноваты? Это полезно. И не надо сочувствовать мне или моему сыну. Он живет недалеко от столицы, в Ятрице, с чудесной женой. У них двое детей, так что я – вполне состоявшийся дед. Мой сын счастлив. Этого достаточно, даже если вся твоя волшба – внутри тебя. Иногда я думаю, что это лучше… Впрочем, вернемся к теме лекции.
Аудитория с облегчением вздохнула.
– Итак, средний уровень маны обычного человека – 0,05 декасингеля. Чистое, неизлечимое зеро – у больных синдромом ложной маны. Отрицательные уровни – у блокаторов, волкодавов Надзора Семерых, сохрани вас Вечный Странник от их внимания… Что же касается миксантропов – их уровень маны аналогичен среднему. Половинка сингеля, плюс-минус. Но в случае миксантропов мы сталкиваемся с другой проблемой.
Он сосредоточился. Неприятно тыкать пальцем в чужие недостатки. Особенно если ты говоришь начинающему флейтисту о его природной глухоте. К сожалению, обойти скользкий момент нельзя. Скажи, теретик – разве тебя это не мучило? Ты не задумывался, отчего гарпия за свою услугу короне выпросила странную награду: королевскую стипендию в Университете Магии?
Учитывая, что эта награда полезна ей, как корове – седло…
– При среднем уровне маны, – машинально он стал подниматься вверх, по проходу между скамьями, желая оказаться поближе к гарпии, – миксантропы категорически неспособны накапливать ману сверх нормы. Ни один из известных способов не дает результата. Израсходовав ману, данную от природы, миксантропы вновь накапливают ее естественным способом – до обычного уровня, не выше. Плюс-минус тысячные доли декасингеля. Винченцо Трембита делает предположение, что это связано со звериной частью тела миксантропа…
Он остановился, глядя на неподвижную гарпию.
* * *
Ее лицо… о, ее лицо!..
Странное опустошение настигло Кручека. Тема лекции, аудитория, три десятка человек вокруг – все исчезло. Остался лишь он, Матиас Кручек, вне званий, степеней и заслуг, и это прекрасное женское лицо.
Его словно ударили кулаком под дых. Гарпия была невероятно, невозможно похожа на Агнессу, жену Кручека, умершую после родов от грудной горячки. Пожалуй, никто, кроме самого Матиаса, не заметил бы сходства. Если взять все черты лица Агнессы, в сущности, миловидного, но не более, и довести до совершенства; если каждую черточку отдать на волю резца гениального скульптора, если превратить живого человека в идеал…
В последние годы, когда сын покинул родительский дом, Матиас Кручек перестал избегать женщин. На его счету было три-четыре интрижки с благополучным исходом – довольные друг другом, любовники расходились без последствий. Жениться во второй раз он не собирался. Это казалось предательством, в отличие от мимолетных увлечений. Нелепо, глупо, никакой логики, но сердцу не прикажешь.
Только вдовец, которому год за годом снится не жена, но ее похороны, мог увидеть лицо покойницы, отраженное в волшебном зеркале лица молоденькой гарпии. Сколько ей? – алые губы, белая кожа, ясный лоб. Ни морщинки, ни складочки… Восемнадцать? Двадцать?
Какая разница…
– Да, мастер, – с отменным спокойствием помогла ему гарпия, чувствуя, что доцент в замешательстве. Келена была уверена: причина паузы лежит в нежелании лектора обидеть ее словом или жестом. – Мы слушаем. Что касается меня, то я знаю о своей неспособности копить ману. И хочу уяснить методику ее накапливания. Не на практике, так в теории. Вас это удивляет?
– Н-нет, – Кручек с трудом вернул самообладание. – Знаете, меня нелегко удивить.
«Хотя вам это удалось,» – мысленно добавил он.
Caput VII
Мне судьба говорит: «Не лезь!»,
А я лезу.
И стоит судьба, словно лес
Из железа.
Томас Биннори«Четыре лекции в первый день – это перебор,» – думала Марыся Альварес, пытаясь найти выход из лабиринтов Универмага. В голове царил полный кавардак. Наверное, поэтому «светлый путь» не срабатывал: они кружили по коридорам уже добрых полчаса.
Марыся заблудилась не одна. Она покидала университет в шумной компании – Клод, Яцек, усач Теодор… Вскоре к ним прибился зубоскал Хулио. Круг-другой, и он перестал изощряться в сомнительном остроумии. Теперь патлатый шипел сквозь зубы то ли ругательства, похожие на заклятия, то ли заклятия, похожие на ругательства.
Эффекта его инвокации не производили.
Старшекурсники, встречаясь по дороге, хмыкали с пониманием. Они даже указывали дорогу – без видимого результата. А просить о помощи новичкам не позволяла гордость. Что ж это – возьмите нас за ручку, отведите к мамочке…
– Не-е-е, так вы все ноги собьете, – проявил к ним сочувствие крепыш-лаборант, похожий на жука-скарабея, катящего в нору шарик навоза. Кургузый халат из черного сатина усиливал сходство. Шар тоже имел место: темно-лиловый, двух локтей в диаметре, он влажно пульсировал и время от времени хрюкал. – Вам что, про инверсию не рассказали? Шутники, дери их за уши… В коридорах только чары внутреннего пользования работают. Все остальное университетские чуры винтом закручивают. Сматывайте «путеводные нити», или что у вас там. Выход ищете?
– Ага…
– Вот лестница. По ней вверх, на следующий этаж. По коридору налево, еще раз налево – и по другой лестнице вниз до упора.
Кивнув в ответ на благодарности, лаборант покатил хрюкающий шар дальше.
Зачем нужно подыматься на этаж выше, чтобы спуститься к выходу, студенты не поняли. Но полученной инструкции, боясь промахнуться, следовали в точности. Указанный коридор освещался безмасляными плошками. Поворот. В глаза бьет яркий свет, вынуждая зажмуриться. Узкие окна вдоль стены; за стеклами – солнце.
Обещанная лестница. Вниз, вниз, вниз… Спуск занял целую вечность. В корпусе пять этажей? А впечатление такое, что позади остался добрый десяток. Может, они уже давно под землей?
– Есть! Вышли! – с радостью воскликнул Клод, спускавшийся первым. – Не соврал навозник…
Через минуту они оказались в знакомом холле. Яцек сунулся к расписанию; остальные устремились наружу. Над головой распахнулся бирюзовый шатер, по краям обгрызенный зубами домов. У ног ветер играл редкими желтыми листьями. Голуби слонялись вокруг да около, рассчитывая на поживу.
– Пошли куда-нибудь? Перекусим, а?
Едва Клод озвучил эту очевидную мысль, Марыся ощутила зверский голод. Заморить червячка в перерыве между лекциями не удалось. Во внутреннем дворике Универмага румяные предприимчивые тетки торговали горячими пирожками, ватрушками и ягодными слойками. Но ушлые бакалавры с магистрами, влезая без очереди, все разобрали. Да и времени оставалось с гулькин нос – едва успели к началу следующего занятия.
– Мы не «перекусим»! – решительно заявила капитанская дочка. – Мы пойдем вечерять. Как следует, от пуза!
Уже в центре площади их догнал Яцек. Остановившись, молодежь устроила краткое совещание: куда податься?
– Чтоб порции – до отвалу!
– Чтоб вкусно!
– И дешево…
– И сердито! Раскатали губы!
– Нет проблем! Есть один подвальчик…
Когда и как в их компанию затесался шустрый чернявый паренек, ровесник Яцека, никто не заметил. Минуты не прошло, а все уже знали, что его зовут Кей, что работает он в Универмаге, на побегушках у профессора Гонзалеса…
– Гонзалес?! – изумился Яцек, самый начитанный. – Который – теория подъемной силы левитанта? В соавторстве с Айзеком Люфтом?!
– Ну! – подтвердил Кей, выпячивая грудь.
– Ему за сто, наверное! До сих пор преподает?
– Ясное дело. Маги – они ого-го, живучие! Не знал, провинция?
– Знал, но…
– Ты у него лаборант? – вмешалась Марыся.
– Типа да, – махнул рукой Кей, не вдаваясь в подробности. – Эй, мы жрать идем?
– Идем! Где твой подвальчик?
– Близко. Я покажу.
– Ха! По подвалам одни крысы шастают. Пошли в «Шляпу», – из чувства противоречия встрял Хулио.
– Тебе бы только пиво дуть! Живот к спине прилип…
– А ты его подвал видел? «Шляпа» – место проверенное…
– Не понравится – уйдем.
– Быстрей решайте! С голоду опухнем…
– Хочешь – топай в «Шляпу»…
Кей в споре участия не принимал. Он ни секунды не стоял на месте. Казалось, парнишка вездесущ, как Вечный Странник. Он вертелся рядом с усатым Теодором, объявлялся за спиной Хулио, а мигом позже выглядывал из-за плеча Клода. Точь-в-точь непоседа-воробей, что скачет вокруг булькающих голубей, примериваясь, как бы половчее склевать «ничейное» зернышко.
– Эй! Ты что это… ты зачем, а?!
Голос Яцека сорвался, «пустив петуха». В споре возникла пауза, все взгляды устремились сперва на мальчика, а затем – на «лаборанта». Стало ясно: воробей добрался-таки до закуски. В руке Кея был зажат дамский кошель. Расстегнутая поясная сумка на боку Марыси говорила сама за себя.
Вместо того, чтобы спрятать украденное под одежду и спасаться бегством, воришка демонстративно помахивал кошелем – явно рисуясь перед кем-то, кто сейчас наблюдал за ним.
– Ты… ты… отдай!
Капитанская дочка рванулась к вору, но опоздала. Тот припустил наутек, скрывшись в ближайшем переулке.
– Да что же это, мамочки?! Там же… там все мои… папа дал… на целый семестр…
Марыся дрожала от растерянности. Глаза ее стремительно набухали слезами. Клод бросился за похитителем, но поскользнулся на брусчатке, вытертой до блеска, и упал. Лежа, он провожал воришку глазами. «Нет, не догнать,» – от злости щемило сердце. За спиной мерзавца крыльями трепетали полы замшевой, раздуваемой ветром куртки.
Чудилось, Кей вот-вот взлетит.
Но взлетел не он. От крыши университета вдруг отделился крылатый силуэт, словно одна из тамошних химер, каменных идолищ с разинутыми пастями, устала томиться неподвижностью – и хищная тень пошла наворачивать круги над площадью, высматривая добычу.
* * *
Кристиан, приемный внук бабушки Марго, заболел новой постоялицей – и не желал выздоравливать. Впору предположить, что гарпия подлила пареньку в квас приворотное зелье – и угодить пальцем точнехонько в Овал Небес. Скорее уж болезнь Кристиана была сродни недугу Томаса Биннори. Но скажите ему о вашем умозаключении – Крис-Непоседа скрутит кукиш, ткнет вам под нос, ничуть не возгордившись от сравнения с великим бардом, и вновь устремится мыслями к предмету своих вожделений.
Чихал он с присвистом на всех бардов, вместе взятых.
Задним числом Кристиан подозревал: в его страсти кроется тайный порок. «Лучше с козой, чем с китоврасихой!» – говаривал Прохиндей Мориц, друг и наставник. Но робкие доводы рассудка тонули в волнах чувств. А толика стыда, пряного, как лавка торговца специями, куда они залезли однажды ночью и чуть не задохлись, пока отыскали заначку, придавала грезам дополнительной прелести.
В снах у парня вырастали крылья. Он падал в ночное небо, купаясь в свете лукаво подмигивающих звезд, и несся, со свистом рассекая воздух, вслед за гарпией. Сердце плясало джигу: вот он догоняет Келену, она улыбается на лету… От улыбки гарпии по хребту бежали мурашки! Взмахи крыльев закручивали тьму воронками, внизу светились окна домов, приглашая войти без спроса…
Тут он неизменно просыпался, едва не плача.
В тот день, проводив взглядом гарпию, улетевшую в Универмаг, Кристиан ушел слоняться по городу. Образ Келены, соблазнительной и влекущей, преследовал его. Парень даже не заметил, как стащил с лотка растяпы-колбасника шмат буженины. Руки действовали независимо от разума, блуждающего в тумане. А что делать? Убедившись, что от влюбленного толку – как от козла молока, растущий организм взялся сам удовлетворять потребности в пище телесной.
Завернув мясо в лепешку, позаимствованную аналогичным образом, Кристиан на ходу сжевал добычу, не ощутив вкуса.
Очнулся он в скверике напротив Универмага. Часы на башне Большого Консенсуса пробили троицу. Вот-вот должны были закончиться занятия. Знак свыше, не иначе! В теперешнем состоянии Кристиан видел знамения в чем угодно: от узора облаков на небе – до пары кудлатых шавок, игравших свадьбу в подворотне.
Из дверей университета повалил народ. Студенты не интересовали парня. Он давно заприметил открытые окна на верхних этажах здания, и не ошибся. Скоро в угловом окошке возник знакомый силуэт. Посидев на подоконнике, гарпия камнем рухнула вниз. Казалось, она непременно разобьется – но тут Келена заложила крутой вираж и с грациозной небрежностью вознеслась на крышу.
Вдоль карниза над желобами водостоков шел ряд статуй. Дракон, химера, грифон, горгулья… Действительно ли они, как болтали в городе, приманивали дождь изливаться в их разинутые пасти, вместо того, чтобы плясать по головам людей и брусчатке площади, никто толком не знал. Один постамент пустовал: василиска унесли на реставрацию – и гарпия облюбовала его место.
Переступив кривыми птичьими лапами, Келена сложила крылья за спиной и замерла, словно окаменела. Непоседа замахал ей рукой. У нее отличное зрение. Как у орла. Даже лучше. А что виду не подает – так глупо рассчитывать, что гарпия снимется с места, приземлится рядом и спросит:
«Как дела, дружок? Я по тебе жутко соскучилась…»
Очень хотелось отчебучить что-нибудь эдакое, примечательное. Пройтись колесом? Мальчишество! Взобраться на крышу дома напротив? Еще решит, что он дразнится! Что он умеет лучше всего? Правильно! Чистить чужие карманы и выходить сухим из воды.
А если сделать все красиво, с шиком…
Остановись парень и поразмысли хоть минуту – его наверняка бы посетило сомнение. С чего Келене обрадоваться краже, совершённой в ее честь? Но какой влюбленный способен мыслить здраво?
В восторге от собственной идеи, он огляделся. Ага, вот и шайка-лейка студентов. Первый курс; гнилая провинция. Лишь слюнявые цупарьки боятся магов щипать. А зубастый барбос-карманник знает: щипнуть колдуна не опаснее, чем любого другого лафера. Цап – и ходу.
Пока очухается, ты за три квартала от него будешь.
Если же маг тебя срисует, пока ты ноги с места танцуешь – так не всякий обучен хватать да вязать. Гадатель или экзорцист – что они тебе сделают? Соли на хвост насыплют? Бесов на ходу изгонят? Разумеется, бранных магов и малефиков лучше обходить десятой дорогой. Еще у некротов воровать боязно. Лех Травила у некрота черепок серебряный со шнурка срезал. Хвастался: знатная вещица! А череп возьми, и укуси Травилу за палец. Рана загноилась, лекарь руку чудом спас. Пришлось черепок в тихий омут кинуть – никто даром брать не хотел.
Нет, Кристиан не испытывал опасений. И решительно двинулся к студентам – знакомиться. Располагать людей к себе он умел. Слово за слово, и «лаборант Кей» влился в шайку-лейку, как струйка яда – в бокал с вином. Врал с три короба, в кураже шнырял меж лаферами, демонстрируя далекой зрительнице:
«Гляди, каков я в деле!»
Самый жирный куш обретался у смазливой куколки. Таких хоть невинности на мостовой лишай, все проморгают. И Кристиан, уверенный в своей безнаказанности, утратил бдительность. Желая привлечь внимание гарпии, он помахал трофеем над головой.
– Эй! Ты что это… ты зачем, а?!
Кристиан рванул с места заячьей скидкой. Прохиндей Мориц, помнится, завидовал: у тебя, кузарь, не ноги – вихри! Здание университета осталось за спиной. Переулок Черной Кошки, на углу плешивый точильщик Скруль орет благим матом:
– Ножи-ножницы-бритвы! То-о-очим! Ножи-и-и…
Обогнув точильщика, Кристиан свернул направо, сломя голову пронесся три квартала по улице Отдохновения, юркнул в любимый проходняк, не раз выручавший его, нырнул под развешанные на веревках простыни, которые сушились здесь, должно быть, со дня сотворения мира…
– Украл? Беги, дурачина, беги…
Дребезжащий старческий смешок затих позади.
Теперь налево, в другой переулок – никто не поверит, что вор повернет обратно к площади. Вот и дворик с тремя выходами. Парнишка замер, переводя дух. Ни криков, ни топота ног. Ушел. Все в порядке. Но обостренное чувство опасности не проходило. Под ложечкой сосало, на лбу плясал нервный живчик. Беги, шептал живчик, хихикая. Спасайся, дурачина.
Чего медлишь?!
Вору чудилось, что он угодил в облаву. Что кольцо смыкается. Сердце колотилось в груди, разрываясь от отчаяния, хотя Кристиан совсем не запыхался.
Он был близок к панике.
* * *
– О, мастер Матиас! Вы чудесно выглядите! Стройный, молодой, просто душка! Давненько вы нас не баловали визитами…
Давненько, с точки зрения Руфи Кольраун, означало дня два, максимум, три. Скрипторша хлопотала вокруг Кручека, как заботливая бабушка – над любимым внуком. Лицо ее в обрамлении кружев чепца, похожее на печеное яблочко, сияло здоровым, ярким румянцем. Движения излучали энергию, в карих глазках светилось радушие. Человек, не знакомый с историей Руфи, услышав, что когда-то лекари отказались от этой женщины, а маги-медикусы лишь вздохнули, разведя руками, ни за что не поверил бы рассказу.
Не верьте и вы.
Правда редко бывает достоверна.
Ах, Руфь Кольраун, сестра заклинателя Авеля, родная тетя Просперо, боевого мага трона – с младых ногтей став пифией в 3-м столичном оракулярии, за двадцать лет беспорочной службы она напрочь подорвала здоровье. Гарь жженого лавра, медитации в хрустале, грибная вода – стимуляция видений требовала жертв, и Руфь жертвовала без колебаний. Когда она слегла, родственники – и капитул оракулярия! – просадили целое состояние на лекарства.
Ничего не помогало. Приговор был вынесен. Тайком от умирающей заказали место на кладбище. Уютный, тенистый уголок, оазис покоя, защищенный рунами – пифия, случайно восставшая из гроба, страшила семью. Венки-ленты, кисти гроба, саван из тончайшего батиста – все подготовили по высшему разряду. И стали ждать.
Ведь ясно, что со дня на день…
Ожидание затянулось. Те, кто проведывал Руфь-доходягу, отмечали странное поведение женщины. Каждого она встречала, как после долгих лет разлуки. Слабым голоском шептала комплименты, уверяла, что просто счастлива от визита такого расчудесного гостя. Угощала яблоками и медовыми пастилками. Интересовалась детьми и стариками. Радовалась, если все было в порядке. Узнав о чужих болезнях, напастях и бедах, на миг впадала в знакомое сосредоточение – и, вернувшись, заверяла, что все будет хорошо.
Болезнь пройдет, напасть минет, беда расточится.
Уходя, гости смеялись без причины, целовали Руфь в щечку и забывали, что это они пришли утешать, а не наоборот.
К ней зачастили.
Сев в подушках (да-да, она уже садилась!), экс-пифия приходила в восторг, видя незнакомца, задыхалась от счастья, встречая приятеля, а родичи или близкие друзья ныряли с головой в море радости. Попивая бульончик, грызя сухарики, Руфь выслушивала каждого – и обещала благополучный исход дела. Если выходила ошибка, и благополучие медлило, или гуляло в иных краях, на нее не обижались. Зато когда сбывалось хоть чуточку…
О, ее заваливали подарками, которых Руфь не брала. Если дары оставляли силой, она раздавала их другим гостям. «От хорошего человечка! – таинственно шептала Руфь. – Лично вам! Берите, берите, это на удачу…» – и одаренные славословили благодетельницу на всех перекрестках города.
Прошел год, и в ректорат Универмага явилась бодрая, пышущая здоровьем, приветливая дама. Ее просьбу – взять на работу, скрипторшей в университетскую библиотеку – удовлетворили без раздумий.
Бывало, к Руфи приходили за рецептом, с помощью которого она излечилась. Слухи гуляли самые разные: химерное молочко, джем из райских яблок, гимнастика старцев с горы Ху-Линам… Она виновато глядела в пол. Очень сложный рецепт, извините, не всякому подойдет. Требует многих усилий. Нет, за деньги не продается. Ага, и вам всех благ…
– Кабинет, мастер Матиас?
– Да, тетушка Руфь.
Скрипторша любила, когда студенты и преподаватели звали ее тетушкой. Вот и сейчас: просияв, она взмахнула веером – и, соткавшись из воздуха, плотные ширмы оградили столик, избранный Кручеком. Он нарочно сел у окна с видом на площадь, чтобы кабинет не торчал посреди зала, привлекая внимание. Ишь ты, а ширмы-то расписные – стиль «кожица груши», золотая фольга в лаке, как он любит…
Таких мелочей Руфь не забывала.
– Свободный абонемент, мастер Матиас?
– Да, пожалуйста.
– Тематика?
– Плотийские войны.
– Одну минутку…
Просочившись сквозь ширмы наружу, скрипторша вскоре вернулась с фолиантом в переплете из лилового бархата. Свободный абонемент представлял из себя список материалов библиотеки, близких по тематике, а щелчок ногтем по нужному разделу оглавления превращал книгу в указанный том.
Чтобы вернуться к исходнику, надо было захлопнуть фолиант и вновь раскрыть.
Кручек углубился в поиск. История конфликта, описание крупнейших сражений, тактика и стратегия партизанской войны в горах Тифея… Нет, это лишнее. За окном мелькнул крылатый силуэт. Он на миг отвлекся, проводив взглядом гарпию, набирающую высоту. Небось, на крыше сидела. Ладно, занятия кончились, летим, куда хотим… Так, миссия сусунитов в устье реки Кеферы, военные экспедиции для вытеснения аборигенов под руководством майора Джошуа Горгауза. Первые соглашения, нарушенные обеими сторонами, Гиллово перемирие…
Стоп.
Назад.
Он превратил абонемент в описание экспедиций, откуда перепрыгнул к краткому жизнеописанию Джошуа Горгауза, деда Исидоры. Торговец, траппер, проводник. Среди аборигенов известен как Джош Кровопийца. В звании второго лейтенанта участвовал в подавлении восстания стокимов, затем – в боевых действиях против гарпий. Капитан, дворянство за военные заслуги. Королевский маршал в резервации на Строфадах. Когда пост маршала упразднили, подал в отставку. Умер через восемнадцать лет после заключения Тифейского договора, предположительно от «похищения души» (недоказано); похоронен в Тренте…
Стоп.
Через восемнадцать лет после…
…от «похищения души».
В душе проснулся азарт охотника. Кручек знал это чувство. Один сидит в засаде у водопоя, поджидая кабана. Другой в камышах, натянув лук, ждет взлета уток. Экзорцист чует бесов; друг детства Фортунат Цвях, охотник на демонов, преследует инферналов на ярусах геенны. А теоретик Матиас Кручек ловит крупицы знания – и вешает головы добытых трофеев не на стены гостиной, а на страницы монографий.
Каждому – свое.
Час поисков – и он, помимо Джошуа Горгауза, нашел три десятка ветеранов Плотийских войн, умерших в период от девяти до двадцати лет после заключения мира. Все – предположительно от «похищения души» (недоказано). К сожалению, симптомы треклятого похищения были описаны крайне скупо – штрихами, мазками, не давая полной картины.
Но и этого хватало, чтобы найти сходство с недугом Томаса Биннори.
Он вспомнил, как, разделенные аудиторией, смотрели друг на друга две женщины – Исидора Горгауз, внучка капитана Джошуа, и Келена Строфада, внучка гарпия Стимфала. Словно две войны, две страшные покойницы восстали из гроба, из пепла, из крови. И в теплом скриптории ему стало зябко.
– Чаю, мастер Матиас?
– Спасибо, тетушка Руфь. С удовольствием…
* * *
На улице Тридцати Бессребреников было людно. Кристиан лавировал меж прохожими, однако темпа не сбавлял. Скорей бы найти тихую ухоронку, отсидеться… И озноб схлынет, а чувство опасности, толкающее в спину, наконец отпустит, даст перевести дух.
Не видя за собой погони, воришка не понимал, очего трясутся поджилки. Это пугало больше всего. Он свернул в узкий проулок – два шага в ширину. Глухие стены домов рукотворным ущельем возносились на высоту трех этажей. На бегу он задрал голову, без причины глянул вверх…
В небе мелькнул крылатый силуэт.
Келена!
Он вздохнул с облегчением, но вздох не получился. Застрял в глотке, прорвался наружу сиплым кашлем. Предательский страх никуда не исчез, по-прежнему гоня жертву вперед. Да что ж это такое?! Чего он боится?! Она ничего ему не сделает!
«Ты уверен, кузарь?» – спросил кто-то, похожий на Прохиндея Морица.
Уверен! Она спустится, и мы поговорим по душам…
«…решил заяц, удирая от лисы!» – издевательски хохотнул лже-Прохиндей.
Этот хохот роем злющих шершнелей впился в сердце. Окончательно потеряв самообладание, юный вор понесся, не разбирая дороги. Он больше не планировал маршрут заранее, сбивая с толку возможных преследователей – нет, парень удирал куда глаза глядят, словно за ним гналась стая голодных ваалберитов, пуская слюни.
Одним махом Кристиан пересек проспект Вышних Эмпиреев. Не успев уклониться, сшиб с ног замызганного попрошайку в лохмотьях – и нырнул в переулок Великого Змея. Переулок получил название не зря: беглец с трудом вписывался в его «гадючьи» изгибы. Не владей Непоседой паника, он во все горло клял бы торговцев, разложивших товар в самых неудобных местах.
Но сейчас было не до проклятий.
Горным козлом он скакал через разложенное прямо на мостовой барахло – подковы, пряжки, гвозди, долота, стремена, рыболовные крючки, дверные петли… Под башмаком взвизгнул сапожный ножик. Скрежетнула стамеска с треснутой ручкой. Брызнула россыпь фальшивых монет – чеканка Бадандена, делал Юцик Косой, за углом…
Продавцы костерили «падлюку» – вяло, без энтузиазма.
Из переулка Кристиан вылетел на рынок, во фруктовые ряды, и заметался в толчее. Его накрыла крылатая тень. Холодный пот прошиб воришку. Завопив, он нырнул под телегу с колючими анхуэсскими дынями. Изгваздавшись в конском навозе, выкатился с другой стороны, снес лоток со спелыми гранатами – плоды раскатились, трескаясь, брызжа соком. Увидев спасительный проход между домами, рванул туда.
– Остолоп безглазый! Чтоб те повылазило!
– Летит! Летит!
– Демон!
– Спасайтесь!
– Накаркала, стерва?!
– Куда волхвы смотрят?!
– Совсем обнаглели, твари! Средь бела дня!..
– Вроде, не демон…
– Прячься, дурила! Потом разберешься…
Суматоха захватывала рынок, словно армия – сдавшийся город. Кругами, волнами от булыжника, брошенного в пруд, распространялся испуг. Эхо докатилось до самых отдаленных уголков Реттии. Принюхался, насторожившись, псоглавец Доминго. Отстранил портного, снимавшего с него мерку для нового мундира, выглянул на улицу – и с удовольствием оскалился. Портной задрожал при виде улыбки клиента. Доминго жестом успокоил беднягу и вернулся к примерке.
По привычке кряхтя и охая, прошаркал к окну кабинета Серафим Нексус. С неожиданным проворством распахнул створки и долго всматривался в небо. Жил лейб-малефактор на другом конце города, далеко от университета. Что почувствовал он в этот момент? – спросите грозу, что она чувствует, когда вдруг сворачивает на запад.
Нахмурилась Наама Мускулюс. С минуту некромантка пребывала в глубокой задумчивости. Затем лицо ее разгладилось, и она направилась в кабинет мужа. Как выяснилось, прервав работу над конспектом курса лекций, муж стоял посреди кабинета, сдавив виски ладонями. Наама нежно обняла его, зайдя со спины, и муж, умница, все правильно понял – оставив астрал, он подхватил любимую супругу на руки и унес в спальню.
А капитан лейб-стражи Рудольф Штернблад, обедая в аустерии на перекрестке Возникновения и Троекратной, отсалютовал кружкой портера непонятно кому.
История лукава. Она умеет строить глазки так, что вокруг собирается толпа. О многих успели позабыть, кое-кто и вовсе перебрался в другую историю, но едва наша краля хлоп-хлоп ресницами – вот они, как на подбор. Никогда не знаешь заранее, кто выскочит через миг, бесом из табакерки. Надо быть наготове, иначе история ударит с фланга, возьмет в клещи – хочешь, не хочешь, а как порядочный сударь, обязан жениться. Или хотя бы выслушать до конца.
И лишь потом браниться: где, мол, были мои глаза…
На рынке тем временем царил форменный переполох. Резко спикировав, гарпия пронеслась над землей и когтями птичьих лап ухватила на лету несколько увесистых гранатов. Выйдя из пике, она набрала высоту – и сгинула так стремительно, что у торговцев позже возникли сомнения: «А был ли демон?»
Прыткий мальчуган лет десяти, опомнившись первым, уже тащил фрукты с прилавков и запихивал себе за пазуху. К нему, желая сопляку уйму болячек, кинулись три грозные фурии. Любитель дармовщинки пустился наутек – жизнь возвращалась в обычное русло.
Всего этого Кристиан не видел.
Ужас гнал парня дальше. Мышь, которую настигает голодный кот – вот кто он. Единственное спасение – уйти с открытого места. Спрятаться в норку, забиться под землю. Под Реттией тянется целая сеть старых туннелей и лазов. Соваться туда боялись: в темноте подземелий гнездилось жуткое отребье. Случалось, незваные гости нарывались на безногого вурдалака, ползающего быстрей змеи.
Но внук бабушки Марго готов был встретиться хоть с призраком Пипина Саженного – лишь бы избавиться от преследования. Мамочки, что мы ей сделали? Чем досадили? За что?!
Он остановился, чтобы сориентироваться. Налево. Точно, налево! Через проходняки, на улицу Головастого Всадника, и там, за памятником кондотьеру Хью – спуск, забранный решеткой, где два крайних прута…
На план действий ему потребовались секунды. Увы, именно этих секунд и не хватило для бегства. В лицо ударил ветер. Гарпия возникла напротив, с яростью загребая воздух крыльями. «Мечтал о встрече, кузарёк? – шепнул в ухо Прохиндей Мориц. – Готов броситься в объятия?»
Кристиан задушенно ойкнул и ринулся прочь – совсем не туда, куда собирался. Он бежал из последних сил. Ноги-вихри, ноги – гири; ноги – колоды… Дворы, обшарпанные стены, лужа помоев благоухает до небес. С мявом прыснул в сторону облезлый котяра. Возле уха что-то с силой шваркнуло в стену.
– А-а!..
Беглец метнулся вправо, не соображая, что гарпия гонит его обратно к площади перед Универмагом. Келена больше не кружила над домами, высматривая жертву. Снизившись, она летела за Непоседой по пятам, лавируя в тесном лабиринте кварталов.
Удар по затылку едва не свалил Кристиана с ног. В глазах помутилось. Шатаясь, он на ходу ощупал голову. Пальцы угодили в липкое месиво. Вечный Странник! Эта сволочь расколола ему череп! Еще шаг, и он упадет, не в силах подняться, а острые когти станут рвать в клочья его тело…
Тупик. Все. Добегался.
– Забирай! – он развернулся и швырнул кошель, который чудом не выбросил по пути, в Келену: гарпия как раз вылетела из-за угла. – Подавись! Не трогай меня… пожалуйста…
Гарпия поймала кошель и приземлилась. Она молчала, равнодушно глядя на Кристиана. Ничего не имело значения: их знакомство, его влюбленность, пустячные разговоры. Воришка попятился, уперся спиной в стену. Выступающий камень ткнулся под ребра. Кристиан ощутил себя фактом, не отягощенным чувствами. Жуткое осознание того, что для гарпии их предыдущие отношения, какими бы ерундовыми они ни были – пух под ветром, дунь и нету, – убивало парня.
– Н-не надо… я ведь отдал!
Склонив голову к плечу, гарпия изучала жертву. Так рассматривают убитую зверушку, прежде чем приступить к изготовлению чучела. Келена по-прежнему молчала. Она словно чего-то ждала. От нее пахло… ромашкой, подумал Кристиан. Да, ромашкой.
– Я… я больше не буду! Я не буду красть у твоих друзей!
– Ты не будешь красть, – согласилась гарпия. – Вообще. Никогда. Ни у кого.
Из-под крыла метнулась тонкая женская рука, крепко ухватив парня за запястье. Хватка у гарпии была такая, что заплечных дел мастер обзавидовался бы.
– Больно!..
– Это чтобы ты запомнил. Хорошо запомнил.
– Я уже!.. запомнил…
– Смотри, не забывай.
Она отпустила его руку, и Кристиан наконец отважился взглянуть в лицо Келены. Лик прекрасной статуи. Сейчас, как полагал он, в этом лице не было ничего человеческого.
* * *
Наплевав на традиции, первокурсники оккупировали выставленный на улицу столик «Гранита наук». Вот уже полчаса они утешали, как могли, несчастную Марысю. Даже зубоскал Хулио, поначалу язвивший насчет «ловли ворон», нарвался на бешеный взгляд Клода, увял и присоединился к общему хору.
– …скинемся, поможем. А потом твой отец денег пришлет…
– Ты ешь, мы еще закажем…
– Вина глотни…
– Его стража поймает…
– Ага, поймает! Держи карман шире!
– Молчи, дурак!..
Когда на стол перед Марысей прямо с неба грохнулся до боли знакомый кошель, капитанская дочка сперва отказалась поверить в чудо. Потом все задрали головы к небу – и обнаружили кружащуюся над ними Келену.
Губы гарпии отливали липким багрянцем.
– Что… что ты с ним сделала? – задохнулся Яцек.
Гарпия засмеялась, помахала четвертушкой граната, зажатой в руке, и впилась в лакомство острыми зубами.
Caput VIII
Мне судьба говорит: «Ложись!»,
А я спорю.
И течет судьба, словно жизнь,
Прямо к морю.
Томас Биннори– Извините, мастер. Я, кажется, помешала.
Она вспорхнула на подоконник, как пушинка. Черная тень, порыв ветра, пух и перья, губы и волосы – словно и не третий этаж, словно лист осенний, случайный, кружась, залетел в библиотеку.
Позже Кручек укорит себя за суету. Мальчиком, застигнутым родителями в неблаговидный момент, он захлопнул книгу, превращая то, что читал – «Похищение души: мифы и реальность» Гастона д\'Ануйля – в нейтральный абонемент. Спохватился, что на обложке значится: «Плотийские войны» – и перевернул фолиант лицевой стороной вниз.
Гарпия следила за его манипуляциями, склонив голову набок.
– Помешали. Я был занят.
– Извините, – повторила она, делая вид, что не поняла намека, а может, действительно была глуха к намекам. – Я хотела спросить…
– Спрашивайте. Раз все равно отвлекли…
Спрятаться за грубость не вышло. Он не умел грубить. Вот и сейчас: вышло глупо, неприятно, в первую очередь для самого доцента. Он постарался сгладить неловкость, сухо улыбнувшись гарпии, и сразу отвел взгляд – испугался опять увидеть черты Агнессы, утонувшие в этой сверхчеловеческой красоте.
Он надеялся, что привыкнет.
«Проклятье! Я ведь сам предложил Хайме сделать меня со-куратором! Кто мог знать…»
– Я увидела вас в окне, и решила заглянуть. Мне трудно привыкнуть, что распахнутое окно не означает приглашения. Скажите, мастер…
Она наклонилась вперед, и Кручек заметил, что гарпия возбуждена. Дыхание больше обычного вздымало грудь, на лбу высыхали бисеринки пота. Скулы чуть-чуть порозовели. Словно алебастр тронули кисточкой, где осталась капелька румян. Снаружи еще стоял день, солнце лениво катилось за крыши домов. Выйдя из световой рамы, гарпия перестала быть тенью и превратилась в живое существо.
«Боже, что она ела? Весь рот в красном… По-моему, это гранатовый сок…»
– Я целиком в вашем распоряжении, сударыня. Продолжайте.
С иронией тоже вышло не очень.
– Эта женщина…
– Профессор Горгауз? – он сразу понял, о ком идет речь.
– Да. Она… По-моему, она не слишком расположена ко мне.
Кручек расхохотался, забыв, что преподаватель в разговоре со студенткой обязан сохранять достоинство. Никто в университете не называл Горгулью – «эта женщина». А уж о неласковом расположении Исидоры и вовсе не заикались вслух. Просыпались по ночам в холодном поту, это да. Но молчали.
«Не расположена? Голубушка, она тебя ненавидит. И боится. Я сам имел удовольствие наблюдать: ненависть и страх. Вот, копаюсь в первопричинах. Рассказать Хайме? Пусть примет отставку Горгульи с кураторского поста? – во избежание…»
– Вы опоздали. Профессор Горгауз не терпит нарушений распорядка.
– Это может повлиять на качество моего обучения?
– Нет. Не думаю, – Кручек говорил с уверенностью, в которой наблюдательный собеседник легко уловил бы трещинку. Оставалось полагаться на юный возраст гарпии. В молодости ты занят больше собой, чем другими. – На качестве обучения может сказаться ваше личное прилежание. Упорство. Талант, наконец.
– Мой уровень маны. Его ограниченность.
– Ошибаетесь. Есть области Высокой Науки, где низкий уровень маны – залог успеха. Семантика, например. Или ясновиденье. Ясновидцу нельзя тратить много маны, иначе он начнет влиять на будущее. Не спорю, на практикумах у вас возникнут сложности. Но личные отношения учащегося и куратора… Вне сомнений, профессор Горгауз выше таких вещей.
– Спасибо. Вы успокоили меня.
Кручек вздрогнул: теперь ему везде чудилась ирония. Сколько же ей все-таки лет? Двадцать пять? Вряд ли. Кожа свежая, шея гладкая, как мрамор. Жгучие брюнетки рано стареют. Как говорят в песках Кара-Хан, где девицы черноволосы и стройны? Красотки в двенадцать, чистый восторг в тринадцать; матери в пятнадцать – и уродливые мегеры в двадцать пять.
Агнешка была шатенкой. Всегда хотела перекраситься в черный. Собиралась, мечтала, подбирала состав… Не успела. Когда ее хоронили, шел дождь. Земля размокла, мы шли за гробом, спотыкаясь. Маленького Яцека оставили с кормилицей…
– Еще вопрос, мастер. Когда вы смотрели на меня – там, в аудитории… Я вам кого-то напомнила, да?
– Да. Мою жену.
– Она жива?
– Нет.
– Я так и думала.
Ему захотелось ударить гарпию. Со всей силы, кулаком. Наотмашь. Чтоб хрустнули перья. Чтоб кровь, а не сок граната, или что там у нее на лице. Она, значит, так и думала? У нее вопросы? В душу лезем? – с острыми когтями…
Гарпия сгорбилась и нахохлилась, будто почуяв его ярость.
– Не сердитесь, мастер. Я не хотела вас задеть. Примите мои соболезнования. Просто… Это случается. Люди видят в нас своих близких. Чаще – утраченных близких. Им чудится, что мы похожи…
– Не волнуйтесь. Вы не слишком похожи, – сказал Кручек. – Агнесса никогда не была такой красивой, как вы.
Ярость ушла без остатка. Взамен явилась усталость. Надо идти домой. Или лучше в ресторацию, пообедать наконец. Никогда не скажешь, что толстяк Матиас вечно забывает поесть. А и скажешь – никто не поверит. Засмеют.
Гарпия улыбнулась.
– Не лгите. Была. Если вы до сих пор вздрагиваете, уловив родное сходство; если у вас там якорь… Значит, ваша жена красивее меня. Вы даже не представляете, как она хороша там, где якорь. Я в сравнении с ней – дурнушка. Курица-наседка.
Он ничего не понял про якорь.
– Вы рассказывали про силу и усилие, мастер. Чтобы их различать, надо уметь летать. Вы умеете. Не сочтите за лесть. И не бойтесь смотреть на меня. Я – всего лишь ваша студентка, одна из многих. Сходство – мираж. Вы привыкнете.
– Вам надо умыться, – Кручек неуклюже сменил позу, едва не смахнув на пол абонемент. – У вас лицо в чем-то красном. И эти…
«И когти,» – хотел сказать он, опустив взгляд, но передумал.
– Я знаю. Вы можете наколдовать миску с водой? И полотенце. Не хотелось бы лететь так через весь город…
– Конечно. Тетушка Руфь?
– Да, – откликнулась скрипторша из-за ширм. Она не вмешивалась, слыша тихий разговор. В библиотеке никого не было. Значит, никто не стал бы жаловаться, что ему мешают. А беседовать приват-демонолог Кручек мог с кем угодно, хоть с Нижней Мамой. – Вы что-то хотите, мастер Матиас?
– Миску с теплой водой. И полотенце. Вас не затруднит?
«Вас не удивит?» – вот что следовало бы спросить.
– Ни капельки. Я сейчас подогрею…
Минута-другая, и тетушка Руфь просочилась сквозь ширмы, неся заказ. Над миской курился слабый парок. При виде гарпии старушка обрадовалась, словно только и ждала, когда в библиотеку прилетит крылатая гостья. Переждав волну комплиментов, Кручек поблагодарил скрипторшу, проводил ее в отведенную для Руфи каморку – и задержался, болтая о пустяках.
Он не хотел стеснять гарпию. Пусть умоется. Следить за прихорашивающейся женщиной возможно лишь при близком знакомстве. Вздохнув, доцент признался сам себе, что страх Исидоры Горгауз – заразен. Он боялся гарпии. Двадцать лет подряд, уже после заключения мира, ее соплеменники отыскивали солдат, отличившихся в Плотийских войнах. Отыскивали – и убивали. Чудовищным, неизвестным способом, после которого не оставалось доказательств их вины.
Кроме нелепого термина: «похищение души».
Год за годом. Подписав соглашение. Переселившись в резервацию. Став подданными короны. Не привлекая внимания. Притворяясь невинными горлицами. Находили – и убивали, одного за другим. Хорошо, мир мог вас не устраивать по ряду причин. Пересмотр условий, расширение территории резервации, переговоры и запросы – все было бы понятно, оправданно, а главное, честно. Если бы не смерть Джошуа Горгауза и его друзей.
«Вы мстили, – думал Кручек, обсуждая со скрипторшей свадьбу кого-то из знакомых. – Это понятно. Мстили, нарушая договор. Это подло. Но почему вы однажды перестали мстить? Прошло слишком много времени? Вряд ли – если вас хватило на двадцать лет…»
– Спасибо! Я закончила туалет…
– Чем от вас пахнет? – спросил он, вернувшись за ширмы.
Не слишком учтивый вопрос. Но Кручек опасался, что гарпия по его лицу поймет, о чем он размышлял минуту назад. Разговор о пустяках мог сослужить хорошую службу, в качестве отвлекающего маневра.
– Курятником, мастер?
– Вы злопамятны, сударыня. Полагаю, юный грубиян еще натерпится от вас.
– Злопамятна? Ни капельки.
– Не верю. И все-таки… Духи? Цветы? Приятный запах…
– Ромашка, – вздохнула гарпия. Она была похожа на девчонку, готовую сознаться постороннему мужчине в женских недомоганиях. – Ромашкой от меня пахнет, мастер. Ваши голуби, сожри их коты…
Великий теоретик почувствовал себя идиотом.
– Ромашка? Голуби? Мои голуби?
– Ну да. Оперение ваших столичных голубей… Оно кишит паразитами. Пухопероеды, знаете ли. Гнусные твари, если прицепятся… Вы бы их видели, мастер! Когти, челюсти, щетинки, шипики, три пары ног… Не волнуйтесь, для вас это не заразно.
– Бр-р! – не выдержал Кручек, и потом только догадался, что над ним подшучивают. – Какая гадость! Впрочем, если я стану описывать вам паразитов, жирующих на мне, или во мне, скажем, в кишках… Вам не кажется, что наш разговор приобретает светскую окраску?
– Несомненно, мастер. Короче, в геенну ваших голубей! Одно спасение – порошок из толченой ромашки. К счастью, он продается в лавке. Мне показали лавку, где есть все для соколиной охоты. Иногда жаль, что у меня нет клюва.
– Э-э… А зачем вам клюв? Вы и так… м-м… хорошенькая…
– Чистить перья. Пропустишь оперение через длинный клюв, и радуешься. Чистенькая, как при рождении. Хорошо еще, что ромашка приятно пахнет. Представляете, если бы я лечилась серой?
– От вас бы пахло, как от вызванного демона! – засмеялся Кручек.
Их беседу прервал чужой бас – его звучание грозило опрокинуть ширмы на пол. «Сударь Кручек! Мне на вахте сказали, что вы здесь!» Бас ширился, горлопан пыхтел, словно долго бежал, прежде чем явиться сюда. Гулкое половодье рассек тончайший, бритвенно-острый приказ: «Тише, сударь! Вы в библиотеке, а не в казармах!..» Тетушка Руфь, ясное дело, была на высоте. «Простите, мистрис! – бас охрип, по нему трещинками разлетелись просительные нотки. – Меня заверяли, что доцент у вас… Это правда? Он мне нужен без промедления! Срочно!..»
– В чем дело? – Кручек вышел из «кабинета».
На пороге топтался лейб-гвардеец. Горбатый нос, густые усищи, глаза выкачены, будто в пожизненном приступе бешенства, – вояка, считай, сошел с батального полотна. В библиотеке ражий детина смотрелся, как жеребец в консерватории.
У ног его, царапая коготками голенища сапог, приплясывал двухвершковый пропуск, мохнатый и ушастенький. Таких на вахте выдавали гостям, не смыслящим в Высокой Науке, чтоб не заблудились.
– Сударь Кручек! На вас последняя надежда! Вы должны… нет, вы обязаны знать…
– Что именно?
Ребенком Матиас Кручек мечтал служить в королевской гвардии. Но даже в детстве он не хотел, чтобы его трясло от волнения, как шикарного визитера.
– Гарпия! Где она?
– Здесь, – пожал плечами доцент. – Извольте…
Щелчком пальцев он развоплотил ширмы «кабинета». Завидя Келену, детина впал в откровенную истерику. Достигнув цели поиска, он вдруг превратился в сорванца, которого обстоятельства – и строгий папаша с ремнем – вынуждают сознаться в неблаговидном поступке.
«Дядюшка Том, мы обнесли ваш сад, – подумал доцент, сочувствуя вояке. – Матушка Барби, мы утопили в пруду вашу собачку. Что ты натворил, красавец?»
– Больной… я о мэтре Биннори!.. так вот, больной…
– Умер? – ахнула тетушка Руфь.
– В кризисе? – спросила Келена.
– Выздоровел? – без особой надежды предположил Кручек.
Лейб-гвардеец вздохнул. Испуганный его вздохом, пропуск кинулся наутек, скрывшись под стеллажами. Закрученные концы усов поникли в отчаянии, пуговицы потускнели. Конец ножен шпаги нервно дергался, будто песий хвост.
– Сбежал. Удрал наш больной…
Гарпия ударила крыльями, оставаясь на месте. Крылья загремели, как медные тазы. На этот раз тетушка Руфь и не подумала делать студентке замечание. Гримаса ярости исказила лицо женщины-птицы. Казалось, она сейчас ринется на лейб-гвардейца и разорвет его на мелкие кусочки.
Кручек вздрогнул. Что-то ужасное поднималось из гарпии. Словно чудовищная, могучая старуха восставала из глубин пернатой красавицы, заполняя Келену, как рука – перчатку. Наверное, это был гнев. Он и не знал, до чего страшна гарпия в гневе. «Свиреп, когда спровоцирован,» – вспомнился девиз Горгаузов. Похоже, Джошуа Горгауз был отчаянно храбр, если воевал с этим племенем, а после служил королевским маршалом на Строфадах…
Уши обжег дикий визг:
– Идиоты! Бездельники! Я ведь предупреждала!
– Так точно! – отрапортовал лейб-гвардеец. – Предупреждали!
И добавил с тоской:
– Виноваты…
* * *
Абель Кромштель был безутешен.
Ничего не помогало. Призраком он бродил по дому, пытаясь будничными занятиями приглушить угрызения совести. Начал стряпать ужин – бросил. Взялся подметать в гостиной – швырнул веник в угол, сел на пол и заплакал. В пустом доме рыдания звучали ужасно. Словно кто-то передразнивал несчастного слугу, насмешливым эхом разгуливая из комнаты в комнату.
Очень болела голова. Затылок раскалывался, будто там бесы горох молотили. У мэтра Томаса оказалась тяжелая рука. Но Абель ни словечком не обвинил поэта в своем несчастьи. Во всем виноват он сам, дурень Кромштель, и никто иной.
А ведь гарпия предупреждала…
"Она была права, – записал он позже в дневнике, когда умытый, с покрасневшими от слез глазами, сел за стол в кабинете. – Она сразу, после первого же сеанса, сказала: ждите кризиса. Когда точно? – неизвестно. Может, ночью. Хотя вряд ли. Может, завтра. Может, через неделю. Десять дней – максимум. Наблюдайте и храните бдительность. Я спросил у нее: «А как мы узнаем, что это – кризис?» Узнаете, рассмеялась она. Я не знаю, как пройдет кризис у мэтра Биннори. Паразит проявляет себя по-разному, в зависимости от ближайших якорей. Но едва начнется, вы не ошибетесь.
Уж поверьте моему опыту.
Не думаю, что в ее годы есть шанс большой опыт. Но она говорила так убедительно… Я не стал спрашивать, кто такой паразит, и что такое якоря. Странное дело: я верил ей. Если эта полуптица не желает объяснить – значит, не надо. Я только поинтересовался, что делать в случае кризиса. Звать меня, сказала она. Сразу посылать за мной. Кризис выглядит необычно. Но в целом – это хорошо. И вот что еще… Вы не справитесь сами. Даже если кризис пройдет без эксцессов (она сказал как-то иначе, но я не запомнил), кто-то должен остаться с больным, пока пошлют за мной. Она критически осмотрела меня и хмыкнула: Абель, я не уверена, что вы совладаете с мэтром…"
Перо скрипело и брызгало чернилами. Присыпав написанное песком, Абель взял второй лист. Он знал, что пишет невнятно, от волнения забывая четко оформить: кто сказал, что сказал… Местоимения плясали, как шуты на карнавале. Текст напоминал черствую лепешку – если с голодухи, то сгодится, но украсить праздничный стол… Ничего, успеется. Перепишем заново, а это – черновик. Первая помощь. Удивительное суеверие: пока длится дневник, с Биннори не произойдет ничего непоправимого.
Ты глупец, Абель. Ты – книжный червь, душа чернильная.
"Капитан Штернблад приказал гвардейцам остаться в доме. Вы поступаете в распоряжение Кромштеля, велел он. За больного отвечаете головой. Псоглавец предложил свои услуги, но капитан не согласился. Он хотел, чтобы псоглавец находился при нем. Или решил: если кто-то ответит головой за мэтра Томаса, пусть это будет человеческая, а не собачья голова.
День прошел спокойно. После сеанса мэтр вел себя чудесно. Хорошо поел, улыбался, без возражений отправился спать. Сон освежил его. Он по-прежнему отвечал невпопад, но утром больше часа играл на арфе. Я сидел у его ног и слушал. Когда ему надоело играть, мы разговаривали. Точнее, говорил я один. Так посоветовала гарпия. Не надо, сказала она, вспоминать прошлое и строить планы на будущее. Дергать за якоря – дело паразита. Вы же, Абель, беседуйте с больным о чем-нибудь сиюминутном. Надо открыть окно, в комнате душно. Вот вкусная булочка – с джемом и глазурью. На локте образовалась дырка, сейчас заштопаем. Главное, чтобы он слышал. Даже если это не приносит видимого результата – разговаривайте с ним.
Тащите его сюда, это помогает.
Гвардейцы сперва околачивались рядом. Но, видя, что с мэтром не происходит ничего примечательного, заскучали. Во вторую ночь они еще дежурили у дверей его спальни. Потом стали караулить в холле. Играли в карты, пили вино; спали в две смены. Днем им становилось и вовсе тоскливо. У меня хотя бы были заботы по дому.
Они же…
Ничего не хочу сказать: в тот злополучный день я сам отпустил их в ресторацию – пообедать. Им наскучила моя стряпня. И вино в погребе закончилось. На первый взгляд ничто не предвещало беды. Мэтр спал – теперь он с удовольствием ложился пополудни. Я расставлял книги, смахивая с них пыль. На всякий случай поднялся в спальню: посмотреть на спящего. Он часто сбрасывал плед и мёрз, но не жаловался. Когда я вошел к нему…"
Он отложил перо. От воспоминаний голова разболелась так, что Абеля затошнило. Да, он вошел к мэтру и остолбенел. Плед валялся на полу. Смятые простыни бесстыже сбились к спинке кровати. Томас Биннори, голый, будто в миг рождения, стонал и еле слышно вскрикивал. Все его движения говорили: поэт занимается любовью с невидимкой. По рукам мэтра легко определялось – вот его пальцы ласкают чью-то грудь, вот дама, сидя на нем, выгнулась от наслаждения, а ладони мэтра сползли ей на бедра; вот Биннори опрокинул женщину навзничь, грубо, коленями раздвигая ей ноги пошире, и задергался, заторопился на полпути к вершине…
Овал Небес! – все происходило лишь в воспаленном мозгу больного. Но смотреть на это было мучительно. Стыд и ужас – два палача ожгли Абеля кнутами. «Лучше бы я ослеп на пороге!» – подумал он, отворачиваясь. Он уже собрался выйти прочь, но тут Биннори, издав экстатический вопль, прыгнул с кровати прямо на плечи своему другу и слуге.
Еще миг, и ночной горшок опустился Абелю на затылок.
Когда Кромштель пришел в чувство, мэтр Томас исчез. Абель перевернул дом вверх дном, тщетно надеясь, что больной просто спрятался. Гвардейцы, вернувшись, застали его безутешным. В сотый раз он бегал по коридорам, крича: «Мэтр! Где вы?!» Покинуть дом – хотя бы для того, чтобы вызвать гвардейцев из ресторации – его не заставило бы и землетрясение.
Абелю чудилось: оставь он жилище, и мэтр Томас не вернется никогда.
Если вояки и были пьяны, то протрезвели они мигом. Каждому отчетливо представился капитан Штернблад в тот момент, когда Неистовый Руди узнает о преступном бездействии охраны. Они на ходу бросили жребий, и неудачник, чья фортуна скроила гнусную рожу, отправился докладывать капитану о происшествии.
Второй же кинулся на поиски гарпии. Пусть больной и сбежал, но кризис налицо. В комнате, снятой Келеной, постоялицы не обнаружилось. Хозяйка квартиры, милая старушка, не знала, куда делась «голубушка». Ее внук при одном упоминании о гарпии трясся, как осенний лист на ветру, заикался, пускал слюни и норовил спрятаться под кровать. С трудом удалось выяснить, что гарпия может быть в университете, куда гвардеец и поскакал, горяча лошадь…
Ждать – о, худшей пытки Абель не знал! Скрипя пером, он лихорадочно продолжал записи, не зная, что через пять минут в двери дома ворвутся Штернблад с псоглавцем Доминго, и собакоголовый обнюхает постель мэтра Томаса сверху донизу – минута, другая, и слуга вновь останется один в пустом, осиротевшем доме…
Нет, не так.
Один на один с надеждой.
* * *
Пройдись за мною по тротуару,
Упрись мне в спину тяжелым взглядом,
Мне нужно знать, что ты где-то рядом,
С петлей и мылом, ножом и ядом,
С недобрым словом – моей наградой
За те грехи, что считал товаром…
В кабачке Хромого Ферри стоял дым коромыслом. Портовое отребье, шушера, контрабандисты, девки, грузчики, воры, матросы с бригантин, стоявших у причала – они хохотали, дружно хлопая в ладоши. Это все Прохиндей Мориц, радовались выпивохи.
Это он затеял веселье, подначив чужого дурачка на пари.
Дурачок завалился к Хромому Ферри час назад. В растерзанной одежде, всклокочен и возбужден, он сразу спросил вина – «Лучшего!..» – и расплатился снятым с пальца перстнем. Прохиндей, чуя поживу, кинулся к гостю, делая вид, что встретил давнего приятеля, наскоро облапал дурачка – и с грустью выяснил: кроме перстня, у болвана нет ничего ценного.
Козырный интерес угас. Резать дурачка не за что, гнать взашей – скучно. Прохиндей ушел к компании и забыл о госте, но тут дурачок завопил, что готов торговать. Здесь и сейчас – налетай, подешевело.
– Каков товар? – вяло осведомился Хромой Ферри, всегда готовый принять краденое.
Дурачок выпятил грудь.
– Баллады! Лэ! Триолеты! С пылу, с жару!
– Почем?
– По грошу за строчку!
Хозяин кабачка фыркнул, а у Прохиндея Морица созрела дивная идея. Пляши, предложил он дурачку. Пляши и пой свои драные лэ. За каждый круг я обещаю поить тебя вином – целый кубок, не меньше. Договорились?
Вместо ответа дурачок пошел вприсядку, горланя забавную чушь.
Я торговал врассыпную, оптом,
Себе в убыток, смешной барышник,
Купец наивный – но только, слышишь,
Осанна в вышних нас не колышет,
Как поцелуй золотой малышки,
Когда башмак до прорехи стоптан…
Он плохо выглядел, рифмоплет-безумец. Исхудалый, нервный, глаза запали, скулы обтянуло пергаментной кожей. Такие, знал Прохиндей Мориц, несутся вскачь, на гнилом кураже, и вдруг падают замертво. Любопытно, сколько кругов – а главное, сколько кубков! – выдержит доходяга.
Ага, второй.
Пей.
Шагай за мной, человек мой черный,
Криви в усмешке сухие губы,
Твои движенья смешны и грубы,
Тебе поют водостока трубы,
Тебе метали лещи икру бы,
Когда б икринки – размером с четки,
А так, по малой – сдувайте щеки…
Эти строки недавно вызвали у доцента Кручека сомнения в здравом уме Томаса Биннори. Народ, веселящийся в кабачке, и вовсе ни капельки не сомневался. Придурок, братва. Ветер в башке гуляет. Зато как пляшет, а? И слова на нитку лихо нижет. Даже Хромой Ферри наливал кубок за кубком, не чинясь. Перстня хватило бы на десять кувшинов той кислятины, какой он торговал.
А тут еще Мориц деньгой сыпанул: лови!
Хозяин не боялся, что дурачок сдохнет в его заведении. Не перевелись в порту ловкие кузари, а море глубоко у Белой скалы. Камень к ноге, и буль-буль, поминай, как звали. Пускай барракуды с осьминогами тоже стишатами побалуются.
В безумном танце дома кружатся,
В ночном тумане шаги поманят,
В седом дурмане меня помянут,
Огни зажгутся в небесной манне –
Мне б в эти стены всем телом вжаться,
Да жжется кукиш в моем кармане,
Да гибнуть рано – пора рожаться…
Истасканная шалава упала на грудь дурачку, покрывая его лицо поцелуями. Девка что-то кричала, плакала; ее отволокли назад – не мешай потехе! Но и в углу она продолжала всхлипывать, словно обиженный ребенок. В порту ее знали, как Сучку Сью, стерву, не лезущую в карман ни за бранным словцом, ни за обломком бритвы. Брали ее чаще всего боцманы – она так ругалась под ними, что это возбуждало морских волчар.
Сейчас же Сучка Сью была сама на себя непохожа.
Размахивая руками, дурачок заканчивал круг. На его щеках полыхал болезненный румянец. Колени тряслись. Голос оставался звонок и мелодичен. Мориц подумал, что пора вертеть залипуху на кандец. Уже не смешно.
Шагай за мною, нелепый призрак,
Пока есть время, пока не тризна…
Оказавшись возле очага, странный гость вдруг ухватил свободный вертел. Железяка с неожиданным проворством рассекла воздух. Прохиндей Мориц еле успел уклониться. Еще миг, и вертел размозжил бы ему череп.
– Эй! Ты чего?!
Вместо ответа дурачок сделал выпад. Довольно умелый, надо сказать. Хорошо, что у вертела оказалось туповатое острие. Иначе Мориц отправился бы шутить шутки с Нижней Мамой, а у Мамы скверное чувство юмора. Но синяк на груди останется, как пить дать. И больно, дери вас за икры…
– Держите гада!
В дурачка вцепились руки верных кузарей. Тот успел наотмашь огреть кого-то вертелом, и задергался, затрепыхался, как зяблик в силках. Прохиндей оскалился, выплеснул очередной кубок в рожу мерзавцу – заслужил, падла! – и достал из заначки шило. У него был и нож. Только ножом режут врага, а шилом колют свиней. В печень, или под лопатку. Такая смерть веселее, если, конечно, ты не умираешь, а убиваешь.
Кабатчик не вмешивался. От шила крови мало. Значит, мебель не забрызгает. В остальном Ферри видел от Прохиндея достаточно пользы, чтобы не мешать развлекаться. И за перстнем никто не явится. Концы в воду…
– Бойкий скоцарь? – кончик шила уколол гада в шею. – Лады, квит на квит…
И Мориц улетел в угол, едва не воткнувшись головой в очаг.
Позже никто не сумеет вспомнить толком, что произошло. Ни Мориц, ни верные кузари, пострадавшие едва ли не больше Прохиндея. Всем, кто держал дурачка, сильно досталось: вывихнутые запястья, свороченные скулы, трещины в ребрах. Одному воткнули шило в ягодицу. Другой ударился виском о край столешницы, и с тех пор заикался. Хромому Ферри, несмотря на проворство, с каким он нырнул под стойку, кружкой угадало по лысине. Какой-то матрос прыгнул в толчею, желая показать себя героем, и крепко расшибся.
Бес его знает, как можно так неудачно поскользнуться на ровном месте?
– Концерт окончен, – сказал капитан Штернблад, обнимая Томаса Биннори за плечи. Маленький, тщедушный, капитан был мил и приветлив, словно развлекал дам в салоне маркизы Тюрдели, а не стоял посреди самой бросовой дыры в порту. – Почтенную публику просят не беспокоиться. Если мало, я могу станцевать.
В дверях зарычал псоглавец Доминго.
Так он смеялся.
Liber III Пришел я с арфой к гарпии… Caput IX
…Пришел я с арфой к гарпии,
И вот мы с ней поём,
Сидим, обнявшись, поутру,
Она бренчит, а я ору,
Нам хорошо вдвоём…
Томас БиннориВ доме знаменитого барда Кручек раньше не бывал. Он вообще плохо знал эту часть Реттии. Келена улетела вперед, лейб-гвардеец умчался следом, как ошпаренный. Провожатых у доцента не осталось. Можно было, конечно, нанять экипаж, но задним умом мы все крепки. Когда эта блестящая идея пришла великому теоретику в голову, он уже углубился в лабиринт кривых улочек.
Здесь извозчиков не попадалось.
Следовало поторопиться. Еще, чего доброго, гарпия начнет без него. Пропустить второй сеанс лечения Кручек не желал. Но спрашивать дорогу у прохожих, как распоследний провинциал, стеснялся. Углядев на ближайшем доме табличку из жести, крашеной белилами – «3-я Забубённая», ишь ты! – он прочел ориентальное заклинание, завершил его ловким пассом и выдернул из воздуха свиток пергамента с картой столицы.
Ага, вот мы где… А вот куда нам надо. Прочертив ногтем маршрут от 3-ей Забубённой до Веселого Тупика, он с уверенностью двинулся дальше, вернув свиток в казенный скрипторий. Теперь к дому барда по мостовой вел эфирный след – лазурный шнурок.
Два не вполне трезвых сударя, направившись было к Кручеку, узрели явление свитка и почли за благо свернуть в подворотню. В итоге намерения пьяниц остались тайной, в том числе и для них самих. Чего хотели? Помочь ближнему, облегчив его карманы? Пригласить на дегустацию чудо-шмурдеца, выгнанного сегодня Папашей Брехтом? Спеть хором «Мы беспечны, как волны в речке…»?
Вечный Странник, один ты всеведущ…
Сумерки заливали город густыми чернилами. В небо швырнули горсть алмазных песчинок. Звезды дали сигнал фонарщикам: пора приниматься за работу. Ибо, как писал Ян ван дер Хайд, инспектор городского освещения, в докладе на высочайшее имя:
«При благословенном свете фонарей горожане реже падают в канавы, преступники спешат укрыться в тень, и с пожарами легче бороться, ибо видно, что тушить в первую очередь…»
Один из таких поздних трудяг шествовал впереди Кручека: шляпа-цилиндр с высоченной тульей, длиннополый лапсердак, стремянка на плече и запальник в руке. Остановившись у столба, фонарщик раскладывал стремянку, накидывал крючок – чтобы лестница не разъехалась – и с неторопливостью, рожденной опытом, взбирался наверх, к фонарю. Открыв стеклянное оконце, он заливал в лампаду порцию конопляного масла, зажигал фитиль, тихо улыбался, радуясь живому огоньку, и спускался вниз.
Фонарщик попался длинноногий. Шагал он с размеренностью ожившего циркуля. Кручек раз за разом обгонял его, прижимаясь к стене, пока фонарщик трудился над лампадой – еще зальет сюртук своим вонючим маслом! Но, спустившись со стремянки, тот вновь оказывался впереди, словно задался целью осветить чужаку всю его дорогу.
Когда Кручек всерьез начал опасаться, что фонарщик – мистический доппельгангер, и теперь будет рядом до смертного часа, циркуль в цилиндре зажег последний фонарь – в Веселом Тупике, напротив дома Томаса Биннори.
– Удачной ночи, сударь! – фонарщик отвесил поклон и сгинул.
Неподалеку раздавались крики: похоже, кто-то дебоширил. Поморщившись (он терпеть не мог скандалов), Кручек поднялся по ступенькам и постучал в дверь молотком. Ответа не последовало. Дебошир на миг угомонился, но вскоре снова разразился воплями. Доцент постучал сильнее. Может, беглеца еще не нашли?
Шагов он не расслышал. Просто дверь вдруг открылась, и доцент зажмурился от света высоко поднятого канделябра.
– Кто вы, сударь?
Голос сорвался, слуга зашелся кашлем. Канделябр плясал в руке, швыряясь рваными клочьями теней.
– Приват-демонолог Матиас Кручек. Это дом Томаса Биннори?
– Да. Но мэтр Томас не принимает! Он… он нездоров…
– Я знаю. Скажите, Келена Строфада уже здесь?
– Кто?
– Гарпия. Она не возражала против моего присутствия, – доцент солгал; верней, выдал желаемое за действительное. Они с гарпией не обсуждали этот вопрос. – Келена – моя студентка. Она полетела вперед…
– Да-да, гарпия здесь! – слуга зачастил скороговоркой, брызжа слюной. – Мэтр нуждается в срочной помощи! Идемте, идемте быстрей!
Он бегом устремился обратно в дом. Кручек двинулся следом, едва поспевая. Миновав узкий коридор, они оказались во внутреннем дворике. Здесь было заметно светлее – у крошечного цветника горели два шандала-восьмисвечника на высоких ножках. Возле левого шандала стоял капитан лейб-стражи Рудольф Штернблад, возле правого – долговязый псоглавец, затянутый в черную кожу с металлическими бляшками.
Бляхи поблескивали, отражая пламя свечей.
Капитан с псоглавцем оберегали шандалы от буянившего во дворе сударя – чтоб не снес ненароком! – но самого буяна не трогали. Приглядевшись, Кручек с изумлением узнал в дебошире хозяина дома.
Так вот чьи вопли он слышал!
Сейчас Биннори не кричал. Он танцевал с сосредоточенностью идиота, кружился по двору, выкидывая умопомрачительные коленца, и был целиком поглощен этим важным делом. Время от времени мэтр Томас бросался вперед, словно пытаясь достать кого-то шпагой. Затем он разражался зловещим, крайне неестественным хохотом, и возвращался к танцу. Один раз поэт дернулся, как от пропущенного удара, и выдал неразборчивое проклятие.
Но танца не прервал.
– Сделайте что-нибудь! – с отчаянием воззвал слуга к быстро чернеющему Овалу Небес. – Помогите ему!
И Овал Небес, мигнув звездами, ответил:
– Усадите больного в кресло. Держите, пока я произведу захват.
Кручек задрал голову вверх. Подслеповато щурясь, он с трудом разглядел темный силуэт гарпии, устроившейся на перилах лоджии.
– Мэтр Томас! Вы слышите меня?! Мэтр, умоляю…
Капитан Штернблад кивнул псоглавцу:
– Готовься, Доминго. Берем…
В следующее мгновение капитан возник рядом с поэтом. Мягко, почти нежно, он оплел мэтра руками, как спрут – щупальцами, сковав движения. Казалось, в руках Штернбалада нет костей. Поэт затрепыхался мухой, угодившей в паутину. Тут подоспел псоглавец, и они с капитаном понесли больного к плетеному креслу.
В свете шандалов доцент разглядел: одежда поэта разорвана. На скуле ссадина, шею пачкает струйка запекшейся крови. Тысяча демонов! Что стряслось с беднягой?
– Что вы себе позволяете, господа?! Немедленно отпустите мэтра!
Слуга разрывался между двумя противоречивыми стремлениями: помочь хозяину и… не мешать гостям помогать хозяину! От вида плененного Биннори восставало все его существо, требуя вмешаться без промедления. То, что против двоих умелых солдат у слуги не было даже тени шанса, не имело значения. Но рассудок выливал на пылкое сердце ушат ледяной воды. Без насилия, увы, не обойтись. Никто не хочет зла мэтру. Так нужно, чтобы гарпия могла провести сеанс…
Но что значат доводы разума по сравнению с криком души?! Мало того, что хозяин не в себе, что он сошел с ума и угасает. Так в придачу его силой волокут на заклание страшной женщине-птице, притаившейся во тьме! У Абеля Кромштеля сегодня был трудный день. Его трясло, бросая то в жар, то в холодный пот. «Держись! – бормотал он. – Держись, без тебя мэтру не выплыть…» – и чудом, о котором позже не захочет писать в дневнике, сумел остаться на месте.
– Спасибо, господа. Сейчас я произведу захват. Потом… Не знаю, наверное, его можно будет отпустить. Если что, продолжайте держать. Просьба никому не двигаться.
С балкона сорвался серый вихрь.
* * *
Воронка тайфуна ревела разъяренной медведицей. Клыки молний норовили достать незваную гостью. Келена лавировала в опасно изгибающемся туннеле – ускоряя или замедляя падение, уворачиваясь от разрядов, шипящих с бессильной злобой. Топорщились перья, в волосах трещали искры, удары грома оглушали. Соринка попала в око урагана, и вихрь-исполин отчаянно моргал, пытаясь избавиться от инородного тела.
Обычно второй вход дается легче первого. Но только не в том случае, когда в психономе пробудился доминантный паразит. Судя по кризису Биннори, доминант был чрезвычайно силен. Войди Келена в психоном через уже проложенный тропос, паразит почуял бы ее слишком рано и не дал работать. Для прямой схватки она еще не готова.
Сперва надо поставить карантин и обзавестись сворой.
Миг падения тянулся, закручиваясь спиралью. Он хотел бы, да не мог длиться вечно. В последний раз воронка взвыла, томясь от разочарования, и выпустила несостоявшуюся добычу. Келена спикировала под взбудораженное небо психонома. Черными овцами по лугу неслись тучи. Внизу расстилался знакомый пейзаж, если не считать естественных изменений. Город, рождение которого она наблюдала в прошлый раз, разросся, заматерел. Часть окраин состарилась и просела – будто намеревалась вскорости уйти обратно под землю.
Пока человек жив, мир его души находится в состоянии творения. Что-то возникает, что-то исчезает, здесь проступает рельеф, там развоплощается призрак… Рождаются города и страны, моря и суша. Их заселяют люди и удивительные существа – преломление образов тех, с кем ты встречался в творящей жизни. Лишь после первой смерти создателя психоном обретает завершенность. Все, что не оформилось до конца, отмирает, прорехи затягиваются – судьба-белошвейка умело штопает дыры на погребальном саване.
В мир нисходит постоянство.
Это не так уж плохо. Костенеет лишь оболочка психонома. Горы не бродят с места на место, на небосклоне не вспыхивает третье солнце, океаны не мелеют, а земля не уходит под воду. Жизнь продолжается – для всех, включая самого создателя, сменившего жизнь творящую на жизнь творимую.
Келена набрала высоту. Ей необходима свора. Она стала вспоминать здешние якоря, где могут гнездиться мелкие паразиты. Из таких получаются отличные церберы. Радуга мерцала на горизонте, временами превращаясь в кляксу угольной черноты. Там – дворец. Ожог болевого воспоминания. Почуяв врага, доминант начал шарить по окрестностям в поисках конкурента – и мелочь забеспокоилась.
Вон как пульсирует!
Крылья несли гарпию к цели. Ветер продувал тело насквозь, одаривая веселой силой. Поток анемоса – «ветра жизни» – искал себе новые русла. Содрогаясь, дворец стремительно приближался. Его покидал – и никак не мог покинуть Биннори верхом на осле. Бедное животное стучало копытами, но распахнутые настежь ворота жевали дорогу, всасывая ее в голодное чрево здания.
Поэт оставался на месте.
Искрились арки из хрусталя. «Вернись!» – шептало эхо в глубине залов. Келена заложила восходящий вираж – и ринулась в разверстую пасть ворот. Навстречу захватчице взметнулись побеги ядовитого плюща. Но раньше когтей атакующей гарпии на дворец обрушился ее боевой клич. Пронзительный визг сверлом ввинчивался в мозг, ножами полосовал уши, рвал душу в клочья – пади ниц и закрой руками голову, ибо выдержать такое могли лишь закаленные бойцы.
Увы, во время Плотийских войн у людей нашлось достаточно закаленных бойцов.
Паразиты, жирующие на местном якоре, не имели мозга, ушей и души. На них боевой клич гарпии действовал иначе. Мрак смешался с хрусталем, плющ влился в радугу. Эта невозможная конструкция в мгновение ока затвердела, пошла трещинами и осыпалась серым, похожим на пепел, щебнем, обнажив паразитов в их истинном обличье.
Приземистый куст, чьи багровые ветви были усеяны моргающими глазами, опутал руины сетью корней-щупальцев. Корни мерзко шевелились; на них белели присоски, похожие на шляпки поганок… Нет, поняла гарпия, это не корни! Семителый червь извивался под кустом, мотая гроздью слепых голов. Скалились с угрозой слюнявые пасти, обнажая зубы-гвозди из синеватого металла.
Еще один паразит – огромные ножницы на лягушачьих лапах – таился позади куста, изготовясь к прыжку.
Все?
В последний миг Келена изменила направление атаки. Со свистом она пронеслась над глазастым кустом и обрушилась на ножницы, придавив их к земле. Не в силах прыгнуть, ножницы со скрежетом клацнули, опять раскрылись – и гарпия, вцепившись когтями в кольца паразита, мощно взмахнула крыльями, заставляя врага податься вперед. Лезвия щелкнули, рассекая пополам стволики куста.
Останки глазастого задергались. Ритм конвульсий говорил об агонии. Ножницы вырвались, развернулись, нацелясь остриями на гарпию, но Келена подпрыгнула и вновь обрушилась на паразита. Придавив одну половинку ножниц к земле, она изо всех сил рванула другую вверх. Отчаянно крякнув, сломался гвоздик. Ножницы распались, засучили жабьими конечностями. Умирая, паразит скукоживался, будто сохлый лист. Лезвия меняли твердость на хрупкость, чтобы в конце концов рассыпаться прахом.
Червя гарпия растоптала. Потом вырвала из земли настоящие корни куста, пытавшегося отрастить новые стволики. И отошла в сторону, не мешая восстановлению якоря.
Ждать пришлось недолго. Хрусталь стен и арок дворца, восстающего из праха, едва ли на высоту копья воспарил над грудами щебня, а к Келене уже неслись три новорожденных цербера. Дракончик-семиглавец, не больше двух локтей в холке, с преданностью глядел на хозяйку, блестя глазками-бусинками, и вилял чешуйчатым хвостом. Басовито гудел многолапый шершнель-гигант, наворачивая круги над гарпией. Мохнатое брюхо щетинилось иглами цвета запекшейся крови.
Третий цербер был саранчой с паучьими жвалами.
Паразита можно убить навсегда. Но Келена нуждалась в своре, чтобы обложить доминанта. Церберы из мелких паразитов выходят отменные: хваткие, бесстрашные. Сторожа, гончие, ярчуки. Для перерождения их всего лишь надо убить. Первая смерть, и они твои.
«Всего лишь…» – усмехнулась гарпия.
– Рядом! – велела она и взмыла в воздух.
Все церберы умели летать, стремясь приблизиться к облику хозяйки. Троица без колебаний последовала за Келеной. Ей пришлось снизить скорость полета, иначе малыши отстали бы. Им нужно время, чтобы окрепнуть.
Кружась над полем боя, гарпия смотрела вниз.
Путник на осле покидал негостеприимный дворец, топчась на месте. Он не уедет – и не вернется. Одно целое с якорем. Яркое воспоминание, татуировка на сердце – такое не выцветает с годами. Память Биннори удерживает его здесь надежнее цепей. Но что станет с мэтром Томасом, когда творящая жизнь поэта подойдет к концу? Когда психоном сделается единственным пристанищем изгнанника?
Уедет?
Вернется?
Келена не знала ответа.
Она полетела по дуге, намечая кольцо отчуждения вокруг окопавшегося в центре доминанта. По дороге гарпия искала якоря, требовавшие зачистки. В ущелье, наполненном стонами, свора пополнилась двумя церберами: хищной розой и змеей с головой старика. Замок над морем оказался чист – здесь паразитов не было. С фрегата, вечно тонущего в пучине, к ней присоединилась стая зубастых барракуд. Стаей обернулся полип-многоножка – его Келена разорвала в клочья.
Плавники рыб-церберов трепетали, создавая мерцающие ореолы.
Поток живительного анемоса изгибался, следуя за гарпией. Надо было закольцевать его, освободив от паразитов еще по меньшей мере три якоря. Лишь тогда доминант окажется в блокаде, отрезан сворой от всех источников пищи, кроме избранного вначале.
Холм в глубине леса, где сражались поэт и его визави, она миновала без боя. Слишком близко к логову доминанта. Не надо дразнить зверя. Да и чутье подсказывало: на холме паразитов нет. Якорь чист, как и замок над морем.
Дальше начались незнакомые места. Внимание привлекла кукольная деревенька, карамельная до тошноты. Едва Келена спикировала, разрушая боевым кличем маскировку, земля вспучилась, лопнула жирным бутоном – и в небо поднялся кашалот в чешуе из бритв. Блики, отсветы на стальных лезвиях – мыльный пузырь-гигант.
Лязгнули челюсти, способные перекусить матерого несвезлоха. Из спины ударил фонтан огня. Ливень искр упал на деревню. Домики вспыхнули, окутались клубами дыма. Помощь своры пришлась кстати. Келена справилась бы и сама, но тварь измотала бы гарпию до состояния мокрой тряпки. А так свора налетела на кашалота, вырывая куски из могучей туши, и гарпии осталось лишь добить паразита – выцарапав ему глаза, она по локоть вогнала руки в податливую, дряблую плоть.
Часть барракуд погибла в драке. Пострадали шершнель и змея-старик. Зато к своре в итоге присоединился ковер-самолет, сотканный из жгучей крапивы.
– За мной!
Гряда заснеженных пиков упирается в небеса. В облаках пыли кишат муравьи с жалами ос. Долина анемонов с бездонной пропастью на краю. Реки текут кровью и золотом. Города сверкают изумрудами и расплавленной бирюзой. Башни из слоновой кости возвышаются в пустыне…
– Вперед!
Келена летела, сражалась и снова летела. Она смертельно устала. Крылья отказывались держать гарпию. Тело налилось свинцом. Женщину-птицу тянуло к земле – рухнуть, забыться, уснуть вечным сном.
– За мной!
Наконец впереди замаячил дворец с бардом-изгнанником. Карантин установлен. Поток анемоса тихо гудел, замкнувшись в кольцо.
– Охранять!
Неутомимые церберы умчались по маршруту, проложенному хозяйкой. Свору питал анемос родного – теперь это была их родина! – психонома. Не зная усталости, они будут кружить по кольцу отчуждения, пока гарпия не призовет их для решающей битвы.
Из последних сил Келена поднялась выше. Она хотела увидеть результаты своих трудов. Карантин обозначало кольцо молочно-белого тумана, который отсекал берлогу паразита от мира души Томаса Биннори. В центре кольца психоном вспучивался, подобно нарыву вокруг занозы, глубоко вошедшей в тело.
Нарыву надо дать созреть.
Тогда придет очередь ланцета.
– Вам плохо, сударыня? Вам помочь?
– Со мной все в порядке.
Плясали свечи шандалов. Плясало кресло с пациентом. Плясали слуга, доцент Кручек, капитан Штернблад, псоглавец… В иной раз это было бы смешно. Спасибо жесткому хвосту – без опоры гарпия наверняка упала бы.
Упасть не с небес, а просто так.
Вот потеха…
– Мне нужен отдых.
– Проводить вас до дома? Мы можем вас отнести, если пожелаете.
– Благодарю за заботу, – Келена вымученно улыбнулась. Она не сомневалась, что в случае необходимости маленький капитан отнесет ее хоть на край света. – Я долечу. Тут недалеко. Как себя чувствует пациент?
– Он спит!.. – трагическим шепотом сообщил слуга. – Но во время сеанса мэтр приходил в себя. Просил есть. Я принес бульона с тефтельками… Сударыня… госпожа моя… Храни вас Вечный Странник! Вы посланы нам судьбой…
– Вы меня смущаете. Не спешите с благодарностями. Возможно, настанет день, и вы поспешите с проклятиями. Самое трудное – впереди. Доброй ночи, господа!
Хорошо, что лететь и вправду близко, подумала гарпия. Спасибо предприимчивой девчонке. Надеюсь, я поставила ее брату славный якорек.
* * *
Прикрыв чайник крышечкой, Мартин Гоффер погрозил ему пальцем:
«Смотри у меня!»
Дурацкий жест и суровое выражение лица были частью давнего ритуала. Пять лет назад он подарил учителю этот чайник. Нарочито грубая керамика отлично держала тепло. А бока украшал двуцветный барельеф: горы в дымке, над вершинами парят драконы.
Учитель обрадовался подарку. Окрыленный, Мартин тут же взялся заварить в нем любимую смесь: черный баданденский «Золотник», красный ла-лангский «Туманы Йенг-Пу» и чуть-чуть сушеных ягод ежевельника. Он очень старался, дотошно соблюдая все тонкости. Взмок, устал, выложился целиком, без остатка…
В итоге получилась полная дрянь.
Горький, прелый, напиток отдавал грибами-нетопырниками. Учитель отнесся к неудаче философски, но Мартин расстроился всерьез. На следующий день, строго погрозив чайнику пальцем, он предпринял новую попытку. И – о чудо! – чай удался на славу! С тех пор Гоффер исполнял ритуал всякий раз, и конфузов не случалось. Позже он выяснил, что анхуэзская керамика обладает интересным свойством: ее следует наполнить кипятком, выдержать три минуты, жидкость слить, чайник прополоскать – и лишь затем использовать по назначению. Все объяснилось вполне прозаично, но от ритуала он отказаться не пожелал.
История – дама экстравагантная. Этого окликнет, с тем заговорит. Одного отпустит, другого схватит за рукав. А бывает, взбрыкнет почище норовистой кобылы – и выволочет на свет совсем уж неожиданного персонажа: нате-здрасте, любите-жалуйте!
Вот, к примеру, Мартин Гоффер. Кто такой? Откуда взялся? Вечный ученик? Помощник, ключник, секретарь? Небесталанен, сам мог бы школу открыть? Но не в силах покинуть дом обожаемого кумира? Повода для сплетен их совместное проживание не дало – кому жить-то надоело?
Ну, и при чем тут наша история?
Просто тишайший Абель Кромштель при поэте Биннори, и серьезный Мартин Гоффер при капитане Штернбладе – два сапога пара. Редкие сапоги, не на всякую ногу.
Завидуйте.
– Достаточно, – голос капитана вывел Мартина из медитации. – Уже настоялся.
Гоффер кивнул, снял с полки две чашки, покрытые черным лаком, налил в одну из них чая, придирчиво оценил цвет напитка, понюхал – и вылил обратно в заварник. Повторив процедуру трижды, он наконец наполнил чашку до середины и с поклоном передал ее капитану.
Капитан вздохнул и в ответ налил чаю Мартину. Иначе, пожалуй, этот человек не осмелился бы. Орудовать шпагой или секирой – это пожалуйста. Бить кулаком, локтем или коленом – сколько угодно, и без промаха. В одиночку, солидно и обстоятельно, как Гоффер делал любое дело, разогнать толпу погромщиков во время Латунного бунта – запросто, и беги, кто успел. А чайку с нами попить – стесняется…
Он был бы рад иметь такого сына, как Мартин. А имел такого, какого заслужил. Если ты женишься с одной целью – доставить удовольствие отцу и продолжить род; если ты без колебаний бросаешь жену на сносях, сбегая на далекий остров Гаджамад – променять семейный кров на острие меча; если ты и сейчас не уверен, что выбрал бы иначе, дай судьба шанс переиграть жизнь заново…
Проклятые «если», подумал Штернблад. Враги, с которыми мне не справиться. За всю жизнь я один раз обратился с просьбой к собственному сыну. С мелкой просьбой. Не лично – письмом. И до сих пор не знаю, согласился бы он, или нет – удача распорядилась так, что просьба исчерпала себя на полпути. Я никогда не видел свою сноху: сын не хочет. Я не видел своего внука: сперва возражал сын, теперь, войдя в возраст – отказывается внук. Овал Небес, я мог бы их заставить силой! Но тогда я потерял бы последнее, что у нас осталось.
Мне завидуют: как же, капитан лейб-стражи! Друг короля! – а я старею, размышляя: «Метнув то, давнее копье выбора – попал я в цель? Или промахнулся без надежды повторить бросок?..»
– Неприятности, учитель?
За долгие годы Мартин научился определять настроение капитана по едва заметным мелочам. Так коллекционер древностей берет черепок, а видит канувшую в бездну лет чудесную амфору.
– Ерунда, – капитан неопределенно помахал чашкой в воздухе. Кто другой расплескал бы весь чай на собеседника. У Неистового Руди не пролилось ни капли. – Пришлось побегать по городу. Утомили меня наши ревнители.
Не в силах разделить скрытые терзания кумира, Мартин хорошо понимал, о каких «ревнителях» идет речь. Помочь же, кроме сочувствия, он ничем не мог. Пару лет назад Рудольф Штернблад подал на высочайшее рассмотрение прожект с помпезным названием:
«О привлечении миксантропов, кои есть верноподданные короны, на службу к вящей пользе и славе государства Реттийского».
До сих пор участие капитана в делах королевства ограничивалось добросовестной охраной августейшей особы. Лейб-малефактор оберегал короля от магических злоумышлений, лейб-дегустатор – от яда, лейб-фаворитки – от разочарований в делах амурных; рота лейб-стражи во главе со Штернбладом – от кинжалов, стрел и копий. С задачей своей капитан справлялся отлично, за что снискал благосклонность его величества и зависть придворных. Однако в злободневном прожектерстве он замечен не был.
Все когда-то случается в первый раз, философски подумал Мартин. Потеря девственности, блин комом, советы королям. Наверное, я виноват. Это Гоффер придумал название прожекту – и корил себя за витиеватость. Зовись прожект проще, его величество бы сразу…
Впрочем, Эдвард II оценил прожект, как «своевременный». Король похвалил капитана «за державное мышление» и дал распоряжение подготовить соответствующий указ. После чего счел вопрос решенным и благополучно о нем забыл.
Канцелярия, где сидели известные труженики, кинулась исполнять монаршью волю. Со всех ног кинулась, просто из штанов выпрыгивала – капитан ждал месяц, полгода, год… Наконец терпение у него лопнуло. Он явился в канцелярию и поставил вопрос ребром. Вопрос постоял, качаясь – и покатился.
– Прожект? – спросили у капитана. – Какой прожект?
Сдержав гнев, Штернблад кратко, по-военному, изложил суть.
– Ну да, конечно! – просияли канцелярмейстеры, похожие на живчиков-солитёров, и нырнули в каталожные ящики. – Входящий номер 1374/126-бис. Не извольте беспокоиться!
Мрачный взгляд капитана не произвел на паразитов никакого впечатления. Испортить им настроение не смог бы и демон, явись инфернал за справкой. Разные являлись. Канцелярия – не геенна, тут не очень-то развоюешься.
– Его величество распорядился…
– Разумеется! Все силы брошены!
– Когда будет готов указ?
– Как только, так сразу! Идет перепись контингента. Определение областей целевого использования согласно расовым особенностям. Учет потребности армии и служб. Опрос населения. Схема распределения по регионам. Предстоит большая работа. Но, уверяем вас, наше ведомство с ней справится!
– Когда?!
– Зайдите через месяц. Мы предоставим вам коэффициенты расчета квот согласно численности и плодовитости…
Очень хотелось завязать солитёра узлом и посмотреть, как мерзавец станет развязываться. Но Руди сдержался. Имей его прожект первоочередную важность, стоило бы подать «жалобный рапорт». А так – без толку. Все при деле, работа кипит.
Глядишь, лет через десять выкипит!
В итоге капитан решил действовать проверенными методами. Указ – указом, а хочешь что-то сделать – делай сам.
Хомобестии служили Реттийской короне и раньше. Эскадрон гусар-китоврасов отлично показал себя в ряде пограничных стычек. Псоглавцы сотрудничали с Бдительным Приказом, выслеживая преступников – успешно, хотя и с большой неохотой. Роль ищеек претила их гордому племени. Отряд русалок на рейде Порт-Фаланда пустил на дно треть пиратской эскадры, спасая осажденный город. Гривастых леонидов кое-где зачислили в ландсвер, и вокруг сразу воцарилась тишь, да гладь, да Ползучая Благодать.
Однако эти случаи являлись исключениями из правила. К сотрудничеству миксантропов привлекали в провинции, по инициативе местных властей. А наглядный пример, по замыслу Штернблада, был необходим в столице. Чтоб маячил у всех на глазах, приучая: держава видит в каждом подданном человеческое, а не звериное начало, чего и вам желает.
Поначалу капитан хотел заполучить леонида. Лучше – двух. В почетном карауле люди-львы – в парадных мундирах, а?! – смотрелись бы неотразимо! Любой монарх, приехав в гости, обзавидуется. Да и боеспособность у леонидов на высоте.
Для службы в лейб-страже требовались абсолютно надежные кандидаты. Пока шла проверка леонидов из ландсвера, Штернблад почесал в затылке и выписал патент на имя Доминго, сына Ворчака. С псоглавцем он был знаком, видел его в деле и мог за Доминго поручиться.
Надо же с чего-то начинать!
Болезнь Томаса Биннори, любимца короля, натолкнула его еще на одну мысль. Когда лекари и маги-медикусы оказались бессильны, именно капитан дал Эдварду II совет обратиться к «альтернативному специалисту». Он не зря изучал таланты миксантропов. Если гарпии удастся вылечить барда…
Замысел ни шатко ни валко претворялся в жизнь. Вот только ревнители «прав человека» досаждали. При любом удобном случае они вставляли капитану палки в колеса. Виданное ли дело – хомобестия во дворце? Это вам не зверинец! Что? Не тварь дикая? Имеет право? Ну и пусть имеет, на здоровье. Где-нибудь подальше, в резервации.
Столица – для людей!
«Хоть кол им на голове теши! – недоумевал капитан, готовый начать тесать колы на дубовых головах. – Неужели бездельники опасаются, что миксантропы потеснят их с насиженных местечек? Точно, зверинец…»
– Старею, что ли? – вслух произнес Штернблад. – Устаю, брюзжу… Мне что, больше всех надо? Новое требует уймы усилий – или неожиданного подхода. Пахать, как вол; ужалить, как змея. Понимаешь, Мартин?
– Да, учитель. Но ведь вы в этом мастер!
– В чем я мастер? В интригах? В борьбе под ковром? В политике? Нет, дружок, в таком бою я банален и предсказуем. В сущности, мы с тобой оба такие. Двое вояк беседуют за чашкой чая – что может быть банальнее?
Мартин хотел возразить. Он уже открыл рот для страстного монолога – и вдруг замер, прислушиваясь. Нет, не почудилось. Внизу кто-то настойчиво барабанил в калитку.
– Пойду, погляжу, кто там.
Капитан кивнул, и Гоффер тенью выскользнул за дверь. Вернулся он в сопровождении Доминго, сына Ворчака. Псоглавец хромал. Шерсть на нем стояла дыбом. Один глаз заплыл, второй налился кровью, грозя вылезти из орбиты. Мундир, равно как форменный плащ, недавно полученный из портняжной мастерской, был изодран. Правый рукав держался на честном слове, верхние пуговицы кто-то вырвал с мясом.
– Пр-ростите, капитан. Подр-р-рался.
– Дуэль?
– Нет. Р-разбой.
– Кто?
– Не знаю. Сильный пр-ротивник.
– Ты его порвал?
– Я его пор-рвал, – в рыке Доминго клокотала гордость.
– Насмерть?
Псоглавец замялся.
– Не знаю. Др-рянь! Мундир-р-р испор-ртил! А мне в кар-раул…
Через два часа Доминго заступал на свое первое дежурство – в Гранд-Люпене, у дверей королевской опочивальни. К счастью, Эдвард II еще днем укатил в загородную резиденцию, где и остался на ночь. Но караул у главной спальни его величества обязан сменяться по расписанию.
– Я распоряжусь, чтоб тебя заменили.
– Нет, капитан. Это мое дежур-рство. Мне нужен мундир-р.
– Хорошо. Мартин, седлай лошадей. Мы едем в казармы. Любой почтет за честь одолжить Доминго мундир и плащ.
«В моем присутствии», – мысленно добавил Штернблад. Он не сомневался в добром расположении своих головорезов, увидевших рядом с псоглавцем любимого капитана.
Caput X
Вознаградим поэта за труды,
Пусть купит, бедный, хлеба и воды,
А больше ни гроша ему, мерзавцу –
У горькой жизни сладкие плоды!
Томас Биннори– Итак, универсальные методики накопления маны…
Студенты зашушукались, косясь на бакалавров, приглашенных для демонстрации. Кручек не стал делать замечаний. Пусть молодежь расслабится, почувствует себя в привычной тарелке. Иначе практикум не даст ощутимых результатов.
– Первый способ, на котором я хочу заострить ваше внимание – пляска ноометров. Магов этой специализации еще называют гармониками. Их профиль – взаимосвязь природы и Высокой Науки, единство и конфликт «искусственного» и «естественного». Прошу вас…
На середину двора вышел стройный, изящно сложенный бакалавр. Легкая желтизна кожи, припухшие веки, разрез глаз – все выдавало в нем уроженца Турристана. Неудивительно – учение ноометров зародилось именно там, в вечном противоречии солончаков и виноградников, усилиями мудреца аль-Тейяра Шаррадена. Надев на голову колпак из войлока, похожий формой на могильный обелиск, бакалавр опустил руки – те повисли плетьми – и замер, словно окаменел.
– Перед началом демонстрации вы должны считать мана-фактуру объекта…
Большинство группы умело считывать мана-фактуру – третью «кисею», помимо ауры и умбры – еще до поступления в университет. Все, кто прошел личное обучение у наставника, быстро освоили этот несложный навык. Другое дело, что считывали они поверхностно, не углубляясь в нюансы.
Но для первого знакомства хватило бы и беглого взгляда.
Остальные за два-три занятия освоили базовые приемы и не слишком отставали от более опытных сокурсников. Кручек боялся лишь за гарпию, и, как выяснилось, зря. Процесс не требовал существенных затрат маны – тысячные доли декасингеля, ерунда. Среднего уровня Келене хватало с лихвой. Зато у гарпии были и явные преимущества. Считывание мана-фактуры переводит зрение в так называемый «птичий сектор». Монокулярность, когда объект в каждый момент времени виден лишь одним глазом; невероятная четкость изображения, постоянный фокус, не зависящий от расстояния…
Юношей Матиас Кручек долго привыкал к нечеловеческому видению. Ломило затылок, текли слезы. Нападала «вертишейка» – он вертел головой, словно его глаза и впрямь были плотно закреплены в глазницах. А гарпия воспринимала «птичий сектор», как родной.
Впору позавидовать.
– Следим за танцем…
Бакалавр сбросил на землю черный плащ. Оставшись в просторных белых одеждах, ловко переступая ногами, он начал кружение. Голова запрокинулась назад, руки раскинулись в стороны: правая ладонь – к небу, левая – к земле. Он оставался на месте и крутился волчком, ускоряясь.
Марыся Альварес украдкой отвернулась – ее затошнило.
– Смотреть! – велел доцент, от которого не укрылось движение студентки. – Следить за потоками маны! То, что вы видите, называется Пряжей Стихий. Методика разработана Абдуром аль-Руа из Сарбона…
Преодолевая тошноту, Марыся вгляделась – и ахнула. Природная мана закручивалась куделью вокруг танцора. Из кудели вытягивались суровые, мышиного цвета волокна. Светлея, будто их прихватило морозцем ядреного зимнего утра, они наматывались на бакалавра, как на веретено. Затем в резервуарах маносбора начиналась перемотка на многочисленные мотовила.
Мана-фактура танцора напоминала целую толпу неистово крутящихся плясунов – экстаз, забвение, утрата рассудка.
– Запоминайте систему счета. Три нити собранной маны – чисменка. Двадцать чисменок – одно пасмо пряжи. Девять пасм – мот. Если мот чистый, его можно протянуть через серебряное кольцо и хранить вне мага. Одно из явных преимуществ способа. После занятия посмотрите в учебнике, сколько это будет в сингелях по шкале Кирхмайера…
Марыся вздохнула: чудесный способ, но не для нас. Разве что на голодный желудок…
– Достаточно. Благодарю вас.
Бакалавр прекратил вращение, подобрал с земли плащ и накинул на плечи. Он даже не вспотел – лицо оставалось сухим. Дождавшись, пока Кручек проведет блиц-опрос и убедится, что все оценили метод по достоинству, танцор вернулся на прежнее место.
– Второй способ – Великая Безделица. Мастер Андреа, не откажите…
Андреа Мускулюс встал перед студентами. Малефик сам вызвался служить объектом демонстрации. Ну, не вполне сам – доцент вчера долго жаловался, что для Великой Безделицы у него нет подходящего бакалавра, а те, кто есть – мелочь пузатая… Тут опомниться не успеешь, как предложишь свои услуги. Ладно, долг платежом красен. Устроим лабораторку по сглазу, пригласим доцента в объекты.
Пусть только попробует отказаться!
– Методика разработана Нихоном Седовласцем. Помимо таланта к Высокой Науке, знаменитый маг был человеком монументального сложения…
Раздевшись до пояса, Андреа с удовольствием поиграл мышцами. Наградой ему служил восторг женской половины группы и хмурая зависть мужчин. Великая Безделица, подумал малефик, это вам не флюгером вертеться. Это серьезно. Это солидно. Опять же, если дар откажет, можно носильщиком портшезов устроиться.
– …результат налицо: великолепная мускулатура, развитые плечи…
Марыся строила глазки могучему демонстранту. Хором фыркнули Клод и Хулио – тоже нам, богатырь Аникей! Сила есть, ума… э-э… В целом, хорошо, когда сила есть. А еще лучше, если ты вовремя вспомнил, что этот здоровила – вредитель высшей квалификации. И тебе придется ему зачет сдавать.
Давай, Марыська. Авось зачтется.
– Начинайте, мастер Андреа…
Упершись лбом в собственную ладонь, а вторую руку заведя за спину, к пояснице, малефик наклонился вперед. Студенты ахали и охали, глядя, как у демонстранта вздрагивают по очереди отдельные мышцы. Левая грудь превратилась в камень – и обмякла. Настал черед правой. Эротично задали ритм ягодицы. Живот превратился в рельефный панцирь, чтобы сразу утратить форму. Бицепсы и трицепсы плясали джигу, уступая друг другу место на сцене.
По телу бродила дрожь, оставляя за собой области «гусиной кожи». В глубине, под пупырышками, в мышцах копилась мана – молочно-белые волоконца, переложенные красной «склейкой».
– Главная трудность методики Нихона – избавление от усталости. После «Великой Безделицы» маг делается бодрее, чем был раньше. В идеале упражнения выполняются лежа, лучше – на диване или в гамаке. Мастер Андреа, спасибо. Скажите, вы уже освоили лежачий вариант?
– Да, – с гордостью отозвался малефик. – И диван, и гамак.
Все имели возможность убедиться, что дыхание его осталось спокойным. Марыся подумала кое о чем, и вздохнула так, что юному Яцеку, сидевшему рядом, кровь бросилась в лицо.
– Можно вопрос? – подняла она руку.
– Спрашивайте.
– Скажите, а у девушек… Ну, я имею в виду метод…
– Не стесняйтесь. Здесь все свои.
– Мне очень понравилась методика. Но я не хотела бы…
– Превратиться в силача? – Кручек правильно понял суть вопроса. Это спрашивали на каждом курсе. – Не волнуйтесь, сударыня. У чародеек «Великая Безделица» при верном исполнении лишь повышает женственность. Впрочем, если вы хотите сохранить излишки жира…
– В каком смысле: сохранить? – обиделась Марыся.
– В широком смысле. Каноны красоты у всех разные. В Верхнем Йо, например, предпочитают обильных женщин. Горцы полагают, что жена должна согревать мужа зимой. Но мы отвлеклись. Мастер Андреа, вы свободны. Уверен, с годами вы достигнете атлетического уровня вашего наставника, Просперо Кольрауна. Впрочем, не только атлетического…
Смущенный, малефик отвесил поклон и стал одеваться. Сравнение с боевым магом трона привело его в замешательство. Он не знал, комплимент это, или теоретик действительно так полагает. Не хватало еще зардеться, как девица на выданьи, в присутствии группы…
– Методику гееннического займа, которой пользуются некроманты, мы рассмотрим в другой раз…
– Отчего же? Я готова принять участие в демонстрации.
Возле клена, чья шевелюра рдела первым багрянцем, стояла Наама Мускулюс. «Бабье лето» дарило теплом, и доцент собрал группу на свежем воздухе, во дворе университета. Явление Сестры-Могильщицы осталось незамеченным – пользуясь вниманием, прикованным к ее супругу, красавица змеей выскользнула из дверей черного хода.
– Номочка? Я думал, ты дома…
Влип в историю, понял Андреа. Вряд ли Номочке понравится, что муженек голышом щеголяет перед молоденькими студенточками. Малефик не знал, что в историю он влип давно – еще на консилиуме по вопросу душевного здравия Биннори. А может, и раньше, в миг рождения. Истории ревнивы, они следят за своими участниками так, как не снилось и самой строгой жене.
Хотя кто знает, что снится ночами Сестре-Могильщице?
– Доброе утро, дорогой. Рада, что ты в чудесной форме. Ох, девочки, – Наама перекинула косу через плечо и подмигнула капитанской дочке, – за нашими орлами нужен присмотр! Не успеешь оглянуться, а он на кого-то глаз положил…
Вспомнив специализацию мужа, некромантка поспешила замять тему.
– Итак, методика займа. Повторять без контроля специалиста не советую. А показать – покажу. Сначала укусите себя за палец…
Подавая пример, Наама впилась зубками в указательный палец. Группа дружно вскрикнула, когда из пальца потекла кровь. Три-четыре капли упали на лист бумаги, оброненный кем-то до начала занятий. В воздухе запахло кислой медью. Кровь прожгла бумагу, быстро впитываясь в землю.
Миг, и навстречу из почвы встал красный мак.
Бумага горела вокруг стебля маленьким костром. Лепестки покачивались от дуновения ветра, словно желали превратиться в языки пламени. Черная сердцевина клубилась в венчике, образуя неприятный, шевелящийся сгусток тьмы.
– Прошу всех, кроме меня, молчать, – предупредила Наама. – Звук вашего голоса могут воспринять, как обращение. Занимать – легко, отдавать – трудно. Если в дальнейшем кто-то из вас изберет некромантуру, я подсказажу специалиста по данной методике.
Она присела на корточки, тронула мак ладонью – и резко сжала пальцы, сминая цветок. Сквозь кожу, суставы и сухожилия наружу рванулись лепестки – чистое пламя, без экивоков. Ладонь Наамы горела, обугливаясь и чернея. Казалось, огонь сейчас лизнет пушистый кончик косы, охватит голову некромантки, шалью упадет на хрупкие плечи…
– При достаточном опыте привыкаешь, – со спокойствием, от которого у студентов захватило дух, сказала Наама. – А уж если прошел горнило Чуриха… Мастер Матиас, я завершаю процесс займа. Показать, как отдают долги?
– Спасибо, не надо, – ответил Кручек. – У нас для этого есть отдельное занятие во втором семестре. Если вы согласитесь прийти, я буду рад.
– Предупредите заранее…
Мак сгинул, огонь погас. Ладонью, белой и чистой, Наама помахала в воздухе – некромантка напоминала кузнеца, остужающего раскаленный клинок. Прелестное личико выражало удовлетворение. Демонстрации такого рода очень способствуют повышению нравственности в семье. Когда муж преподает – особенно. Всякие цыпочки, у кого одна заслуга – молодость, трижды подумают, прежде чем встать между львицей и ее добычей.
Ну хорошо, между львицей и ее львом.
Так приятней, дорогой?
– На сегодня достаточно. Теперь вы разобьетесь на подгруппы и под руководством бакалавров, а также мастера Андреа, освоите азы первых двух методик. Общие принципы, действия, накопление…
– Можно вопрос?
Кручек задрал голову. Спрашивала гарпия – все занятие Келена просидела на ветке клена, наблюдая за демонстрантами. Она будто срослась с деревом. Даже Наама, чуткая к мелочам, не обратила на гарпию внимания.
– Спрашивайте.
– Я хочу, чтобы мне разрешили осваивать базовые методики в родной стихии.
– А что, кто-то возражает? – удивился доцент.
Вместо объяснений гарпия расправила крылья и рукой, освободившейся из-под пернатой «накидки», указала в небо. Синий купол был испачкан белилами. На западе, со стороны порта, надвигалась серая мгла – темнея, она клубилась, словно у туч вот-вот должен был начаться период течки. Дракон, выбираясь из пещеры, грозил пожрать «бабье лето». С тревогой шелестели кроны деревьев. Птицы спешили укрыться, одни ласточки стригли воздух, мелькая раздвоенными хвостами.
Над морем собиралась буря.
Капитаны прятали суда в гаванях, вставая на якоря под защитой природных бастионов – здесь ветер не так свирепствовал. Матросы суетились, снимая паруса и рангоуты. Казалось, муравьи облепили ореховые скорлупки, карабкаясь туда-сюда. Из «Гранита наук» спешили уйти последние клиенты. Обедать лучше под крышей, или в уютном подвальчике…
Впрочем, буря могла пройти стороной. Кручек скверно предсказывал погоду, но Марыся Альварес вела себя с отменным равнодушием. Доцент доверял чутью ученицы заклинателя ветров. Вертихвостка, но свое дело знает. Да и гарпия в небо просится…
– Вас не смущает ветер?
– Нет.
– Отправить с вами бакалавра?
Кручек посмотрел на турристанца, и тот кивнул: мол, зачет по левитации я сдал. Зато Андреа Мускулюс отчаянно замотал головой. Малефик не боялся ничего, кроме жены и высоты.
– Это лишнее. Потом я спущусь, и мне укажут на ошибки.
– Хорошо. Приступайте.
* * *
Проводив гарпию взглядом, Кручек вернулся к группе. Студенты успели распределиться по интересам. Пятнадцать человек, включая, как ни странно, Марысю, отошли к турристанцу. Остальных отвел к забору малефик. Там он заставил первокурсников упереться в забор лбами – и пошел вдоль ряда спин, ладонью похлопывая в разных местах и разъясняя, как напрягать отдельные мышцы, не испытывая усталости.
Девиц он вместо ладони тыкал прутиком.
– Не отклячивай задницу! – донеслось до Кручека. – Простите, сударыня! Я хотел сказать: уберите прогиб в пояснице… Как вас зовут, сударь? Хулио, мало каши ел…
Ученики бакалавра заняли куда больше места, чем птенцы Мускулюса. Танец – это вам не забор подпирать. Турристанец раздал всем колпаки, показал медленное кружение – и студенты начали упражнение, стараясь не обронить колпак с головы. Раскинув руки, вертясь, кто во что горазд, они слушали замечания бакалавра. Тот ходил между первокурсниками, словно по широкому проспекту – казалось, лишь чудом можно не задеть плясунов, и это чудо во власти бакалавра.
– Что мешает плохому танцору? Правильно, отсутствие чувства ритма…
Кручек отошел в сторону и присел на лавочку. Вмешательства не требовалось. Первое знакомство – поверхностное. Потом начнутся практикумы, молодежь втянется, поймет, чего от них хотят… Вспомнив про гарпию, он задрал голову вверх. Келена кружила над двором. Раскинув крылья, держа голову в положении, не слишком естественном для птицы, она парила в вышине, и ласточки шарахались от гарпии прочь.
Колпак, понял доцент. Она удерживает на голове воображаемый колпак. Отлично. Теперь раскинуть руки… Сообразив, какую глупость сморозил, он тихо засмеялся. Или руки, или крылья. Одно исключает другое.
– Обратите внимание, мастер…
Рядом с лавочкой стоял бакалавр. Оставив подопечных, увлеченных новыми ощущениями, турристанец тоже наблюдал за гарпией.
– Она нашла способ верно расположить руки. Ладони перед грудью, правая обращена вверх, левая – вниз. Размах не нужен. Крылья вполне обеспечивают область захвата маны. Вы считали ее мана-фактуру? Для меня это слишком далеко…
– Сейчас…
Доцент перевел зрение в «птичий сектор». Расстояние его не смущало. Ага, накопление имеет место. Веретенца крутятся, пряжа мотается. Считывая мана-фактуру демонстрантов, гарпия потратила 0,012 декасингеля. Две трети затрат она уже компенсировала. Еще десять кругов, и она восстановится полностью. Другое дело, что это – слезы, а не восстановление. Выше среднего уровня ей все равно не подняться. Естественный предел миксантропа не позволит. Выражаясь образно, взлетела, но не к звездам.
Хотя процесс налицо.
– Все в порядке. У нее получается.
– Я так и думал.
– С «Великой Безделицей» будет сложнее.
– Парение?
– Не знаю…
Внезапный порыв ветра ударил его по лицу. Резко похолодало. Захлопали шторы в открытых окнах здания. Все, кто был в аудиториях и коридорах университета, кинулись закрывать створки. Клацнули запорные щеколды. Первокурсники бросили кружиться, отлипли от забора – и с вопросом уставились на доцента. К счастью, вопрос разрешился сам собой – на звоннице ударил колокол, объявив начало большой перемены.
– Все свободны!
Народ хлынул под крышу. Кручек замахал руками, пытаясь привлечь внимание гарпии, и случайно заметил на четвертом этаже, со стороны учебного бестиария, окно, которое осталось распахнутым. Опершись о подоконник, закутав плечи мантильей, в окне пустой аудитории маячила Исидора Горгауз.
Сперва он не понял, что делает Горгулья. А когда понял – сердце ухнуло в жаркую, свистящую пропасть. Этика преподавателя, честь и совесть, закон и мораль – профессор Горгауз была сейчас далека от таких пустяков. Словно дед, погибший давным-давно от «похищения души», восстал из гроба, заполнив внучку целиком, как клинок – ножны. Ничего не осталось для Горгульи, кроме неба, где маячила проклятая гарпия, и туч над морем.
Исидора звала бурю.
Первым побуждением Кручека было кинуться наверх. Прекратить, остановить; не позволить. Но он знал: не успеет. Слишком далеко. Левитировать? – он давно не летал, и боялся, что на подъем уйдет еще больше времени, чем на беготню. Да и смех один – кашалот в сюртуке поднимается в небо, грозя кулаком профессору Горгауз. Начать бороться за погоду? – он мало что смыслит в ветрах. Исидора – бранный маг в отставке, их учили бить ураганами… Закричать отсюда? – нельзя. Начнутся сплетни. Не избежать выговора от ректора – насчет Горгульи еще доказать надо, а его вопли каждый услышит…
«Ничего не докажу. Ничего. Воздействия такого характера не оставляют следов. Остаточные эманации чар рассасываются в природном явлении. Вигилы Тихого Трибунала не найдут доказательств. А в аудитории никого нет. Она одна. И во дворе никого нет. Я один. Ничего не докажу: мое слово против ее слова…»
От бессилия в животе таяла мерзкая ледышка.
С визгом крутанулся флюгер на крыше двухэтажного флигеля. Смерчики пыли заплясали по двору, подражая танцору-бакалавру. Ветер уперся лбом в забор, играя мышцами. На миг выглянуло куратор-солнце. Горсть желтого огня выплеснулась на университет, заиграла в витражах. Мир замер в шатком равновесии.
Что-то произошло. Кручек не знал, что именно.
Плетя зовущую паутину, Исидора сбилась. Скверное зрение не позволяло доценту увидеть подробности, но он не сомневался – кровь бросилась Горгулье в лицо. Воображение живо подсказало: раздуваются ноздри тонкого, орлиного носа, на скулах выступил злой румянец. В глазах, на игольном острие зрачков, пляшут легионы бесов…
Куратор почуяла врага.
Направление ветра изменилось. В небе наметился просвет; тучи, сталкиваясь, топтались над кромкой берега. Овцы потеряли вожака. Сейчас пастух щелкнет бичом, гоня отару на другое пастбище… Гарпия по-прежнему кружила в поднебесьи, не подозревая об угрозе. Ее слишком увлекло накопление маны, догадался Кручек.
Он наскоро оглядел двор – и увидел Марысю Альварес.
Капитанская дочка стояла под кленом. В руке она держала сорванную ветвь, которой обмахивалась на манер веера. Повинуясь движениям ученицы Суховея, буря топталась на месте. Миловидная простушка, Марыся внезапно исполнилась грозной, убийственной красоты. Что-то от гарпии, от Келены-Темной, объявилось в девушке. Губы шевелились, бормоча заклятия – по чаровому отпечатку доцент видел, как трудно дается Марысе противоборство с Горгульей…
Две силы сцепились в небе. Гарпия беспечно парила над двором, не замечая, не зная, не подозревая. «Садись! – хотел заорать Кручек. – Спускайся, дура!»
Но гарпия не услышала бы его.
Исидора наклонилась вперед, едва не выпав из окна. По уму, Горгулье стоило бы прекратить преступные действия и оставить аудиторию. Два свидетеля – это серьезно. Пусть Марыся – юная первокурсница, но слово ученицы заклинателя ветров прозвучит весомо. А если его подкрепит свидетельство Матиаса Кручека…
Мы в состоянии засадить Исидору в «Очарование», сообразил доцент. Проклятье, неужели она сама не понимает, как близка к тюрьме? Или к гибельному интересу блокаторов Надзора Семерых? – злоупотребление магией в чистом виде! Она сошла с ума со своей ненавистью…
Хрустнув, сломалась ветка в руках девушки. Редкие листья рассыпались у ног – багряные пятерни, ладошки в запекшейся крови. Забыв обо всем, Марыся схватилась за горло – петля-удавка остановила чтение заклятий. Девушка медленно опустилась на колени. Если ветрами она еще могла управлять вопреки воле Горгульи…
Противостояние с бранным магом было выше ее сил.
И когда буря, сорвавшись с цепи, ринулась на город – Матиас Кручек плюнул на солидность, вспомнил молодость и взлетел комодом, запущенным из катапульты, целясь в окно с профессором Горгауз.
* * *
Он едва не вынес оконную раму.
От возбуждения Кручек перенасытил маной вектор Люфта-Гонзалеса – скорость подъема эхом отдалась в пояснице. Завтра не разогнемся. В наши-то годы… Он зацепился за щеколду, порвал сюртук; больно ударился коленями о подоконник. Со стороны могло показаться, что доцент спасается от разгула стихий. За его спиной на город упала стена ливня. Ветры сошли с ума: от их объятий стонали деревья. Гудела черепица крыш. Гремели жестяные вывески, срываясь с кронштейнов.
Падая на землю, вывески ползли, торопились, скрежетали по брусчатке – словно раненые солдаты, они мечтали выбраться из свалки.
Мокрые листья с размаху – горстями! – влипали в стены. В канавах начался потоп. В порту капитаны молились за свои суда. Добрые горожане, спрятавшись по домам, прислушивались: когда стихнет? На открытом рынке плясали и рвались в клочья, воображая себя парусами, тенты.
Где-то вылетали стекла: треск, звон, проклятия жильцов.
Но буйство природы пасовало перед лицом Горгульи. Профессор дикой кошкой отпрыгнула назад, спасаясь от летучего доцента. Мантилья вспыхнула над ее плечами – уже не крылья, еще не огонь. Черты исказила гримаса ярости.
Хищница стояла над добычей, скаля клыки.
– Вы опоздали, мастер! Раньше надо было… у вас вся спина… х-ха-а!.. – от сиплого хохота, похожего на кашель чахоточного, вздрогнули стены. – Вся спина мокрая!.. поздно…
Чистая правда: сюртук со спины промок насквозь. Дождь насытил влагой каждую ниточку. Простужусь, невпопад подумал Кручек. Наверняка простужусь. Если смотреть со стороны – а лучше, с задних рядов галерки – это выглядело потешно. Любовная сцена, акт II. Пожилой ловелас стоит на коленях, для пафосу взгромоздившись на подоконник, а объект страсти бьется в истерике:
«Поздно!..»
Позади на тысячу голосов расхохоталась буря. Прижавшись к кафедре, наклонясь вперед, как для прыжка, Горгулья напоминала демона. И Матиас Кручек совершил абсолютно бессмысленный и единственно верный поступок – то, что отлично (а главное, быстро!) умел делать, как приват-демонолог.
Беря кафедру в кольцо, вспыхнули нимбус-факелы. Стеклистый дымок наполнил аудиторию. Скамьи, столы, портреты на стенах – зеленоватая линза все превратила в дно пруда. Толща очарованной воды искажала очертания предметов. Клубок-пентаклер мышью кинулся по полу: скорей!.. «Сталь-кружево» заключило профессора Горгауз в сверкающую звезду. Из кончиков лучей восстал частокол – «Trias Septem-Lumen», ограда для обуздания демонов рангом не ниже Праздного Дракона.
Слепящая лазурь свилась в жгуты, формируя «Страстную Клеть».
– Вы идиот, Кручек!
Взбешенная Горгулья с нарочитой медлительностью покинула ловушку. Она забыла про гарпию, про все на свете, кроме одного – безумец-доцент пытался обуздать ее, профессора Горгауз, как заурядного демона! Великий теоретик не знает, что западня, уготовленная инферналу, безвредна для человека?..
«Меня, профессора Горгауз…»
Исидора оглянулась. Гасли нимбус-факелы. Рассеивался зеленый дым. Расточались жгуты «клети». Тускнела звезда. Становилось дырчатым и осыпалось на пол «сталь-кружево». Рушился частокол.
«…как демона…»
Она поняла. Гримаса ярости сменилась ужасом. Бранный маг, укротительница джиннов, гроза студентов – ничего не боялась внучка Джошуа Горгауза, королевского маршала на Строфадах. Вот и сейчас не страх ответственности взорвал ее рассудок. Я – демон? Овал Небес, мастер Матиас, вы это хотели сказать? – мастер, вы же правы…
Он остался на месте, когда Исидора бросилась к окну. Лишь неуклюже завалился набок, прислонясь к откосу. Направление ветра изменилось. Дождь больше не хлестал ему в спину. Вечный Странник, как я устал, вздохнул Кручек. Я хочу домой. Кубок глинтвейна, шерстяной плед. Спать… ненавижу приключения… хорошо, что у меня сегодня нет лекций…
– Смотрите!
Он честно посмотрел через плечо, ощутив, как хрустнуло в злополучной спине. Не увидел под кленом Марыси и обрадовался. Девушка успела прийти в себя и сбежала в здание. Надо переговорить с ней наедине. Убедить молчать. История не из тех, которым следует приделать ноги. Хайме превратит всех в чучела, если дело выйдет за стены университета…
– Не туда! Вверх!.. я не знала…
Он поворачивался целую вечность. Ерзал коленями, упирался руками, чтоб и профессора Горгауз не задеть, и с подоконника не сверзиться. Хорошо, если на пол. А если во двор, с третьего этажа? Хватит, налетались…
– …я не знала…
Буря утихала. Но карусель ветров еще вертелась над городом, и ливень отплясывал финальные коленца. В небе, будто в кипящем котле, кружила гарпия. Целая и невредимая, Келена виделась доценту частью бури. Естественный фрагмент мозаики; не жертва покушения, но именинница, получившая внезапный подарок.
Вертексида – Дитя Ветра.
Он где-то читал, что гарпии способны зачать от ветров, рождая крылатых коней. Сказки, конечно. Но Кручек был готов поверить сказкам. С его зрением различить черную запятую в поэме бури – невозможно. Но он видел гарпию ясней, чем при чудесной погоде.
– Ей на пользу… извините, я должна уйти…
Ей на пользу, мысленно повторил доцент, слыша, как за Исидорой захлопнулась дверь. Она хочет бури. Она наслаждается бурей. Она – плоть от плоти бури. Пожалуй, в таком случае ей опасна лишь гроза – крылья может сжечь молнией. В остальном… Профессор Горгауз, ты не знала. И я не знал. Все было зря. Твое преступление, мое бездействие, протест студентки – все зря.
Или нет?
Слезай, брат, с подоконника – колокол на звоннице бьет по тебе. В смысле, большая перемена закончилась.
– У нас лекция, – в дверь сунулся Андреа Мускулюс, крепкий и надежный. За ним, гомоня, толпились старшекурсники. – По теории малефициума…
Он обвел аудиторию взглядом, принюхался и с подозрением спросил:
– А что это вы тут делали?
– Демона обуздывали, – вздохнул доцент. – С профессором Горгауз. Новая методика, рискованная.
– Получилось?
– Вроде бы, да…
– А чего вы на подоконнике?
– Так новая, говорю, методика…
Caput XI
Похвалите меня – я вам горы сверну,
Похулите меня – я вам шеи сверну,
Одолжите мне доброе слово, друзья,
Благодарный должник, я с лихвою верну!
Томас Биннори– Р-разр-решите?
Оторвавшись от бумаг, Штернблад смерил взглядом псоглавца, топтавшегося в дверях с ноги на ногу – и восхитился искусством портного. На Доминго снова был его собственный мундир, тот самый, в котором сын Ворчака вчера дрался. Последствия баталии исчезли: пуговицы на месте, оба рукава целы. Плащ идеален – кружева, шитье, галуны…
Даже латок не видно.
«Храбрый портняжка, – капитан прикинул, как нелегко обслуживать клиента с такими клыками, как у псоглавца. Особенно если клиент рвет мундиры, как перчатки. – И на руку скор. Надо взять на заметку…»
– Входи. Садись и рассказывай.
Доминго боком протиснулся в дверь, аккуратно прикрыл ее и остался стоять. Псоглавец выглядел сконфуженным. Не успел приступить к службе, а уже подрался. Форма – в клочья, аванс в счет жалованья, до последнего гр-роша – на р-ремонт… Хорошенькое начало карьеры!
Возможно, предположил капитан, этого и добивались. Наняли бандита – сорвать первое дежурство. Глядите, люди добрые, каков из сукина сына лейб-страж. Только и годен, что грызться по ночам со всяким сбродом. Ишь ты, с псиной харей – во дворец!
– Не стой столбом. Садись, говорю.
Второй раз ослушаться начальства Доминго не посмел. Он с робостью присел на краешек жесткого стула, моргнул, глядя здоровым глазом на портрет Эдварда II, висевший в простенке между окнами. Король на портрете строго хмурил брови: обмишулился, верноподданый? Докладывай! А мы тебе плаху велим надраить…
За окном по плацу, печатая шаг, маршировала рота лейб-гвардии.
– Напра-а-а-ву! На месте стой! Ать-два!
– Р-р-равнение нале-е-е-ву! Его величеству…
– Виват! Виват!! Виват!!!
Никакого величества на плацу не наблюдалось. Гвардейцы отрабатывали приветствие августейшей особе. Ходить в строю Доминго терпеть не мог, но сейчас ему вдруг захотелось оказаться там, с гвардейцами. Тянуть носок, выполнять команды, преданно таращиться на сержанта. Рявкать: «Виват!» – и горя не знать!
Он тяжело вздохнул.
Что ж, не зря оперировали глотку. Вот и пригодилась для долгих речей.
– Я шел на дежур-рство. По набер-режной. Дошел до моста.
– Какой мост?
– Чер-рез канал, – псоглавец повел рукой, желая пояснить диспозицию.
Капитан с проворством убрал подальше чернильницу в форме рыцарского шлема – Доминго едва не смахнул со стола бронзовую махину.
– Дальше!
Времени до заступления в караул оставалось выше крыши. Доминго еле сдерживался, чтобы не ускорить шаг. Он волновался, как лопоухий щенок. Словно и не было восьми лет службы на границе, трех лет в наемниках; охрана купеческих караванов, бесчисленные стычки, дюжина дуэлей – все приснилось… То, что сын Ворчака еще жив и годен к службе, говорило о многом. Но капитан Штернблад перестарался. Он слишком хорошо внушил Доминго мысль:
«Ты – первый миксантроп, допущенный к охране его величества!»
Гордость псоглавцев – вечная тема для анекдотов. Сын Ворчака мгновенно ощутил ответственность перед всем племенем собакоголовых, начиная с гноллей и кончая анубисами. Согласитесь, стать официальным представителем расы, ее, так сказать, мордой – многовато для простого солдата, пусть даже с блестящим послужным списком.
К вечеру похолодало. От канала тянуло сыростью. Но Доминго вспотел. Он опасался, что от него будет нести псиной. Мундир и плащ провоняют насквозь. Людям не нравится этот запах. Хорошо еще, что король в отъезде.
Он знал средства отбить запах псины. Ванна из яблочного уксуса. Душ из томатного сока. Еще можно вываляться в глине. Увы, ни один рецепт не годился на случай сопровождения короля или дежурства во дворце.
«Надо зайти в лавку парфюмера. Там что-нибудь посоветут…»
В окнах домов горел свет. Масляные блики фонарей качались на темной воде. Стучал колотушкой ночной обходчик, выйдя на работу. Прохожие, редкие в этот час, с любопытством провожали взглядами рослого псоглавца в форме лейб-стражи. Доминго старался не скалиться в ответ. По набережной Согласия он дошел до моста через Рыбный канал и двинулся на другую сторону.
Фонарь у входа на мост не горел. Доминго не сразу разглядел человека, идущего навстречу. Впрочем, учуял он его куда раньше. Едкую смесь дешевого табака, чеснока и рома кто угодно ощутил бы за десяток шагов, а уж псоглавец – и подавно.
Доминго фыркнул, обнажив клыки.
– Страх? Злость? – спросил капитан. – Угроза?
– Нет. Я бы почуял.
Поравнявшись с псоглавцем, человек качнулся, словно был пьян, взмахнул руками – и Доминго сложился пополам, получив точный удар под ложечку. Хватая пастью воздух, он прижался спиной к перилам. Рванул палаш из ножен – миг, и оружие брякнуло о деревянный настил моста. Кисть онемела: враг оказался на диво проворен.
– Он ничего не говорил?
– Нет.
Однако псоглавец уже пришел в себя. Эффект неожиданности закончился. С рычанием он кинулся противнику в ноги: сбить, подмять, вцепиться в глотку! Проход не удался. Из вонючки торчало столько локтей и колен, что продраться сквозь этот частокол казалось невозможным. Псоглавец даже засомневался, человек ли перед ним. Но – оглушенный, избитый, плюясь кровью – он сумел опрокинуть врага навзничь.
Клыки сомкнулись на запястье – вонючка закрыл горло рукой.
Он носил наруч из толстой кожи, пропитанной какой-то дрянью. Пасть наполнилась смрадом и горечью. Доминго чуть не стошнило. В детстве старшие щенята в шутку угостили его падалью. Мать спасла глупого сына, вызвав у него рвоту. Отец же поймал шутников и задал им славную трепку.
Сейчас он вспомнил о том случае.
– Ты его ранил?
– Не увер-рен.
Вонючка, крутанувшись ужом, вывернулся. Оба вскочили. Последовал молниеносный обмен ударами. Правая нога едва слушалась: Доминго схлопотал болезненный пинок в бедро. Мышцу скрутила судорога. Левый глаз заплыл – кулак вонючки бил без промаха. Но и сам вонючка неуклюже кособочился, дыша хрипло, с присвистом.
Похоже, у него была сломана пара ребер.
Страх, ярость, возбуждение – ничего такого, чем обычно пахнет боец, Доминго по-прежнему не чуял. Словно вонючка не бился насмерть, а выполнял тяжелую, нужную, но довольно скучную работу. В том, что с моста уйдет только один из них, псоглавец не сомневался.
И напал первым, пока враг не отдышался.
Нога подвернулась. Он с размаху впечатался в вонючку плечом. Сцепившись, оба упали. Доминго рычал, рвал тупыми когтями одежду, силился добраться зубами до горла. Он забыл себя: от опытного солдата осталась лишь дикая собака. Стервенея, двое катались по Рыбному мосту. Мир превратился в карусель, написанную кистью пьяницы-художника. Полотно местами треснуло, наружу торчат концы суровых ниток.
Вертится не пойми что…
Неизвестно, как Доминго удалось встать на колени. Вонючка застонал – первый звук, изданный им за все время драки – когда псоглавец с ревом сгреб врага в охапку, поднатужился и швырнул, как тюк тряпья, на перила моста. Источенное жучками дерево не выдержало, сломавшись с громким треском. Камнем вонючка рухнул в канал.
Всплеск – и тишина воцарилась над водой.
– Утонул?
– Я ждал. Долго. Запаха больше не было.
Доминго сопел, вывалив длинный розовый язык. Рассказ утомил его больше, чем вчерашняя драка. Человеческая речь давалась псоглавцу дорогой ценой. Но он старался.
– Я виноват, – понурившись, выдавил сын Ворчака.
– Виноват, – ворчливо согласился капитан. – Ты позволил ему разорвать новенький мундир. И сбросил негодяя в канал. А должен был приволочь за шкирку ко мне. Или в Бдительный Приказ.
Псоглавец еле слышно, можно сказать, шепотом завыл.
– Только сплетен нам не хватало! Проклятая хомобестия убила безвинного прохожего! Доказывай потом, кто на кого напал… Отставить скулёж! Отец ударит, сын вылечит…
Любимая поговорка сама подвернулась на язык. Не имея реального смысла в большинстве случаев, она прекрасно действовала на подчиненных, как успокоительное. Капитан даже подумывал велеть белошвейкам вышить мудрость золотом на кумачовом полотнище – и вывесить над казармами.
– Готов понести наказание, – рявкнул Доминго, становясь во фрунт.
– И понесешь. Завтра явишься к сержанту Грымзе, доложишься. Будешь под его руководством заниматься строевой. В свободное время. Караулы – по расписанию. А на следующей неделе зайдешь ко мне. Будем затачивать щенка под волкодава. Чтоб в другой раз скрутил гаденыша в бараний рог и доставил в кутузку. Все ясно?
– Гхр-р…
Псоглавец не верил, что так легко отделался.
– Отвечай по уставу! Или строевой мало?
– Слушаюсь, капитан! Никак нет, капитан! Р-разрешите идти?
– Иди, – усмехнулся Штернблад.
Доминго уже открыл дверь, когда его остановил вопрос. Будто дротик, он без промаха угодил в спину псоглавца:
– Если твой вонючка остался жив… Сможешь его опознать?
– Нет, – ответил честный Доминго. – Не смогу. Ром, табак, чеснок. Все.
– А лицо? Лицо запомнил?
– Нет. Темно было. И башлык. Он в башлык кутался. А у меня… у нас плохая память на ваши лица. Пр-ростите, капитан.
* * *
– И что мне теперь прикажете делать?
Чучела отмалчивались. Воротил клюв феникс. Прятал глазки-пуговицы василиск. Потупился рогач-анталоп. Симплициссимус стыдливо заворачивал хвост петелькой. Головы химеры кивали друг на друга: змея – на льва, лев – на козу, а коза притворялась дурой.
Матиас Кручек сделал вид, что он тоже – чучело.
– Я так и знал! – ректор горестно воздел руки к потолку. – Я предвидел! Позапрошлой ночью мне снилось, что я ищу клад! Рою курган обувной щеткой… И вот – сбылось!
– В каком смысле? – не удержался любопытный теоретик.
Ректор уставился на него, словно на студента, желающего нахрапом сдать зачет по толкованию сновидений.
– В прямом, сударь! В наипрямейшем! Искать клад – к беде и скандалу. Щетка – к скорому скандалу! Ах, почему я не кинул зерна тмина через плечо! И вот – чудовищный инцидент. Да еще накануне ученого совета… Чего вы хотите, профессор? Чего добиваетесь?
Исидора Горгауз, сидевшая у двери, некоторое время молчала. Вот уж кто и впрямь походил на работу таксидермиста – казалось, из Горгульи вынули все, кроме каркаса, и изнутри набили пенькой. Каждую минуту она грозила оплыть бесформенной массой. Кручек старался не смотреть в ее сторону.
Уж лучше демон во плоти, чем это…
– Я хочу, – сказала профессор, – чтобы вы подали на меня донос в Тихий Трибунал.
– Сами! – взвился ректор. – Сами доносите, голубушка! А у меня других дел по горло!
Горгулья бесцветно улыбнулась.
– Сама я не могу. У меня нет доказательств. И свидетелей нет. Вы постарались, Хайме. В Трибунале мне не поверят. Запишут в сумасшедшие.
– Нет! Нет у вас свидетелей! И не будет!
– Чем вы их подкупили?
– Добрым словом! Оно, знаете ли, и свидетелю приятно! Не все выкованы из железа, как вы, голубушка…
Ректор и впрямь демонстрировал чудеса дипломатии. Если уговорить доцента молчать было легче легкого – Кручек не желал выносить сор из избы – то беседы с Марысей Альварес, а тем более, с гарпией, доставили Хайме Бриганту мало удовольствия.
Хотя, в сущности, ему дико повезло.
Студентка так и не догадалась, что ее удушье – результат незаконных действий профессора Горгауз. Марыся решила, что перенапряглась. С ней подобное случалось, особенно в период женских недомоганий. Перерасход маны, то да се – головная боль, вплоть до обморока, спазм в горле…
«Мы освобождаем вас от платы за обучение, – ласково сообщил девице ректор, поглаживая ее по плечу. – До конца бакалавратуры. Если вы решите учиться на магистра, мы вернемся к этому вопросу заново. Деточка, это недоразумение! Куратор хотела усложнить задачу для учащейся Келены Строфады. Накопление маны в природной стихии для крылатых… э-э… первокурсников имеет ряд нюансов. Вы же крайне невовремя… м-м… из благих намерений… Хорошо, что в итоге никто не пострадал. Вы понимаете меня?»
Поняла Марыся или нет, неважно. Главное, она вспомнила, какой ценой зарабатывает каждый грош капитан Альварес, борясь со штормами не во дворе университета, а в открытом море – и согласилась молчать.
С гарпией ректор разговаривал иначе. Узнав от Кручека, с каким наслаждением «крылатая первокурсница» купалась в буре, он предпринял ловкий маневр. Сперва Хайме попытался выяснить: в курсе ли гарпия, отчего капризничали ветры? Вряд ли она уловила магическое влияние. Если так, дело в шляпе. Но кто их, гарпий, знает? Они с ветром запанибрата…
Из разговора он не вынес конкретного результата. По тому, как ловко гарпия уходила от ответа, складывалось впечатление: в курсе. И готова шантажировать. Во всяком случае, на ее месте ректор уже продумывал бы славненький шантажик… Но, с другой стороны, чего она потребует за молчание? Звезду с неба? Зачеты на год вперед? Перья вызолотить?!
Королевская стипендиатка, на содержании у казны…
Да ее и пальцем нельзя тронуть!
Ректор никому бы не признался, что во время беседы испытал душевное потрясение. Ему не раз и не два чудилось, что из-за прелестного, юного личика выглядывает зловещая старуха – опытная, умная, сильная. Магией здесь не пахло, и он списал впечатление на собственный раздрай. А равнодушие, с каким гарпия вспоминала случившийся инцидент, могло кого угодно выбить из колеи. На ее месте Хайме рвал бы и метал, или хотя бы облизывался, как сытый кот, при мысли о вчерашнем бурном наслаждении.
Ничего подобного.
Спокойствие гарпии приводило ректора в трепет. Трепеща, он начинал бояться; боясь – приближался к ненависти, и хорошо понимал профессора Горгауз.
Сейчас обе девицы – Марыся Альварес и Келена Строфада – ждали в приемной, под бдительным оком секретаря Триблеца. Понадобятся они или нет, ректор не знал. Но предусмотрительность никому не вредила.
– У вас на столе лежит мое заявление, – напомнила Горгулья. – Там все изложено. Вы снимаете меня с кураторства. Подписываете приказ о моем увольнении. И пишете донос в Тихий Трибунал. Я останусь в городе, на своей квартире. Меня легко найти и арестовать…
– Докладную записку, сударыня! Записку, а не донос! И вообще… С кураторства я вас, разумеется, сниму. Матиас, с сегодняшнего дня ты – куратор. Единственный и полномочный. Приказом я тебя оформлю позже. Вместо увольнения профессор Горгауз получит отпуск. На длительный срок. А вместо доноса в Трибунал профессор Горгауз получит, извините, шиш. Вот! – ректор продемонстрировал, что именно получит Исидора. Получилось увесисто. – Мне только не хватало вигилов в университете. Проверки, допросы, сплетни… Проклятье!
Он с размаху громыхнул о стол тяжелым пресс-папье. Запрыгали на полках чучела, дребезжанием откликнулись стекла в окне. В дверь сунулся секретарь Триблец, увял под свирепым взором начальства и сгинул.
– Я совершила преступление…
– Извольте помолчать, профессор! Здесь я решаю, что преступно, а что нет! Кстати, Матиас, это ты виноват, – сделав вид, что начисто забыл о присутствии Горгульи, ректор снова обратился к доценту на «ты». Наверное, в воспитательных целях, дабы Исидора почувствовала себя пустым местом. – Ты предложил мне оставить эту… хм-м… преступную даму на посту куратора. А я, дурак, согласился. И вот результат: Тихий Трибунал. Я уже не говорю о Надзоре Семерых – от них так просто не отделаешься. Ладно, подведем итоги.
Он прошелся по кабинету, заложив руки за спину.
– Сейчас я приглашу сюда пострадавших… э-э…
Поразмыслив, можно ли зачислить гарпию в пострадавшие, Хайме ответа не нашел и продолжил:
– Вас, профессор, я попрошу быть приветливой. Считайте, что это ваши любимые дочери. И улыбайтесь, разрази вас гром! Улыбайтесь! Не так, будто вы гримасничаете на похоронах, а по-настоящему. Я обо всем договорился. Ваше дело – не сорвать высоким сторонам… э-э… подписание мирного соглашения.
– Он умирал три года, – ответила Горгулья.
– Кто?!
– Мой дед. Он сошел с ума. Мы жили в Тренте, дед давно уехал из Строфадской резервации. Тем не менее… Ему всюду мерещились гарпии. Дома, на улице. Они якобы съедали его пищу. Гадили ему в тарелку. Распространяли зловоние. Три года он жил в аду, населенном гарпиями-призраками. «Они жрут мое! – кричал дед. – Я голоден! Я умираю от голода!» И умер от обжорства. Все время ел, утверждая, что гарпии отбирают продукты…
– При чем тут ваш дед, голубушка? Нет, я сочувствую…
– Я была ребенком. Самое яркое воспоминание детства – смерть деда. Поэтому я пошла в бранные маги. Извините, Хайме. Зовите студенток. Я буду улыбаться. А потом уйду в отпуск. Мне надо о многом подумать.
Пенька исчезла. На стуле сидела прежняя, выкованная из стали Горгулья.
– Триблец! Просите сударынь зайти в кабинет!
– Обеих сразу? – голосом секретаря, разложенным в терцию на три пасти, спросило чучело химеры.
– По очереди!
Пока ректор объяснялся с Марысей, доцент размышлял о своем. Симптомы смертельной болезни Джошуа Горгауза, даже в кратком изложении Исидоры, будили в памяти заболевание Томаса Биннори. Еще в библиотеке он отметил сей факт. Выводы? В одном случае гарпии мстят врагу их племени. Годы не остудили злобу: месть превыше всего. Момент выбран идеально: маршал умирает в Тренте, не привлекая внимания властей. Ветеран свихнулся на почве давних баталий, вспоминая минувшие дни… И второй случай – гарпии сводят с ума безобидного поэта. Зачем? Чтобы под личиной «альтернативного специалиста» спасти королевского любимца, получив возможность обучаться в Универмаге?
Бред какой-то!
«Отложить месть на столько лет. Выждать и ударить наверняка. Для этого надо быть самым злопамятным существом в мире. Я видел Келену сегодня утром. Она ждала начала лекции по теормагу. Мы перекинулись парой слов. Когда я напомнил о вчерашней буре, она осталась равнодушна. Более того, она уже знала о вызове в ректорат. По-прежнему – ледяное спокойствие. Десять студентов из десяти тряслись бы, как осиновый лист. Если это притворство, в ней умер величайший лицедей… Если это хладнокровие, в ней умер великий шпион. Умер ли?»
– Следующая!
Гарпия вошла в кабинет походкой пьяного матроса. Вперевалочку, спрятав руки под крыльями, макушкой едва возвышаясь над столешницей – Келена вызвала бы смех у публики, выступай она на сцене. Сегодня ее оперение выглядело скромно: цвет мокрой глины с редкими светло-серыми вставками.
«Птицы неуклюжи на земле. Аист ходит элегантнее, чем курица. Курица – чем орел. Это зависит от длины ног? Или от мастерства в полете?»
– Сударыня! – торжественно начал ректор. – Как руководитель университета, я хотел бы…
Гарпия остановилась, не дойдя до стола.
– У меня нет никаких претензий, – сказала она. – Скорее уж претензии могут быть у вас, или у профессора Горгауз. Я должна была сразу сопоставить. Джош Кровопийца… простите, я не хотела. Джошуа Горгауз, маршал в Строфадской резервации – ваш родственник, сударыня?
– Дед.
Горгулья смотрела в окно.
– Вы присутствовали при его смерти?
– Да.
– Тогда все понятно. Очень мощный якорь. Вполне вероятно присутствие паразита. Сударыня, вы ни в чем не виноваты. Мое появление в университете спровоцировало превращение паразита в доминанта. Когда я закончу курс лечения Биннори, я буду рада предложить вам свою помощь. Разумеется, если вы дадите согласие. Мне потребуется месяц-другой отдыха, и я в вашем распоряжении. Не уверена, что после этого вы полюбите гарпий. Но в остальном – ситуация больше не выйдет из-под вашего контроля.
– Я подумаю.
Горгулья смотрела в окно. Мужчинам даже показалось, что в окне собирается вчерашняя буря, и черная запятая вновь кружит над университетом.
– Хорошо.
– Чудесно! – ректор потер ладони. – Великолепно! Если вы чего-то хотите, просите, не стесняйтесь!
– Я хочу продолжить обучение. К этому нет препятствий?
– Ни малейших!
– Я рада. До свиданья.
В приемной Исидора задержала Кручека.
– Возьмите.
Недоумевая, он принял от нее пухлую тетрадь в переплете из сафьяна.
– Дневник моего деда. Избранное. Вас заинтересует.
– Я не читаю личных записей! – возмутился доцент.
– Дед умер. Я – единственная наследница, согласно завещанию. Считайте, что я дала вам разрешение. Мне это больше не понадобится.
– Почему?
– Я в отпуске, – сухо ответила Горгулья.
* * *
"Я, Джошуа Горгауз, королевский маршал на Строфадах, гниющий в резервации восьмой год, в здравом уме и трезвой памяти, допив флягу сливовицы, со всей ответственностью заявляю:
– Пусть гарпии горят в аду!
Мое прошение об отставке, должно быть, легло под сукно…
…они – хищники.
Я не раз видел, как взрослая гарпия хватает обезьяну в гуще ветвей, или уносит зазевавшегося подсвинка. Бич кроликов, проклятие горных коз, мясо они любят во всех видах, не брезгуя и сырым. Собачатина – деликатес. Особенно если речь идет о щенках. Впрочем, они внимательно следят, чтобы на островах не перевелась дичь. Иногда довольствуются одними утками, которых на озерах тьма-тьмущая.
Фрукты им поставляет природа. Полей гарпии не возделывают. Огороды – кое-как. Случается, летят батрачить на материк – охраняют урожай от ворон и зайцев. Свою долю берут зерном. Да, еще обожают крупных насекомых.
На Тифее бытовало мнение, что пропажа детей – дело их когтей. Почему бы и нет? Если они воруют поросят, отчего бы не прихватить и двуногого малыша, когда тот отправится с корзинкой по ягоды? На наше счастье, гарпия не в силах поднять в воздух взрослого мужчину. Иначе потери в войне были бы куда ощутимее.
Голодать гарпии могут долго, без вреда для себя – до двух недель.
Они – философы.
Обычное для Строфад зрелище: крупный самец-гарпий сидит на ветке и пялится вдаль. Час, два, три… Он не двигается. Не откликается, если ты его зовешь. Не обращает внимания на изменения погоды. Начнись ливень, пади град – не шелохнется. Естественных врагов у них нет – сиди без боязни, никто не захочет тобой полакомиться. Когда я спрашивал, о чем они думают, мне начинали рассказывать всякую чушь. Иные миры, загадочные существа. Земли, которых нет под Овалом Небес. Небеса, которые никогда не видели Квадрата Опоры. Люди, каких не создавал Вечный Странник. Полеты во сне и наяву.
Бред.
Им самое место в резервации.
Они – щеголи. Цвет перьев они меняют усилием воли. Это раздражает. Смена одежды – да, я понимаю. Но перья? – хищники, философы, щеголи, их осталось слишком много…
...
…я так и не смог привыкнуть к тому, что они стареют за один день. Помнится, я считал Стимфала, одного из вождей партизанского движения – юнцом. Он выглядел лет на двадцать, не больше. Разумеется, я говорю о человеческой части его тела. В возрасте цапель, орлов и воробьев я не разбираюсь. После заключения мирного договора Стимфал ни капельки не изменился. Оставался юношей, пока я однажды не увидел его – стариком.
Сразу и надолго.
Раньше я не задумывался об этой стороне их жизни. Просто не различал их: гарпия и гарпия, чего там… Во время боевых действий и вовсе было не до того. С нами сражалась и молодежь, и глубокие старцы. Удивляло другое: старики были сильнее и проворнее молодых. Страшные бойцы – с их-то жуткими, морщинистыми рожами…
В резервации я поначалу воспринял все, как должное. Вот дети. Они быстро растут: в год летают, в пять – охотятся, в тринадцать лет практически не отличаются от взрослых особей. Вот молодые. Вот старики. Если бы Стимфал не подлетел ко мне и не заговорил – я остался бы в неведении.
Он был абсолютно не похож на себя-прежнего. Гордый красавец превратился в гордого урода. Морщины, складки, пятна на коже. Острый, как бритва, нос. Губы высохли, запали, обнажая острые зубы. Краше в гроб кладут. Мышцы на тонких руках превратились в жгуты проволоки. На груди – в жесткие латы.
Но летать он стал еще быстрее. Казалось, внезапная старость прибавила ему сил. Позже я узнал: это – правда. Лет до пятидесяти они не меняются. Вечные юноши и девушки. Но вечность сменяется на другую вечность. Уснув молодухой, гарпия просыпается старухой. Перед нами – два разных существа.
Или я не умею видеть в старухе вчерашнюю красавицу?
Старыми они живут еще полвека…
...
…случается, они отшельничают.
Начало периода уединения предвещает свист. Да-да, свист. Так свистят их перья, когда гарпии пикируют на добычу. Когти становятся тупыми. Можно подумать, что гарпии самое время отправиться в богадельню. Вместо этого она отправляется в горы, ближе к солнцу.
Мяса в период отшельничества гарпии не едят. Фрукты, коренья, травки; вода из родников. Основное их занятие – драть из себя перья. Смотреть на это противно. Словно кто-то у тебя на глазах выдавливает прыщ или дергает волосы из ноздрей. Они избавляются от дефектных частей оперения, особенно – от поврежденных маховых перьев. Но случается, что гарпия ощипывает себя целиком.
Голый петух с головой человека – потеха! Наши, кто подрезал или сжигал маховые перья гарпиям-рабам, получили бы удовольствие. Я о тех, кто дожил до победы…
В последнем случае гарпии ждут полтора месяца, пока оперение вновь отрастет. Голышом они каждый день купаются в ледяной речке. Потом часами загорают на солнышке. Вечером – заточка. Отвратительный звук, с каким гарпия точит когти о скалу, преследует меня ночами, и я просыпаюсь с криком.
Обновившись, они возвращаются.
Спросите меня, зачем я наблюдал за гарпиями-отшельниками, и я вам не отвечу. Чего не сделаешь от скуки, вынужденного заточения и двух-трех фляг сливовицы…
...
…они – живородящие, как ни странно.
Детей вскармливают грудью. До поселения в резервации я был уверен, что гарпии несут яйца. Их гнезда-шалаши, выстланные листьями и мхом, не приспособлены для плотской любви. Во всяком случае, для человеческой любви. Я ни разу не видел, как это происходит, и видеть не желаю.
Наверное, если бы я настаивал, одна из гарпий-самок без колебаний уступила бы моим домогательствам. Они проще относятся к требованиям тела, что роднит их с животными. Гарпия не способна зачать от человека. Но я даже представить не в силах…
Ты врешь, Джош. Очень даже в силах. Еще год, проведенный на Строфадских островах, и ты окончательно рехнешься…
...
С ними невозможно говорить о войне.
Подвыпив, я делаюсь сентиментален. Готов обнять бывшего врага и точить слезу, вспоминая огонь и воду, сквозь которые мы прошли. Ну хорошо, пролетели. Еще лучше взахлеб спорить, бранясь и проклиная друг друга, о прошлых баталиях. Как могло бы быть. Как не сложилось. Кто кого. Оплакивать погибших друзей. Сверкать глазами, возвращаясь памятью в горнило боя. Без этого жизнь делается пресной, будто черствая лепешка.
Проклятый Стимфал! Он вспоминает войну, как ростовщик вспоминает проценты на мелкий заем. Да что там! – ростовщик хоть радуется, что умело облапошил дурака-занимателя, и строит радужные планы на грядущих дураков. А этот мерзкий гарпий не пролил ни единой слезинки по своим приятелям, павшим в ущельях Тифея.
Ладно, он не скорбит по нашим – но свои!
Наши прежние – так Стимфал называет гарпий-покойников. И ни капли грусти, ни крупицы боли. Наши прежние, демон его сожри! Я щенка, который сдох давным-давно, во времена моего детства, вспоминаю с большим чувством, чем он – сородичей…
О битвах он согласен говорить. Но так, словно делает мне одолжение. Ледышка, он помнит все, до мельчайших подробностей. Я блевать готов от его воспоминаний. Такое равнодушие достойно последнего мерзавца. Нельзя поверить, что Стимфал был одним из самых последовательных и непримиримых врагов. Этот счетовод похож скорее на жирного перепела, чем на орла.
Они все такие.
Они вспоминают с холодным сердцем. Даже мечтать о дне, когда постыдный для них договор будет разорван, а когти гарпий вопьются в сердца врагов-победителей – нет, и это им не под силу. Я провоцировал крамольные разговоры. Я знаю. Они лишь пожимают плечами. И в глазах не разгорается естественный для хищной птицы – если угодно, для человека – огонь.
...
…пожалуй, я их ненавижу."
Отложив в сторону дневник Джошуа Горгауза, доцент задумался. Впору предположить, что маршал в отставке умер, сойдя с ума. Спился, помешался на ненависти к гарпиям. Оставив Строфады, в действительности увез острова с собой. Продолжил войну, проиграв ее раз и навсегда.
Видел гарпий там, где их не было.
Воевал до последней капли здравого рассудка.
Картина выглядела логичной. За одним исключением – три десятка ветеранов, разделивших печальную участь Джоша Кровопийцы. Все рехнулись? Вряд ли. Они не жили на Строфадах. После окончания войны они вообще не встречались с гарпиями. А сколько их умерло, не оставив следа? – в библиотеке нашлось тридцать покойников, но в действительности…
Кручек прошел на кухню. Сварил кофий, выпил, не чувствуя вкуса. Глянул в окно: ночь, и ничего интересного. В постели он долго ворочался, не в силах заснуть. Когда же сон наконец пришел, доцент до утра орудовал щеткой для обуви, восстанавливая курган, разрытый в прошлую ночь ректором Бригантом.
Встал он с головной болью.
Caput XII
В желтом отчаяньи стонут барханы,
Знойной поземкой шурша,
Тени в песке, как казненные ханы,
Спорят: бессмертна ль душа?
Томас Биннори– Заходи!
– Сейчас…
– Да заходи же!
– Ну сейчас, говорю…
– Боишься?
– Я?!
– Ты!
– Ничего я не боюсь!
– Тогда заходи!
– Уже иду…
Прохожие с интересом оборачивались на шумную парочку. Всем известно: милые бранятся – зеваке удача. Другое дело, с чего бы это милым браниться у входа в лавку Диделя Гогенштоффена, сокольника-консультанта, под вывеской:
ФУРНИТУРА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БЛАГОРОДНОЙ ОХОТЫ
De Arte venandi cum avibus
(постоянным клиентам – скидка)
Но Кристиану и Герде было не до внимания ротозеев. Маленькая цветочница старалась раззадорить сводного брата. Брат же делал вид, что герой героем, из последних сил оттягивая трудный момент. Никто не виноват, говорил он себе. Сам выбрал. И бабушка помогла, расстаралась, подняла давние связи. А ты чуху крючишь, торчишь морковкой…
– Идет он! А ну, живо…
Разуверившись в силе доброго слова, Герда толкнула брата корзинкой. То ли в девочке нашлось больше сил, чем сулила ее хрупкая внешность, то ли Кристиана заел стыд, но в лавку он влетел стрелой. И с разгону врезался в чье-то брюхо, круглое и твердое.
– Ой!
– Именно что ой, юноша. Чем могу служить?
Кристиан задрал голову. Перед ним стоял великан-людоед. Рост, стать, пузатость, тщательно расчесанная бородища, усы вениками – все говорило о большой любви к жареным мальчикам. Так и чудилось: сидит великан за огромным прилавком, кушает ногу Криса-Непоседы, запеченную с чесноком, а кусочки бросает злобному кречету – вон он, хищник, в клетке у окна.
– Здрасте…
– И вам крепкого здоровьица, юноша. Ах, с вами дама! Это меняет дело. При даме ударить мирного лавочника в живот – не суета, а подвиг. Вы случайно не ошиблись адресом? Ателье мод – за углом. Парфюмерная лавка – через два квартала.
– Мы не ошиблись, – видя, что братцу язык приморозило, вмешалась Герда. Корзину с цветами она взгромоздила на прилавок. – Нам нужен сударь Гогенштоффен.
– Старший или младший? – уточнил великан.
– Дидель – это который?
– Значит, старший. И по какому неотложному делу я вам нужен, юные господа? Желаете приобрести клобучок? Вабило? Бубенцы-ястребки?
– Желаем поступить к вам в подмастерья.
– Оба?
Великан Дидель воззрился на девочку с громадным интересом. Сейчас он был похож на людоеда, которому Кроха-Митроха, героиня известной сказки, велела садиться на лопату, лезть в печь и не прекословить зря. Даже кречет в клетке щелкнул клювом – ишь ты, забавная пичуга!
– Нет. У меня и без вас работы навалом. Вот, брата привела. Забирайте!
– А волшебное слово? – ласково спросил великан.
– Бабушка Марго, – ответила девочка.
Дидель прошелся по лавке. Каждый его шаг сопровождался звуками. Тихо звенели бубенчики, словно указывая место ловчей птицы в кустарнике. Шуршали должики – ремни для привязи. С легким шорохом терлись друг о друга перчатки из толстой кожи. Упала на пол связка путцев, которыми крепятся бубенцы и должик. В ящике под прилавком брякала выручка, наводя на преступные мысли.
Оркестр играл заветную мелодию, в такт ходьбе дирижера.
– Ах, Марго! – наконец сказал великан. – Ах, золотые денечки молодости! Скажите, детки, неужели я такой старый?
– Ага, такой, – согласилась честная Герда.
– Ну и ладно. Зато не я пришел к вам в подмастерья, а вы ко мне. Ответь мне, юноша, за которого говорит барышня… Ты что-нибудь смыслишь в соколиной охоте?
Кристиан отрицательно замотал головой.
– А в птицах? Тоже нет?
Сейчас меня выгонят взашей, понял Кристиан. Даже есть не станут. Как можно есть такого непроходимого тупицу, хоть с чесноком, хоть без? К сожалению, в птицах он понимал одно: после шуточек гарпии у Кристиана тряслись руки. Едва он начинал присматриваться к чужому кошелю, только-только задумывался, как бы ловчее срезать у щеголя бриллиантовые пуговицы…
Дрожь начиналась в плечах. Оттуда мурашки бежали к локтю и кусали за запястья. Вскоре пальцы можно было спокойно отрезать ножом. Трясучка превращала их в десяток бесполезных калек.
Он отворачивался от кошеля – и выздоравливал.
Прежние дружки сперва смеялись, а потом забыли о нем. Прохиндей Мориц теперь покровительствовал другому кузарю. Гарпия, когда их пути пересекались, была неизменно приветлива и равнодушна. Ее хотелось убить. После дикой охоты делать вид, что мимо пролетала? Издеваться над влюбленным?! Любовь перерастала в ненависть. Кристиан втихомолку плакал на чердаке. Там его и нашла Герда.
Пошептавшись с бабушкой, маленькая цветочница взялась обустраивать судьбу братца. И Кристиан пожалел, что гарпия не прикончила его в тот раз.
– Так… Корм для беркутов? Сезонная дичь? Кто мельче – шарг или сапсан?
– Шарг? – предположил Кристиан.
– О счастье! Великий немой заговорил! А если подумать?
– Н-не знаю…
– Отлично! Великолепно! Лучше не бывает! Ах, Марго, ах, умница…
Молодые люди во все глаза уставились на великана. Он не шутил. Ответы Кристиана привели его в ликование. Дидель плясал по лавке, размахивая ручищами. Грохот, поднявшийся от его танца, мог испугать дракона. Зато кречет, видимо, привык к манерам хозяина.
Бело-рябой, похожий на сугроб, битый первой оттепелью, красавец наклонил изящную головку и с насмешкой заклекотал.
– Вот! И Тихоня одобряет! Юноша, заяви ты, что соколиная охота для тебя – плюнуть и растереть, и я выпер бы тебя вон! Разбирайся ты в кормах хоть самую малость – вон, и баста! Отличай шарга от сапсана, а их обоих – от лаггара, и конец разговору!
– Почему? – Кристиан задохнулся от изумления.
Великан степенно огладил усы.
– Писать надо на чистом листе, дурачок… Ладно, последнее испытание. Ты боишься хищных птиц?
Вспомнилась гарпия. Пальцы откликнулись дрожью.
– Н-не знаю…
– Иди к клетке. Иди, говорю! Стань поближе и смотри на Тихоню. Ну?!
В двух шагах от клетки Кристиан замер, раздумывая.
– Ближе!
Он сделал еще шаг. Кречет с раздражением вскрикнул, но сразу успокоился. Лишь косил на парня недобрым глазом. Щелкнул, предупреждая, клюв. Дрогнули кончики крыльев. На шейке встопорщились перья.
«Маленький какой…» – подумал Кристиан.
– Не боюсь…
Он задохнулся, сообразив, что говорит правду. Чистую, как слеза, сладкую, как мед, выстраданную и честно заработанную правду.
– Не боюсь! Ни капельки!
– Оставайся, – кивнул Дидель. – Будем работать.
* * *
– Разрешите, мастер?
Гарпия заявилась, как всегда, не вовремя. Доцент уже протянул руку за шляпой, собираясь идти обедать. Но гнать Келену не хотелось. Да, Кручек всякий раз вздрагивал, задерживая взгляд на лице гарпии. Агнешка, родившаяся заново, обретя крылья и облик ангела! – темного ангела с когтистыми лапами… Ерунда, чушь! Он – ученый. Он прекрасно все понимает… когда-нибудь привыкнет…
«Вряд ли,» – подвело итог жестокое сердце.
«Стоп, – дал команду трезвый рассудок. – Объект исследования; „альтернативный специалист“, чьи методы требуют изучения. Не более. Прочь сантименты!»
– Входите, сударыня. У меня – обеденный перерыв. Но я готов задержаться…
Он обнаружил, что тянется к шляпе, висящей на крючке, и неловко убрал руку за спину.
– Извините, мастер. Я не отниму у вас много времени. Или мне зайти позже?
По оперению гарпии прошла едва уловимая глазом волна. Цвет перьев сменился с шоколадного на темно-вишневый. Знак смущения? Возможно, гарпии так краснеют? Ответа он не знал. Еще одна загадка – самая пустячная из всех, связанных с Келеной.
– Минута-другая роли не играет. Я вас слушаю.
– Я хочу записаться на ваш факультатив.
– Какой? Я веду ряд факультативов.
– Основы ориентальной и курсорной магии. Вы не возражаете?
– С чего бы я стал возражать? Я рад, если студенты выходят за рамки обязательной программы. Вообще-то ориентальный факультатив ведет мой коллега, доцент Ежи Коламбиус. Но его отправили по обмену опытом в Чурих, и я согласился заменить…
Много болтаешь, приятель, сказал он себе, и умолк.
– Спасибо, мастер. Еще я хотела спросить у вас совета. Какие книги вы порекомендуете мне по следующим дисциплинам…
– Простите, сударыня. Вы обедали?
– Нет, – моргнула гарпия.
Вопрос определенно застал ее врасплох.
– Я тоже. И готов съесть быка. При моей комплекции надо хорошо питаться. Приглашаю вас в «Гранит наук». Сидя за столом, я без спешки дам вам любые рекомендации. А вы в свою очередь ответите на мои вопросы. Согласны?
– Вам не кажется, что это смахивает на свидание?
Гарпия склонила голову набок. В вишневом оперении объявились жемчужно-серые полоски. А в черных глазах заплясали бесенята.
– Кажется! – выпалил Кручек и покраснел.
Смех гарпии походил на звон льдинок.
– Вы – честный человек, мастер! Я буду ждать вас в ресторации. Откройте окно, пожалуйста.
«Зачем?» – чуть было не спросил доцент, и мысленно обругал себя за тупость.
– Да-да, конечно…
Он сунулся к окну кабинета, мимо рабочего стола, заваленного манускриптами – и едва успел подхватить стопку тетрадей, которую зацепил локтем. Убрав тетради от греха подальше, Кручек обнаружил, что подоконник также нуждается в расчистке. Кипы пухлых, как щечки булочницы, конспектов, лабораторный журнал за позапрошлый год, справочник эфирных констант, черновики статей в «Вестник мага»… Венчал этот горный хребет давно разряженный артефакт в виде семи переплетенных колец.
Его назначение вспомнилось не сразу.
«Ну конечно! Автономный концинатор Губертена! Поддержка порядка в жилом помещении… – Кручек схватил конспекты, с трудом развернулся в узком проходе, прикидывая, куда бы пристроить ношу. – Надо бы его зарядить. Все руки не доходят…»
– Я вам помогу.
«Сам справлюсь!» – хотел возразить смущенный доцент, но не успел. Гарпия пушинкой вспорхнула на стол и принялась за работу. Минута, и вокруг нее возник оазис чистой поверхности.
– Передавайте барахло мне, – недипломатично велела она, – а я буду раскладывать. Пороть вас некому, мастер…
Дальше случилось чудо. Книги сами собой сложились в аккуратные стопочки, корешок к корешку – и улетели на полки. Там, к великому удивлению Кручека, оказалось полным-полно свободного места. Бумаги сортировались и исчезали в ящиках стола, будто мертвецы в могилах при первом крике петуха. Дирижируя метелочкой из конского волоса, гарпия смахивала пыль и между делом уведомляла доцента – где у него что лежит.
Кабинет преобразился, как Принцесса-Грёза, спящая в хрустальном гробу, от поцелуя князя Элоиза. Матиас Кручек с тоской вспоминал былой раскордаш – он сомневался, что теперь сумеет отыскать нужную вещь. Ладно, это ненадолго. Неделя-другая, и здесь вновь вырастут утесы и барханы, меж которых сможет укрыться небольшая армия.
Все-таки зарядить концинатор?
– Премного благодарен, сударыня! Я – ваш должник.
– Вы мне льстите, мастер.
«Год за годом, Матиас. День за днем. Если тебе чего и не доставало, теоретик, так это женской руки. И не только в рабочем кабинете…» Испугавшись крамольных мыслей, доцент залился краской, словно школяр, застигнутый у дамской купальни.
– Окно! – ухватился он за спасительную соломинку. – Уже открываю!
С окном вышла заминка. Похоже, его не открывали со дня сотворения мира. Шпингалеты намертво вросли в петли. Кручек представил, как гарпия опять приходит к нему на помощь, и в сердцах обложил треклятую раму отворень-словом – простым, но действенным.
Он перестарался. Шпингалеты с лязгом вылетели из петель, подняв облако ржавой пыли. Окно распахнулось с грохотом и звоном. Жалобно задребезжали, чудом уцелев, стекла. В лицо ударил ветер, швырнув в кабинет горсть желтых листьев.
Гарпия пришла в неподдельный восторг.
– Браво, мастер! Очень полезное заклинание. На него идет не слишком много маны?
– Не слишком, – буркнул доцент, умолчав, что втрое превысил стандарт.
– У меня хватит?
– Да, – он наскоро прикинул в уме. – Хватит. Даже с запасом.
– Тогда с вас урок вне программы! Сами сказали, что вы – мой должник!
– Хорошо, – Кручек с улыбкой поднял руки, капитулируя.
– Я жду внизу!
* * *
– …Мне, пожалуйста, бифштекс с кровью. И с яйцом.
– Рубленый? С зеленью и оливками? По-строфадски?
– Вы знакомы с нашей кухней? – гарпия была приятно удивлена.
– У нас бывают разные посетители. Мы стараемся разнообразить меню. Кухня Анхуэса, Бадандена, Строфад, Малабрии, Турристана… – кельнер попался словоохотливый. – Фарш сбрызнуть лимонным соком? Острый соус «Коккинос»?
– Лимона не надо. «Коккинос» – да. Без уксуса.
– Что желаете пить, сударыня?
Едва завидев гарпию, умница-кельнер бегом вынес из подсобки высокий табурет. Теперь голова Келены располагалась не ниже головы доцента. При беглом взгляде со стороны могло показаться, что Кручеку составила компанию красивая дама в экзотической накидке из перьев.
Это отчасти успокаивало доцента.
Он уже раскаивался, что пригласил гарпию в «Гранит наук». Нашел место! Под открытым небом, на виду у всего Универмага… Что скажут коллеги? Его могут неверно понять. А что подумают студенты о Келене?
«Ей наплевать, что о ней подумают. А ты, Матиас? С каких пор тебя стали беспокоить досужие сплетни?»
– Апельсиновую воду. С капелькой золотого рома.
– Чудесный выбор! Что угодно вам, мастер?
Кручек заказал эль-дораду в кляре, гарнир из баклажанов, тушеных в сметане, и кружку черного «Магнума». Обождав, пока кельнер отойдет, он решил начать непринужденную беседу.
– Келена, сколько вам лет?
– Сорок шесть.
– Правда?!
Гарпия расхохоталась, наблюдая за красным, как рак, доцентом.
– Правда. Не казнитесь, мастер. Это у вас, людей, возраст женщины – табу. У нас на это смотрят проще. Мы ближе к природе, если угодно.
– Сорок шесть… – приходя в себя, повторил Кручек. – Выходит, мы с вами ровесники. Пара лет роли не играет. Я был уверен, что вам не больше двадцати. Пока не прочитал…
– О переломном возрасте? О ночи старения?
– Да. Полвека молодости и красоты. Полвека – сильной, бодрой старости. Это нелегко укладывается в голове. Человек живет – и не замечает, как постепенно стареет. Сегодня я почти такой же, как вчера. Завтра – почти такой же, как сегодня. Наше «почти» неуловимо; кажется – его и нет вовсе. Но жить молодым, все время зная, что через столько-то лет, плюс-минус год, ты сразу превратишься в старика? Считать месяцы, дни… Страшный жребий. Вам, к примеру, как я понимаю, осталось года четыре-пять… Ох, простите! Мой глупый язык…
– Шесть-семь лет. У женщин первый перелом наступает чуть позже. Но вы ошиблись, мастер. Мы не считаем дни и месяцы. Мы живем в постоянном «сейчас». В конце концов, вы ведь тоже знаете, что со временем состаритесь? Умрете?
– Да. Знаю. Но не верю.
– Я о другом. Вас это ужасает? Мешает спокойно спать?
– Нет, но… Мы не знаем своего срока!
– И мы не знаем. Верней, не ждем. У жизни после первого перелома есть свои преимущества. Внешность – ерунда. Главное – вовремя завести детей. Иначе можно не успеть. Мои сыновья уже взрослые, мне беспокоиться не о чем.
– Скажите это нашим молодящимся красоткам! Вечные «девочки-припевочки», – усмехнулся доцент. – Преимущества, говорите? Да, пожалуй. Я читал, что ваши… э-э-э… старики сильнее молодежи. Сильнее, выносливее…
– Чистая правда. И не только телесно.
– Мне это кажется невероятным! Тело с возрастом в любом случае изнашивается. Тем более, столь резкий скачок… – в Кручеке проснулся ученый. Глаза зажглись азартом, как у гончей, взявшей след. – Тогда отчего же, простите, вы умираете? Если старики крепче молодых? Погодите, не отвечайте… Вы говорили о первом переломе? Значит, есть и второй?
– Есть.
Рядом образовался кельнер. С поклоном поставил на стол апельсиновую воду и пиво. Лучи солнца, клонящегося к закату, пронизали бокал и стеклянную кружку. Напитки превратились в волшебную квинтэссенцию осени. Светлый янтарь, темный янтарь. Прожилки, искры, золотые нити. Пузырьки пены – однажды выпадет первый снег.
– После второго перелома к нам возвращается красота молодости. Но мы утрачиваем способность к полету. За все надо платить. Прекрасная дряхлость – без сил, на земле. Смотреть на небо, как раб на господина – снизу вверх… Хорошо, что мы не боимся будущего. Кто другой терзался бы предчувствием десятки лет подряд. К счастью, это длится недолго. Год, от силы – два.
– А потом?
– Потом мы улетаем.
– Навсегда?
– Отсюда – навсегда.
Кручеку подумалось, что слова гарпии на удивление созвучны времени года. Листья кленов и тополей, кружась, опадают на мостовую. Невесомые паутинки летят в голубизне неба. Пойдет дождь. Его капли повиснут между небом и землей – иллюзия, которой суждено стать лужами и грязью. Отсюда – навсегда. Из городка N – в вечность.
Удивительная дорога.
– Келена, давайте начистоту. Я мог бы придумать дюжину убедительных причин, почему вы решили изучать Высокую Науку. Спроси меня кто-нибудь из коллег, я бы отлично знал, что ответить. Есть области Высокой Науки, где избыток маны вредит делу. Одним нужна сила, другим – ювелирная точность. Семанты, гаруспики, сивиллы… Травы и зелья. Алхимические трансмутации. Микро-императивные воздействия на элементали – новейшее, весьма перспективное направление! Но ведь вы пришли в университет не за этим. Верно?
– Да.
Гарпия взглянула на собеседника поверх бокала.
– Нас осталось слишком мало. Войны не прошли даром. А у вас есть наработанные методики. Мы не уверены, что они помогут. Но подъем осилит летящий.
От Кручека не укрылось ключевое «мы». Выходит, гарпия не сама решила поступать в Универмаг? Ее сюда направили? Едва популяция сократилась…
На языке вертелись десятки вопросов.
– Ваш бифштекс, сударыня. Ваша рыба, мастер.
– Свежая? – задал Кручек первый вопрос.
– Только что из моря! Приятного аппетита!
– Спасибо.
Он принялся за еду, исподтишка наблюдая за гарпией. С такими когтями, как у нее, нужда в столовых приборах отпадала. Рубленый бифштекс? – ха! Гарпия в считанные мгновения располосовала бы и жесткую, как подошва, солонину. А потом, изящно насаживая по ломтику на острый, ухоженный, покрытый гиацинтовым лаком коготок…
Вопреки очевидным преимуществам, Келена предпочла нож и двузубую вилку. Время от времени она жмурилась и что-то мурлыкала. Повар явно угодил клиентке.
«А ты, друг Матиас? Имей ты подобное украшение – стал бы пачкать его жиром и соусом? Обладая пальцами, ты ведь не хватаешь рыбу руками? Обладая губами, не высасываешь подливу с края тарелки? Впрочем, дома, без свидетелей…»
Он в очередной раз зарделся и сделал вид, что подавился косточкой.
– Похлопать вас по спине?
– Спасибо, не надо. Извините, если я коснусь больной темы… Мстительность – общая черта вашей расы?
– Мстительность?!
Он ждал чего угодно. Обиды. Возмущения. Пощечины, наконец. Но такого искреннего изумления, какое возникло на лице гарпии, Кручек не видел нигде и никогда.
– Гарпии-мстители? Вы – большой оригинал, мастер! Менее удачных кандидатов на эту роль не сыскать. Гарпия лелеет черные планы? Живет предвкушением расправы с врагом? Снедаемая гневом и яростью? Памятью о близких, взывающих из могилы? Поэт Биннори – птенец в сравнении с вами. Пиши вы баллады, и Биннори стал бы подметать улицы, – гарпия приятно улыбнулась. – Мы неспособны к мести. Для мести нужны мощные якоря – в прошлом и будущем. Еще лучше – якоря, зараженные паразитами. У нас их нет, понимаете? Как у вас нет крыльев…
– Значит, нет, сударыня? – сбит с толку якорями, он не собирался сдаваться. – А Плотийские войны? Мы подписали мирный договор, но люди-ветераны умирали еще двадцать лет подряд! Диагноз: «похищение души» – хотя ни в одном случае это не было доказано…
Келена нахмурилась, оправдывая собственное имя.
– Я прошу у вас прощения, мастер. Мне следовало догадаться, о чем вы. Я могла бы пожать плечами, обвинить вас в инсинуациях – доказательств и впрямь нет… Но я отвечу честно. Да, это мы, гарпии. Но «мы» – не в том смысле, какой близок вам. Это наши прежние. У них своеобразное представление о «сейчас».
«Наши прежние, – вспомнил Кручек записи Джоша Горгауза, – так Стимфал называет гарпий-покойников. И ни капли грусти, ни крупицы боли. Я щенка, который сдох давным-давно, во времена моего детства, вспоминаю с большим чувством, чем он – сородичей…»
– Мертвые?!
– Да.
Жуткая картина представилась доценту. Как приват-демонолог, он повидал разное. И думал, что обладает, как минимум, крепким желудком. Но духи гарпий-мертвецов, терзающие убийц? Месть, летящая через годы на крыльях безумия? Что нам известно о посмертии хомобестий? О миксантропах-упырях? Призраках? Надо бы у жены Мускулюса проконсультироваться – она лучше знает, с ее-то профилем…
Птица с лицом Агнешки, красивей, чем та когда-либо была при жизни, сидела напротив, играя бокалом.
– Наши прежние не знали, что война кончилась. Они не мстили, а воевали. Пока наши нынешние не сказали им, что все это – лишь якоря, они продолжали войну. Тем оружием, какое у них осталось.
– Вернемся к занятиям, сударыня, – вздохнул Кручек, чувствуя, что с него на сегодня достаточно. – Вы просили рекомендации по поводу учебников. Итак, в первых двух семестрах…
Возле университета остановилась карета. Черная, без украшений. С облучка спрыгнул кучер-ассистент, открыл дверь, помог выбраться Кристобальду Скуне. Оба гипнота, старик и юноша, двинулись ко входу.
– Вон тот старец, – понимая, что совершает глупость, сказал доцент, – знал вашего деда. Оба тогда были молодыми. Он выкупил вашего деда из плена. Пленнику хотели сжечь крылья.
– Да? – без интереса спросила гарпия.
– Шестирукий Кри. Дед не рассказывал?
– Нет. Вам не кажется, что кучер на кого-то похож?
– Все гипноты похожи, – повторил Кручек сентенцию Скуны. – У всех одинаковые глаза.
Гарпия сменила цвет оперения: с пестрого на бело-рябой, как у кречета.
– Глаза? Наверное. Не знаю. Я смотрела на него со спины. Очень знакомая походка… Может быть, я позже вспомню.
* * *
Она сидит на крыше университета.
Ее окружают каменные монстры. Когда-то их пытались раскрасить. Для форсу, ради правдоподобия, или во имя странной идеи – уже никто не помнит. Камень фигур имел природные краски и оттенки. Со временем все выцвело. Остался серый – грязно-серый, царственно-серый, пепельный. Местами серость застирана до неприличной белизны. Пятна на телах и постаментах напоминают лишаи.
Дракон, химера, грифон. Горгулья, виверна.
И гарпия.
Великолепное зрелище – в настоящее время, вся в настоящем, без остатка, живая гарпия сидит на крыше университета. Такая же серая, как статуи в одном ряду с ней. Лишь по хвосту двумя рядами бегут голубые строчки, передразнивая небо над головой. Из постамента, который она облюбовала, торчат два ржавых прута с поперечиной. Удобный насест. Когти с легким скрежетом сжимают металл. Нет причин бояться – гарпия не упадет, даже если уснет.
У сидящих птиц сжатое положение пальцев фиксируется сухожилиями. Оно изменяется только особым движением мышц.
Распогодилось. Буря, завывая, улетела в прошлое. Тучи откочевали за горизонт. Вечер берет город в плен. Сумерки пахнут свежестью и лавандой. Косматый шар солнца окунается в море. Словно боязливая девчонка, светило пробует воду кончиками лучей. К набережной бегут нити: пурпур, охра, кармин.
Корабли качаются на крови. В порту суетятся муравьи – буря причинила много вреда. Не день, не два уйдут на восстановление. Какой-то фрегат окутался белым дымом парусов. С чего бы капитану приспичило выходить в море на ночь глядя? – думает гарпия. Наверное, военный корабль. Приказы не обсуждают.
И сразу забывает о фрегате.
На западе высится громада Гранд-Люпена, смешная с такого расстояния. Блестит черепица на кровлях предместий. Сверкает булыжник улочек – извиваясь, они поднимаются к центру столицы от моря. Мостовые сделаны из червонного золота. Это ненадолго. Солнце утонуло до половины. Вскоре из пучины вынырнет рыба-ночь.
Гарпия любуется городом.
Она перебирает воспоминания, накопленные за день. Так скупердяй-барон, спустившись в заветный подвал, открывает сундук и просеивает монеты сквозь пальцы. Каждая монетка блестит на свой лад. Эти монеты – однодневки, как бабочки. День, и только – их блеску, сверканию, чувствам, придающим уникальный оттенок. Струитесь, падайте в сундук, роняйте капельки звона…
Завтра монеты останутся на месте. Но блеск уйдет, и звон стихнет навеки. Голые факты, чистая, незамутненная память. Холодные, как сталь, планы на будущее. Никаких чувств. Никаких якорей. В настоящее время, здесь, сейчас, ей доступно все. Любовь, ненависть, грусть. Радость. Все. Вчера или завтра – только знание. Гарпия не жалеет. Она не знает, как бывает иначе.
Она может только догадываться, глядя на людей.
В Реттии, вокруг нее, слишком много якорей. Так много, что она сама начала играть якорьками-однодневками, доступными ее племени. Скоро ночь. Торопись. Последние монетки летят в чрево сундука.
Она закрывает глаза.
И не видит, как дракон слева от нее расслаивается на две фигуры. Одна остается в неподвижности, обвив хвостом опору – так статуя провела немало лет. Другая сжимается в комок и прыгает на гарпию. Столкновение. Когти отпускают поперечину. Оба летят, летят, коротко и страшно, и падают – к счастью, не вниз, с высоты университета, а на крышу за статуями, подальше от края.
К счастью ли? – подумала бы гарпия, если бы успела.
Она лежит навзничь, глядя в лицо прыгуну. Лицо похоже на череп. Щеки, лоб, нос – все расписано углем и белилами. Завтра ей не опознать врага, останься оба в живых и сойдись на очной ставке. Боль в спине. Тупые, горячие толчки. Спасибо птичьему крестцу, спас. Ряд позвонков, сросшихся с тазовыми костями, фактически слитых в единую кость, достаточно прочен, чтобы регулярно выдерживать удар при приземлении.
Вот и сейчас – выручил.
Прыгун ловко придавил ногами птичьи лапы гарпии. Воспользоваться когтями? – нет шансов. Его пальцы мертвой хваткой вцепились в запястья рук, вынырнувших из-под крыльев. Друг на друге, враг на враге; двое незнакомцев. Они похожи на любовников. Долго так продолжаться не может. Но прыгун и не хочет – долго.
Лицо-череп откидывается назад. Ухмылка смерти обнажает оскал – неприятно, неожиданно желтый. И лоб, выкрашенный в цвет погребального савана, бьет гарпию в переносицу.
В последний момент она успевает отвернуться.
Ее шея сходна с птичьей. Это незаметно, но это правда. Позвонков больше, чем у человека; они подвижны и обособлены. Удар приходится в скулу, ближе к уху. Хрустит кость. Щека сразу опухает. Статуи с интересом следят: кто кого. В выцветших глазках виверны – любопытство. Горгулья дразнится, высунув раздвоенный язык.
Сочувствует грифон.
Вдалеке стучит колотушка ночного сторожа. Спьяну или из лишнего рвения, он вышел на работу раньше обычного. «В Реттии все спокойно! Спите, добрые горожане!..» Ритм колотушки усыпляет, отнимает волю к сопротивлению.
В подступающей ночи, на крыше университета, кто-то хочет убить гарпию.
Не дав ударить во второй раз, она приподнимает голову и зубами вцепляется в чужой подбородок. Зубы гарпий подобны кошачьим. Только клыки гораздо короче. Рот наполняется кровью. Прыгун вскрикивает, отшатывается, и гарпии удается вырваться из его объятий.
Теперь ее очередь прыгать.
И взлетать.
Она не намерена продолжать этот нелепый бой. Прочь, подальше отсюда! Но прыгун начеку. Стянутая пружина, леопард в засаде – вот кто он. В сумасшедшем броске он достает лодыжки гарпии и повисает всей тяжестью. Отчаянье, судороги, хлопанье крыльев. Вес противника слишком велик – хочет она того или нет, гарпия возвращается на крышу.
Но теперь она начеку.
Когти рук впиваются в плечи неотвязного прыгуна. Проклятье, под плащом он в кожаном доспехе! Кожа скрипит, местами поддается, но недостаточно. Крылья лупят врага по лицу – ослепить, опрокинуть, заставить отпустить ее лапы. Он отпускает. Вместо ног он перехватывает левую руку гарпии. Вихрь, волчок, запущенный озорником – и гарпия не успевает опомниться, как снова лежит на крыше.
Одна разница, что ничком, а не навзничь.
Ей удается откатиться. Стилет прыгуна ломается, войдя в соприкосновение с краем постамента. Грифон злорадствует, глядя сверху. Грифон с самого начала был на стороне своей, пернатой. Внизу, на площади, подвыпившие старшекурсники горланят «Красный диплом». Трагикомическая история о защите диссертата олухом-некромантом – песня удаляется вместе с певцами, решившими добавить.
Позвать на помощь?
Кто услышит?
Гарпии кажется, что на нее обрушился град камней. Вновь оказавшись сверху, прыгун обрабатывает ее туловище. Основания ладоней, которыми он бьет в грудь, в ребра, куда попало, тверже иных кулаков. Это не ладони, это конские копыта. Впору поблагодарить судьбу за то, что родилась полуптицей. Мышцы, отвечающие за полет, великолепно развиты. Выполняя несвойственную им роль брони, они еще держатся, но от боли темнеет в глазах.
Возможно, здесь она и умрет.
У мысли горький привкус. Горечь отрезвляет. Когти лап раздирают плащ. Плотная ткань сопротивляется, сбивается во вьюк. Когти увязают. Неистовым рывком гарпия освобождается от тяжести чужого тела, возносится на пядь, на две. Взлететь выше она не пробует. Вместо этого, хлопая крыльями так, что должны, казалось, услышать все от порта до Гранд-Люпена, двигаясь спиной вперед, она тащит прыгуна к краю крыши.
Между грифоном и мерзавкой-горгульей.
Человек-скелет сопротивляется. Пытается ухватится за статуи. Руки его соскальзывают, пальцы кровоточат. Еще один рывок. И еще. Балансируя на краю, не в силах удержать равновесие, прыгун хрипит. И падает вниз, в один из трех внутренних дворов университета, на крону высокой, усыпанной плодами рябины.
Как она сумела высвободить когти и не рухнуть следом, гарпия не знает.
Даже не мечтая о полете, она ковыляет вглубь крыши, к трубе. Здесь есть лючок на чердак. Надо молиться, чтобы его не заперли. Избитая, стонущая, еле дыша, гарпия молится. Знать бы еще, кому.
Лючок не заперт.
С чердака она попадает на лестничную площадку. Тишина, покой. Лечь в угол, на груду тряпья? Заснуть до утра? Вместо этого вроде бы очевидного решения, она начинает спуск. Ступеньки не рассчитаны на птичьи лапы. Руками она держится за перила, и боль в груди становится одуряющей. Грудные мышцы птицы – это чудесно. Но над мышцами есть еще грудь женщины. Которой хорошо любоваться или выкармливать детей. А кираса панциря – увольте.
Мне сегодня досталось, думает она. Мне крепко досталось.
– Кто… Кто вы? З-зачем?!
– А вы кто?
– Я – секретарь ректора. Моя фамилия – Триблец. А вы – наша студентка, я в курсе. Вечный Странник, вы ужасно выглядите!
– Помогите мне спуститься.
– Я… понимаете, я очень… А-а, гори оно синим пламенем! Разрешите, я возьму вас на руки? Так будет удобнее. Вы совсем легкая…
На руках секретаря она засыпает. Но просыпается в холле первого этажа. И отказывается, когда Триблец предлагает ее проводить. Вызвать лекаря? – спасибо, не надо. Я – Келена Строфада. Мрачная с островов Возвращения.
Такие, как я, возвращаются сами.
Великолепное зрелище – в настоящее время, вся в настоящем, без остатка, живая, о да, еще живая гарпия пытается остановить извозчика, чтобы добраться к месту своего проживания. Трижды, четырежды и сто раз подряд она жалеет, что отказала Триблецу. Проклятая гордость, бес ее дери!
Извозчики ухмыляются и едут дальше.
Liber IV Орел на аркане Caput XIII
Вот и день прошел, вот и век, и больше –
Время сбора камней и теней…
Оглянись на нас, безымянный боже,
Оглянись и оставь в тишине.
Томас Биннори– Крис!
Нет ответа.
– Кристиан!
Бабушка Марго отвлеклась от плиты. Впрочем, отвлеклась – это сильно сказано. Зовя внука, почтенная дама продолжила жонглировать блинами, пекущимися на двух увесистых сковородах. Чистый цирк! – вот блин с правой сковородки взлетает в воздух, делает сальто-мортале и шлепается обратно неподжаренной стороной. Шкворчит кипящее масло. По кухне течет волна упоительного аромата. Сковорода пушинкой, не издав ни звука, опускается на плиту. Теперь – очередь ее соседки.
Оркестр, барабанную дробь!
– Негодник, опять он запропастился!.. нет, я не дам ему блинчика…
– Я здесь, бабуля!
Парень материализовался из кухонного чада, как демон, явившийся по вызову. Марго знала верное заклятие.
– Подбрось дров, жар спадает.
– Ага…
Кочергой он поддел заслонку и начал переправлять сухие ясеневые чурбачки, которые наколол с утра, в раскаленное нутро печи. Хорошо, что мастер Дидель час назад отпустил его из лавки. Блины Кристиан обожал. Он повел жадным глазом на стол, где томились в ожидании миски с начинкой. Моченая калина, фарш из печенки, жирные брюшки форели – объеденье! Богачи, дурни, брюшками брезгуют. Им филей подавай.
Лаферы! Ничего в жратве не смыслят.
Он вспомнил, как в детстве, сопляк, взятый из приюта, едва не спалил весь квартал. Бабушка Марго велела протопить любимую печь. И Кристиан, впервые допущен к ответственному делу, перестарался. Это теперь он знает, что сосновые полешки кладут на растопку. Потом кидают бук или ясень – они жар дольше держат. От сосны лишь пламя, искры да запах смолы.
В увлечении работой, рад побегу из опостылевшей «блохарни», он без устали кормил ненасытную печь сосной. А огненная прорва требовала еще и еще. Пламя гудело и завывало в трубе. Мальчишка радовался: вон какой жар! Бабушка будет довольна. Отвлекли его вопли с улицы. Выглянув в окно, Кристиан обнаружил толпу зевак, собравшихся под домом. Люди тыкали пальцами в небо и казались обеспокоенными. Оставить гудящую печь без присмотра было боязно, но любопытство пересилило.
Он только на минутку – и сразу обратно!
Кристиан вихрем вымелся на улицу, задрал голову вверх – и обомлел. Из печной трубы извергался столб огня локтей пяти в высоту. Словно через трубу дышал злодей-дракон, пробудившись от спячки. Снопы искр взлетали до небес, норовя пропалить брюхо тучам. Часть искр гасла в вышине, часть осенним звездопадом щедро валилась на соседские крыши. Там, где лежал тес, а не черепица, уже дымилось.
В тот день Крис-Непоседа впервые испугался по-настоящему. Оцепенев от ужаса, не в силах оторвать взгляд от адского фонтана, виноватый, готовый умереть на месте, он стоял, не зная, что делать.
Его спасло чудо, не иначе. Вечный Странник услышал мольбу сопляка, или искры прожгли-таки брюхо туче-неудачнице, но на город рухнул дождь. Не жалкая морось – солидный, знающий себе цену ливень. После бабушка не слишком ругала Непоседу, видя, что приемный внук и так напуган до смерти. Он долго отказывался подходить к печи, и стал крайне осторожен с огнем.
– Хватит, внучек. Сбегай-ка на угол, принеси воды.
Бабушка на диво точно определяла время. Далекий бой часов на башне Большого Консенсуса не играл никакой роли. Его старушка, тугая на ухо, зачастую и не слышала. Но вот сказала – сходи за водой! – и Кристиан ни на миг не усомнился, что водовоз Ираклий сейчас едет по Обоюдной и скоро будет на углу Трубача Клауса и Веселого Тупика. Следовало поторопиться.
Иначе тащись до казенной водокачки…
Громыхая ведрами, он ссыпался вниз по лестнице и бегом рванул к перекрестку. Там ждал знакомый мерин – каурый, с белым пятном на лбу. Впряжен мерин был в телегу с бочкой – огромной, потемневшей от времени. На телеге восседал дядька Ираклий, франт-пьяница: латаный армяк, засаленный картуз, шаровары заправлены в сапоги-"бутылки".
Крис помахал водовозу ведром, да так и застыл с дурацкой улыбкой, намертво приклеившейся к губам. Ведро в поднятой руке качнулось, стукнув парня по макушке. Нет, ударь в темя молния, он и этого бы не заметил.
Рядом с Ираклием, нахохлившись, сидела гарпия.
Вид у Келены был такой, словно она с кем-то подралась. В судьбе дурака, отважившегося сцепиться с пернатой чумой, Кристиан не сомневался, и заранее сочувствовал бедняге. Но Келене тоже досталось. Гарпия неуклюже кособочилась. Когти птичьих лап вцепились в борт телеги – клещами не разожмешь. Выпростав из-под крыла руку, она придерживала платье, разорванное на груди.
Правая сторона лица опухла и посинела.
– Что с тобой? Ты… ты в порядке?!
– Лучше не бывает. Почти в раю, – обрадовала его гарпия. Говорила она хрипло, с неприятным присвистом. Казалось, в ее легких прорвали дыру, и не одну. – Спасибо доброму человеку, подвез. У вас в городе не извозчики, звери…
– Злой народ нынче пошел. Ох, злой, – буркнул Ираклий, встопорщив бурые усы, похожие на клочья разлохмаченного мха. – Родного брата в канаве забудут. Еще и ржут, зубоскалы, что твои жеребцы. Мол, чего не летишь, красавица? Нешто не видно? Не может сударушка лететь. Зашибли птичку. Ну, я и это… мне не в тягость…
Сегодня водовоз был на удивление словоохотлив. Он будто оправдывался перед мальчишкой за свою случайную отзывчивость.
– …все одно по дороге. Бочка, считай, пустая. А сударушка, сразу видать, легонькая. Перышко, не дамочка. Каурка мой простит…
– Я… Я отнесу тебя домой! Я сильный! Тут близко…
Кристиан задохнулся от собственной смелости. Не он ли еще вчера с криком просыпался посреди ночи? Снилось: гарпия гонит его по улицам, настигает…
Ираклий хмыкнул с пониманием.
– Да ладно, орелик. Я сударушку и без твоих геройств доставлю. Девок лапай, кто с ногами. Девки без крыльев, не улетят. Близко, говоришь? Давай, показывай дорожку.
– По Трубача Клауса, три квартала…
Кристиан двинулся рядом с телегой. Мостили улицу еще при Пипине Саженном. Колдобина на выбоине и ухабом погоняет. Тряхнет, гарпия и свалится, не приведи Вечный Странник. Он следил в три глаза – в случае чего подхватить, не дать расшибиться. К счастью, обошлось: Келена держалась крепко.
– Спасибо, дядька Ираклий! Ну уж наверх я тебя, госпожа Келена, – он напустил на себя взрослый вид, – точно отнесу. И не спорь! По нашим лестницам и здоровому бугаю…
– Спорить? – хрустнуло в груди гарпии. – С таким кавалером?
Разжав когти, она спрыгнула, чтоб не сказать, упала, с телеги в объятия «кавалера». Гарпия оказалась тяжелее, чем рассчитывал юноша. Сердце набатом колотилось в груди, пока он взбирался на третий этаж. Мечты сбылись странным образом: обнять красавицу, взять на руки…
И тащить по ступенькам, стараясь не причинить лишнюю боль.
«Какой ублюдок напал на нее? Надеюсь, она порвала его в клочья… – прошлая ненависть, рожденная „соколиной охотой“ на воришку, тесно переплелась с ненавистью новой, сиюминутной. Так сплетаются два тела, и не сразу понимаешь: супруги это на ложе, или враги на поле брани. – Если нет, соберу дружков, найду… размажу в коровью лепешку!..»
Толкнув ногой незапертую дверь, он с трудом удержал равновесие.
– Бабушка! Скорее!
– Чем это пахнет? – вдруг спросила гарпия.
– Блинами…
– Блинами? Вкусно… А что такое – блины?
* * *
Следующие четверть часа третий этаж дома на перекрестке Кладбищенской и Трубача Клауса стал воплощением сумятицы, переходящей в натуральный бедлам. Бабушка Марго причитала, бранила подлого злодея и рвалась помочь бедняжке.
– Я хоть и не лекарь, – кричала она, – а перевяжу в лучшем виде! Ох, капустки, капустки натереть!.. для припарочек… И холодненького приложить! Кристианчик, лети к мяснику Зельнеру, у него лед есть!
Гарпия наотрез отказывалась и от бабушкиных услуг, и от идеи Кристиана сбегать за врачом. Вместо медикуса Келена требовала привести ликтора, а лучше – квизитора Бдительного Приказа.
– Желаю сделать заявление, – упорствовала она.
Бабушка зыркнула на приемного внука – какой еще врач, они все душегубы! – и погнала его за водой, пока дядька Ираклий не уехал. Тут в дом заявилась Герда, распродав цветы, и Кристиан счел за благо исчезнуть с глаз трех безумствующих женщин. Поразмыслив, он решил выполнить распоряжение бабушки. Лучше уж вода, чем Бдительный Приказ. Чтоб честняга-кузарь в сморчковью хаверлу поперся? Он хоть и в завязи, а только драное это холеро…
Водовозка еще не уехала. Сидя на краю телеги, Ираклий отхлебывал из массивной бутыли и вздыхал. Аромат от вздохов был ну никак не водяной. Чувствовалось, что Ираклий в смятении: за гарпию переживает, или стесняется доброго поступка.
Кристиан решил не трогать дядьку. Он наполнил оба ведра, и бочка иссякла. А когда парень поднимался по лестнице, на него снизошло откровение. Или озарение. Или как оно зовется, когда идешь, никого не трогаешь, а тебя обухом по башке – бац! И все так ясно становится, будто свечку зажгли.
Был в его жизни один страх – прошлый, огненный. Был второй страх – паника, и крылатая тень в вышине. А сегодня он нес гарпию на руках, и пришел третий, самый страшный страх: лишь бы не оступиться!
Старые страхи и удрали на цыпочках.
Испугались.
Память осталась, но его больше не бросало в холодный пот. Сердце не билось щеглом в силках. Словно сгорел и развеялся пеплом тайный паразит, сосущий душу. О том, сможет ли он теперь, как и прежде, отважно срезать чужие кошельки, Кристиан даже не подумал. Ерунда какая! Оставьте себе ваши дурацкие кошельки! А мы с утра отправимся к мастеру Диделю – учиться на сокольника. И выучимся.
А Прохиндей Мориц пусть все локти себе изгрызет.
Вот.
Наверху его встретила чадная гарь от сгоревших блинов. Спешила по тесному коридорчику Герда, напутствуемая тирадой бабушки. Раздавался жестяной лязг тазов и кастрюль. Возражала гарпия – судя по всему, безуспешно.
– Воду на кухню! – распорядилась Марго, выглянув из комнаты. – Герда! Ставь котел на плиту! И за блинами приглядывай! От моих блинчиков всяк на поправку идет…
Келена лежала на кровати – на боку, иначе мешал хвост. В подушках, укрытая по плечи байковым одеялом, которое бабушка извлекла из заветного сундука, гарпия выглядела трогательно, если бы не лицо – мрачная решительность, и холодный компресс на скуле.
– Кристиан? Это хорошо. Не мог бы ты…
«К сморчкам не пойду!» – насупился парень.
– …найти капитана лейб-стражи Рудольфа Штернблада. Попроси его навестить меня. Скажи, что на меня напали. Пусть прихватит с собой кого-нибудь из Бдительного Приказа.
Рудольф Штернблад? Живая легенда?! Это же совсем другое дело, обрадовался Кристиан. Капитан – не сморчок-ликтор! Привести героя Вернской кампании, чтобы победитель Бумажного Всадника покарал злоумышленников…
Отличная идея!
– Я его найду!
– Ты знаешь, где капитан живет?
– Знаю! Я весь город, как свои пять пальцев!..
– Буду очень тебе признательна. Спасибо за помощь.
– Пустяки! Если что – всегда пожалуйста!
Кристиан почувствовал, что губы его расползаются в глупой улыбке, а уши начинают дымиться. Он поспешно раскланялся, едва не опрокинув миску с припарками, и вылетел за дверь.
– Славный у вас внук…
Действительно ли он это услышал? Или почудилось?
* * *
– Вы собираетесь ночевать в библиотеке, мастер Матиас?
– А вы, тетушка Руфь?
– Я – да.
Скрипторша не шутила. Она с удобством расположилась в кресле-качалке, шурша спицами. Ряд за рядом, на свет рождался великолепный шарф. Один из многих, щедро раздаренных Руфью Кольраун. Две трети преподавателей щеголяли обновкой в холода, а треть ждала своей очереди. На стойке между абонементами, словно пара кумушек, разместились чашечка желтого чая и блюдце со слойками. Располнеть тетушка Руфь не боялась: поздно.
– Вы серьезно?
– Конечно. Что мне, старухе, делать дома? Сплетничать с компаньонкой? Варить джем на зиму? А здесь хорошо… У меня кушетка есть. Свежее белье. Я ночью с чуриками беседую, если бессонница. С портретами. Они, кто с душой написан, многому научить могут. Ладно, хватит обо мне. Вы-то с чего засиделись?
– Да вот, гороскоп найти не могу. Все перерыл…
Кручек с унынием развел руками.
– Какой гороскоп?
– Древний. В «Турели мифов» он значится, как гороскоп Прессикаэля. И как назло, ни в одном справочнике…
– И не найдете, – мило усмехнулась скрипторша. – Этот гороскоп устарел и считается не вполне достоверным. XVIII коллегия астрологов, Фенрибауэр, решение окончательное, обжалованию не подлежит. Вас интересовал конкретный знак?
– Да. Гарпия.
– Гарпия… – она сощурилась, на миг прекратив вязание. – Конец зимы, начало весны. С 13-го злыдня по 18-е сочня, согласно Шигейскому календарю. Знак уходит, считай, в канун Солнечных весов. Что ж там было-то, а? Память совсем никудышная стала… О!
Руфь хлопнула себя по лбу, возликовав.
– Символ мести. Человеку-гарпии трудно дается прощение. Годами он носится со своим недовольством и завистью. Радость ему приносят несчастья врагов. Не все люди этого знака – чудовища, но их пронзительная энергичность режет восприятие окружающих. Спросили бы сразу, мастер Матиас. И не сидели бы допоздна…
– Тетушка! – доцент готов был расцеловать спасительницу в обе щеки, но не знал, как почтенная дама отнесется к его лобзаниям. Все-таки они здесь наедине. – Откуда вам это известно?
– Обижаете, мастер. Как-никак, я сивилла. Пускай и в отставке. Гороскопия входит в мое образование. Чаю хотите? Я заварю свежий.
– Скажите, – Кручек смотрел, как скрипторша берет в ладони котелок с водой, доводя до кипения. У него бы на нагрев ушло вдвое больше времени, – у гороскопа Прессикаэля есть основания? Я имею в виду, знак Гарпии соотносится с реальными гарпиями?
«Символ мести, – подумал он. – Неужели Келена мне соврала?»
– Наверное, – тетушка Руфь перелила воду в заварник и от души сыпанула туда чаю, похожего на щепоть сосновых игл. – Все гороскопы основываются на ряде фактов.
– А кто там еще, громе гарпий?
– Китоврас. Сатир. Псоглавец. Сирена. Леонид.
– Вы можете вспомнить их значения?
– У человека-Китовраса звериная сущность доминирует над человеческой. Он не контролирует ярость, похоть, зависть и страх. Страсти затмевают его разум. Человек-Псоглавец имеет злой нрав. Рассерди его, и он готов оторвать тебе голову. Если ему приходится сдерживать кровожадность, он страдает.
– Интересное дело… Дальше!
– Человек-Леонид хитер и расчетлив. С виду скромник, он старается перехитрить других. Его самая большая радость – экономия денег. Человек-Сатир – бесстыжий бабник. Его дорога вымощена разбитыми сердцами. Женщины-Сатирессы склонны разрушать чужие семьи. Люди-Сирены пользуются своим обаянием в корыстных целях. Вам расписать по календарю?
– Спасибо, не надо. Так вы говорите, гороскоп сочли устаревшим? Недостоверным?
Взмахом руки скрипторша отправила ему слойку – скрасить ожидание.
– На вашем месте я бы не обольщалась, дорогой мой. Решение принималось голосованием. Перевес в один голос, смешно сказать. Я думаю, опоздавший к началу заседания астролог просто был с похмелья. Не вник, за что голосуют, и наугад бросил в урну белый камушек. Как по мне, вполне приличный гороскоп. Древние знали, что делают. Хотя…
– Что, тетушка?
– В молодости этот гороскоп очень смущал меня. Факты – фактами, древние – древними, а есть в нем гнильца… – она нахмурилась, что было совсем непохоже на добрую, веселую Руфь Кольраун. – Обратите внимание на характеристики. Гарпия – мстительна. Псоглавец – зол. Китоврас – безрассуден. Сатир – похотлив. Сирена – лжива. Человек-Минотавр – это вообще букет пороков.
Она взяла чашечку, пряча раздрай души за обыденностью действий.
– Ничего хорошего. Ни единой добродетели. Ни одного приличного качества. Сплошные гадости. Нас учили, что гороскопы… Короче, я рада, что именно этот гороскоп вышел из употребления. Мне бы не хотелось верить в поразительное убожество миксантропов. Даже в приложении к людям, как объектам гороскопов. И потом…
Щелчок пальцев. С дальнего стеллажа вихрем сорвался увесистый том. Трепеща страницами, он пролетел через библиотеку и упал в руки скрипторши.
– Бальтазар Кремень, медикус и террограф. «Записки». Вот он пишет о псоглавцах, – Руфь быстро нашла интересующую главу. – Обратите внимание, вам должно быть поучительно. «Если псоглавец три ночи подряд воет на кладбище, глядя на ущербную луну – на этом погосте больше никогда не встают покойники.» Каково?
– Не верю! – усомнился Кручек. – Будь так на самом деле, мы бы давно использовали псоглавцев для охраны кладбищ. Зачем тогда руны, обереги, «Установление о посмертной заботе»? Повыл три ночи – и спите спокойно, дорогие усопшие!
– Вот и вы, мастер. И вы тоже. «Мы бы использовали…» На месте псоглавцев я бы не слишком хотела, чтобы мной пользовались. И помалкивала бы в тряпочку. Конфликт с кладбищенскими магами – кому нужны конкуренты? Конфликт с некромантами. Неудивительно, что псоглавцы не спешат наладить сотрудничество. Знаете, что еще пишет Кремень?
Тетушка Руфь отложила книгу и прикрыла глаза, вспоминая.
– Китоврасы, согласно «Запискам» – полиглоты. Невероятная способность к изучению языков. Если они берутся учить человека, ученик очень быстро прогрессирует.
– Почему?
– Голос китовраса – ниже нашего. В нем скрыты инициирующие модуляции. Леониды могут прекратить засуху, или уговорить солнце выглянуть из-за туч. Это не магия. Это природная способность. Сатиры – единственные, от кого рожают наши женщины. Почему – неизвестно. А главное, никому не интересно. Я иногда думаю…
Приблизясь к столику доцента, тетушка налила ему чаю. В воздухе запахло летним утром, долгой жизнью и праздным созерцанием. Как раз в эту минуту секретарь Триблец спускался по лестнице, неся на руках избитую гарпию. Но ни Матиас Кручек, ни Руфь Кольраун даже не догадывались о случившемся.
– Помните, что писал Нихон Седовласец? «Мы, маги, самонадеянны, как никто в мире. Мы носимся с Высокой Наукой, как дурень с торбой, и не замечаем, что мироздание безразлично к новоявленным владыкам.» Скажите, мастер Матиас… Что, если он был прав?
* * *
Стук в дверь вырвал Келену из мутной дремы.
– Разрешите?
– Да…
Она с усилием приподнялась на локте. Откинулась на подушки, натянув одеяло до груди. Если больному предписан постельный режим, то больной не должен иметь птичий хвост. На спине лежат только мертвые птицы. А мы еще полетаем. Кое-кто сегодня тоже полетал, и прилетел навеки.
Прошло слишком мало времени. Ее переполняли чувства. Возбуждение, гордость, запоздалый страх. Утром волна сойдет на нет. Исчезнет. Расточится, как бесы от слова экзорциста. Но это будет утром. Не сейчас. Овал Небес, как люди постоянно живут с этим? В волнах – спереди, сзади, вокруг? Как они не тонут?
Она вспомнила поэта, терзаемого паразитом, и прекратила бесплодные мудрствования.
– Добрый вечер, сударыня.
– Ты преувеличиваешь, Конрад. Для этой дамы вечер был не слишком добрым.
В комнату вошли двое мужчин, низкорослых по человеческим меркам. Богомол и сверчок, подумалось гарпии. Богомола – капитана Штернблада – она знала. Однако, сняв шляпу, капитан преобразился. В глаза первым делом бросалась его пышная, крашеная хной шевелюра. Пряди ниспадали на плечи; часть волос была заплетена в косицы цвета красной бронзы.
Парик? Нет, похоже, свои.
Парик носил «сверчок», затянутый в щегольский, с иголочки, мундир. Напомаженные букли благоухали миртом и голубым ирисом. Из цирюлен не вылезает, решила Келена. Там и сыск ведет. Офицер не вызвал у нее симпатии.
Судя по лицу визитера – словно травяного клопа раскусил! – это чувство было взаимным.
– Позвольте представить вам моего друга, обер-квизитора Бдительного Приказа.
– Барон фон Шмуц, к вашим услугам.
Барон церемонно поклонился.
– Простите мое неглиже, ваша светлость. Присаживайтесь, господа. Я хотела бы сделать заявление.
Обер-квизитор с сомнением осмотрел два стула, имевшиеся в комнате. Стянув с левой руки тонкую бязевую перчатку, он обмахнул сиденье избранника – и сел, будто в пыточное кресло. Штернблад крутнул второй стул на одной ножке, оседлал, как укрощенного жеребца, и приготовился слушать.
– Заявление официальное? – фон Шмуц извлек из планшета бумагу и палисандровый футляр.
– Да.
– Я обязан составить потокол.
Из футляра явились чернильница-непроливайка, перья и миниатюрное пресс-папье. Барон изучил кончики перьев и остался недоволен.
– О чем вы хотите заявить?
– Сегодня, на закате, я подверглась нападению.
– Место нападения?
– Крыша Универмага.
– Злоумышленник напал молча? – барон не удивился. Наверное, его способность удивляться давно иссякла. – Без предупреждения?
В течение всего рассказа он слушал, не перебивая. Лишь время от времени чиркал перышком, выстраивая ряды значков-муравьев. Капитан знал, что фон Шмуц владеет искусством стрикт-письма, но наблюдать за процессом довелось впервые.
– Опишите место, куда упал злоумышленник. Я отправлю ликторов – забрать тело.
Гарпия заворочалась, меняя позу, и принялась объяснять. Барон ловко набросал схему корпусов Универмага, крестиком отметив предполагаемое место падения.
– Здесь? – он протянул лист гарпии.
Выпростав из-под одеяла тонкую руку, Келена провела по схеме лакированным когтем. Фон Шмуц, большой ценитель маникюра, немедленно заинтересовался. Штернбладу на маникюр было плевать, но он тоже заинтересовался. Да так, что покинул стул и уткнулся в пальцы Келены чуть ли не носом.
– Верно. Здесь.
– Спасибо. У меня больше нет вопросов. Если найдем тело, пригласим вас на опознание, – от капитана не укрылось неприятное «если», вместо ожидаемого «когда». – Однако, раз нападавший погиб, дело, скорее всего, будет закрыто. Он был один?
– Один.
– Вот видите. Если преступник мертв, привлекать к ответственности некого.
– Я понимаю. Но сочла необходимым…
– Вы поступили наилучшим образом. Теперь моим коллегам не придется выяснять, откуда взялся разбившийся в лепешку субъект под стенами университета.
Барон с недовольством покосился на Штернблада. Мол, стоило из-за такого пустяка выдергивать меня из цирюльни? Тащить через полгорода?! Дело выеденного яйца не стоит. А заявление любой ликтор принял бы.
– Ты закончил, Конрад? – капитан проигнорировал красноречивый взгляд обер-квизитора. – Обожди меня на улице. Я скоро к тебе присоединюсь.
Когда барон покинул комнату, Штернблад обернулся к гарпии.
– Парнишка сказал, вы отказываетесь от лекаря. Я подумал…
Он улыбнулся. Обычное брюзгливое выражение словно тряпкой стерли с лица капитана. Нет, он не сделался моложе, но стал… Доступней? – предположила гарпия. – Ближе? Понятней?
Келена не сумела подобрать нужное слово.
– Может, вы согласитесь на солдата? Я кое-что смыслю в телесных повреждениях. А стесняться меня не надо. Я вам в отцы гожусь. Такая юная студентка, как вы, готова довериться старому вояке?
– Такая юная студентка, как я?
Теперь настал черед капитана всматриваться в избитое, опухшее лицо гарпии. И это лицо навело его на мысль о совершенной ошибке.
– Да, готова. С радостью.
Гарпия откинула одеяло. Бабушка Марго помогла ей переодеться в ночную сорочку. Красивую, батистовую, с кружевами. Это если смотреть спереди, потому что сзади сорочка была разрезана по всей длине – и стягивалась тесемками на спине, под крыльями, и ниже, на крестце.
Кто другой, пожалуй, залюбовался бы грудью гарпии. Штернблад по-прежнему смотрел в лицо. Меж бровями капитана залегла плотная складка. Рот превратился в шрам. Душой капитан был там, на крыше, и совершал много разных, полезных для общества действий.
Жаль, что мерзавец разбился.
Очень жаль.
– Нравлюсь? – с вызовом спросила Келена.
– Не бойтесь меня. Если станет больно, не сдерживайтесь. Стон не постыден. Говорите, негодяй бил вас лбом в лицо?
Капитан молниеносно наклонился вперед. Казалось, он хотел поцеловать гарпию. Так целуют подростки – с налета, торопясь отскочить назад. Скорее клюют, чем целуют. В последний момент Штернблад опустил побородок и легко, воздушно, еле слышно коснулся лбом здоровой щеки Келены.
– Так?
– Да. Но не столь быстро. Он хотел ударить в переносицу, а я отвернулась. И он был не так нежен, как вы.
– Позвольте…
Тонкие, детские пальцы капитана ощупали вспухшую от удара скулу. Гарпия застонала, но все быстро закончилось.
– Вам повезло. Кость цела. Ушиб скоро пройдет. Прикладывайте холодное. И бабушкины припарки – по-моему, она знает, что делает. Скажите, у вас кости полые? Как у птиц?
– В большинстве – да. Иначе мы не смогли бы летать.
– Прочные? Я плохо разбираюсь в анатомии ястребов.
– Прочные. Плотные стенки, внутри – специальные распорки. Все-таки я – не человек, капитан. Не забывайте.
– Я помню. И еле сдерживаюсь от желания накинуться на вас с матримониальными целями.
– Вы холосты? В жизни не поверю, что ни одна женщина…
– Я – вдовец.
– Извините.
– Ничего. В сущности, я был женат, как иные холостякуют. И до сих пор не могу простить себе этого. Продолжим осмотр? Итак, кости полые. Но к лицевым костям это не относится?
– Нет.
– Интересное дело…
Гарпия хотела спросить, что такого интересного капитан нашел в ее лицевых костях, но передумала. Еще сочтет кокетством. Пусть уж осматривает дальше. В присутствии Штернблада ей становилось легче.
Не заботясь ее мыслями, капитан ловко ощупал Келену со всех сторон. Тут довелось всласть постонать. Зато и приговор был мягок: все кости целы. У вас замечательные ребра, сударыня. Латная корзинка, не ребра. И грудина – просто прелесть. Нет, я ни на что не намекаю. Эту роскошную часть тела пусть осмотрит бабушка Марго. Надеюсь, там все в порядке.
– Он бил вас вот так?
Капитан стукнул основанием ладони по столу. В ответ стол хрустнул, намекая: чего изволите? Сломаться? Треснуть пополам? Это мы запросто…
В дверь сунулась бабушка, озабоченная сохранностью мебели. Увидев приятную улыбку капитана и гарпию – полуобнаженную, раскрасневшуюся, в подушках – мудрая женщина мигом ретировалась. За ее спиной маячил Кристиан, который огреб затрещину.
– Да.
– Скотина. Животное. Ох, простите…
– Пустяки.
– Что ж, сударыня, я удовлетворен.
– В каком смысле?
– В хирургическом. Печень, сердце и прочее – в лучшем виде. Костяк в порядке. Остальное – до свадьбы заживет. Отлежитесь, отдохните. И станете летать лучше прежнего. Спокойной ночи.
– Всего доброго, капитан. Надеюсь, вы приснитесь мне сегодня.
– Не смею и мечтать!.. вам нужен покой…
Когда он выходил, дверь стукнула по лбу вернувшегося Кристиана. Не сильно – капитан Штернблад был добр и снисходителен к молодежи.
* * *
Фон Шмуц обнаружился под ближайшим фонарем. С придирчивостью эксперта барон изучал свой маникюр, находя результат плачевным. Картина маслом, подумал капитан. Ночь. Улица. Фонарь. Барон. Неудовлетворенный эстетически.
– Что скажешь?
– Скажу, что рад тебя видеть. Скажу, что ты мог бы найти более приятный повод для встречи. Не говоря уже о более удачном времени.
– Извини. Покушения редко случаются в подходящее время.
– Покушения?
Барон оторвался от созерцания ногтей и со скепсисом воззрился на капитана.
– А как ты это назовешь?
– Как угодно. Разбойное нападение. Злостное хулиганство с нанесением телесных… Какой тяжести у нее повреждения? Ты ведь остался, чтобы это выяснить?
К проницательности друга Штернблад давно привык.
– Средние. Ушибы, растяжения, синяки. С неделю не сможет летать.
– Короче, пустяки. Отделалась легким испугом. Ликторов я, конечно, пошлю, тело подберем… Честно тебе скажу, Руди: это «глухарь». Потерпевшая жива, злоумышленник мертв. Финита ля трагедия. Тысяча бесов! Все бы нападения так заканчивались! Глядишь, мне бы отпуск чаще давали.
Вокруг фонаря начала кружить ночная бабочка. Большая, мохнатая, она наводила на мысли о чьей-то неприкаянной душе. По лицу барона запрыгала беспокойная тень, искажая черты. Казалось, обер-квизитор потешно гримасничает, дразня собеседника.
– Финита, не спорю. Но по дороге сюда я рассказал тебе о похожем случае. С псоглавцем. Напал не пойми кто, без мотива, бился, как профессионал. Не видишь совпадения?
– Не вижу. Знаешь, сколько в столице за неделю совершается тяжких преступлений? Тьма. А с твоим псоглавцем вообще – концы в воду. В канале что ни день, труп находят. На мне без совпадений уйма дел висит…
Фон Шмуц стал педантично загибать пальцы.
– Разгром налоговой конторы Лепелетье. Убийство судьи Бюва. Аукцион в Кресет – его вдребезги разнесла толпа, подкупленная конкурентами. Веселая охота на стражников в Корвольском лесу. Ничего себе веселье! – шутники ловили одиноких стражников, рвали мундиры, отбирали оружие и накачивали вином до полусмерти. Я горю на работе синим пламенем. Прокуратор Цимбал дерет с меня три шкуры. А личная жизнь…
Итог загибания пальцев сложился в четыре полновесных кукиша.
За углом ударила колотушка ночного обходчика. Вдалеке прогромыхала телега. В окне дома напротив бранились супруги. Город жил обычной жизнью. Кому-то прямо сейчас помогали расстаться с кошельком. Несмотря на сетования барона, Реттия славилась спокойствием – в сравнении с Порт-Фаландом, Маал-Зебубом или Баданденом.
– В столице обитает десятка полтора миксантропов. Два нападения подряд – не многовато ли?
– Покушения на хомобестий? Жертвы живы, нападавшие – мертвы? Извини, Руди, я не верю в банду самоубийц. Если это сговор, то на редкость бестолковый!
– Случайность?
– У меня пока нет версии. Наберись таких случаев хотя бы с полдюжины – можно будет делать какие-то выводы. А так… Ни зацепок, ни мотивов, ни подозреваемых. Предупреждаю заранее: на многое не рассчитывай.
Капитан кивнул. Он видел: в первую очередь барон убеждал в бесперспективности расследования самого себя. Обер-квизитор чуял, что дело нечисто. Оттого и нервничал.
– Спасибо, Конни. На большее я и не рассчитывал. Как Генриэтта?
– Продолжает ходить на службу. С ее-то животом… Медикус сказал: прогноз благоприятный, осложнений не предвидится. Но я все равно волнуюсь. Ты бы в гости зашел, а?
– Зайду. До встречи!
– Я буду ждать. Кстати…
Уже сделав пару шагов, фон Шмуц вдруг остановился за пределами освещенного круга.
– Есть одна версия. Но, боюсь, она тебе не понравится.
– Говори.
– Что, если в обоих случаях нападали не люди? Что, если твои креатуры пытаются выгородить своих же? Хомобестий? Не выносить сор из избы? Пусть власти думают, что злоумышленники погибли. А мы между собой разберемся, по-тихому. Чем не версия?
– Тоже вариант, – задумчиво протянул Штернблад. – Спасибо, Конни…
Однако размышлял капитан о другом. Признайся он в этом барону, и тот зауважал бы друга еще больше. Перед глазами Штербнлада стояли когти гарпии. Острые, холеные, блестящие от лака коготки. Словно гарпия вышла из цирюльни, побывав у хорошего ногтяря.
Caput XIV
Я говорю, а ты не понимаешь,
Не то чтоб невнимательно внимаешь –
И шляпу с уважением снимаешь,
И смотришь, как колеблется гортань,
Но в смысл тебя конфеткой не заманишь,
И нет тебе в том смысле ничерта.
Томас Биннори– А сокола приручить можно?
– Сокола? Можно. Женщину и сокола, как сказал Кюренберг, певец любви и доблести, приручить легко. Сумей их приманить, и они сами будут тебя искать.
– Мастер Дидель! Я же серьезно! А вы все о бабах…
– Это, значит, я о бабах? Я?! Старый, больной, вымазанный куриным дерьмом толстяк? Ладно, пролетели. Запомни первое правило сокольничьего, мой юный почемучка. Ловчая птица не получает удовольствия от общения с тобой. Завоевать ее доверие – это месяцы кропотливого труда. Когда сокол впервые сам прыгнет тебе на руку… О, с этой победой может сравниться лишь… ну, в смысле… Короче, это очень приятно.
Великан-сокольник причмокнул, демонстрируя, насколько это приятно. Эффект вышел устрашающий. Борода дыбом, усы – вениками. Чмок – майским громом. Кристиан аж поперхнулся, подняв голову от нарезанных полосок кожи.
– Правило второе: в период приручения обоим предписывается строжайшая диета. Клюв на замке, рот на запоре…
– Обоим?
– Да. И птице, и охотнику. Птице надо сохранять вес, необходимый для полета.
– А человеку?
– Человеку потребуется настырность крысы, лезущей за салом. И упрямство осла, не желающего тащить поклажу. Ничто так не способствует настырности и упрямству, как постоянное чувство голода. Поверь моему опыту, – Дидель гулко хлопнул себя по выдающемуся брюху. – Уж я-то знаю, наголодался…
– А кречета? Кречета приручить можно?
– Спроси у Тихони. Он тебе ответит.
В клетке громко заклекотал белый кречет. Словно расхохотался над остроумной шуткой. Кристиан, обжившись в лавке, до сих пор не был уверен, кто здесь кого приручил: Дидель – Тихоню, или Тихоня – Диделя, а заодно и самого Кристиана.
Во всяком случае, кормил парень кречета и убирал за ним, не дожидаясь приказа. Кречет же оказывал снисхождение птенцу-желторотику, принимая знаки внимания.
– А беркута?
– Можно и беркута. Лучше – годовалого. Первую неделю не корми его и не давай спать. Да, и все время будь рядом. Сыграй птице на лютне, чтоб лучше привыкала, – Дидель оставался серьезен. Понять, когда он веселится, а когда – нет, было решительно невозможно. – Голод не тетка. Однажды он возьмет у тебя первый кусочек мяса. А потом привыкнет и к клобучку.
– А орла?
– А чем орел лучше остальных? Королевская птица, согласно «Табелю о рангах» Альбануса Тишайшего. Герцогу – сокол, барону – ястреб-воробьятник. Прекрасным дамам – самка воробьятника. Выражаясь куртуазно, леди-ястреб. Впрочем, в наш ужасный век «Табель» забыт. Всяк охотится, с кем пришлось…
Разговор увлек Кристиана. Он даже перестал торопить солнце. Еще в обед парень страстно желал светилу кубарем скатиться к горизонту. Настанет вечер, Дидель отпустит его, и он помчится домой – справиться о здоровье Келены. А вот поди ж ты…
Разговор о приручении завел сам Кристиан. Великана радовала любознательность подмастерья. На вопросы он отвечал с охотой. Но крылась в разговоре одна закавыка, к которой парень двигался неуклонно, и теперь решил, что момент настал.
– А гарпию?
Великан замолчал, глядя перед собой. Казалось, работа поглотила его без остатка. Дидель возился с заказом графа Ла Фейри, страстного любителя охоты. Живя в провинции, заказы на снаряжение граф отсылал лучшим мастерам столицы. Бубенцы из серебра, чей перезвон различался до полутонов. Тисненые опутенки. Ремешки с рубинами. Нагруднички с гербом, расшитые золотом. Клобучки с бриллиантами.
Много денег и много скуки – ужасное сочетание.
– Давай-ка вернемся к орлу, – наконец сказал великан. – Знаешь, как приручают орлов в Турристане? Если это взрослая птица, а не «гнездарь», взятый птенцом?
– Н-нет…
Кристиан чуть не заплакал. Сокольник ловко соскочил с главной темы.
– Тугры – лучшие орлятники в мире. Потому что жестокие. Я знаю, я учился у Абдляра Ниразхаллы из Мецага. Не морщи нос, юноша: жестокость – грех, но грех полезный. Итак, тугр ловит орла – вольного дикаря, хищника, короля небес. Первым делом орлу накрывают голову клобучком, и птица слепнет. Вообрази – ты, который, паря в вышине, различал волоски на голове мыши, теряешь зрение. Но этим мучения не заканчиваются. В юрте тугр натягивает аркан и сажает на него орла.
В клетке раскашлялся кречет.
– Потерпи, Тихоня. Нам надо воспитать достойную смену. На чем мы остановились? Да, орел на аркане. Ты, сидевший на скалах, на мощных ветвях чинар, превратился в канатоходца на канате. Все силы уходят на сохранение равновесия. А вокруг – сплошная ночь…
Нож соскочил с кожаного лоскута, порезав Кристиану палец. Парень сунул палец в рот, не издав ни звука. Он слишком живо представил: мрак, незнакомые звуки, незнакомые запахи, и канат под ногами. Что под канатом? Пропасть? Бездна?
Ад?!
С утра он занимался обычными для подмастерья делами. Подмел в лавке. Прибрался. Смахнул пыль с развешанного снаряжения. Обслужил Тихоню. Выслушал сотню-другую замечаний Диделя. Запомнил в лучшем случае десяток. Сбегал на угол, встретил Герду с пирожками. Сейчас он впервые понял, что если где-то и есть рай, то выглядит рай примерно так.
– Аркан непрерывно раскачивают. Каждый, проходящий мимо, считает своим долгом дернуть его. Вновь и вновь слепой орел, нахохлившись, хлопая крыльями, восстанавливает рановесие. Тугр-охотник дергает аркан чаще других. Перед сном, после пробуждения. Когда орел задремал. Когда он хочет есть. Когда молчит. Всегда. И опора качается, грозя опрокинуть тебя в неизвестность.
Тихоня вскрикнул по-человечески. Топчась на месте, кречет щелкал клювом, нервничал, толкался в прутья клетки. Черные когти впились в брусок дуба, оставленный для забавы птицы. Послышался неприятный хруст.
– Я уже заканчиваю. Всякая пытка должна иметь перерывы. Иногда тугр гладит орла, снимает клобучок, ласково говорит с пленником – и дает кусочек мяса. Но дает не просто так. Потянувшись за едой, голодный орел должен сесть на руку, защищенную перчаткой. На этом благотворительность заканчивается. Снова аркан, мрак и зыбкость. Снова голод. И – рука с подачкой. Месяц, и ты выучиваешь урок до конца твоих дней. Перчатка и лицо хозяина – покой и еда. Все остальное – ночь и мука. Теперь ты, орел, вернешься, даже побывав в небе, даже убив дичь; вернешься на руку-владычицу за милостыней…
– А гарпия? – осмелился напомнить Кристиан.
– Давным-давно, тысячу лет назад, когда я чирикал глупости, Абдляр Ниразхалла предложил коллегам эксперимент. Он хотел приручить гарпию. По орлиной методе. В горах Шеш-Бед есть два-три поселения гарпий… Мы воевали с гарпиями, считая их полулюдьми. Тугры были последовательней. Они отказали гарпиям во всем человеческом, полагая их птицами. С птицами не воююют. Их уничтожают, терпят или приручают.
– И что?
– И ничего. В смысле, ничего не вышло. Аркан, клобук – полный крах. Месяц, два, пять. Постыдный конфуз. Гарпия отказывалась принимать охотника, как избавителя и хозяина. Абдляр потом сказал мне, что узнал секрет. Гарпии – другие. Не вполне птицы, не до конца люди. Я решил, что он говорит о внешности. И ошибся. Он говорил о скрытом. Мы с тобой помним о вчерашней пытке, как если бы она творилась сегодня. Мы боимся завтрашней пытки, как если бы она происходила сейчас. Боль, ужас, мука. Терзания. Нынешняя пытка стократ усиливается яркой памятью о прошлой и кошмарным предчувствием будущей. У гарпий – иначе.
Дидель замолчал. Ловко орудуя шилом, наметил места для розеток под драгоценности. Позвенел бубенцами, прислушался. Подтянул язычок у самого маленького. Кристиан не торопил сокольника.
– Гарпии помнят, что было с ними вчера. Гарпии понимают, что произойдет завтра. Но их память и понимание свободны от чувств. Абсолютно. Не огонь, но холодная сталь. Усиления не происходит. Абдляр называл это отсутствием якорей. Верней, так называли это гарпии в разговоре с Абдляром.
– В разговоре?
– Ты не ослышался. С тех пор тугры полагают гарпий равными себе. Другими, но равными. Лишь равный способен не стать рабом, если не хочет. Рабом страсти, мечты, воспоминаний; рабом живого хозяина. Обучая птицу, помни: она – не друг тебе. Столкнувшись с хомобестией, знай: в ней может оказаться больше человеческого, чем кажется на первый взгляд. Но тогда…
Дидель встал, сотрясая лавку.
– Что тогда, мастер?
– Тогда нечеловеческое будет выглядеть страшнее.
– Или вовсе перестанет замечаться, – рискнул предположить Кристиан.
– Тем хуже для тебя. Однажды оно все-таки станет заметно. А ты окажешься не готов. Правило третье, мой любопытный друг: никогда не смотри птице в глаза. Во-первых, ты не увидишь когтей. Во-вторых, кто-то из вас обязательно испугается. А это опасно…
* * *
Поутру глазам лавочников, домохозяек и ребятни, обитавших в окрестностях Веселого Тупика, предстала неординарная картина. По Кладбищенской улице шагом ехал всадник с песьей мордой. Восседая на мышастой кобыле турристанских кровей, псоглавец был облачен в мундир лейб-стражника. На макушке красовалась форменная треуголка – бант, галун, перья страуса.
Золотая кисть, как требовал устав, висела сбоку, щекоча бахромой краешек пасти.
Парика всадник не носил. Временами он снимал треуголку – вытереть пот со лба, либо помахать хорошенькой белошвейке, высунувшейся из окна. Тогда острые собачьи уши высвобождались и смешно торчали вверх. Однако зубоскалить по этому поводу никто не спешил. Такие уши хорошо слышат, а такие клыки славно грызут.
В поводу он вел за недоуздок вторую кобылу – пегую, в диковинных светло-лиловых разводах. Окрасом кобыла напоминала малабрийскую зебру, полинявшую от дождей, или скульптуру из орнаментального мрамора. Судя по философскому спокойствию лошади, весы склонялись в пользу статуи.
Заседлали пегую странно. Ее спину, поверх обычной попоны, венчало толстое одеяло из верблюжьей шерсти, сложенное вьюком. Две подпруги надежно фиксировали одеяло. Стремян у импровизированного седла не наблюдалось.
Псоглавец подъехал к перекрестку, остановился возле углового дома и стал ждать. Терпения Доминго, сыну Ворчака, было не занимать. Только оно ему не понадобилось, терпение.
– Куда?! Не пущу!
Окно на третьем этаже открыли с рассветом. Голос бабушки Марго далеко разносился по улицам. Что ответили бабушке, осталось тайной. Но ответ сердобольную старушку не удовлетворил.
– Какие занятия? Тебе лежать надо! Сил набираться, бульончик пить…
Доминго оскалился, ухмыляясь. Пророчества капитана Штернблада, из-за которых он и приехал сюда, захватив вторую лошадь, сбывались.
– Упр-р-рямица, – рыкнул он.
– Горе мое, дитё неразумное! Куда она денется, твоя наука?
Бабушка Марго привыкла опекать внуков. Хоть своих, выросших и разлетевшихся по свету, хоть приемных. Опека являлась стержнем ее жизни. Забери, и женщина – марионетка с оборванными нитями – грудой тряпья ляжет на землю. Сейчас Келена в полной мере ощутила на себе всю мощь самоотверженной заботы. Наседка, будто цыпленка, загоняла орлицу в курятник.
Надо сказать, орлица сопротивлялась с большим трудом.
– Да куда ж ты пойдешь, деточка?! Ножками тебе не дойти…
Нашла коса на камень. «Деточка», мать двоих взрослых сыновей, не желала пропускать ни единого дня занятий. С постели встать смогла? Значит, должна быть в университете. Но убедить в этом бабушку оказалось не легче, чем снискать расположение профессора Горгауз.
Бабушка точно знала, что необходимо крылатой подопечной. Покой, здоровая пища и лечение. Да-да, лечение! И никаких Универмагов!
– Пожалей себя, маленькая! У тебя ж вся жизнь впереди! Никто тебя там не ждет… Только через мой труп!..
Голос бабушки затих в недрах дома. Пару минут спустя из дверей на улицу вышла Келена – в новом платье из темно-карминового шелка. От любимого декольте гарпия отказалась: строгий воротничок был застегнут под самое горло. Келена не желала демонстрировать синяки окружающим. Желание здравое, но плохо реализуемое – вся правая сторона лица представляла собой сизый отек. Глаз заплыл, черной маслиной блестя между опухшими веками.
Пудра ситуации не спасала.
Когда гарпия неуклюже заковыляла к лошадям, Доминго спешился, желая помочь даме. За Келеной из дома объявилась бабушка Марго. Для трупа она выглядела просто чудесно.
– Блинчиков на дорогу возьми! – голосила старушка. – Не завтракамши, голодная… Горе мое!..
– Блинчики возьму, – согласилась гарпия.
Она выглядела растроганной и смущенной. Оперение все время меняло оттенки – гарпию обуревали смешанные чувства. Она как никогда походила на обычную женщину. Крылья? хвост? – ерунда! Не в крыльях дело…
– А обратно? Обратно как?!
– Вер-р-рну. В сохр-ранности, – успокоил бабушку псоглавец.
Он легко, стараясь не причинить боли, забросил гарпию на спину пегой кобылы. Когти Келены впились в свернутое одеяло – так якоря входят в грунт, надежно удерживая корабль. Бабушка Марго сунула «деточке» узелок с блинами и строго воззрилась на псоглавца.
– Смотри мне! – она погрозила Доминго пальцем. – Бережно вези. Растрясешь еще… И чтоб встретил! Не то на цепь посажу!
Стоя перед старушкой навытяжку, как перед строгим сержантом, псоглавец лишь кивал, не пытаясь вставить слово. Убедившись, что зубастый дылда принял ценные указания к сведенью, Марго угомонилась и позволила Доминго забраться в седло. Обе кобылы вели себя на удивление спокойно. Капитан Штернблад отобрал лошадей лично, зная: не всякая годится под седло миксантропу.
Еще испугается, понесет…
Вскоре пара удивительных всадников скрылась за углом. А старушка все стояла и смотрела вслед. Потом она вздохнула и, сгорбившись, побрела в дом. «Беда с этой молодежью! – ясно выражала ее спина. – Учиться им… драться им… А что такое блины, не знают!»
По пути в университет на парочку таращились все, кому не лень. Две хомобестии на лошадях – цирк, да и только! К сожалению, одними взглядами дело не ограничивалось.
– Ты видел?
– Курица на насесте!
– И собака при ней. В шляпе!
– Умора!
– Тише ты! Будет тебе умора…
На шепотки за спиной Келена не обращала внимания. Казалось, она едет по пустым улицам. Доминго же снимал треуголку, раскланиваясь направо и налево. Его глазки безошибочно находили самых рьяных крикунов, главным образом – крепких детин, с кого можно и спросить за дерзость.
Им он улыбался с поощрением.
Верно говорил капитан Штернблад: добрая улыбка и мундир – самое убедительное сочетание в мире. Особенно если улыбается псоглавец в мундире лейб-стражи, известного сонмища головорезов. Вот и сейчас помогало – горлопаны тушевались и расточались без последствий.
Толпа студентов у входа в Универмаг повела себя на удивление прилично. Косые взгляды имелись в изобилии, но даже чуткие уши Доминго, освобожденные от гнета треуголки, не услышали издевательств. Хмыкнув, он помог гарпии спуститься с лошади.
– Спасибо, Доминго. Передай мою благодарность капитану.
– С р-радостью!
– Я заканчиваю в три пополудни.
– Буду здесь.
– Доброго утра! – взъерошенным воробьем к миксантропам подскочил Яцек Деггель. – Скорей, Келена! Лекция вот-вот… окно я открыл… Ой! Мамочки…
Увидел. Изменился в лице. Заморгал, не веря собственным глазам.
– Что случилось?
– Идем, – сухо ответила гарпия. – На лекцию опоздаем.
* * *
Вода в канале была похожа на рыбью чешую. Серебряные блестки, мелкая рябь. Сдавленная с двух боков, вода грузно колыхалась. От нее попахивало. Под мостом плавали чьи-то потроха. Хорошо, если трески. На набережной Согласия стояли рыбаки с удочками. Время от времени кто-то из них взмахивал удилищем, словно насекомое – усиками.
И вновь воцарялось спокойствие.
Самое забавное, что канал получил название Рыбного не из-за рыбаков, цвета воды или тощих анчоусов, которых таскали любители острых ощущений. Раньше, при Пипине, канал значился на картах, как Куртуазный. Он был чист и якобы благоухал. По нему плавали гондолы с кавалерами. Кавалеры пели серенады, аккомпанируя себе на расстроенных мандолинах. Платить оперным тенорам, берущим за тебя верхнее «до», считалось унизительным.
С набережной Согласия рукоплескали согласные на все дамы. Мало-помалу дамы перебирались в гондолы, стараясь не замочить оборки платья, и уплывали с кавалерами, обмахиваясь веерами.
– Сцапал рыбочку, – говорили зеваки. – Жарить повез.
Так Куртуазный канал ушел в прошлое, став Рыбным. Даже карты переписали заново, не споря с гласом народа. Следом ушли в прошлое кавалеры, перебравшись на другие, более обустроенные для амурных дел каналы. За кавалерами вприпрыжку удрали дамы. Остались упрямцы-рыбаки, редкие прохожие, да пара нищих, кого удачливые коллеги по цеху прогнали с хлебных мест.
Один из нищих сидел в начале моста.
Ему повезло – у него действительно не было одной ноги. Ушлые реттийцы сразу подмечали обманщиков. Лепишь язвы из мякиша? Пускаешь брехливую пену? Шиш тебе, а не милостыньку! Таким если и подавали, то исключительно нотации о правде, которая всплывает, словно сами знаете что, и о Вечном Страннике, который шельму метит.
Настоящих же увечных привечали, простите за сомнительный каламбур. Вот и сейчас – время раннее, а у нищего за пазухой уже грелась звонкая компания грошиков. И калач он жевал с маком. Добрая булочница оделила. И сверху монетка упала – прямо в ладошку.
Будто с неба.
– Низко кланяемся, благодетель…
Нищий замолчал. Не говоря ни слова, он следил, как к мосту приближается могучий караковый жеребец с тщедушным всадником. Часто ли такие люди, как капитан Штернблад, посещают захудалый канал на окраине? Часто ли они бросают подаяние скромному калеке? Да еще издали, торопясь обрадовать несчастного?
Славный денек, удачный…
Поперек седла капитан вез тюк исключительных размеров. В тюке скрипело и погромыхивало. Казалось, туда засунули рыцаря в полном доспехе. Спешившись, Штернблад привязал жеребца к перилам, сдернул тюк, сунул подмышку и взошел на мост. Он напоминал убийцу, спешащего избавиться от тела. Или муравья, вцепившегося в добычу много больше себя самого.
Сбросить тюк в воду капитан не торопился. Поклажа с грохотом упала в пяти шагах от нищего. «Украсть?» – мелькнула у того безумная мысль, вызвав приступ хохота. Нищий представил, как удирает прочь с тяжеленным тюком, скача на одной ноге, а за ним безуспешно гонится капитан верхом на жеребце.
«Надо Жирной Баське рассказать. Пусть тоже посмеется.»
– Эй, ты! Ты сидишь здесь ночами?
– Никак нет, господин капитан! – с неожиданной молодцеватостью отрапортовал нищий. – Я по ночам не работаю.
– Жаль…
Капитан бродил по мосту, о чем-то размышляя. Наконец он остановился у перил, где зиял пролом. Именно здесь Доминго, сын Ворчака, отправил в канал дерзкого вонючку. Пролом заинтересовал капитана. Он долго разглядывал измочаленные края деревяшек. Пнул ногой два ближайших столбика. Отломил острую щепку и искрошил в пальцах.
– Ну, допустим, – буркнул он, хмурясь.
– Бездельники, господин капитан, – доложил нищий. – Чинить не спешат. А ну как почтенный сударь навернется? Оно запросто, если хлебнул лишку. Буль-буль, и привет, Нижняя Мама…
– Это хорошо, что бездельники, – странно заметил Штернблад. – Это нам на руку…
Внезапно он нанес пару-тройку ударов в воздух. Упал, будто сбитый с ног, покатился по деревянному настилу, борясь с невидимкой. Нищий, открыв рот, наблюдал за баталией. «Колдовство? – предположил он. – Вражеский малефициум? Злоумышляют, а?» Пока он тянулся за костылем, желая ковылять отсюда прочь, или огреть злодея-невидимку, одолевавшего Штернблада, все решилось само собой.
Капитан извернулся ужом, встал на колени, ухватил тюк – и, как врага, швырнул на перила, в семи локтях от старого пролома. Захрапел испуганный жеребец. Нищий от страха закрылся костылем. Перила не выдержали, сломались под тяжестью. Тюк упал в канал – буль-буль, как выразился попрошайка, и круги по воде.
– З-зараза! – хором резюмировали рыбаки. – Весь клев испортил!
Пропустив комментарий мимо ушей, Штернблад встал. Отряхнулся, снял плащ, внимательно осмотрел. Минут десять, с тщанием коллекционера, сравнивающего оригинал и копию, он изучал оба пролома – прежний и новый.
Кивнул – и, насвистывая, пошел к жеребцу.
– Держи! – вторая монетка улетела в руки нищего. – За усердие…
– Рад стараться, господин капитан! – отрапортовал тот.
Штернблад задержался, медля сесть в седло.
– Я тебя знаю?
– Вряд ли, господин капитан. Мы в лейб-страже не служили. Пехтура мы, алебардисты. 2-я рота под командованием сударя д\'Азенкура.
– «Медные каблуки»?
– Так точно! – нищий с трудом встал, опираясь на костыль. – Мелкая сошка, сержант Батмоль.
– Летиция? Прорыв осады?
– Так точно!
– Там и ногу потерял?
– Было дело…
– Что я могу для тебя сделать? – капитан приблизился к калеке. Нищий оказался рослым дядькой. Маленький Штернблад глядел на него снизу вверх. – Медаль? Пенсион? Я помню, вы стояли насмерть…
– Спасибо, медали не надо. А сделайте-ка вы для меня одну малость…
С этого дня у моста через Рыбный канал сидел нищий с табличкой: «Подайте герою осады Летиции!» Ниже, под «героем», красовалась размашистая надпись: «Подтверждаю!» – и подпись с личной печатью Рудольфа Штернблада. Народ стекался со всех концов города – посмотреть. Ну и подавали безногому, не скупясь.
А кто выражал сомнение, тех отправляли к капитану – удостовериться. Если же не шли, то отправляли еще дальше. Кстати, перила не чинили целый год. Говорили – памятный знак.
Достопримечательность.
Еще в этот день капитана Штернблада видели в Универмаге. Он зашел в холл главного корпуса, поймал за рукав кого-то из преподавателей – пойманным по нелепой случайности оказался секретарь Триблец – и велел проводить его на крышу.
Всю дорогу секретарь пытался выяснить у капитана цель его визита. Ответ: «Во благо короны!» – секретаря не устроил. Но, как говорится, за неимением ложки обходишься пригоршней. На крышу Триблец лезть не стал – он, хотя и защитил диссертат по теории левитации, с детства боялся высоты. Дождавшись возвращения капитана, секретарь провел гостя, согласно его требованию, во внутренний дворик, к злополучной рябине.
– Тела, значит, не нашли? – спросил Штернблад.
– Какого тела?
– За которым ночью ликторы приходили.
– Ах, этого? – Триблец понял, что отвертеться не удастся. На всякий случай он мазнул взглядом по окнам корпуса. Студенты сидели на лекциях, преподаватели наставляли будущих чародеев. Никто не выглядывал, никому дела не было до милой беседы внизу. – Как же, приходили. Мне сторож докладывал. Ложный вызов, сударь. Уж извините, но покойников во дворах нашего университета не водится. Мы вам не Чурих, у нас дрейгуры в лаборантах не ходят.
– Нет тела, нет дела, – пробормотал капитан.
И полез на рябину.
Холодея от ужаса, Триблец следил, как любимец его величества карабкается по тонюсеньким веткам кроны. Гроздья плодов мерещились секретарю брызгами крови. А ну как свалится? Не было тела, и вдруг станет…
Он закрыл глаза и начал молиться.
– Эй? – спросили с неба. – Вон там, на крыше… Это грифон, да?
– Да, – Триблец зажмурился еще плотнее.
– А вон та штука – горгулья?
– Горгулья…
Невпопад вспомнилась история с профессором Горгауз.
– А это, выходит, рябина… – капитан спрыгнул на землю.
– Р-рябина. Вы уже?
– Я? Да. А вы?
Проводив гостя до коновязи, где Штернблад оставил жеребца, секретарь Триблец зашел в «Гранит наук»: поправить расшатавшееся здоровье рюмочкой палинки. И задумался: докладывать ли ректору о визите? По здравому размышлению, прикончив не одну, а три рюмочки, решил с докладом обождать.
Учует ректор, что хмельным пахнет, крику не оберешься.
* * *
Занятия начались в аудитории на первом этаже. Келене повезло: не пришлось карабкаться по лестницам. Лекцию читал Ангус Фрадулент с кафедры аналитической магии. Фамилии своей, в переводе звучавшей как «Лукавец», он не соответствовал абсолютно. Ангус походил на румяный колобок, если к колобку приклеить седую бородку клинышком.
Обычно он с увлечением катался по кафедральному возвышению, одаривая слушателей фонтанами красноречия. Но, взглянув на избитую Келену, потускнел. Дождавшись, пока студенты рассядутся, лектор мотнул головой – так гонят наваждение – и заговорил, тщательно подбирая слова.
– Сегодня мы рассмотрим один из принципов магических влияний. Он являет собой ярчайший пример взаимодействия материального и идеального…
Заскучав, Хулио Остерляйнен склонился к соседке и стал шептать ей на ухо. Девушка зарделась и отстранилась. Похоже, взаимодействие материального и идеального в представлении Остерляйнена имело пикантный характер.
– Как вам хорошо известно, мана, лежащая в основе трансмутаций, вполне материальна. Но направляет и преобразует ее наша воля, то есть – идеальное начало. Поставив задачу, вы должны создать в воображении идеальный образ цели – и волевым усилием преобразовать адекватное количество маны в воздействие, направленное на реализацию идеала. Чем отчетливее вы представите себе результат, тем выше будет КоЦИМ – коэффициент целевого использования маны.
Он подошел к аспидной доске.
– Столяр, приступая к работе, сначала создает в голове идеальный образ будущего кресла, и лишь затем берет в руки стамеску. Ваши стамески – инвокации и вольты. Мана вместо мускульной силы. Но принцип тот же: идеальный образ – волевой посыл – преобразование естественной энергии – материальное воплощение. Универсальный принцип созидания…
Ангус взял с полочки мелок.
– Допустим, я хочу написать что-то на доске, не прикасаясь к мелку. Сперва я должен представить себе конечное слово. Затем – траекторию движения мелка, не забывая про контакт с поверхностью и необходимый нажим. В противном случае мелок не оставит следа на доске, либо раскрошится, если я приложу излишнее усилие. Далее подбираем вспомогательные вольты…
Патлатый Хулио не замедлил предположить, какое именно слово изобразит на доске Фрадулент. С азартом он принялся делиться своими догадками направо и налево. Лектор неодобрительно мазнул взглядом по аудитории, но прерывать демонстрацию не стал.
А гарпия ощутила себя центром «слепого пятна». Преподаватель смотрел на кого угодно, кроме нее. Складывалось впечатление, что она вообще отсутствует. Наверное, это связано с профессором Горгауз, предположила Келена. История с бурей получила огласку. И преподаватели, не слишком разбираясь, кто прав, кто виноват, встали на сторону своей.
Она удивилась, почувствовав, что ее это задевает. Город влияет. Здесь слишком много якорей. Ничего, скоро это станет прошлым, утратив ореол чувств.
Вернув мелок на место, Фрадулент отошел к окну и сделал властный жест. Белым жуком мел взлетел, направляясь к доске. Зашуршал, выводя букву за буквой. На пол, мукой из прохудившегося мешка, осыпалась тончайшая белая пыль.
Взгляд Келены прикипел к доске. Все внимание сосредоточилось на крупицах мела. Вот так же, тонкой струйкой пылинок, уходят ее сородичи из мира жизни творящей. Один за другим переселяются в творимые людьми психономы. Рано или поздно мелок иссякнет, поставив последнюю точку на аспидной доске бытия.
Возможно ли что-то изменить?
У нее есть идеальный образ – цель, которой она хочет достичь. Воля? – есть воля к жизни. Инструменты? Методика Высокой Науки? Будут. Энергия, необходимая для трансформации? Не мана, но нечто схожее? С этим все в порядке. Главное, научиться ее копить и использовать.
Дело за малым. Надо совершить чудо.
– Посмотрите на формулу…
На доске красовалось:
q * (1 – L* (L – 10) / ap)
I = ѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕ;
S (1 – l)
– Здесь I – это субъективный КоЦИМ, показывающий степень целевого использования маны вне зависимости от внешних факторов, – разъяснил Фрадулент. – q – количество маны, реально повлиявшее на достижение результата; S – общее количество затраченной маны; l – коэффициент рассеяния среды… Молодой человек! Да-да, я к вам обращаюсь. Вам в этой формуле что-то кажется смешным?
У гарпии создалось странное впечатление. Пожалуй, лектору хотелось бы, чтоб на месте Хулио оказалась она, Келена Строфада. Но Ангус Фрадулент был честным человеком. А гарпия повода для взбучки не дала.
– Ничего смешного, мастер, – вскочил, паясничая, Остерляйнен. – За исключением усов нашего друга Теодора. Но формула – на доске, а усы – на лице. Вас это не смущает?
Усач Теодор лениво погрозил болтуну кулаком.
Caput XV
За пядью пядь, за пястью пясть,
Всю жизнь прожил, не торопясь,
И вдаль по утренней росе
Не тороплюсь уйти совсем.
Томас БиннориТеодор Равлик все делал обстоятельно.
Он и рождался, не торопясь. Мать искричалась, сорвав голос, отец выпил в доме всю терновку и ушел одалживаться к соседям, повивальная бабка изошла потом, а ребенок сомневался:
«Выйти на белый свет или вернуться с полдороги?»
По здравому размышлению решил выйти – и не прогадал. Принимали его по-царски, хотя родился маленький Тео не во дворце, а в скалистом захолустьи Верхнего Йо. Село гуляло неделю. На дворе царила зима, перевалы сковало льдом и снегом. Значит, пей вволю и жди весны.
– За здоровье новорожденного!
Нос коршуна, глаза жабы, усы чащей – так говорили про обитателей Йо. И добавляли: нрав – зверский. Оставим это на совести злопыхателей. Они и горца-то сроду не видели. А если видели, то в театре господина Дюпоклена, где горца представляют в черном, как смоль, парике, и с кинжалом в зубах. Ну их. Лучше расскажем чистую правду.
С историями так бывает. Врут-врут, аж завираются, и вдруг – правда. Все прямо заходятся: ишь ты! правда! Потом глянешь по уму: правда – натуральная брехня. Зато брехня, которую грузили бочками – ишь ты! какая ж она – брехня?
Бес их знает, эти истории.
Обликом Теодор уродился в отца. Нос – да, знатный носище, только не коршуна, а природного орла. Глаза – ну, влажные, ну, навыкате. Так они и у честного волкодава навыкате, не у одной жабы. Усы выросли рано. Знатные усы, рыжие, как лисья шкура.
И нрав – замечательный.
Мальчик хорошо ел. Мальчик хорошо спал. Без штанов играл у дома со сверстниками. В штанах ходил за гусями. Мать дала рубаху – начал ставить силки на зайцев. Иначе заяц увидит без рубахи, засмеет. Когда отец подарил ему первую куртку и пояс, отправился на выпасы с отарой, в компании старших пастухов.
Село было из замирившихся. В набеги хаживали исподтишка, чаще – по договоренности с будущими пострадавшими. Мы, значит, набежали, два сарая сожгли, Тюльку-шалаву гуртом снасильничали. Вы нам дали мешок золота. Так казне, или сеньору в челобитной смело заявляйте: мешок, не меньше. Готовили оброк за сто лет, да треклятые горцы, ужас-ужас, отобрали. По миру пустили, детишки пухнут, кору с лебедой жрут.
Вам подати скостят. Десятину с выгоды нам пришлете, как условились.
К набегам Теодора сочли негодным. Соображал медленно. А для пастуха – в самый раз. Овец торопить ни к чему, овцы – не рысаки. Пастбище, дойка, стрижка. Ягнята скачут. Сиди, дуй в дудку.
В дудку парень дул редко. Большей частью разглядывал листочки, травки и корешки, за что получил прозвище – Лопух. Он не обижался. Ведь интересно, что там внутри. Отчего лист смородины в кипятке душист? Почему тертая кора лавра, ежели отварить, язвы врачует? По какой причине корень девясила жор вызывает? С горечавкой его настоять…
Он и заблудился-то из-за обстоятельности. Пришел с ведром к роднику, а там такое растет! такое! – и вон там еще… Как не проверить? Не обойти со всех сторон: почему растет? отчего колосится? что за запах?
Ну и выбрел к пещере. А вот какого рожна в пещеру полез, если там уж точно ничего не произрастало, и воды свежей не текло – это, извините, великая тайна. Обстоятельные – они булыжники ада по одному пересчитают. Пещера? Да, пещера. Очаг? Ишь ты, очаг! Немереная груда тряпья? – в наличии. Шея? – отличная шея. Длинная, локтя два. Вся в пуху и мелких перышках – белых, кое-где дымчатых.
А что у шеи с обоих концов?
– Спасите!
Так впервые встретились Теодор Равлик и Олор Дымношей, великан-стоким, единственный в горах Йо. Вопль «Спасите», кстати, пригодился наилучшим образом. Великана пятый день трепала лихоманка. От ледяной ключевой воды горло простыло, воспалилось, образовались гнойники. А при лебяжьей шее, как у всех стокимов, болезни этого рода крайне опасны.
Олора пора было спасать.
Чего только не лил Теодор великану в глотку! Цепенея от страха, заставлял полоскать горло отваром цветов бузины. Трясясь, давил луковицу, свеклу, добавлял винного уксуса, и велел булькать да сплевывать. Заваривал болящему чистотела с ромашкой. На второй день стоким уже сам указывал пальцем: что брать и как готовить.
В его закромах обнаружился рай. Корни, травы, листья. Сушеные, толченые, вяленые. Ягоды и хвоя. Орехи и стебли. Теодор так увлекся, что забыл и про страх, и про сказки, где великаны с аппетитом кушали глупых пастушков под соусом из черемухи.
К частым отлучкам Теодора на пастбище привыкли. Не боялись, что сгинет. Про великана местные знали. Безобидный Дымношей отшельничал здесь давно, сбежав откуда-то, где жили люди более добрые, чем злые горцы Йо. Чем Олору глянулся парень, неизвестно. Но знания стокима переливались в маленького спасителя день за днем.
Магия? Нет. Обстоятельность, цепкость и умение сложить одно с другим. Если у тебя длинная шея лебедя – больше ценишь жизнь, что ли?
Год-другой, и парень стал лечить. Больные потекли к нему с вершин и ущелий. Теодор ни в чем нуждался, и никому не отказывал. Когда ему исполнилось двадцать пять, он слыл самым завидным женихом в округе. В двадцать семь – еще спорил с матерью, желавшей внуков. В двадцать восемь – случайно зашел в корчму на Шибком Спуске.
И встретил охотников.
Захлебываясь от восторга, те хвастались напропалую. Виконт Дельгаро с друзьями, отбившиеся от свиты герцога Сорентийского – о, в их изложении битва со злобным великаном-людоедом обретала черты эпопеи. Горцы, сидевшие в корчме, угрюмо молчали. Ссориться с аристократами, памятуя характер герцога, никто не хотел. Был великан, и нет.
Невелика потеря.
Один Теодор, радуя виконта, смотрел на трофей – голову старика на лебяжьей шее. И кивал в такт рассказу. А как насмотрелся, угостил охотников пивом. Примите, ваши милости. Хорошее пиво, крепкое. Долго помнить будете.
Он все делал обстоятельно. И сейчас не сплоховал. Умри виконт от яда, и месть Карла Строгого обрушится на горы. Это Теодор понимал. А вот то, что отныне каждый из охотников в постели с женщиной мог только рыдать или браниться, и род Дельгаро угас – бывает, и никто не виноват.
К сожалению, так думали не все.
Год спустя в горах объявился землемер. Горцы к нему отнеслись с равнодушным гостеприимством. Пусть меряет, от скал не убудет. Скоро землемер сказался хворым и явился к Теодору – лечиться от поноса. Выпил отвар из корня кровохлебки, выпил и горячего вина с хвощом и спорышом.
– Извини, дружок, – сказал. – Понос – это правда. А землемерство… Давай по душам, хорошо? Я же чую, Высокой Наукой у тебя и не пахнет. Значит, неподнадзорно…
Лже-землемером оказался Климент Болиголов, профос Надзора Семерых – частного ордена-невидимки, контролирующего злоупотребления магией. Ситуация с виконтом Дельгаро криком кричала о чьей-то мести. Следов порчи малефики не нашли; не нашел их и профос Надзора, побывав сперва у виконта, а потом и у Теодора.
Ловкость рук, травки-муравки, и никакого мошенничества.
– Сволочь он, твой виконт, – подвел гость итог длинному разговору. – Дай-ка руки умыть… Спасибо. Ну что, я поехал?
– Доброго пути, – ответил Теодор.
Он понимал, что отделался легким испугом. Он просто не знал еще, что жизнь его изменилась самым решительным образом.
Вскоре, не прячась под масками землемеров, в горах объявились волхвы из Коллегиума Волхвования. Умница-профос дал им знать о сельском таланте – алмазе, нуждающемся в огранке. Из беседы с волхвами Теодор вынес главное: ему предлагают учиться. Да, поздновато. Но лучше поздно, чем никогда. Два года общей подготовки. Потом – университет.
Что взамен? – договоримся.
В тридцать лет Теодор Равлик поступил в Универмаг по коллежской квоте. С письменным обязательством: получив степень бакалавра, а впоследствии, чем бес не шутит, и магистра, он продолжит работу в фармакологических лабораториях Коллегиума.
Славное будущее, если задуматься.
Дымношей бы одобрил.
* * *
Это Теодор и придумал переноску.
Глядя, как Келена карабкается по ступенькам, держась за перила – и категорически, чуть ли не враждебно отказываясь от помощи – он вспоминал Олора. Если Дымношей нашел в себе силы воззвать о спасении, то от гордячки-гарпии такого вовек не дождешься. В конце лестничного марша Келена не выдержала – оперлась на руку Марыси. А Теодор понял, что проблему нужно решать радикально. На второй этаж гарпия кое-как забралась. Но следующее занятие – на пятом.
Хорошо, что сейчас – большая перемена.
Попросив Келену обождать на подоконнике, усач с грохотом ссыпался по лестнице в лабиринт катакомб, звавшихся подвалами Универмага. Говорили, что подвалы уходят на семь – на девять! двенадцать!! сто!!! – уровней под землю. Что на нижних ярусах начинается геенна, куда опасаются соваться даже охотники на демонов. Что Нижняя Мама заведует там кафедрой прикладной эсхатологии. Что…
Нет, Теодор Равлик не собирался проверять: легенды это, или правда. Его интересовало совершенно конкретное помещение на минус первом, вполне благоустроенном этаже подвала.
– Две крепкие палки, веревка, пила, нож, – выпалил он в лицо лаборанту, бездельничавшему в мастерской. – Быстро!
Окажись на месте усача Яцек или, скажем, Клод – лаборант послал бы нахала к бесу под хвост. Но Теодор не выглядел юнцом-первокурсником. Бакалавр, как минимум. А судя по напору, чей-то ассистент. Лаборант вздрогнул, сфокусировал сонный взгляд, убедился, что усатый «командир» и рукоприкладством не побрезгует – и принялся шарить по закромам.
Заказ нашелся за пару минут. Еще минут десять понадобилось, чтобы при помощи пеньковой веревки соорудить из двух палок – длинной и короткой – конструкцию, схожую с трапецией, какой пользуются гимнасты в цирке. Теодор со своим изделием подмышкой бегом покинул мастерскую, а лаборант остался в недоумении: кто это был, что за штуку он состряпал, и главное – зачем?
Должно быть, очень большое колдовство…
Гарпия ждала его в компании Марыси и Яцека, который безуспешно пытался развлечь дам светскими беседами.
– Готово! – возвестил Теодор. – Яцек, клади этот конец на плечо…
Мальчик повиновался, с опаской глядя на сокурсника.
– Забирайся, Келена. Мы тебя отнесем. Не портшез, но сойдет…
Гарпия с сомнением осмотрела переноску системы механикуса Равлика – и вдруг улыбнулась.
– Спасибо.
С неожиданной легкостью она запрыгнула на нижнюю перекладину, крепко вцепившись в дерево. По лицу нельзя было понять, какой ценой далась избитой гарпии эта легкость. Ни стона, ни вздоха; словно не ее вчера лупили на убой. «Держись за веревки, – хотел сказать Теодор, – или за верхнюю перекладину…»
Это оказалось лишним. Келена, чуть-чуть покачиваясь, прекрасно сохраняла баланс. Дополнительная опора ей не требовалась. «С детства привыкла сидеть на ветках. Или на чем там сидят гарпии? На насесте?» – усач прикусил язык. Хватит нам и одного остряка на курс, решил он.
Пятый этаж покорили без приключений. И на практикум по бытовым наговорам успели вовремя. Правда, на них косились все встречные. Студенты хмыкали; кое-кто за спиной давился смешком. Преподаватели отводили взгляды и с деланным безразличием торопились дальше.
– Чего это они? – недоумевал наивный Яцек.
Его, похоже, мало в детстве били, вот и не поумнел.
После практикума к носильщикам, отчаянно стесняясь, подошли Клод и Хулио Остерляйнен собственной хамоватой персоной. Оба старательно делали вид, что им все равно, и вообще.
– Давайте мы вас сменим, – Клод без особого успеха пытался расковырять носком башмака потемневший от времени паркет.
– Ага, – кивнул Хулио. – Всю жизнь мечтал…
– О чем? – заинтересовался Яцек.
– Кур по базару таскать. Ночью спал и видел. Отвали, цыпленок, дай подержаться…
Марыся прыснула в кулак. Теодор пожал плечами и уступил переноску добровольцам. Спускаться по лестнице, неся гарпию на плечах, оказалось трудней, чем подниматься.
– Вот же заразы! – бурчал Остерляйнен. – Не могли все занятия на одном этаже устроить! Это если ману по методе Нихона копить, тогда да! Скачи, как баран, мышцу нагуливай. А нам, с тонкой организацией ауры…
Подначки старшекурсников не прибавляли ему хорошего настроения. Однако он исправно «тянул лямку», пока не получил такой увесистый толчок, что едва не полетел кубарем по ступенькам.
– Смотри, куда прешь! – осклабился ему в лицо кудрявый красавчик. Патлы у него были много пушистей, чем у Остерляйнена, а телосложением он превосходил тощего Хулио вдвое. – Ходят тут, носят тут… Деревня!
Хулио смерил кудряша взглядом, встал поудобнее, как актер перед звездным монологом, и заговорил, постепенно наращивая темп.
– Извините великодушно, сударь. Под ноги не глядел. В следующий раз поостерегусь, чтоб не вляпаться в кучу навоза вроде вас. Ваши глаза, должно быть, выросли на седалище и скрыты штанами. Иначе вы бы заметили, что мы несем даму. Овал Небес, вы моргаете?! Этот ягнячий чурбан, торчащий из ворота вашей рубахи – голова?! Вы всё видели? И не попытались избежать столкновения? О, я трижды виновен! Я зря употреблял куртуазные обороты. Для вашего куцего умишка они слишком оборотисты. Что ж, перейду на язык, доступный олухам.
В коридоре собралась толпа. Честно говоря, Остерляйнен не обладал талантом комика. Его язвительные шпильки не блистали оригинальностью. Но и кудряш не уродился ценителем тонкого юмора. Ему хватило. Красный, как вареный рак, он стоял, сжимая кулаки.
Над ним потешались, ободряя злослова:
– Так его!
– Загибай!
– Лихо приложил!
Стало ясно: прошлые кривляния Остерляйнена – мелочь, детские забавы. Сейчас патлатый нарывается на серьезную таску. Теодор придвинулся ближе: перехватить кудряша, если тот кинется на обидчика с кулаками. Что делать, если кудряш предпочтет кулакам заклятье, усатый не знал.
А Хулио разливался соловьем:
– Валух! Грыжа с кочерыжкой! Вшивый каракуль! Залей бельма дерьмом! – оно у тебя вместо мозгов…
Вшивый каракуль произвел впечатление. Кто-то зааплодировал.
– Разопри тебя и выверни! Чтоб ты канавы рогами копал! Чтоб тебя чирьи сожрали! Чтоб ты девок толкал, а они не падали!
Кудряш стал похож на быка, которого дразнят багровой тряпкой. Он рыл землю копытом и пускал пар из ноздрей. Не мастак в словесных баталиях, он судорожно искал способ с честью выйти из ситуации.
– Сто бревен тебе в левый глаз! Шершнелей в штаны! Рака в утробу! Семь плевков в глотку, и все чахотошные! Чтоб тебя навыхлест скукожило!
– На порчу смахивает…
– Глазит?
– Малабрийская школа?
– Не-а… «жуайез», что ли?..
– Колдуешь, урод? – кудряш сумел вклиниться в поток гадостей. Так кидаются с обрыва: зажмурясь, не думая о последствиях. – Вот я тебе…
С угрозой, нарочито медля, дабы дохляк осознал, что сейчас произойдет, кудряш наморщил лоб. В центре, над складкой, образовавшейся меж бровями, дрогнули, проявляясь, веки – морщинистые, черепашьи. Они моргнули раз-другой – и третий глаз открылся настежь.
Хулио подавился очередной колкостью.
* * *
Вернувшись домой с целью переодеться, капитан Штернблад застал во дворе Мартина Гоффера, голого по пояс. Изодранный, словно он воевал с грифоньим выводком, компаньон – ученик, ключник, друг и прочее – мазал раны дурно пахнущим бальзамом. Выглядело это ужасно.
Казалось, плечи, руки и грудь Мартина вспахали под сев.
Капитан знал состав бальзама. Корень окопника, подорожник, барсучий смалец, арника, конский каштан. Знал он и то, что борозды на теле Гоффера со временем исчезнут, оставив два-три шрама. Он не знал главного: в какой передряге пострадал Мартин?
На дом напали?
Гоффер решил завести ручного виверныша?
Бред…
Кивнув капитану, невозмутимый, как ла-лангский идол Хо-Хо, Мартин продолжил лечение. Сдерживая стоны, покряхтывая, когда требовалось дотянуться до лопатки, он втирал бальзам легкими движениями. Понадобись Штернбладу оценить ситуацию двумя словами, капитан бы ни на миг не задумался.
Вонь и гордость.
Вонь от лекарства. Гордость… От победы?
– Вам письмо, – сообщил Мартин. – Я положил его на секретер.
– Успеется, – ответил капитан. – Кто это тебя?
– Ерунда. Гарпия.
– Келена?!
– Какая Келена?
– Та гарпия, что лечит Биннори! Глупости, она едва ковыляет…
Рудольф Штернблад умел отражать удары самого разного рода. Но этот, признаемся честно, он пропустил. И сейчас хватал ртом воздух, восстанавливая дыхание.
– А-а… – с отменным равнодушием зевнул Гоффер. На его лбу расцветал восхитительный синяк: лазурный с багровыми краями. – Студентка. Нет, не она. Самец. Взрослый, старый гарпий. Что я, мальчика от девочки не отличу?
Массивный, крепкого телосложения, он и чувством юмора обладал соответствующим.
– Чем ты не понравился твоему гарпию?
– Понятия не имею. Я вышел в переулок. Там стучали. А он на меня, с дерева… Короче, побеседовали по душам.
Версия с бестьефобами, напавшими сперва на Доминго, а там и на Келену, рушилась на глазах. Рассыпалась прахом, висела клубами известковой пыли. Оставалось предположить, что Мартин Гоффер – скрытая хомобестия, и враги по-прежнему стараются досадить креатурам капитана. Либо пытаться связать несвязуемое. Выстроим логическую цепочку: некий бестьефоб напал на гарпию-студентку, ее сородичи узнали, возмутились и послали могучего старика – допустим, деда Келены – отомстить негодяю.
Негодяя могучий старик не сыскал. И решил мстить первому встречному: например, Мартину…
«А луна сделана из яичного желтка, – хихикнул кто-то в голове Штернблада. – Перескажи версию фон Шмуцу. Пусть получит удовольствие…»
– Давай-ка я, – капитан подошел к пострадавшему, отобрал ветошь, которой тот наносил бальзам, и принялся макать да смазывать. – А ты рассказывай.
– Вам письмо, – напомнил Мартин. – От сына. Я видел личную печать.
– Успеется, – капитан отмахнулся, будто от назойливой мухи. Хотя больше всего на свете ему хотелось кинуться в дом, схватить письмо от сына и распечатать. – Корпия есть?
«Если когда-нибудь потомки захотят изучить нашу переписку с Вильгельмом, – подумал он, мрачно улыбаясь, – им не понадобится много времени. Клянусь пяткой Добряка Сусуна, им и часа-то не понадобится…»
– Есть. Я надергал.
– Где лежит?
– Рядом с тканью для перевязок.
– Хорошо. Обожди, я принесу.
– Слышу, стучат, – начал Мартин, когда капитан вернулся. – Ну, думаю, почтарь что-то забыл. Мало ли? Выхожу с черного хода…
Черным ходом называлась калитка, ведущая в переулок Сибаритов – место глухое и спокойное. В северо-западной части двора располагался сад, ухоженный стараниями дядюшки Скапена, в прошлом – садовника у маркизы Премилье. Выйдя на заслуженный отдых, дядюшка тосковал по яблоням, вишням и навозу, а потому не отказал капитану в просьбе приглядеть за «буреломом». Если кто-нибудь желал прийти к Штернбладу без лишней помпы, он обходил дом, останавливался у забора, за которым раскинулся сад, и стучал в калитку.
Открывал, как правило, Мартин.
Этим же путем пользовался казенный почтарь, доставляя корреспонденцию. Не потому, что желал остаться инкогнито, а исключительно из экономии сил. От калитки ему было гораздо ближе к таверне «Metzger-Post», где за стаканчиком винца коротали досуг коллеги-письмоноши.
– Короче! Ты решил стать бардом?
– Уже, уже…
Сперва Мартин выглянул наружу и никого не обнаружил. Решив, что почтарь мог переусердствовать в таверне и сейчас дремлет у забора, он вышел в переулок и огляделся. Никого. Пожав плечами, Мартин собрался вернуться в дом. И тут с вершины тополя, растущего неподалеку, на него спикировал гарпий.
Острые когти лап впились в грудь. К счастью, с утра Мартин чихал, страдая насморком, и надел поверх рубашки кафтан из шерстяного коверкота. Еще и шарф накрутил, словно предчувствовал. Плотная ткань спасла тело, приняв на себя главный ущерб от когтей. Лицо с трудом удалось защитить от второго комплекта когтей, украшавших пальцы рук гарпия. Схватив курицына сына за запястья, Гоффер противопоставил силу силе, и не прогадал.
На поясе висел короткий нож. Увы, выхватить оружие не было возможности.
Потянувшись вперед, гарпий надумал вцепиться жертве в шею. В последний момент он промахнулся, ухватив зубами ворот кафтана. Клацнув, зубы прищемили кожу над ключицей. Мартин взвыл – не пойми отчего, но эта боль оказалась сильнее прочей.
– Так бывает. Ты сражаешься с разрубленным плечом, и визжишь, как поросенок, от занозы, впившейся в задницу.
– Я знаю, учитель.
Жуткая рожа старика оскалилась в ухмылке. Крылья хлестали наотмашь. В уголке хищного рта скопилась кровь, делая гарпия похожим на оголодавшего вампира. От агрессора несло потом, мускусом и чем-то гадким – хорьком в сезон гона, что ли? Потеряв равновесие, Мартин упал на одно колено. Этот минус он ловко превратил в плюс – поворот, скручивание туловища, «карп бьет хвостом», а сволочной гарпий описывает неприятную дугу, ударившись сперва о забор, а там и о землю.
В его крыле что-то хрустнуло.
Придавить старика собственным телом, уповая на тяжесть, Мартин не рискнул. Опыт подсказывал: не борись с хищной кошкой. А с хищной, да еще и рукастой птицей – тем паче. Пока свернешь гадине шею, она вспорет тебе живот. Сохраняя захват, левой рукой он умудрился достать нож.
И у нас есть свой коготь!
Что было дальше, Гоффер помнил плохо. Его драли, как козу-дерезу. Палач милосердней обходился с приговоренными к освежеванию, нежели гарпий – с Мартином. Хвала кафтану: держался. Шарф погиб в неравной схватке. Нож мелькал кистью бесноватого живописца Адольфа Пёльцлера, заканчивающего «Оргию безумцев». Мазки в три слоя ложились на крылатого старца – тяжелые, чувственные мазки кармина и сурика.
– Ты его убил?
– Пожалуй.
– Что значит – пожалуй?
– Он улетел.
Гарпий действительно улетел. В какой-то момент старик вырвался, кубарем откатившись прочь, подпрыгнул и взмыл в небо. Мартин был уверен, что достал гарпия ножом в печень. Он не знал, могут ли гарпии летать с такими ранениями, прежде чем сдохнут. Оказалось, что могут. Тяжко хлопая крыльями, кренясь набок, старик сделал круг над тополем и взял курс на юг.
Временами он терял высоту, будто проваливаясь в яму. Но дело не завершилось падением. Гарпий, орел, стриж, черная запятая вдалеке…
Ничего и никого.
Вздохнув, Мартин встал – раньше он сидел, привалясь к забору, и мечтал о доброй фее-врачевательнице. Фея в облике капитана явилась, но позже. Поначалу довелось лечиться самостоятельно. Временами, шипя от боли, Мартин пританцовывал на месте – казалось, он пляшет джигу на могиле гада-гарпия. А если еще и плюнуть на свежий холм…
Становилось легче.
– Ай!
– Терпи, щенок, волкодавом будешь. Отец ударит, сын вылечит…
– Хорошо, что лицо уберег.
– Ага. Стал бы пугалом. Дамы бы шарахались…
Закончив перевязку, Штернблад отправил пострадавшего в дом – отдыхать. За лекарем посылать не стал: ни к чему. Больше, чем сделано, ни один лекарь не сделает. Раны чистые (Мартин клялся, что промыл…), горячка не приключится. Звать ликтора, дабы Бдительный Приказ зафиксировал злой умысел? – незачем.
Еще не хватало, чтобы в городе судачили:
«А вы знаете? Да-да, целая стая гарпиев! Сотня, честное слово! Пятерых заколол вязальной спицей малыш Гоффер, остальным свернул шеи лично наш герой, дорогой и горячо любимый…»
Выйдя в переулок, маленький капитан долго разглядывал место сражения. Тополь, забор, кровь на досках. Чья это кровь – Мартина, гарпия или обоих сразу – не сказал бы теперь никто, даже маг-медикус. Подобрав с земли искромсанный шарф, Штернблад изучил его самым тщательным образом. Затем капитан вернулся во двор, и настала очередь кафтана.
«Рванина. Прямая дорожка на свалку. Ни один портняжка не возьмется чинить. Жаль, славная вещь была…»
Кусая губы, Рудольф Штернблад думал о странных вещах. Наконец энергично махнул рукой и, насвистывая «Бивак у Тайпери», отправился под крышу – читать письмо от сына. Он не знал, что скоро за ним явится посыльный и пригласит в дом Томаса Биннори для совершенно исключительного дела. И хорошо, что не знал. Такую редкость, как сыновнее письмо, надо изучать, не торопясь.
Очень уж увлекательно.
* * *
Перебранка закончилась.
Третий глаз кудряша блестел рыбьей слизью и к шуткам не располагал. Старшекурсник прищурился всеми глазами сразу. В волосах заплясали искры, челка встала дыбом. По спине Остерляйнена змейкой сползла струйка холодного пота. Переноска, которую он так и не удосужился снять с плеча, сделалась непомерно тяжелой. Ее вес придавил Хулио к полу, не позволяя бежать.
– Ай, мамочки! – взвизгнула Марыся.
Порча медлила. Возможно, сработала коридорная инверсия заклятий, о которой скандалисты забыли. Или университетские чуры завили винтом несанкционированную черную волшбу. Или нашлась иная причина…
– Прекратить! – велели от дверей ближайшего кабинета. Вполголоса, но так, что услышали все. – Я кому сказал?
Суровый и непреклонный, как аллегория Воздаяния, решившая заглянуть на огонек, у кабинета стоял Андреа Мускулюс. Минуту назад он сидел в преподавательской, изучая аттестационные листы. На пассажи Остерляйнена, долетавшие снаружи, малефик внимания не обратил. Разве что взял на заметку «грыжу с кочерыжкой» – у каждого есть знакомые, подходящие под это исключительно точное определение.
Но потуги кудряша он учуял еще до первого «морга».
«Безобразие! – подумал малефик. – Попытка сглаза в стенах учебного заведения заслуживает кары. И кто так бездарно глазит? Что за двоечник?!»
– Что вы себе позволяете, отрок?! Вам устав не писан?
– Писан, – угрюмо сообщил кудряш, и Мускулюс узнал его. Этот «бычок» трижды пересдавал ему зачет. – Он первый начал, профессор.
– Я не профессор. А вы – не лейб-малефактор. Немедленно зажмурьтесь!
– А что? Ему, значит, можно? А мне – нет?
Малефик шумно втянул носом воздух, ловя эфирные флюиды. На миг лицо его приняло отрешенное выражение. Он воздел очи горе, и вдруг просветлел.
– Ему можно! – казалось, Андреа сейчас расхохочется, будто мальчишка, хлопая себя ладонями по бедрам. – Клянусь подметками Вечного Странника! Можно ему! Нужно! Глядишь, успеваемость повысите, отрок…
Зрители с волнением зашушукались.
– Блокатор?!
– Кастигарий?
– Язык-без-костей?
Кудряш обиделся до глубины души.
– Ладно, профессор. То есть, конечно, не профессор. Видите, я запомнил. Не такой уж я тупица, каким вы хотите меня выставить. Из уважения к традициям я уступаю. Но мы еще встретимся! Будьте уверены…
Хулио приободрился, видя, что дело откладывается на неопределенный срок. Он уже открыл рот, готовясь выдать достойный ответ, но его опередили.
– Вам надоело учиться?
Собравшиеся оцепенели. Возле окна, кутаясь вместо мантильи в теплую шаль, стояла Исидора Горгауз. Можно подумать, ранее Горгулья скрывалась под кисеей-невидимкой. Явление выглядело тем более странным, что все прекрасно знали: Исидора взяла отпуск.
– Н-нет…
– Что «нет»?
– Д-да… – от неожиданности кудряш стал заикаться. – Учиться х-хочу…
– Хотите? – изумилась Горгулья. – Правда?
– Ага… оч-чень сильно…
– Тогда, как верно заметил коллега Мускулюс, вам следует лучше изучить наш устав. Batailleenbestesbrutes между студентами запрещены.
– Что запрещено?
– Схватки на манер животных. Обычные, мензурные, любые. За одним исключением.
– Каким?
– Bataille аlamazza, – Исидора помолчала. Бледная, осунувшаяся, она выглядела не лучшим образом. Под глазами залегли синие тени. Но голос по-прежнему звучал боевой трубой, а взгляд обещал гром и молнию. – Дуэль в кустарнике. Если, конечно, она прошла регистрацию и одобрена ректоратом.
– В кустарнике? Отлично! Я его вызываю! Я вам не тварь дрожащая! Я оскорбленная сторона! Имею право на это… на сатисфакцию!
– Вам известны правила дуэли?
Опираясь на юношу-ассистента, на площадке между третьим и четвертым этажами стоял Кристобальд Скуна. Казалось, Вечный Странник приходится гипноту сыном. Или внуком. Темный взгляд придавил дуэлянта. Взял за грудки. Впечатал в стену. Размазал от угла до угла. Кудряш не сразу сообразил, что жив-здоров, торчит на прежнем месте и даже не слишком заколдован.
– Шестирукий!..
– Скуна! – дуновением прошло по зрителям.
– Я… в общих чертах… – студент пытался увильнуть от прямого ответа. Он ерзал, потел, вздрагивал, но две пары адских вишен – глаза гипнотов – оказались слишком ядовиты для нежного желудка забияки. Правда, только правда, и ничего, кроме правды, ясно читалось в них. – Нет, мастер. Неизвестны.
Остерляйнен правил не знал и подавно. Ему представился обиженный кудряш с двуручной саблей наперевес. Напротив – он, Хулио, с тупой шпажонкой. За какой конец держать, знает – и хватит, чтобы умереть. О жестокости схваток между школярами он был наслышан.
Щеголяя шрамами, те задирались по любому поводу.
– Для начала вам следует подать заявление в ректорат.
– Подам! – воспрял кудряш.
– Если ректор сочтет причину достаточной, он назначит вам bataille аlamazza по брокенгарцской системе.
– Это как?
– На зачетках. Под кустарником, мой мальчик, в данной формулировке подразумеваются тернии знаний. А вы что подумали? Что вас бросят в терновник? Без штанов, со шпагами наголо?
– Дуэль проводится в течение двух семестров, – с ледяной любезностью пояснила Горгулья. – В особых случаях она продлевается на курс и более. Текущие результаты сдачи зачетов, практикумов и экзаменов каждую неделю вывешиваются на дуэльной доске. Холл центрального корпуса, слева от входа. В конце сессий комиссия секундантов подводит итоги. Побеждает тот, чей средний балл выше. При равенстве баллов дуэль может быть продолжена при обоюдном согласии сторон. Итак, вы по-прежнему настаиваете на поединке?
Все взгляды устремились на незадачливого дуэлянта. Сказать, что тот чувствовал себя не лучшим образом – все равно что заметить:
«На дыбе человек испытывает легкий дискомфорт.»
– Я… – кудряш икнул. – Я подумаю.
– Это правильно. Думать полезно. Попробуйте, и вам понравится… Девочка, что с вами?!
Келена покачнулась, едва не свалившись с перекладины. У нее закружилась голова. Заныли, напомнив о себе, вчерашние ушибы и ссадины. В последний момент гарпия ухватилась за веревку, сохранив равновесие. Находиться на «линии стрельбы» между гипнотами и кудрявым оказалось тяжело.
Невыносимо тяжело.
Гарпии почудилось, что ее снова бьют, одну на пустынной крыше.
– Ох, простите старика! Не все могут долго выдерживать мое присутствие. Поверьте, я не нарочно. Взгляните на меня, девочка. Не бойтесь! Вам станет легче… вы смотрите на меня… – густой бас заполнил мироздание. Он сулил радость и покой. – Все хорошо, вы ничего не опасаетесь… у вас ничего не болит…
Келена с трудом подняла голову – и не увидела лица Скуны. Но в мозгу прояснилось, а тело сделалось легким, как пушинка. Расплавленным свинцом боль вытекла на пол, просочилась сквозь плиты и сгинула на нижних ярусах геенны.
Ассистент глядел в пол, не мешая мэтру.
– Несите ее, мальчики. Не опоздайте на лекцию. Да и мне пора. Идем, Бертран.
Медленным шагом гипнот двинулся по лестнице. Следом шли гарпиеносцы.
– Дуэль… – мечтательно бормотал Скуна. От его баса по спинам слушателей начинали бегать шустрые мурашки. – Вот в наше время были дуэли! Помнится, мы с Нихоном шесть семестров сражались в кустах…
– С Нихоном Седовласцем?!
– Ух ты…
– Я пробил его на динамикуме чудес. Он наверстал на блиц-рецепции. К зачету по венаторике мы пришли ноздря в ноздрю. Впереди маячил сигнификат проклятий. Этого экзамена мы боялись оба. Его читал Зверь-из-Бездны, профессор Цирак. Между прочим, большой сторонник гарпической космогонии. Вам это должно быть приятно, девочка.
– И кто победил, мастер?
– А вы как думаете? – усмехнулся гипнот. – Высокой вам Науки, дети…
Caput XVI
Пылай, душа! Стучится пепел
В щиты сердец.
Когда ни холоден, ни тепел,
Тогда – мертвец.
А так – взмахну себе крылами,
Живой, нагой,
Всегда – пожар, вовеки – пламя,
Всегда – огонь!
Томас БиннориАндреа Мускулюс встал за кафедрой. До того он расхаживал по аудитории, но конец лекции требовал солидности. Конец – делу венец, гробу крышка. Это любой малефик знает.
– Итак, способы ухода за третьим глазом. Напоминаю, лекарственные средства надо разглядывать, а не закапывать. Иначе эффекта не будет. Записывайте. Тертые яблоки и огурцы. Яблоки – красные, огуречики – зеленые. Смотреть до пяти минут, не моргая. Помогает от воспаления…
Скрип перьев и бульканье чернильниц наполнили помещение.
– Свекла и «львиный зев» – измельчить, смешать, смотреть до двух минут. От слезного свища – лучше не придумаешь. От ячменя – фаллическую фигу. Нечего хиханьки строить! Нет, не смокву. И не то, о чем вы, девушки, подумали. Обычную, из пальцев – скрутить и ткнуть исподтишка. От сухотки – глядеть на вино. Мускатель черный, выдержанный. Добавить мед и шафран…
Кто-то сглотнул, не таясь. Курс заржал, но живо угомонился, косясь на строгого преподавателя.
– Еще раз: внутрь не принимать! Наружное, для рассмотрения. По окончании сеанса не вздумайте выпить. Или угостить приятеля. Врага – можно. Подлить в бокал при ущербной луне… Впрочем, это выходит за рамки сегодняшней лекции. Справочная литература…
За дверью ударил колокол, возвещая начало перемены. Андреа погрозил пальцем торопыгам, кинувшимся вон из аудитории.
– Запишете, потом уйдете. Хунайн бен-Ицик, «Книга о дурном глазе в 10-ти беседах». Джордах Барташ, «Ophthalmodouleia, das ist Augendienst». Сушрут Хараки, «Зеница тайного ока». С этими книгами вы можете ознакомиться в нашей библиотеке…
В дверь из коридора сунулся студент-второкурсник. Он махал платком и корчил жуткие рожи, желая привлечь чье-то внимание. Андреа собрался было дать нахалу укорот, но узнал кудряша. Узнал его и Хулио Остерляйнен, сидевший на верхотуре амфитеатра. Патлатый спал с лица, понимая, что кудрявый явился по его душу.
Небось, дуэль зарегистрировал.
– Что вам надо, отрок? Не видите, мы работаем…
– Мне этого… вон того!.. – мялся кудряш, не спеша уйти. Так топчутся, когда очень хочется по малой нужде, а нельзя. – Ну, лохматенького, а? Дайте его мне!
– Очень нужен?
– Очень! У меня практикум по голематике…
– При чем тут ваш практикум?
– Так я лабораторку… сдал!.. с первого разика!..
– Ну и?
– Практикум, говорю! Сегодня! Мастер, дайте его мне!
Малефик улыбнулся. Ввергнув Хулио в бездну отчаяния, он сошел с кафедрального возвышения и развел руками: дескать, лекция окончена, все свободны.
– Берите, раз надо. Пользуйтесь. Но запомните, отрок: привыкание к услугам кастигария может скверно сказаться на вашей будущности. Все хорошо в меру.
Кудряш ринулся вверх по ступенькам. Хулио ждал его, белей мела.
– Давай! – рявкнул кудрявый, подбегая. – Брани!
– Я не могу, – булькнул Хулио. – Я не готов.
– Брани! При всех! Мне сказали – если при всех, оно лучше помогает…
– Ну, это… дурак ты, и шутки у тебя… Нет, я отказываюсь! У меня нет настроения!
– Брани, – тихо сказал кудрявый, багровея. – Убью. Практикум на носу…
Первокурсники загалдели. Никто ничего не понимал. Но лицо кудряша говорило само за себя. Так смотрит голодный на скупердяя, отказавшего в куске хлеба. Тонущий матрос – на товарища со спасительным канатом. Грешник из бездн ада – на милосердное божество.
Отступать некудa, понял Хулио.
– Ну ты и козел, – сообщил он кудряшу. Голос Остерляйнена мало-помалу набирал силу. – Козел, значит. Козлее не бывает…
От окна за ними с удовольствием наблюдал Андреа Мускулюс. Работа преподавателя, думал он – та еще каторга. Но есть в ней и свои плюсы.
У неожиданности много обличий.
Первыми словами, которые произнес Хулио Остерляйнен, достигнув возраста в один год и два месяца, были не «мама», не «папа» и даже не «дай!», как это случается у иных детей.
– Мать твою бабай! – сказал малыш.
И захихикал. А пальцы на ручках дитяти сами собой сложились в кукиши.
Это было удивительно. В семье никто не бранился вслух. Ну, допустим, кукиши случайно скрутились. А слова? Тойво Остерляйнен, отец ребенка, подступил к супруге с допросом. Не она ли тайком портит ребенка? Ах, не она! Тогда не ее ли подруги, у которых языки до пупа и ниже? Ах, не подруги! Ну, возможно…
Тойво славился медлительностью, помноженной на цепкость. Эти качества свойственны многим достойным сынам Северной Борландии. Его супруга, Кончита Остерляйнен, в девичестве Ховельянос, хорошо знала характер мужа. И предпочла быстро сознаться в том, чего не делала. Иначе пришлось бы до вечера отвечать на вопросы. Да, ляпнула глупость при малыше. Он и запомнил.
Прости, дорогой, я тебя люблю!
Тойво застыл идолом Добряка Сусуна, переваривающего людские грехи – осмысливал услышанное. Как же так? Он едва приступил к делу, а жена уже… Что она ответила? Надо переспросить. Поцелуи? Тащат в спальню? Стаскивают рубаху? Нет, он, конечно, не против. Но сперва нужно…
Через пару часов, одеваясь, он решил, что обсудит этот казус с женой позже. И намерение честно исполнил – спустя четыре года, когда малыш Хулио прибежал домой зареванный, с разбитым носом. Досталось ему, как не трудно догадаться, за язычок, острый не по годам.
– А чего он дразнится? – хором заявила соседская детвора, когда отец пострадавшего учинил разбирательство.
Тут-то и состоялся отложенный про запас разговор. Скверно, Кончита. Надо с сыном что-то делать.
– Надо! – согласилась любимая. – Я им займусь. Он больше не будет.
И на спальню кивнула.
Первую часть обещания она сдержала, занявшись воспитанием сына. А насчет «больше не будет» – погорячилась. Увещевания, нагоняи, страшные истории о болтунишках, неизменно попадавших на обед к троллям-людоедам, даже порка отцовским ремнем – ничего не помогало. Хулио обещал быть хорошим. Он крепился час, два; иной раз – день…
Потом его прорывало.
Быстрые ноги – ценное дополнение к злому языку. Но ноги спасали не всегда. Старые синяки не успевали сойти, как Хулио получал новые. Забившись на чердак, он плакал от бессилия. Можно подумать, ему нравится огребать тумаки! Не иметь друзей, ловить на улице косые взгляды, вжимать голову в плечи, ожидая взбучки.
Язык себе, что ли, отрезать?
Языка было жалко, и все оставалось по-прежнему. В конце концов родители махнули на сына рукой. "В судейские его отдать? – размышлял отец. – Обвинителем? Или к купцам в тайные «бубенцы»? Чужой товар ругать, покупателей отваживать?
Последний вариант казался Тойво Остерляйнену наиболее перспективным. Он и сам был купцом средней руки. Ходил на барках вдоль побережья: из Бадандена в Порт-Фаланд, из Малабрии в Нижнюю Тартинку… Пропал он в рейде на Маал-Зебуб. Отправился с грузом пеньки – плачь, жена, море глубоко…
Кончита год ждала мужа. Задерживается, – уверяла она себя и других. Когда мясник Руперт впервые сказал при маме, что она – вдова, Хулио костерил Руперта полчаса, не умолкая. Мать не стала одергивать сына. Назавтра она надела траур. Разные они были – камень-Тойво и огонь-Кончита. Очень разные.
Такая вот любовь.
Но траур закончился, а жизнь продолжилась. От мужа-купца у молодой вдовы осталось приличное наследство. Вскоре в дом Остерляйненов зачастили кавалеры. Кое-кому вдова, вздыхая, позволяла остаться на ночь. Но надолго не задерживался ни один.
В этом не последнюю роль играл язык Хулио. Когда очередной кавалер узнавал о себе ряд интересных подробностей, он неизменно срывался, отвешивая мальцу затрещину. После чего мать выставляла ухажера вон. Делить кров и постель с тем, кто поднял руку на ее сына?
Убирайся!
Однако всему приходит конец. Незаметно, исподволь, в доме обосновался блондин с вкрадчивым баритоном и пальцами шулера. Он дарил Кончите букеты алых роз, а по вечерам пел романтические баллады, аккомпанируя на лютне. Кончита млела, и блондин оставался еще на ночь, и еще… В ответ на издевки мальчишки блондин заливался хохотом, грозил Хулио пальцем, но рук не распускал.
– Мама, он червивый! От него тухлятиной несет! – убеждал Хулио.
Кончита хмурилась, или улыбалась, или отвечала невпопад. Она ослепла и оглохла. Блондин, которого звали Валдис, очаровал ее. Опоил приворотным зельем? Хулио этого не знал, но видел: привычный мир трещит по швам. Верное оружие не срабатывало.
Осенью сыграли свадьбу.
Ни гнусная «поздравлялка», которую Хулио зачитал во всеуслышанье, ни шутиха, подложенная в торт, не помогли. Мама смеялась и чуть ли не облизывала нового мужа, с ног до головы заляпанного кремом. Валдис впервые повысил на мальчика голос, но Кончита обвила мужа руками за шею и увлекла в спальню. Способ проверенный: на Тойво он срабатывал, сработал и сейчас.
Хулио понял: грядет беда.
Назавтра Валдис потребовал, чтобы «сынок» звал его отцом и бросил сквернословить. В ответ Хулио объяснил «папаше», куда тому следует идти, и что с ним там станут делать быки-производители. Валдис побагровел, взялся за плетку, но сдержался.
– Уверен, мы с тобой еще подружимся, – его ухмылка напоминала бинар-фальшак с облезшей позолотой. – Съездим в Ластицу, на ярмарку. Обнов тебе купим, в цирк сходим…
– Сам поезжай, бледная поганка! – насупился мальчишка.
Увы, ехать пришлось. Мама встала на сторону отчима. Ехали целый день, в настоящей междугородней «кукушке». Пассажиры лезли в ящик-кузов, цепляясь за обода колес и хвосты лошадей. Потом их закрывали съемной стенкой. Кто хотел, мог ехать на крыше. Остальные поминутно, словно птички из часов, высовывали головы в окно: скоро ли конец этой пытке?
Хулио понравилось. Он из родного Стешеля раньше не выезжал, и всю дорогу глазел по сторонам. Даже ругаться забыл. «Может, Валдис не такая уж сволочь?» – затеплилась слабая надежда.
В Ластице отчим первым делом отправился не на ярмарку и не в цирк, а в таверну «Три сапога». Сказал – дела. Обожди на улице, я скоро выйду. Спустя час Хулио сунулся внутрь. Отчима в таверне не оказалось.
Мерзавец сбежал, бросив пасынка в чужом городе.
Так Хулио Остерляйнен стал бездомным. Наверное, он сумел бы вернуться в Стешель. Но мальчик понимал: вернется – пропадет. Отчим убьет его, и спишет грех на местное отребье. Спасибо, папаша, за милосердие: мог бы и в глухом лесу бросить…
Сперва бродяжка попрошайничал. Подавали ему скверно. Раз за разом он убеждался в справедливости поговорки «Язык мой – враг мой». Затем его избили конкуренты. Хлебные места, щенок, не про твою честь! Станешь маячить – на ремни порежем.
Ладно, сказал Хулио. Просить не буду.
Буду воровать.
Новичку везло. Он даже воспрял духом. Вор – это романтика. Главное, набить руку – чтобы не набили морду. Выучусь красиво лямзить, вступлю в Синдикат Маландринов… Разумеется, он попался. Едва жив остался. Грязный оборванец, Хулио тенью бродил по городу, питаясь объедками на задах харчевен. Воровать он теперь боялся. Но однажды не утерпел: у тетки из кошелки торчал свежий калач.
Аж слюнки потекли!
Он пристроился за теткой. Дождался, пока та зайдет в подворотню – и коршуном метнулся на добычу. Вернее, это он думал, что – коршуном. А оказалось – щеглом в силок. Тетка с неожиданным проворством развернулась, цепкие пальцы ухватили Хулио за тощую руку.
– Пусти-и-и! Жадина! Голодному хлебушка пожалела! Мымра косоглазая! – глаза у тетки и впрямь оказались с косинкой. – Чтоб тебя от того калача вспучило! Чтоб он тебе поперек горла встал! Чтоб у тебя дома злыдни не переводились! Чтоб…
Тетка улыбнулась горлопану.
– Крой, малыш! Ну?
Хулио так опешил, что замолчал.
– Забыл? – подбодрила его тетка. – Подсказать? Или лучше я тебе счастья пожелаю? Чтоб у тебя руки отсохли, мерзкий воришка! Грязь подзаборная! Шелупонь вшивая! Чтоб тебе до смерти икалось, а после смерти покоя не нашлось! Ерша тебе в глотку, паршивец!
Губы Хулио растянулись в ответной улыбке – от уха до уха.
– Скупердяйка! Гадюка подколодная! Тебя упырь укусит – от яда сдохнет!
– Лихоманка тебя возьми! Байстрюк!
– Чтоб ты всю жизнь камни грызла и зубы ломала!..
– Чирей тебе в ноздрю!
Пьяница, сунувшийся в подворотню – отлить излишек пива – бегом ретировался. Зрелище не для слабонервных: тетка с пацаном клянут друг дружку, и хохочут от счастья. Пора бросать пить, решил пьяница. Иначе зеленые гули-гули из щелей полезут. И держался до самого вечера.
Так Хулио познакомился с Бальзаминой Пондинг, сестрой-наставницей «Школы Злословия». Его одиночеству пришел конец. Сестры-наставницы отыскивали по городам и весям самых отчаянных ругателей, собирая птенцов под общей крышей. Отбор проводился строгий. В «Школу Злословия» попадали те, кто не в силах был сдержать охальные слова, щедро даря их по поводу и без, зачастую с ущербом для себя.
В Хулио и ему подобных таился особый дар.
Дар кастигария.
Мудреное слово Остерляйнен впервые услышал от сестры Бальзамины. Так по-научному звались сквернословы, кто бранью отгонял бедоносные флюиды от хулимого объекта. Мастерству кастигария, своего рода анти-малефициуму, и учили в «Школе Злословия». Хулио припомнил, как мальчишкам, дубасившим его, все сходило с рук, как Валдис без труда осуществил коварный план, избавившись от пасынка; как хорошо пошла торговля у мясника Руперта…
Никогда больше он не поминал отчима злым словом. Напротив, во всеуслышанье желал тому добра и удачи. Он не знал, к чему это приведет. Пытался выяснить у сестры Бальзамины, но женщина отмолчалась.
За три года обучения он привык не обрушивать всю мощь благодатной ругани на каждого встречного-поперечного – и не доводить дело до рукоприкладства. «Глупо колотить дубиной, – говаривала сестра Бальзамина, – если достаточно уколоть булавкой.» Издевка, мелкая шпилька позволяли «спустить пар», не нарываясь на серьезные неприятности.
А от пустячных обид рос запас маны Хулио.
Временами «злословцы» работали на заказ. Ускорить выздоровление больного, помочь выпутаться из долгов, наладить отношения в семье… В таких случаях приходилось держать ухо востро – дабы не «отблагодарили» дрекольем. Ибо анонимность усиливала благотворный эффект. Клиент, о чьем благоденствии беспокоились друзья или родичи, часто понятия не имел, за что грубиян-незнакомец желает ему гореть в геенне до скончания времен!
И серчал не по-детски.
– У тебя талант, охломон ты этакий, ни дна тебе, ни покрышки! – ласково говорила птенчику сестра Бальзамина. – Тебе учиться надо, убоище лупоглазое!
Сугубые практики, «злословцы» звезд с неба не хватали. А Бальзамина видела: малец далеко пойдет. И кляла любимца, к которому искренне привязалась, вдоль и поперек.
Авось, сложится судьба у парня!
Она не ошиблась. На собрании «Школы» решили отправить Хулио в реттийский Универмаг. Требовались деньги: обучение стоило дорого. Кастигарии поскребли по сусекам и приуныли. Однако не прошло и недели, как феей на белом единороге в Ластице объявилась… Кончита Остерляйнен! Слезы, объятия, пир горой – как и положено в сказках со счастливым концом.
Мать приехала в Ластицу с новым мужем – рыбацким старшиной, похожим на медведя, заросшего до глаз рыжей бородой. На радостях Хулио обложил нового отчима таким загибом, что рыбак проникся к пасынку громадным уважением.
– Где Валдис? – боясь услышать ответ, спросил парень.
Валдиса зарезали в порту. Удача отвернулась от него, и в картах, и в любви. К счастью, растранжирить состояние Тойво ему не удалось – основной капитал был вложен в дело. Валдис играл в долг, попался на крапленых картах; вскоре труп его всплыл в заливе – камень плохо привязали. Убийц не нашли, да особо и не искали.
После этого Кончита словно проснулась. Сердце чуяло: сын жив. Валдис уверял, что его друзья ведут поиски сбежавщего пасынка, и Кончита, как ни странно, верила. Любовь – загадочная штука. После смерти второго мужа вдова наняла легавого волхва. Идя по следу, волхв столкнулся с Хулио на рынке. Парень и представить не мог, что желая незнакомцу феникса в задницу, приближает встречу с матерью!
Прожив месяц в родном доме, Хулио уехал поступать в Универмаг. На средства отца, выделенные ему матерью. По пути в Реттию он заехал в Ластицу – попрощаться с милой сестрой Бальзаминой. Прощание вышло на славу. Очевидцы говорили, что на проводах Бальзамина превзошла себя, да и Хулио не оплошал.
Пир души, честное слово.
* * *
"Я, Джошуа Горгауз, королевский маршал на Строфадах, гниющий в резервации десятый год, в здравом уме и трезвой памяти, выпив все, что было в доме, и не допросившись у тетки Берты даже глоточка из ее запасов, заявляю острову и миру:
– Чтоб они сдохли, эти гарпии!
Мое прошение об отставке съели крысы из канцелярии…
Они предложили мне свои услуги. Хочешь, мы излечим тебя, сказали они. Овал Небес! Нет, я хитер. Я не сразу отказался. И не взялся за оружие. Чем я болен, спросил я, делая вид, что поддался на их уловку.
У тебя паразит на якоре, сказали они.
Не понимаю, ответил я.
Война закончилась давным-давно, сказал Стимфал. Остальные разлетелись, оставив его вести переговоры. Войны больше нет, а ты воюешь до сих пор. Ты бросил якорь в войну. В ненависть, вражду, кровь. В тела погибших друзей. В трупы убитых врагов. В простое, военное разделение: здесь-там, за-против, свой-чужой. Якорь зацепился намертво, цепь держит тебя.
Вы бы видели, с каким спокойствием он это говорил. Словно приказчик, делающий ревизию в лавке.
Да, сказал я. Цепь держит. И будь я проклят, если забуду те дни. Возможно, единственные, полные до краев дни, которые были в моей жизни. Боль, страх, ярость. Пожар души. Страсть, гнев. Радость побед, скорбь поражений. Они навеки со мной, до самой смерти.
Они навеки с тобой, согласился Стимфал. Якоря – ваше природное свойство. Это, в сущности, не смертельно. Иначе вы, люди, уже оставили бы Квадрат Опоры, и память о вас стерлась бы.
Это было бы хорошо, спросил я.
Это было бы ужасно, ответил он. Предположим на минутку, что вы исчезли. Вас нет, а мы есть. Не ухмыляйся, я не тешу себя несбыточными иллюзиями. Я всего лишь предполагаю. Вас нет. Мы – есть. И с этого момента мы заточены не в резервацию – в темницу. Наша свобода ограничивается так, как ты и вообразить не в силах. Вселенная перестает расширяться, крылья теряют смысл.
Не спрашивай, почему. Я не смогу тебе объяснить. У тебя – паразит на якоре войны. Любое мое объяснение ты воспримешь, как военную хитрость.
От крепкого якоря можно умереть, спросил я.
От якоря – нет, ответил он. Умирают от паразитов. Отягощенный мощным паразитом, якорь не просто держит – он тянет на дно. Мы не предлагаем уничтожить твой якорь. Мы предлагаем убить паразита. Рано или поздно он сведет тебя с ума.
Нам не хотелось бы твоей смерти.
Я сделал вид, что размышляю. У вас – не так, спросил я. У вас нет якорей, да? Он кивнул. И начал рассказывать. Вечный Странник! Слушая Стимфала, я верил ему. Потому что всегда знал: гарпии – звери. Животные. Нелюди. Хуже упырей. Туловище, голова, женские груди – ложь, притворство.
Между нами – пропасть, которую следует наполнить огнем.
Он хотел унизить меня, а унизил себя. Рассказать такое! – я бы сдох в мучениях, а не признался… Гарпии лишены того, что они зовут якорями. Воспоминания и надежды, прошлое и будущее – они ободрали все, что позади, и все, что впереди, как липку. Как перья в период отшельничества. Их память чиста от накипи чувств. Их чаяния свободны от сердечного трепета. Если гарпия испытывает чувства, то они ограничены сегодняшним днем.
Стимфал любит свою дочь. Но он любит ее, когда видит. Когда дочь – здесь, рядом. Стоит им расстаться, и он просто о ней вспоминает. С равнодушием, достойным подлеца или истукана. Он плачет над могилой соплеменников, погибших в бою. Но плачет, кружа в небе над этой, будь она проклята, могилой. Улетев прочь, он всего лишь их помнит.
Прошлое для гарпий – бесчувственно.
Будущее для гарпий – бесстрастно.
Я слушал, молчал и втайне хохотал. Он не врет, понимал я. Он говорит правду, не стесняясь ее извращенности. С единственной целью – убедить меня согласиться на их вмешательство. Пустить гарпию в душу. Лазутчик под видом борьбы с паразитом вгрызется в мою сокровенную суть. Выжжет то, чем я дорожу. Коварно превратит жеребца в мерина.
И сделает Джошуа Горгауза подобным гарпии.
Война уйдет. Перестанет сниться. Я буду изредка вспоминать – зевая, без лишних страстей. Назову врагов друзьями. Буду гладить по головкам вражеских детей. Буду сюсюкать над вражьими внуками. Прощу смерть соратников. Извинюсь за причиненные – ха-ха! – обиды.
Обращусь в червя.
Ну что, спросил он. Уйди, ответил я. Уйди, или я тебя убью. И никогда – слышишь! – никогда больше не подлетай ко мне с такими предложениями. Я, королевский маршал в вашей резервации, до конца жизни – на войне. То, что я много пью и не стреляю из арбалета по вашей молодежи, ничего не значит.
Твое дело, сказал он.
Я видел, что он огорчен моим отказом. Еще бы! – Джош Кровопийца не поймался на их уловку. Ни завтра, ни послезавтра, ни в какой другой день Стимфал не возвращался к этому разговору. Забыл? – нет. Понял, что я непреклонен? – не в том суть.
Согласно природе гарпий, он стал равнодушен к моему отказу. И еще более равнодушен – к надежде когда-нибудь добиться согласия. Животное. Сволочь. Я бы убил его, если бы знал, как скрыть убийство.
Я до сих пор на войне."
Матиас Кручек отложил дневник в сторону.
«Мы неспособны к мести, – вспомнил он слова Келены. – Для мести нужны мощные якоря – в прошлом и будущем. Еще лучше – якоря, зараженные паразитами. У нас их нет, понимаете? Как у вас нет крыльев…»
У них нет якорей. Ни вчера, ни завтра – нет.
Возможно, поэтому они летают?
«Вас нет, а мы есть, – перечитал доцент слова Стимфала, гарпия, который сражался за свободу, был выкуплен из плена Шестируким Кри и сейчас доживал свой век на Строфадах. – Я всего лишь предполагаю. Вас нет. Мы – есть. С этого момента мы заточены не в резервацию – в темницу. Наша свобода ограничивается так, как ты и вообразить в силах. Вселенная перестает расширяться, крылья теряют смысл.»
Что хотел сказать Стимфал, оставалось загадкой.
– Доцент Кручек?
Клубочек ринулся накручивать спираль на связном блюдечке. Проявилось лицо секретаря Триблеца. У этого лика было два имени: озабоченность и усердие.
– За вами прибежал королевский скороход. Вас просят немедленно отправиться в дом Томаса Биннори.
– Зачем?
– Для присутствия на третьем сеансе лечения.
– У меня лекция по траекториям пассов!
– Мы уже договорились с профессором Гавриком. Он вас заменит, – секретарь понизил голос до шепота, став похож на заговорщика. Часть блюдечка недопроявилась, сохранив красочное изображение тюрьмы для магов. Триблец в этом обрамлении смотрелся очень символично. – Высочайшая просьба, сами понимаете! Спускайтесь вниз, вас ждет карета.
– Карета?
– Мастер Скуна любезно согласился, чтобы вы воспользовались его каретой. Но домой после сеанса вас отвезет извозчик. Оплата – за счет университета. Карета мастера Скуны должна не позже, чем через два часа, вернуться обратно. Иначе…
«Она превратится в тыкву,» – чуть не брякнул Кручек, раздосадованный внезапным изменением планов. Он и сам хотел присутствовать в доме Биннори, наблюдая за гарпией. Понимая, что все равно ничего не отследит, он шел на поводу своей педантичности, твердящей: иди до конца!
Но доцент не любил сюрпризов.
– …иначе мастер Скуна будет огорчен. Он ездит по городу исключительно в своей карете. А ректор не желает огорчать такого выдающегося…
Звук плавно сошел на нет. Доцент подавил желание запустить в блюдце увесистой книгой и выглянул в окно. Действительно, у центрального входа дежурила черная карета Скуны. На козлах сидел молодой ассистент с кнутом в руках. По всей видимости, в его услугах старик-гипнот сейчас не нуждался.
Кони фыркали и били копытом о булыжник. Их нервировал псоглавец – стоя поодаль, тот помогал гарпии забраться на пегую кобылу. Кручек сегодня не встречался с Келеной. Даже при его слабом зрении было заметно, что гарпия выглядит ужасно. Так, словно по ней ночью топталось стадо несвезлохов.
«С чего бы это? – удивился он. – Реакция на лечение барда? Естественный процесс? Заболела? Не знаю, сыщется ли в Реттии специалист по болезням гарпий…»
Когда оба всадника-миксантропа пустили лошадей шагом вдоль ограды, Матиас Кручек вздохнул и покинул кабинет.
* * *
"Нет, она, конечно, предупреждала, – скрипя пером, записал Абель Кромштель. – Сразу после второго сеанса. Так и сказала перед отлетом: если все пойдет нормально, поведение мэтра станет естественным. Не обольщайтесь. Это временное облегчение. И не поддавайтесь на его уговоры – в город больному нельзя. Возможно, он опять захочет сбежать. От себя не убежишь, но больные с паразитом, изолированным в карантине, испытывают странные позывы.
Считайте, он под домашним арестом.
– Когда послать за вами? – спросил я.
– Когда, – она ответила загадкой, – он перестанет откликаться на свое имя.
– Нельзя ли указать точнее?
– Нельзя. У каждого это случается по-разному.
Она была права. Мэтр ел, пил и спал. Играл на арфе. Сочинял. Разговаривал со мной. Читал книги. Совершал естественные отправления. Написал «Эпитафию ночному горшку». Довольно рискованную, на мой взгляд. Шутил; временами делался задумчив. Будь на моем место кто-то другой, не знающий мэтра досконально, он решил бы, что Томас Биннори выздоровел.
Но я видел: это ложь.
Домашний арест не вызвал у мэтра гнева. Обычный, знакомый мне Биннори переломал бы в доме всю мебель. Наорал бы на меня. Порвал струны. Полез в драку со скороходами – согласно приказу, у нас в прихожей день и ночь, помимо гвардейцев, дежурили трое посыльных.
В городской толчее они проворнее всадников.
Мэтр, равнодушно принявший ограничение свободы, стал для меня полной неожиданностью. Вторая несообразность оказалась менее заметной. Я и сам-то проморгал ее вначале. За эти дни мэтр ни разу не вспомнил о родине. «А ты помнишь? – вечно начинал он, несмотря на мои просьбы не терзать сердце. – Нет, Абель, ты помнишь?» Или строил планы возвращения. Несбыточные, безумные, они приносили ему облегчение.
Так вот, сейчас он вообще не касался этой темы.
Лишь замолкал посреди разговора, или сидел за столом, держа ложку у рта, и мучительно морщил лоб. Будто забыл что-то важное, и не в силах ухватить мысль за хвост. Будто кружит одинокой птицей, ища гнездо, которое сожгли злодеи – а может, гнезда и вовсе не существовало?
И наконец, он играл две мелодии, а третью – нет. Это требует пояснений. Музыканты Западного Эйлдона говорят: «У арфы – три мелодии. Одна – грусть и умиление. Вторая – покой и дрема. Третья – радость и возвращение.»
Мэтр отказался от третьей мелодии. Иногда пальцы его брали знакомые аккорды, и сразу прекращали игру. Без участия сознания, как отдергивают руку от раскаленного металла.
Сегодня же он перестал откликаться на свое имя. Он вообще ни на что не откликался. Замер в кресле, окаменел со страшной, кривой ухмылкой на лице. Пожалуй, я запомню его лицо до конца своих дней. Теперь мне нечего бояться – я видел мертвого Биннори. Лишь зеркальце, поднесенное ко рту, говорило: он дышит.
Для верности я окликнул его – раз, другой. И разослал скороходов, куда следовало. Гарпия сказала: можно не торопиться. Время, мол, есть. Тем не менее, я спешил, как на пожар. Чудилось, что минута промедления способна отобрать у мэтра последние признаки жизни.
Из меня плохая сиделка. Я не верю лекарям.
Первым прибыл капитан Штернблад. Он чуть не загнал коня, торопясь. Зря, конечно – капитану пришлось ждать. Коротая время, он слушал рассказ одного из лейб-гвардейцев. На днях была не его смена, гвардеец подвергся нападению. В темном закоулке на него бросился какой-то бешеный псоглавец, намереваясь заколоть беднягу шпагой.
Гвардеец лихо подкручивал усы, вспоминая бой. Я не знаток фехтования, но, судя по деталям, поединок сложился нелегко. Лишь в конце, особо изощренным выпадом гвардеец достал врага – прямо в сердце! – и уложил на месте.
– Вы сообщили ликторам? – поинтересовался капитан.
– Зачем? – удивился гвардеец.
– Чтоб забрали тело убитого.
– Нет уж! Пусть гниет, падаль! Мусорщики подберут…
Капитан пожал плечами и стал перечитывать взятое из дома письмо. Я случайно увидел подпись в конце. Это было послание от его сына, Вильгельма Штернблада. Читая, капитан улыбался. От улыбки он молодел лет на двадцать. И волосы, которые он красил хной, пряча седину, вдруг отливали естественной, природной медью.
Гарпия не прилетела, как обычно, а приехала верхом на лошади, в сопровождении псоглавца. Капитан сразу же указал гвардейцу на сопровождающего.
– Этот?
– Кто? – не понял гвардеец.
– Не этот ли псоглавец напал на вас?
Гвардеец от души расхохотался.
– Я ж вам сказал, капитан: того я убил. А этот живехонек. Нет, сударь, после моего клинка не разъезжают по улицам! Да и морда у этого тупая. У того острая была, как у борзой. И уши, как у эльфа…
Псоглавец оскалился – смеясь или от злости, я не понял. Гвардеец почесал в затылке и решил не заострять внимание на различиях чужих морд. В прихожей тесно, а клыки есть клыки. В тесноте далеко ли до обиды?
– У меня просьба, – сказала гарпия, и все замолчали.
Лишь сейчас я заметил, что она… Краше в гроб кладут.
– Я не знаю, как начать сеанс. На перила лоджии я поднимусь по-человечески, – я опять не сразу сообразил, что она имеет в виду. – Выйду на балкон. Доминго мне поможет забраться… Но перед сеансом я должна осуществить захват.
– Захват? – я вздрогнул.
– Вы уже видели, – напомнила она. – Ничего страшного. Я пикирую на больного, в последний момент сворачиваю… Тут-то и кроется беда. Спикировать в моем нынешнем состоянии я, пожалуй, сумею. Возьму разгон, наберу необходимую скорость. Но остановиться вовремя… Нет, на это меня не хватит. Если я разобьюсь о землю, или, того хуже, врежусь в больного – последствия могут быть самые ужасные.
Капитан отложил письмо.
– Я вас поймаю, сударыня.
– Поймаете? – я впервые увидел, как изумляются гарпии. – Меня?
– Как родную. Не извольте беспокоиться.
– Я буду лететь очень быстро, – предупредила она. – Словно на добычу.
– Я люблю темпераментных дам. Заранее благодарю за доставленное наслаждение.
– Когти?
– У вас дивный маникюр.
– Ну, допустим. Все равно других вариантов я не вижу. Последний нюанс, капитан. Когда вы станете меня ловить, имейте в виду: я уже буду не здесь. Не телом, разумеется. Душой. Сознанием, если угодно. И тело мое может поступить, как ему вздумается. Телу все равно, кто его хватает на лету – друг или враг. Если что, я заранее прошу прощения. И хочу, чтобы меня ни в чем не обвиняли. Вы поняли?
– Да, сударыня. Я вызвался доброй волей. Абель, вы слышали?
Я кивнул.
– Так и запишите."
Liber V Знать и верить Caput XVII
Зябко и просторно в старом сквере,
Зыбь тумана трепетна и нервна,
Если и воздастся, то по вере,
Если не воздастся, то поверь мне.
Томас Биннори…Крылья взвихрили плотный воздух психонома, закручивая его смерчиками. Келена стала набирать высоту, желая осмотреться. На сей раз она вошла без помех. Но мир не замедлил сыграть с ней шутку. Небо, вместо облаков затянутое канителью из кипящего золота, внезапно отпрянуло, шарахнулось вверх – и оставило гарпию у самой земли.
Это не страшно. Просто – работа. Обычное дело. Здесь она чувствовала себя здоровой и полной сил. Здесь она была готова к битве за душу Томаса Биннори.
А не здесь?!
«Странная штука – доверие, – размышляла Келена, паря в восходящих теплых потоках. – Иногда оно возникает, подобно искре. Раз – и ты доверился едва знакомому существу. А случается, к доверию идешь шаг за шагом, преодолевая упорное сопротивление. Отчего так?»
Она старалась не думать о том, что произошло во дворе. Боялась удариться в панику, которая швырнет ее обратно. Чтобы убедиться: все живы, никто не пострадал. Она не врезалась в больного. Не снесла ему голову, не переломала кости. Не валяется, разбившись, на клумбе – тряпичная кукла, испорченная вредной девчонкой. И маленький капитан цел, избежав когтей…
Воображению рисовалась ужасная картина. Двор, скудно освещенный огнем свечей. Замерли гвардейцы, рты разорваны воплями. Рыдает, упав на колени, слуга. Опрокинутое, лежит кресло. Рядом – мертвый пациент. Капитан опоздал, она не совладала со скоростью. При столкновении бесчувственный поэт рухнул навзничь, стукнулся затылком о бордюр клумбы. Тело гарпии, раньше состоявшее из птицы и женщины, а теперь – из мертвечины, накрыло Биннори саваном из перьев.
Труп на трупе.
Скороход выскальзывает в дверь – бежать с докладом.
«На первом сеансе капитан поверил мне сразу. Он не знал, что я стану делать. Не знал, опасно ли это для пациента. Мало кто спокойно выдерживает зрелище атакующей гарпии. Один кинется наутек; другой начнет рубить с плеча. Вот гвардейцы и рубанули. А капитан взял и поверил.»
«А ты? – спросил кто-то, летящий рядом. – Ты доверяешь ему?»
Ему – да, молча ответила гарпия. Но я не доверяю собственному телу. Отсюда я не в состоянии выяснить правду. Значит, глупо травить сердце черными мыслями. Паразит только и ждет, когда я ослабею. Надо верить: там все прошло удачно.
Верить, не стремясь проверить.
А вот с Матиасом Кручеком мы движемся навстречу друг другу, выверяя каждый шаг. Кручек – ученый. Он привык искать факты, доказательства, делать выводы. А я? Или, общаясь с ним, я невольно подстраиваюсь под его образ мыслей? Осваиваю методику Высокой Науки?
Ерунда! При чем тут методика?
Но ведь ты и сейчас сомневаешься? Не это ли один из принципов науки: все подвергать сомнению?
Ценой колоссального усилия Келена изгнала тревогу. Раскинув крылья, она заскользила, вглядываясь в местность, плывущую внизу. Холмы и реки. Одинокие замки. Диковинные города. Освещение изменилось: ни день, ни ночь – феерия золотистых сумерек. Признаков завершения, наступающего со смертью создателя, не видно. Но это ничего не значит. Завершение происходит не сразу, оно длится месяцы и годы.
Если создатель погиб минуту назад, заметить это невозможно.
По курсу возник памятный якорь. Его она в прошлый раз очистила от мелких паразитов, собирая свору. Дворец – и путник на осле. Первый из узлов кольца отчуждения вокруг доминанта.
А вот и само кольцо.
Внутри зоны карантина вспучился, опалесцируя кармином и бирюзой, волдырь-гигант. Словно земля там сочилась кровью и гноем. Уплотняясь, миазмы доминанта образовывали купол, чья поверхность отблескивала жирным глянцем. Вершину нарыва, будто снег, укрывала белесая плесень.
Прежде чем приземлиться у границы, гарпия на миг зависла в воздухе. Дикий, оглушительный вопль едва не вырвал деревья с корнем – это она призвала свору. Минута-другая – и летучие церберы явились на зов. Кое-кто норовил потереться о ноги хозяйки. Другие с радостью скрежетали и курлыкали, приветствуя госпожу.
Сняв церберов с патрулирования, Келена ослабила кольцо отчуждения. Ей необходима хорошая видимость, а не кровавый туман. Разумеется, паразит воспрянет и захочет дотянуться до якорей-соседей. Это правильно. Пусть доминант проявит себя.
Кольцо продержалось не больше получаса. Раздался хлопок – словно лопнул исполинский рыбий пузырь – и граница исчезла. Можно было ожидать: багровая мерзость хлынет наружу, затапливая все вокруг. Однако ничего подобного не произошло. Напротив, нарыв стал опадать, съеживаться, туман поредел, оседая на землю и впитываясь без остатка.
Вскоре глазу предстали обычный пейзаж. Разве что деревья искривились и обросли клочковатым мхом. Трава пожухла. Дома вдали выглядели обветшалыми. Гарпия ощутила дуновение анемоса – поток прокладывал новое эфирное русло – и едва справилась с искушением. Помнишь, как упоенно ты кружила в небе над университетом, восполняя свой жалкий запас маны? Что, если попробовать? Прямо сейчас?
Нет.
Она глянула в поднебесье и увидела воронку, сотканную из туч – черных, как перья ворона. Во тьме проступил двор, огоньки свечей, разоренная клумба, опрокинутое кресло… И тела на земле. Психоном насмехался, показывая не туманное будущее, а нездешнее настоящее.
Правда или морок?
Завтра это уйдет назад. Избавится от накипи чувств. Остынет. Живая или мертвая, наша нынешняя или наша прежняя, гарпия окинет случившееся взором, спокойным и бесстрастным. Обдумает ошибки, оценит достижения. Но это – завтра. А сегодня – вино, наливаемое кравчим-растяпой, хлещет через край. Багровая влага заливает пирующих, столешницу, зал, жизнь…
Орел на аркане, подумала Келена. Вот кто я. Орел на аркане. С клобуком на голове. Слепота, мрак, неизвестность. И зыбкая струна надежды под лапами. Всякий, проходя мимо, считает своим долгом ее дернуть. Надежда качается, я вновь ищу опору…
Она глубоко вздохнула, успокаиваясь.
– За мной!
Легко оттолкнувшись от земли сильными – человеческими! – ногами, гарпия взмыла в воздух. Свора ринулась следом.
Охота началась.
* * *
Она изменила маршрут. Больше не требовалось искать доминанта по косвенным признакам, или огибать его по дуге, создавая кольцо отчуждения. Церберы, ведомые гарпией, шли напрямик, над кронами деревьев, увенчанных веерами для великанов. Боясь своры, веера в испуге сворачивались – и не торопились раскрыться вновь.
Тем не менее, Келена успела полюбоваться рисунками на шелке. Корчились в огне тритоны. Драконы с крыльями стрекоз – они смотрели на мир глазами побитых собак. Цветы разверзали пасти, дыша роями мошкары. Умирали дубы, изъеденные червями. Парили в облаках шипастые шары на цепи из звеньев-сердец.
Каждый шип напоминал жадный хоботок.
Сюжеты, пронизанные извращенной фантазией, выглядели достойными кисти Адольфа Пёльцлера – согласись мастер, одержимый бесом вдохновения, изменить эбулио-реализму. Дикие сочетания красок – конвульсии цвета. Формы, сводящие с ума неопределенностью, и вместе с тем – узнаваемостью.
Агония разума, над которым нависла тень исказителя.
Подобные миры Келене довелось видеть не только на веерах. Так выглядели психономы, где паразит-доминант после смерти творца перекроил реальность под себя. Картины на шелке – предупреждение. Время в психономе выкидывает странные фортели. Возможное завтра, преломляясь, мелькает в невозможном сегодня; пророчества штопают ткань бытия.
На западе возник холм, где длился бесконечный поединок. Уже близко. Стальной лентой блеснул ручей. Феи, танцующие вокруг поэта, почуяли приближение своры, кружась все быстрее и быстрее. Девичьи фигуры слились в разноцветный вихрь. Вспышка бирюзы, брызги изумруда, пламя янтаря, сияние жемчуга…
Кто?
Свора рассыпалась облавным полукругом, заходя на добычу. Келена взмыла, расшвыривая облака – и закричала так, как нечасто кричат даже гарпии. Вызов на бой сотряс землю, рябины на взгорье, кусты бересклета; вспенил ручей, превратив сталь в шкуру ягненка. Врассыпную кинулись лани, объедающие кору с молоденьких осин. Сотряслись ясени, роняя листву.
Хоровод замер. Вихрь распался на четыре тела, сплошь покрытых блестками изморози. Метни в любую из фей монетку – и красавица со звоном рассыплется сотнями острых осколков. Упала тишина, душная, как вечер перед грозой. Смолк ручей, онемели птицы, шелест листьев сгинул без следа.
И в тиши, сковавшей мир цепями беззвучия, у ног жемчужной феи шевельнулся карлик-шут. Его дурацкий колпак вспучился кублом змей. Пророс острыми бивнями. Удлинился до земли, накрыв тело уродца расписным балахоном. Под балахоном, словно перестав смущаться нескромных взоров, карла начал стремительно увеличиваться в размерах. В мгновение ока он пожрал и четверку фей, и треть пригорка, и бересклет, и стайку рябин.
Уцелел лишь поэт. Безучастно глядя перед собой, Биннори перебирал струны арфы. Арфа молчала, но он не оставлял попыток, как если бы от этого зависела его жизнь.
Столб бугристой плоти поднялся выше деревьев. Фаллос исполина восстал над землей, желая ворваться в лоно психонома, оплодотворить вместо семени жгучей струей желудочного сока. Доминант готовился к битве с захватчиком, посягнувшим на чужую территорию. То, что сам паразит тоже был из породы захватчиков, его не беспокоило.
Убить подобного себе?
Изысканное наслаждение.
Одиночка, он не знал, что не одинок в страсти к наслаждениям такого рода. Не знал, пока его не атаковала свора. Воскресшие после гибели церберы рвали живого собрата на части. Змея с головой старика впилась ядовитыми зубами в паразита. Она бы обвила гиганта, но доминант был слишком велик для ее объятий.
С утробным рокотом, от которого задрожала твердь, он встряхнулся – и змея гнилой веревкой отлетела прочь.
У вершины монстра вился шершнель-многоножка, вонзая жало в уязвимые места. Барракуды пожирали куски плоти, словно щенята – крохи, брошенные со стола. Церберы облепили паразита роем голодных слепней. Казалось, неповоротливый колосс не в силах противостоять своре. Но гарпия знала: это не так.
Кружа на безопасном расстоянии, Келена не спешила нападать. Пусть доминант покажет, на что способен. «Разведка боем» – вот главная задача своры. Иначе выйдет не спасение больного, а самоубийство.
А внизу играл на молчащей арфе Томас Биннори.
Доминант изменил форму, как глина под пальцами скульптора. Паразит обрел сходство с человеком. В новом облике не осталось ничего от давешнего карлы. Голем был карикатурой на поэта, терзавшего арфу. Плоть шла пятнами, раскаляясь в одних местах, твердея в других, оставаясь вязкой в третьих. Саранча расшиблась в мокрое месиво, ударившись о лоб гиганта. Семиглавый дракончик изрыгал огонь, кашляя, будто чахоточный.
Видя тщету своих попыток, малыш не знал, что можно сделать еще.
Сгорели барракуды, попав на раскаленные участки. Та же участь постигла хищную розу. Шершнель приклеился к плечу исполина. Насекомое беспомощно жужжало, пытаясь вырваться. В воздухе мелькнуло разлохмаченное полотнище. Сотканный из крапивы ковер-самолет с размаху прилип к груди паразита. Грудь зашипела, повалил смрадный дым. Ковер продержался не больше минуты – сгорев полностью, он оставил на теле врага ожог, откуда сочилась грязно-бурая сукровица. В недрах ожога, исходя набатным гулом, билось…
Сердце!
Ваш выход, сударыня.
Заложив вираж, Келена упала на голема. Раздирая дыру когтями, она жалела, что родилась без клюва. Удары сердца приближались, оглушая. Крылья намокли, перья облепила какая-то дрянь. Но сейчас она не слишком нуждалась в крыльях. Смрад проник в легкие, дыхание сбилось, но гарпия остервенело прокладывала себе путь.
Скользкая масса окружила ее. Свет померк. Не хватало воздуха. Если она опоздает, если не доберется до сердца… Когти вонзились в ком льда. Вьюга брызнула в лицо. По локоть погрузив руки в трепещущий холод, Келена рванула изо всех сил – и рухнула в темную, затхлую бездну. Миг падения длился вечно.
Но тут, обретя голос, зазвучала арфа.
С хрустом и шелестом трескалась пересохшая глина. Гарпия вывалилась наружу, отчаянно чихая от пыли, набившейся в ноздри. Останки доминанта уходили в землю, исчезая без следа. Возле ручья сидел Томас Биннори, играя «Зеленые рукава». Вокруг барда, как ни в чем не бывало, танцевали четыре феи.
Карла исчез.
* * *
– Где я?
Она лежала на боку. Было удобно. И хотелось спать. Что-то мягкое, изогнувшись так, чтобы у Келены ничего не болело от соприкосновения, тихо дышало под ней. Что-то теплое, чуточку покалывая кожу, укутывало ее от шеи до хвоста. Кожу лица пощипывал холодок, но не слишком. Шнуровку лифа деликатно ослабили, облегчая дыхание.
В гнезде было бы менее уютно.
Борясь с дремой, гарпия приподняла голову: оглядеться. Ну конечно, двор. Внутренний дворик жилища Биннори. Млечная, белесая мгла вползла и расположилась по-хозяйски. Облизала клумбы липким языком. Хлопьями повисла на ветвях кустарника, кружевами обшила карнизы, перила балконов, на ходу изобретая заросли странных папоротников.
Вверху туман наливался коричневой тьмой, будто пенка на топленом молоке. Весь мир свелся к этому двору-кувшину – и джиннам, заточенным в нем до скончания времен.
Неподалеку валялось опрокинутое кресло. Рядом стояла кушетка с телом, в котором гарпия с трудом узнала больного поэта. Биннори лежал спиной к ней. В ногах поэта, бросив на землю тюфячок и обнимая колени хозяина, затих слуга. Во дворе были еще тела. У бордюра клумбы вповалку расположились гвардейцы. Они разделись до рубашек, хотя ночь не баловала теплом, и свернулись калачиками. Большие, могучие дети, гвардейцы только что пальцы в рот не сунули. Сидел без движения, откинувшись на вазон с петуниями, Матиас Кручек. Открыв рот, доцент храпел, уставясь вверх плотно закрытыми глазами.
Его изумляли видения, вышитые изнутри на веках.
Гарпия не помнила, в какой момент Кручек явился сюда. С балкона, перед началом сеанса, она не заметила его прихода. Или он присоединился к зрителям позже? Возле доцента, уронив собачью башку на сгиб локтя, спал псоглавец. Тоже без кафтана. Доминго вкусно посапывал, дергая ухом.
Звуки – сопение псоглавца, храп доцента, дыхание у собственного виска – убедили гарпию, что она находится в окружении живых, а не в хладной компании трупов.
– Скоро утро, – сказали под ней. – Как вы себя чувствуете?
– Я хочу встать, – ответила гарпия.
– Хорошо.
Ее словно порывом ветра подняло на ноги. Плед упал, она переступила через него. На плече, поверх крыла, Келена ощутила дружескую руку – на тот случай, если птичьи лапы подведут хозяйку. Что-то мягкое оказалось кем-то мягким – все это время, сколько его ни было, капитан Штернблад, сидя на голой земле, держал ее на коленях, как ребенка.
– Спасибо, капитан.
– Это вам спасибо, сударыня. Лучшая ночь в моей жизни. Если вы сочтете это шуткой или комплиментом, вы – мой враг до конца дней.
Он смотрелся паяцем. Не пойми зачем, капитан нарядился в три кафтана, один поверх другого. Застегнул верхний на все пуговицы. Замотал горло толстым, пушистым шарфом. Сейчас маленький капитан выглядел неуклюжим толстяком. Злюка-волшебник превратил сухопарого богомола в жука-рогача.
Гарпия пригляделась.
Кафтаны осталось снять и выбросить. На груди ткань была изодрана в клочья. Пуговицы вырвали с мясом. Левый рукав висел на нитках. От шитья остались одни воспоминания. Лацканы болтались полосами. Нижние кафтаны во многом разделили судьбу верхнего.
Шарф пострадал меньше.
– Это я?
– В порыве страсти, сударыня. Исключительно в порыве страсти. Не извольте беспокоиться, вас не заставят возмещать ущерб. Я справлю гвардии обновку за счет казны. Пусть раскошелятся, скряги!
– Это я. Я могла изуродовать вас, капитан.
– Не могли, сударыня.
Он сказал это с такой простотой, что угрызения совести исчезли.
– Разбудить их? Замерзнут…
– Не думаю. Ночи не слишком холодны. И потом, лишения укрепляют воинский дух. Если схватят насморк, я пропишу им клистир…
Вполглаза, делая вид, что спит, за ними наблюдал псоглавец. Когда Доминго чего-то не понимал, он нервничал. Вот и теперь, он вспоминал, как Рудольф Штернблад готовился к перехвату, отбирая кафтаны у гвардейцев и требуя, чтобы слуга Абель принес ему шарф – самый толстый и крепкий, какой сыщется в доме. Укутавшись, капитан стал похож на Майское Чучело, которое сжигают весной в честь урожая.
Поэт без чувств сидел в кресле. Атакующая гарпия свернула буквально за волосок от Биннори – и непременно врезалась бы в землю, если бы не капитан. Как можно в таком наряде прыгнуть и принять крылатую бурю на грудь, Доминго не знал. Когтями лап гарпия вцепилась в сукно кафтанов. Она ничего не соображала, пытаясь руками ударить капитана по лицу. Штернблад перехватил ее запястья. Поворот, бросок – и у самой земли капитан невозможнейшим образом буквально подвернулся под гарпию, делаясь мягчайшим, как пух, и нежным, как прикосновение матери.
В его объятьях гарпия успокоилась и, кажется, перестала дышать.
Псоглавец не мог понять главного. Сам он ни за какие коврижки не повторил бы того, что сделал маленький капитан. Но Доминго хотя бы представлял себе, что такое иногда случается. И недоумевал, зачем Штернблад устроил балаган с переодеванием.
О, Доминго, сын Ворчака, ни минуты не сомневался, что капитан утихомирил бы гарпию и без кафтанов. Просто не позволил бы в себя вцепиться. Все могло быть проще, без порчи одежды и головокружительных бросков. А вышло иначе.
Мой капитан, что за цель ты преследовал?
Псоглавец еле слышно заворчал, отворачиваясь. Спустя минуту он спал, и ему снился мост через Рыбный канал, драка с вонючкой, треск перил – и удовольствие от смерти врага. Он даже повизгивал от радости, будто щенок. Дергал верхней губой, обнажая клыки.
И булькал, как вода под мостом.
* * *
– Цыпа-цыпа-цыпа… маленький мой, худо тебе…
Василиск Царек захворал. Он лежал на боку, поджав когтистые лапы. Бельма потускнели, став похожими на бляшки с дешевого пояска. Жабье туловище покрылось слизью. Гребень опал, завалился набок – точь-в-точь берет у подвыпившего гуляки.
Из горла вырывалось клокотание.
– Цыпа-цыпа… Хочешь кушенькать?
Нет, и от катышков из млечного сока анчара, своего любимого лакомства, ящерок отказался. Суетясь у клетки, Серафим Нексус был безутешен. Такое случалось с Царьком не в первый раз. После болезни, оправившись, он восставал к жизни – если не как феникс из пепла, то как удав после линьки! – и все равно лейб-малефактор трудно переносил недомогания любимца.
– Дай ему изюма, Серафим.
– У меня нет изюма.
– У меня есть.
– Маленький не любит изюма. Я ему никогда не давал…
– Вот и попробуем.
Нежно-лиловая изюминка влетела между прутьями клетки. В бельме василиска что-то отразилось. Казалось, слепой ящерок увидел подношение. Следом в клетку прилетела вторая изюмина: крупная, аспидно-бордовая. Обе легли рядом с гребнем – драгоценности, выпавшие из монаршего венца.
С трудом подвинув голову, Царек недоверчиво клюнул одну красавицу, затем – вторую.
– Кушенькает! – возликовал Нексус.
Слопав обе изюминки, василиск с надрывом кукарекнул. В ответ меж прутьев мелькнул третий снаряд: морщинистый, по форме похожий на голову черепахи.
– Косточкой не подавится?
– Там нет косточек. Это сабза. И шигани.
– Ага, хорошо…
С кушетки за процессом кормления наблюдал Матиас Кручек. Выглядел доцент не лучше, чем хворый василиск. Небрит, всклокочен, в мятой одежде, он вызывал отвращение у самого себя. Глаза слипались, спать хотелось так, что аж дух захватывало. Раздеться бы, лечь, свесить гребешок, поджать лапки, обвить тело змеиным хвостом (а лучше, одеялом), слопать ведро изюма – и баиньки…
Его забрали прямо из дома Биннори, на рассвете. Когда он ехал к поэту, на углу Бакалейщиков опрокинулась телега, груженая бочками. Карета доцента застряла в пробке. В итоге он опоздал полюбоваться пикантным зрелищем – капитан Штернблад ловит гарпий на живца! – и, извиняясь за опоздание, полночи тужился отследить хоть что-то из действий Келены.
Чуть грыжу не заработал.
Увы, старания не увенчались успехом. Астрал был чист, как слеза младенца. Эфир безмолвствовал. На всех эасах царили тишь да гладь. Утомившись, доцент заснул под утро, и проморгал отъезд гарпии в сопровождении псоглавца.
Подняли его через час, едва ли не пинками. «Мастер! – орал скороход, как при пожаре. – Мастер, за вами карета!.. лейб-малефактор изволили передать: милости, значит, просим!» Спросонья Кручек не сразу сообразил, о какой милости у него просит лейб-малефактор. А когда сообразил, было поздно: он сидел в присланном экипаже и ни свет ни заря катил в гости к Нексусу.
Тогда он еще не знал, что в гостях будет не одинок.
Все повторялось. Возвращалось на очередной круг, будто ребенок, вертящийся на карусели. Жилище лейб-малефактора. Василиск в клетке. На стуле примостился Андреа Мускулюс, бодрей бодрого. Малефик в эту ночь гарпией пренебрег. Выспался, вредитель. Баю-бай, баю-бай, спи, астрал не колебай… а в кресле у окна, где в прошлый раз сидел гипнот Скуна…
Сон одолевал. Мозг превратился в амфисбену, двухголовую змею. Засунув меньшую главу в рот большей, амфисбена колесом катилась с горы в пропасть забытья. От жара змеиного тела плавились мысли, растекаясь зеркальными лужицами. Желая взбодриться, Кручек налил себе в ладонь из кубка и растер лицо холодной водой.
– Больной выздоровел? Сударь Кручек, я к вам обращаюсь.
– Н-не знаю…
– Не знаете?
– Когда я уходил, Биннори еще спал. Как по мне, вполне здоровым сном. Я не лекарь, точнее сказать не могу. В ауральном смысле все оставалось в норме. Собственно, аура Биннори и раньше не давала повода для опасений.
– Что сказала гарпия?
– Когда меня разбудили, ее в доме уже не было. Абель сообщил, что гарпия перед уходом утешила его. Уведомила, что с мэтром все в порядке. Паразит уничтожен, якорь восстановлен в чистом виде. Нет причин для беспокойства.
– Полагаете, ей можно верить?
– Верить? Не знаю. Но ее слова легко проверить. День-два, для очистки совести, неделя – и мы все убедимся: здоров Биннори или нет.
– Ваше мнение, сударь Мускулюс?
– Я согласен. Время покажет. К сожалению, у нас нет других вариантов.
Вопросы задавал не лейб-малефактор. Старца целиком поглотила забота о василиске. Но и без хозяина дома здесь нашлось кому спрашивать. В кресле у окна, разглядывая блюдо, на котором красовалась горка изюма разных сортов, сидел Великий Слепец – Антонин Тератолог, коронный друнгарий Реттии, глава Департамента Монаршей Безопасности.
Человек, которого в этой жизни не интересовало ничего, кроме ограждения короля от посягательств на высочайшие жизнь и здоровье. Среднего роста, брюшко, узкие плечи, камзол вытерт на швах – если б не льдистые глазки, он сошел бы за скуповатого владельца пивной. Но в пивной Тератолога разливалось горькое пиво. Судачили, что он – паук, что от него тянутся нити к родственным канцеляриям Бадандена, Анхуэса, Брокенгарца, и стоит одной-единственной ниточке зазвенеть…
Но судачили – шепотом. И уж вовсе еле слышно вспоминали, как пару лет назад, когда Совет Бескорыстных Заговорщиков едва не укокошил Эдварда II, Антонин Тератолог подал королю официальное прошение. Он желал покончить с собой – любым способом, какой дозволит монарх. Ибо не уберег. Блеф? – нет. Положительная резолюция, вне сомнений, повлекла бы за собой смерть коронного друнгария. К собственной жизни он относился так же, как и к прочим жизням.
Равнодушно.
Эдвард отказал в прошении. Тератолог остался жить, и даже сохранил пост главы департамента. Но если раньше он охранял монарха, как бдительный пес, то теперь собака превратилась в фанатика.
Время от времени Антонин брал с блюда изюминку и съедал. Или угощал Царька, щелчком отправляя дар в клетку. Без косточек – василиску. С косточками – себе. Мелочь – Царьку. Большие, мясистые ягоды – себе. Сабзу – ящерку. Хусайни – себе.
Это завораживало.
Косточки похрустывали на зубах. Косточки злоумышлеников, невпопад подумал Кручек. Находиться в присутствии двух людей, охранявших его величество от покушений всех видов – магических и телесных – было невыносимо трудно. Доцент чувствовал себя заговорщиком, посягателем на королей. Каждый ответ вызывал дрожь: а вдруг я проговорился? брякнул лишнее?
Один лейб-малефактор Нексус так на него не действовал.
– Я бы хотел, сударь Кручек, услышать ваши соображения. Не стесняйтесь. Говорите все, что сочтете нужным. Итак, паразит уничтожен? Якорь чист? Что это значит?
– Якорем гарпии называют яркое, отягощенное чувствами воспоминание. Или надежду на некое событие в будущем. Сами они лишены таких якорей. Появление на якоре мощного паразита мало-помалу приковывает к нему все внимание человека. Все силы души направлены в единственную точку. Это способно ослабить, свести с ума, а со временем и убить…
Рассказывая, Кручек увлекся. Сведения, какие он собрал в последнее время, результаты бесед с гарпией, дневники Джошуа Горгауза – камень за камнем ложился в фундамент здания. Доцент впервые излагал накопленное в виде теории. Кое-где зияли лакуны, но уже просматривался каркас.
Андреа Мускулюс иногда вставлял то или иное соображение. Делалось ясно, что и малефик не зря провел эти дни. Какими путями Мускулюс шел, осталось загадкой, но его комментарии говорили Кручеку: коллега преуспел в исследовании гарпий. Наверное, и с Келеной разговаривал… приглашал в «Гранит наук», заказывал рубленое мясо…
«Ревность?» – изумился Кручек.
И замолчал.
– Значит, паразит, – странным образом подвел итог Антонин, ножичком двигая изюминки. Так гадалки раскладывают пасьянс, играя с судьбой в дурня-подкидыша. – Кого гарпия называет паразитом?
– Некую сущность, захватывающую якорь. Она поглощает «сок души» в неестественных количествах.
– Сущность? Зверь? Разумный обитатель эмпиреев?
– Не знаю, – хором ответили малефик и доцент.
– Как она захватывает якорь?
– Не знаем.
– Как выглядит?
– Не знаем.
– Откуда берется? Это порождение души – или пришелец извне?
Обмен вопросами и ответами походил на дамскую игру, когда в воздухе летают кольца, а ты ловишь их на острие деревянной шпаги. Кольца разные, а шпага одна. И толку от нее, деревянной, ежели приспичит в бой идти…
– Не знаю, – сказал доцент.
– Извне, – сказал малефик.
– Откуда вам это известно, сударь Мускулюс?
– Со слов гарпии. В частной беседе со мной она так объяснила природу паразита.
– Что значит – «извне»?
– Не знаю.
– Интересное дело, – резким движением друнгарий смешал изюм в кучу. Пасьянс, судя по его лицу, не удался. – Лекарство может стать ядом. Яд – лекарством. И в обоих случаях мы ничего, ровным счетом ничего не способны заметить. А значит, и предвосхитить. Выходит, их теперь двое?
Сон как ветром сдуло. Кушетка сделалась твердой. Местами выпятились неприятные бугры. От них заболело сперва седалище, а там и спина. Не стесняясь, Кручек плеснул в лицо из кубка. Ерунда, одежда высохнет. От воды пятен не остается.
«А от слов коронного друнгария?» – спросил кто-то, похожий на совесть.
– Двое? – задал вопрос доцент. – Кого вы имеете в виду?
– Гарпий, сударь. Гарпий и паразитов. В обоих случаях мы имеем дело с кем-то, способным загнать человека в гроб. Загадочным способом. Любого человека. Солдата, поэта. Вплоть до…
Он ткнул ножом в потолок. Затем растопырил пальцы свободной руки и приложил ладонь к затылку, убивая даже намек на двусмысленность.
– И никто, даже я и Серафим, не в силах предотвратить возможное покушение. Это противоестественно. Это опасно. Это наводит на размышления.
Антонин вновь принялся играть с изюмом. Руки его двигались неспешно, в движениях сквозила лень. Но изюминки, словно обретя душу, а вместе с ней – и страх, второпях строились по ранжиру.
– Допустим, гарпии для проникновения в запретную зону – лечит она или калечит – нужно произвести захват. Иллюзия атаки, пике, когти. В последний миг сворачиваем, то да се… Реальный фактор. Тут есть шанс обойтись опытными лучниками. Остановить на подлёте. Хотя мне кажется, что история с захватом – отвлекающий маневр. Что, если гарпии способны обойтись и без него? Паразиты ведь обходятся? – и вполне успешно. Вечный Странник! Необходимы факты, уйма фактов…
Солнце раздвинуло шторы, заглянув в кабинет. На полках брызнули искрами амулеты. Цепи, украшавшие стену, откликнулись золотыми сполохами. Хризантема из нефрита, подарок ла-лангского заклинателя, чем-то обязанного старцу, тихонько завела песню о добронравии.
– А фактов у нас с гулькин нос. Разумеется, его величество сдержит свои обещания. Если любимец короля выздоровеет, гарпия получит все, что запросила. Вплоть до магистерского диссертата. Сударь Кручек, не надо морщиться. Вырази гарпия желание продолжить обучение…
За все время друнгарий ни разу не назвал Келену по имени. Хотя, вне сомнений, прекрасно знал, как зовут обитательницу Строфадской резервации.
– …вы же и подпишете ей защитный лист, как председатель комиссии. Успеваемость не играет роли, когда речь идет о высочайшей милости.
– А профессор Горгауз? – спросил Кручек.
– Профессор Горгауз вряд ли продолжит работу с этим курсом. Возможно, профессор Горгауз оставит университет, занявшись частным преподаванием. Многие не осуждают ее. Кое-кто даже одобряет, втайне или явно. Но это ничего не меняет.
Хризантема сбилась на трудном пассаже и со стыдом умолкла.
– Я рад такой замене. Вы, безусловно, человек, заслуживающий доверия. И как куратор, и как гражданин. Не разочаровывайте меня. Сударь Мускулюс, теперь вы. Я поручаю вам наблюдать за гарпией в период ее обучения. Берите на заметку все. Слышите? – все. Неизвестно, какой пустяк даст нам шанс раскрыть тайну феномена ее племени. Ваши ежемесячные рапорты мне передаст секретарь. Адрес канцелярии, а также иные, полезные для вас сведенья находятся здесь…
На столик, рядом с блюдом, легла книжица в переплете из тончайшей кожи. Антонин не спрашивал. И не приказывал. Он уведомлял. Так управляются с изюминками, по воле случая принявшими облик людей.
– Далее…
Он оборвал монолог, с интересом разглядывая малефика. Тератолог был похож на дирижера, который обнаружил, что скрипач-солист вместо закономерной, отмеченной в нотах кантилены вдруг решил пройтись по сцене колесом.
– В доносители меня решили зачислить? – малефик встал. Мощный, кряжистый, Андреа держался за спинку стула, словно атлет, у которого отказали ноги. Лицо его налилось кровью. Казалось, он сейчас огреет стулом коронного друнгария, зная о последствиях и принимая на себя все будущие убытки. – В соглядатаи? Нет, сударь, моих рапортов вы не дождетесь. Уж извините за прямолинейность…
– Не извиню, – уведомил бунтаря Антонин. – Считайте, вы не говорили, я не слышал. Я полагал, сударь Мускулюс, что вы умнее, чем выглядите. Жаль, ошибся. Вы что, свихнулись? Не понимаете, что в случае отказа ваша жизнь может быть отягощена многими заботами? Думаете, если вы – ученик Просперо Кольрауна, так уже и сват императору? Я напомню, кто вы есть…
Он говорил, не повышая голоса. Не жестикулируя. Не трудясь снабдить речь интонациями, приличествующими моменту. Но солнце спряталось за шторы, и кабинет помрачнел.
– Антошенька, – вмешался лейб-малефактор. – Ты уж прости старика за прямоту, а? Отрока, я слышал, ты не извиняешь. Это правильно, молодой он. Горячий. А меня, убогого, прости, не побрезгуй. Вот как на духу… Не надо угрожать действительному члену лейб-малефициума в моем присутствии. Хорошо? Смотри, ты мне Царька перепугал. Цыпа-цыпа…
До сих пор старец молчал, не вмешиваясь. А когда заговорил, то стал удивительно похож на Мускулюса. Хотя, учитывая возраст, следовало сказать: Мускулюс стал похож на Нексуса. Плечистый богатырь и чахлый доходяга, простак и хитрец, мужчина в расцвете сил и дряхлый вредитель на пороге смерти – казалось бы, ничего общего.
А у Матиаса Кручека аж сердце дало сбой. Внезапное сходство этих двоих поразило доцента быстрей ножа в темной подворотне. Мелькнуло, сверкнув молнией, ударило под дых – и сгинуло.
Как не бывало.
– Твое дело, Серафим, – с равнодушием механизма кивнул друнгарий, опять принимаясь ворошить изюм. – Раньше ты был прагматичнее. И впрямь стареешь. Думается мне, что и от сударя Кручека я сочувствия не дождусь. Вон, какое пламя в очах… Чистенькие, благородненькие маги. На каждом грехов, что блох на собаке, а туда же! Нравственный императив с крылышками. Мораль на тонких ножках. А как дерьмо разгребать, так без нас, грязненьких, не гребется. Ладно, мэтры, за рапортами дело не станет. Желающие сыщутся. В очередь встанут! Вы же изучайте. Исследуйте. Оптом и в розницу, до чего дотянетесь! Помяните мое слово, пригодится. Когда от костра выходишь в кромешную ночь, все годится – палка, камень, мудрость, глупость…
По дороге домой Кручек много думал над словами друнгария. И ничего толком не надумал. Дома он заснул и видел костер, тьму вокруг, и крылатые силуэты во мраке, над головой.
Наверное, гарпии.
«Если псоглавец три ночи подряд воет на кладбище, глядя на ущербную луну, – услышал он голос тетушки Руфи, цитирующей записки Балтазара Кремня, – на этом погосте больше никогда не встают покойники.»
Во тьме завыли.
И до вечера он спал мирным сном, как младенец. А вечером встал, поужинал яичницей с томатами и сыром, после чего опять лег, с огромным, знаете ли, удовольствием.
Caput XVIII
Вал листвы несется вдоль аллеи,
Пахнет небом, холодом и тленьем –
Осень. Встать с молитвой на колени,
И просить не счастья, а продленья…
Томас БиннориКриса-Непоседу разбудил гвалт на улице.
Парень заворочался, всеми коготками сонного рассудка цепляясь за мир грез. Он надеялся, что шум быстро утихнет, и удастся вздремнуть до обеда. В лавку к Диделю идти не надо, спи, дружок, сколько влезет…
Его уже будили – затемно, перед рассветом, псоглавец привез гарпию. И помог ей подняться по лестнице – с их разницей в росте, да еще впотьмах, это оказалось подвигом. А от подвигов грохоту – хоть уши затыкай. Нести себя гарпия не позволила, зато сама несла какую-то чушь. Ей, значит, надо в Универмаг. У нее, значит, лекции.
Рыночный дурачок, и тот знает: в выходные университет закрыт!
Келена это тоже знала, но забыла, какой сегодня день. В итоге псоглавец, пока спорил с гарпией, рвавшейся на лекции, рыком и лаем перебудил целый квартал.
«Напились они, что ли? – думал Крис. – После бурной ночи ничего не соображают? Ладно, их дело. Взрослые уже… существа.» Когда гвалт стих, он снова заснул, твердо вознамерившись продрыхнуть до полудня.
И нате вам с добрым утром!
– Марго, карга трухлявая!
– Выходи!
– Хватит бока пролеживать! Костлявую проспишь!
– Оглохла?! Разговор есть!
Бабушки дома не было. Вчера вечером она отправилась навестить двоюродную сестру, тетку Летицию, которая жила на другом конце города – и осталась у нее ночевать. Горластые визитеры этого, разумеется, не знали – и вопили под окнами, словно ослы с чертополохом не во рту, а в заднице.
«Не угомонятся», – осознал парень.
Со скорбным вздохом он выбрался из-под одеяла, натянул штаны и босиком зашлепал в бабушкину комнату. Здесь старушка ночевала вместе с Гердой. А главное, тут имелся миниатюрный балкончик, сплошь заставленный вазонами и горшками с цветами.
«Надо сказать, что бабушки нет. Или послать к Нижней Маме. Пусть чешут пятки…»
Его опередили. Сунувшись в коридор, парень заметил Герду – сводная сестра бурей влетела в каморку Келены. Непоседу всегда поражала бесцеремонность девчонки. Когда Герда хотела что-либо сделать – обычно какую-нибудь пакость – она избирала кратчайший путь и двигалась по нему с целеустремленностью стрелы, пущенной в мишень. Вот и теперь: душа Герды желала простора, тесный бабушкин балкончик ее не устраивал – и нахалка без малейшего стеснения вломилась к гарпии.
Кристиан представил себя на месте сестры. Вот он вламывается к Келене, застает ее в постели… Уши его задымились, и он поспешил нырнуть в комнату бабушки.
Герду он услышал раньше, чем выглянул на улицу.
– Чего разорались?! Петух отпущения в темечко клюнул?
В звонком голосе девчонки улавливались знакомые интонации. Небось, Марго до седых волос отшивала назойливых ухажеров, горланивших серенады под ее окнами. Если верить кумушкам, у бабулечки-красотулечки от кавалеров отбою не было… Встав у перил, между резедой и бальзамином, Кристиан протер глаза, засмеялся, решив, что похож на сову, разбуженную среди бела дня, и глянул вниз.
Под балконом, кипя от раздражения, топтался конопатый толстяк. По случаю выходного он принарядился – красная роба навыпуск и жилет из свиной кожи. Шаровары цвета свежего навоза были заправлены в низкие сапоги. Из закатанных рукавов торчали ручищи-окорока – тоже веснушчатые, поросшие жестким рыжим волосом.
Толстяк сопел и сплетал корявые пальцы, хрустя суставами.
Рядом переминались с ноги на ногу два мордоворота. В сравнении с ними толстяк выглядел карликом. Отвечать девчонке никто не спешил, что Крису сразу не понравилось. Конопатого он знал хорошо. Иржи Хамусек по прозвищу Хомяк, домовладелец. Мордовороты – сыновья. Вокруг семейной троицы кучковались зеваки. Из окон выглядывали недовольные соседи. Окажись внизу кто другой – помоями бы облили.
Однако при виде Хомяка праведный гнев скисал молоком на жаре.
– …повылазило! Нету бабушки, ясно вам? Нету!
– Дура мелкая, – угрюмо констатировал Хомяк. – Мясо с языком. Нет бабки, зови квартирантку вашу. Бабу летучую.
– Спит она.
– Буди!
– Это еще зачем?
– Пусть барахло собирает и мотает отсель! Поняла?
– Сам мотай! Мотыля не потеряй! – не задумываясь о последствиях, отбрила девчонка. – Бабушка тебе за жилье платит? Нет, ты скажи – платит?!
– Ну, платит, – признал честный Хомяк.
– Вот и катись! Кого хотим, того и подселяем!
– Поговори мне, шмакодявка! Бабы летучей чтоб к вечеру не было!
У Кристиана сжались кулаки. Он молчал, не спеша вступать в перепалку. Герда пока и сама справлялась.
– Ой-ёй-ёй, напугал! – девчонка состроила презрительную гримаску. – А то что будет?
– Кукиш будет!
– С маком! – хором поддержали сыновья.
– Дом мой! Выкину ваше кубло на улицу, и вся недолга! Чтоб добрым людям жить не мешали!
Пререкаться с двенадцатилетней соплячкой для Хамусека, человека солидного и зажиточного, было унизительно. Но вокруг собралась толпа, и Хомяк решил дать пояснения. Не для вертихвостки – для людей. Он ведь не с бухты-барахты явился. Есть причина. Серьезная причина. Пусть проникнутся и осознают.
Глядишь, и до шмакодявки дойдет.
– Это кто мешает? Это мы мешаем?! – задохнулась от возмущения Герда.
Она набрала в грудь побольше воздуха, чтобы высказаться – от души, от сердца, в Вечного Странника, в Нижнюю Маму. Но домовладелец опередил ее.
– Жалуются люди, – заявил он. – На летучую вашу. Дитёв она пугает. Шум от нее, беспокойство. Блохи, опять же…
– И курятником воняет! – поддакнул кто-то.
– Раз народ жалуется, я меры принять обязан. Вот и принимаю. Передай квартирантке: кыш! До вечера срок даю.
– Врешь! – на Герду речь толстяка впечатления не произвела. – Кому она мешает – пусть скажет! Выйдет и скажет. А брехни я тебе сама с три короба намолочу! Хочешь? Начну с твоей гулящей супружницы…
– Придержи язычок, дура! – принял сторону Хомяка бородач в форме городской стражи. На его плаще были вышиты золоченые ворота – место, предназначенное к охране. – Хозяин в своем праве. Раз тварь мешает, должна съехать. И конец разговору.
Стражников в толпу затесалось трое, и все знакомые: бородач-старшой, Тибор Дуда с верной глефой – и вислоусый Густав с арбалетом на плече. По уставу воротники-караульщики обязаны хранить арбалеты в башенных арсеналах, а не таскаться с ними по улицам. Но сейчас Густав нес оружие из починки.
Оружейник заверил, что спусковой механизм – как новенький.
– Слыхала?! – воспрял Хомяк. – Власти, они дело говорят! Пусть выметается! На закате за шкирку выселю!
– Эй, Непоседа! Чего молчишь? Ляпцун проглотил?
Среди зевак обнаружился Прохиндей Мориц с парой дружков. Мимо шел, заглянул на огонек. Покуражиться над недавним кузарьком, соскочившим в завязь – святое дело. Пусть шпуцер не хрямзит, что от Морица легко кокс отсестрячить!
– За него шмындра фрустрит!
– Он теперь при шмындре и залёточке!
– За юбки держится, лаферок!
Пальцы Кристиана закостенели на перильцах. Губы сжались в тонкую, упрямую линию. На скулах заиграли желваки. Расплавленное молчание-золото жгло язык. Нет, его на гнилой фруц не купишь. Начни с этими гофренами лаяться – только хуже будет.
– Птичка-то прячется! Отсидеться решила, за девкиной спиной!
– Вы так думаете?
Рядом с Гердой объявилась Келена. Легко, словно ее и не били, гарпия вспрыгнула на перила балкона. И, не торопясь, выделяя каждого, обвела толпу взглядом. Оперение ее было снежно-белым.
А глаза – глянцево-черными, без белков.
* * *
"Гарпическая космогония проста и, как следствие, абсолютно недостоверна.
По идее, здание строится на фундаменте, данном нам в ощущениях. Миф имеет в своей основе сакрализованную реальность. Легенда привязана к времени и месту событий. Религия опирается на надежду и угрозу. Бытие осознается, как сплав опыта и допущений.
С гарпиями все иначе. Они не строят зданий и равнодушны к фундаментам. Их космогония стоит на трех китах, плавающих в океане неизвестности. Никому, кроме самих гарпий, недоступен даже кончик китового плавника. Итак, кит первый:
– Множественность миров.
Вселенная гарпий вынесена за скобки нашего с вами бытия. При том, что сами гарпии существуют здесь и сейчас, колоссальное мироздание, как плод их воображения, существует где-то и когда-то. Если ты не гарпия, у тебя нет шанса соприкоснуться с тысячами миров, населенных разнообразными существами, имеющих протяженность во времени и пространстве.
Это мириады локтей, которых нам не дано укусить.
Миры якобы вращаются вокруг звезд, являющихся сгустками огня. Смехотворное заявление! Даже невеждам известно, что звезды – лампады из белого серебра, прибитые к Овалу Небес хрустальными гвоздями с единственной целью: осветить путь Вечного Странника.
Повторюсь: вселенная гарпий вынесена за скобки нашего бытия. При этом она тесно связана с нашим бытием. Парадокс? Ничуть.
Просто бьет хвостом второй кит…"
Тетушка Руфь отложила в сторону «Турель мифов», раскрытую на комментариях профессора Цирака, и отхлебнула чая. Терпкий вкус вязал рот. Скрипторша достала из сумочки золотую фляжку и капнула в чашку кумского бальзама, сдабривая напиток.
Оригинальный рецепт: лавр, терн, мед, чуточку корицы.
В выходные дни она редко заходила в библиотеку. И сейчас не зашла бы, если бы не вспомнила про «Турель мифов». Дома у нее имелся личный экземпляр, но простой, не академический, без комментариев. Заложив рассуждения Цирака закладкой, тетушка Руфь подумала, что завтра укажет это место доценту Кручеку.
И настроение испортилось совсем.
В библиотеке, несмотря на выходной, ее ждали. Тихая, ласковая сударынька, похожая на дрессированную мышку, сидела у окна. Как сударыньку пустили в университет, осталось загадкой. Впрочем, едва мышка предъявила тавро Департамента Монаршей Безопасности, выжженное под ключицей, загадка разрешилась сама собой.
Каземат-сыскарь I ранга, к вашим услугам.
К счастью, у мышки не было претензий к тетушке Руфи. У мышки была просьба. Мелкая, легко выполнимая. Вы ведь не откажете составить списочек литературы, затребованной в последнее время неким Матиасом Кручеком? Пойдете навстречу? Нет, доцент – верноподанный, добропорядочный, и вообще честный человек. Ему ничего не грозит. Исключительно из благих намерений, для его же пользы.
Нет, сообщать Кручеку о моем визите не надо.
Получив желаемое, мышка просветлела. С вами приятно иметь дело, госпожа скрипторша. Мы это ценим, поверьте. Надеюсь, вы не откажете и дальше фиксировать заказы почтеннейшего доцента – и раз в месяц подавать списочек куда следует? Что? Куда следует?
Адресок я вам занесу на днях.
Уже в дверях мышка, стесняясь, попросила:
– Вы заодно еще за одним судариком приглядите, ладно? Андреа Мускулюс, кафедра практического сглаза. Да, член лейб-малефициума. Не волнуйтесь, все договорено на высшем уровне. Комар носу не подточит. Вы нам списочек, и спите спокойно. Ухожу, ухожу…
С этой минуты чай и начал горчить.
"…бьет хвостом второй кит:
– Множественность творцов.
С точки зрения гарпий, они сами – не творения, а странники. Не творцы, а гости. Не твердь, но ветер. Мы же с вами, любезный друг мой, изучающий мои скромные записки – творцы. День за днем, формируя чувственные привязанности, забрасывая якоря в глубины жизненного опыта, мы формируем грядущие миры.
После нашей телесной смерти им суждено затвердеть, обрести постоянство – и тысячелетиями вертеться вокруг сгустка огня, в компании себе подобных. Бабы исправно рожают младенчиков, количество миров растет, вселенная гарпий расширяется, и все довольны.
Какова перспектива, а? Вечность в виде волчка! Вечность на карусели! Кто же тогда, спрошу я вас, наслаждается в раю? Горит в аду? Воплощается в новые тела? Восстает из могилы, в конце-то концов? Гарпии не балуют нас разъяснениями. Их это, по правде говоря, не интересует.
Мы бы назвали псевдо-миры – душами.
Гарпии зовут их психономами.
Здесь же, на Квадрате Опоры под Овалом Небес, мы с гарпиями встретились случайно. Могли бы и не встретиться. Разминуться, как фрегаты в океане. Настоящее знакомство начнется потом – когда и мы, и они закончим свой здешний путь.
Эй, третий кит! Где ты?.."
Встав, тетушка Руфь подошла к окну и с силой толкнула створки. В библиотеку ворвался свежий ветер. Он приятно бодрил. От прически, которую скрипторша утром сооружала с тщанием, достойным лучшего применения, ничего не осталось. Зимний буран на голове.
Она не красила волос, пытаясь скрыть седину. И парика не носила. Зачем? Книгам все равно. А преподавателям и студентам куда милее бодрая старушка, чем молодящаяся карга. Не надо быть сивиллой, чтобы делать такие пророчества.
Сказать мастеру Матиасу о визите мышки?
Она боялась. Сказать – боялась, и не сказать – боялась. Пожаловаться ректору? Хайме пожмет плечами: все в рамках закона. Наверняка там – палец в потолок – договорились заранее. Список литературы? Тетушка, в штудиях моего друга Матиаса бес ногу сломит, не то что каземат-сыскари. Дайте им, что просили, и забудем об этом.
Да, ректор откликнется именно так.
Но осваивать на старости лет профессию доносчицы…
"– Условность здешнего бытия.
Отношение гарпий к собственной жизни повергает в ступор. Прелюдия к длительному, увлекательному путешествию, не более. Если мы с вами трудимся, как проклятые, обеспечивая их вселенную новыми мирами, то гарпии – большей частью ждут.
Поверьте им, и земля под ногами обратится в дым. А человечество – в лабораторию. Нет, в эфемерную пекарню, где выпекается одна булочка за другой, чтобы их съели другие.
Наши нынешние, как зовут гарпии себя-живых – куколка, кокон, из которого однажды выпорхнут наши прежние. И если нашим нынешним пути в психономы открыты лишь частично, на краткий срок, путем сложных действий (гарпии называют это «захватом»), то наши прежние свободны в полной мере.
Допустим. Но я задаюсь вопросом: почему гарпии продолжают жить здесь, бок о бок с нами? – воинственными, нетерпимыми, загнавшими их в резервацию… Почему не сложили крылья, не кинулись вниз головой с обрыва? – вперед, к свободе!
Что их держит?
Вот эта несообразность и не позволяет мне махнуть рукой на гарпическую космогонию, признав ее редкостным заблуждением. Стройная логика – удел простаков. Но если в системе имеются вопросы без ответов – о, значит, в раковине прячется жемчужина!
Годы, отданные Высокой Науке, казалось бы, должны были приучить меня к обратному. Вопрос-ответ, как в учебнике. Но я составил слишком много учебников, чтобы…"
Обедала тетушка Руфь в «Граните наук». Бульон с яйцом, курица в тесте, гренки с тертым сыром. Бокал ягодного морса. Завершив трапезу, она отправилась домой. «Сказать мастеру Матиасу? – мучилась Руфь. – Да? Нет?»
* * *
За время препирательств гарпия, как могла, привела себя в порядок. Еще не хватало показаться на людях со сна – полуодетой растрепой! Келена аккуратно уложила волосы, стянув их тонкой сеткой с жемчугом. Облачилась в карминовое платье; сдерживая стоны, управилась со шнуровкой. Завести руку за спину было пыткой. Белое оперение, служившее у нее показателем телесных страданий, чудесно подошло к цвету платья.
Гарпия подумала и решила оставить, как есть.
С лицом ничего поделать не удалось. Отек частично спал, но был хорошо заметен. Кровоподтек, нагло воцарившийся на щеке и скуле, к утру местами пожелтел. Теперь Келена напоминала больную желтухой-малабрийкой. Или дрейгурицу-летягу, поднятую из могилы некротами Чуриха.
– Отсиживаться? Сударь, вы меня оскорбляете! – под взглядом гарпии Хомяк съежился и отступил за спины сыновей. – Если я мешаю вам или вашим жильцам, я съеду. До вечера. Я не желаю доставлять неудобства. Вы удовлетворены?
Ответить толстяк не успел.
– Это она! Она! Бесовка крылатая!
Орала пышная молочница. Обильные кудряшки делали ее похожей на овечку, которую шутник-пастушок нарядил в ситцевое платье, чепец и белый передник. От миловидной дамочки никто не ждал подобных воплей. Но внешность, как известно, обманчива.
– Сыночка моего! Витасика!..
– Украла?!
– Съела?!!
– Напугала! До смерти напугала, мерзавка!
– Тьфу, дура-баба!
Рядом с молочницей топтался щекастый карапуз лет четырех – надо полагать, до смерти испуганный Витасик. Мать крепко держала сына за руку, чтоб не потерялся. Указательный палец свободной руки малыш засунул в рот и таращился по сторонам круглыми глазенками. Ему было интересно: куча незнакомых людей, и все кричат! А вон еще тетя с крылышками на балконе…
– Слышали?!
– Ребенка украсть хотела!
– У-у, зенки бесстыжие!
– А на рынке давеча! Как налетит!
Толпа загудела растревоженным осиным гнездом. Витасик воззрился на багровую, исходящую криком мать – и заплакал.
– Глядите! Довела мальца!
– Управы на гадин не стало!
– Стража! Вяжите ее!
– Стража? А мы на что?!
– Верно!
– А ну, тихо! Р-р-разойдись!
– Ты людям рот не затыкай!
– Раскомандовался!
– Эй, курица! Тебе кто рожу-то расквасил?
– Щас добавим!
– Бей тварюку!
Прохиндей Мориц точно уловил момент, когда следовало подлить масла в огонь. Стой, брат Непоседа. Стой на балконе, сжимай кулаки, лафер. Все равно ни капли не выжмешь. Кузари фрустрили: втюрился ты в летучую шлёндру по самые фейцы. Вот и поглядим, что делать станешь, когда зазнобу твою ощипывать начнут. Сейчас мы ее приголубим…
Камень нашелся прямо под ногами. Хороший такой камень, увесистый. Мориц замахнулся, метя гарпии в лицо – и промазал. Булыжник угодил в голову стоявшей рядом Герды. Брызнула кровь. Девочка даже не вскрикнула – медленно, словно во сне, она повалилась на спину, в проем открытой двери.
Возле дома повисла потрясенная тишина. Мигом позже ее разорвал звериный рык. Сшибая горшки, вазоны и ящики с цветами, не помня себя, не задумываясь о последствиях, захлебываясь яростью, словно тонущий – морской водой, Кристиан перемахнул через перильца – и прыгнул на Морица.
С третьего, к счастью, не слишком высокого этажа.
Он снес Прохиндея с ног и упал сверху, неудачно подвернув руку. В запястье хрустнуло. Оглушенный Мориц слабо шевелился под парнем, навалившимся на него. Глаза вора закатились, в щелях меж веками ворочались мутные белки. Не чувствуя боли в сломанной руке, Кристиан остервенело замолотил кулаками, мигом разбив жертве в кровь губы и нос…
– Убива-а-ают!
– Караул!
Толпа забурлила, мешая стражникам пробиться к месту происшествия. Дружки Морица опомнились раньше других. Подскочили с двух сторон, сорвали Непоседу с поверженного главаря. Они еще не знали, что станут делать. Прирежут втихаря бывшего кузарька – ищи-свищи в толпе, чья работа! – или просто изобьют до полусмерти. Но тот, что пошустрее, уже тянул из-за пазухи нож, кривой и острый, как бритва.
Резанул не он, резануло его.
Клич – визг? глас? вопль из ада?! – упал с неба, лезвием вспарывая слух. Взмыв над улицей, гарпия кричала так, что людей швыряло наземь, вынуждая припасть к спасительной тверди, зажать уши руками, содрогаясь всем телом – не слышать, не слышать, умереть в тишине…
Впрочем, разметало не всех. Сапожник Драч, например, остался стоять. Он показал шиш непонятно кому и заковыристо выругался. А щекастый Витасик бросил реветь, засунул палец поглубже в рот и с восторгом уставился на гарпию. Мощными взмахами крыльев Келена удерживалась на одном месте, возле карниза крыши…
Идеальная мишень для арбалетчика.
К чести стражи, ни один не ударился в бега. Бородач скривился, будто у него разболелся зуб. Юный Дуда позеленел, как с тяжелейшего похмелья. А Густав принялся натягивать тетиву арбалета. Зачем он прихватил с собой дюжину болтов, каких в караулке навалом, стражник и сам не понимал.
Не иначе, чуял: пригодятся!
Тварь готовилась наброситься на людей. Когда Густав под стол пешком ходил, дедушка, помнится, рассказывал внуку об ухватках гарпий. Оглушают, значит, сеют панику, а едва побежишь – налетают и рвут в клочья. Без доспеха и шлема с бармицей – верная смерть. «Мама» крикнуть не успеешь! Деду арбалет не раз жизнь спасал. Потому и внука стрелять обучил.
Кольца-мгновения нанизывались на короткую стрелу времени. Скрипела тетива. Клепсидра роняла последние капли. Сейчас время выйдет, и ничто не спасет безоружных. Одна гарпия способна убить многих.
Густав знал, что не имеет права на промах.
От клича Келены что-то сместилось в его голове. Он вдруг оказался на войне, о которой лишь слышал из рассказов деда. От единственного выстрела зависели жизни соотечественников. Нет, старина Густав не подведет! Щелкнул «орех» спускового устройства, фиксируя тетиву. Стрела легла в желоб. Рядом поудобнее взялся за глефу Тибор Дуда. Молодец, парень! Храбрец! Готов прикрыть, дать время на перезарядку.
Спасибо, Тибор, спасибо, малыш…
На самом деле Тибор Дуда понятия не имел, что его записали в герои. Он просто растерялся. Голова раскалывалась, казалось, мозги вот-вот брызнут из ушей – и станет легче. Глефу он перехватил машинально – руки действовали вне зависимости от рассудка, плавящегося в черепной коробке. В последнее время он много упражнялся, радуя старшого. Вот и теперь, когда Густав вскинул арбалет, тело откликнулось само. Косой удар снизу вверх вышел у Тибора отлично. Хоть новичкам демонстрируй, в качестве наглядного пособия.
Как учили: «Всадника крюком за кошель – и на себя!»
Кошелькастого всадника поблизости не оказалось. Но он и не потребовался. Солнце полыхнуло на лезвии глефы, крюк зацепил арбалет – и Тибор рванул. Упали все: Густав, Дуда, арбалет и закогтившая его глефа. Болт с гудением ушел «в молоко», распугав на крышах всех голубей. К воплям гарпии птицы остались равнодушны, а стрела есть стрела.
– Ну, ты и да! – непонятно выразился Густав, моргая с огорчением.
Старшой уже собрался обложить идиотов-сослуживцев по матушке, да так и застыл с открытым ртом. Словно подражая стреле, над улицей летел пузатый кувшин с засмоленной крышкой. Смола в полете коробилась, местами отпадала, и из дырочек валил сизый, неприятного вида дым. Вне сомнений, кувшин запустили из катапульты. Руками такой пузан дальше, чем на пять шагов, не зашвырнешь.
«Ядро» грохнулось на мостовую, разлетевшись вдребезги. До толпы кувшин не дотянул каких-нибудь десяти шагов. Дым повалил гуще, скрыв половину улицы. Запахло паленой шерстью, сандалом и уксусом. В клубах мелькнул край халата, чалма, носище, похожий на баклажан, глаз размером с чайное блюдце…
– Хо-хо! – басом сказал дым.
И добавил с подозрительным удовольствием:
– Хе-хе!
Во всем квартале задребезжали стекла. Взвыли коты на трубах. Загалдели, улетая прочь, голуби. С деревьев посыпались листья.
– Жинд, – сказал Витасик, дергая мать за руку. – Мама, жинд!
– Джинн! – откликнулся дружный хор. – Бежим!
– Вечный Странник! Спаси и помилуй!
– Это не он, дурила!
– Джинн!
– Спасайся, кто может!
О гарпии забыли. Что может натворить джинн, пребывающий не в духе, догадывались многие. Хорошо, если дворец построит. А если город разрушит? Или, того хуже…
Кое-кто помнил, как в порту вскрыли амфору с затонувшей шхуны, надеясь на старое вино, а вовсе не на Усаму бен-Кокнара, ринувшегося без промедления исполнять тайные желания спасителей. Позже, конечно, порт отстроили. Капитанам сгоревших кораблей выплатили компенсацию. Погибших зарыли на казенный кошт, с почестями. Всем дамам, многажды потерявшим честь, магистрат назначил денежное пособие на младенцев – как один, пухленьких здоровячков, детей несчастного случая.
Джинна же усовестили, сослав в пустыню Кара-Кумыз: рыть каналы.
Вспомнив этот счастливый финал, толпа рассосалась с поразительной скоростью. Вот только что стояли, орали, подбадривая друг друга, готовые рвать и метать, а вот уже глядь – куда и делись-то? Исчезли, как по мановению – и без всякой магии, заметьте!
Впрочем, кое-кто остался.
Баюкая пострадавшую руку, поднялся с земли Кристиан. Дружки Морица справедливо решили, что своя шкура дороже, и счесали пятки. Прохиндея верные кузарьки бросили на произвол судьбы – вон, валяется на мостовой без памяти. Тибор Дуда с перепугу проявил чудеса героизма, замахнувшись на джинна глефой. Стражники, в отличие от шпаны, своего бросать не стали. Честь мундира, знаете ли! Вцепились, костеря на чем свет стоит, поволокли, но Дуда уперся, собираясь воевать.
В итоге задержалась вся троица.
Иржи Хамусек сидел у парадного, рыдая. В давке Хомяк подвернул лодыжку. А сыновья-мордовороты удрали. То, что ненаглядные чада в безопасности, мало утешало домовладельца. Это ж джинн! Ему ж дом – что вам семечки! Собственная гибель не так печалила Хомяка, как призрак скорого разорения.
Гарпия вернулась на перила балкона. Рассчитывала, что успеет улететь? Знала, что у ее племени с джиннами особые отношения?
Выяснить правду не удалось. Едва оформившись, джинн заколебался. Чалма стекла на мостовую струей оливкового масла. Расточился, развеялся по ветру халат. Хмыкнув, сгинул нос-баклажан. Грозный гигант – зыбкий образ – дымная кисея – редеющий туман…
Ничего.
Даже черепков от разбитого кувшина не осталось.
– Доброе утро, – с мрачной иронией сказала Исидора Горгауз, кутаясь в мантилью. – Вижу, вы тут славно повеселились.
* * *
– Джинн? – икнул Тибор Дуда.
– Иллюзия. Морок, – Исидора мазнула взглядом по стражникам и потеряла к ним всякий интерес. Теперь она смотрела только на сидящую на балконе гарпию. – Мне нужно с вами поговорить.
Пожав плечами, Келена едва заметно скривилась: недавние побои давали себя знать.
– Я не против. Но позже. Сначала надо посмотреть, что с девочкой.
– А что с девочкой?
– Она без сознания. А я не лекарь…
– Я тоже не маг-медикус. Я – бранный маг. Мне читали краткий курс первой помощи.
– Вовремя пришли, сударыня! – Иржи Хамусек утер слезы кулачищем. – Завтра бы вы эту пташку уже не застали…
Едва домовладелец уразумел, что разрушение частной собственности отменяется, к нему вернулась привычная хамоватость.
– Она останется жить у нас, – Кристиан уставился на Хомяка, как на заклятого врага. – Иначе…
– Иначе что?
– Иначе скажу, что это ты в Герду камень кинул. И донос напишу. Лично…
Он сосредоточился, вспоминая.
– Самому обер-квизитору фон Шмуцику. Мало не покажется!
– Да ты!.. да я!.. Щенок! – задохнулся от негодования Хомяк. – Всю вашу семейку!.. к ногтю!..
– Помолчите, милейший, – холодно бросила Исидора. – У меня от вас голова болит.
Толстяк прикусил язык. Горгулья свечой взмыла вверх – плеснули, грозя пожаром, крылья багряной мантильи – и опустилась на балкон рядом с гарпией. В следующую секунду она уже водила ладонью у лица бесчувственной Герды.
– Жива. Кажется, сотрясение. Средней степени, по шкале Скультетуса. Ее надо перенести на кровать.
Отчего профессор во второй раз не воспользовалась левитирующим заклятием, никто не знал. «Возможно, – предположила гарпия, – при сотрясении левитация противопоказана?» К счастью, маленькая цветочница оказалась легче перышка. Или это Исидора была сильнее, чем сулила ее внешность? Взяв раненую на руки – из Кристиана сейчас вышел бы аховый помощник, да и гарпия находилась не в лучшей форме – профессор без труда уложила ее на кровать.
Убедившись, что дыхание не вызывает опасений, а кровь остановилась, Горгулья вернулась на балкон.
– Молодой человек! Да-да, вы, с глефой. Будьте так любезны, сходите за лекарем.
Кто бы усомнился, что Тибор Дуда бегом отправится выполнять просьбу? И магия была тут ни при чем – личное обаяние, и только.
– Нужна вода – промыть рану. Остальное – дело лекаря.
Когда гарпия несла из кухни воду в ковшике, в коридоре объявился Кристиан. Давай, мол, пособлю. Келена шикнула на дурака: тебе самому лекарь нужен! Сиди у окна, карауль. Как придет, да с Гердой закончит – покажешь руку.
Падение добавило Непоседе ума. Перечить он не стал.
– …Все. Пусть спит. Теперь мы можем поговорить?
– Если не возражаете, профессор, то на кухне.
Исидора сдерживала шаг, следуя за ковыляющей гарпией. Войдя, она плотно притворила за собой дверь. Остывшая печь, стол с кастрюлями, два табурета… Идеальное место для беседы между студенткой и профессором. Вздохнув, Горгулья остановилась у окна, смотря на улицу, где еще недавно бесновалась толпа.
Гарпия ждала у стенного шкафчика.
Обе женщины чувствовали себя неуютно. Слишком близко. Как в бою. Окажись между ними хоть полдюжины шагов, было бы легче. Но выбирать не приходилось.
– Я пыталась вас убить. Я виновата.
Голос Исидоры, обычно громкий и внятный, звучал шелестом травы. Горгулья не умела извиняться. Она просто констатировала факт. Без прелюдий, без долгих объяснений. Причины, мотивы – ничто не играло роли. Я пыталась вас убить.
Я – виновата.
– Знаю. И не держу на вас зла.
– Вы не умеете держать зла. Я в курсе.
– Не умею. У каждой из нас свои особенности. Это плохо?
– Не мне судить. Вы не отказываетесь от своего предложения?
– Какого?
Гарпия прекрасно знала – какого. Но профессор должна была сказать это слово сама. Разговор складывался сухой, почти враждебный. Горгулья по-прежнему стояла к гарпии спиной. Келена тоже уставилась на печь, будто следила за молоком, грозящим убежать.
Хорошо, что не было свидетелей. Свидетели вечно ошибаются.
– Вы обещали помочь мне. Один раз я утратила контроль над собой. Я не хочу, чтобы это повторилось. Не знаю, поймете ли вы… Мне показалось, что я на войне. Что мой дед – рядом. Что время ничего не значит. Сегодня я видела толпу под вашими окнами. И мне опять показалось, что я – на войне. Что мы обе – на войне. Помогите мне.
Исидора собралась с духом.
– Я прошу вас.
У нее больше нет паразита на якоре, поняла Келена. Якорь остался, а паразита нет. Она убила его. Джош Кровопийца умер бы, а не обратился за помощью к ненавистным гарпиям. Собственно, он и умер. Наверное, дед проклял бы внучку, узнай он, что та оказалась сильнее.
– Давайте чаю заварим? – предложила гарпия.
Caput XIX
Но что есть запрет, и что есть судьба,
и что есть от рая ключи,
Коль выпал час плясать на гробах
и рыжих собак мочить,
И туже затягивать ремешок,
и петь, как поет листва –
Давай, дружище, на посошок,
нам завтра рано вставать!
Томас Биннори– Это за вами, – сказал Мартин Гоффер, вернувшись.
– Кто? – спросил капитан.
Штернблад сидел в саду, под яблоней. Ждал, что яблоко отломится от черенка, упадет с ветки, стукнет по темечку – и ему наконец откроется способ победить давнего неуязвимого противника – казначея Пумперникеля. Кто это придумал, что лейб-стражник должен обзаводиться конем, сбруей и амуницией за свой счет? Какой скупердяй отказывается выделить средства для содержания слуг королевских телохранителей? И ведь известно, кто придумал, а хоть меч ему на голове точи…
– Ассистент Кристобальда Скуны. С каретой. Говорит, прислан отвезти вас в гости к мастеру. Я вчера передал вам приглашение. Помните?
Мартин тихонько вздохнул. У кумира был один-единственный, малюсенький изъян. О вещах, не слишком важных с его точки зрения, Штернблад забывал намертво. Раздавая направо и налево обещания приехать в гости или явиться на новоселье, он позже удивлялся – или делал вид, что удивляется – если его корили за обман. Частенько Мартин решал самостоятельно: что важно для кумира, а что – нет.
И напоминал по сто раз.
– Ну да, конечно! Скажи, пусть обождет полчасика.
Полчаса на сборы – для молниеносного капитана это было слишком. Но Мартин удержался от комментариев. Вытирая лоб платком, он боролся с головокружением. Выйдя на улицу, где ждала карета, Гоффер почувствовал себя очень скверно. Заныли рубцы, оставшиеся после боя с гарпием. Ударили молоточки в висках. Во время разговора с посланцем хотелось вертеть головой – шея затекала. Особенно раздражал тот факт, что ассистент вызывал в памяти какой-то знакомый облик, но какой именно, вспомнить не удавалось.
Так бывает при встречах с гипнотами – особенно с молодежью, не научившейся в полной мере сдерживать опасный дар.
Крикнув из окна ассистенту, чтобы ждал, Мартин втайне обрадовался медлительности капитана. За полчаса он пришел в себя, вернув былую бодрость. А Штернблад и вовсе преобразился. В последний раз капитан одевался с таким щегольством, отправляясь в салон маркизы Тюрдели. Шляпа с перьями, висячие рукава камзола, куцый плащ; башмаки на высоких красных каблуках, с розетками…
Косички он расплел, и рыжая грива свободно падала на плечи.
– Парнишка, – предупредил честный Мартин. – Ассистент. От него болит голова. Имейте в виду…
– Что? – рассеянно переспросил капитан. – А-а… Хорошо, учту.
Когда он вышел из ворот на улицу, ассистент стоял не у кареты, а очень близко к забору. Капитан налетел бы на него, столкнувшись лицом к лицу, если бы в последний момент не споткнулся о порожек.
– Тысяча демонов! – выругался Штернблад, потирая колено.
– Доброе утро, сударь. Я послан за вами…
– Знаю-знаю. Дивный камень, не правда ли?
Ассистент смотрел на капитана. Капитан любовался перстнем на своей руке. Достав батистовый платочек, он подышал на крупный рубин, протер камень и снова загляделся на игру света.
– Превосходный рубин. «Голубиная кровь», редкий сорт. Меня уверяли, тут минимум «шелковых нитей». Вы разбираетесь в драгоценностях, юноша?
– Нет. Прошу прощения, мастер Скуна ждет.
– Да, конечно.
Капитан поднял голову. Ассистент не двинулся с места. Но солнце, отразившись в рубиновом омуте, швырнуло горсть колючих бликов в лицо гипноту. Тот заморгал, отворачиваясь.
– Возьмите платок. Вытрите слезы, и поедем.
– Спасибо.
Вытирая глаза, ассистент прошел к карете. Он открыл дверцу, приглашая капитана сесть. Забираясь внутрь, капитан сгорбился – высокая тулья шляпы, да еще и перья, мешали ему с удобством протиснуться в низенький проем. Ассистент был вынужден любоваться тощей спиной Штернблада. Судя по спине, Шестирукому Кри давно следовало озаботиться покупкой другого, более просторного экипажа.
Усевшись, капитан откинулся на спинку. Шляпу он сдвинул на лицо, намереваясь дремать всю дорогу.
– Вы составите мне компанию? – спросил он.
– Нет. Извините, я должен править лошадьми.
– Ох, простите! Бессонница замучала, плохо соображаю. Правьте, юноша…
Оставшись один, капитан достал из-за обшлага письмо сына. И начал перечитывать его в десятый раз, ухмыляясь не пойми чему.
Он даже расхохотался, когда подъезжали к отелю.
* * *
Кристобальд Скуна остановился в «Приюте героев». Эту гостиницу ему рекомендовал старый друг, граф ле Бреттэн, в прошлом – один из добровольцев, согласившихся на опасные эксперименты Скуны. По словам графа, он жил здесь, и сохранил самые приятные воспоминания.
В целом, Шестирукий Кри остался доволен отелем. Номера уютны, кухня разнообразна. Хозяин услужлив и расторопен, хотя болтлив не в меру. Декор оригинален, наводит на размышления. Отель, судя по многим приметам, имел бурное прошлое. Но древний гипнот втайне радовался, когда за тихим двориком или картиной на стене вставали истории, скрежеща цепями и звеня сталью.
Он ждал капитана, откупорив бутыль «Простака».
– Ты уже решился переспать со мной? – спросил Шестирукий, едва ассистент ввел гостя в номер. – По-моему, я дал тебе достаточно времени для раздумий.
Давняя шутка сделалась чем-то вроде пароля. На всякий пароль есть отзыв; был он и здесь. «Никогда!» – обычно вскрикивал Штернблад, и заламывал руки, словно в отчаянии. Только на этот раз отзыв вышел другим, неожиданным.
– Я подумаю, – ответил капитан, садясь напротив. – Все однажды случается впервые, мастер Скуна. Ты это знаешь лучше меня.
Гипнот откинулся на спинку кресла, глядя на гостя. Изменив обычной хламиде, Скуна надел халат из красного шелка, расшитый символами праздности – кроткими девицами, зонтами и цаплями. По идее, щегольской наряд капитана тоже соответствовал моменту. Но лицо гипнота ясно говорило: Шестирукий Кри удивлен.
Его бешеные глаза сегодня напоминали шары из кровавика, черного гематита. Камень магов, кровавик защищал владельца от любых нападений, в первую очередь, из астрала. Его часто оправляли в серебро. Вот и сейчас – глаза Скуны затянула серебристая плесень, почти скрыв черноту. Взгляд гипнота не подавлял, а пугал. Так пугает уродство, если примеряешь его на себя.
«Возраст», – подумал капитан.
Он знал, что Шестирукий, оставшись в одиночестве, или наедине с теми, кому доверяет, дает глазам отдых. Иначе есть риск ослепнуть.
– Что-то произошло, Рудольф? – в разговорах со Штернбладом гипнот не позволял себе фамильярности, вроде привычного обращения: «мальчик». – Я думал, ты уже никогда не согласишься.
– Да. Произошло. Скоро ты узнаешь, что именно.
Гипнот нахмурился.
– Будь ты моим внуком, Рудольф, я бы взялся за ремень. Ты бываешь несносен. И поверь, несмотря на все твое искусство, ты бы не ушел от меня с целой спиной.
– Будь ты моим дедом, – подмигнул капитан, – я бы сбежал от тебя раньше, чем ты дотянулся до ремня. Уж поверь на слово. Но, к счастью, мы не родственники. Юноша, задержитесь!
Последняя реплика относилась к ассистенту, собравшемуся покинуть номер.
– Хотите глоточек? «Простак» обостряет чувство юмора…
– Спасибо, – ответил молодой человек, стоя в дверях. – Я не пью.
– Составьте нам компанию. Я очень, очень вас прошу. У меня есть вопросы, а два гипнота – лучше, чем один гипнот…
– Останься, Бертран, – велел Скуна, делая слабый жест рукой.
Шестирукий Кри не понимал, куда клонит гость. Вот уже много лет он уговаривал капитана согласиться на уни-сон. Зафиксировать боевые ухватки такого человека – это стало бы жемчужиной коллекции гипнота. И сильно подтолкнуло исследования совместимости «тела и духа», как называл Скуна процесс наложения инстант-образа.
До сих пор капитан отказывался. У меня нет особых ухваток, говорил он. Я делаю то же, что и другие. Я просто делаю это – иначе. Вопрос не в «что», а в «как». Мое «иначе» нельзя разобрать на волокна и спрясть заново, накинув на плечи чужому человеку. Пустая трата времени, мастер Скуна.
И вот…
– Допустим, я согласился, – капитан взял бутыль и наполнил две миниатюрные чарочки. В номере запахло мятой и полынью. – Мы оба заснули. Ты формируешь агрессивную ситуацию. Я дерусь, ты запоминаешь. И вдруг я получил рану. Что будет с моим телом в реальности?
– Ничего, – пожал плечами гипнот. – Я контролирую процесс.
– Допустим, ты ослабил контроль.
– Не допустим.
– Мастер Скуна, я рискую своей шкурой. И хочу знать, на что иду. Итак, ты ослабил контроль. Или тебе стало плохо, и контроль исчез вовсе. Как раз в это время в уни-сне меня полоснули ножом по запястью. Что произойдет со мной в реальности?
– Твое здоровье, Рудольф, – Шестирукий отхлебнул из чарочки и зажмурился от удовольствия. Из-под тонких, старческих век просвечивала чернота глаз и блеск серебряной плесени. – В реальности, если я сниму контроль, на твоем запястье может объявиться порез. Стигматический эффект чудесно описан Николя Сильвестри, моим коллегой. Порез будет неглубок. Он быстро заживет. Гораздо быстрее, чем настоящая рана. Процесс заживления пройдет без осложнений. Стигматы не гноятся, отлично рубцуются…
Капитан поднял свою чарку.
– Твое здоровье, мастер Скуна. Твое драгоценное. Итак, следующий вопрос… Порез на руке – ерунда. Пустяк, не заслуживающий упоминания. А если меня в уни-сне ткнули ножом в печень? Знаешь, встречаются очень длинные ножи… И очень деликатная печень. Куда ты в реальности денешь мой труп?
– Куда мы денем его труп, Бертран?
Ассистент, сидевший на стуле у двери, слабо улыбнулся. Юноше было неловко присутствовать при беседе таких известных людей. А принимать в ней участие граничило со святотатством.
– Когда вы проснетесь, сударь, мы накормим ваш труп вкусным обедом. Угостим вином. И проводим до кареты. Живехонького, с позволения сказать.
– Вот даже как?
– Именно так. При ослабленном контроле возможно появление стигматов, не опасных для жизни объекта. Порезы, ссадины, синяки. Все, что способно причинить значительный вред здоровью, отторгается и не фиксируется. Если вас интересует гипнот-убийца, способный внушить жертве, что ее сердце проткнули свиным шилом – бросьте эту затею, сударь. Жертва очнется, в худшем случае, с ужасными воспоминаниями. Не более того. Ссадины – да. Кровоподтеки – да. Смерть или членовредительство – нет.
Капитан отсалютовал ассистенту бутылью.
– Юноша, вы заслужили награду! Ах да, вы не пьёте… – он налил по второму разу себе и Скуне. – Честно говоря, вы меня успокоили. Я уже почти согласился. Но мы никуда не торопимся. Будет глупо не израсходовать все вопросы, скопившиеся у вашего покорного слуги. Представим, что я в уни-сне. В это время ко мне здесь, в реальности, подкрадывается доброжелатель и – ножичком в печень… Мастер Скуна, что произойдет?
– Что произойдет, Бертран? – эхом повторил древний гипнот.
Чувствовалось, что ему скучно отвечать на вопросы, достойные зачета на втором курсе Универмага. Запахнув халат, старец вдыхал аромат «Простака». И ждал, пока капитан угомонится. Так рыбак с терпением ждет, когда рыба возьмет наживку.
Шестирукий Кри был готов удовлетворить любопытство капитана в полном объеме – лишь бы тот дал согласие.
– Ничего хорошего, – вздохнул юный ассистент. – Пожалуй, вы умрете, сударь. Впрочем, мы гарантируем, что в период уни-сна рядом с вами не окажется ни единого доброжелателя. Тем паче, с ножом.
– Кошмар! – огорчился капитан, обеими руками вцепившись в свою роскошную гриву. – Ужас! Я умру! Во сне, даже не зная, что предательски убит…
– Ну почему же во сне? – утешил его юноша. – Вы сразу проснетесь. Если нанести человеку опасную, угрожающую жизни рану, он мгновенно выходит из транса. Это знает каждый гипнот. Короче, умрете вы наяву. Прекрасно сознавая, что происходит.
Надо было видеть радость капитана. Вскочив, он кинулся к ассистенту и от души обнял юношу. Аж позвонки хрустнули. Стеснителен от природы, ассистент предпринял попытку вывернуться, но опоздал – Штернблад уже отпустил его и теперь дергал за уши, словно милого щенка.
– Четвертый вопрос, мастер Скуна. Четвертый – и последний. Вам известно, чем отличаются перила, сломанные ударом ноги – и перила, сломанные телом падающего человека?
– Нет, – устало отозвался старец. – Неизвестно.
– Жаль. А вам, юноша?
– Можно и мне чарочку? – вместо ответа спросил ассистент.
– Не отказывайте, мастер! – капитан ринулся наливать. Бутыль птичкой летала над столом, не пролив ни капли мимо цели. Третья чарка отсутствовала, и Штернблад решил угостить юношу из собственной посуды. – Ах, какая жалость! Вопрос пропал впустую… Найдем ему достойную замену. Мастер Скуна, как зовут вашего чудесного ассистента?
Гипнот открыл глаза. Плесень исчезла. Во взгляде Шестирукого полыхал прежний огонь, скрывая недоумение.
– Бертран. Бертран Жавер.
– Я рад, что могу просветить вас, мастер Скуна, – без улыбки сказал капитан, глядя, как юноша залпом осушает чарку. – Искренне рад. Жавер – это фамилия его матери. По отцу он – Штернблад. И по деду. Бертран Штернблад, к нашим услугам. Где ваш ремень, мастер?
– Вы меня впервые видите, сударь, – сказал ассистент.
Странное дело – его глаза, копии глаз учителя, слезились. Впервые инструмент отказывался в полной мере служить господину. Так случается, когда шпага выворачивается из руки опытного фехтовальщика, наткнувшись на чужой, непривычный, неодолимый опыт.
– Да, – согласился капитан. – Впервые. Это что-то меняет?
* * *
Рудольф родил Вильгельма, Вильгельм родил Бертрана. Женщины для генеалогии большой роли не играют. Их дело носить, кричать и кормить. А с вечной славой, так уж и быть, мужчины управятся сами.
Опишем чувства Бертрана Штернблада к его знаменитому деду в двух словах – ненависть и обожание. Именно в таком порядке, потому что ненависть явилась первой. А обожание – Бертран убил бы любого, кто сказал бы ему: малыш, это чистая правда.
И тем не менее…
Планшерон – крошечный городок на юге Реттии, столица графства Ла Фейри. Чистая буколика, пастораль и уют. Провинция – чудовище. Оно ласково заглатывает тебя, с любовью переваривает, стараясь не тревожить, и кучей сонного золота извергает в гнездо из травы и цветов. Овечки, пастушки, теплый ветерок. Черепица крыш. Герань на балконах. Молочницы в чепцах. Телячья вырезка на прилавке. Глинтвейн по вечерам.
Отныне ты не шевелишься – ни телом, ни душой. Лишь булькаешь, вспоминая при случае, как были, значит, и мы рысаками. Буль-буль…
Единицы способны противостоять дракону. Для них провинция оборачивается другом, предоставившим кров и пищу – для размышлений и действий, событий и поступков. Таким человеком был Вильгельм, сын Рудольфа, отец Бертрана. С детства он мечтал стать врачом, и, в отличие от многих, воплотил мечту в жизнь. Первые игрушки – клистирная трубка и флакон для сбора мочи. Позже – ланцет и зонд. Анатомические таблицы, «Chirurgia minor», «Hortus sanitatis» – вертограды лекарственного сырья.
В восемнадцать серьезный не по годам Вилли, бакалавр медицины, позднее – магистр, с отличием закончивший Бравалльский университет, полностью заменил графу прежнего лекаря, ушедшего на покой. Подагра его сиятельства, мигрень ее сиятельства, понос виконта, ранения графских приятелей, устроивших дуэль – все легло на плечи Вильгельма Штернблада.
Достойному человеку – добрую судьбу. В девятнадцать он стал мужем, и через девять месяцев – отцом. На празднике, устроенном в честь рождения Бертрана, собралось много людей. Сам граф почтил новорожденного, явившись с подарками. Не хватало одного человека – деда младенца, Рудольфа Штернблада, тогда еще не капитана лейб-стражи, а отшельника с острова Гаджамад, колыбели воинского искусства.
Вне сомнений, дед оставил бы остров, приехав к внуку. Двадцатилетний срок обучения подходил к концу: месяц-другой роли не играл. Рудольф даже прислал с голубиной почтой письмо. Собираюсь, мол, в гости, что скажете? Увы, идея визита блудного деда получила категорический отпор у бабушки Полины. Он бросил меня с ребенком, сказала бабушка. Меня, юную дурочку, с тобой, Вилли, рыдающим в пеленках. Он променял нас на свои дурацкие железки.
Подлец, фанатик; негодяй.
Если бы его забрали на войну, я бы ждала, сказала бабушка. Двадцать лет ждать мужа с войны – это понятно. Это – долг. Но ждать два десятилетия, пока он научится убивать лучше, чем умел до того… Ноги его здесь не будет.
Так и напишите.
Когда дед прислал второе письмо: вернулся, хочу встретиться, не чужие ведь люди! – ему в ответ еще раз изложили взгляды бабушки Полины, усугубив их мнением Вильгельма. Что ж, беглец не настаивал. О переезде в столицу королевства и речи не шло. Семья жила в Планшероне, воинственный дед – в свите принца Эдварда. А маленький Бертран с молоком матери впитал: дед Руди – сквернавец. Мы не нужны ему. Он не нужен нам.
Вот вам и ненависть.
Зато вне семьи Бертран слышал другое. Из всех уст, от метельщика до виконта. Дед Руди – в личной охране Эдварда II, принявшего отцовскую корону. Дед Руди в поединке убил капитана лейб-стражи – предателя, сторонника лже-Биггоров. Дед Руди – новый капитан. Дед Руди – герой битвы под Вернской цитаделью. На Площади Свободы стоит его конная статуя. Во время наводнения дед Руди спас столицу, изрубив в лоскуты Бумажного Всадника. У Совиных ворот дедушка заколол пикой шесть тролльхов-привратников. В Шестидневную войну…
Вот вам и обожание.
Никого не волновало, как повел себя великий дед с женой, сыном или внуком. Герой не должен сидеть у бабьей юбки. Отсвет дедовой славы падал на родственников, менее всего желавших этого.
Бабушка Полина замкнулась, стала молчаливой. Она так и умерла – молча, не привлекая внимания. Вильгельм избегал разговоров об отце. Жена лекаря старалась оградить мужа от лишних терзаний. Тайком она просила не досаждать любимому, и достигла хороших результатов. Получая весточки от отца, Вильгельм не отвечал, либо отписывался кратко, сухо, предлагая оставить никому не нужную переписку. Потом мучился, ходил по дому сам не свой, топил досаду в работе.
Внук Бертран разрывался между ненавистью и обожанием. Герой и негодяй сливались для него в жуткую хомобестию. С рождения мальчика готовили в преемники родителю. Медицина – простой, ясный выбор. А он дрался со сверстниками. Вырезал мечи из досок. Метал ножи в забор. Когда отец узнал, что Бертран в часы досуга бегает к графскому конюху, в прошлом – сержанту легкой кавалерии…
– Зачем? – спросил Вильгельм.
– Фехтование и кулачный бой, – разъяснили ему.
Мальчишку отругали. Пороть не стали – в семье не поднимали друг на друга руку. Ты больше не будешь, сказали Бертрану. Буду, ответил он. И сдержал слово. Граф встал на защиту упрямца. Пусть растет мужчиной, засмеялся его сиятельство. Вилли, не обижайся. Я рад, что сын сменит тебя возле моей постели. Но ты носишь шпагу на боку, и ему тоже придется.
Пусть хотя бы знает, за какой конец держать оружие.
– Пусть знает, – ответил Вильгельм. – Но я хочу выяснить: зачем?
– Стану солдатом, – насупясь, заявил Бертран. – Утру нос деду. Он заплачет и явится к нам просить прощения!
– Хорошо. Главное – медицина. В остальное время – как пожелаешь.
Умный человек, Вильгельм не стал спорить. Он видел: способности отпрыска к войне – самые обычные. В детстве мы часто замахиваемся на небеса. С возрастом это проходит. Пройдет и у Бертрана.
В двенадцать лет парень сбежал на Гаджамад. Его вернули с полдороги – грязного, исхудавшего, в синяках. Следующие три года Бертран, радуя отца, посвятил хирургии и фармакологии. Он мало говорил, не дружил с ровесниками, не обращал внимания на девочек.
О чем-то думал.
– Ты едешь в Анхуэс, – сказал Вильгельм сыну, когда тому исполнилось пятнадцать. – К Диасу де Инслесу, выдающемуся медику. Он согласился взять тебя в подмастерья. Слушайся мастера. Он подготовит тебя для Бравалля.
– Да, отец, – кивнул Бертран.
До Анхуэса он не доехал. Вместо дома врача Диаса парень объявился в храме Шестирукого Кри. Все деньги, данные ему на обучение, он предложил гипноту Скуне. Наложите на меня инстант-образ, попросил он. Гарпии, псоглавца, демона, кого угодно. Я хочу стать бойцом.
И посмотрел на Шестирукого.
Так он смотрел на бабушку, пока та была жива – и Полина ни в чем не могла отказать внуку. Так он смотрел на конюха Пьеро, и тот соглашался обучать сопляка фехтованию. Так он смотрел на графа, и его сиятельство без причины защищал маленького строптивца. Так он смотрел на отца, и тот шел на уступки. Валяясь в луже, окровавленный, так он смотрел на портовых крыс, и те, утомившись его лупить, взяли мальчишку с собой в харчевню и накормили супом.
Но на Кристобальда Скуну взгляд юноши не оказал должного воздействия. Бронза ударилась о сталь – и отступила.
– Не могу, – ответил гипнот. – Если я соглашусь, ты умрешь.
– Почему?!
– Мы, гипноты, не гипнабельны. Начни я изменять твою психику, формируя наложение, и ты погибнешь, или сойдешь с ума.
Сперва Бертран пропустил мимо ушей это «мы, гипноты». Затем остолбенел от удивления, выпучив глаза – дивные, черные, убедительные глаза. И дал согласие остаться при лабораториях Скуны.
Ученик Шестирукого – возможно, последний ученик, учитывая возраст Скуны, – он косвенным образом воплотил свою мечту. Работа с людьми и хомобестиями, мастерами рукопашной. Накопление архивов боевого опыта. Не в силах достойно применять, он фиксировал и комбинировал, составляя инстант-образы.
Наложение требует искусности. Не все совместимо. Предложи могучему толстяку гарпическую манеру драться – и толстяк порвет сухожилия. Со временем Бертран научился безошибочно определять виды совместимости. В изяществе «подсадки» ему не было равных, если, конечно, не считать Шестирукого.
– Собирайся, – однажды велел Скуна. – Мы едем в столицу. Ты сопровождаешь меня. Присматривайся, мальчик. Еще год, и ты сдашь экстерном бакалавратуру. А там – университет. Степень магистра ждет тебя. Ты рад?
– Я рад, – поклонился Бертран.
Он радовался другому. Великий, обожаемый, ненавистный дед – в столице. И, кажется, внук из провинции все же сумеет утереть деду нос…
* * *
– Я хотел, как на Гаджамаде, – Бертран глядел в пол. – Я знаю, как там. Мне рассказывали. Скромность, говорят они. Великий воин выглядит безобидней мотылька! Я и подумал: кто выглядит безобидней покойника? В трансе все объекты убивали своего врага. А сами оставались живы. Моя победа выглядела безобиднейшей на свете…
Он шмыгнул носом, став похож на нашкодившего щенка. Вместе с этим в Бертране проявилось странное достоинство. Такое иногда возникает у преступника, который взошел на эшафот и наконец сообразил, что петля – не шутка, и не абстракция.
– Скромность, – повторил капитан, накручивая на палец рыжую прядь волос. – Нет, малыш. Тут ты дал маху. Гордыня…
– Я!.. – вскинулся юный гипнот. – Неправда!..
И умолк.
– Я не о твоей гордыне, – Штернблад-старший взял бутыль «Простака», потряс, вслушиваясь в бульканье, но наливать не стал. – Хотя это отдельная тема для разговора. Я о гордыне твоих… э-э… объектов. Они, знаешь ли, аж лопались от гордости. Трудная победа над врагом-виртуозом! Доминго, Мартин, гвардеец… Даже гарпия. Ты растопил и ее лед. Проклятье, ты взлелеял их гордыню, бросил в землю ядовитое семя, и теперь читаешь мне лекцию о скромности? На Гаджамаде еще говорят: уважение! Где твое уважение, малыш? Думаю, ты презирал их.
За окном копились сумерки. Рассказ Бертрана занял много времени. После него капитан поведал Скуне о драке на мосту, драке на крыше, драке в переулке и драке в темном углу. Судя по тому, как нервничал юноша, этим его подвиги не исчерпывались.
Но дед не стал уточнять, а внук держал язык за зубами.
– Меня ты оставил на закуску. Взгляни я тебе в глаза, и ты бы позже вернулся к учителю, доложив, что не застал меня дома. Кого ты припас для дедушки, малыш? Леонида? Минотавра?
– Л-леонида…
– Славная идея. Впечатляет. С твоими архивами легче стравить человека и миксантропа. Ты столько раз делал перекрестное наложение, что это въелось в твои мозги! Я очнулся бы у забора, страдая от болезненных, но неопасных для жизни ран. С памятью о бое, который выиграл, проспав весь бой от начала до конца…
Шестирукий Кри неприятно усмехнулся.
– Допускаю, Рудольф. Ты бы очнулся, и все такое. Но я допускаю, что этот дурачок вовсе не очнулся бы. А ты приехал бы ко мне на моей карете, правя лошадьми. И с грустью доложил, что старый Скуна лишился хорошего помощника. Помнится, ты уже имел дуэль с боевым магом?
– Да, – кивнул капитан. – Славный опыт. Его мне хватит до конца дней. Повторения я не хочу.
– Вы позабавили меня, судари Штернблады. Ваша история достойна авантюрьетты. Какой-нибудь Биннори купил бы сюжет за большие деньги. Внук-гипнот преследует деда-солдата. Жаль, я не пишу стихов.
– А в молодости? – заинтересовался капитан.
– Не твое дело. Как ты понял, что бои происходили в трансе? По отсутствию серьезных ранений?
Чтобы хоть чем-то заняться, а вернее, скрыть желание бежать отсюда со всех ног, Бертран пошел по номеру, зажигая свечи. Несметное множество свечей – на шкафу, на стене; в блюдечках на каминной полке. Черный интерьер располагал к богатому освещению. Бережно держа огниво, ассистент подносил зажженый трут к фитильку…
Огонь выхватывал часть лица юноши. Всякий раз это создавало иную маску. Страх, отчаяние, суровость. Предчувствие беды. Надежду на благополучный исход. Театр масок двигался по номеру, демонстрируя богатство выразительных средств. Пламя бросало отблески на красный шелк халата Скуны – звезды в крови; на стекло бутыли – звезды в луже.
Капитан следил за спектаклем, медля с ответом.
– И это тоже, – в конце концов сказал он. – Только на сцене бой не уродует премьер-тенора. Изящные ссадины, кровь в углу рта! – и можно петь арию. В жизни все иначе. Судя по рассказам пострадавших, они должны были надолго угодить в лазарет. И утешаться на койке гибелью врага. Доминго же ушел в караул, гарпия потащилась на лекции, Мартин встретил меня во дворе… Фактически ты гримировал их, малыш. Снаружи рвал одежду, изнутри диктовал ранения. Как мог, как умел. Как представлял это в воображении. Будучи ограничен законами транса: стигматы не опасны для здоровья, сильное повреждение разрушает уни-сон… Радуйся! – эту несуразицу я заметил не сразу.
– Он радуется, – ответил Шестирукий за ученика. – Я вижу, он очень рад.
– Сперва меня смутило отсутствие трупов. Один утонул, второй исчез, третий улетел. Затем – перила. Рябина во дворе университета. Рябина с целехонькими ветвями. Хотя на дерево, судари мои, свалился увесистый покойник! Следующей была гарпия. Атакующая гарпия, которую я поймал на грудь.
– Да? – восхитился древний гипнот. – И как?
– Отлично. Я ловил ее, одет в три кафтана. И понял, что случилось бы с Мартином, сцепись он с гарпием-самцом. Не прими победитель кардинальные меры, он истек бы кровью. А я застал Мартина, когда он, извините, мазал царапины бальзамом. И пыжился от гордости.
– Как вы поняли, что это – я? – спросил Бертран. – В смысле, что я – это я? Простите, я не слишком ясно выражаюсь. Устал, как собака. Утирать нос вам, сударь – утомительное занятие. В городе хватает гипнотов. Почему вы сразу опознали меня? И отворачивались – там, у дома?
Он стоял к деду спиной, уставясь в окно.
– Потому что интуиция, – процитировав любимую реплику обер-квизитора фон Шмуца, капитан достал из-за обшлага письмо. Обождал, пока внук повернется к нему, заметив отражение жеста в оконном стекле, и развернул мятый лист бумаги. – Раскрываю великую тайну, малыш. Слушай.
...
"Мы оба – глупцы, отец. Недавно я понял, что это наследственное. Спросишь, что послужило причиной для прозрения? Мой сын и твой внук. Он такой же дурак, как и мы оба.
Это не извиняет его.
Это не извиняет нас.
Я – хороший врач. Овал Небес! Я ничуть не худший врач, чем ты – солдат. Мой термоскоп позволяет измерить теплоту человеческого тела гораздо точнее, чем термоскоп Санториуса. Я первым описал венозные клапаны. Мою гипотезу о «семенах заразы» одобрил сам Трицель… Впрочем, неважно. Спроси меня: почему бы мне не гордиться собой? Почему бы Бертрану не гордиться собой? Отчего мы всю жизнь хотим что-то доказать тебе?
Иногда кажется, что и ты доказываешь нам какую-то, видимую лишь тебе околесицу. И потом тебе стыдно. Я прятался, когда ты приезжал на могилу мамы. Я отстранял протянутую руку. Был жесток и последователен. Спроси: зачем? Не знаю, отец.
Еще вчера знал, а теперь не знаю.
Я был прав. Я знал, что прав. И верил, что прав. Ты причинил нам много зла. Это так. Я стоял на знании и вере, как на двух ногах. Теперь у меня одну ногу подсекли. Я знаю, что был прав, не желая иметь с тобой ничего общего. Факты говорят в мою пользу. Но я больше не верю в свою правоту.
Извини за сумбур. Я – врач, а не литератор. Мне было бы проще лечить тебя от горячки, чем объясняться на бумаге.
Бертран прислал мне письмо. Он едет в Реттию, сопровождая учителя. Ничего особенного. Но мальчик уверяет, что восстановит честь семьи. Что я буду им гордиться. Просит сходить на могилу бабушки Полины и шепнуть покойнице: спи спокойно, внук знает, что делать.
Я уверен, это как-то связано с тобой, отец.
В детстве мама рассказывала мне сказки. Она знала много сказок, моя мать и твоя жена. Там часто повторялся один сюжет. Гив Санган, богатырь-хург, встречает своего сына инкогнито – и убивает его. Али ибн-Хашим, богатырь из Бадандена, встречает свою дочь, могучую воительницу (инкогнито, кто б мог подумать?!) – и убивает ее. Позже убийцы, как правило, очень горюют и ищут чудодейственный бальзам, воскрешающий мертвецов.
Я не хочу, отец, чтобы ты искал бальзам. Такого бальзама нет. Даже я не составлю чудо-средство. Будь осторожен. Если все завершится удачно – выкрои свободную недельку, и приезжай на могилу мамы. Встретимся там: я, ты и Бертран.
Твой сын Вильгельм."
– Дурачок, – ласково шепнул капитан, смеясь над внуком, обратившимся в соляной столб. – Надо бы тебя выпороть. Но это письмо… У него нет цены. Что ж, придется простить обормота.
Медленно, с осторожностью, свойственной глубокой старости, Кристобальд Скуна поднялся из кресла. Глаза гипнота опять затянула плесень из серебра. Он устал, но держался молодцом.
– Простить? А меня ты спросил, Рудольф?
– Спрашиваю, – не растерялся капитан. – Простишь, а?
– Нет. Мне нечего ему прощать. Работа мальчика достойна похвалы. Я не зря возлагал на него большие надежды. А ваши семейные делишки меня не интересуют. Сами разберетесь. По-родственному. Вам говорили, что вы очень похожи? Кровь, она не врет. Как я сразу не сообразил?
– Разберемся, не волнуйся.
Никто не заметил, каким образом Рудольф Штернблад оказался рядом с Бертраном Штернбладом, и отвесил внуку дивный, звонкий, родственный подзатыльник.
Внук лишь головой мотнул.
– Ты хоть им не рассказывай, – попросил он. – Пострадавшим. Я сам расскажу. Позже.
– Не о том просишь, – ответил капитан, обнимая юношу за плечи. – Главное, чтобы я не доложил о твоих подвигах в Бдительный Приказ. Вот кто обрадовался бы…
Caput XX
Ни оваций, ни позы, ни прозы, ни ритма,
Ни конца, ни начала…
Есть всего лишь у горла опасная бритва
И крупица печали.
Томас Биннори– Сегодня мы рассмотрим азы трингулярной империстики, основы типологии магических воздействий. Что есть трингулярная империстика?
Кручек прошелся по кафедральному возвышению. Эхо его шагов взлетело под гулкие своды аудитории и затихло от смущения. Кроме эха, тишину нарушало разве что дыхание первокурсников. Отметив сей отрадный факт, доцент продолжил:
– Это единство объекта, метода воздействия на объект и цели воздействия.
Дружно заскрипели перья.
– Трингулярность подразумевает наличие у объекта трех императивных аспектов его ценности. Это ценность утилитарная, пиковая и избыточная. Воздействия на аспекты порождают бесконечное множество трансформаций. Рассмотрим конкретный пример: ночной горшок.
В аудитории захихикали. Кручек ждал смеха. Он любил пример с горшком, возвращавший слушателей из Вышних Эмпиреев на прозаическую твердь. Теория усваивается лучше, если ткнуть носом в злобу дня.
– Утилитарная ценность ночного горшка очевидна. Он нужен для избавления от отходов жизнедеятельности. Не важно, изготовлен горшок из глины, олова или латуни, есть на нем орнамент или нет, сделан он в Бадандене или Анхуэсе, и сколько за него просит торговец. Главное, чтобы он выполнял основную функцию. Таким образом, утилитарная ценность горшка универсальна.
Смешки умолкли.
– Но если это горшок работы Джузеппе Полинари… Предположим, он изготовлен пять столетий назад и украшен орнаментальным бордюром. Внешние барельефы изображают сцены рождения мира. На крышке – личное клеймо мастера. Тогда, дамы и господа, пиковая ценность горшка для коллекционера, собирающего наследие Полинари, вырастает до заоблачных высот. Шесть-семь тысяч бинаров, уверяю вас.
По аудитории пронесся вздох потрясения.
– Но другой коллекционер, не интересующийся Полинари, даст за горшок всего две тысячи. А для кожевника из Ятрицы цена шедевра – пять монов в базарный день. Таким образом, мы приходим к субъективности пиковой ценности объекта. Она зависит от ряда обстоятельств. Время, место, экономическая ситуация… При жизни Полинари, умершего в нищете, пиковая ценность горшка была едва ли выше утилитарной. И наконец, избыточная ценность. Изготовлен из золота, украшен рубинами по ободку – такой горшок будет стоить вровень с изделием Полинари. Тут определяющей является система материальных ценностей общества.
Кручек взял паузу.
– Целей воздействия на объект также может быть три: изменение, созидание и разрушение. Проявив заклятием стертое клеймо мастера, мы совершаем изменение, повышая пиковую ценность горшка. Зачаровав объект – теперь экскременты сами переправляются в сточную канаву – мы создаем новое качество, повышая утилитарную ценность. Разрушив горшок пироглобулой, мы уничтожаем все императивные аспекты ценности. Теперь запишите три принципа, на которых строятся методики воздействий. Это подобие, насилие и согласование.
Перья летели по бумаге, словно вспомнив, что они когда-то были крыльями. Теодору чернила брызнули на щеку, оставив пятно в форме жабы. Известный насмешник Остерляйнен хмыкнул, но промолчал – он, как и все, лихорадочно записывал.
– Подобие имеет связь с прототипом. Портрет – с натурщиком. Ребенок – с родителями. Имя – с носителем. Инвокационные ритмы – с ритмами объекта. Найди связь, и действуй. Насилие, думаю, комментариев не требует. Разрушение объекта, создание новых качеств, противоречащих исходным… Самый простой, но и самый манозатратный метод. Согласование же – чистейшая деликатность. Воздействие согласовывается с качествами и тенденциями, имеющимися в объекте изначально. Ускорь старение глины, и горшок рассыплется в прах без видимого насилия. Укрепи материал – и ходи в наш горшок долгие годы. Теперь заменим горшок на человека…
И снова вздох: горшок уже казался курсу более интересным объектом.
– Лекарь, открывший кабинет на улице 1-го Помилования, имеет утилитарную ценность – он вправляет суставы, ставит припарки и берет гонорар за свои услуги. Однако для влюбленной в него зеленщицы Абигайль не важна его утилитарная ценность – у девушки крепкое здоровье. Зато пиковая ценность лекаря для нее взлетает до небес. Медик учился у Эразма Лилльского, имеет диплом, и поэтому берет с пациентов вдвое больше, чем сосед-коллега. Это – избыточная ценность. Теперь поразмыслите, как и с какими целями можно воздействовать на нашего лекаря…
Еще одна пауза. Скрип перьев. Скрип мозгов.
Симфония, подумал Кручек.
– Создается иллюзия, что Высокая Наука – незаменимый источник восхитительных метаморфоз. Это не так. На самом деле мы с вами, посвятившие жизнь магии, живем в своеобразной резервации.
Он обождал, пока стихнет гул изумления.
– Вы не ослышались. В резервации. Это очень комфортная резервация. Высокой Науке доступно многое, о чем люди, чуждые магии, и не мечтают…
– Мы духов можем вызывать из бездны! – не удержался патлатый трепач Остерляйнен. При слове «резервация» он скосил глаз на гарпию, сидевшую рядом, смутился и теперь спасал репутацию. – И их пинками загонять обратно!
– Броски через порталы, – Кручек сделал вид, что не заметил. – Левитация. Связные блюдца. Мертвецы-слуги. Смена облика. Все это доступно нам, магам. А с нашей помощью – остальным, способным оплатить услуги чародея. Но будем честны – даже для короля магия, являясь заметным подспорьем, не играет решающей роли.
Доцент дернул пуговицу сюртука, едва не оторвал ее и спрятал руки за спиной.
– Какую энергию используем мы? Ману, и только ману! Тем временем ветер надувает паруса кораблей, а водяные колеса вращают жернова. Лошади перевозят всадников и грузы. Огонь плавит металл. Вода, огонь или ветер доступны всем! Умение копить ману – дар судьбы. Да, обучить основам Высокой Науки можно любого. И что с того? Много ли проку гончару, если он научится взглядом зажигать свечу? Отправит в рот соленый огурец без помощи рук?
Он снова взялся за пуговицу.
– Я вряд ли сумею наколдовать себе модный сюртук. Придется идти к портному. Чем же я лучше портного, когда тот просит у меня амулет? Что, если Высокая Наука – путы на ногах чистокровного скакуна? Не спешите возражать. Новый способ передвижения? – зачем, если есть портал? Новое оружие? – бранный маг заменит батарею катапульт! Новые лекарства? – рядом живет колдун… Сгинь мы без следа, и кто знает, каких успехов достигли бы люди? Научились бы летать, как гарпии? Покорили недра земли и пучины моря? Вышли за пределы известного нам мира? Но Высокая Наука существует. И, искренне надеюсь, в обозримом будущем никуда не денется. Я вижу три возможных варианта развития событий.
Доцент помахал рукой: не надо записывать, это я так!
– Путь первый: универсальный способ копить ману, доступный каждому. Или переход к императивным воздействиям с минимальным расходом маны. Тогда магами станут все, и резервация исчезнет. Путь второй: обычное знание догонит Высокую Науку. Магия сделается одним из многих инструментов, и разница между нами уйдет в прошлое. Путь третий: истощение запасов маны в природе. Мы до сих пор не знаем, конечны они или нет. Это скорее не путь, а исход. Мы с вами уйдем в прошлое, освободив дорогу…
– Бам-м-м!
Словно по ушедшим магам, ударил колокол, возвестив перемену.
Нет, удивленно поправил себя Кручек. Это второй колокол. Всю перемену я проговорил. И никто не напомнил о законном перерыве. Вон, на первом ряду сидит Андреа Мускулюс – у него здесь следующее занятие. Слушает, вредитель. И не торопится заявить о своих правах на аудиторию.
Что ж, теоретик, ты сказал все, что хотел.
– Под занавес я предлагаю вам определить ценность Высокой Науки – утилитарную, пиковую и избыточную. Результат мне сдавать не надо. Это вам для самостоятельных размышлений.
* * *
Погодка удалась – загляденье!
Небо выточили из цельного куска бирюзы. Щербины и сколы подчеркивали блеск синевы. Сетчатые жилки облаков, бурых и розоватых, убегали за море. Говорят, бирюза рождается из костей бедолаг, умерших от любви. Если так, несчастные обладали внушительными скелетами.
Хватило на весь небосклон.
Напротив лавки сокольника, за витой решеткой, начинался Шпреккольский сад. Осень бродила меж деревьями, крася листву с вдохновением пьяного маляра. Багрянец кленов. Золото ясеней и каштанов. Пурпур дикого винограда. Желтизна лип и акаций. Апельсиновый оттенок рододендронов. Кровь дуба. Кровь бересклета. Бордо гортензий и кизила.
Кое-где – зелень, чтоб не забыли.
«С ума сойти, как красиво», – думал Кристиан, выскочив из лавки. Даже рука в лубке не могла испортить парню настроение. Что рука? – до свадьбы заживет. Лекарь сказал: моргнуть не успеешь, будешь девок лапать. Язычок у лекаря…
Дидель отослал Непоседу к меднику, за партией бубенцов. Сокольник брал бубенцы у одного и того же медника, хотя конкуренты предлагали скидку. Смешные люди, объяснял Дидель. Деньги – что? Деньги – прах. Мастерство – все. И показывал знаки на бубенцах: солнце, сердце, колесо с тремя хвостами.
Кристиан ничего не понимал, но кивал со значением.
Деньги – прах, запоминал он.
Жизнь удалась. Эта мысль не покидала его с того дня, как сумасшедшая джинниха и гарпия извели на кухне весь запас смородинового листа, попивая чаёк, а Герда очнулась и тоже попросила пить, заявив Непоседе, что он – дурак, на лбу колпак, и бабушка, вернувшись, не стала причитать, а сказала, что теперь все будет хорошо…
– Эй, кузарек!
Сперва он не сообразил, кто его зовет. Но когда из-за липы, растущей вне решетки сада, выступил Прохиндей Мориц, стало ясно: все будет хорошо, да не очень.
Выглядел Мориц ужасно. Под глазами – черные круги. Голова давно не мыта. Волосы слиплись, висят сальными прядями. Губы потрескались, блестит запекшаяся кровь. Прохиндей кренился набок – такие колченоги должны ходить с тростью.
Этот ходил с ножом.
Нож жил отдельно от хозяина, воняющего гнильцой. Нож приплясывал, рыбкой мелькая в пальцах. Нож изгибался, ловя на лезвие солнечных зайчиков. Ножу хотелось пить.
– Греби к дядику, шныбзда. Потолковать надо…
Идея сбежать вспыхнула и погасла. Кристиан и в лучшие-то времена Морица удрал бы от него, как от стоячего. А сейчас – и подавно. Но сердце подсказывало: сбеги, приятель, и покоя не найти. От врага, желающего отомстить за позор, можно бегать хоть сто лет подряд. А от себя куда сбежишь? К Нижней Маме?
Жалея, что сам без ножа, Кристиан вразвалочку двинулся к Морицу. Он тянул время. Глаза шныряли по сторонам. Палка? Камень? Снять пояс? Пожалуй, хотя пряжка – легонькая. Лучше, чем ничего…
Нож ждал.
Он никуда не спешил, кусок острой стали. Не сегодня, значит, завтра. Хорошая погодка, а? Славно убивать в ясный день. И умирать – славно. Лечь на мостовую, зажмуриться, свернуться калачиком. Ложись, Непоседа. Липа уронит на тебя желтую слезу. А Мориц плюнет да пойдет в таверну: выпить за упокой.
– Здравствуй, Мориц.
Споткнувшись, Кристиан обернулся. Поэтому он не увидел, как изменилось лицо Прохиндея, как сбился с такта нож в дрогнувшей руке. И хорошо, что не увидел. Иначе стало бы стыдно за былого кузаря – злой, голодный барбос пятился назад, поджав хвост.
– Давно не виделись. Ты сильно изменился…
У лавки стоял великан Дидель с Тихоней на руке. Кречет вцепился когтями в кожаную перчатку, кося на Прохиндея недобрым глазом. Клобучка на голове Тихони не было. Страшный клюв открылся, из глотки несся раздраженный клекот. Хлопнули крылья, подняв ветер.
– Здорово, Дид, – хрипло ответил Мориц.
Кристиан переводил взгляд с сокольника на бандита, и обратно. Сегодня он повзрослел, сам не заметив того. К ножу шел подросток, готовый умереть, но не потерять лицо. На полпути между ножом и кречетом остановился завтрашний мужчина, выяснивший, что в событиях, как и в домах, главное – не фасад, а укрытое за стенами. Глупо лезть в чужое жилище, выволакивать секреты на свет. Достаточно знать: главное – невидимо.
И принимать тайну, не пытаясь ощупать, взвесить и измерить.
Многое происходит без тебя. Вне тебя. За твоей спиной. Ты видишь отблески, слышишь эхо, чуешь исчезающий запах. Ну и что? Прими и не спорь.
– Ты был славным мальчуганом, Мориц. Кучерявый ангелок. А вырос из тебя сукин сын. Сейчас я говорю с тобой, как с человеком. С мерзким, отвратительным, но человеком. Слушай и мотай на ус, прежде чем убраться.
– А если не уберусь?
– Тогда ты перестанешь быть для меня человеком.
– Да? – из речи Прохиндея исчезла воровская «кафка». – И кем стану?
– Добычей. Добычей для охотника. Спокойно, Тихоня! Он – сукин сын, но не дурень. Он в курсе, что мы делаем с добычей…
Откуда сокольник знал Морица, оставалось загадкой. Кристиан не желал добраться до ответа. Он не спросит Диделя, если останется жить. Зачем? Захочет, сам расскажет. Не захочет – отмолчится. Давняя история, скучная или увлекательная, не отменит факта: кречет заслонил тебя от ножа.
Ну и хватит.
– Еще встретимся, кузарек. Без видоков…
Глядя вслед Морицу, Кристиан улыбался. Они не встретятся. Это Прохиндей боится потерять лицо. Он, вчерашний наставник – слюнтяй, мальчишка. Расскажет дружкам, что раздумал марать руки о сопляка, или соврет, или уберется прочь из города. Не орел – вошь на аркане.
Морица было жаль. Так жаль осени, когда она идет не в золоте и пурпуре, а в свинцовых дождях и распутице. Чавкают колеса, ругаются прохожие. Небо сеет мерзость. А в домах горят камины, и вино закипает в котелке, булькая горстью пряностей.
– Чего стоишь? – спросил Дидель. – Иди за бубенцами.
– Ага, – кивнул Кристиан.
– Он тебя больше не тронет. Ты мне веришь?
– Верю, – тихо ответил Кристиан.
По дороге он размышлял, каково быть добычей для Диделя и Тихони. И пришел к неутешительным выводам. Подмастерьем быть куда лучше.
* * *
– Красиво, – сказала гарпия. – Напоминает Строфады.
Внизу, под обрывом, гудел прибой. В рокот волн вплетался шорох гальки. Море катало обточенные камешки на тысяче языков, как россыпь леденцов. Водяная пыль клубилась у подножия утеса. В ней безуспешно пыталась спрятаться радуга.
Люди радуги не видели. Но от Келены, устроившейся на ветке, разве спрячешься? Могучий граб бросал вызов обрыву, встав на краю. Дерево нравилось гарпии; радуга – тоже.
Подстелив одеяло, свернутое вчетверо, под грабом устроился Томас Биннори. Поэт хотел усесться на голую землю, но король не позволил. «Простудишься, – со свойственной ему житейской мудростью заявил монарх, – лечи тебя по-новой!..» Спорить Биннори не стал. Сегодня он был на удивление покладист и задумчив.
Глядел в небо, запрокинув голову; молчал.
Солнце щедро вызолотило сухие листья. Смутясь, ветер притих, боясь лишить граб праздничного убранства. Лишь бережно листал драгоценную книгу, пропуская страницы меж незримых пальцев, наслаждаясь шелестом.
Теплые денечки намекали, что они ненадолго.
Эдвард II прохаживался вдоль обрыва, играя тросточкой. Время от времени он косился на походный столик, рядом с которым стояли, в ожидании высочайшего седалища, раскладные стулья. Корзинку со снедью накрыли вышитой салфеткой. Дюжина розового эмурийского из коллекционных погребов; три кубка. Лучше не придумаешь.
Взглядом король намекал:
«Может, пора?»
Но поэт с гарпией игнорировали намек, а Эдвард не настаивал. С утра король поражался собственной деликатности. Даже три помилования подписал. И указ об экипировке лейб-стражи за счет казны. Казначей на коленях стоял, рыдал, подавал в отставку, а его величество уперся и ни в какую. Душа просит, сказал он казначею, и тот заткнулся.
– Похожее место есть в вашем психономе, мэтр Биннори. Там на утесе стоит замок. Вы раньше не бывали на Строфадах?
– Нет, – покачал головой поэт. – Возможно, приеду погостить. Мне бы хотелось взглянуть на вашу родину.
– Если вас не смутит аскетизм резервации, буду рада принять вас.
– Не смутит. Я неприхотлив. Мне жизненно необходимо встряхнуться. Я закис и обрюзг. Да, в Реттии, стараниями его величества, я обрел вторую родину, – он встал, отвесив монарху поклон. – Но муза требует свежих впечатлений. Я разработал маршрут. Побережье Бадандена, Рагнар-йок, храм Шестирукого Кри… А теперь – и Строфады.
– Надеюсь, ты вернешься? – с ложной бесстрастностью поинтересовался король.
– Обязательно, ваше величество. Где я найду такого ценителя, как вы? Вы – мой якорь, – гарпия с беспокойством посмотрела на пациента. Но Биннори льстил, и не более того. – Просто я слишком долго гнил в раковине. Пора выйти наружу. Спасибо, сударыня, за излечение. Жаль….
Тень набежала на лицо поэта. Биннори умолк, собираясь с мыслями. Или с духом? Бледный, исхудавший, с острыми чертами, он походил на птицу, засидевшуюся в клетке – и теперь не вполне понимавшую, как ей жить на свободе.
– …жаль, временами я раздваиваюсь. Одна моя половинка жаждет вернуться в утраченный рай, откуда вы меня вытащили за шкирку. Она проклинает вас, эта глупая половинка. «О, лучше бы меня не трогали! – стенает она. – Лучше бы оставили в покое! В светлом, губительном покое…» А другая часть скромного барда дышит воздухом, звенящим, как хрусталь, смотрит на небо, которое никогда не уставало меня поражать, слушает песню ветра, ощущает на губах терпкость вина – и радуется возвращению… Кому верить, господа мои?
– Это пройдет, – утешила гарпия. – Остаточные явления. Паразит мертв, но память о нем жива. В конце концов она исчезнет, и половинки воссоединятся. Тут моя помощь не нужна.
– Я тоже рад, что ты вернулся, Томас, – вмешался король. – И раз уж речь зашла о вине…
Из-за дерева бесшумной тенью возник Абель Кромштель. Встав у столика, слуга ловко откупорил бутылку. Король хмыкнул и похвалил себя за проявленный героизм. Кто бы знал, каких усилий стоило отбиться от назойливой свиты! Все стремились на природу вслед за его величеством – под сенью кущей славить просвещенность монарха, вкушать яства и воздавать должное напиткам.
– Кто подаст утиральницу? Кто наполнит бокал? – горланили лизоблюды. – Защитит? Pассмешит? Сбегает за палачом?..
– Кыш, паразиты! – рассвирепев, рявкнул король. – Это приватная встреча, а не банкет!
Телохранители маячили в отдалении, тщетно прикидываясь деталями пейзажа. На преданных вояк «кыш» не действовал. Король, в свою очередь, старательно не обращал на них внимания. Взяв у Абеля кубок, он поднял голову.
– Прошу вас, сударыня.
– Почту за честь, ваше величество. Принять кубок из ваших рук…
Взмахнув крыльями, гарпия слетела с ветки. На шее Келены блестела нитка жемчуга. Оперение, в тон платью, отливало малахитом. Следы побоев сошли, а мелкие дефекты скрыла пудра.
– Я поднимаю этот тост за вас. За душеспасительницу Томаса. Капитан Штернблад был исключительно прав… Впрочем, это уже следующий тост. Не станем забегать вперед. Ваше здоровье!
– Благодарю, ваше величество.
Реверанс в исполнении гарпии смотрелся оригинально. Но подлинное изящество видно каждому, будь оно хоть с хвостом, хоть на птичьих лапах.
– Позвольте присоединиться, ваше величество. Сударыня, вы – мой ангел.
Гарпия вздрогнула. Неужели Биннори запомнил ее облик там? Нет, вряд ли. Совпадение; поэтический образ.
– Мне, право, неловко. Я не привыкла к комплиментам. О-о, дивное вино! Мэтр Томас, присматривайте за мной, чтобы я не увлеклась. Мне с утра в университет.
– Кстати, об университете. Давно хотел спросить: зачем это вам? – король с наслаждением вдыхал аромат эмурийского, жмурясь, как сытый кот. – Мы не разбираемся в Высокой Науке. Но у нас есть советники. Они просветили нас насчет… э-э… особенностей миксантропов.
Державное «мы» проскользнуло в вопросе, как шпага скользит в ножнах, на миг показывая блестящий клинок. Эдвард II был выше всех присутствующих. Для низкорослой гарпии его лицо маячило где-то в небе – недосягаемое, спокойное, с тонкой, чуть надменной улыбкой. Очень неудобно смотреть – затекает шея.
Хорошо, что с королями говорят, опуская глаза.
Прелюдия закончилась. Вот, значит, ради чего Эдвард устроил приватный пикничок. Монарх не кривил душой. Он был рад выздоровлению любимца и благодарен гарпии. Но радость и благодарность мало-помалу уходили в прошлое. Для гарпий это значило – отсутствие чувств.
А для королей?
На солнце набежало облако – клок белого пуха. Похолодало. Золото осыпалось с морщинистого граба, обнажив неприглядную суть: никаких драгоценностей – сухие скукоженные листья. Рви пригоршнями, швыряй с обрыва в море, наблюдай, как они кружат в полете – первом и последнем.
Дедушка предупреждал, вспомнила гарпия. Настанет момент, и от тебя потребуют разъяснений. Будь готова. Продумай разговор заранее. Говори так, словно это произошло вчера или произойдет завтра. Без страсти, без страха, взвешивая каждое слово.
– Ваше величество не сможет проверить, правду я сказала, или нет.
– Я полагаюсь на честность своих подданных перед лицом их государя. Вам тоже не проверить: говорю я правду, или лгу. Мы в равном положении, сударыня.
Келена склонила голову.
– Я ценю вашу откровенность, государь. Минуту назад я слетела с дерева. Один из ваших доблестных телохранителей, кто следит за мной через прицел арбалета, мог неверно истолковать мое движение. Но я не сомневаюсь: охрана получила разумный и недвусмысленный приказ. Не стрелять, пока гарпия не проявит явной агрессии. Спасибо, ваше величество.
Улыбка исчезла с лица короля. Келена балансировала на краю пропасти. Крылья не спасли бы ее в случае падения.
– Задумай вы покушение, сударыня, у вас имелся бы шанс. Я наслышан о скорости гарпий. Арбалетчик мог опоздать. Но вы ведь прилетели в Реттию не для убийства?
– Скорее для рождения, ваше величество.
– Да? Объяснитесь.
– Мне придется начать со смерти. Что значит посмертие для людей? Край Праведников для чистых сердцем? Геенна для злодеев? Опишем это одним словом: неизвестность. Надежда на рай, боязнь ада, расчет на новую инкарнацию или могильных червей – никто из вас не знает итога наверняка.
Поэт хотел возразить, но передумал. Допив вино, он подставил бокал Абелю. Розовая струя хлынула из бутыли, распространяя чудесный аромат. Это можно было счесть поэтическим возражением смерти.
– Что есть душа для Высокой Науки? Две равновесные половинки, дух-движитель, – Келена по памяти цитировала «Тонкие структуры личности» Зигмунда Фрикейского, – три промежуточные душицы, жидкая сверхсуть… Мое воображение отказывает, едва я пытаюсь представить эту махину. Но я готова поверить. Почему нет?
– Я верю! – хрипло воскликнул Томас Биннори. Еще слабый после болезни, он быстро хмелел. – Она ждет, душа несчастного, моя королева фей! Люди врут! – мы не встречались наяву, хотя я посвятил ей не одну балладу. Моя королева, родина моя… холмы Эйлдона, ручьи, где плещется закат… О, зачем я исцелен?
Король с тревогой глянул на любимца. К счастью, поэт находился здесь, а не в мире фантазий. Пьян, Биннори плакал, только и всего. Почему нет? – как выразилась гарпия.
– Он – изгнанник, ваше величество. Странник. Странники и мы, гарпии. Рано или поздно мы завершаем странствие и возвращаемся домой. Ваши души – наша родина. Поэтому мы не делим себя на живых и мертвых. Есть наши нынешние и наши прежние. У гарпий нет якорей, кроме единственного. Мы-здешние – якорь нас-вернувшихся, зацепленный за Квадрат Опоры. Увы, этот якорь теряет вес. Гарпий осталось слишком мало. Войны, изоляция, утрата интереса к жизни… У наших нынешних редко рождаются дети.
Она помолчала.
– А у наших прежних дети перестали рождаться вообще. Не будет якоря, и корабль унесет штормом, разобьет о скалы. Наш род угасает в пространствах психономов. Мы обречены.
Эдвард II неопределенно хмыкнул. Взяв с блюдца пулярку, его величество принялся лакомиться нежным мясом. На лице короля отразилось удовлетворение. То ли повар потрафил владыке своим искусством, то ли гарпия – своим рассказом.
– При чем тут ваше обучение в Универмаге? – с набитым ртом поинтересовался он. – Договаривайте до конца, сударыня. У всякой трогательной истории должна быть мораль. Спросите Томаса, он подтвердит.
– Психономы пронизаны «ветром жизни». Мы зовем его анемосом. Он сродни мане – основе Высокой Науки. Это наш шанс. Если, используя методы волшебства, мы научимся копить анемос в себе, управлять им, трансформировать… Возможно, тогда гарпии перестанут нуждаться в здешнем якоре. Дети будут рождаться даже при отсутствии его.
Король чуть не подавился.
– Хорошенькое дело! И мы останемся без гарпий? Вы уберетесь в ваши – ладно, пусть наши! – психономы, нарожаете птенчиков, а нам оставите лишь воспоминания?
– А зачем мы вам, ваше величество? – тихо спросила Келена.
Caput XXI
Давай поговорим не здесь
И не сегодня. В странном месте,
Где нет ущерба нашей чести,
Где мы – вовеки, где мы – есть,
И сад, обещанный давно,
Стучится ветками в окно.
Томас Биннори– Прошу всех занять свои места.
Первый курс растекся по лаборатории. Нервничал Хулио Остерляйнен, пряча робость за ухмылкой. Озирался Теодор Равлик, выбирая рабочий столик по одному ему ведомым законам. Марыся законов не изобретала – зажмурившись, девица крутнулась волчком, ткнула пальцем наугад и зашагала к месту работы. Клод и Яцек столкнулись лбами у столика, понравившегося обоим, и Яцек уступил, сев неподалеку.
Минута, другая, и расселись все.
– Перед вами – иллюзион Жефа-Бомбера, иначе «творильня». Обратите внимание на внешнюю проницаемость иллюзиона…
Лаборатория напоминала фонарную мастерскую. «Творильни» выглядели как уличные фонари, снятые со столбов и притащенные сюда для ремонта. Призмы-шестигранники из луженой жести, со стеклянными боками и крышей; внутрь уже залита порция масла. На бронзу или другие украшения Жеф-Бомбер, кем бы он ни был, поскупился.
– …в творильне используется масло корня мандрагоры. Купажные добавки: выжимка сон-травы – до 2 %, масло кракатуковых орехов – до 3 %. Это усиливает эффект. Запомните: превышение нормы добавок разрушит ваше влияние на иллюзию.
– Оно взорвется? – испугалась Марыся. – Если превысить, то бабахнет?
Кручек еле сдержал улыбку.
– Нет. Не бабахнет. Иллюзион полностью безопасен. Просто однажды вам самим доведется готовить «творильню» к работе. И я хотел бы, чтобы все запомнили нюансы. Переходим к заданию. Цель лабораторной: иллюстрация основ трингулярной империстики…
Он знал, что часть первокурсников справилась бы и без иллюзиона. Особенно те, кто имел неплохую практику до поступления в университет. Для сельского колдуна создать иллюзию прямо на столике – дело плевое. Та же Марыся наверняка не раз моделировала движение ветров, не выходя из спальни. Лишь развевались гардины да вставала дыбом простыня. Но практику имели не все, а дело куратора – обеспечить равные условия для сдачи.
На прошлой неделе ректор намекнул, что в скором времени будет иметь честь поздравить Кручека профессором. Хайме так и сказал, не смущаясь старомодностью выражения: «поздравить профессором».
«Что, дружище? – подмигнул ректор. – Растем?»
Растем, вздохнул завтрашний профессор. Он заранее обсудил ситуацию с Исидорой. Горгулья предупредила, что от лекций не откажется. Выйдет из отпуска и приступит к исполнению обязанностей. Да, на вашем курсе, сударь. И нечего на меня смотреть, как гений – на злыдня.
«А не бабахнет?» – хотел спросить доцент, но промолчал.
– Ваша задача: подобрать пример и воплотить его в «творильне». Как только аспект ценности сформируется, это подтвердит рунированная надпись на верхнем ребре иллюзиона. Справочник пассов лежит на столе. Инвокационные таблицы – там же. Впрочем, необходимый минимум мы с вами изучили. Без лести замечу: результатами я удовлетворен. Надеюсь, большинству справочник не понадобится…
Десятки рук вцепились в бока иллюзиона. Вечная ошибка – «творильня» не нуждалась в прямом контакте. Но воображать легче, когда держишь объект, как будто он готов в любую минуту сбежать. «Эффект синицы», знакомая штука.
– Воображайте без напряжения. Пассируйте с легкостью. Озвучивайте инвокационное давление, не форсируя голос. Иллюзион – усилитель. Он уловит малейший посыл и трансформирует в желаемый образ. Если не увлекаться панорамностью и многофигурностью, затраты маны – грошовые…
Кручек никогда бы не признался, что главная причина использования «творилен» – вон она, сидит, закутавшись в крылья. Одна из тех, кто не стал хватать иллюзион. Даже запасов маны гарпии хватило бы на воплощение в «творильне» примера средней сложности.
Если не перегнет палку, сдаст как миленькая.
Вчера они ужинали в «Граните наук». Говорили о пустяках. В финале доцент не выдержал. «Скоро сессия, – сказал он, делая вид, что любуется вином в бокале. – И каникулы. Вы улетите домой?»
– Да, – кивнула гарпия.
– Этот безумный семестр останется позади. Вы будете вспоминать его?
– Да.
– Никаких чувств? Ни за кем не скучаю, ничем не терзаюсь? Гордость за свои подвиги, наконец? Ничего такого?
– Ничего, – гарпия потянулась и взяла его за руку. – Не огорчайтесь, Матиас. Это глупо. Так же глупо вам огорчаться, что у меня есть крылья, а мне – что у вас есть ноги. Подумайте о другом. Я вернусь и обрадуюсь. Радость будет в настоящем. Остальное – неважно.
Она впервые назвала его по имени.
– Вы верите мне, Матиас?
– У меня есть выбор? – невесело отшутился он.
Выбор был. В том-то и беда, что выбор – был. Следя за студентами, которые сочиняли примеры, Кручек размышлял о природе гарпий. О природе людей. О себе, стоящем на распутьи. Знание и вера, думал он. Эти две лошади разрывают меня на части, борясь друг с другом. Однажды я не выдержу, и они с диким ржанием понесутся в разные стороны, волоча по мостовой кровавые останки. Я – адепт знания. Преданный слуга Ее Величества Науки. Этой лошади достанется большая часть меня. Но и вера урвет свой клок.
Знание стоит на опыте. Вера зиждется на доверии.
Я – утратил опору.
Можно доверять любимой жене. Верить ей. А можно нанять приватного сыскаря, чтобы тайком проследил за женой. Сыскарь принесет целый ворох фактов, и скажет: «Да, сударь. Она вам верна.» Теперь ты знаешь: жена тебе не изменяет. У вас крепкая семья. Сыщик отработал гонорар.
Куда делось доверие?
Ушло, освободив дом для знания.
* * *
Встав, он прошелся по аудитории. Остановился у столика Хулио. В «творильне» Остерляйнена горел фитилек. Дым распространялся по иллюзиону, клубясь, обретая форму. Не мудрствуя лукаво, студент воспроизводил пример, ближайший к обнародованному доцентом на лекции. Вместо ночного горшка он взял метлу.
Сначала метла валялась на полу в комнате, прописанной легкими, беглыми штрихами. Одинокая, она вызывала сочувствие. «Ценность утилитарная, – отметили руны на жести. – Зафиксировано». Метла вздрогнула, черенок заблестел серебром. Прутья сверкнули золотом. Возник набалдашник – бриллиант размером с кулак.
«Ценность избыточная,» – согласился иллюзион.
Вернувшись к первоначальному облику, метла взлетела над полом. На ней, словно всадница – на норовистом скакуне, возникла девица, похожая на Марысю. Доцент встал так, чтобы реальная Марыся ничего не увидела. Он сомневался, что капитанской дочке понравится летать голышом, всем на загляденье – даже в качестве лабораторного примера.
«Ценность пиковая», – оценил иллюзион, имея в виду то ли метлу, то ли наездницу.
– Попробуйте еще раз, – дал совет Кручек. – Для закрепления. И скромнее, скромнее, молодой человек…
Он двинулся между столами, забыв о метле. Вчера тетушка Руфь поведала ему о визите мышки из «дамбы». Тонкие намеки, граничащие с угрозами; принуждение к доносам. Она долго собиралась с духом, пожилая скрипторша. Не могу доносить, сказала она. И не доносить не могу. Боюсь. Казалось бы, пустяк. Ваш абонемент – передай, и дело с концом. А чувствую себя змеей подколодной.
Что посоветуете?
Кручек поцеловал тетушку Руфь в щеку. Вы – моя единственная любовь, тетушка. Вы – чудо. Дайте им мой абонемент, и спите спокойно. Вот, смотрите, я создал для вас розу. Ну, не создал. Утащил из корзинки вредной девчонки по имени Герда. А в корзинку бросил монету. Все честно, берите. Спасибо вам, с вами тепло…
Он умолчал, что ночью ему снился Антонин Тератолог. Коронный друнгарий глядел с укоризной и грозил пальцем. А Кручек ничего не мог ему возразить. Я предлагаю вам осторожность, говорил палец. Разумную осторожность. Здравый смысл. Все, что можно потрогать, разъять на волокна, убедиться в безопасности – и вздохнуть спокойно.
Что предлагает вам гарпия, дорогой мой?
Целый космос, хотел ответить Кручек. Пускай я-нынешний не в силах его потрогать и разъять на волокна. Старик-садовник сажает яблоню для других. Возможно, когда-то я прикоснусь к творимому мной. Если пойму: под Овалом Небес, на Квадрате Опоры, живет множество очень разных людей, опровергающих наше с вами представление о людях.
Птичьи лапы, конские копыта, голова собаки. Фикция, маскарад. Но фикция подтверждается опытом. А психономы не подтверждаются ничем, кроме россказней подозрительной гарпии.
Вечный Странник! Что, если она лжёт?!
Я не в силах проверить это знанием. Я могу принять это на веру. Или не принять. Ну почему я? Я не умею верить. Мне нужны причины. Основания. Аргументы. От гипотезы к теории, от теории к практике. Если б еще гарпия не была так похожа на Агнешку…
– Не напрягайтесь. Мана должна изливаться без помех.
– Да, мастер. Я стараюсь.
Он не сразу сообразил, что разговаривает с Келеной. Гарпия наклонилась к иллюзиону, целиком отдавшись работе. Пассировку она провела с блеском. Инвокации – удовлетворительно. Фитиль горел, не давая копоти. Дым рассеялся, в «творильне» возник пейзаж: скала над обрывом, внизу – море.
На ветке можжевельника сидела гарпия.
Пейзаж напоминал зыбкую акварель. Все узнаваемо, есть свет и перспектива. Но скала, дерево, волны с барашками на гребнях скорее угадывались зрителем, восстановлены по намекам. Ограничена запасом маны, Келена сосредоточилась на гарпии. Маленькая женщина-птица соответствовала оригиналу до мелочей. Кроме лица – сколько Кручек не щурился, он не мог разобрать: похожа иллюзия…
Или нет.
Одинокая, гарпия в иллюзионе смотрела куда-то за море. Над ней, серебряным приговором, возникали руны, коверкая жесть оправы:
«Ценность утилитарная».
Доцент нахмурился, разочарован. Прием из элементарных. Возьми лекаря, пекаря, солдата, обозначь признаки ремесла – ланцет, скалку, копье – и утилитарная ценность налицо. Правда, в случае с гарпией, сидящей на ветке, вопрос утилитарной ценности спорен. Даже не сам вопрос, а уровень этой ценности…
…что, если она лжёт?!
– Продолжайте, – он зашагал дальше.
Марыся в качестве примера избрала жабу. Кручек удивился такому решению капитанской дочки. Он ждал ветра, туч, грозы. Корабля в море. И нате вам – жаба. Жирная зеленая квакуха. Посреди болота.
– Ну-ка, дайте развитие…
Встав за спиной девушки, он ждал, как та выпутается из ситуации. Иллюзион тоже молчал, колеблясь. Жаба высунула длинный язык и слопала комара. Вскоре еще пара комаров нашли гибель в желудке обжоры. «Ценность…» – проявились задумчивые руны.
И замерцали, не спеша с резюме.
Жаба взлетела в воздух. Кочка под ней трансформировалась в блюдо, по краям художественно выложенное укропом, базиликом и галангалом. Болото – в дорогую ресторацию. Комары – в расторопных кельнеров. Приземлившись на блюдо, жаба вывернулась наизнанку и утратила большую часть тела. Одни лапки, считай, остались – «cuisses de nymphes d\'aurore», если верить меню, раскрытому на странице: «Шеф-повар Огюст Эскоффье рекомендует».
«Ножки нимф утренней зари», – перевел Кручек.
«Ценность утилитарная», – согласился иллюзион.
Доцента взяли сомнения. Он полагал, что в данном случае ценность – избыточная. Но иллюзиону виднее. Пока Кручек размышлял, ресторация исчезла, вновь сменившись болотом. Жаба внаглую жрала комаров, вернув себе исходный вид. Наевшись, она выпучила глаза и надулась. Миг, другой, и из ее зада вывалился крупный рубин. Следом – второй. И третий.
Отрыгнув горсть жемчужин, жаба добилась признания:
«Ценность избыточная. Зафиксировано».
На лбу Марыси выступили капельки пота. Жаба угомонилась, дорогие испражнения расточились туманом. Кто-то шел из глубины болота к жабе, тыча в трясину слегой. Голова квакухи вспучилась трехлучевым гребнем. Гребень быстро твердел, отрываясь от бородавчатой кожи, заворачиваясь кольцом. Раз-два, и жаба причислила себя к сонму коронованых особ.
Сунувшись в тину, она вынырнула обратно со стрелой во рту. Выкаченные зенки приобрели странное, лукавое выражение. На толстой шее сверкнуло колье, очень похожее на то, какое носила профессор Горгауз.
Молодой дворянин, выбравшись из болота, уставился на красавицу, словно ждал фею, а встретил дракона. Волосы дворянина патлами выбивались из-под шляпы. Тонкой струйкой на подбородок текла слюна. Беззвучно шевелились губы, изрыгая брань. Сходство было несомненным, но Кручек не стал заострять на нем внимание.
И заслонять иллюзион Марыси от Хулио Остерляйнена тоже не стал. Сами разберутся. Наше дело – Высокая Наука. А в амурных делах Вечный Странник ногу сломит.
«Ценность пиковая», – подтвердил иллюзион.
– Отлично, – похвалил доцент.
Он хотел продолжить обход, но зачем-то обернулся к гарпии. И понял, что дело плохо.
* * *
В иллюзионе Келены творилась неразбериха.
Ясно видимой оставалась лишь крошечная женщина-птица. Сменив кривые лапы на стройные девичьи ножки, она парила в вышине. Над ней крутилась воронка смерча, уходя в крышку «творильни». Под гарпией кипело бурое месиво. Временами из него проступал горный пик, крыша дворца или крона дерева.
И вновь – кисель, вьюга красок и форм.
«Ей не хватает маны, – догадался Кручек. – Я же предупреждал: не увлекайтесь панорамой!» Вмешаться, а тем более оказать помощь он не имел морального права. Студентка сама должна выстроить пример. Мало маны? – измени, найди другое решение, упрости…
Гарпия хлопнула крыльями, словно рвалась с привязи. Оперение сменило цвет с пестрого на гладко-стальной. Сжались когти лап, кроша дерево скамьи. На алебастровом лбу выступили жилы, как у портового грузчика, вскинувшего на спину тюк с зерном.
Струйка пота пролилась от виска к щеке.
Из бурой пакости вывернулась змея с головой старика. Летучая гадина очень напоминала лейб-малефактора Нексуса при исполнении, особенно в профиль. На взгляд Кручека, гарпия сильно рисковала с аналогиями. Если это делалось сознательно, то зря.
Верной собачонкой змея ластилась к женщине-птице. Из зубастого, отнюдь не старческого рта текли слюни. Казалось, монстр изо всех сил желал помочь хозяйке справиться с бедой. Но не знал – чем. К змее присоединилась еще одна тварь, какой не найти в бестиарии – саранча со жвалами паука. Описав два-три круга, саранча не выдержала, сорвалась во вьюгу и сгинула.
За ней, извиваясь, последовала змея.
Одинокая, маленькая, брошенная даже чудовищами, гарпия парила между жадной воронкой смерча и кашей, подгорающей на огне фитиля. Воздуха оставалось мало. Еще минута, и челюсти сомкнутся. Беззвучно крича, гарпия искала выход – и не находила.
Рядом тихо застонала Марыся.
Доцент обернулся. Капитанская дочка с вниманием, достойным лучшего применения, следила за «творильней» соседки. Глаза девицы лихорадочно блестели. Губы плотно сжались, но стон находил путь наружу. Так узник любой ценой стремится прочь из застенков. Блестящий ручеек пота начал свой путь – от виска к щеке…
Обе студентки сейчас были до изумления похожи: крылатая и бескрылая, взрослая и юная, гарпия и человек.
– Вам плохо? – шепотом спросил доцент. – Хотите выйти?
– Н-нет…
– Все в порядке?
– Д-да…
У Кручека сложилось впечатление, что Марыся врет. И больше всего на свете боится, что ее силой выведут из лаборатории. Пожав плечами, он не стал спорить. Тем паче, в иллюзионе гарпии ситуация стала налаживаться. Невидимые руки разжали челюсти: богатырь, явившийся на подмогу, рвал пасть льву. Смерч поднялся к самой крышке, размазавшись по ней. Глиняные пузыри опали вниз, высвобождая пейзаж.
Ручей, пригорок, стайка рябин. Цветы, похожие на бабочек. Бабочки, похожие на цветы. Крошка Томас Биннори склонился над арфой. Четыре красавицы-феи кружатся, заключив поэта в вечный хоровод, будто драгоценный камень – в оправу.
Красота, уют, покой – и гарпия над головами.
«Неудачный пример, – сделал вывод Кручек. – Очень сложный. И вызывает у зрителя отторжение. Коронный друнгарий за такой пример наградил бы орденом. Желай я убедить реттийцев в агрессивности гарпий, не нашел бы ничего лучшего. Хрупкий мир поэзии, оазис прелести живой – и в небе свора чудовищ, во главе с хищной атаманшей. Вот-вот рухнет на добычу – кромсать, рвать, уничтожать. Иллюзион молчит? Ага, молчит. Ну да, какая тут ценность? Завалит лабораторную, королевская стипендиатка, как пить дать завалит…»
И впрямь, уроды, сопровождавшие гарпию, не вызывали доверия. Барракуды, ядовитый шершнель, змей-старец, похожий на лейб-малефактора; дракон о семи головах… Удивляло, что гарпия справилась с многофигурной композицией. Как ей это удалось?
Ища решение, Кручек испытывал раздражение, смешанное с долей возбуждения. Стоны Марыси – тишайшие, едва уловимые – его отвлекали. В дальнем конце лаборатории захихикали, шушукаясь. Когда Марыся застонала в очередной раз, он догадался сместить зрение в «птичий сектор» – и ахнул.
Мана-фактура с легкостью разоблачала капитанскую дочку – так бывалый ловелас лишает одежды юницу, томную от сладких речей и поцелуев. Хитрая бестия, Марыська тайком успела создать вполне рабочую «пуповину» между собой и гарпией.
Теперь она делилась маной с Келеной.
В сущности, правила этого не запрещали. Если о вмешательстве преподавателя говорилось четко и однозначно, то обмен маной между учащимися рассматривался, как процесс из разряда полезных. Знаний он не отменял – бездельник и неуч оставался в дураках, хоть три ведра маны залей ему за шиворот.
Зарабатывая баллы, студент делал это честно.
Но перелить ману чужому человеку (миксантропу, поправился доцент) – процедура, крайне болезненная для начинающих доноров. Маг высшей квалификации, имея большой опыт трансманипуляций, мог снизить до минимума, а то и вовсе убрать побочные эффекты. Иное дело – первокурснички… Мысленно обругав Марысю дурой, Кручек твердо решил прекратить безобразие.
«Второй обморок на занятии? Ректор с меня три шкуры спустит и три чучела набьет. Извините, сударыни! Никто не требовал демонстрации сложных примеров. Гарпия вполне обошлась бы собственными резервами, найди она простое решение…»
Вглядевшись, он чуть не выругался вслух. Каналов было уже два. Тихоня-Яцек, успешно справившись с заданием, подключился к обмену. Закусив губу, чтоб не разреветься, мальчишка «подписывал в дело» колоссальный резерв, данный ему от природы.
Яцеку приходилось больней, чем Марысе.
Но тихоня крепился.
А в иллюзионе гарпии разразилась битва. Напитавшись дареной маной, свора во главе с крылатой хозяйкой рвала на части голема, частично похожего на поэта. От сходства тошнило. Остатки бурого месива, воплощенные в существе, сопротивлялись врагу с механическим упорством. То ли голем защищал от вторжения райский уголок, то ли являл собой некую аллегорию, рожденную буйной фантазией Келены.
«Ценность пиковая. Зафиксировано».
С какой радости иллюзион углядел в бойне пиковую ценность, доцент не знал. Не знал он и того, в чем проявился отмеченный пик. В извращенном воображении гарпии? В оригинальности драки? Нет, если она рискнет сочинять авантюрьетты, публика вознесет ее выше, чем это сделали бы крылья…
С другой стороны, прибор Жефа-Бомьера чутко реагировал на факты. Ошибка исключалась. Избранный Келеной пример, так или иначе, честно отработал два ценностных аспекта.
Остался третий.
…если она лжёт?!
Кручек огляделся. Курс старательно делал вид, что ничего не происходит. Рядовой практикум, ерунда. Студенты уставились на «творильни», прикидываясь, будто с головой ушли в работу. Но затылки, пунцовые уши, нервная дрожь рук – все утверждало обратное. Большинство ждало, чем кончится дело. Языки чесались, предвкушая сладость сплетен.
Яцек и Марыся держали каналы, подпитывая резерв Келены – опустошаясь, гарпия вновь становилась полнехонька. Еле слышно, чтобы не вызвать гнев куратора, Хулио Остерляйнен крыл последними словами шайку-лейку – гарпию, «капитаншу», сопляка… Виртуоз брани, кастигарий превзошел сам себя. От его проклятий стенки «пуповин» уплотнялись. Полипы, мешающие свободе маноизлияния, рассасывались – или втягивались в псевдоплоть «сосудов».
Боль отступала, уменьшалась, но не исчезала.
Через лабораторию камнем, пущенным из пращи, пролетел миниатюрный флакончик. Ловко поймав его, Хулио выдернул пробку и второпях передал флакон Марысе. Девица отпила часть содержимого, скорчила жуткую гримасу – и поделилась зельем с изнемогающим Яцеком. От дальнего стола им кивал Теодор Равлик. Усач с удовольствием наблюдал, как краски возвращаются на бледные лица доноров.
Чем угостил сокурсников ученик Олора Дымношея, доцент не имел ни малейшего понятия. Оставалось надеяться, что не ядом.
– Стоп!
* * *
Властным пассом Кручек обрубил каналы «пуповин», закольцевав каждый на донора. Операция прошла с блеском. Боль исчезла, помощники-добровольцы вздохнули с облегчением – и зарделись от стыда. Им уже виделась гарпия, летящая вниз головой в бездну незачёта. И они сами – на краю обрыва, с лопнувшими веревками в руках.
Совесть – пристрастный судья.
– Всему курсу – продолжать работу. Кто закончил, повторите для закрепления. Сударыня, – доцент приблизился к Келене, – избранный вами пример впечатляет. Я, правда, не все смог оценить по достоинству… Но речь о другом. Третий аспект я желаю увидеть в вашем, и только вашем исполнении. Соразмеряйте цель и возможности. Плох тот маг, кто бьется лбом в Квадрат Опоры. Вы меня поняли?
Гарпия кивнула. Возбужденная, раскрасневшаяся, девчонка среди равных, она трижды за минуту успела изменить цвет оперения. Ты ведь завтра все забудешь, думал Кручек, глядя на нее. Нет, не забудешь. Отложишь ядрышко про запас, очистив от боли, счастья, потрясения… Так важно ли, что случилось в лаборатории? Если завтра расправится со вчера? – ободрав перья, уничтожив якорь…
Важно, отозвалась гарпия, застыв в ожидании. Потому что случилось. У нас на глазах, с нами, ради нас – случилось. Остальное – не для меня. В полет не берут лишнюю тяжесть. Но рано или поздно мне, усталой, понадобится место для отдыха. Подставишь ладонь?
Мы – очень разные, вздохнул доцент. Очень-очень. Мне не перелететь через эту пропасть. Я толстый и тяжелый. Я упаду.
Пропасть? – удивилась гарпия. – Где?
– Начинайте.
– Какая ценность осталась у меня, мастер?
Двусмысленность вопроса ввергла его в смущение.
– Избыточная.
– Я поняла.
Она не сказала: спасибо. Не поблагодарила сокурсников за помощь. Словно происходящее было абсолютно естественным, и не нуждалось в дополнительных объяснениях. В ответ улыбнулась Марыся: светло и лукаво. Схватив обеими руками голову, раскачивался Яцек, будто молился. Усмешка топорщила усы Теодора. Патлатый Хулио щелкал пальцами, как кастаньетами.
Она не благодарила. Они не ждали благодарности.
Случилось, и ладно.
– У меня есть идея, мастер.
Едва намеченная гарпия взлетела над фитилем. Похожа на бабочку, которая летела на пламя и чудом, пронизав стекло, угодила в чрево фонаря, гарпия-иллюзия была похожа на рисунок ребенка. Крылышки-полотенца, хвост врастопырку. Ветер треплет волосы, превращая их в знамя. Белый дым стлался по «творильне», и казалось, что художник изобразил гарпию углем на листе бумаги.
Внизу, россыпью бликов, проявилась брусчатка. На булыжник легли косые тени домов. Пейзаж требовал минимум усилий. Эскиз к задуманному полотну, не более.
Тени зашевелились. Из темных силуэтов домов, опрокинутых на мостовую, один за другим восставали темные силуэты людей. Простенькие фигурки без лиц. Подражая хороводу фей, люди образовывали кольцо, кружась по брусчатке. В центре – над центром – кольца парила гарпия, и люди тянули к ней руки.
Требуя, угрожая, любопытствуя, ненавидя, умоляя…
За каждым волочился хвост – цепь с якорем на конце. Когда якорь цеплялся за булыжник, человечек спотыкался, опрокидывался на спину, но быстро вскакивал и возвращался к прежнему занятию. Одинаковые, они все же различались. Этот в короне. Тот – с арфой. Третий грозит пальцем. Четвертый – в мантии профессора. Пятый – с алебардой. Корзина цветов. Шпага. Скороводка с блинчиками. Украденный кошель. Мантилья.
Подобие имеет связь с прототипом, вспомнил Кручек собственные слова. Найди связь, и действуй.
Подпрыгивая, человечки старались достать гарпию. Кое-кто раскручивал свою цепь на манер аркана, желая сбить добычу якорем. Иные покидали хоровод, растворяясь в белом дыме. Их место занимали другие.
История, думал Кручек, наблюдая за танцем. Наша история – гулящая девка. Она не знает приличий. Серьезные, воспитанные в духе традиций истории заканчиваются браком – или дракой. Влюбленные идут под венец. Рыцарь убивает дракона. Аплодисменты, господа! А у нас? Началось душевной болезнью поэта, закончилось лабораторной работой по трингулярной империстике.
Где мораль? Где ценность? Утилитарная, избыточная, пиковая – где?! Засунь нашу историю в иллюзион, и на жести не проявится никаких рун.
Словно возражая, иллюзион гарпии вынес вердикт:
«Ценность избыточная. Зафиксировано».
– Хорошо. Я удовлетворен. Внимание, дамы и господа! Мы приступаем ко второму этапу. Ваша задача: на примерах, уже имевших место, проиллюстрировать цели воздействия на объект. Изменение, созидание или разрушение. Напоминаю, что воздействие должно оказывать влияние на императивные аспекты ценностей…
Все склонились к «творильням».
Сгорела в огне пожара метла Хулио. Превратилась в красотку жаба Марыси. Яцек измывался над фолиантом, переплетенным в сафьян – текст исчезал со страниц, потом возникал снова, но с рукописными комментариями на полях. У Теодора цветущий луг чах от засухи, пока не начался дождь. Кто-то оживлял статую. Кто-то менял деньги на лепестки роз.
Три десятка фонарей горели на столах.
Кручек стоял на прежнем месте. Он знал, что в иллюзионе Келены летает женщина-птица. Смешной рисунок ребенка. Летает и ждет. Создание, думал он. Изменение. Разрушение.
– Кажется, получилось, – сказала гарпия. – Вы не посмотрите?
Epilogus
– В тень сидеть? Солнце главец жарит. Обморок падать скверно.
Техайос говорил по-реттийски с жутким акцентом. Фразы юный гарпий строил, как дитя возводит замок на песке – без плана, без чертежей, наплевав на каноны зодчества.
– Не беспокойтесь. Я хорошо переношу жару. Передайте-ка лучше кувшин с водой. Благодарю! А теперь – с вином…
Следуя примеру малабров-кочевников, Матиас Кручек накинул на голову платок, стянув его на лбу шнурком – чтоб не унесло ветром – и щедро полил водой импровизированную «шляпу». Техайос с изумлением воззрился на гостя. Чувствовалось, что «большак-колдун» произвел на юношу огромное впечатление. Превратись гость в камелопарда, гарпий удивился бы меньше.
Самому Кручеку такая метода защиты от палящего солнца, честно говоря, была известна лишь в теории. На практике он применил ее впервые. Делая вид, что ему и пустыня Кара-Кумыз нипочем, профессор смешал в кратере вино с родниковой водой. Местная кислятина отлично утоляла жажду.
И способ проверенный.
Внизу мириадами блесток искрилось море. Так вор вываливает на одеяло шкатулку с драгоценностями, желая полюбоваться добычей. У горизонта лазурь воды сливалась с лазурью неба. Кручек щурился, силясь разглядеть призрачную границу, вздыхал, браня свое зрение, и возвращался взглядом к окрестностям. Желто-серые клыки скал увенчаны пыльными шапками зелени: мирты, оливы, можжевельник. Непослушными вихрами вздымаются одиночки-кипарисы. Крики чаек, ветер посвистывает в ветвях. Суденышко под белым парусом уходит вдаль; по выгоревшему в зените небу плывут фрегаты облаков.
Идиллия!
Он сидел у края обрыва. Внизу море вылизывало узкую кромку пляжа. Волны казались соловьиными язычками. «Локтей сто», – прикинул Кручек высоту. Страшно не было. Тело превратилось в пушинку. Захоти, и взлетай без крыльев или заклинаний. Недаром гарпии гнездятся здесь, на Строфадах.
Переборол сонную лень – и ты уже в небе…
Вспомнив, что резервацию никто не отменял, он отхлебнул еще вина.
– Келайно скоро тут. Рядом напротив. Сосед-остров.
– Я никуда не тороплюсь.
За Келеной отправился отец Техайоса, поручив гостя заботам сына. Юный гарпий чувствовал себя не в своем гнезде. Он не привык к чужакам, и не знал, чем занять «большака-колдуна». А для поддержания непринужденной беседы ему не хватало слов. Он стеснялся, менял цвет оперения на сизый, на розовый…
Завтра, думал Кручек, от этих переживаний не останется и следа. К такому трудно привыкнуть. Признать за собеседником право быть собой. Непохожие вызывают у нас зависть – или жалость. Выбор невелик: «Мне бы так!», либо «Ах, бедняжки!..» Обратная сторона зависти – ненависть. Обратная сторона жалости – презрение. С нашей башни легко судить, но и падать – легко. То, что мы считаем даром судьбы, кто-то сочтет проклятием. Вечный Странник, пора менять профессию! Уйду в философы, лягу под цветущей вишней – кувшин, лепестки, гнозис и, буль-буль, экзегетика…
В гости к Келене он собирался не первый год. Гарпия успела сдать экзамены на степень бакалавра и продолжить обучение в магистратуре. Всякий раз, улетая на каникулы, она приглашала его на Строфады. Профессор благодарил, давал обещание – и откладывал до лучших времен.
Вот они, лучшие.
В городе к гарпии давно привыкли. В столице вообще прибавилось миксантропов. Стараниями капитана Штернблада в лейб-стражу были зачислены два леонида. Его величество подписали указ о введении специальных квот в учебных заведениях. Универмаг, помимо стайки гарпий, осчастливили три молоденькие, но очень перспективные сатирессы. Минотавр изучал медицину в Бравалле, а на юридическом факультете блистал сладкопевец-алконост.
Новые веяния нравились не всем. Однако, как образно выразился Штернблад:
– Где тонко, там и рвем!
С капитаном Кручек ехал в одной карете. Расстались они довольные друг другом и кухней трактиров – кучер понимал, кого везет, и останавливался лишь у приличных заведений. Достигнув побережья, Штернблад нанял лошадь, распрощался с профессором и ускакал к храму Шестирукого Кри. Там он намеревался забрать внука и вдвоем отправиться в Ла Фейри, к сыну Вильгельму.
– День Поминовения, – объяснил капитан, гарцуя у кареты. – Мы всегда встречаемся в этот день. Еще год-два, и я скажу вам, друг мой: традиция!
Кручек не понял, о чем речь, но, как человек деликатный, переспрашивать не стал. Вскоре он добрался до рыбацкого поселка, где темнолицый молчун-лодочник за смешную плату переправил его на ближайший из островов. Назвав имя Келены первому встреченному гарпию, профессор был приятно удивлен: оказывается, его ученицу здесь хорошо знали. Более того – добрая дюжина гарпий, рассевшись на ветках, внимала толстому волхву в халате и чалме.
Высокая Наука пускала корни на Строфадах.
– Они лететь. Радость-радость.
Для верности Техайос указал рукой, выпростав ее из-под крыла. С юго-запада к ним приближалась четверка летунов. Гарпии заходили от солнца, и, кроме угольных силуэтов, Кручек ничего не разглядел. А когда вытер слезы, его обдало порывом ветра – и оказалось, что гарпии уже здесь.
Он и забыл, как быстро они умеют летать!
– Я привел вашу ученицу, мастер, – с достоинством склонил голову отец Техайоса. По-реттийски он говорил не в пример лучше сына. – Не будем вам мешать.
Неуклюжей птичьей походкой отец с сыном заковыляли прочь, сразу сделавшись до крайности похожи.
– Ну, наконец-то! – рассмеялась Келена. – Я уж и не чаяла… Знакомьтесь – мои сыновья, Парон и Феггар.
– Здравствуйте, мастер.
– Мама много о вас рассказывала.
– Как я зверствую на зачетах? – неуклюже пошутил Кручек.
Он старался не смотреть на Келену, сосредоточившись на ее сыновьях. Оба рослые – для гарпий, разумеется! – на ладонь выше матери. Черные кудри, точеные профили. Парон – атлет с торсом борца-тяжеловеса. Небось, в отца уродился. А Феггар пошел в мать – изящный красавец. Алебастр кожи, тонкие руки музыканта…
– У нас есть дело к Техайосу, – братья переглянулись. – Извините, мастер.
– Мы вас оставим.
Понятливые ребята, думал Кручек, наблюдая, как братья взлетают.
– Извините, Матиас, – сказала гарпия. Наедине они давно обходились без чинов. – Я понимаю… Для вас это могло стать большим потрясением. Я сама себя в зеркале не узнаю. Еще не привыкла. Улетала на каникулы девицей, и вот – старуха.
Келена была смущена, хоть и пыталась скрыть это. Не новый облик мучил гарпию – неприятный сюрприз, который она преподнесла гостю. Профессор вспомнил, что завтра Келена забудет о сегодняшней неловкости, но это мало помогло.
– Думала, у меня год-другой в запасе. И не угадала. По правде говоря, я надеялась продержаться до конца обучения. Ну, да ладно. Бросать магистратуру я все равно не собираюсь. Зато я теперь совсем не похожа на вашу жену.
– Ошибаетесь, – улыбаясь, он смотрел на нее, и только на нее. – Если б вы знали, как ошибаетесь! Доживи Агнешка до сегодняшнего дня, она бы выглядела вашей сестрой. Сейчас вы похожи еще больше. По-человечески, что ли?
– Правда?
– Я вам когда-нибудь лгал?
– Наверное, да. Но очень умело. С чего начнем осмотр достопримечательностей?
– С вашего деда. Я мечтаю с ним познакомиться.
– Мой дед улетел к нашим прежним. В позапрошлом году.
– Ох, простите! Я не знал…
– Между прочим, он просил передать вам привет. Как чувствовал, что вы объявитесь…
– Привет? Мне?
– Да. Я вчера с ним виделась. Поздравляла, желала счастья… Матиас, у меня родилась тётя! Очаровательная малышка. Глазки, перышки – копия Стимфала! Дед потрудился на славу.
– Поздравляю…
К такому трудно привыкнуть, мысленно повторил он. Трудно, но необходимо.
– Все-таки вы – тюфяк, Матиас. А налить даме вина?
Потом, когда вино закончилось, они долго сидели на краю обрыва. Молчали, любовались морем. Вдали, рассекая воздух, уходила к югу крупная птица. Орел? Альбатрос? Гарпия? Кручек всматривался до рези в глазах, но зрение отказывало. Давно пора обратиться к магу-медикусу, сделать коррекцию, или окуляры купить…
– Келена, у вас глаза, как у ястреба. Кто там летит?
– Может быть, это наша история?
Он не знал, шутит гарпия, или говорит всерьез.
– Кто?
– Наша нынешняя история. Она улетает, становясь нашей прежней. За грань неба и моря, туда, где начинаются иные пространства. Психономы, миры ваших душ. Я говорю глупости, да? Не смейтесь, Матиас. Я выпила лишку. Вы споили женщину, хитрый волшебник…
А птица все летела, похожая на якорь, заброшенный в небо.
Сентябрь 2007 – январь 2008 г.г.


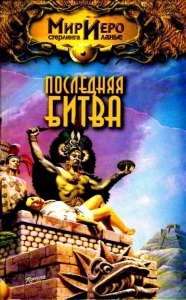


Комментарии к книге «Гарпия», Генри Лайон Олди
Всего 0 комментариев