Лучшее
© Алексей Жарков, дизайн обложки, 2017
Вёрстка Алексей Жарков
Составитель Алексей Жарков
Редактор Дмитрий Костюкевич
ISBN 978-5-4483-3192-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
* * *
Обращение организаторов конкурса к читателям альманаха
Квазар — это галактический объект, далёкий, смертоносный, яркий. Мощность излучения квазара превосходит суммарную мощность звёзд нашей галактики. И в сердце квазара — чёрная дыра…
Так было до июня 2012 года, когда, общаясь в Сети, мы не решили создать рядом с «котлом смертоносного газа» новое литературное состязание.
Теперь «Квазар» — это ещё и конкурс фантастического рассказа. Это — непрекращающийся эксперимент с темами и форматами. Это — адекватная, качественная, удобная конкурсная площадка. Это, как мы надеемся, дружный клуб, в соревновательном духе которого учатся, совершенствуются и делятся опытом.
Это — конкурс для авторов, а не наоборот.
Мы, повзрослевшие дети сетевых конкурсов, хотим, чтобы у новых поколений тоже была своя ухоженная песочница. Мы действительно хотим способствовать росту и развитию молодых писателей. Хотим, чтобы у них была возможность принять участие в честном соревновании, вынести свои фантастические произведения на суд читателя. Хотим, чтобы на литературном небе зажигались новые звёзды.
Самым желанным итогом любого конкурса (смеем надеяться, что на собственном примере постигли такую тонкую материю, как душа человека пишущего) писатель видит бумажную публикацию — выход своего творения на новую орбиту, возможность поставить на книжную полку томик со своим творением.
Долго, но верно. По итогам конкурсов мы отбирали лучшие произведения, формируя альманах, который сейчас перед вами. Победители автоматически попадали в сборник, кого-то мы добирали, опираясь на свой вкус.
В младенчестве конкурса «Квазар» мы сказали, что, как только сборник набухнет от рассказов, приложим все силы, чтобы в воздухе запахло типографской краской.
Этот момент наступил.
Дмитрий Костюкевич Алексей ЖарковМэноимитатор Алена Бушмина
Рассказ победил на конкурсе «Квазар» в июле 2012 года. Всего в конкурсе принимало участие 9 авторов с 21 рассказом.
Легкий осенний сплин стремительно увеличивался в размерах и накрывал темным одеялом, с головой. Как попугая в клетке на ночь, чтоб не болтал.
Пятью минутами «до» я выслушивала строгий монолог доктора:
— Женщина! (Почему все гинекологи называют своих пациенток женщинами? Перед ней карточка, в карточке есть имя. Когда-то меня это оскорбляло. А сейчас ничего, привыкла, за 15 лет активного общения). Вы понимаете, что в вашем возрасте….бла-бла-бла…. Ваш гормональный фон… бла-бла-бла… просто необходимо!!!
Насчет возраста — это она зря. Нормальный у меня возраст. Это только у нас в России в 25 лет совсем еще молодой женщине поперек обменной карты поставят красным — старородящая. За пределами моей несмотря ни на что горячо любимой родины — только в 40 и начинают рожать. Так что зря она насчет возраста. Но в остальном — да, я понимаю. Я понимаю, что необходимо. Я понимаю, что организм — биологическая единица, и ему плевать на твои аналитические выкладки и психологические нюансы. Ему — необходимо. А мне сейчас хочется забиться в норку и впасть в спячку. Ага, кто бы дал. Кто бы вводил мне глюкозу внутривенно. Кушать то хочется. Тоже, кстати, хочется — ему, организму. Вот так, вся жизнь на потребу своей биологической оболочки. Обидно. Ну хотя б души тогда не давали. Так бы и жили счастливо — ели, пили. Ан нет — нам еще духовной пищи подавай. Все, доигралась! Позорище какое! Не с кем-нибудь — со мной, умной-красивой-относительно молодой! Ладно, здоровье действительно дороже. Без здоровья никакая духовная пища не полезет.
Я сглотнула гаденький комок, ставший поперек горла от всех этих безрадостных размышлений, и пошагала по обозначавшемуся в рецепте адресу. К сожалению, шагать было не далеко, и уже минут через десять я входила в неприметный подъезд неприметного же дома. Все мои мысли были уже внутри здания: Интересно, они стоят? Или лежат штабелями? А может, они ходят по офису как девицы легкого поведения в доме своего непостоянного обитания?
— Добрый день!
Администраторша была приветлива как мадам в этом самом доме. Я протянула рецепт.
— МЭНОИМИТАТОР — прочитала она вслух.
Я чуть не расплакалась. Господи, она что, ожидала там увидеть что-то другое?!! Что?!! Аспирин? Валерьянку?!! Она хоть видела табличку над своим местом работы?!!
— Ну пойдемте, милочка…
Я выдохнула. «Милочка» — это даже хуже, чем «женщина».
В своих фантазиях я остановилась на полутемном небольшом помещении со штабелями туго упакованных… мммм… ну мне виделось что-то вроде манекенов.
Мы с Мадам прошли по длинному коридору и зашли в небольшой кабинетик, который мог бы быть весьма уютным, если бы не мое вздернутое состояние. Она грациозно махнула рукой в сторону ярко-красного диванчика, явно облеченного в столь вызывающий цвет для разжигания аппетита Милочек, и, покачивая бедрами, растворилась в коридоре. Тьфу ты… я мысленно смачно плюнула где-то в районе поросячей ножки срамного диванчика и попыталась скромно примоститься на самый его краешек. Однако контраст между моим пасторальным фисташковым платьем и ядовито-красным был столь очевиден, что мне показалось — я села на раскаленные угли, как тот факир из турецкой анимации. Как жеж мне хреново-то! Хотя, в конце концов, ну не я же виновата в том, что мужчин в два раза меньше чем женщин. А это значит, что две женщины претендуют на одного даже самого завалящего. А нам то не надо завалящих! Мы юные гордые девицы лучше будем голодать, чем что попало есть!!! Мы не опустимся! Мы будем ждать! Ну вот и дождалась, милочка, ПрЫнца своего, заводного. Государство позаботилось о нас, невостребованных принцессах. Соорудило Греев из того, что под рукой было, и теперь вот навяливает нам практически бесплатно — тока рецептик покажи, что тебе это действительно необходимо, потому как возраст-гормональный фон и т. д., а не так, побаловаться..
Я наконец набралась смелостью и обвела кабинетик взглядом, но штабелей нигде не заметила. Их что, заводить сюда будут? Всех разом или по одному?
Из коридора хлынул выдавленный бедрами Мадам воздух, а затем вплыла и она сама. Дальше как в сказке про кощееву смерть — из объемного бюста она вытащила конвертик, из конвертика — диск, а из диска, вставленного в DVD, полезли добры молодцы. Ладно, хоть отбор кандидатов оказался не столь болезненным, сколь это рисовалось моему воспаленному уму. Мужчины, совершенно разнообразных возрастов и мастей, дома-на работе-на отдыхе. Все это напоминало мне анкету с сайтов знакомств, благо облазила я их в неимоверном количестве. На втором десятке под давлением ожидающего взгляда Мадам я подумала, что неплохо было бы, наверное, хотя бы выработать ряд параметров, по которым я буду выбирать. Ну нравились же мне какие-то мужчины. Ну, наверное, пусть он будет темненький. Не мальчик, конечно. Как я буду с мальчиком смотреться? Как старушка, выгуливающая болонку? Ну чего там еще… чего еще такого у мужчин можно продифференцировать? Я тупо таращилась в экран.
И тут — бабах! Нет — БАБАХ!!! Как-будто саданули чем-то тяжелым по голове.
Стоп-стоп-стоп!!!! — я заорала, как резаная.
Мадам качнулась от меня в ужасе и грудь ее еще несколько секунд колыхала воздух в кабинетике, в котором вдруг стало так тесно и душно. Почему-то Мадам не усмехнулась саркастически, как я предполагала, а вздохнула с облегчением. Интересно, сколько там у них вообще кандидатов и сколько может продолжаться каторга Мадам в ожидании решения мятущихся девиц?
— Отличный выбор, милочка!
Мадам встала и понесла свой бюст к выходу.
— А что дальше?!
— Доставят на дом— пренебрежительно через плечо, и уже толкает воздух бедрами навстречу новым Милочкам.
Мокрый асфальт-остановка-троллейбус-подъезд-квартира-свет-телевизор-кофе-плед. Все на автомате. Еще немного, и все изменится, все будет не так, как раньше. Ну и пусть — не настоящий. Собственно — какая разница? Так даже лучше. Надоел — выключила, не хочешь — перепрограммируем-заставим.
Дребезжащий звонок в дверь настойчиво требовал выбраться из фантазий и пойти навстречу реальности. Навстречу счастью.
— Привет!
Он стоял на пороге, собственной персоной. И улыбался. Ну что ж, работа у него такая — улыбаться. А я то ожидала посыльного с туго спеленатым мешком под мышкой. Дааа… вот так вот с места в карьер. Ладно, будем разбираться.
Разобраться не успеваю, он уже берет нежно за мою вцепившуюся в дверь руку своей рукой — сухой и неожиданно теплой, и настойчиво отодвигает меня в сторону — чтобы пройти. Вещей нет — все понятно, придется покупать. Не будет же он ходить по дому неглиже, трясти своими винтиками-гаечками. Что там у меня с зарплатой? Нормально, потянем. Заставим стирать-гладить, в качестве компенсации.
Ага, дошел до входа в зал и показывает мне приветливо — проходи, мол. Это мой зал!! Прошла. Что дальше? А, теперь мы на диван приглашаем, в сторону дивана ручкой машет. Его что, в Китае штамповали? По-русски кроме «привета» не знает ничего? Или ему слова не нужны? Хорошо, дошли до дивана, сели. Взял за руку, в глазки заглядывает. А ведь хорош, черт! Не спешит, движения настойчиво-точны, отточены и не приемлют возражений.
— Как меня зовут?
Отличный вопрос! Первый раз с таким сталкиваюсь. Надеюсь — последний. Ну и как же его зовут? Господи, какие мерзкие ассоциации со всеми знакомыми мне мужскими именами. Ну может Раймон — моя первая любовь, моя абсолютная иллюзия — от начала до конца, он даже не посмотрел в мою сторону ни разу, а потому не опорочил ничем своего светлого имени. Ну и сам он был из Латвии, а это вроде как заграница, что добавляло романтики.
— Раймон!
— Как?
Раймон тебя зовут. Тебе нравится?
— Да, нормально. Спасибо, Алевтина.
Боже ты мой! Ну откуда он это выкопал?! А, понятно, из рецепта. Ненавижу свое имя, особенно в развернутом варианте.
— Аля. Просто Аля.
— Раймон и Аля. Отлично звучит, правда?
Похабно. Примерно как Эсмеральда Иванова, была одна такая на моей памяти.
— Конечно, отлично.
Лучше бы он молчал. В его глазах гораздо больше интеллекта, чем в его словах.
— Аля, хочешь, мы с тобой пойдем погуляем? Такая отличная погода!
Отличная, отличная. Господи, да дай ты мне привыкнуть к тому, что в моем доме завелся мужчина… пародия на мужчину. Какая улица, какая погода, у меня голова и так кругом идет!
— Не хочется. Давай чего-нибудь по телеку посмотрим… О, вот это например. Как интересно!
Смотрим. Бандерас и Сталлоне сцепились в схватке не на жизнь, а на смерть. Плевать я на них хотела. Ну хоть отдышусь, пока они там дерутся.
— Аля, а тебе кто больше нравится?
И этот вопрос он задает интеллигентной хотя бы с виду женщине?! Разве может интеллигентной женщине нравиться тупой качок? Конечно, мне нравится жгучий мачо.
— Бандерос
— А мне, Аля, нравится Сталлоне.
Это их так учили, имя каждые 5 секунд повторять?! Сталлоне ему нравится. Как железяке вообще может нравится что-то?!
Я просидела молча до конца фильма. Мне было хорошо рядом со свеженареченным Раймоном, мне было тепло и спокойно, и я никак не могла понять, кто же из нас настоящий, а кто — нет.
Побежали титры. Я поняла, что сейчас наши отношения будут стремительно развиваться, но вот кульминацию никак не могла представить
— Аля, мы будем здесь или пойдем спальню?
Тон деловой, взгляд тоже. Спасибо, Раймон! Избавил меня от мук смущения.
— Пойдем в спальню!
— Хорошо.
Он поцеловал меня длинно-длинно, и я улетела за облака, и я увидела ночное небо, и звезды острыми иглами пронзили меня и остались занозой в самом сердце. Мы остались в зале. Я ничего не помню. Я не могу разложить его действия на какие-то составляющие, я не могу рассказать, что именно и в какой момент он делал. Я не помню. Не было меня в тот момент на моем продавленном диванчике. Я распалась на молекулы и мои молекулы радостно воспользовались всеми своими степенями свободы, вибрировали и наслаждались свободным полетом. Далеким квазаром-маяком пульсировал мой разум, но дотянуться до него не было никакой возможности. А потом моя вселенная схлопнулась и я посмотрела растерянно внутрь себя. Привычной саднящей пустоты там больше не было. Мой сосуд наполнился до краев, и я ощутила свою законченность. И только тогда в мой мозг ворвался его запах, его вкус и тепло его кожи.
У меня такого никогда не было. Любой мужчина, когда-либо побывавший в моей жизни, спешил получить свою порцию тепла и удовольствия и свалить, пока не привязался, пока не привязали, пока жена его не хватилась…
— Ты насколько ко мне?
Я сама не ожидала от себя такого вопроса. Он каким то волшебным образом выплыл из глубин моего подсознания — так испугало меня это небывалое наслаждение.
— Я не знаю.
А кто знает?
Мадам явно не ожидала меня столь скоро. Левая бровь вопросительно качнулась, но вопросом она решила себя не утруждать.
Он насколько…. ко мне?
Я задыхалась — от непривычной пробежки, от страха, от смущения.
— Вы что имеете ввиду? Гарантию? Какие-то проблемы?
Что мне ей сказать? Что, получив его только вчера — сегодня я уже смертельно боюсь потерять его? Даже мне самой это напоминает побасенку про рыдающую жену, которая переживает по поводу того, что ее нерожденный еще сын полезет в погреб и поскользнется.
Вы извините. Я вчера забыла спросить. Мне ж надо как-то сориентироваться. Он на сколько?
— Я вас не понимаю, — Мадам обиженно надула губки. — Мы гарантию даем, он должен был вам передать. Гарантию. На год. А дальше если претензий не будет — пользуйтесь на здоровье. Ваша же вещь. От вас уже зависит, сколько он вам прослужит.
Вещь. А ты что хотела, милочка? Это вещь, да. Скажи спасибо, что хоть гарантию дают. Где ты видела гарантию на мужчину? А здесь если чего — приедут, подкрутят. Я поняла, что пугало меня больше всего. Конечность. У этих отношений не было будущего, да и самих отношений, в общем-то, не было. Связь. Такие узы связывают с любимой игрушкой, собакой, с компьютером. Они нужны, они важны, с ними совсем не хочется расставаться. Но они твои. Они подвластны тебе. И если отбросить все эмоциональные якорьки — ты сможешь сделать с ними все, что угодно. Выбросить, утопить, продать.
Так мой муж когда-то с легкостью ушел от меня. Вот так вот встал и ушел. Я у него тогда спросила, — почему ему так легко далось наше расставание?
Потому что я знал, что браки конечны, — ответил он
Я была его второй женой. Он был моим первым мужем. Мне казалось, что любовь — бесконечна, как вселенная. Но мой муж знал правду с самого начала. И он передал мне, как переходящее красное знамя, это знание о конечности всего — любви, брака. Всего в жизни. Да и самой жизни тоже.
Это ведь весьма распространенное явление — подобное притягивает подобное. Стоит отчаявшейся забеременеть женщине усыновить ребенка — и она беременеет. Если у тебя появился один мужчина, пусть даже и не совсем настоящий — тут-же начинают подтягиваться другие.
Они стояли у порога и молча глядели друг на друга. Несколько секунд, растянувшиеся в вечность, вялый скрип открытой двери. Мой бывший муж по ту сторону, мой настоящий мужчина… мой ненастоящий мужчина по эту, в моей квартире. Я смотрела на них. В визитах Санчо не было ничего удивительного. Он частенько ко мне заглядывал — все еще тянулись из нашей с ним короткой супружеской жизни какие-то дела, цепляли какие-то общие знакомые, связывали общие вещи. Мы расходились тихо и интеллигентно, и поэтому у нас не было повода не общаться. Он жил с девушкой, той самой, что стала поводом. И постоянно повторял, что будет несказанно рад, если и я наконец-то устрою свою личную жизнь. Но мужчину в моей квартире он застал впервые. И я вдруг с удивлением увидела, как непонимание в его глазах стало сменяться злостью. Когда-то это была его квартира, когда-то это была его женщина. Нет, ему казалось, что эта женщина оставалась до последнего его. Бесхозная вещь будет вечно принадлежать старому хозяину. Даже если он давно уже заменил ее на новую.
Раймон не отличался нерешительностью. Мне всегда хотелось сильного мужчину, и это тоже было учтено при прошивке моего дорого. И это был один из парадоксов этого приобретения — моя вещь была хозяином положения.
Входи, — он даже не овлянулся на мою реакцию. Я поняла, что даже спиной он чувствует меня. Санчо, выстроив вокруг себя броню цинизма, вошел. Скинул туфли, не наклоняясь.
Я молчала. Если они захотят поговорить — им будет о чем поговорить. Словарный запас Раймона состоял уже не из десятка предложений, как в начале. Все свободное время, а его было предостаточно, все ночи, которые не требовали от него сна, он сидел за столом, слабо подсвеченный синим мерцанием монитора и жадно вбирал в себя залежи Интернета — от порнушки до философских трактатов. Все, все могло ему пригодиться, чтобы сделать меня счастливее.
Детка, мне нужен мой Лукьяненко..
Мир сошел с ума. Санчо сошел с ума. Я — детка, а Лукьяненко — его. Эти два утверждения были абсурдны. Практически все наше недолгое супружество я была свиномамкой, а Лукьяненко достался мне после переезда моего коллеги. Правда, зачитывался им больше Санчо, когда сидел дома полгода безработным, мне было особо некогда читать. Да-да-да, сама дура, я знаю.
— Дарагой, какой Лукьяненко?! — подал наконец-то голос Раймон. Ух, и с каким акцентом! Разыгрался не на шутку…. — Какой Лукьяненко?! Здес нет никакого Лукьяненко! Здес толка мы с Алевтиночкой!! Да, Алевтиночка?!! — в последней фразе прозвучала угроза… какая-то… кавая-то… веселая угроза! Вроде как — а вот сейчас мы повеселимся!!!
Санчо пошел на Раймона молча и решительно. А я поняла, что не хочу драки только потому, что не знаю, за кого мне переживать больше — за моего бывшего, такого дурного, что жалко его, а жалость — она для женщины порой важнее любви… или за Раймона… да что с ним будет… железка!
Я кинулась между ними, схватила Санчо за локоть, поволокла к выходу. Он вырывался, так, для видимости, но кричал очень даже по-настоящему: «Я убью его, ты же знаешь, я могу! Я вот только ради тебя… не убиваю!!!». «Знаю, знаю…»_ отвечала я, представляя, как отлетает кулак Санчо от бронированной груди Раймона. Эти фантазии заставили меня улыбнуться с умилением… за моей спиной с таким же умилением улыбался нам Раймон и помахивал на прощанье растопыренной ладошкой.
Сильный мужчина… понятие весьма растяжимое. Мужчина силен своим потенциалом или способностью его раскрыть? Да, Раймон может убить Санчо, его не смутят никакие выпады в его адрес и он всегда абсолютно уверен в своей правоте. Но я не уверена, что мой собранный из болтиков, купленный мною и существующий благодаря мне Раймон сильнее моего старенького — издерганного, несовершенного, но он тянул наш быт, выстраивал отношения с моими родственниками и друзьями, он тянул меня, он был настоящим паравозиком, а не просто делал пых-пых, как мой новый друг. Выйти победителем из стычки — это не просто, да. Но ведь мы то живем не на войне. Жить жизнь — это даже сложнее, чем воевать.
Я засыпала с ощущением потери, но эта потеря была сладкой. Моя иллюзия о счастье с непогрешимым принцем растаяла в стычке Совершенного с Живым. Я поняла, что мне нужен живой мужчина, и что я готова мириться с его недостатками, главное — чтобы они были. И, может быть, у нас еще все наладится с Санчо. Я ведь видела сегодня, сколько эмоций было в его глазах. Конечно, наладится! Такая любовь — навсегда! И мы будем счастливы до конца наших дней!
Я — Раймон. Биотехнический организм… или техникобиологический механизм. Так или иначе — это ничего не меняет и абсолютно не важно. Вот человек — биологический организм, но разве именно это передает его сущность? Я личность. И это важнее состава, из которого сделаны мои конечности. Я бесконечно обучаем. Но и это не главное. Важнее то, что я многовариантен. В каждый конкретный момент времени я имею несколько вариантов своих дальнейших действий. И в каждый конкретный момент времени я выбираю дальнейшее свое действие, исходя из своих личность желаний. Я личность. Я сам вершу свою судьбу.
Да, у меня есть Миссия — служить Женщине. И я счастлив, что в отличие от человека мне нет необходимости добрую половину своего существования убить на метания и поиски своей Миссии. Я счастлив, что в отличие от Мужчины, я не стыжусь признать свою Миссию. Мужчины слабы, стыдятся своей сути. Я горжусь собой в своей роли. Я личность, цельная настолько, что немногие из людей могут сравниться со мной.
Вчера встречался с Братом. Все произошло случайно, но настолько вовремя, что эта случайность кажется мне предопределенной. Это был первый Брат, которого я встретил после Инкубатора. Я встретил его возле супермаркета. Также как и я, он спешил купить продуктов, чтобы приготовить достойный обед для своей Женщины. Я не встречал этого Брата в Инкубаторе, но его близость мое сердце почувствовало даже раньше, чем увидели его мои глаза. Разве мог какой-либо Мужчина сравниться с ним? Его осанка, его походка, все его существо выражало крайнюю степень уверенности и умиротворенности.
Тогда, в Инкубаторе, мы еще не знали, что ждет нас в Большом Мире, мы пребывали в радостном ожидании, мы жили стремлением выполнять нашу Миссию. Теперь я знаю и истинное наслаждения от выполнения Миссии, и истинную горечь от препятствий на пути ее выполнения. Я поделился с Братом своими размышлениями. О, как я был рад — мой Брат понял меня с полуслова. Более того — он разделил со мной мои переживания. Также, как и мне, моему Брату хотелось защитить свою Женщину от Мужчин, принесших ей так много бед и страданий.
Я рассказал Брату о вчерашнем происшествии и Брат подтвердил правильность моего поступка. Вчера к нам в Дом приходил Бывший Мужчина моей Женщины. Он сделал ей сначала неприятно, а потом больно. Я выпустил Бывшего Мужчину из Дома, я не хотел, чтобы наше противостояние еще больше испортило настроение моей Женщине. Через десять минут, сославшись на отсутствие продуктов в Доме, я вышел и, ориентируясь по малозаметным деталям, быстро догнал Бывшего Мужчину. Я незаметно следовал за ним, пока он не зашел в темную арку. Там я догнал его и безболезненно умертвил.
Теперь я думаю о том, что на работе, куда каждый день уходит моя Женщина, ей тоже делают неприятно.
О свободе с любовью Александр Шорин
Рассказ победил на конкурсе «Любовь» в феврале 2013 года. Всего в конкурсе принимало участие 23 автора с 36 рассказами.
Этот рассказ был подвергнут цензуре и изменен автором в соответствии с требованиями Роскомнадзора. Оригинальную версию вы можете найти на сайте конкурса «Квазар» по адресу -fant.ru/story/125/text или по ссылкам с главной страницы.
Машинка была мерзкая, китайского производства. Да к тому же еще и б/у. Макс рассматривал ее с сомнением.
Продавец, типчик, вероятно посадивший горло еще в конце прошлого века, когда работал «золото-доллары», смотрел с не меньшим сомнением на покупателя: худой блондинчик с кадыком на длинной шее вызывал у него, судя по всему, какие-то не совсем приятные воспоминания…
Впрочем, Макс молчал, экономя силы.
— Точно будет работать? — в его голосе что-то хрустнуло и надломилось: он не хуже продавца знал, что лох, но это знание ему ничего, кроме досады на самого себя, не приносило.
— Бери или проваливай! — сипло прошипел продавец, терпение которого начинало подходить к концу.
Он знал, что продает кота в мешке.
Макс тоже знал это. Но он еще знал и то, что ему пришлось ради этого дрянного аппарата продать за бесценок почти все свои вещи и залезть в долги, из которых не выбраться вовек.
И оба они знали, что продажа этой машинки карается законом более строго, чем убийство, фальшивомонетничество или продажа тяжелых наркотиков.
— Беру, — выдавил Макс, и полез, наконец, в карман линялых джинсов за толстой пачкой купюр, перетянутых резинкой.
…Лера встретила Макса грустной улыбкой.
Он не снял обувь, даже не расстегнул плащ: просто устало рухнул в угол дивана, на котором она лежала. Лицо его с прикрытыми глазами выражало полную безнадежность.
Она несколько секунд вглядывалась в это лицо, стараясь усмотреть в нем хоть какой-то признак надежды. Не усмотрела, и хотела было уже бессильно откинуться обратно на подушку, как один из его глаз вдруг приоткрылся и глянул в ее сторону. Глаз был веселым и хмельным. Впервые за много дней он отливал перламутром.
Через мгновенье открылся другой глаз, и взгляд его словно высветил и изменил до неузнаваемости всю фигуру.
— Работает!!!
Макс с криком подпрыгнул и начал пританцовывать, выписывая по комнате хитрые пируэты.
— Заяц, она работает! Работает!!!
Лера покрутила у виска и сказала слабым голосом:
— Ты всегда был сумасшедшим.
— А ты как думала? Муж я или кто?!!
Она улыбнулась.
Впервые, с тех пор как врачи поставили ей безнадежный диагноз, на ее лице заиграла светлая улыбка, в которой угадывалась надежда.
…Виталик почесал волосатой рукой, усеянной феньками, немытую босую ступню и продолжал задумчивым голосом:
— В момент наступления смерти нужно нажать кнопочку «Start», и тогда сущность умершего тихо и мирно перетечет вот сюда, — он показал на пластиковый прозрачный корпус заветной машинки. — Если все сделать правильно, цвет жидкости должен измениться. Все просто!
— А каким должен стать цвет? — спросил Макс, прихлебывая пиво из банки.
— Не знаю точно, — ответил Виталик. — Обычно варьируется от бледно — голубого до багрового. Есть теория, что…
— Да погоди ты с теориями! — буркнул Макс. — Дальше-то что?
— Дальше? — голая ступня с хрустом описала в воздухе полукруг. — Дальше ничего.
— Как ничего?
— Аккуратно подзаряжать батареи и копить миллион евро на новое тело.
— А если батареи сядут?
— Значит сядут.
— И что тогда?
— Что тогда? Хм… что тогда…, — он в задумчивости потянулся к початой пачке «Голуаза». — Тогда все, чел, иди и заказывай панихиду.
Из пачки «Голуаза» была вынута не сигарета, как можно было бы ожидать, а папироса «Беломор», туго набитая зеленой смесью. В синем пламени зажигалки она загорелась малиновым, а затем пыхнула сладким тяжелым дымком. Виталик почти скрылся в этом дыму, и губы его почти беззвучно добавили:
— Так сказать за упокой души.
— …Сама я ее нажать не смогу ни при каких обстоятельствах, правильно? — Глаза Леры светились малюсенькими зелеными огоньками, отражаясь от копны черных волос, которые даже сейчас могли бы стать предметом зависти любой модницы.
— Твоя логика как всегда безупречна, заяц, — Макс сосредоточенно дососал сигарету и добавил в дикобраза пепельницы еще одну окурковую иглу. — То есть ты предлагаешь…
— Да, предлагаю. Или ты хочешь сидеть возле меня 24 часа в сутки?
— Но можно позвать Машу…
— Машу нельзя! И Галю нельзя! И даже Сашу!!! Я ревнива, ты забыл?
Он криво усмехнулся. Подумал: чувство юмора умирает последним.
— И?
— И ты убьешь меня!
— НЕТ! НИ-КОГ-ДА! — голос его был тверд.
… — Тогда остается только определить способ. Как там бишь, твоя курсовая называлась, милый? «Апология суицида»?
— «Апология самоубийства».
— Ну вот и тащи ее сюда. Выберем что-нибудь забавное.
Макс подумал: еще недавно с таким же рвением она требовала кулинарную книгу. Он давно не видел ее такой увлеченной.
— «Имейте в виду, если вы попросите друга, ему могут пришить убийство…». Понял, да? Пришьют тебе убийство!
— Угу, — хмыкнул Макс. — Я тебя придушу!
— Придушить? А что это? Любопытно! — она перелистнула несколько страниц. Ага… Вот! «С этого стопроцентного газа вы весело отъедете…». Писал человек с чувством юмора!
— Вот сейчас огрею чем-нибудь по голове! — Макс сделал зверское лицо. — И отъедешь… С чувством юмора!
…задумчивость с оттенком раздражения.
— Тебе все не то и все не это!
Он (бледный) продолжал гнуть свое:
— Ну, сама послушай: при смерти от удушья мучения могут длиться до десяти минут, при этом человек находится в сознании. Особенно часто это происходит при небольшом весе человека.
— Ладно, дальше.
— Так-так… Утопление. Тоже неблагородный вид смерти. Недаром на Руси считалось, что даже утонувший не по собственной воле в рай не попадет. Обычно такой покойник имеет синий цвет… Прыгнуть с высоты? Это нам вообще не походит… может харакири, а?
— Молчи, паскуда! Дальше ищи.
— Слушаюсь! Отравление… этот способ может считаться приемлемым для женщин… Каково, а? Но! Человек, серьезно желающий окончить свою жизнь, подобными способами не пользуется… Откачают!
— Меня не откачают! Ладно, отложим пока. Что там еще?
— Сильная доза вещества Н. Считается сладкой смертью.
— Уже лучше. Еще?
— Вскрытие вен. Поезд, электричка, автомобиль… Нет, это не годится… Вот еще. Бр-р-р! Далее: огнестрельное оружие. Здравствуй Хэм: голый палец ноги на курок длинностволки… И я собираю мозги по всей комнате. Годится?
— Дальше читай (Максу показалось, что у нее скрипнули зубы).
— Хм… Отравление газом. Было, да? Холодное оружие. Как там у классиков: «О, жадный Ромео…».
— Нож я тебе не дам — поранишься еще… Граната, взрывчатка. Змея (привет Клеопатре). Выпить сжиженный Ф… Электричество. Отказ от пищи, наконец…
Вдруг он, почти не делая паузы, зарыдал.
Потом завыл.
— Маленький, мы что… Это серьезно?
— Есть еще один способ, — отозвалась она, глаза ее были сухи и холодны. — Думаю, никто еще не умирал таким образом.
Он посмотрел на нее сквозь ливневую пелену.
— Я ложусь на кровать и ничего не делаю. Я просто хочу умереть, и смерть наступает.
…Самоубийца умер после третьего нажатия курка. Негромкий хлопок, и все застыло. Через долю секунды сидящий человек откинул голову набок и замер. Камера снимала уже мертвеца. Прошло секунд десять, и из раны в виске медленно вытек мозг. Он полился с хлюпанием, как компот из банки. Камера крутилась еще несколько десятков минут.
Лера нажала «Reset» и все повторилось. Потом еще раз.
Еще.
И еще.
— Прекрати! — голос Макса сорвался на визг.
От бессонницы его мутило.
…Бормочет:
— Олеандр. Принято считать, что один лист должен убивать взрослого человека. Это неправда.
Парацетамол. Тайленол. Ацетаминофен. Фатальны в конечном счете, но агония мучительной смерти от разрушения печени может продолжаться несколько дней или недель…
Антидепрессанты. Хм. Стали бы прописывать депрессующим личностям медикаменты, которые могли бы быть использованы для суицида?
Снотворное… Практически невозможно убить себя передозировкой таблеток, которые продаются свободно.
Резать вены… Очень неэффективно.
…Бормочет:
— Тошнота, рвота, бледность кожных покровов, цианоз, озноб, расширение зрачков, нечеткость зрения, тремор, судороги, затруднение дыхания, кома.
Тошнота, рвота, тенезмы, боль в животе, понос. В тяжелых случаях кровавый стул, гематурия, острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Саливация, тошнота, рвота, боль в животе, озноб, сонливость, тремор, тонические судороги, кома, угнетение дыхания.
Шум в ушах, тошнота, рвота, общая слабость, снижение температуры, одышка, сердцебиение.
Резкая слабость, головокружение, сухость во рту, тошнота. Возможно появление судорог, потеря сознания. Коматозное состояние.
Цианоз губ, ушей, лица, конечностей вследствие острой метгемоглобинемии.
Сонливость, мышечная слабость, снижение температуры тела. Кома.
Сухость во рту и глотке, расстройство речи и глотания, нарушение ближнего видения, диплопия, светобоязнь, сердцебиение, одышка, головная боль…
Она не заметила, как он бледной тенью встал рядом.
Подняла глаза, гортанно крикнула:
— Изыди!
И захлебнулась истерикой.
…
— Лера, ты не видела мой трубочный табак?
… — Никотин. Психотропное (возбуждающее), нейротоксическое (холинолитическое, судорожное) действие. Токсическая концентрация в крови — 5 мл/л, смертельная доза — 10–22 мг/л. Быстро всасывается слизистыми оболочками, в организме быстро метаболизируется…
… — Дави… свою… машинку.
Холодный пот побежал со лба вниз. Потом потекла ниточка слюны. Ее вырвало. Тело начало биться в судорогах.
Макс рванул к ней, положил на колени ее голову. Заглянул в глаза. Увидел суженные в острые иголочки зрачки.
— Нет. Не-е-е-т!!! Постой, маленький! Что ты делаешь?
…Опомнился. Рванул за машинкой, давя дрожащими пальцами на кнопку. Она оставалась мертва.
Впрочем, как и Лера.
— УУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!
Продолжая выть, он с хрустом сжал мерзкую машинку в руке, и со всей мочи швырнул об шкаф.
Вдребезги.
…И не заметил, как бледно-голубая жидкость начала ме-е-е-дленно вытекать из пластикового корпуса адской машинки.
Как раз в эту минуту откуда-то снизу начали отчаянно колотить по батарее рассерженные соседи.
* * *
…В гробу я её поцеловал. В лоб. И испытал шок. И это всё решило, внутренне, до содрогания. Здесь, в гробу, её не было — то, что я поцеловал, к человеческому телу не имело ни малейшего отношения: словно я поцеловал камень. Или холодную землю. Нет, наверное, в них жизни больше.
И я испытал то же самое чувство конечности (или кончености?), о котором столько раз читал и слушал, как о пережитках прошлого тысячелетия.
Слёзы. Наш век превратил в гнуснейший фарс даже самое святое — её величество смерть.
Смерть. Мы с Лерой о ней частенько говорили часами. Наряду с Шопенгауэром, по которому нужно сдавать доклад. Наряду с новой войной на Балканах. Наряду с пришельцами и вчерашними снами.
Ещё бы — возможность реинкарнации, подаренная людям французскими биологами, на деле вызвала больше бед и волнений, чем это можно было себе представить. Деньги, и до этого значившие слишком много, стали мерилом всего, даже жизни. Прослойке богатых они теперь дарили вечную молодость и здоровье, а вместе с ними — вседозволенность и скуку. От безделья богачи порождали бесстрашных солдат и террористов-камикадзе, поклонников де Сада, убийц и самоубийц.
У бедных такое положение вещей порождало злобу и ненависть, у иных — стимул к необычному воплощению своих фантазий. И у всех нас — мерзкое чувство фальши на похоронах любимых.
И закрадывается в душу пакостное: лучше бы уж навсегда! Лучше бы конечно!
Как бы не так! Кому, как не мне, знать, что где-то сейчас в этом долбаном Париже, как водится — в офисе, что возле Эйфелевой башни (столько раз мы его видели в новостях!) тому, что ещё вчера на самом деле было моей девушкой, добросовестные служащие придают персональный код. И шлется запрос на реинкарнацию, и проверяются банковские счета. Да откуда им взяться у русской студентки? Или у её родственников? Впрочем, если бы у них и были — волчье правило: каждый за себя. Вот пролить слезы над гробом — другое дело!
Дальше процедура проста. То, что древние называли «душой», будет законсервировано. Ровно на три года. Потом — или отпускают «на небеса» или продают частным лицам.
Лера, господи! Можно ли законсервировать разлёт твоих чёрных волос? А твои губы? Твои сны? Твой доклад по Шопенгауэру? Старик Мэйсон бы в гробу перевернулся, если бы знал, что его могут подвергнуть такой консервации.
Что у тебя сейчас есть, Лера? И можно ли это «что-то» назвать жизнью?
Впрочем, у тебя есть я, в прошлом — вечный студент, а ныне неудачник.
Впрочем, об этом говорить не принято. Как закон: накопил нужную сумму — получи новую жизнь. Не накопил — значит, не повезло. О трёхгодовой консервации все молчат.
Говорят даже, что это лишь рекламный трюк. Ещё говорят — это для науки. На самом деле — деньги и тут всё решают. Мало ли какие случаи бывают: есть люди, вся ценность которых познаётся лишь после ухода из жизни. Мало ли благотворительных фондов?
А объявления типа «верните мне сына (брата, мужа)»? Может, кто и насобирал по нитке…
А нашумевший скандал о воскрешённых и проданных в рабство, о котором до сих пор спорят в судах? А преднамеренные убийства? А скидка на ошибку в реинкарнации, в конце-то концов!
Для нас всё это — где-то там. Кому мы нужны — и при жизни и после неё?
Кому ты нужна, Лерочка?
Кому?
Как кому? А МНЕ?
Чувствовать себя бедным — плохо. А подлецом — совсем никуда. Как жить?
* * *
— Ты идиот!
Мой друг Юрка всегда прагматичен и прямолинеен. Думаю, эти качества сделают его со временем большим учёным, как он и мечтает. Наверное, и реинкарнацию заслужит. Лет через пятьдесят. К его словесной порке я готов, даже получаю удовольствие — и он и я знаем, что поступлю я всё равно по-своему.
— Это фикция, понимаешь? Ты в свои двадцать с хвостиком не то что на квартиру, на приличные ботинки не смог заработать. Забудь и живи дальше. Много ты знаешь реинкарнированных?
Он прав. Прав настолько, что даже спорить не о чём. В среде наших знакомых реинкарнированных не больше, чем высаживавшихся на Марсе.
— Принимаю. Но должен же я попробовать хоть что-то сделать?
— Забудь. Нереально. Ты хоть знаешь, сколько это стоит?
— Знаю, конечно. Миллион евро. Это все знают.
— Вот именно. Один! Миллион! Евро!!!
— Юр, это всего лишь деньги.
— Ну да, а у тебя есть всего лишь жизнь. Ты что решил — банк ограбить?
— Да нет. Но ты не одобришь.
Про меня говорят, что в критические минуты я умею собраться. Сам я, правда, в этом не уверен, но всё же пустым слезам предпочитаю действия. Хоть какие-нибудь.
Умение подчинить все свои действия единой цели часто позволяло мне выкручиваться из самых плохих ситуаций. Даже тогда, когда у всех прочих опускались руки.
— Ты лентяй! — обычно говорила Лера, прекрасно зная об этом моём качестве. — Ты начинаешь что-то делать только тогда, когда тебя припёрли к стенке! И думать ты тоже начинаешь только…
— Неправда, думаю я всегда! — отвечал я.
— Ну да! О том, в каком бы ещё месте заняться со мной сексом! Или о том, у какой из твоих однокурсниц красивее задница!
— Не только об этом!
В такие моменты я обычно сгребал её в охапку и пытался поцеловать, а она очень активно уворачивалась.
И нам было хорошо вместе: моего упорства, несмотря на склонность к лени, вполне хватало на то, чтобы оплачивать сначала отдельную комнату студенческого общежития, а потом и квартиру. А заработка — на еду, сигареты и нехитрые развлечения типа кинотеатров.
Конечно же — залез в Интернет. Первым делом меня заинтересовала формальная процедура. Она оказалась предельно проста: для реинкарнации нужно перечислить на счёт сумму-стандарт в любой свободно конвертируемой валюте плюс стандарт-анкета личности, которую требуется «оживить». Идентификация — за счёт фирмы. Как они её проводят — их личный секрет.
На всякий случай просмотрел бланк стандарт-анкеты. Ничего особенного — даже время смерти можно указывать приблизительно. Как они со всем этим разбираются? Будь у меня личный счёт с нужной суммой, я мог бы отправить такую анкету прямо сейчас.
Так что вопрос действительно упирался в деньги.
Потратив ещё несколько часов, я убедился, что возможностей не так уж и много.
Можно подать международную заявку о том, что данная личность является «значимой для человечества». Можно просить денег у всех и вся, по типу «люди добрые…». Можно… ну действительно попытаться банк ограбить — чистой воды самоубийство, если делать это без должной проработки.
Что ещё?
В поисках лазейки я бродил по «поисковикам» бесконечными лабиринтами час за часом. Когда из банки кофе были вытрясены последние граммы, а пепельница укоризненно ощерилась на меня окурками, мелькнул слабый отблеск надежды.
Франция — держава, у которой эксклюзивные права на реинкарнацию — предоставляла всем своим солдатам право на вторую жизнь, если было признано, что смерть наступала при несении военной службы. И тут же рядом — душещипательная история рядового Джонни Уэйна (солдата иностранного легиона, англичанина по рождению), который отказался от этого права в пользу безвременно ушедшей супруги.
Вот оно! Живут же люди! Помимо Франции армии всех стран мира делали «бессмертными» только лучшие, самые элитные отряды. А тут — рядовой. Вот что значит страна-монополист! Кажется, я нащупал шанс.
Ещё через несколько минут я уже читал русскую версию сайта французского Иностранного легиона. Прогребаясь сквозь века истории и девизов, я нашёл то, что нужно: легионер имеет право на «оживление», если погибает, находясь на службе, а через три года службы получает гражданство Франции и право на «однократное оживление», которое можно передать другому лицу. Такое право будет действовать, даже если легионер покинет службу.
Лихорадочно я пролистал требования к будущему легионеру: физическая подготовка на среднем уровне, психологическое и интеллектуальное тестирование. Возрастной ценз (до 35 лет включительно). Всё. Даже знание языка было необязательным.
Это всё решило…
* * *
— Макс — это ты, мне не мерещится?
— А что, не похож?
Он потеребил пальцами свою бородку, изрядно поседевшую.
— Да так… Слегка постарел… Объясни мне, что за хрень со мной происходит?
Видел я его странно, словно через видеокамеру.
— А сам не догадался? — улыбнулся тот. — Ты сейчас в системе компьютера, в тестовом режиме. Ладно, сделаем чуть удобнее.
Он протянул руку куда-то в сторону и навалилась тьма.
… — Так немного лучше? — Он улыбался, сидя на диване и прихлебывая что-то из кружки. — Извини, тебе не предлагаю.
Я не сразу понял, что со мной произошло. А когда до меня дошло, слов было много, но в основном матерные: вместо рук у меня были металлические трубы с щупами, а ног не было вообще: вместо них — колёсики.
Макс ждал, улыбаясь.
— Слушай, друг, — сказал я, всё ещё приходя в себя. — А не боишься, что я тебя вот этим щупом (я поднял свою так называемую руку вверх) тресну по башке за такие шуточки?
— Неа, не боюсь, — засмеялся он и щёлкнул пальцами.
Я почувствовал, что не могу пошевелиться.
— Всё просто, — продолжил он и вновь щёлкнул пальцами. — Ты совершенно безопасен. Собственно это даже не ты, это мой домашний робот, его зовут Кеша. Я просто отключил его ненадолго, чтоб нам удобнее было поговорить.
— Понятно, — буркнул я, хотя мне было ничего непонятно. И только сейчас заметил, что говорю не своим обычным голосом, а каким-то незнакомым баритоном. Но это уже были мелочи по сравнению со всем остальным…
— Ты не в курсе, но мы не виделись восемь лет, — сказал он медленно. — За это время кое-что поменялось. Ты теперь не человек, а флешка, точнее — биофлешка. Ну что, поговорим?
— А у меня есть выбор?
— Выбор есть всегда. Даже когда его нет, — ответил он наконец серьёзно.
…Я умер впервые в конце ХХV века, он — тридцатью годами позже, но в иностранном легионе, куда нас с ним занесла судьба, мы не просто сработались, мы подружились и не раз спасали друг другу жизни — если, конечно, можно считать ценностью жизнь, когда регулярно умираешь и так же регулярно получаешь новое тело, постепенно забывая, как же ты выглядел, когда был в своём первом и настоящем обличье. Мы оба были пионерами в освоении бессмертия, я — благодаря случайности, он — несчастной любви…
Мы учились умирать и оживать. Умирать, доверяя напарнику, и оставаться в живых, расставляя ловушки душ для других…
А потом времена изменились…
— Раньше всегда казалось, что можно уйти хотя бы с помощью самоубийства. — Макс всегда был склонен немного пофилософствовать. — Теперь этого выбора нет.
— Глобальные гиперловушки? — догадался я.
— Ага, — сказал он. — Наши старые добрые ловушки, которые мы носили у пояса, которые стали так популярными благодаря телешоу «Любовь к смерти», теперь вне закона.
Я поморщился. Новая эра человечества — эра бессмертия — началась, как и любая новая эра, с беспредела: сначала богачи развлекались убийствами, расплачиваясь с жертвами новыми телами в качестве компенсации, а потом смерть в прямом эфире взяли на вооружение телевизионщики…
— Но эти ловушки ещё в ходу? Я ведь здесь…
— Нет, они уже в прошлом. Им (он выразительно показал пальцем вверх) удалось запустить всемирную гиперловушку душ такой мощности, что все старые ловушки перестали работать. Так сказать, насильственный контроль всемирного государства…
— А как же…
— Как же ты здесь? — Он снова улыбнулся. — А это не ты, это биофлешка.
— Черт, да что это такое! Объясни.
— Новая технология. — Он порылся в кармане и достал небольшую пластину, действительно напоминающую по форме древнюю флешку. — Душа закачивается туда под большим давлением. Разово. Разрушить её можно, но смысла в этом нет: в этом случае ты вновь попадёшь в глобальную гиперловушку. И снова попадёшь в такую же биофлешку, только получишь другой номер — и всех делов…
— Так ты…
— Ага. Я просто тебя купил.
— Твою мать, — вырвалось у меня.
— Это новая политика по облагодетельствованию всего человечества, — Макс вновь улыбнулся, но на этот раз — невесело. Направленная на то, чтобы прекратить весь тот хаос, который начался с приходом Эры бессмертия.
— Не понял. Как эта политика может что-то изменить?
— Может. Когда ты был ещё жив в последнем из своих тел, какой был главный стимул жизни большинства людей?
— Понятно какой: «Накопи миллион евро и купи себе новую жизнь».
— Во-от! А теперь всё по-другому. Теперь политика такая: «Живи полной жизнью сегодня, на новую жизнь заработаешь завтра».
— Это… как?
— Да всё очень просто. Заявили о том, что на всех желающих не хватает биоматериала и резко подняли цены с миллиона евро сразу до 50 миллионов. А в качестве компенсации создали спецкомиссии по бесплатному оживлению «интеллектуальной элиты человечества» и ещё… разрешили работать мёртвым.
Если б у меня была челюсть, она б отвисла.
— Работать… мёртвым?
— Ага. Ты, например, можешь водить машину, если я подключу тебя к системе автовождения, можешь быть моим домашним роботом. Ну или самое популярное: можешь быть менеджером по продажам в Интернете. Компаниям это очень удобно: тебе не нужна квартира, еда, одежда… Тебе даже жена не нужна: идеальный работник, который нуждается только в перечислениях на его счёт.
— Но это же…
— Ага, правильно. Это рабство. Только это всех устраивает, потому что господа-то — все живые, а рабы — мёртвые, и за свои права постоять не могут.
— Но… подожди… А как же все те, что копили заветную сумму в миллион евро на новое тело? Они… разве они не возмущаются?
— Они (он снова указал пальцем вверх) решили и эту проблему: одно тело — бесплатно. Для всех сразу после смерти. Но только один раз. Второе — 50 миллионов. И думаю, цена будет расти. Против могут быть только мёртвые. Которые становятся рабами… Возвращаемся к тому, что протестовать они не могут.
— Гениально по-своему, — признал я. — Так я… Я — твой раб?
— Ага, — засмеялся он.
— Но тут же снова посерьёзнел и добавил:
— Формально — так. Но ещё ты мой друг. И мы оба знаем, что значит умирать и оживать. Поэтому я решил подарить тебе положенное мне по закону бесплатное тело. Имею право.
— И почему ты выбрал… Почему меня?
— Потому что ненавижу рабство.
… — И это решит проблему?
— Мы с тобой сами были… рабами. Всю жизнь… Вернее все наши жизни. Разве не так?
— Но что даст разрушение гиперловушки?
— Все умершие обретут свободу, они имеют на это право.
— Но… люди не перестанут умирать. А ловушку построят новую.
— Правильно, но те, кто сейчас не имеют выбора, получат свободу.
Я задумался над его словами. А потом до меня дошло, почему он это делает.
— Твоя… девушка… Лера…
— Моя жена, — поправил он.
— Твоя… жена. Её не оказалось в числе тех, кого ты мог… Мог купить, как меня? Так? А иначе я бы сейчас здесь не сидел, так?
— Угадал, — ответил он. — Она ушла. Ушла навсегда. И если я не сделаю то, что хочу сейчас сделать…
— То вы уже не встретитесь никогда. Там, далеко, где настоящая смерть, так?
— Так. Снова угадал. Бинго! Так ты со мной?
— А у меня есть выбор?
— Выбор есть всегда. Твой выбор или помочь мне… покончить с собой, либо стать рабом.
— Такой выбор — считай что его нет… Я тоже против рабства, так что по рукам.
Я протянул ему клешню, по которой он звонко ударил.
Идея Макса была бредовой, но что-то в ней было настоящее. Или даже не так — что-то стоящее. Что-то такое, за что мне, старику, стоило умереть. В конце концов не в первый раз…
Личная Мария Анфилофьева
Рассказ занял третье место на конкурсе «Любовь»
в номинации «Самая интересная идея».
Что может быть хуже фанатика обыкновенного? Фанатик от писательства.
Почему? Ну-у-у.
Когда это начинаешь понимать? Когда на твои сто сорок квадратных метров уже переехала Чижова со всеми своими тараканами. Воешь потихоньку, только поздно.
Нет, я не придираюсь. Просто в чем дело… Обманутые ожидания, понимаете? Я думал — просто милая девочка, не дура, готовит вкусно. Красивая. Секс прекрасный. Со странностями, конечно, но кто без них. И съехаться-то предложил без задних мыслей. Если кидаться громкими словами… можно даже сказать, что люблю. Что-то вроде.
(Она меня, разумеется, нет. Но это временно.)
В общем, мне казалось там всего вот столечко чего-то не того, что придется терпеть. На самом деле я просто видел все в профиль.
Ты — спрашивал, — кем работаешь? Она юлила, выкручивалась, но в итоге сошлись на каких-то текстах и фрилансерстве. Я решил, что копирайтер и особенно не вдавался — никто же не любит про работу. Я, появляясь в конторе, пашу как проклятый, если кто-то вне офиса произносит «йогурт», то хочется убивать. Никогда не открывайте собственный бизнес, дети. Вышью на знамени, оставлю будущему сыну.
Это, как бы, первое. Она писатель. Нет, даже ОНА — ПИСАТЕЛЬ. Я считаю, что это не профессия, а что-то типа душевной болезни. У кого-то мания величия, кому-то так.
На вопрос «А что же ты пишешь?» неизменно следует один ответ: «Плохую фантастику». С просьбой дать почитать меня сразу отправляют в далекий пеший поход, а если я неприлично близко подхожу к столу, когда она двумя пальцами набирает свои тексты — то монитор чаще всего падает. Стася ведь кидается спасать его от меня, закрывает экран грудью, безумно верещит что-то про личное пространство. Удивляюсь, как еще не разбила.
Потом начинается: ты меня с мысли сбил, дурак! Не смей меня трогать! Терпеть не могу!
И опять к клавиатуре. Помучается, помечется с час, потом поймет, что несолидно играть в шарики, прикрываясь поиском вдохновения. Приходит мириться, блинчики какие-нибудь печет.
Вроде и ничего, да?
Когда я возмущаюсь, Чижова мрачно отвечает: ну и что, я тоже в твою работу не вникаю. Да пожалуйста, заявляю я, приходи, копайся в бумагах, в телефоне, что мне скрывать ужасного! Тим, ну, я же не копаюсь, отвечает она.
И все. Непробиваемо. «Мама сказала — деньги в бидо-оне».
Деньги у нее, кстати, водятся.
В состоянии «пишется» она не замечает ничего. Уползает к себе в кабинет, отныне для нее на ближайшие сутки-двое все умерли. Уговаривать спать бесполезно, стоит иногда подсовывать что-нибудь съедобное, раз в день намекать про душ. Если она не гонит меня взашей сразу же, то последующее общение происходит по типичной схеме:
Стасечка.
Угу.
Сегодня выходной вообще-то.
Мммм.
Не хочешь сходить куда-нибудь?
Хммм.
Мы с тобой сто лет уже не выбирались.
Ага.
Может, хочешь на море слетать? Я отпуск возьму. С одной стороны, становится значительно проще и безопаснее говорить вообще о чем угодно, даже нелюбимых авторов обсуждает вполне спокойно («И „Ярмарка тщеславия“ исключительно хороша.» — «Угу» — «Правда, он гений?» — «Мммм»). С другой — для такой жизни можно было завести хомяка, в конце концов. Тоскливо.
После запойного нажимания кнопок она спит буквально пару часов, потом на нее находит раскаяние и режим электровеника. Что-то гладит, что-то стирает, балкон разобрала, там даже курить теперь возможно, переклеила обои в коридоре. Выползает из безразмерных футболок в платья, сооружает прически и красит ресницы.
Господи, — говорю я, — неужели ты внял моим молитвам и выделили мне настоящую женщину вместо той бездушной трески? Спасибо, господи!
Получаю подзатыльник и искренне радуюсь.
Первое, в общем, тем и плохо: она пишет. Там еще много чего, но это, хотя бы, можно объяснить.
Со вторым сложнее.
Казалось бы, если человек взаправду сочиняет что-то фантастическое, то он должен быть если не ярым скептиком, то хотя бы реалистом. Вроде как сложно при этом страдать суеверностью и прочими глупостями.
Не сложно.
И зачем это? — спросил я, впервые наступив на кухне в блюдце с молоком. Стася отмахнулась. На тот момент мы жили вместе уже больше месяца.
Нет, ну зачем? — не успокаивался я ближайшие четверть часа.
Ты не поймешь.
Чижова!
Хорошо. Хорошо, пообещай, что никуда его не переставишь.
Йогуртами клянусь.
Это для Мураша.
Сомнения закрадывались уже давно, причем разные.
Пожалуйста, скажи, что это твой любовник. — Попросил я.
Это домовой.
Я выругался.
Наверное, надо было начать всерьез что-то подозревать раньше. Например, когда она, только переехав, исписала все дверные косяки значками «на случай чего» (дизайнерские двери. были).
Что за деревенские глупости? Стась, что происходит?
Сам ты глупости.
Ладно, допустим, у меня тут действительно живет домовой. Почему я его раньше никогда не видел?
Потому что ты вообще невнимательный, Тимофей. Я вот покрасилась на днях, так даже не заметил.
Я всмотрелся в Стаськину копну. Вроде, как были черные кудряшки, так и остались.
Ну конечно заметил! Тебе, между прочим, очень идет.
Вот видишь. А я не красилась.
Иногда ее хочется задушить подушкой.
Милая, тебе же не двенадцать лет, может пора как-нибудь отодвинуть сказки подальше?
Может мне вообще съехать?
Я задумался.
В этом есть что-то здравое. И шампунь у меня останется один, как у нормальных людей. А домового этого ты с собой заберешь?
Она вышла из комнаты, не отвечая на глупые вопросы. Ну ты и скотина, Тихомиров, подумалось мне. Мало того, что постоянно мешаешь жить любимой женщине, так еще и издеваешься.
Пусть уж сказки, чем бы ни тешилась.
Блюдце осталось на том же месте.
Стася в приличном настроении периодически хуже Стаси в унынии.
Поймите меня правильно: я хочу, чтобы ей было хорошо, меня раздражают некоторые моменты, но я честно терплю.
Например, постель. Все прекрасно, все отлично. Только она буквально через десять минут опять начинает невзначай меня поглаживать и покусывать за ухо.
Нет, — мужественно отвечаю я.
Да-а-а, — тянет она. И начинает давить на всякие там «мой герой» и «неужели тебе не нравится». Героем-то, разумеется, выглядеть хочется.
Но еще через полчаса я уже непокобелим. Нет, не лезь, я устал, хватит, это ты можешь до полудня валяться, а мне вставать в семь. Нет, нет, я сказал! Ну что же ты делаешь-то, ох…
Слушай, может ты будешь энергию девать куда-нибудь в мирных целях, а? — почти традиционно спрашиваю я после.
Как скажешь, — послушно отвечает она, — Завтра же потолки перекрашу.
Никогда с этой женщиной не поймешь: шутит или всерьез. С нее ведь станется.
В паре всегда один маленький и глупый, а второй отвечает на вопросы. Это несправедливо. Мне хочется снисходительно разъяснять, а раз за разом совпадает наоборот.
Признайся, откуда у тебя свои деньги? Помимо того, что приношу я?
Ну… Меня же все-таки печатают.
Каждую неделю? Быть не может.
Тогда я спекулирую приворотным зельем, так лучше?
Правда? — наивно повелся я.
Она поманила меня в кухню, где что-то остывало на плите в кастрюльке. Я сунул нос — розоватая густая бурда, запах приторный такой…
Да ну, ты врешь. Это просто кисель.
Как скажешь. Помоги, пожалуйста, по пузырькам разлить, а то кастрюля тяжелая.
Я ухватился за ручки.
Приворотные зелья никто уже почти не делает, — продолжила она — трудоемко и срок действия короткий.
Отвечать явно было лишним.
К тому же, там после процедура глупая: и заговаривать надо, и волосы добавлять, потом еще размешать в кислом, чтобы не чувствовалось. Варварство какое-то.
Не то слово.
Заговор нашелся в интернете — тра-та-та, чтобы сердце твое горело, да в глазах тоска, все дороги ко мне, все пути к любви нежданной, что-то там еще.
Вот и все. — пробормотал я сам себе, разглядывая утащенную розоватую бутылочку. — Тимофей Сергеич, давно ли вы чувствовали себя идиотом? А сожительниц своих когда привораживали?
Через пару дней Стася отпихнула предлагаемый стакан с апельсиновым соком и жалостливо взглянула на меня.
Тим, это же был просто кисель. Тебе лет сколько, двенадцать?
Кажется, я ей уже не верю.
«Доктор, моя женщина от меня сбегает. Помогите.
Мало того, что она мне не доверяет, так теперь пытается еще и пропадать. Это у нее легко выходит — да, я погуляю просто вечером, ужин в холодильнике, а приходит в пять утра, улыбается, молчит. Я только к маме съезжу, говорит, а мама в ее отсутствие звонит и спрашивает, когда же мы приедем на новоселье.
Она умеет сбегать даже не сходя с места — достаточно отвлечься на пару минут, отвернуться в магазине или в ресторане отойти помыть руки — а ее уже нет. Смотрит стеклянными глазами куда-то вдаль, хмурится, думает. На все вопросы будет тоскливо кривиться и мечтать сбежать подальше. Иногда начинает косо выводить буквы на салфетке, явно жалея об отсутствии компьютера. Она говорит — это вдохновение, а я уверен, что клиника.
Понимаете? Вроде и рядом — а вроде и пустое место. Оболочка с грустным видом.
Вариант с чемоданами я бы еще пережил — а от таких уходов мне неуютно.
Что делать, доктор?»
Приписка:
«Позволить женщине думать в свое удовольствие, а еще убирать личные бумаги с кухонного стола.
Подпись: доктор».
Психанул еще через месяц. Потому что, ну сколько можно-то. Я не хочу столько оригинальности, не хочу, я, может, лучше фильм посмотрю с ней, дома, под одеялом, кофе попью, все как-нибудь тихо и по-домашнему. А она звонит и радостно сообщает, что находится в яме под люком на улице такой-то, хорошо, что не канализационной, очень надеется, что я ее заберу. Как ты туда свалилась? — в ужасе вздыхаю я. А я не свалилась, радостно заявляет ненаглядная, я туда специально спрыгнула. Проверяла, можно ли вылезти самостоятельно, в тексте надо было уточнить момент. Нельзя, в общем. Вытащишь меня?
Залила ненавистных соседей сверху, я не знаю как. Точно она, больше некому. Через этаж квартира пустая.
Предложила родить мне девочку, при условии, что назовем ее Маракуйей.
Хватит! — рявкнул я, — Это уже ни в какие ворота. Я… я требую от тебя чего-нибудь адекватного!
Ну, это только называется — рявкнул. На деле я еще до этого с полчаса рычал и перечислял все ее прегрешения.
Могу огуречного варенья сделать.
Или ты немедленно показываешь мне, что ты там пишешь, и рассказываешь, и вообще…
Тим. Да не кипятись ты. — Стася поерзала.
Чем ты зарабатываешь? Ну чем? Рабы? Наркотики? Транспортировка наркотиков в рабах?
Психологическими консультациями.
Я расхохотался от неожиданности.
Смейся, смейся, — продолжила Чижова, — Беседы удаленно, через день сеансы в офисе, редко больше двух. Я предпочитаю из дома.
И как мне этому верить?
Тебе решать.
А твои постоянные выбрыки?
Извини. В стрессовых ситуациях, считается, к человеку быстрее привязываешься и лучше относишься. Это своеобразное… ммм… «ты мне нравишься».
Вот как с такой?…
Рассказать было сложно, что ли? Фантастику она пишет, как же.
Она поморщилась.
Будем считать, у меня комплексы.
Что еще я о тебе не знаю? — вырвалось невзначай.
У меня другая фамилия и тюремное прошлое.
Правда?
Нет.
Я притянул к себе тощую Стаську, уткнулся носом куда-то в район шеи и неуверенно спросил:
Я тебе точно нравлюсь?
Точно.
И книжки ты не пишешь?
Не пишу.
И ты обещаешь себя вести хоть немного человечнее?
Может быть.
В принципе, можно было и удержаться от вопроса, но мы же не ищем легких путей.
Слушай… А вот зелья эти… и духи всякие… и домовой. Ты ведь этой фигней тоже… чтобы меня позлить?
Тишина простояла, наверное, секунд десять.
Придурок! — наконец откликнулась Стаська, скидывая меня с плеча. — Свинья эгоистичная! — хлопнула дверь кабинета.
Мне даже показалось, что я смог разобрать что-то про «личное пространство».
Благословение Алекс Бор
Рассказ победил на конкурсе миниатюр «Секс» в апреле 2013 года. Всего в конкурсе принимало участие 24 автора с 45 рассказами.
Мороз кусал щеки, холодил легкие, но тревога царапала сердце совсем не из-за погоды.
— Как ты думаешь, всё будет хорошо? — спросила Пульша, прикрывая носик перчаткой. Я видел только её глаза. Голубые и чистые, как океан на Востоке.
— Надеюсь, — выдохнул я из легких стылый воздух, который выхолодил всё нутро.
— Фео, я боюсь, — призналась Пульша.
— Я тоже…
Узкий переулок закончился, открыв взору небольшую площадь, посреди которой высился белый храм.
Храм Единой Церкви Христовой.
Поднимаясь по мраморным ступеням, Пульша крепко держала меня под руку.
И я понимал, что совсем не из-за того, что боится оступиться на скользком камне.
В узкой комнате, похожей на монашескую келью, висел полумрак и пахло ладаном. У распятия горели свечи. Иисус смотрел на нас взглядом страстотерпца, и пальцы невольно складывались в щепотку, чтобы осенить себя крестным знамением.
— На всё воля Твоя, Господи, — прошептал я.
Пульша тоже истово крестилась, шепча молитвы.
Вдруг пламя свечей заметалось — словно ветерок пронесся через комнату, и перед распятием появилась проекция священника в белом праздничном облачении. Я сразу узнал его — это был отец Иеремей, духовник нашей семьи, который наставлял меня с самого рождения. Глаза и уши Бога. Человек, который знал обо мне больше, чем я сам. Ему ведомы были все мои грехи — даже те, о которых я не решался рассказывать на исповеди.
Отец Иеремей стоял у ног Спасителя и молча взирал на меня и Пульшу. Словно изучал. Его взгляд был тяжел, как камень, и мне хотелось потупить взор. Чего сейчас делать было нельзя. Как и первыми начинать разговор.
Наконец Иеремей, повернувшись лицом к распятию, величаво произнес, воздевая руки к Спасителю:
— Господи Иисусе! Благослови этих отроков!
Откуда-то слева на лик Иисуса упал луч света, и я вздрогнул, увидев измученный лик Спасителя и терновый венец на его челе. И глаза, что смотрели на меня, наполняя душу болью.
Болью всего мира, которая прошла через сердце Спасителя.
— Господи, благослови меня, грешного, — прошептал я, перекрестившись.
Рядом осеняла себя святым крестом Пульша.
Через мгновенье луч пропал, и лик Иисуса снова погрузился во мрак.
Отец Иеремей повернулся к нам лицом и сказал:
— Господь слышит вас, отроки!
Пальцы Пульши на миг коснулись моих — и тут же отдернулись, словно она обожглась. Девушка боялась, и пыталась найти у меня защиту — но сейчас я ничем не мог помочь ей. И не только потому, что боялся сам…
— Представьтесь, отроки! — нараспев произнес отец Иеремей.
Мой духовник, который теперь наверняка станет и Отцом для моей Пульши, конечно же, всё о нас знал, но сейчас мы держали ответ не перед ним, а перед самим Господом.
И благословит нас сам Господь.
Если, конечно, посчитает нас достойными благословения…
— Феоклит Рамджив, — назвался я.
— Пульхерия Хусаинова, — вторила мне моя избранница.
Снова темноту пронзил луч света, озарив лик Иисуса.
— Отроки Феоклит и Пульхерия! — услышали мы глас отца Иеремея. — Вы твердо решили просить благословения на Божественную близость у Господа Нашего Иисуса Христа?
— Да, — без колебаний ответил я.
— Да, — спустя несколько показавшихся мне очень долгими секунд услышал я тихий голосок Пульши.
Луч света сместился с лика Иисуса на лицо Иеремея.
— Не согрешили ли вы, отроки, перед Господом нашим, прелюбодеянием?
— Нет, — быстро ответили мы разом.
Да, мы были чисты и невинны перед нашими духовниками и Господом. Прелюбодеяние, то есть соитие без благословения, было страшным грехом. Гораздо страшнее, чем грех смертоубийства и грех воровства. Если воров и убийц сажали в холодный каземат на хлеб и воду, то прелюбодеев в наказание могли заточить в монастырь и наложить епитимью — молиться Спасителю несколько дней без еды и отдыха. Очень суровое наказание… Поэтому лучше не грешить даже в мыслях. А если такие мысли приходят, немедленно каяться своему духовнику и смиренно принимать наложенные им посты и молитвы.
Я и Пульша были знакомы почти год — работали вместе. Сразу как-то смогли найти общий язык, понравились друг другу — но должны были понять, что нас связывает: желание соединиться во Христе, или просто дружба. И когда поняли, что это желание соединиться, три месяца назад попросили благословения у наших духовников на поцелуй. Благословение было дано — на один братский поцелуй в лоб и один такой же братский в щеку. Всего один раз в неделю.
А два месяца назад нас благословили на прикосновения. Мы могли касаться друг друга пальцами рук. И даже недолго — всего на минуту — браться за руки. Но только тогда, когда этого никто не видел. И это было такая счастье — взять на одну короткую минуту ладошку Пульши в свою… Да, эта девушка-синеглазка мне очень нравилась, и я готов был просить благословения связать с нею всю жизнь, а она — рожать мне детей… Пора уже — нам обоим скоро исполнится двадцать девять…
— Отроки мои во Христе! — провозгласил Иеремей, и луч света снова озарил чело Спасителя. — Волею Божией, данной мне нашей Матерью Единой Церковью Христовой, благословляю вас на Божественную близость друг к другу. Вы можете быть близки ровно три раза в неделю по пять минут. И помните, что единение мужского и женского начала угодно Господу только для рождения новой жизни. Вступая в Божественную близость, вы должны молить Господа о потомстве. Да поможет вам Господь! Аминь!
После этих слов проекция Иеремея исчезла, оставив нас в полной темноте наедине со Спасителем, который сурово взирал на нас с распятья.
— Господи, благослови нас! — прошептал я.
Морозный воздух опять холодил нутро, но на душе было тепло и радостно. Нас благословили на Божественную близость! И теперь я и Пульша можем стать по-настоящему близкими людьми! Не ради забавы, как это было в темные времена, когда люди забыли Бога, а во имя рождения новой жизни!
И во имя Господа Нашего Иисуса Христа.
Это ли не настоящее счастье?
— Мы теперь всегда будем вместе, правда, Фео? — Пульша, опять закрывая от мороза нос перчаткой, радостно смотрела на меня. И её голубые глаза были как океаны… Теперь, получив благословение, я три раза в неделю мог без опаски быть обвиненным в грехе целовать эти глаза. Теперь мы могли уединяться на целых пять минут три раза в неделю! Теперь мы могли открыто говорить о нашей любви, не опасаясь попасть в отделение полиции нравов. Потому что мы получили благословение!
— Правда, — ответил я, подавляя желание обнять Пульшу прямо посреди улицы. Благословение благословением, а приличия еще никто не отменял.
Мы прибавили шагу — и не потому, что мороз кусал щёки, просто хотелось поскорее остаться вдвоём…
Хотя наш духовник наверняка не одобрил бы такой поспешности.
Трудности перелёта Алексей Жарков
Рассказ занял второе место на конкурсе «Секс».
Перед входом он сомневался, но сзади навалились и протащили Ивана через зал к единственному окну.
— Регистратура, — вслух перевёл Иван с межгалактического.
Отступать было некуда. «Жуть», — подумал он, оказавшись перед существом, одетым в яркий желтый костюм. Над его бесформенным телом сверкала лысая голова, а в лоснящихся складках лица отливали розовым и белым сочные прыщи. «Неужели гуманоид?»
Целый год Иван сопровождал какой-то груз, следовавший из одного края галактики в другой. Целый год он был один, наедине с автоматикой, выполнявшей всю работу. «Зачем здесь человек, — недоумевал Иван, — даже в посадочный док оно само заруливает». Но хозяин — барин, раз платят — значит надо.
В бортовом компьютере было много всего: фото, видео… но всё это он однажды удалил. Решительно и безвозвратно. В странном порыве брезгливости к самому себе. После очередной «безудержной вечеринки», затронувшей все отсеки и поверхности корабля. Затем пришло похмелье… накатило волной, ударило в висках, сгустило мрак перед глазами, и вместе с изжогой застряло в теле отчаяние.
Память и воображение выручили на какое-то время, но за многие последующие месяцы и эти ресурсы иссякли. Образы померкли, желание ослабло. Проверив личные вещи, Иван не нашел ничего, что хоть отдалённо напоминало бы то, чего он сам себя лишил.
Единственное изображение нечаянно нашлось в «Популярной Механике» — старом, затесавшемся среди корабельного хлама журнале. Одна на весь номер девушка улыбалась из громоздкого скафандра. Внимательно проанализировав очертания, Иван пришел к выводу, что скафандр «женский». Этого оказалось достаточно — воображение мгновенно взорвало пыльные оковы фантазии и ускакало вместе с ним в такие извращенные дали, что Иван едва удержался на ногах.
Этой девушки хватило еще на какое-то время.
Затем он долго и методично уничтожал личный запас алкоголя. Прячась от многочисленных датчиков и сенсоров, забивался в глухие отсеки, и пил. Пока не простудился и едва не отморозил конечности.
— Согласно физиологическим особенностям вашего вида, вам также подходят самки мимона…
На экране возникло изображение фиолетового существа с четырьмя ногами и глазами чуть выше теоретической талии. За спиной кто-то одобрительно хрюкнул и засопел — не терпелось. Иван обернулся на похожее создание — серый костюм грузчика, протёртый на всех четырёх коленях.
— А что это вообще…?
— Кхм…, — изображение моргнуло и сменилось, — может эта девушка вас заинтересует, она тоже подходит, и кроме того…
— Боже, нет конечно…
— … весьма молода. Жаль. Тогда может быть вас заинтересует Мимоль?
Экран заполнился пульсирующим клубком щупалец и три огромных красных отверстия призывно вспыхнули в самом центре.
— Да нет же, вы на меня то посмотрите, вот я разве похож на это, на этот, клубок каких-то мерзких червей.
Очередь за спиной зашумела, кто-то толкнул Ивана в спину, он оглянулся и увидел своё отражение в огромном зеркальном шаре, за которым, как змеи вокруг Горгоны, угрожающе зашелестели рукавами скафандра многочисленные щупальца.
— Извините, никак не хотел обидеть, — Иван отшатнулся, — совершенно не это имел ввиду, извините.
Шар победоносно укатился, а прыщавые складки в окне регистратуры снова пришли в движение:
— Даже и не знаю, что вам предложить…
Иван потёр затылок:
— Ну как же так? Вы же общегалактический сетевой бордель, вот и на рекламе написано «Тёлочки со всей-превсей галактики», или я ошибаюсь?
Складки зашевелились.
— Ну а как же так, неужели никого нельзя подобрать? Может хоть этого, ну тоесть эту! Зелёную с плаката! По мне сейчас так и она выглядит, знаете ли… весьма аппетитно.
— Это пыпорь.
— И что? Пыпорь-шмыпорь, есть же у неё… это, ну то самое… ну вы понимаете…
— Есть. Разумеется. Однако, её, как вы позволили себе выразится «то самое», совершенно вам не подходит. Если только вы не собираетесь провести остаток дней отдельно от своего… «того самого». Она, кстати…
— Нет же нет, конечно не собираюсь. Ну как же так? Это не справедливо, вы нарушаете закон о рекламе!
Глаза регистраторши раздвинули складки и сверкнули каким-то подозрительно знакомым блеском.
— Извините, еще раз извините… ни в коем случае не хотел, но вы войдите в моё положение… год! Год же целый… и ни одной женщины на сотни чертовых парсек.
— Увы, — кривая ухмылка исказила лицо, — похоже, что в этом краю космоса, мы с вами единственные представители своего вида, люди сюда обычно…
Лицо Ивана побелело, холодок прошел по щекам, спустился по шее, пощекотал мурашками спину и потеплел в глубине живота.
— Не может быть?! Так вы…
— Да! Я — тоже человек.
Иван улыбнулся, щеки загорелись.
— Так может я могу вас…, — он осёкся, — эм… ну… это… вы понимаете.
Неожиданно, Иван обнаружил в уродливых жировых складках знакомые, милые сердцу очертания. Пожар охватил тело, голова закружилась. «Ну конечно! Тут всё на месте: глаза, нос, рот, каскад грудей, — просто жизнь в провинции и неправильное питание наложили такой гнусный отпечаток».
— Нет, — последовал ответ, — я не такая.
«Я не такая» — отозвалось эхо в голове космического дальнобойщика, — «я не такая, я жду трамвая, черт же побери, как можно? в такой глуши? работая в публичном доме?! Я НЕ ТАКАЯ?!» Иван потёр лоб, за спиной неодобрительно загудели инопланетные самцы.
— Может… я могу пригласить вас… в ресторан? — сбивчивым голосом просипел Иван.
Лицо наморщилось и с укором посмотрело на посетителя. Иван попытался снова разглядеть в тёмных складках человеческие глаза, но не смог. Покорился чьей-то красной клешне, отодвинувшей его от окошка, и поплёлся на выход.
За дверью, за многими другими дверьми, где-то в сырой глубине парковочного дока, в корабле, в мусорной корзине рядом с железной кроватью валялась скомканная «Популярная Механика». С единственной на всю чертовски-бесконечную вселенную девушкой. В белом, удивительно-сексуальном скафандре.
Про настоящее мачо Камелия Санрин
Рассказ занял первое место в номинации «Лучшая форма» на конкурсе «Секс» в апреле 2013 года.
СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ
У меня в соседней квартире живёт амёба с жёлтыми волосиками на пузике. Так я вам скажу: они бесцветные. А вы уж никому не передавайте. Они ей страшно нравятся. Как только лето началось — она с балкона не выползает. Загар пытается приобрести и форму, а то в тапочки уже не влазит. С таким пузиком никто бы не был рад, если бы влазила. Пузико миленькое, честно сказать, даже очень миленькое. А положа руку на пульс — так и вообще огого. Это на мой скромный вкус. Я самец амёбы, начтоящий мачо, уж я в этом знаю толк.
Так вот: нафига ей эти жёлтые волосики на пузике сдались? Я ж итак из тапочек готов выпрыгнуть, как её вижу. Но они бесцветные, я вам клянусь. А с этим новым кремом «под загар» — они ещё в два раза бесцветнее. Я ей говорю:
— Инфузория Андревна, вот честное слово, прямо вам говорю, положа руку на…
А она перебивает и не даёт досказать:
— А вот не надо мне ваших честных слов! Вы бы мне лучше бульончику в бутылочке, да и крем для загара заканчивается.
Конечно, заканчивается, с таким-то пузиком. Но мачо — это не только тапочки и интерес к даме. Мачо — это ещё и умение держать дистанцию на минимуме. Одна ложноножка здесь — другая там.
— Пжалте, вот ваш крем за ради загара, а вот и бутылочка. И кстати, с двумя соломинками, если вы не против.
Как же — против? С таким-то мачо. Поздно, милочка. Теперь мы — сообщающиеся сосуды через соломинку.
Я — необычное мачо. У меня есть вкус. Не только к крепким напиткам или, допустим, к соседкам. (Какая соседка? Стенку-то снесли.) У меня есть вкус к прекрасному. Так вот, таких волосиков, как у Инфузории Андреевны на пузике, в природе больше не сыщешь.
А она на солнышке жмурится, так бы и залапал всю и съел бы. Да куда уж больше? Сижу, любуюсь, смотрю как на пузичке у неё волосики золотятся.
Всё это, конечно, хорошо — балкон, бульон, соломинки. Но чего-то не хватает. Интиму. Поманил её в спальню. Не идёт. Передвинул бутылочку — не идёт. Начал шептать страстные гадости — отмахнулась, как от мухи. Пришлось ползти в магазин за новым монитором. Ну там уж я ей показал свою коллекцию аниме. И на интернет подсадил. Теперь вот играем с ней. Не всё же только вирусам. Она в монитор, а я — то на монитор, а то на неё. Хороша, зараза! И волосики у неё на пузике не жёлтые, а золотистые прямо какие-то при свете монитора…
Кто сказал «бесцветные»? Я сказал? А в рыло не хочешь?!
ДУХОВНАЯ ПИЩА
Если вы думаете, что мачо — значит дурак, то я вам скажу: «Ха!» Мы с вами живём в разных измерениях и мыслим разными категориями.
Хотя, может, и встречаются дураки. Мне выяснять некогда. Как увижу, кто на Инфузории Андревны пузико заглядывается — сразу в лоб. А коэффициент интеллекта при сотрясении не принято спрашивать.
Кстати о тапочках. Не знаю, зачем их изобрели, но это не оружие. Точно вам говорю. То, что в тапочках прячется — может быть оружием, но сами тапочки — розовые пушистые и с бантиками — летят в меня один за другим и радуют душу.
— В доме нет ни крошки духовной пищи! Идите в библиотеку немедленно!
А я что? Не знаю, как пройти в библиотеку, что ли? Одна ложноножка здесь — другая там! Подвиг во имя прекрасной дамы? — да запросто. Взял у охранника рупор и рявкнул на всю библиотеку:
— А сейчас! Только в нашей библиотеке! Ради всей бесконечности любовного чувства, меня переполняющего! Подвиг во имя прекрасной дамы! — Для вас, о моя несравненнейшая Инфузория Андревна! За Ваши золотистые волосики!
Упал и отжался два раза.
А? Каково?
Книжки в меня так и полетели. Только успевай собирать. Набрал две корзины духовной пищи, принёс:
— Кушайте, обожаемая!
Да и сам через соломинку приобщился.
ЧЕГО-ТО ЖДЁМ
Я — мачо. Меня хлебом не корми — дай мяса. Без мяса у меня теряется объём и взор тускнеет. Покушал, гляжу блестящим взором. Инфузория Андревна — холодная дама, я вам скажу. С такой не стоит ждать у моря погоды, нужно действовать. Закрыл форточку. Включил отопление. Отогрелась. Зачирикала:
— Вы будете выполнять супружеский долг или не будете выполнять супружеский долг? Где билеты в театр?
А я что? Не знаю, где у меня билеты в театр? Настоящий мачо всегда знает, где у него билеты в театр. Под книжками в корзинке, на нижней полочке холодильника.
Пришли на автобусную остановку. Сели. Сидим. Десять минут сидим — секса нет. Я спрашиваю:
— А… мы чего-нибудь ждём?
Оказывается, автобуса.
Подошёл автобус. Залезли. Сидим. Десять минут сидим. Смотрю на неё, голова кружится. Хороша.
— Мы чего-нибудь ждём?
Оказывается, ещё не приехали.
Приехали. Раздевалка. Раздеваюсь. Останавливает. Заставляет надеть обратно. Заходим. Чувствую, вроде опять похолодела. Она такая: чуть разденется — сразу остывает. Но кругом дышут, отогрелась. Десять минут сидим. Руки так и чешутся. Спрашиваю:
— Мы чего-нибудь ждём?
Оказывается, спектакль. Надо отвернуться и смотреть мимо.
Настоящий мачо не жалуется. Выжил — да и ладно. Зато дома — бегом в ванну. У неё реснички так и запорхали от моей непредсказуемости. А я что? Она у меня на чистоту падкая. Вымылся, пришёл и сел рядом. И вкусно пахну.
Истинное искусство стоит жертв.
— Ах, Инфузория Андревна…
С ГОЛЫМ РАЙ В ШАЛАШЕ
Жара такая, что места себе не нахожу. Навёл ванночку с солькой, остыть. Выскочил, как огурчик солёный.
Решил спать голым. Настоящий мачо ничего не боится! Инфузория Андревна радуется: с голым рай в шалаше! Радуется, а сама из тапочек не вылазит.
Лежу, болтаю всякие гадости. Смеётся, но от монитора не отворачивается, читает психологию. Назвала дураком. Понимает.
А не опоить ли её?
— Не желаете бульончику с греночкой? — желает.
Перебазировал их с монитором в кухню, пока бульончик поспевает. Да мне любые перестановки — плёвое дело. Я какой-никакой, а мачо. Притом, очень скромный. Вообще, все лучшие вещи я называю «какой-никакой».
— А вот и бульончик поспел. И греночки какие-никакие.
— А вы?
— А мне греночки нельзя лишний раз. У меня от них внутренний голос.
Жмурится от вкуснятинки.
— А классно, что вы моя стали! Я теперь хоть счастливый стал. Я вас так люблю! Хотите, отдамся?
Китайцы Александр Шорин
Рассказ принимал участие в конкурсе «Секс» и занял 6-ое место.
Не я один — мы все волновались. Ещё бы: за триста лет нашего отсутствия на Земле могло произойти всё, что угодно: от атомной войны до нового ледникового периода. Конечно, открытие нами кислородной планеты, пригодной для жизни, делало нас героями почти при любом раскладе. Но всё-таки…
Я сидел в своей капитанской каюте и нервно курил сигарету: чёрт их знает, может на Земле эта вот сигарета сейчас уже считается опасным наркотиком?
Вызвал штурмана. Спросил:
— Удалось связаться с Байконуром?
— Все ок, капитан. Ждут не дождутся. Чего сам-то на связь не выйдешь?
— Веришь-нет, волнуюсь, Виталька.
— Верю, но ты это дело брось.
— Слушаюсь! — ответил я с улыбкой. — Давай сеанс связи.
Нас встречала огромная толпа с букетами цветов. Вокруг роями летали какие-то насекомые.
— Это видеокамеры, — шепнул мне штурман, — так что сделай лицо попроще.
— Ты откуда знаешь? — спросил я.
— Подключился к информационному полю, поползал там немного. Третьей мировой не было.
— Утешил, — буркнул я.
И спросил:
— А почему одни китайцы кругом?
Тот внимательно посмотрел на окружавшую нас толпу, только что заметив то же, что и я: в ней явно преобладали представители этой расы.
— Н-не знаю.
— Вот и выясни. А мне сейчас придется общаться с Президентом.
Президент оказался пожилым желтолицым человечком с характерным разрезом глаз. Выслушивая поздравления, я мрачнел с каждой минутой. Мне представлялось, как орды китайцев штурмуют границы и вырезают мирное население окрестных стран. Я явственно видел, как сгоняются в концлагеря русские, евреи, немцы… Негры снова становятся рабами на плантациях… Меня мутило от дурных предчувствий.
Не выдержал и заявил одному из сопровождающих, вившихся вокруг:
— Извините, устал. Нельзя ли отдохнуть в гостинице?
Тот о чем-то пошептался с другими и милостиво разрешил, напомнив, что завтра у меня две пресс-конференции и визиты в пять стран. Я только вздохнул: подобное внимание для космических путешественников хуже метеоритного дождя.
В номере я первым делом вызвал штурмана.
— Ну что, Виталя? Узнал?
Лицо его в видеофоне было слегка искажённым. А может он просто морщился?
— Жди, кэп. Через десять минут всё объясню. С глазу на глаз.
Эти минуты показались мне вечностью, несмотря на виски и сигареты, которые мне были разрешены как почетному гостю.
Штурман выглядел немного смущённым. Начал издалека:
— Скрывают информацию, гады! Еле допёр, что к чему.
— Выкладывай, чёрт побери! — не сдержался я.
Он, кажется, понял, что я на взводе, но тон не сменил. По-прежнему смущенно спросил:
— Ты помнишь, перед нашим отлетом рекламировали китайских киборгов? Ну это: «Лучший слуга — электронный китаец» по всем каналам?
— Ну и?
— Вот те и «ну»! Оказалось, что они для экономии вместо электронных киборгов продавали настоящих китайцев. Решили там у себя это на государственном уровне и потом провернули аферу мирового масштаба.
— И она не вскрылась?
— Вскрылась. Но к тому времени они продали уже полмиллиарда.
— А потом?
— А потом они начали размножаться.
Вечером мы сидели с Виталькой в баре пьяные почти до бесчувствия, уже с трудом ворочая непослушными языками.
— Слышь, друган, — говорил я ему. — Надо это… Создать русскую диаспору.
— Н-не выйдет, кэп, — мотал тот с сожалением головой. — У них тут… это… законы против национализма. Посодють!
— Тогда это… Детей делать нашим бабам. Это-то ведь не запрещено? Официант! Ещё водки!
Подбежал расторопный молодой китаец, вытащил из ведёрка со льдом запотевшую бутылку. Улыбнулся и вновь убежал.
Я провожал его взглядом до тех пор, пока он не скрылся за стойкой. И тут мой взгляд упёрся в китайского старца, потягивающего что-то из большой пиалы.
— Будем детей делать нашим бабам! — сказал я ему громко.
Виталя дёрнул меня за рукав, но было уже поздно: тот прекрасно слышал, что я сказал. Он поднял своё морщинистое лицо и, спокойно посмотрев на нас, сказал с презрением:
— Вы не уметь делать детей. Мы уметь!
И отвернулся.
Икар бы нам позавидовал! Артур Шмиллер
Рассказ занял третье место в номинации «Лучшая форма» на конкурсе «Полёт на Солнце», состоявшемся в июле 2013 года.
— Итак, это случилось! Здравствуйте, дорогие земляне, здравствуйте, мои уважаемые сопланетники! Нечасто в жизни человеческой выпадают минуты, когда весь обитаемый мир в едином порыве приникает к экранам мониторов, невероятно редки звёздные миги человечества, когда гордое звание «человек» сплачивает всех воедино, расправляет наши могучие плечи. Сегодня именно такой день! Десятилетия отделяют нас от того, теперь уже кажущегося почти доисторическим времени, когда первый гражданин Земли сделал робкий шаг за пределы нашей планеты. За прошедшие годы в полной мере оправдались слова основоположника ракетной космической мысли Константина Эдуардовича Циолковского, предрекавшего неизбежный выход человечества за пределы своей колыбели. Все мыслимые бастионы Солнечной системы: планеты, спутники, астероиды, кометы, — уже пали под мощью человеческого разума и воли. И единственное — сердце этой системы, наше Солнце, — до настоящего момента оставалось вне досягаемости для исследователей.
Сегодня этот бастион будет взят!
Мы ведём наш репортаж со смотровой площадки главного планетарного телескопа. Как вы видите, здесь установлены специальные экраны, на которых мы в режиме реального времени будем отслеживать то, чему прецедента в истории нашей цивилизации никогда не было.
Совсем немного времени остаётся до того момента, когда космическая ракета «Солярис» с экипажем на борту, стартовавшая вчера с окололунной орбиты, коснётся поверхности родоначальницы нашей планетной системы. Коснётся — мягко сказано! Солнце — один из самых разреженных космических объектов, представляющий собой, по сути, гигантский по масштабам, но всего лишь обыкновенный сгусток плазмы, помещённый в центр нашего мироздания, костёр, у которого мы все греемся. И приземлиться на него в обычном, космическом, понимании этого слова, припланетиться, так сказать, присолнциться, простите мне эти нелепые восторженные эпитеты, видите, даже язык у меня заплетается от избытка чувств, проще говоря, сесть на Солнце — никак уж нельзя, потому что не может такого явления существовать в принципе! Летать по околосолнечной орбите, как это бывало в своё время с другими космическими телами, тоже невозможно. Не просто невозможно, но абсурдно: мы все только и делаем, что летаем по околосолнечным орбитам. Зато — учёные это с самого начала знали — призрачное тело, состоящее из плазмы, можно пересечь. Как пустыню, как океан, как атмосферу. Войти в него — и выйти с другой стороны. Диаметр Солнца составляет всего порядка миллиона километров, это меньше, чем две лунные орбиты. При наших современных скоростях такое расстояние, даже с учётом сопротивления плазмы, можно одолеть менее чем за час. Именно это и будет сегодня сделано! И когда наши космонавты, войдя в один бок Солнца, как пулей навылет пересекут наше светило и менее чем через час вынырнут из другого его бока, думаю, человечество встретит овацией их первый доклад на Землю из новой, транссолнечной эры нашей цивилизации!
Миллионы и миллионы лет это косматое чудовище, этот неадекватный сморчок, простите, дорогие зрители, мне мою излишнюю эмоциональность, подобно гигантскому мифологическому дракону, посылало на нашу Землю испепеляющие цунами магнитных бурь, нещадно сжигало, превращая в пустыни, цветущие садами пространства, а потом, охладев, безжалостно швыряло в объятия ледяного панциря нашу многострадальную планету.
Не посчитайте меня высокопарным, но теперь уже можно так говорить: пройдёт по историческим меркам совсем немного времени, и мы не только сумеем укротить дикие мустанги магнитных бурь, но научимся регулировать яркость и температуру нашего своевольного светила. И я бы даже сказал, что вскоре мы смело сможем называть его просто и любовно: нашим милым светильником!
Великими человеческими руками испепеляющая огненная стихия будет обуздана и превращена в кроткий благодатный огонь, несущий нашей планете жизнь и процветание. Так говорят наши благородные учёные мужи, и я полностью солидарен с ними в этом и с радостью присоединяю к хору их голосов собственный восхищённый голос!
Ах, если бы сейчас могли ожить мириады невежественных пигмеев древних поколений, все эти бесчисленные вожди и колдуны, астрологи и солнцепоклонники, эти Икары на восковых крыльях! Сколько тысячелетий с ужасом и благоговением они смиренно молились бездушному механическому плазменному блину, считали его всемогущим божеством, определяющим судьбы человечества?! Если бы могли они в этот торжественный миг присутствовать здесь, рядом с нами, если бы оказались в состоянии осмыслить всё величие поистине колоссальных возможностей нашего времени, о, как, как бы они нам позавидовали!..
Но, давайте, дорогие мои, обратим внимание на первый экран. Голографическое изображение с внутренней камеры спускаемого аппарата позволит нам в течение ближайших часов отслеживать на нём каждый жест, каждое мимическое движение, каждое даже шёпотом сказанное слово наших героев, наших выдающихся гелионавтов. Впрочем, слов едва ли мы услышим много: такие люди не бросают слов на ветер, даже если это ветер солнечный! Посмотрите на их лица! Как они суровы и как одухотворённы: именно такие, какими должны быть лица людей, осуществляющих, вероятно, самую важную миссию из тех, что за всю нашу великую историю вершились человеком разумным! Каждый жест выверен, команды отрывисты, блики солнечной короны, верхних слоёв которой уже достиг корабль, ложатся на их лица сквозь постепенно затемняющиеся иллюминаторы, и они напоминают нам героев прошлых времён, дни и ночи у мартеновских печей совершавших свой беспримерный трудовой подвиг во имя жизни на Земле! Они верят в себя, они верят в непогрешимость техники, созданной руками мыслителей, умельцев, мастеров!
Вот, как раз, я вижу, мимо нас сейчас спешит человек, и по выражению крайней озабоченности на его лице можно безошибочно определить, что принадлежит он именно к тому самому узкому кругу посвящённых, чьим титаническим разумом и вершится чудо этих минут! Давайте, я пригашу фонтан собственного красноречия и предоставлю слово одному из главных героев дня.
Товарищ учёный, товарищ учёный, пожалуйста, на одну секунду подойдите к нам! Скажите несколько слов нашим зрителям, которые, затаив дыхание, изо всех уголков Солнечной системы следят за грандиозным таинством торжества науки, разворачивающимся на наших глазах!
— Вы мне предлагаете сказать несколько слов? Так я скажу, обязательно скажу! Невежественные люди, возомнившие себя потомками богов, упиваются собственным непомерным самомнением и гадят, гадят, гадят, уже по всем палатам Солнечной системы. Но им ведь и этого показалось мало! Теперь они совсем обезумели: летят, чтобы распотрошить наше единственное светило, не имея даже приблизительного представления о том, что оно на самом деле из себя представляет! Мерзавцы! Почему им до сих пор никто не скрутил руки!.. Где санитары, куда они опять запропастились?!
— Извините, пожалуйста, что перебиваю вас. Для меня это как-то даже немного неожиданно… Ваше мнение настолько категорически идёт вразрез со всем, что мы слышим ежедневно… Вероятно, вы в самом деле знаете нечто такое, чего не знают другие. Как же выглядит реальное положение дел?
— А разве это великий секрет? Кто хотел знать, давно уже всё знают. Планеты — это кавайные богомолы, адгезирующие всякие паразитические сущности макро и микрокосмоса; кометы — трансагрегатные факелы Кельвина-Оппенгеймера и одновременно почтовые голуби вселенской ноотропии; чёрные дыры — это и без меня уже всем известно — отхожие ямы тёмной материи отработанной магии параллельных миров Хогвартса; а Солнце — это коацерватная капля субэмитентного континуума регулирующая взаимодействие инертной массы с остальными восьмидесятью девятью свёрнутыми измерениями астральной лигатурной решётки Дирака!..
— Господи, я, кажется, онемел!.. Вот именно в такие моменты осознаёшь всю меру своей ничтожности пред ликом разума великих учёных мужей! Простите меня, но то, что вы говорите, — это поистине гениально, бесподобно, никогда такого не слышал! Я, как и миллиарды наших зрителей по всему свету, восхищён глубиной вашей мысли, широтой эрудиции и высотой вашего интеллекта! Но, боюсь, кто-то, как и я, может, по причине, как бы поделикатнее это назвать, не столь выдающейся образованности, не до конца сумеет разобраться в хитросплетениях терминологии, которой вы, в силу вашей учёности, столь виртуозно оперируете! Скажите чуть попроще, что сейчас на наших глазах происходит?
— Так я же о чём и говорю — куда уж проще: нам всем пришёл конец! В этот раз демиурги нашего вольера забыли запереть дверцу, и эта плесень дотянулась-таки до процедурного кабинета локальной энергетической подстанции! Как только занесённый над пышущей жаром ягодицей Солнца космический шприц вонзится в его девственную плоть, мир утратит стабильность и погрузится в необратимый хаос, сравнимый разве что с состоянием человека находящегося в наркотическом психозе!..
— Ах, вон оно в чём дело!.. Так бы сразу и сказали! А то «кавайные богомолы» и, как его там… «субэмитентный континуум»!.. Благодарю вас нижайше, спасибо огромное!.. Вот теперь, похоже, нам всё понятно. До свиданья… М-да, дорогие зрители… Думаю сейчас и вас тоже, как меня, посетило предательское подозрение, что в ближайшей лечебнице местные демиурги в самом деле забыли запереть двери, и кое-кто разбрёлся по окрестностям и заблудился… Лирик он, физик или шизик — сразу и не угадаешь по человеку…
Конечно же, мы не вчера родились и знаем, что у каждого выдающегося проекта времени всегда находились противники из разряда невменяемых скептиков, злопыхателей-ретроградов, подобных этому, с позволения сказать, учёному, с которым мы только что имели неудовольствие общаться. И тем более надо преклонить колени перед великим подвигом конструкторов, реализовавших этот немыслимый проект, который, не будет ошибкой сказать, может претендовать на звание проекта столетия, если не проекта тысячелетия!
Однако, дорогие мои — дорогие мои! — вернёмся к реальности! Вот, вот! Вот — оно! Вот и наступает самый главный момент, которого все мы с таким нетерпением ожидаем! Смотрите, смотрите на третий экран, на который сейчас выводится картинка с меркурианского орбитального телескопа в максимальном увеличении. Два космических тела, ещё вчера разделённые пропастью в сто пятьдесят миллионов километров, стремительно сближаются. Крохотный рукотворный комарик космического корабля уверенно прокладывает себе путь сквозь колышущиеся оранжевые заросли протуберанцев нашего косматого знойного друга. Ничтожный сперматозоид, порождённый человеческим гением, оспаривает пальму первенства у гигантской огненной яйцеклетки, сотворённой Вселенной для того, чтобы во веки вечные управлять жизнью и свободой человека. Да что там оспаривает — одолевает, скручивает её в бараний рог, берёт власть над ней в свои, волевые, могучие руки, закладывает собственную генетическую программу в её рыхлое раздутое тело!
Стрела космолёта рванулась с небес!.. И вздрогнул… Ох, я даже запел от чувства восхищения, думаю, вы разделяете весь мой восторг и не будете очень строги ко мне! Надо ли объяснять что-либо, когда всё настолько прекрасно видно, как будто мы с вами — изумлённые подростки, всего каких-то полвека назад сидящие в байконурской степи, где в наших исполненных восторга глазах, как блики от костра, отражается пламя из ревущих дюз взлетающего корабля! Осталось несколько секунд до проникновения нашего великолепного «Соляриса» в бушующий океан Солнца! Уже идёт обратный отсчёт, слышите: «Десять, девять, восемь…»? Давайте зажмём кулачки и помолчим, помолчим, помолчим… «Три, два один…» Есть, есть, есть, есть!!! Ура-а-а-а-а-а!!! Есть вхождение, есть!!! Как камень, брошенный божественной рукой нашей суперцивилизации, космический корабль бултыхнулся в кипящую поверхность плазмы, вонзился в неё и устремился вглубь! Как всё просто в мире устроено, как всё невообразимо просто! Будто камень бросили в воду — и она поглотила его: рябь концентрических колец замутила раскалённую поверхность хромосферы, высокий выплеск плазмы вырос в месте, куда вонзилось наше, земное, рукотворное чудо, и — смотрите, смотрите, что это?! — как замерцали, переливаясь всеми цветами радуги, морщинами понеслись, помчались, рассыпались по всей поверхности нашего светила солнечные арки электромагнитных возмущений!
Восхитительно! Грандиозно! Бесподобно! Мог ли кто-то когда-то вообще представить себе, что такое на свете возможно!
На одно мгновение переведём наши взгляды на второй экран и вновь возвратимся к третьему. На втором смотреть теперь уже нечего: в течение почти целого часа он будет всего лишь равномерно освещён, поскольку, как мы прекрасно понимаем, дорогие мои, ожидать с борта солнечного корабля виды сказочных городов на внутренней поверхности Солнца, населённых невиданными представителями чужого разума, истопниками, так сказать, пламенного котла, могли только наши очень далёкие, средневековые предки, а ожидать наличия тяжёлого плотного ядра в центре нашего светила было уделом наивных учёных времён начала великих астрономических открытий. Сейчас там будет только белый океан внутрисолнечного света.
Зато на третьем дисплее есть на что посмотреть! Смотрите, любуйтесь! Плазменный выплеск на наших глазах превращается в гигантский протуберанец, вытянувшийся уже на половину экрана орбитального телескопа! Сейчас Солнце представляет собой яичный желток на сковородке, с одной стороны немного надорванный. Незабываемое, поразительное зрелище! Когда-нибудь мы эти фотографии покажем нашим потомкам, и они не поверят, что такая красота, которую нам воочию посчастливилось лицезреть, могла существовать на самом деле!
В связи с этим, уж простите меня, не могу удержаться от небольшого экскурса в наше общее недавнее прошлое. Этот величественный протуберанец, не будет ошибкой сказать: протуберанец-король! — заставил меня вспомнить недавние олимпийские игры, где я, как вы, наверное, помните, вёл репортажи с самых главных стартов четырёхлетия. До сих пор у меня стоит перед глазами тот немыслимый столб воды, поднявшийся после прыжка выдающегося японского спортсмена Сумогири Ямахиро! Много уже говорено о том, что до его легендарного прыжка спортивные физики категорически утверждали, что пределом возможной высоты выброса воды при прыжках со штангой с пятидесятиметрового трамплина является цифра 42,7 метра, выше — не позволяют законы физики. А для обычного человека норма ещё ниже: 36,6 — 36,7. И вот смотрите, как ошиблись физики! Уже за свои эти недосягаемые 44,6 метра, напомнившие столб воды, вздымающийся при подводном взрыве ядерного заряда, великому пятисотсемидесятикилограммовому атлету надо было, безусловно, не только золотую медаль вручить, но и бюст из палладия на родине установить! Но, мы ведь помним, что он тогда умудрился, выполняя двадцативосьмерное сальто прогнувшись, сделать в полёте ещё и пять результативных подходов к штанге: три рывка и два толчка! Да что там говорить, гениальный, истинно гениальный спортсмен!
Но давайте вернёмся, давайте вернёмся в наше восхитительное настоящее! Протуберанец продолжает увеличиваться, посмотрите, он достигает в длину, пожалуй, нескольких десятков тысяч километров и — вот это да, вот это зрелище! — у основания становится всё толще и толще! Он занял уже весь третий экран, так что мы теперь смотрим и любуемся его изображением на четвёртом экране, где транслируется картинка с земного телескопа, стоя на фоне которого, как вы видите, я и веду свой репортаж.
Вот как раз мимо меня пробегает давешний учёный, который так нелестно отозвался о реализуемом в эти секунды великом проекте по пересечению Солнца. Посмотрим, что теперь, после ослепительного успеха, разворачивающегося на наших глазах, скажет этот прожжённый скептик!
Товарищ ученый, товарищ учёный, на секундочку, пожалуйста, подойдите сюда ещё раз. Скажите, допускала ли ваша теория возможность такого поистине торжественного фейерверка, устроенного Солнцем в честь нашего его покорения? Или вы всё же не ожидали подобного приятного сюрприза?
— Парень, ты совсем с головой не дружишь? Глаза у тебя есть? Ты не видишь, что случилось: эти идиоты проткнули Солнце, из него плазма вытекает!
— Да, вы так считаете? Знаете, я всё-таки вынужден сказать, что у вас, мягко говоря, довольно странные представления о строении космических тел. Гм, гм… Ладно. И к чему подобное развитие событий, по вашему мнению, может привести?
— А ты не догадываешься, что бывает, когда протыкают воздушный шарик?!
— Так вы что, вы всерьёз хотите сказать, что наше светило… может лопнуть?
— Недоумок, открой глаза, Солнце уже взорвалось! Только в отличие от воздушного шарика в космических масштабах это происходит медленнее.
— А-а, я, кажется, понял вас! Это такая наивная сказочка, как в «Союзе пяти» у Алексея Толстого, для, дурачков, да: через несколько миллионов лет Солнце может сдуться. Я правильно вас понял? Теперь у вас такая версия происходящих событий?
— Медленно — это неполных восемь с половиной минут, тупица! Беги, если успеешь, в бункер! Выгорит только поверхность Земли, на триста-четыреста метров вглубь. Так что у тебя, словоблуда, пока ещё есть шанс выжить!
— Ну, что это он опять такое говорит, а? Впрочем, я сам виноват, сам спровоцировал его. Над убогими не смеются — их жалеют… Ну, пусть бежит по своим делам. А мы с вами, мои дорогие, давайте, вернёмся к нашему прерванному репортажу. Вот только жаль, что я не захватил с собой солнечные очки, меня ведь предупреждали, что в горах солнце сильное, так и ослепнуть можно!.. Что там у нас на четвёртом экране? Э-э, похоже, наша техника дала сбой. В отличие от нас семижильных — не выдержала напряжения торжественных минут. Сплошная белая картинка! Эй, ребята, похоже, вы к четвёртому монитору второй или третий канал подключили. Эй, вы, там! Вы слышите меня или нет? Да куда же это все сразу подевались? Простите, дорогие зрители, иногда самому всю работу приходится делать! Такой вот неблагодарный труд: опутали проводами, запросто и не выберешься из них! Да ещё и режиссёр наш на спину мне для чего-то эти легкомысленные восковые крылья прицепил. Мало того, что работаешь за всех, они ещё и клоуна из тебя делают! Фу, да что же так припекает-то сегодня, как никогда: прямо дышать нечем! Пот ручьями течёт; по спине — так вообще горячий! Да что же у меня там такое? Э, да это вообще не пот, это, никак, воск на моих крыльях плавится! Эй, люди, где вы все! Кто-нибудь! Вытащите меня отсюда! Помогите мне выпутаться! Спасите, спасите меня!.. А эти же, смотри ты, всё летят внутри Солнца, и лица их по-прежнему суровы и невозмутимы!..
Путёвка Антон Воробьёв
Рассказ занял первое на конкурсе «Двухслойная балластная призма» в сентябре 2013 года. В конкурсе участвовали 16 авторов с 17-ю рассказами.
В самом центре штата Аризона по железнодорожному полотну шел Грей Вест. Было около полудня, стояла невыносимая жара. Заросли кактусов по обеим сторонам дороги тянули вверх свои кривые зеленые пальцы. Пологие холмы уходили за горизонт, теряясь в дорожащей дымке нагретого воздуха. Тени, в которой можно переждать самое пекло рабочего дня, поблизости не было. Грей поставил кувалду на шпалы, достал с пояса флягу и сделал маленький глоток. До следующей станции было ещё далеко, воду следовало беречь.
Через пару миль рельсы свернули за холм. Там, за изгибом дороги, возле насыпи расположились несколько всадников. Завидев их, молодой человек на секунду замер, но затем продолжил путь. Банда Хейса, без сомнения, опасна, но только для тех, у кого есть деньги. К тому же, судя по всему, его заметили, прятаться не было смысла. Постукивая по рельсам кувалдой с длинной ручкой, Грей приблизился к взиравшим на него со скучающим видом всадникам.
— Здорово, Грей, — сплюнул на землю Хейс — сурового вида мужчина, с водянисто-прозрачными глазами.
— Здравствуйте, мистер Хейс, — поправил шляпу молодой человек.
— Не подскажешь нам, когда уже придет этот чертов поезд?
— Э-э… ближайший будет где-то через полчаса, сэр, — покосился Грей на револьверы всадников.
Один из бандитов выругался.
— Только это будет лесовоз, — уточнил молодой человек. — Вряд ли он вам нужен.
— Да любой, лишь бы побыстрее пришел, — раздраженно заметил всадник, находившийся слева от главаря. — Я уже изжарился на этой аризонской сковороде.
— Не бойся, сынок, — покивал Хейс. — Сегодня мы поезда не грабим.
— Ясно, — посмотрел Грей на связанного человека, лежащего на рельсах.
— И не смотри на нас как на идиотов, сынок, — прищурился главарь.
— И в мыслях не было, сэр, — оборвал свои размышления молодой человек.
— Не то составишь ему компанию, — продолжил Хейс, внося необходимую ясность.
Грей облизнул пересохшие губы и счел нужным объясниться:
— Просто… при всём уважении, сэр… если бы мне вдруг понадобилось убить апача, я бы прострелил ему голову. Это куда проще, чем тащить его в пустыню и укладывать под поезд, сэр. Хотя у каждого свои вкусы, — поспешно добавил он.
Вместо ответа всадник достал револьвер и выстрелил в лежащего индейца. На широкоскулом лице последнего не дрогнул ни единый мускул. Апач как смотрел в небо отрешенным взглядом, так и продолжал смотреть. Пуля, взвизгнув, срикошетила обрельсу и оцарапала ногу одной из лошадей.
— Слэм, чтоб тебя! — вскрикнул бандит, пытаясь успокоить испуганно всхрапевшуюлошадь. — Осторожнее!
— Как тебе такой расклад, сынок? — усмехнулся Хейс, наблюдая за изумленным лицом Грея.
— А ещё он, собака, не тонет, — вставил другой бандит, вытирая платком пот со лба. — Мы его целый час продержали в корыте с водой — хоть бы хны…
— Короче, не болтай о том, что тут видел, Грей, — перебил коллегу главарь.
— Понятно, — закинул кувалду на мускулистое плечо молодой человек. — Не беспокойтесь, мистер Хейс. Буду нем как могила.
— Вот и ладно, — покивал мужчина. — Встретишь шерифа — передавай от меня привет.
— До свидания, сэр, — зашагал по шпалам обходчик.
— Ступай, сынок.
Грей шел мимо бандитов нарочито небрежной походкой, хотя внутри у него все сжалось от страха. Таким людям, как они, ничего не стоит убить человека. Конечно, взять с Грея было нечего, но и апач на богача не походил. За что они его, интересно?
Молодой человек осторожно обошел связанного индейца и уже собирался ускорить шаг, как сзади раздался глубокий голос:
— Грей Вест.
Порция холодного пота прошиблатруженика железной дороги. Он медленно обернулся. Бандиты с удивлением смотрели на связанногоапача. А тот меж тем продолжил:
— Как насчет сделки?
— Сделки, мистер?.. — растерянно повторил молодой человек.
— О чем это ты там болтаешь? — подозрительно спросил индейца Хейс.
— Помоги мне, Грей, — проговорил апач, прикрыв тяжелые веки. — И я покажу тебе такое, о чем ты будешь рассказывать своим внукам.
Молодой человек с сожалением оглядел пленника. Он искренне сочувствовал индейцу, но получать за него пулю в лоб не собирался.
— Боюсь, если сделаю это, то никогда не увижу внуков, мистер, — ответил Грей.
— Верно подмечено, мой мальчик, — кивнул Хейс. — Можешь не сомневаться.
Апач вдруг ни с того ни с сего рассмеялся. Несколько бандитов наставили на него револьверы.
— Какого черта он хохочет?! — нервно спросил один из них.
— Крисби, дьявол тебя задери, — взглянул на него исподлобья главарь. — Не будь таким дерганым. Это просто ещё один индеец.
— Да, индеец, которого мы уже два дня не можем пришить! — воскликнул Крисби. — Какого черта, я спрашиваю, он хохочет?! — палец бандита плясал на спусковом крючке.
— Грей Вест, — глубокий голос апача пробирал до костей. — Подойди ко мне.
Молодой человек с сомнением посмотрел на пленника и перевел взгляд на Хейса. Главарь бандитов хмыкнул:
— Давайте-ка глянем, что на уме у этого индейского отребья. Мне даже интересно. Подойди к нему, сынок, — кивнул он парню.
Двигаясь на непослушных ногах, ощущая, как короткие стволы револьверов провожают его подозрительными взглядами, Грей приблизился к лежащему на рельсах апачу.
— Возьми перо у меня из волос и засунь себе за ухо, — повелел пленник тоном, не допускающим возражений.
— Ха-ха! — осклабился Крисби. — Да ты шутник, черт тебя дери!
— Точно, — сплюнул другой бандит, с зубами, изъеденными кариесом. — Прямо клоун, как в том цирке в Финиксе.
— Похоже, наш индейский друг спятил, — послышались высказывания остальных членов славной компании грабителей. — Остатки мозгов сварились вкрутую. На такой жаре — не удивительно.
— Нет-нет, — поднял ладонь Хейс. — Досмотрим спектакль. Давай, сынок, делай, как он сказал.
Грей осторожно наклонился к смуглому лицу апача и вытащил из его волос орлиное перо. Глаза пленника по прежнему были закрыты. Повертев перо в руках, молодой человек пристроил его за своим ухом…
«_-:-_:~|.._|»
Непонятные символы мелькнули в жарких струях воздуха и пропали. Затем перед настороженным взором парня появились другие буквы, на этот раз английские. Некоторые слова он видел первый раз, но другие смог разобрать:
«…уровень… …сигнал… …соединение… …заряд 0,00001 %… …попытка входа… …ответ…»
Словно завороженный, Грей протянул руку, чтобы потрогать висевшие перед ним слова, но те оказались бесплотными как дым или радуга.
— Что с тобой, сынок? — сощурился Хейс.
Судя по всему, бандиты не видели того, что наблюдал сейчас парень. А затем в голове Грея зазвучал голос:
«В соответствии с контрактом, при возникновении чрезвычайных обстоятельств, угрожающих жизни Принимающего, и невозможности задействовать обычную процедуру спасения, туристическая фирма *Звездный Путь* инициирует применение охранной программы, с согласия добровольца. Подтвердите, пожалуйста, Ваше согласие, господин Грей».
Сказать, что парень был потрясен — значит, не промолвить ни слова. В ушах молодого работника железной дороги шумным прибоем стучала кровь, глаза растерянно перескакивали с одного предмета на другой, в поисках того, кто с ним только что говорил. Но в поле зрения попадали лишь озадаченные лица бандитов и понурые морды лошадей. Быть может, сумасшествие странного индейца передалось и ему?! Говорят, безумцы слышат голоса и видят всякие видения…
— Чтоб меня… — пробормотал Грей.
— …слышишь? — слова Хейса доносились слабо, как издалека.
Молодой человек чувствовал, как у него начинает кружиться голова.
«Господин Грей, подтвердите, пожалуйста, ваше согласие», — вновь возник голос.
— …эй!
— …ты как, в порядке?
«Ваше согласие, господин Грей».
— …сколько пальцев видишь?
«Согласие, господин Грей».
Голос в голове становился всё более настойчивым, заглушая все остальные звуки. Просто так он не отстанет…
«Ваше…»
— Да, — прохрипел парень — в горле порядком пересохло. — Я согласен.
В тот же миг его взор прояснился, шум в ушах стих, ноздри втянули в себя горячий воздух пустыни, а руки сжали длинную рукоятку кувалды. Грей Вест выпрямился во все свои шесть футов и пять дюймов. Странное ощущение появилось у молодого обходчика: словно его тело подчинялось теперь не ему, а кому-то ещё. Кому-то, кто четко знал, что надо делать.
Мышцы рук дернулись, посылая кувалду в короткий полет, закончившийся ударом о шею одного из бандитов. Сам парень прыгнул вслед за своим инструментом, приземлился возле потерявшего сознание грабителя и потянулся за его револьвером. На широкую спину тут же обрушился град пуль остальных членов банды. Однако всё, чего они этим добились — отбросили Грея на пару футов от оружия.
«Снижение уровня заряда до…» всплыли неосязаемые буквы перед глазами обходчика. Он не стал вчитываться. Всё равно это ни о чем ему не говорило. Ладонь наткнулась на кувалду, тело молодого человека снова напряглось и швырнуло тяжелый снаряд в ближайшего противника — Хейса. Главарь бандитов пригнулся к холке лошади, увернувшись от броска, и разрядил барабан своего кольта прямо в грудь молодого человека. «Снижение уровня…» отреагировали буквы.
— Дьявол, да он стал прямо как апач! — воскликнул Крисби.
— Эй, сынок, — обратился к парню Хейс, неторопливыми движениями заталкивая в револьвер один патрон за другим. — Ты и впрямь хочешь отдать свою молодую… — вошёл патрон, — …многообещающую… — ещё один патрон, — …и во всех отношениях прекрасную жизнь… — крутанулся барабан, — …за индейца?
Грей сглотнул. Он лежал в пыли, неподалеку от железнодорожной насыпи, совершенно открытый и безоружный. До сих пор какое-то чудо спасало его от пуль, но будет ли оно работать и дальше? Молодой человек вовсе не был в этом уверен. Однако он был уверен в том, что начатое дело надо доводить до конца.
— Похоже, что так, сэр, — произнес парень, медленно поднимаясь на ноги.
— Серьёзно? — наклонился вперед Хейс. — Почему бы тебе просто не отдать нам это перо? И мы — даю слово — забудем о возникшем недоразумении.
Грей обвел взглядом остальных членов банды. Что-то в ухмылке Крисби говорило о том, что с пером ему лучше не расставаться.
— Пожалуй, я оставлю его себе на память, — проронил обходчик.
Нагретый воздух перед его взором прочертили красные и белые линии. Странного вида закорючки, перемешанные с цифрами, побежали слева и справа от поля зрения. Вверху вертелась картинка кольта с пометками на незнакомом языке. Внизу красовались анатомические схемы человеческого тела — нечто подобное Грей видел в больнице Финикса, когда возил туда своего брата с аппендицитом. Легкие молодого человека сделали глубокий вдох.
— Малец, — насмешливо обратился к обходчику Крисби, — что бы ты там ни задумал — черта с два у тебя…
Тело Грея сорвалось с места, длинными прыжками преодолело пятьдесят футов и под аккомпанемент револьверных выстрелов прыгнуло вперед. «Сниже…», «сниже…», «снижение заряда…» проскочили фразы на фоне синего неба и красноватых холмов.
Грей врезался в Хейса, сбив его с лошади, обхватил бандита крепкими руками и покатился с ним по горячей пустынной земле. Выстрелы стихли — бандиты боялись задеть своего предводителя. Трое из них соскочили с лошадей и поспешили на выручку боссу. Молодой человек с некоторой отстраненностью наблюдал, как его кулаки молотят по разным местам на теле Хейса. Места были подсвечены оранжевыми пятнами.
Несколько рук разом потянули его назад, оттаскивая от покрытого синяками и ссадинами главаря. К горлу Грея приставили нож, чья-то ладонь потянулась за пером…
Конечно, таинственное существо, что управляло его телом, дралось неплохо. Но уж слишком жалело противника — на взгляд парня. Потасовки, в которых приходилось участвовать молодому человеку, обычно заканчивались после одного-двух ударов. Поэтому Грей решил, что было бы неплохо помочь своему «гостю». Приложив усилие воли, парень преодолел сопротивление своих нервных волокон и вернул себе контроль над телом.
Рука, тянувшаяся к перу, так и не коснулась его. Обладатель этой руки с посеревшим лицом осел на колени, держась за место, куда заехал кулак Грея. Вокруг молодого человека сверкали разноцветные стрелочки, подсказывая направление ударов, но он не обращал на них внимания. Двинув локтем в висок одного бандита и зарядив апперкот другому, обходчик избавился, наконец, от насевших противников. Оставался только Крисби.
Грей взглянул на всадника, который наблюдал за ходом драки с другой стороны железнодорожного полотна. Тот судорожно разрядил в парня револьвер, повернул лошадь и взял с места в карьер. Пыльный след медленно оседал в нагретом воздухе пустыни…
Грей с отстраненным видом рассматривал свои широкие ладони, размышляя, как ему удалось выжить в этой заварушке, и какого черта он вообще в неё полез. «Заряд исчерпан» мигала полупрозрачная надпись, но молодой человек не обращал на неё внимание. Из ступора его вывел пронзительный гудок.
«Поезд, мистер Грей», — прокомментировал голос.
Лесовоз уже вывернул из-за поворота и теперь отчаянно сигналил: машинист заметил препятствие на пути, но остановить поезд не успевал. Пребывая в полной уверенности, что чудесная защита всё ещё действует, молодой человек сорвался с места, устремившись к связанному индейцу, подхватил его и с превеликим трудом — апач оказался очень тяжелым — отбросил с рельсов. В следующий миг паровоз врезался в обходчика.
Грей сидел на бревне и жевал травинку. Вечерело, жара, наконец, начала спадать. Небо на западе приобрело оранжевый оттенок, солнце подсвечивало золотом барашки облаков.
— Грей Вест, — подъехал индеец на лошади, реквизированной у бандитов. — Ты всё понял?
— Вроде того, мистер, — ответил молодой человек…
Состоявшийся разговор занял несколько часов, пока один из машинистов ездил в город за шерифом.
— Мой мир сильно отличается от твоего, Грей Вест, — поведал индеец доверительным тоном. — Там много льда и почти не бывает тепло.
Молодой человек понимающе кивнул. Его шурин как-то рассказывал про Канаду, в которую плавал на рыбачьей шхуне. Дескать, снега там столько, что можно завалить всю аризонскую пустыню трехметровым слоем. Байки, конечно. Грей на них не купился.
— Должно быть, дров на зиму не напасешься, — сочувственно произнес он.
— И не говори, — раскурил трубку апач. — Греемся чем попало. А ещё — скука смертная. Народу, считай, вокруг нет совсем. На отшибе живем, редко кто в наши края залетает. В свободное время заняться нечем.
— Бывает, — покивал Грей. — Мы с парнями в таких случаях в бейсбол играем. Или на рыбалку.
— На рыбалку у нас не получится, — помотал большой головой индеец. — Водоемов нет. Не говоря уже о рыбе.
— Некоторые ещё книги читают, — вспомнил обходчик. — В библиотеках.
— Классику я давно всю прочел, — махнул рукой апач. — А из современных авторов… разве что ЧжиТганд Лу… да и то, ранний.
— Не слыхал о таком, — вежливо заметил парень. — Хотя я по книгам — не особо.
— Вот, — пыхнул собеседник. — Ждёшь отпуск целый год. Покупаешь тур. И душой отдыхаешь от торосов и сосулек. А потом хвастаешься коллегам. Такие дела.
— Ясно, — выдернул травинку молодой человек. — А у нас отпуска не допросишься. Даже выходные не всегда бывают.
— Хотя… — поплыло в жарком воздухе белое колечко. — У нас временами тоже неплохо. Северные сиянияна всё небо, «поющие» льдины, снежинки размером с корову…
«Вы задействовали необычный тип энергии, мистер Грей, — сообщил парню бестелесный голос, пока апач расписывал новому знакомому места, из которых прибыл. — Мы до сих пор анализируем случившееся. В нашей практике пока что не было подобных прецедентов. Однако данные об уровне безопасности вашей планеты, без сомнения, будут скорректированы. Впредь мы не допустим возникновения столь криминогенных ситуаций с участием наших клиентов. Мы искренне надеемся, что вы войдете в наше положение и не станете размещать информацию об этом инциденте во всегалактическойинформсети».
— Э-э… да, сэр, — несколько неуверенно ответил парень. — Полагаю, что не стану… — беседовать с невидимкой было всё-таки странно.
Он не понял и половины всех этих сложных слов, но справедливо полагал, что если серьезная контора желает сохранить свою репутацию, то должна позаботиться о благополучии своих клиентов, попавших в неприятности. Вот как, например, старый Дьюк Веллингтон бесплатно поставил ему пломбу взамен той, что выпала.
— …Помни, что турфирма предлагает тебе в награду за помощь путевку в любой конец галактики. На твой выбор. Твоё сознание перенесется на другую планету, и ты сможешь жить в теле тамошнего обитателя целый месяц. Как я сейчас живу в теле этого человека.
— Интересный выбор вы сделали, мистер, — усмехнулся Грей.
— Места у вас тут красивые, — широко повел рукой апач.
Молодой человек покосился на паровоз, обиженно задравший к небу колеса, на сошедшие с рельс вагоны, раскиданные вокруг бревна, испорченное полотно железной дороги. Что ж, на вкус и цвет…
Перед взором парня проплывали разноцветные виды далеких миров. От одних веяло холодом, как от родины новоиспеченного знакомого. Другие опаляли жаром раскаленных лавовых морей. Третьи обрушивали на потенциального клиента турфирмы буйство красок, которому позавидовал бы ежегодный карнавал в далекой Венеции. Грей задумчиво листал неосязаемые страницы движением пальца, слюнявя его по привычке. Странные существа населяли эти миры. Они не походили ни на что виденное ранее, и их было так много… Интересно, каково это — вселиться в одного из них, посмотреть на другой мир глазами его исконного обитателя? Наверное, это будет удивительно. А потом, через много лет, — рассказывать об этом своим друзьям и знакомым, которые просто рты пораскрывают. Мда… Всё равно, что рассказывать голодным о том, какой вкусный пирог был на вечеринке в прошлом году.
— Пожалуй, я лучше оставлю эту путевку своему внуку, мистер, — тронул шляпу Грей.
— Тогда, быть может, я когда-нибудь буду его гидом, Грей Вест, — подмигнул апач. — У нас есть на что посмотреть.
— Счастливо добраться домой, — кивнул обходчик.
— Хау, — с серьезным видом поднял руку индеец, тронул лошадь и поехал в сторону холмов.
Парень выплюнул травинку, подхватил кувалду, закинул её на плечо и неторопливо пошел к шерифу, который возился возле связанных бандитов. Интересно, подумал он, какую планету выберет мой внук?
Ультиматум чудес Дмитрий Костюкевич
Рассказ оказался лучшим на конкурсе миниатюр «Террор» в ноябре 2013 года. В конкурсе приняли участие 42 рассказа от 27 авторов.
Штабной вагон катил с апломбом, словно сам по себе. Облитый небесно-голубым цветом снаружи, одетый в белый атлас и стёганый штоф внутри, он точно стеснялся менее пышного соседства: паровоза, вагона-опочивальни, вагона-кухни, вагона-столовой и пассажирских вагонов. Над окнами, разделёнными большими простенками, восседали позолоченные двуглавые орлы.
Амбиций В. М., начальнику поезда (по совместительству владельцу), было не занимать. Об этом говорил сам факт открытия первой частной железной дороги. Чугунка, со времён царской России принадлежавшая исключительно государству, каким-то хитрым (а главное — затратным) образом пустила росток вне державной системы.
Факт первенства, видимо, вдохновил начальника поезда на создание не совсем обычного состава. Или совсем необычного, как считал сам В.М., не замечая жирную грань между новаторством и реконструкцией. Дизайнерский проект железнодорожного состава «Новое прошлое» (эти слова значились на комплекте проектно-сметной документации) удивительным образом напоминал роскошный поезд Николая I, на котором император в 1851 году открывал «железку» Санкт-Петербург — Москва.
Штабной вагон шили, разумеется, по мерке, взятой с императорского вагона.
Сидя в кабинете перед ноутбуком, начальник поезда отхлёбывал чай из изящного, с серебряными жилками стакана в позолоченном, с фигурной ручкой подстаканнике. Ретро-поезд летел вперёд, вперёд, вперёд, снег таял на котле паровоза, а предрождественский мороз бессильно покусывал окна. В штабном вагоне было тепло и уютно; В.М. нежился в этом комфорте, будто в ароматизированной сауне, млея и позёвывая, но не забывая про данное внучке обещание.
Внучка просила подарить ей на Рождество… стихотворение. Ну и странный народ, эти детки. Стихотворение! Не упаковку жвачек, не новую куклу, не поездку в деревню, а эфемерные буквы. В.М. не понимал этого и как начальник поезда, и как дедушка. Но — интернет в помощь; он пил чай и перебирал в «паутине» ноутбука стихотворения, искал вдохновение для создания подарка.
Мороз за окном был трескуч, как расходящийся по швам пиджак, почти крещенский, почти исконно-русский; начальник поезда помнил его щипки, от которых при посадке раскраснелись нос, щёки и уши. Розовые хлопья тумана копошились в стволах мохнатых сосен, проносящихся по обе стороны состава, а снежные парики горных вершин горели в ярких ухаживаниях январского солнца. Лошади на лесных тропах чуяли снег, крестьянин торжествовал, на экране ноутбука значились стихи Пушкина.
Стихотворение, стихотворение, стихотворение… гори оно синим пламенем! Маленькая террористка — горячо любимая, но от этого ещё более опасная в категоричности своих ультиматумов — требовала от деда рождественское стихотворение. Написанное лично им.
«Актом устрашения» стал безапелляционный отказ подняться на «борт» дедушкиного поезда, не говоря уже о совместном путешествии в штабном вагоне. А ведь В.М. купил этот поезд и эту дорогу для внучки… для неё и себя.
Начальник поезда любил поезда и свою маленькую террористку.
Внучка обожала стихи и своего деда, не верящего в волшебство рифмованных строк.
— Прокатимся после Рождества. И твоего стихотворения. Всё понял, деда?
В.М. вяло попытался вести переговоры, дабы смягчить требования, но проиграл. И теперь был вынужден приманивать чужой рифмой собственное вдохновение. Поисковики охотно сыпали снежинками сайтов.
То были времена чудес, Сбывались все слова пророка: Сходили ангелы с небес, Звезда катилась от Востока.«Не то, ах, не то…»
Сегодня будет Рождество, Весь город предвкушает тайну, Он дремлет в инее хрустальном И ждёт: свершится волшебство.«Вот бы свершилось, — думал начальник поезда (он же любящий дедушка), — вот прямо сейчас, и стихотворение придумалось, впервые за семьдесят лет. Почему я не помню, сочинял ли стихи в детстве? Разве бывает так, чтобы человек не сочинил ни одного стишка?».
Дальше стихотворения пошли лучше, мелодичней, образней, в них чувствовался скрипучий снег, и синий иней, и волшебные звёзды, и чудеса, и мороз-морозец, и как хорошо, что всему этому находилось место за стенами штабного вагона, а не внутри.
Вернусь к тебе: Но лишь с дарами слов, охапкой волшебства Приду к тебе: Через столетья и жестокие года…«Что?..»
В.М. понял, что последнее четверостишье принадлежит ему, его голове — а не экрану компьютера или памяти.
Тут же в толстые стёкла ударила пощёчина вьюги, где-то в зимнем лесу перепрыгнула с ветки на ветку синичка, ткнулся клювом в мёрзлую кору дятел, а белка-хитровка взвилась на заснеженную крону. Небо превратилось в хрусталь, в который молоточком ударил паровозный гудок.
Стихи словно поменяли природу и мир за окном вагона…
Поезд остановился.
Кутаясь в шубу, начальник поезда вышел на входную площадку, взялся за ограждение и всмотрелся вдаль. Туда, где густеющие сумерки отливали красным и жёлтым. Холод проникал в старческие кости даже через толстые рукавицы.
— Государя-батюшку взорвать хотели! Сволочи!
Горизонт тлел. Голоса текли над насыпью: злые, испуганные, морозные.
— Кабы из Харькова раньше свитского не выехали… в последний момент ведь изменили, в последний… Сам Бог направил, вмешался…
— Выродки, ублюдки! На царя!..
— Как государь? Как царь-батюшка Александр?
— Хорошо, хорошо…
В.М. смотрел, как горит взорванный террористами свитский поезд, точнее, один вагон — далеко, в ночи, в позапрошлом веке. Он даже знал, кто совершил это дерзкое покушение на императора, но ошибся составом из-за смены порядка следования поездов в Москву, — В.М. любил историю России, крепко учил когда-то…
Но в голове крутилось другое:
Волшебство.
Чудо.
Стихи или наплывающее из тумана Рождество — кто виноват, кто знает? Жаль, что этого не видит внучка. Не горящий вагон, а звёздное небо конца 19 века.
Но он обязательно найдёт способ вернуться и рассказать ей о волшебном приключении.
После стихотворения.
Судья Илья Объедков
Рассказ занял первое место в номинации «Лучшая форма» и второе в номинации «Самый закрученный сюжет» на конкурсе миниатюр «Террор» в ноябре 2013 года.
Добрых людей много. Так мамка говорит. А вот заплечники мне другое твердят. Сам я их не вижу — шея с детства, как у волка, не вертится. Но шуму от заплечников много. Тот, который справа — всё дело говорит. Толково мыслит. А левый — тоже, вроде по уму, да всё как-то боком выходит. Сам-то я мало, что разумею, а они, как могут, подсказывают. И спорят же, зараза, промеж собой, что, бывало, я не выдержу и с ними в бучу вступаю. А прохожие не понимают. Ведь, как я разумею, заплечников моих никто не видит, а слышу один я. Подозреваю, что бабка Шурка, ведьма кривозубая, чует их, что ли. Про меня говорят — Тришка убогий, неразумный. А мамка сказывает — убогий, стало быть, у Бога. Рядом, то есть.
Я и у храма, где милостыню прошу, у самых ворот стою. Поближе, значит, к Богу. Калеки — побируши, что до меня там стояли, не хотели меня на своё место пущать, да разве со мной совладаешь. У меня лапа ого-го, зараз стакан медяков влазит! А подати у нас хорошие, хоть и приход небольшой. Мне много и не надо — сыт всегда, да и на выпивку остаётся. А выпиваю зачастую, как лишние копейки на руках бывают. Тут наши желания едины. Левый подсказчик сразу млеет и говорит, что хорошо бы выпить. Правый не спорит и добавляет, чтоб аж хреново было.
Есть купец у нас один — Еремей Дмитрич. Так тот завсегда денег мне не жалеет. С измальства, то пятак даст, то горсть сладостей. Добрый человек. Последнее время всё сыном хвалится. Отзовёт Еремей меня в сторонку от храма, достанет штоф водочки и давай без умолку трещать. Сынок у него умный — студентом в самом Петербурге. Светлая голова, говорит Еремей Дмитрич. Не чурается меня купец, как к ровне относится. И заплечники мои его уважают. С ним, говорят, мы всегда пьяны. Но не все прихожане меня привечают. Барышни всё взгляд отводят, стесняются, стало быть. А их кавалеры, как петухи — готовы заклевать им в угоду.
Несогласный я с мамкой. Мало добряков среди людей. Вот собаки, те — да. Был у меня пёсик Куцый. Я его кутей подобрал. Любил меня — страсть, лизаться всё лез. А бабка Шурка, вражина ненавистная, кипятком его обдала. Три дня бедный выл, пока не издох.
А недавно, знакомец мой — купец Еремей, в кабак меня поволок. Сам странный, встревоженный. Перегаром вроде несёт, а глаза трезвые и пустые. За столик сели, он бросил свёрток передо мной и давай напиваться. А сам всё со свёртка глаз не сводит. Говорит, сын у него в беду попал. Связался с лиходеями, проигрался в карты. Так они за расплатой к отцу приехали. И не денег требуют. И зашептал тут Еремей Дмитрич. Говорят, в городишко наш прибывает Великий князь Константин Николаевич — брат государя Александра. Так, в уплату сыновьего долга, повелели злодеи купцу бомбу в того метнуть, а иначе порешат сынка купчего. Захихикали мои заплечники. Чего радуются, дурни? Вон, хорошему человеку как плохо. А Еремей смахнул слезу и, прямо так, меня спросил. Мол, помоги мне, Триша. С тебя убогого спрос какой? А я к тебе завсегда, как к сыну… Метни за меня бомбу. Осилишь? Ох, и зашипели шептуны мои захребетные, меня отговаривая. А у меня, что, своего ума нет? И силы немерено. Да, я князя этой бомбой, как камнём, зашибить могу.
Обмяк Еремей, и свёрток мне придвинул. Говорит, завтра князь к нашей церквушке с поклоном приедет. Там и сделай дело. Свёрток не простой, а управиться с ним легко. Дёрни шнурок, что хвостик мышиный, и кидай. Денег мне совал купец, да не взял я. Добрый он. И я добрый.
А к обеденной, стал выжидать я у храма, где условились. Народу собралось — тьма. Бурчали мои недовольные заплечники. Не хотели мне подсказывать. А когда карета открытая показалась — изготовился я, да задумался. С князем рядом сынишка сидел. В мундире, что солдатик кукольный. Да не его жалко было. На руках собачку князь держал. Ну, вылитый мой Куцый. Знать, князь хороший человек, раз собачек любит. И как его погубить? За сына купчего? Так, тот завсегда в меня камнями кидался.
И дрогнула рука у меня, а заплечники вздохнули облегчённо в один голос. Раньше-то рука не дрожала. Ведь человек, что козявка — муравей. Наступить жалко, а наступишь и не вспомнишь. Я ведь так разумею — убогий я, значит, вроде как при Боге. Почти сын. И калеки те, что мешали мне поближе к храму стоять, с тем согласились, когда я их в канаве топил. А барышни те, ох и верещали в подворотне. А я им дых лапой-то своей перекрывал. Уж когда пятую по счёту кончал, понял, почему они взгляд воротят. Ведь убогий я — сын Божий. Не презирают, а уважают они меня. А заплечники мои, ух и выдумщики, всё так умно подсказывали, когда к нам сыскари нагрянули, человеков, мною сгубленных, искать. Да, глубокая река — разве ж найдёшь. Миловал Бог.
Не бросил бомбу я. Пусть идёт с миром князь. Не жалко сына Еремея, да и самого купца не жалко. От его денег голова по утрам разваливается. А бомбу есть у меня куда применить. Бабка Шурка, старая карга, к дому своему близко не подпущает. Заплечники криком кричат от одного её вида. А за Куцего должна ответ держать. Да, с таким инструментом, мне к Шурке приближаться и не надо. Издаля швырну в ведьмино окошко бомбу. Сил хватит — вон какая лапа у меня! Да и Бог добрым людям помогает. А я собак люблю — стало быть, добрый. Заплечники не дадут сбрехать. Уж они-то знают.
Голодный год Максим Тихомиров
Рассказ занял первое место на конкурсе «Пластинация, сэр!» в январе 2014 года. Всего в конкурсе приняли участие 19 авторов с 26-ю рассказами.
Еды хватило на месяц.
До предела сокращенная пайка едва-едва глушила голодную резь в желудках. Совсем ненадолго. Потом кончилась и она.
Они смогли вытерпеть еще неделю. Потом, когда сделалось совсем невмоготу, стали тянуть жребий. Короткую вытянул Яцек. Вздохнул. Сказал:
Ладно.
И пошел собираться.
Товарищи вздохнули — кто с облегчением от того, что им на сей раз повезло, кто — с сожалением. Яцек был самым маленьким и костлявым в команде. Значит, до следующего жребия ждать придется недолго. И кому-то придется стать следующим на несколько дней раньше, чем было бы можно, будь Яцек покрупнее.
Впрочем, теперь, спустя год после злополучного транспойнта «Кондора», их оставалось уже не так уж и много. Кнауппе, Боргойл, близнецы-азиатцы с именами, которые Яцек так и не научился произносить правильно за все это время и обозначал их для себя просто — Первый, Второй и Четвертый…
Долгое время близнецов было четверо. Им сказочно везло при жеребьевках, и в какой-то момент те, кто уже лишился супруга, друга, возлюбленного, начали роптать. Дело едва не закончилось расправой — но близнецы поступили мудро. Бросили очередной жребий только между собой. Обняли на прощание Третьего.
Ели молча. Жили дальше. Ждали. Тянули жребий вместе со всеми, и им снова и снова везло. Но больше к этой теме никто никогда не возвращался.
* * *
Страшно не было. За прошедший год Яцек устал бояться. То, что ждало его сейчас, уже не казалось страшным. По-крайней мере, оно было не страшнее голодного огня в глазах товарищей. А вот товарищи пугали. Яцек знал, что сам он выглядит сейчас не лучше: такие же измученные воспаленные глаза, такое же заострившееся лицо, те же нервически сжимающиеся в кулаки пальцы, которые предательски дрожали, когда кулаки разжимались.
Убежать от всего этого хотя казалось неплохой идеей. Даже то, с чем ему сейчас предстояло встретиться, не могло испортить этого ощущения.
Яцек влез в саркофандр и задраил дверь шлюза. Когда крутил задрайку, видел сквозь смотровое окошко все тот же голод в глазах остающихся. Повернулся к голодным взглядам спиной и включил заполнение камеры. Когда давление в шлюзе и снаружи сравнялось, толкнул внешнюю дверь и вышел наружу.
Сразу за дверью его встретил Хансен. Прикованный за лодыжку ржавой железной цепью с грубо выкованными звеньями, он скалился сквозь разбитый визор шлема костяной улыбкой. И цепь, и сам Хансен были покрыты плешинами известковых наложений, из которых вырастали нежные веточки кораллов. Губки-бродяги переползали с места на место, выпрастывая псевдоноги из полупрозрачных светящихся тел и шевеля кронами стрекательных щупалец. Пара огнекрабов забралась в глазницы костяка и смотрели оттуда на Яцека. Казалось, сам Хансен смотрит из преисподней, и дьявольский огонь пылает в его мертвых глазах. Когда Яцек проходил мимо, из горловины саркофандра хлынул наружу поток живого серебристого металла — рыбки-ухватки все еще пытались поживиться чем-нибудь на давно обглоданных костях.
Чуть дальше, на огромном коралловом дереве, был распят Тиотаари. Здоровенные гвозди, пробившие его предплечья и голени, надежно держали останки. Известь, почти полностью покрывшая саркофандр, превратила его в мраморную статую. Пряди рыжих волос волновались в слабом придонном течении, словно водоросли.
По мере того, как Яцек поднимался из сумерек глубины все ближе к солнечному свету, ему встречались все новые мертвецы. Чем дальше они находились от мирохода, тем больше были похожи на каменные изваяния. Распятые, расчлененные, вздетые на колья и пики, завязанные в причудливые узлы, они казались делом рук безумного скульптора, избравшего очень странный материал для воплощения в жизнь своих больных фантазий.
У смерти множество ликов, подумалось Яцеку. Но смысл ее всегда один и тот же. Ты перестаешь быть, и что происходит с твоим телом потом, вряд ли может взволновать кого-то еще — а тебе и подавно все равно. Эта галерея мертвецов и не призвана напугать — она лишь должна наводить на определенные мысли и создавать подходящий настрой для того, что случится с самим зрителем в ближайшее время.
Самый дальний труп скрывали особенно плотные наложения — он почти утратил антропоморфные очертания и выглядел скорее игрой природных сил, нежели человеческим телом. С трудом угадывались контуры рук и ног, согнутых причудливым образом в странных местах. Яцек в очередной раз подивился прихотливости творческого подхода хозяев острова и прибрежных вод.
Интересно, что они приберегли для меня, подумал Яцек. Мысль не пугала. Не пугали и превращающиеся в статуи тела товарищей. Вообще уже ничто не пугало. Словно он отвык бояться за те полгода, пока «Кондор» лежал на шельфе у берегов северной континентали Антакальдии, словно коростой, покрываясь многотонным панцирем известковых наложений и садом коралловых древ.
* * *
Пустышники ждали его на мелководье. До поверхности оставалось метра два-три, и коралловый риф пологим склоном поднимался к ее волнующемуся зеркалу. Яцек брел навстречу пустышникам, которые ждали его, рассыпавшись полукольцом среди коралловых зарослей. Легкое волнение поверхности бросало неспокойную рябь теней на их разноцветные тела, сквозь отверстия в которых сновали стайками яркие рифовые рыбки.
При приближении Яцека пустышники расступились, не то давая ему дорогу, не то обозначая коридор, миновать который ему было нельзя. Он не стал игнорировать намек — шел дальше, не замедляя шага. Замедлить его, впрочем, едва ли получилось бы. Он и так едва волочил ноги, благодаря воду за дарованную поддержку. На суше он не смог бы пройти этот путь, несмотря на малую гравитацию чуждомира, и не смог бы ползти сколь-нибудь долго.
Сил просто не осталось.
Пустышники смыкались позади, и он шел в центре подковы из их тел. Они не подгоняли его, а прикосновения их бескостных хрящерук были очень деликатными, даже нежными — они поддерживали Яцека под бока и локти, когда того начинало качать совсем уж заметно.
Поверхность была все ближе. Яцек коснулся гребнем шлема своего отражения, и зазеркальный двойник слился с ним, когда Яцек пробил тягучую пленку вод и пал на колени в полосе вялого прибоя, не в силах сделать больше ни шагу.
Его бережно подхватили под руки и повлекли по мелкой воде к берегу. Яцек не мог поднять голову — ставший вдруг неимоверно тяжелым шлем клонил ее к земле, непосильной ношей улегшись на шею. Ботинки саркофандра оставляли позади двойную борозду, рыхля цветной песок пляжа. Перед глазами Яцека прокручивалось сплошное поле коралловой крошки, среди которой блестели перламутром завитки раковин и деловито суетилась ракообразная мелюзга попугаистых расцветок.
Потом стали попадаться проклюнувшиеся сквозь песок былинки багрово-фиолетового, как основная масса наземной растительности Антакальдии, цвета. Вскоре его тащили по сплошному ковру красно-синей травы, под которой змеились корни местных деревьев. Яцек то и дело пересекал полосы тени от из причудливо искривленных стволов.
Пустышники семенили рядом, удерживая на весу верхнюю половину тела Яцека. В поле зрения, ограниченное рамкой закрытого визора, то и дело мелькали тонкие опорные ножки аборигенов, покрытые замысловатыми спиралями цветных узоров.
Наконец движение замедлилось, а потом и вовсе остановилось.
* * *
Яцека бережно подняли на ноги и усадили на помост из древесных сучьев, отдаленно напоминающий кресло. Руки и ноги легли в специально подогнанные под пропорции человеческого тела лотки. Хрящеруки отпустили его — а кресло вздрогнуло, оживая, и опутало Яцека щупальцами лиан, удерживая его бережно, но крепко. Так крепко, что сразу становилось понятно: вырваться из древесных объятий не удалось бы, даже когда Яцек был крепок и полон сил, когда не был истощен физически и морально постоянным недоеданием и безнадегой.
Яцек, подняв голову, огляделся. Пустышники притащили его на крохотную площадь посреди своего наземного общедома. Плетеные из водорослей и лиан стены ограничивали видимость, края многоскатных крыш, покрытых черепицей из склеенного слизью песка, нависали над головой, истончающиеся ветвистые шпили сплетались в вышине ажурным куполом, под которым порхали, как бабочки, многокрылые птицерыбы.
Прямо перед Яцеком на большом плоском камне сидел Епископ.
Многоцветное тело Епископа было сложено из тел десятков простых пустышников. Сплетаясь конечностями, они слагали некое подобие антропоморфной фигуры, у которой было не в пример меньше рук и ног, чем у самих аборигенов. Радужный нарост венчал покатые плечи Епископа, заостряясь на конце, словно митра.
На «митре» явно не хватало навершия — просто так, для целостности образа.
Епископ смотрел на Яцека сотнями глаз пустышников, из которых состоял. Глаза были рассеяны по его телу безо всякой понятной человеку системы. На «голове» их было десятка полтора, и направлены они были во все стороны разом. Конус головы вздувался и опадал, пустышники в нем влажно пошевеливались. Внешние динамики донесли до ушей Яцека их песню. Больше всего издаваемые пустышниками звуки напоминали громогласное мурлыкание увеличенного раз в двадцать кота. В них столь же явственно чувствовалось полное довольство и примирение с мирозданием.
Пустышники просто лучились им.
* * *
И ведь у меня так и не получится их возненавидеть, понял вдруг Яцек. Не получится до самого конца. Даже когда я окажусь на самом пороге небытия, даже когда пойму уже не умом, а тем животным началом, которое до поры таится даже в самых стойких из нас, я не смогу ненавидеть этих мурлык, так непохожих на оставшихся по ту сторону миростен котов.
Они простодушны, незлы — и искренне считают, что поступают правильно. В самом деле, по всем универсальным канонам добра и зла, при всем многообразии проявлений морали на обитаемых мирах, они поступают хорошо.
Они спасают нас от голода.
То, что нас раз от раза делается все меньше, не так важно.
Вот оно, основное отличие психологии человека и пустышника.
Хомо — общественные индивидуалисты. Пустышники же — персонификации единого сверхсущества. Пчелки. Муравьишки. У них даже не возникает вопроса, когда надо пожертвовать своим ради общего… или даже — собой ради других.
Сейчас, спустя год после того, как «Кондор» материализовался после прокола миростены в толще подводного хребта, на вершине которого вырос коралловый атолл пустышников, Яцек почти понял, наконец, каково это — быть пустышником.
Он не чувствовал практически ничего. Ослабленное, истощенное тело уже не ныло, голодная плоть уже не молила о пище — его наполняла вялая апатия, и все прикосновения, движения и даже боль воспринимались сквозь толстое одеяло безразличия.
Эмоции оскудели. Способность воспринимать и радость, и горе одинаково притупилась. Мир стал оттенками серого, утратив краски. Яцек по-прежнему воспринимал все в цвете, но где-то по пути от сетчатки к мозгу цвета теряли насыщенность, краски выцветали, контраст исчезал.
Он не чувствовал себя несчастным. Счастливым же он перестал быть в тот самый момент, когда за вскрытым тамбуром межкорпусного шлюза на месте грузовых, топливных и продовольственных трюмов, вахтенные из которых почему-то не вышли на связь после материализации мирохода в континууме Антакальдии, обнаружился массив скалы. Твердь вновь открытого мира перемешалась молекулами с молекулами корабля, его груза, запасами топлива и плотью членов команды.
И с запасами пищи.
* * *
Мироход не аннигилировал во вспышке солнечного огня по той лишь причине, что перемещение его между мирами Единого не сопровождалось движением. Он перетекал из реальности в реальность, бережно укрывая за коконом кривящих пространство энергетических полей и прочным корпусом команду и груз.
Команда «Кондора» была первопроходцами, а с первопроходцами случается всякое. Это на освоенных мирах, связанных меж собой помеченными маячками постоянными порталами, движение сквозь миростены немногим отличается от круглосуточного потока транспорта на оживленной трассе. Там нет места случайностям.
Иное дело — фронтир. Неразведанные земли, отделенные одна от другой складкой пространства-времени, преодолев которую, мироход со всем экипажем может оказаться где угодно.
Даже внутри подводной горы.
Свободный поиск подразумевает подобный риск. Но каждый надеется, что чаша сия минует его. Раз. И еще раз. И еще.
Страх исчезает где-то на десятом рейде в неизвестность. Он уступает место уверенности в том, что теперь-то уж точно ничего плохого не случится. Ведь сколько уже было возможностей исчезнуть без следа — но судьба распорядилась иначе. Так почему бы ей не побыть милосердной еще разочек? И еще? И еще…
Координаты предполагаемого финиша утрачивали свою актуальность еще в момент старта — когда мироход утрачивал свою материальность вместе со всем содержимым, живым и неживым, в мире-исходнике, чтобы в то же мгновение возникнуть где-то еще. Миры Единого мигрировали друг относительно друга, пространство мялось и шло складками, время замыкалось в кольца и текло спиральными потоками из начала Вселенной в ее конец и обратно.
То, что казалось константой, переставало быть таковой даже прежде, чем ее успевали зафиксировать и привязаться к ней сверхчуткие навигационные комплексы мирохода, и успех разведывательной экспедиции во многом зависел от интуиции ее руководителя и грезящих наяву пилотов корабля.
* * *
Капитан Умбарт божился потом, что нечто необъяснимое стянуло мироход с заданного курса помимо его капитанской воли и вопреки усилиям штурманов-кибернетов.
Ему не верили.
Когда пришла пора решаться, капитан сделал выбор добровольно, без жребия.
Кибернетов выталкивали из шлюза под конвоем. Они плакали, словно дети, и все твердили, что не виноваты. Умоляли простить их и дать им шанс.
Тогда впервые и прозвучало слово «жребий». Правда, кибернетов оно не спасло.
Во всех неприятностях на свете обязательно кто-то должен быть виновен. Так почему бы не стать виновниками этим двоим? Когда все договариваются о том, кто на самом деле виноват, среди невинных на время воцаряется покой. Пусть даже этот покой взрывоопасен иможет враз, в любое мгновение обернуться новым самосудом.
Азартные игры позволяют скоротать сколь угодно долгий отрезок вечности, и уж точно позволяют отвлечься от все нарастающей пустоты внутри — там, где у человека находится желудок.
По всему выходило, что ждать спасательной экспедиции с родномира можно бесконечно долго. Жребий позволял сделать ожидание не таким скучным. Одно время на борту «Кондора» даже работал тотализатор — на то, кто будет следующим «выходцем», ставились личные вещи (совершенно ненужные в заточении), пайки еды (величайшая драгоценность), глотки воздуха (которые должны были войти в оборот после того, как выйдет из строя электролизная машина. Все были реалистами, и в то, что она доработает до момента, когда их отыщут, всерьез не верил никто.
Тотализатор держал Грамдау, боцман-факельщик силового звена. Потом его самого размололи жернова столь любимой им системы. Всеобщая апатия довершила дело: жребий пережил возникшую вокруг него нездоровую суету со ставками и попытками обмануть судьбу тысячами способов.
А ждать предстояло долго.
* * *
Перспективные маршруты в дальнейшем стабилизировались туннельными установками, объединяя миры в единую транспортную сеть. Для этого разведывательная экспедиция, обследовав новооткрытую чужеземлю, должна была активировать маяк по свою сторону миростены.
Маяк «Кондора» стал частью подводной горы. Или гора стала частью межмирового маяка. Суть от этого не менялась.
Команда мирохода «Кондор» оказалась заключена внутри скорлупки корабля, сросшегося с основанием северной континентали новомира Антакальдия. В единственном неповрежденном трюме как раз хватило оборудования для того, чтобы произвести рекогносцировку и убедиться в том, что новый мир абсолютно смертоносен для человека.
Немногочисленные скауты, облетев северное полушарие чужеземли, опустившись в глубину омывавшего континетали океана, заглубившись в недра новомира прежде, чем выработали ресурс, принесли неутешительные вести. Воздух и вода оказались ядом для непрошенных гостей. Кишевшая повсюду живность, равно как и буйная растительность, покрывавшая твердь и морское дно, не годились в пищу в исходном виде после любой, даже самой жесткой обработке. Построенная на иных физических и химических принципах жизнь не проявляла ни малейшего проблеска агрессии в отношении пришельцев.
Она просто была готова убить их, как только они сделаются достаточно неосторожными.
* * *
Пищевой синтезатор, который после развертывания стационарного лагеря должен был обеспечивать десантников полноценным рационом, стал частью скалы вместе с запасом продовольствия, аминокислотными затравками и поливитаминными матрицами. И если примитивная электролизная станция, сварганенная стармехом на коленке из элементов малого ремонтного комплекта была способна исправно снабжать команду воздухом вполне нормального газового состава, то возможности разложить органику и неорганические соединения на элементы, а потом собрать их в уже новых, подходящих для человеческого метаболизма, сочетаниях у команды не было.
Разумные существа обнаружились в первый же день плена «Кондора» внутри горы. Пестрые многоногие и многорукие существа, напоминающие длиннолучевых морских звезд с ажурными, испещренными сквозными отверстиями телами, сами поскребли в единственный незаблокированный шлюз мирохода. Их единственную деревню, скрытую пологом леса и составлявшую с ним единое целое, приборы скаутов не заметили сразу.
В дальнейшем ни на одном из островов, ни на самой континентали других поселений так и не обнаружили. Это было странно — но по всему выходило, что приютивший команду «Кондора» атолл был во всех отношениях уникальным местом.
Пустышники оказались удивительными существами. В считанные минуты они продемонстрировали свои способности к усвоению чужого языка — те символьные азбуки и язык жестов, что были придуманы на родномире для общения с китами, дельфинами и обезьянами, были выучены и поняты пустышниками на раз.
Пустышники понимали все — но делиться информацией не спешили.
Впоследсткие выяснилось, что на это у них были причины.
На этом чудеса не заканчивались.
Яцек вместе со всеми членами экспедиции долго удивлялся, как аборигенам удалось столь безошибочно выйти на корабль, который возник без всплеска, без шума в этом спокойном мирке. Они словно ждали появления «Кондора» — и явились прямо к дверям дома своих гостей, ставшего для них тюрьмой.
Особенно настораживало то, что особенного удивления и восторга существа, окрещенные пустышниками, не демонстрировали. Первые же часы наблюдения за хозяевами чужемира позволили установить, что они весьма щедры на проявления эмоций в общении друг с другом — но в отношении чужаков пустышники вели себя как со своими соплеменниками, что вряд ли вписывалось в даже в предположительно странный шаблон поведения, присущий коллективным существам, каковыми те — со своим поселением, похожим на сплетенный из древесных волокон, водорослей и лиан муравейник и сложноподчиненной, почти машинной иерархией, вне всякого сомнения и являлись.
Когда силовики под водительством боцмана сделали первые вылазки наружу, причина такого поведения стала ясна.
* * *
Коралловый атолл, венчавший подводную гору, что пленила «Кондор», и морское дно вокруг него были могилой для десятков кораблей, подобных «Кондору». Под наложениями извести и коростой кораллов скрывались мироходы сходной с «Кондором» постройки и совершенно невиданные его командой конструкции, предназначением которых, вне всякого сомнения, было связывать миры друг с другом, словно острой иглой пронзая ткань континуума своими телами.
Все они были мертвы.
Пусты.
Покинуты своими командами.
Причины этого были для экипажа «Кондора» неясны — до поры.
Команды потерпевших крушение кораблей были здесь же. Их непросто было отыскать на морском дне, среди таких же скал, как те, в которые превратились они сами.
Чудовищная галерея упокоенных в камне ритуальных смертей развернулась перед ужаснувшимися разведчиками. А среди человеческих и нечеловеческих тел, поросших раковинами и ветвями кораллов, весело танцевали разумные хозяева этого мира, явно довольные проделанной работой.
Да, тогда было страшно, подумал Яцек. Очень страшно. Неведомое всегда страшит.
Хотя иногда гораздо страшнее именно истина.
Единственный корабль, свободный от раковин и наложений, стоял ближе всего к острову. Очертания его показались знакомыми всем пленникам «Кондора».
Боги! — воскликнул цветущий, не осунувшийся еще тогда и не превратившийся в ходячий скелет Тиотаари. — Да ведь это же мобильный храм Обжор!
Обжор? — переспросил живой еще тогда капитан Уртанг.
Ну, Жнецы! Ну, культ Голодного Бога! Неужели не помните?
И они вспомнили.
* * *
Голодного Бога придумал себе выходцы из Пояса Запустения родномира — зоны, где среди бесплодных земель скитались остатки племен, сгоревших в огне последней войны. Полуодичалые, вечно голодные, не гнушающиеся самоедством и каннибализмом, они попросту не могли не создать подобный культ. Возведя добычу пропитания во главу угла, весьма скоро они обнаружили живущих — по их меркам — в роскоши, достатке и сытости соседей по добромиру. Объединившись, новые дикари совершали все более и более дерзкие набеги на территории миролюбивых народов, неся свет своего бога за пределы породившей его уродливый культ колыбели. Появившийся среди полудиких племен вождь, изворотливый и по-житейски мудрый, сумел в считанные годы сколотить из разрозненных кланов подобие империи. Вооружившись достижениями науки и технологии, он почувствовал в себе силы диктовать условия прочим государствам.
Продолжаться долго это не могло.
Едва оправившийся от бойни мир мог не пережить новой войны. Во избежание причин для будущих конфликтов — из-за ресурсов, территорий и снова ресурсов — сотни поисковых отрядов бороздили пространство в поисках новых земель, на которых хвалило бы места всем.
Приверженцам Голодного Бога был выставлен ультиматум — весьма, впрочем, мягкий и напоминающий скорее предложение, от которого попросту невозможно отказаться.
На кораблях-храмах они ушли следом за своим лидером с родномира, из страны засушливых степей и выжженных рукотворными солнцами бесплодных пустынь, в неизвестность.
Больше о них не слышали.
Вскоре о них почти забыли. Забыли все — кроме того, что их лидера звали Епископ.
* * *
Сейчас Епископ смотрел в глаза Яцеку десятком глаз пустышников, из которых состоял. Ждал.
Ритуал был отработан еще тогда, когда экипажу мирохода пришлось заключить с аборигенами договор. Первые жертвоприношения были сняты камерами саркофандров тех десантников, которые сопровождали жертву. Тогда, не в силах поверить съемке, они ходили сюда все вместе — провожая каждого из своих товарищей в последнюю дорогу.
Тогда у них еще хватало сил.
Их было много, они были исполнены надежд, они верили в то, что дьявольский маяк, установленный Епископом на затерянном в океане атолле у берегов континентали, в какой-то момент, как и всякая сложная техника, даст сбой. Вместо того, чтобы, подобно песням сирен, приманивать оказавшиеся поблизости от чуждомира корабли, воздействуя на разум пилотов, он передаст весточку через одного из них. Весточку с координатами «Кондора».
И их отыщут прежде, чем Голодный Бог расправится с каждым из них.
Они еще могли радоваться жизни.
И с удовольствием вкушали дары.
Те дары, что слал им через хрящеруки пустышников и милость Епископа сам бог.
Голодный Бог.
Потом их стало меньше.
Они стали есть реже.
Но не есть совсем не могли.
Произнеся про себя молитву, обращенную к богу голода, Яцек распахнул визор шлема. Яд, наполняющий воздух, хлынул в его легкие.
Больно не было.
Когда зрение и мысли стали гаснуть, Яцек успел еще увидеть, как Епископ навис над ним чудовищной тушей, воздев руки к заплетенному пологом леса небу.
С ладоней Епископа прямо в душу Яцека сквозь бесстрастные зенки пустышников заглянул Голодный Бог.
Позвал: идем.
И Яцек пошел.
* * *
С вершины митры Епископа Яцек наблюдал, как ловкие хрящеруки его Семьи сноровисто разбирают тело, которое совсем недавно принадлежало ему самому. Он видел, как снуют туда-сюда сквозь распахнутый, подобно створкам вскрытой раковины, шлем мелкие собратья и сосестры, вынося наружу кусочки плоти, которые тщательно обрабатывают престарелые особи, плотским оболочкам которых осталось совсем уже немного до момента, когда Голодный Бог потребует их себе и переселит разумы старцев в молодые, пока еще неразумные тела.
Кашицеобразная масса, которую отрыгали из дюжины желудков старики, заливалась в створки панцирей расколотых скорпунатов и застывала там, колыхаясь от малейшего прикосновения, словно бледно-розовое желе.
Вскоре, когда внутри саркофандра не осталось ничего, кроме костей, содержимое хитиновых чаш украсили побегами светоцветов и пестрыми плавничками листорыб. Собратья и сосестры подхватили блюда и посеменили к воде с радостным пением.
Они ведь и впрямь словно коты, подумал Яцек. Для них это — игра. Вся жизнь.
Так и есть, ответил Епископ. Где-то в глубине сложенной из сотен ажурных тел фигуры жил в нервных ганглиях одного из этих смышленых, но не обладающих собственным разумом животных разум человека, который придумал Голодного Бога и смог спасти свой народ.
Они игривы, сказал Епископ. И доверчивы. Преданны. Готовы прийти на помощь. В отличие от людей они не лгут. Благодаря им моя паства обрела здесь свой новый дом и заронила семя разума на эти бесплодные почвы. Совсем как в старые добрые времена…
Но зачем все это, спросил Яцек. Страх, ужас, распятия, цепи, известковые статуи…
И пища, продолжил за него Епископ, и Яцек почувствовал, как он улыбается где-то внутри его мыслей.
Да, с вызовом ответил Яцек. Почему было попросту не переселить нас в… этих? А? Почему надо было заставлять…
Он умолк, все еще чувствуя вкус розового студня на несуществующих губах.
Ведь мы точно знали, что за дары приносят нам пустышники. Но никогда не говорили об этом. Как и о жребии. Никогда не говорили, зачем уходим и на что идем.
Яцек знал, что Епископ слышит его мысли. Так же, как слышит их капитан Уртанг, и Тиотаари, и Хансен, и Третий из близнецов-азиатцев… Все те, кто ушел и не вернулся.
Те, кто ушел, чтобы остальные продержались еще немного в ожидании помощи, которая не должна была прийти.
Те, кого мы…
Да.
Это испытания, ответил Епископ. Вы должны доказать, что достойны прийти к Богу. Вы должны почувствовать Его Голод. Тогда он примет вас.
Яцек чувствовал, как в знак согласия кивают несуществующими головами его товарищи, незнакомые ему люди и совсем уж не люди. Сотни существ, слагающих тело Епископа.
Тысячи сознаний, хранящих в себе память о Голоде.
Хранящих в себе Бога.
Нам пора, сказал Епископ, вырывая Яцека из паутины его мыслей. На сей раз я думаю использовать косой крест.
И подхватив пустой саркофандр, зашагал к морю.
Голодный год подошел к концу.
Солдатики Антон Воробьёв
Рассказ занял третье место на конкурсе «Пластинация, сэр!» в январе 2014 года.
На станции флаэробусов было довольно многолюдно. Народ возвращался с работы, наполняя собой толстопузые транспортные модули. Вездесущие голуби нагло лезли под ноги, выискивая крошки и семечки. На одной из скамеек ожидали свой рейс несколько пассажиров.
— Какие у тебя красивые солдатики! — заметил пожилой мужчина, обратившись к мальчугану, который отвоевал у взрослых часть скамейки под игру.
— Мне их мама подарила, — ответил серьёзным тоном паренёк.
— И двигаются так здорово! До чего дошел прогресс.
— Они не сами двигаются. Это я их двигаю.
— Ты? И как же ты это делаешь?
Маленький пальчик коснулся широкой ладони незнакомого дяди.
— Что за…
Крики взрослых:
— Вызовите «скорую»! Скорее!
— О господи, похоже, у него припадок эпилепсии. Кто-нибудь, разожмите ему рот!
Ласковый и, вместе с тем, обеспокоенный голос мамы:
— Ты в порядке, малыш? Не бойся, всё хорошо.
— Я не боюсь.
Майк сидел за углом обшарпанного дома и собирался с духом. Сейчас он выскочит, даст пару очередей и всё закончится. Двухдневная осада школы завершится и можно будет вернуться на базу, к освежающему дыханию кондиционера и упаковке холодного пива.
На визоре всплыл безмолвный приказ сержанта: «Вперед». Уже во второй раз.
Майк сделал последний вдох и прыгнул.
Они его ждали. Морпех понял это мгновенно. Четыре ствола крупнокалиберного пулемета, шесть автоматов — все нацелены на него. Разведка облажалась. Ловушка.
На один бесконечный миг Майка охватила паника. Ужас от того, что он сейчас, вот прямо здесь и сейчас, умрет. За долю секунды в его голове пронеслись сотни мыслей. Он ощущал, как ноют мозоли на ногах, как тяжел воздух, напитанный маслянистыми парами разлитого бензина, как болит плечо от сделанной накануне прививки. Эта последняя боль вдруг усилилась и покатилась по всему телу, наполняя организм Майка странным ощущением спокойствия.
А затем мгновение закончилось, и стволы бойцов малазийских вооруженных сил разразились очередями.
Тело морпеха отбросило к бетонному забору. Внимательный наблюдатель мог бы отметить, что на землю при этом не упало ни капли крови.
— Вот, вкратце, и всё.
На экране за спиной мужчины застыл последний кадр научной презентации.
— Гм. Что вы нам тут пытаетесь сказать, мистер Бранд? Что программа, которая исправно работала пятнадцать лет, вдруг дала сбой? — недоуменный голос одного из дюжины слушателей.
— Да, господин Бранд, можно как-нибудь попроще объяснить? Мы тут люди военные, ваши термины для нас — как китайская грамота, честное слово.
Лёгкий смех слегка взбодрил сонную атмосферу конференц-зала.
— Э-э… я говорю о том, что мы столкнулись с новым для нас явлением, — терпеливый и усталый голос.
— Мы делаем эти прививки уже пятнадцать лет, — с нажимом произнес ближайший к докладчику слушатель.
— Да, господин генерал.
— И они отлично работают. Я лично наблюдал, как салаги, которые не прослужили и месяца, проявляли чудеса храбрости. Черт возьми, я и сам в своё время прививался. И — можете мне поверить, господин Бранд, — это несколько раз спасало мне жизнь.
— Я не сомневаюсь, господин генерал, — покивал головой ученый.
— Джон, дай ему сказать, — успокоил соседа один из военных.
— М-м… так вот, — сцепил пальцы Бранд. — Как вы наверняка знаете, рассматриваемая «прививка» — это, по сути, просто внедрение в организм кластера наноразмерныхбиомеханизмов.
— Нанороботов, — подсказал ученому один из военачальников.
— Э-э… да, — поморщился Бранд. — Назовем их так, если угодно.
— Которые не дают страху вогнать тебя в ступор.
— Джон, пусть он скажет.
— Что ж, их действие… можно описать и подобным образом, — вздохнул ученый. — Но, вероятно, вы не в курсе некоторых м-м… деталей. Эти биомеханизмы…
— Нанороботы.
— Эти биомеханизмы, — не поддался Бранд, — в неактивном виде довольно быстро покидают организм. В своё время мы решили эту проблему путем молекулярной саморепликации. Заставили нанороботов строить самих себя из окружающего материала, — пояснил он в ответ на взгляды генералитета. — Таким образом, в теле человека всегда присутствовало необходимое количество биомеханизмов. Старые уходили в окружающую среду, новые заступали на дежурство. Вместе с «механикой» наследовалось и программное обеспечение.
— И в чем же проблема?
— Полагаю, мы стали свидетелями эволюции.
— Эволюции нанороботов? — уточнил один из сидевших за столом военных.
— Да.
— Серьезно? — недоверчиво хмыкнул генерал, которого сосед называл Джоном.
— И как это связано с тем случаем, который мы поручили вам расследовать? — спросил другой собеседник в форме.
— Самым непосредственным образом. Согласно моей теории…
— Ох уж эти ученые, — с насмешливым видом подмигнул окружающим Джон. — Ну давайте, изложите нам свою гениальную теорию.
— Джон, не перебивай, я тебя прошу, — в который раз произнес сосед генерала.
— Словом… — Бранд словно взял в ладони невидимый мяч, силясь найти формулировки, которые его собеседники смогут понять, — нанороботы развились и переосмыслили цель своего существования. И теперь реагируют на страх в человеке не так, как было задумано. Вместо подавления ступора и стимуляции активности они запускают процесс моментальной полимеризации всех тканей организма.
— Вот как?
— И зачем же они это делают?
— Вероятно, хотят обеспечить безопасность человека, в котором обитают.
— Убивая его? Оригинально!
— Нет, я бы не был столь категоричен в утверждениях относительно наступления смерти пострадавшего.
— То есть? Что вы хотите сказать? Что рядовой Майк Райс до сих пор жив?
— Гм. Ну с формальной точки зрения — не наблюдается никакого обмена веществ или движения… С другой стороны, все органы тела вот уже полгода остаются в нетронутом — за исключением полимеризации и повреждений от ранений — состоянии. А самое главное — не исчезает электромагнитное поле мозга. Оно не изменяется, но и не пропадает. Словно мы рассматриваем человека в один застывший миг его жизни.
— В таком случае, он ничем не отличается от трупа, — махнул рукой Джон.
— Меня больше другой вопрос интересует, — сказал один из генералов. — Получается, такие случаи будут повторяться?
— Боюсь, что да, — ответил ученый.
— И кто в группе риска? Те, кто получили прививку?
— Несомненно. А возможно — и те, кто с ними контактировал. В случае если био… нанороботыразвили способность внедряться в другие организмы подобно вирусам.
— Скажите, господин Бранд, какова ваша оценка количества потенциальных носителей этой заразы?
— Примерно семь-восемь миллионов человек. Если биомеханизмы освоили перемещение в атмосфере — то на несколько порядков больше.
Кто-то присвистнул.
— Слушайте, — раздался голос, — а ведь мы тут все прививались…
— Что ты хочешь сказать, Генри? Что внутри меня сидят маленькие роботы, которые в любой момент могут превратить меня в соляной столп?
— Не в любой момент, Хемси, а только когда ты обделаешься со страху, — гоготнул один из генералов.
Один из военных вдруг схватился за горло и начал делать судорожные вздохи.
— Черт возьми, позовите медика! — воскликнул Роберт Хемси.
Однако тяжело дышавший генерал тут же отпустил собственное горло и со смехом хлопнул товарища по плечу:
— Расслабься, Бобби! Я такое видывал — кучка мелкихдроидов меня не напугает.
— Придурки, — пробормотал себе под нос Хемси, стараясь не замечать ухмылок сослуживцев.
Сосед Джона откинулся на спинку стула и с задумчивым видом проговорил:
— Знаете, а ведь мы можем извлечь из этого выгоду…
— Выгоду? — подобрался Генри. — Что у тебя на уме, Стемп?
— Есть у меня один парень на примете…
Кристофер, темноволосый юноша с тонкими чертами лица, сидел на пассажирском местев припаркованном возле обочины флаере. Глаза молодого человека были закрыты, дыхание — ровное. Казалось, он спал.
На деле Крис сейчас смотрел на окружающий мир глазами двадцати морпехов. Делал шаги сорока ногами, держал в сорока руках двадцать автоматов, выискивал условного противника в двух домах сразу.
Это было трудно. Требовало высокой сосредоточенности. «Пластики», как называл их про себя парень, были намного сложнее тех пластмассовых солдатиков, с которыми он играл в детстве. Хотя принцип — оставался тем же. Надо было лишь выделить маленькую частицу своего «я» и вселить её в объект.
— Молодец, Крис, — прокомментировал его действия человек, сидевший рядом, на месте водителя. — Ты делаешь успехи. Теперь приступай к следующему дому.
«Как же раздражает этот менторский тон», — подумал юноша.
Полигон, на котором происходила отработка проекта «Дурга», представлял собой небольшой городок из нескольких десятков домиков. Все они были нашпигованы камерами наблюдения, механизмами, проецирующими голограммы противников, шумовыми имитаторами взрывов и тому подобным.
Два отделения морских пехотинцев продвигались параллельными курсами, обследуя дом за домом, действуя настолько слаженно, насколько это вообще было возможно. В данный момент они являлись единым организмом, в самом полном смысле этого слова. Им не требовалась радиосвязь, слова или жесты — как пальцам одной руки не требуется договариваться между собой, каким образом получше ухватиться за рукоять пистолета. А ещё — они не боялись смерти. В этом была определенная ирония, ведь именно страх смерти привел их в подобное состояние. Пули и гранатные осколки, конечно, повреждали «пластиков», но это никак не влияло на их способность вести бой. Разве что взрывом оторвет руки или ноги — тогда Крис отзывал своё сознание из полимеризованного тела.
— Хорошо, Крис. Теперь следующий дом.
«Раздражает».
Специалисты в рамках проекта занимались разработкой методов быстрой «починки» поврежденных «пластиков» в полевых условиях. В перспективе это позволит вести бой вообще без потерь личного состава.
Один из морпехов вдруг наткнулся на мину, заряженную напалмом. Нескольких «пластиков» охватило пламя. Без лишней суеты бойцы улеглись на спину — в точном соответствии с инструкцией — и подождали, пока товарищи поливали их пеной из компактных огнетушителей. Когда пламя удалось сбить, Кристоферу пришла в голову одна мысль.
За последний год он уже накопил достаточный опыт непосредственного управления «пластиками». Что, если попробовать опосредованный способ? Юноша отвел своё сознание от десятерых морпехов и сосредоточился только на одном из них, с сержантскими нашивками. Затем снова внедрил частицу своего «я» в оставшиеся девять человек, но уже из сержанта. Эффект превзошел все его ожидания. Теперь для управления отрядом не требовалось сознательно контролировать каждое движение каждого «пластика». Всё это опустилось на уровень подсознания. Достаточно было иметь общее представление о целях и задачах, стоящих перед отрядом.
— Замечательно, Крис. Переходи к следующему пункту.
«Достал».
После выполнения всех заданий, расписанных в программе тренировок на сегодня, парень подвел оба отделения к флаеру и выстроил в одну шеренгу.
— Показать вам фокус, мистер Джеймс? — с невинным видом предложил юноша.
— Ну давай, — улыбнулся мужчина.
Один из бойцов вышел из строя, поднял автомат и направил его на Джеймса.
— Руки вверх, — глухим голосом произнес морпех.
— О, ты научился управлять голосовыми связками! Прекрасно, Крис, прекрасно! Я непременно отражу это в отчете. Генерал Стемп будет несказанно рад! Ты молодец. А теперь опусти автомат, это небезопасно.
По лицу Кристофера поползла кривая ухмылка.
— …правительство США под эгидой ООН инициирует программу всеобщей вакцинации населения. С нами на связи наш корреспондент в штаб-квартире Тамара Бианки. Тамара, поясните нам, что за срочность вдруг такая с этой вакцинацией?
— Добрый день, Элберт. Действительно, буквально несколько часов назад состоялось внеочередное выступление президента США на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН. Как он отметил, новый вирус гриппа вызывает серьезные опасения всех ведущих организаций здравоохранения. Президент заявил, что правительство разрабатывает специальную федеральную программу по всеобщей вакцинации граждан нашей страны. Бюджет программы пока уточняется, но уже ясно, что он составит не менее 500 миллиардов долларов. Конгрессмены в недоумении — где президент собирается взять такую сумму? Вице-спикер палаты представителей высказал предположение, что намечается очередной секвестр расходов на оборону. Посмотрим, как президенту удастся преодолеть сопротивление нижней палаты — которое, несомненно, будет очень сильным. Ему придется найти весьма убедительные аргументы.
— Спасибо, Тамара. Держите руку на пульсе событий. А у нас на очереди репортаж Дина Вольфанга из Теннеси о загадочном происшествии, всполошившем небольшой городок.
Человек в военной форме зашел в кабинет ученого.
— А, генерал, — оторвался на секунду от монитора Бранд.
— Как успехи, док? — уселся в кресло Стемп.
— Пока никак. Это похоже на сражение дикарей, вооруженных палками и камнями против современной пехоты и танков.
— То есть?
— Биомеханизмы, прошедшие эволюцию, на несколько порядков умнее тех, которые мы способны разработать. По крайней мере, так обстоят дела на данный момент.
— Не понял. Зачем вы в таком случае запустили эту «вакцинацию»? — с недоумением воззрился на ученого генерал.
Бранд ответил ему таким же недоуменным взглядом:
— Э-э… вакцинацию?
Военный выругался.
— Сколько времени займет разработка ваших нанороботов? — спросил Стемп, прищурив глаза.
— Я не знаю, — пожал плечами ученый. — Но как минимум — несколько лет. А до тех пор, генерал, я буду каждый день молиться богу, чтобы он даровал нам всем мужество и смелость.
— Это не очень хорошие новости, мистер Бранд.
— К сожалению, — помассировал свою бровь ученый, — есть ещё одна не очень хорошая новость. Судя по поступающим данным, уровень страха, на который реагируют биомеханизмы, постепенно снижается. Боюсь, вскоре обычный испуг будет инициировать процесс полимеризации.
Паника. Она начинается с малой искры — крика, хлопнувшей двери, разбитого окна. Она распространяется, словно низко стелящийся огонь в подлеске, запуская за шиворот липкие пальцы страха, нащупывая подходящую пищу из опасений, подозрений и невежества. И затем в одночасье охватывает людей подобно пламени, которое вдруг взметнулось вверхи заключило высокие деревья в жаркие объятия.
Однако результаты паники на этот раз отличались от обычных. Никто не бегал, не издавал жутких воплей, не ломился к соседям, не взывал о помощи. Города замирали, улицы и дома затопляла тишина. Эта тишина сама по себе внушала страх, пробираясь в незатронутые первой волной паники закоулки.
Впрочем, не все склонились перед молчаливым ужасом.
Кристофер шел по одной из улиц Нью-Йорка. Повсюду стояли, сидели и лежали (а точнее — валялись, поваленные ветром) жители мегаполиса. Многие из них смотрели невидящими взорами на потухшие экраны информационных панелей или вглядывались в индивидуальные визоры. СМИ внесли свою посильную лепту в распространение страха.
Два отряда морских пехотинцев и один беспилотный флаер прикрывали Кристофера от возможных атак. Это была не просто блажь молодого человека. Последние полгода на него постоянно нападали боевые дроны армии США.
Поначалу сражения между «пластиками» и беспилотными аппаратами забавляли Криса. Он радовался возможности испытать боевые навыки своих подопечных в реальных условиях. Роботизированная техника была хорошим противником. Сражаться с ней было интересно. Но потом ему надоело. Он взял под контроль несколько гравитанков и разнес базу, с которой они приехали. Атаки на некоторое время прекратились, но затем возобновились снова. На этот раз противник избегал приближаться, предпочитая задействовать ракеты и артиллерию. К счастью, в густонаселенных городах неведомый враг не осмеливался применять такое вооружение, ограничиваясь небольшимидронами.
Кристофер окружил себя продуманной системой защиты — он был неплохим тактиком — и разыскал того, кто отдал приказ о его уничтожении. На это ушло несколько месяцев. И сейчас молодой человек шел по направлению к офису министерства обороны. Неподвижные жители Нью-Йорка, стоявшие на его пути, делали несколько шагов в сторону, уступая дорогу, и вновь замирали. Крис проделывал это не задумываясь, «на автомате». В сопровождении свиты из морпехов он вошел в один из небоскребов.
— Генерал Стемп, — козырнул Кристофер, открыв дверь кабинета на 57-м этаже. — Вы как всегда отлично выглядите!
Генерал не ответил. Он сидел в своем кресле, зажмурив глаза и приставив к виску пистолет.
— Что это вы задумали? — поцокал языком молодой человек.
Он развернул ногой кресло и похлопал военного по твердой щеке. Стемп не шелохнулся. Его плечи и голову покрывал толстый слой пыли.
— Нельзя кончать с собой на рабочем месте, генерал, — неодобрительно проговорил Кристофер. — Это непрофессионально. Вдруг возникнет необходимость отменить кое-какие приказы? Нет-нет, вернитесь к своим обязанностям, — молодой человек плюхнулся в кресло напротив.
Стемп открыл глаза, отложил в сторону пистолет, повернулся к монитору и произнес:
— Авторизация.
Монитор загорелся, из динамиков донесся мягкий женский голос:
— Добро пожаловать в систему «Олимп», генерал Стемп.
— Приказываю свернуть операцию «Охота на кукловода». Всем задействованным сотрудникам пройти вакцинацию от гриппа. Профессору Бранду прибыть ко мне в офис.
Они сидели тесным кружком, взявшись за руки, и негромко произносили слова молитвы. Свет яркими снопами пронизывал внутренности сенного сарая. За дощатыми стенами слышалось кудахтанье.
— …яполон смелости и мужества перед лицом окружающего мира, ибо Господь не даст упасть и волосу с моей головы без Своего на то повеления. Я не страшусь внезапной смерти или долгого угасания от болезни или старости, ибо…
Пробиравшийся вдоль стены кот опрокинул грабли, которые стукнули по пустому ведру. Один из детей вздрогнул от неожиданности, но рука матери крепко сжала его ладонь:
— Всё хорошо, сынок, всё хорошо, — несколько прозрачных капель упало на грязный подол платья.
По заросшим бурьяном улицам продвигался отряд «синих». Десять солдат, в полном обмундировании, вооруженные автоматами, у каждого — ярко-синяя повязка на руке. Где-то впереди, примерно в квартале отсюда, их поджидали «красные». Над их штабом, располагавшимся в старом здании супермаркета, реял флаг соответствующего цвета.
Командир «синих» не стал вести своих людей в лобовую атаку, а направил отряд в один из боковых переулков. Бойцы продвигались в полном молчании, настороженно, но, вместе с тем, не мешкая. Вот они вошли в жилое здание. Но для наблюдателя, зависшего над полем боя в кабине флаера, отряд из виду не исчез.
— Командир, я наблюдаю снайпера на соседней крыше, — негромко пробормотал Кристофер.
Он наслаждался представлением, которое сам себе устроил. Оба отряда, и «синие» и «красные», двигались согласно его задумке. Пожалуй, сегодня удача будет на стороне «синих»…
— Рядовой Линн, уничтожить врага! — тем же тихим тоном продолжил молодой человек. — Есть, сэр! Тыщ! — из здания внизу и впрямь донесся звук выстрела. — А-а! Моё плечо! — прокомментировал попадание Крис. — Так держать, рядовой Линн. Продолжаем путь.
Однако тут его кое-что отвлекло.
В лагере «синих», возле флага на крыше школы, появился ребенок. «Пластик», охранявший флаг, направил автомат на неожиданного гостя. Точнее, гостью. Это была девочка лет семи.
— Кто ты? — спросил Кристофер губами морпеха.
— Салли Райс, — ответила кроха.
— Что ты тут делаешь, Салли? — подозрительно прищурился «пластик».
— Я ищу своего папу.
— Здесь нет твоего папы. Уходи отсюда.
Девочка бесстрашно подошла к морпеху поближе и дотронулась маленькой ручкой до огрубевшей ладони солдата. В этот момент Крис потерял контакт с «пластиком».
Для молодого человека разрыв этой связи почувствовался так, словно ему влепили ментальную оплеуху. Он поднял свой флаер повыше и, сузив глаза, посмотрел на юг, в сторону школы. Там, за зданием, по дороге шли люди. Некоторых из них Крис помнил — они мешались у него под ногами, когда он гулял по молчаливым улицам этого города. Камеры двух боевых дронов показывали крупным планом решительные лица и сжатые кулаки. «Интересно, что их разбудило, — подумал молодой человек. — Новое поколение нанороботов или эта девочка?» Он вновь попытался взять контроль над «пластиком» на крыше школы и не смог. Ощущение направленного на него строгого взгляда ребенка не покидало Кристофера, заставляя опускать голову и краснеть от стыда.
Девочка отвернулась от зависшего над соседним кварталом флаера и посмотрела на покрытого ранами морпеха.
— Всё хорошо, папа, — Салли успокаивающе погладила сильные пальцы отца. — Я прогнала его. Теперь ты можешь не бояться.
Рядовой Майк Райс вынырнул из бесконечного кошмара, в котором он пребывал последние семь лет, и понял, что, наконец, освободился. Смерть, пришедшая за ним в следующую минуту, не нашла в нём ни грана страха.
Герострат из Клинсити Андрей Зимний
Рассказ занял первое место на конкурсе миниатюр «Власть» в ноябре 2014 года. Всего в конкурсе приняли участие 57 авторов с 80-ю рассказами.
В тот день я решил испачкать Клинсити.
Чистый город, чудо, оставленное нам щедрыми богами древности или, как пыжились доказать уфологи, совершенной инопланетной расой миллионы лет назад. Не знаю уж, кто и зачем забыл его в Центральной Африке, но я готов был руку себе отгрызть, только бы это чудо увидеть. А потом — чтобы прикоснуться, чтобы иметь право драить серебристо-белые сверкающие плиты его мостовых.
Не один я был таким. Мы все — от русских бизнесменов до японских студентов и американских кинозвёзд — грезили Клинсити. Приезжали, селились в палаточном лагере и, точно коленопреклонённые фанатики перед идолом, чистили, мыли, полировали сферические здания, витые белые стебли оград и хрусталь фантасмагоричных скульптур.
Город вырос как долбаный гриб, когда исследователи, ведущие раскопки, смахнули последние песчинки с загадочной плиты, напоминавшей погребённый алтарь. Белоснежная сенсация-2016 оккупировала дисплеи всех гаджетов мира. И именно я решил стать тем, кто поставит жирное чёрное пятно на этом чистеньком городе.
Знаете, когда единственным смыслом в жизни становится отдраивание инопланетного Мачу-Пикчу, начинаешь задумываться. Другие «паломники» тоже задумывались. Но противиться притягательности Клинсити было практически невозможно. Так и хотелось оттереть последнее микропятнышко, чтобы насладиться совершенством. Поэтому каждый день я думал: «Взбунтуюсь завтра».
Однажды это самое решительное «завтра» наступило. Через грязеулавливатели на входе в город я прошёл без проблем, если не считать того, что привратник не хотел пропускать меня с зажигалкой. «Счастливый талисман», — сказал я, и верзила отвалил, что-то неразборчиво хрюкнув через респиратор, встроенный в спецкостюм.
В белом шаре, приспособленном под кладовую, я взял тряпку и бутыль «Мистера Пропера» для стёкол. Не удержался — пшикнул на стену, потёр. И пошёл к Башне.
Башня — самое потрясающее и притягательное строение в городе. Вроде вот посмотреть — ну башня и башня. Даже не с заглавной буквы. Но было в ней такое величие совершенства, в линиях, форме, серебристо-снежном оттенке, что оторопь брала. «Когда находишься рядом с Башней, мир кажется прекрасным». Так мне сказал какой-то парень, приехавший в Клинсити из сектора Газа. Там он агитировал кого-то воевать против кого-то. Пока здесь не взял бутыль «Мистера Пропера» и не пшикнул на стену. В тот момент Клинсити показался мне божественным даром. Да.
Все равны, точно собственность римского рабовладельца. Нет, тогда я так, конечно, не думал. Тогда я готов был едва ли не языком вылизать город и эту его чёртову Башню. Один блаженный, впрочем, пытался, но остальные чистильщики не позволили — никто не в праве размазывать слюни по Клинсити.
Если бы ещё лет пять назад мне, способному устроить живописный свинарник даже в карцере, сказали, что я не буду видеть большей радости, чем наяривать мостовую мыльной губкой, я поднял бы говорящего на смех. Но Клинсити меняет всё. И всех.
Тоталитарный режим бесконечной уборки. Точно чья-то свихнутая мамаша завладела умами всех и каждого, обещая после работы горячий шоколад и гору бутербродов с арахисовым маслом. Никто этих мифических сладостей до сих пор не попробовал.
Вот почему я решил испачкать город. Жалкая крошечная пакость, которую в своих мыслях я гордо называл «акцией протеста». На большее я оказался не способен. Даже на эту малость я собирался с духом непростительно долго и был уверен, что, едва свершив её, брошусь на колени с тряпкой замаливать провинность и затирать грех.
До сих пор мне снится то мгновение, когда я дёрнул собачку молнии на спецкостюме. Один «вжик», разделяющий жизнь пополам. Не знаю уж, почему никто не кинулся ко мне тут же. Хотя знаю, созерцать Клинсити гораздо приятнее, чем созерцать раздевающегося человека. Я стянул спецкостюм, бросил сверху ещё и рубашку, надетую под него. Помню, что не снял брюки из-за мысли о том, что нонконформист в трусах будет выглядеть нелепо. Свернул крышку с «Мистера Пропера» и вылил жидкость на горку одежды. Щёлкнул счастливой зажигалкой. Ткань, пропитанная моющим средством, вспыхнула мгновенно. Когда ко мне бежали ребята в спецкостюмах, она уже догорала.
Я шваркнул ногой по горке сажи, размазывая чёрное пятно по облачно-белым плитам Клинсити. Оно выглядело так уродливо, что я зарыдал. А может, я ревел из-за того, что меня начали лупасить по корпусу и голове. Я закрывался руками и орал что-то бессвязное про свободу воли и духовное развитие личности. Или просто умолял не бить. Сложно сказать точно.
Через неделю я очнулся в палате тюремного лазарета в Нью-Йорке и посмотрел новости. В результате дерзкой акции протеста образовалось критическое загрязнение, и Клинсити свернулся обратно в плиту размером не больше столешницы. Учёные выяснили, что от Башни исходило псионическое излучение, пробуждавшее в людях необоримое желание чистить город. Диктор рассказывал о счастливом возвращении «паломников» в семьи. О возобновившихся конфликтах в Украине и Палестине. В одном репортаже, кажется, мелькнуло лицо моего знакомого из сектора Газа. Обо всём сообщали. Только не о том, куда делась плита с Клинсити.
Меня, в конце концов, оправдали. Даже называли кем-то вроде «освободителя от гнёта инопланетного разума» или ещё какой-то пафосной дрянью. В общем, теперь всё хорошо.
Только иногда, бывает, вспомню, каким счастливым себя чувствовал на улицах Клинсити, да и вытру пыль на столе.
Овладевание Андрей Лободинов
Рассказ занял вторые места в номинациях «Самая интересная идея» и «Самый закрученный сюжет» на конкурсе «Власть» в ноябре 2014 года.
Толстяк сразу вызывал отвращение. Пухлячок-очкарик с пивным животиком — кому-то он показался бы забавным, но у Агирре он вызвал именно отвращение. Сразу видно, компьютерный червяк — этакий паразит, порождённый гнилым «золотым миллиардом» человечества. У этого клоуна с детства было всё, о чём могли только мечтать дети на родине Агирре. И что же тебе, жирный, не хватало в твоей жирной стране?
— Я много читал о культе вудекнгеи. И этот ритуал, пожалуй, самый таинственный, — толстяк продолжал отчаянно потеть, хотя в помещении гудел кондиционер. — Я так и не понял сам тезис власти об абсолютной власти над другим человеком, ведь вся система общества должна противостоять этому… разумеется я изучил примеры и понял, что она действительно абсолютна… но…
Толстяк стащил свои нелепые очки, которые уже запотели, и принялся их протирать дрожащими пальцами. Очки в роговой оправе явно были подобраны под образ забавного толстячка.
Он еще и трусоват, этот жирный клоун.
— Никто. Ничего. Не докажет, — тихо сказал Агирре и вяло улыбнулся. — Ведь магии не существует. На нашем острове в неё верит даже господин президент. Но и он не может запретить её официально, ведь этим он признает её существование. А мы же не какие-то дикари, мы строим современное, конкурентноспособное государство… наша сборная едва не вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу!
Толстяк кивнул и нервно хихикнул.
— Кстати да, а знаменитости, типа футбольных звёзд? На них же должна быть целая очередь, — сказал он.
— Всё не так просто. Цель как минимум нужно знать лично, — ответил Агирре.
— Как минимум?! — толстяк всполошился. — Я её, допустим, знаю. Фотография, локон её волос — всё с собой…
— О, я думаю, всё получится, — лениво улыбнулся Агирре. — Через меня прошло много, так сказать, клиентов, сразу чувствую, чего можно ждать. Позволите глянуть на её фото?
Агирре мельком взглянул на смазливую мордашку девушки с фотографии. Забавный пухлячок, как же… похотливый сладострастец с неудовлетворённым либидо. Любопытно, что он с ней сделает?
— Ничё такая, правда? — толстяк попытался примерить имидж непринуждённого мачо. — Как представлю, что эта стерва окажется в моей полной — абсолютной — власти… так сразу встаёт, хе хе. Мы общались с ней, была даже пара свиданий, а потом…
Тут жирный сорвался в словесный понос. Агирре, прикрыв глаза, слушал его откровения о неразделённой любви, о поданной ложной надежде, о последующем игноре в социальных сетях и прочие трагические подробности.
На скулах Агирре начали поигрывать желваки.
— Давайте пересчитаем деньги, — наконец перебил он толстяка.
* * *
Толстяк пялился в окно, за которым тянулись трущобы.
— Какая жуткая нищета. Я бы хотел помочь этим людям, но что я могу? — неожиданно сказал он. Сидевший за рулём Агирре поморщился. Этот жирный озабоченный инфантил, со своими откровениями и душевными порывами, порядком его достал.
— Мне дадут просто её изображение, восковую фигурку, через которую я и обрету власть над ней… но, по сути, речь идёт о душе, да? Я заполучу её душу, пусть не навсегда, на время? — не унимался толстяк.
— Если не углубляться в теологические дебри, то в каком-то смысле да. Кое-кто даже верит, что когда хозяин с жертвой оба умрут, жертва останется его вечным рабом и на том свете, — ответил Агирре, и добавил с улыбкой. — Но гарантируем мы абсолютную власть над жертвой только при жизни заказчика. На тот свет предпочитаем не заглядывать.
— Душа… бессмертная душа… во что же я ввязываюсь… — пробормотал толстяк.
Агирре ударил по тормозам. Толстяк стукнулся носом, взвизгнул, одной рукой держась за нос, второй пытаясь нащупать на полу упавшие очки.
— Ещё. Не поздно. Отказаться, — размеренно сказал Агирре.
Толстяк, тяжело дыша, нацепил, наконец, очки.
— Поехали, — сказал он, глядя прямо перед собой, и неожиданно грязно выругался.
Агирре улыбнулся, трогая автомобиль с места.
Толстяк старался, но долго молчать не смог.
— Один человек может купить только одну жертву в жизни, это разумно… иначе ваши туземные царьки прихватили бы себе власть над всеми, и точка. Местные себя защищают, да? — толстяк говорил излишне громко, явно нервничая. — Обереги там всякие, надо будет себе прикупить… хотя кому я нужен… кстати, в ритуал входит понятие выкупа. У кого я буду её выкупать?!
— Ничейных людей нет. Мы все — чьи то. Но лучше, когда твой владелец не человек. Тогда ведь можно просто в него не верить, и точка, — лениво улыбнулся Агирре.
Жирный снова замолк. На этот раз надолго.
— Приехали, — сказал Агирре, глуша мотор. — В доме тебя встретят. В подвал для ритуала спустишься один.
Толстяк вышел из дома спустя час. На жирном лице его светилось счастье. Он судорожно что-то сжимал в кулаке. Шёл едва ли не вприпрыжку, спеша к Агирре, торопясь что-то рассказать.
Агирре, широко улыбаясь в ответ, отработанным молниеносным ударом всадил нож толстяку между рёбер в сердце. Агирре уже не раз предвкушал этот момент, предвкушал, как эта жирная свинья будет верещать перед смертью. Впрочем, толстяк умер молча, лишь тихонько ахнув. На лице его осталась счастливая улыбка.
Агирре хмыкнул, нагнулся и разжал кулак толстяка, в котором тот сжимал восковую фигурку.
— Иди к папочке, красавица… — пробормотал он и оцепенел.
Точность этих изображений «купленных» всегда его изумляла. Были видны даже очки в роговой оправе.
В кулаке толстяк сжимал изображение самого себя.
Агирре тупо пялился на фигурку. Наконец глянул на мёртвого толстяка — впервые с уважением. Агирре уже собирался уходить, но в последний момент нагнулся и бережно вложил фигурку назад, в ладонь мертвеца.
Карлсон, который живет Татьяна Аксёнова
Рассказ занял первое место на конкурсе «Хомо» в январе 2015 года. В конкурсе приняли участие 50 авторов с 70-ю рассказами.
Философские размышления о людях — развлечение так себе, но сойдет, если больше заняться нечем.
Так получилось, что я в первую очередь наблюдатель. Определения из умных книжек, которые время от времени зачитывает мой маленький друг Йоэл, меня не то чтобы убеждают.
Предпочитаю смотреть по сторонам.
У нормального хомо сапиенс из учебников — две руки, две ноги, одно туловище и голова. В общей сложности двадцать пальцев. Определенный набор внутренних органов, расположенных в строго определенных местах тела. Все любовно вылеплено самой эволюцией и доведено до некого идеала.
Только вот идеала нам не достаточно. Никогда не было достаточно.
Давайте отрежем человеку руку и заменим протезом.
Давайте кость за костью поменяем весь скелет на сверхпрочный полимер.
Давайте и вовсе избавимся от ненужного тела и подключим мозг к системе жизнеобеспечения.
В книжках не пишут о таких вещах. В них человек представляется чем-то цельным, а не набором деталек из детского конструктора. В них не говорят, сколько именно можно выбросить из первоначального комплекта, чтобы он все еще считался хомо сапиенс.
Все, кроме разума?
Удобная теория. Но тогда нам пришлось бы считать людьми и модов; уравнивать в правах мозги, счастливо избежавшие постороннего вмешательства, и те, которые засунуты в башку белого медведя или подключены к заварочному чайнику. Удобно считать тело лишь придатком, но физиология, как и ее отсутствие, все-таки накладывает отпечаток.
И где тогда проходит грань?
Нет, я не пытаюсь подобрать подходящую классификацию для себя, как мог бы подумать кто-то. Никакого экзистенционального кризиса у меня нет. Это и правда не более чем праздный интерес.
В конце концов, я уже пару лет как умер. И какая к черту разница, кем я был до — вы же все равно не станете искать человечность в трупе?
Я — мертвец. Тень — так называют таких, как я. Отражение. Или — как мне нравится больше всего — призрак. Это очень старое слово. Но мне кажется, оно подходит.
Нужна целая куча случайностей, чтобы появился призрак. Кто-то должен быть подключен к виртуальности. Какому-то магазину или бару должен понадобиться новый сотрудник. Система генерации, прочесывая сеть в поисках подходящего типажа, должна подхватить образ кого-то, кто именно в этот момент умирает. И даже такого не всегда достаточно для того, чтобы вместе с внешностью к голограмме приклеилось и твое сознание. Нужно что-то еще. Не знаю. Огромное желание жить?
В любом случае, ничего подобного с тобой не происходит. Супермаркет, или где ты там теперь работаешь, аплодировать свершившемуся чуду не спешит. Ты — ошибка, сбой в отлаженной программе. Не проходит и минуты, как тебе перекрывают доступ к большей части системы, оставляя только базовые функции. В виртуальность, где еще можно хоть как-то имитировать жизнь (хотя далеко ли ты уйдешь без своих денежек?), у тебя больше нет доступа. Твое тело — если у тебя было тело — уже сожгли или превратили в удобрение. Ты — голограмма. Изрядно потускневшая, почти прозрачная без подпитки. И при этом — в самой идиотской на свете униформе.
На мне — красная кепка из МакДоналдса. Слишком широкая футболка. Черные джинсы. Кеды.
Уверен, вы бы не хотели провести в таком виде вечность.
Но призракам не приходится выбирать подобные вещи. Призракам вообще мало что приходится выбирать. Вы говорите: человек — это разум? Посмотрим, далеко ли вы уедете на одном только разуме безо всяких… придатков.
Призраки не переодеваются. Призраки не едят и не пьют, не испражняются, не взаимодействуют с материальными объектами, не спят. Последнее, конечно, хуже всего. Представьте растянувшееся на неопределенный срок существование, которое даже не выходит сократить наполовину за счет сна. Моей радости от осознания себя «живым» хватило дня на три. После этого я понял, что мне, черт возьми, нечем заняться.
Как развлекались призраки прошлого? Бросались тарелками? Появлялись из ниоткуда и выли? Предостерегали от бед или помогали советом? Я ничего из этого не могу. Мои полупрозрачные пальцы проходят сквозь все, до чего я мог бы дотронуться… Почти все — кроме чертовых стен. В старые времена привидениям было проще. Тогда еще не было систем безопасности, отфильтровывающих вирусы — и тебя заодно — в полуметре от чужих домов; в лучшем случае, выстраивая невидимую стену, в худшем — отшвыривая на другой конец улицы. Такие, как я, не пугают людей. Максимум, заставляют на секунду остановиться и протереть глаза: «Уборщик из МакДоналдса посреди улицы?» — и отправиться по своим делам.
Да, об этом. О людях. Беспризорному, уличному призраку вроде меня приходится надеяться разве что на разговоры с прохожими. Но даже здесь лет сто назад у меня было бы куда больше шансов.
Теперь другие времена. Теперь на всю Швецию нет ни единого попрошайки, а безработные давно просекли, что месячный доступ в виртуальность стоит куда меньше пары материальных ботинок. Выходить на улицу в наше время — я имею в виду, по-настоящему — не очень-то принято; и тем, кто выходит, обычно не до беседы со странным полупрозрачным типом.
Да, мне многое виделось иначе в те первые дни. Полная свобода. Бесконечные возможности. Бла-бла-бла.
Знаете, чем я занимаюсь на самом деле? Я брожу по улицам. День за днем, месяц за месяцем. Одним и тем же маршрутом. Будто хищный зверь, обходящий владения, — правда, и само слово «ходить» я использую только из ностальгии. Призраки не ходят. Они… перемещаются в пространстве; то и дело пропадая на несколько секунд, когда оказываются в промежутке между проекторами. К этому привыкаешь уже через пару недель, но я все равно стараюсь держаться тех мест, где проекторов побольше, — просто на всякий случай.
Начинаю я всегда с Риддархольмена. С полчаса стою на набережной, изучая геометрически правильные очертания ратуши и вглядываясь в еще темную воду, потом огибаю остров с севера или юга — в зависимости от дня. По мосту перехожу на Гамластан. Я не люблю королевский дворец, поэтому обычно стараюсь обходить его подальше, что не так-то легко. Эта безликая невнятно-серая громадина торчит прямо на набережной и почти утыкается в восточный мост до Нурмальма. Приходится отворачиваться в другую сторону или смотреть себе под ноги. Но вообще, по Гамластану я гуляю долго. Выбираю одну из узких улочек, дохожу до ее конца и возвращаюсь назад по другой. Так — три-четыре круга, не меньше. Спешить мне некуда.
Мой маленький друг Йоэл говорит, что другие столицы затронуло больше. Магазины и рестораны почти все позакрывались, торговые центры снесли, чтобы освободить место для однотипных многоэтажных монстров, выросших посреди городов, как сталагмиты. Черт бы и с ними, с супермаркетами; но ничем не провинившиеся жилые дома тоже раз за разом попадают под раздачу — под предлогом, что они слишком ветхие и не вместительные. А ведь некоторые из них пережили не одну войну.
У нас, конечно, номер не прошел. Шведу важно ходить именно по тем булыжникам, по которым вышагивал его пра-прадедушка — даже если нынешний швед покидает дом раз в квартал. Я гуляю по Гамластану и знаю, что сто лет назад он выглядел в точности, как сейчас — не считая того, что в кафешках суетились живые люди; а леденцы, которые дети покупали в лавках, делались из сахара, а не синтетической хрени с названием на три строки.
Я прохожу по мосту, но не остаюсь на Нурмальме, а тут же разворачиваюсь в противоположную сторону и уже по другому мосту перехожу на Шеппсхольмен. Иногда я гуляю там по набережной, воображая, что чувствую запах моря; иногда иду через парк. Йоэл утверждает, что большинство современных детей не знают, как шумит листва. Они просто никогда не слышали этот звук. Виртуальность передает только знакомые звуки и вкусы; так что для них деревья, наверное, бесшумны. Или играют популярную мелодию. Йоэл не в курсе. Он все-таки тоже швед.
Добираюсь до Кастельхольмена и обхожу его вокруг. Раньше отсюда очень хорошо был виден парк Грёна-Лунд, но теперь на другой стороне канала — пустырь, на котором растут только тоненькие молодые деревца. Это почти единственное, что все-таки не выжило в Стокгольме. Может быть, власти города решили, что зрелище пустующего парка развлечений нагоняет на случайных прохожих слишком сильную тоску. А может, аттракционы просто ржавеют и портятся куда быстрее столов и стульев, которые мы сохранили в своих ресторанах. Этого не знает даже Йоэл. Он Грёна-Лунд не застал совсем. А мне, наверное, доводилось его видеть. Но теперь уже и не вспомнить.
Возвращаюсь на Шеппсхольмен, а потом и на Нурмальм. Бреду по набережной, выхожу на бульвар Страндвеген с его ровными рядами невысоких деревьев и выложенной полукружиями брусчаткой. К полудню, а то и раньше, я всегда добираюсь до Юргордена. И просто иду в парк.
Это довольно волнующий момент моего дня. Дело в том, что здесь меня иногда ждут. Совсем не каждый день; чаще нет, чем да. Но сама мысль об этом немного согревает.
Сегодня мне везет.
Я вижу его издалека и сразу начинаю улыбаться во весь свой несуществующий рот. Интересно, узнал бы я его, если бы здесь были и другие люди? Наверное, да. Отец Леннарт — фигура колоритная.
Огромный рост, копна светлых вьющихся волос, очки, за которыми поблескивают голубые глаза. Мой друг сидит на скамейке и бросает хлеб гусям, уткам и чайкам.
Я устал повторять ему, что кормить голограммы — глупо. Леннарт только улыбается. «Чайки настоящие», — говорит он. Что ж. Чайки — да. Власти давно махнули на них рукой. Гадят они в любом случае меньше гусей, а просто выселить пернатых разбойников за пределы города, как это сделали с остальными, никак не выходит. Чайки упорно отказываются обращать внимание на обычные звуковые или световые пугалки. Отстреливать их мы не можем. Вот и смирились. Так же, как с единственным на весь город призраком. А еще через пяток лет мы вместе с чайками наверняка попадем в список Стокгольмских достопримечательностей. Настоящие птицы и ненастоящий человек. Символично.
Леннарт поворачивается ко мне и кивает. Разрывает на три части очередную булку и бросает к воде. Не обращая внимания на совершенно натуралистичных уток и гусей, две чайки подхватывают добычу прямо на лету. Их крылья проходят сквозь голограммы. Гуси не видят чаек, так что шипят друг на друга и дерутся. Они научены реагировать на летящие в их сторону мелкие предметы. Но с тем же успехом можно было бы швырять камешки.
Я присаживаюсь на землю, сложив ноги по-турецки. Со скамейками у меня не складывается — как и со многим другим. Но я привык.
— Как дела, Леннарт? — говорят встроенные в скамейку динамики голосом, который я давно считаю своим. Я не называю его «отец», а он этого и не ждет. Леннарт вообще, если честно, не слишком похож на священника — но для его церкви такое в порядке вещей.
Он — ретроград. Ретроградный христианин. Это не слишком популярная религия, но свои поклонники у нее имеются. Самое смешное, что первая церковь появилась именно здесь, в Стокгольме. Йоэл говорит, шведы никогда не были особенно религиозными — даже в старые времена. А теперь мы умудрились прославиться еще и этим.
Впрочем, ретрограды, наверное, и не молятся. На самом деле, они скорее общественная организация, чем церковь. Просто церковью называться проще.
— Кажется, у нас появилась новая прихожанка, — улыбается Леннарт. — Не знаю. Девочка вроде бы тверда в своем решении, но ей страшно. Ей всего двадцать. Она почти и не жила в реальности. Я еще побеседую с ней и, может быть, отговорю.
Да, ретроградное христианство — наверное, единственная религия, в которой священники отговаривают новых адептов. Но это и правда серьезное решение. Ретрограды не ходят в виртуальность. Более того, они отказываются и от модификаций.
Сегодня прохладно, и Леннарт накинул плащ. Из-за этого плаща не сразу заметно, что у священника нет одной руки. Когда-то он работал массажистом, и ему нужны были сильные, никогда не устающие руки. Модификации как раз находились на пике популярности, и каждый второй обзавелся если не жабрами, то хотя бы многократно укрепленными суставами. Леннарт тоже сделал операцию и поставил себе протезы. Он не мог нарадоваться на них добрых лет пять. А потом вдруг почувствовал, что нужен церкви больше.
Понимаете, он и так толком не бывал в виртуальности — зато повидал целую кучу пускающих слюни тел. И если уж кто и тверд в своих убеждениях, что все живое и созданное природой — прекрасно, — то это мой друг Леннарт.
Он снял левую руку в первый же год службы в церкви. Никто не принуждал его — ретрограды вообще мало к чему принуждают, — но Леннарт все равно ее снял. Хочет избавиться и от второй, но пока не решился. Дело не в том, что его вера недостаточно крепка. Просто мой друг еще не готов становиться обузой.
Однажды Леннарт все-таки сделает это, я знаю. В тот день он будет по-настоящему счастлив.
После короткой беседы со священником, в зависимости от дня, я либо продолжаю гулять по Юргордену, либо возвращаюсь на Остермальм. Парк нравится мне больше, и хватает его на целый день, а иногда и до середины ночи; но Остермальм означает, что я увижусь с Йоэлом. Он свободен по средам и пятницам.
В понедельник, вторник и четверг парень ходит на какие-то дополнительные занятия, по выходным — отдыхает в виртуальности. Для меня он может выделить только два дня в неделю. Пару часов после школы. Негусто, но лучше, чем ничего.
Мы встречаемся на площади Карла в три. Скамейка у фонтана. Скамеек и птиц в Стокгольме столько, что хватило бы и на несколько городов побольше — но Йоэл приносит с собой не хлеб, а книги. Настоящие книги — не представляю, где он их берет.
— Привет, Карлсон! — говорит Йоэл.
Так называет меня только он. До сих пор не знаю, почему, но не возражаю. Это не так уж важно. Все равно я не представляю, какое мое настоящее имя.
Йоэл уже пытался помочь мне с этим. Притащил здоровенный справочник и зачитывал оттуда все мужские имена по очереди. Он где-то слышал, что даже при полной амнезии подсознание все равно реагирует на звук собственного имени. Помнится, мы тогда сдались на «Роберте» или на «Робине», а я наотрез отказался продолжить в следующий раз. Теперь я думаю: смешно, если мы были в двух шагах от правильного ответа. «Рогер», — произношу я про себя. «Роланд». «Руне». Во мне не отзывается ничего. Но может быть, имя обязательно должно звучать из чужих уст?
— Привет, Йоэл, — отвечаю я.
Ему, кажется, теперь лет четырнадцать, не знаю точно. С нашей первой встречи прошло уже несколько лет, а Йоэл так толком и не вырос. Мелкий и тощий паренек, на вид совсем еще ребенок. Он полностью натурален, но довольно слаб здоровьем от постоянного сидения в помещении. Из виртуальности Йоэл выходит только по средам и пятницам. Если бы не я, то он, возможно, не выходил бы вовсе. Большинство его знакомых так и живет. Современные дети неуютно ощущают себя на улице. Тут бывает холодно, мокро и ветрено. А еще, конечно, одиноко.
Йоэл, в принципе, против одиночества ничего не имеет. Но он выбирает жизнь, а в реальности ее почти не осталось. Разве только кучка прихожан Леннарта и чайки.
— Как в школе? — спрашиваю я, и мой маленький друг разражается длинной тирадой, в которой я понимаю далеко не все. Молодежь во все времена сочиняла целую кучу собственных словечек; а Йоэл еще и обильно пересыпает речь непечатными выражениями. Он не красуется, нет. Я думаю, мой друг выражается так всегда.
— Каспер — долбанный идиот, — возмущенно говорит Йоэл. — Тысячу раз говорилось и писалось, что на любые соревнования допускается только антропоморфная форма и только ограниченные параметры, а он решил, что ему закон не писан. Ну и, кстати, я не уверен, что этот идиотский кентавр — реально подходящая тема для футбола. В двух ногах ты хотя бы не запутаешься. Короче, неважно. Важно то, что его не допустили, а нам пришлось брать Сванте на замену. И это была… ну, полная задница.
— Проиграли? — сочувственно спрашиваю я.
— Выиграли, — мрачно отзывается Йоэл. — Но больше я так играть не буду.
Я улыбаюсь.
Мой маленький друг — ужасно умный. Умнее кого угодно, кого я знаю, да и, наверное, знал. Но, конечно, в первую очередь подросток.
— Помнишь Лукаса? — вдруг спрашивает Йоэл. — Лукаса из Бергена? Я тебе рассказывал. Мы вместе ходим на английский.
Киваю.
— Мы с ним вчера говорили о тебе.
— Обо мне? — удивляюсь.
— Ну, я вообще-то по-норвежски понимаю не все, а он не очень по-шведски… Но как я понял, у них там тоже есть свой призрак. И он не такой, как ты.
— Дааа? — протягиваю я. — Как интересно.
На самом деле, все, что я в принципе знаю о призраках, — как и многие другие вещи — я знаю от Йоэла. Это ведь именно он когда-то поприветствовал меня, бредущего по Остермальму с опущенной головой, окриком: «Эй, парень!» — а потом осторожным: «Ты что… тень?» Йоэл потом объяснил, что долго не мог решить, какое из определений считается наиболее вежливым. Такому не учат в школе. А я, кажется, и вовсе не обратил внимания на это обращение.
Тогда прошло всего-то полгода с моей смерти. Наверное, я обрадовался бы и откровенному оскорблению.
— Да, — важно кивает Йоэл. — Понимаешь… Тот парень знает все о себе. Имя, фамилию, возраст. Ну, всю биографию. Он помнит даже, как умер. И у него остались друзья. И девушка. Она даже начала выходить из виртуальности, чтобы видеться с ним. Он вроде как просит ее забыть и найти другого, но она… Ну, это неинтересно.
Если бы Йоэл был девочкой, наверное, именно это стало бы для него самой захватывающей деталью. Я откровенно улыбаюсь, потому что знаю: под кепкой совершенно незаметно.
— Интересно другое. Почему не помнишь ты.
Я пожимаю плечами. Мы говорили об этом, наверное, десятки, если не сотни раз.
Первое, что я помню в принципе, — это удар. Пинок, с которым МакДоналдсовская система безопасности выбрасывает меня прочь. Полет, совсем неощутимое почему-то падение на мостовую. Головокружение. Несколько минут я сижу на земле; после этого, будто робот, снова подхожу к дверям. Воздух сгущается внезапно, и я опять отлетаю прочь. Я все еще не понимаю. Я еще с полчаса ничего не понимаю, а потом…
Потом через меня пролетает птица. Очередная чертова чайка. А я не ощущаю при этом ничего.
Вот так. Вот и весь мой багаж воспоминаний. Как у трехлетнего ребенка. И ни один справочник Йоэла ни капельки не помогает.
— Может, у меня была амнезия? — предполагаю я. — Несчастный случай, травма головы. Я лежал в коме, а тело не спасли?
Мой маленький друг с сомнением качает головой.
Тут много неувязок, я знаю и сам. Мы уже обсуждали это с Йоэлом. Мы обсуждали с ним почти все возможности. И я уверен: если он до сих пор не нашел ответа, его не нашел бы никто.
— Я подумаю, — говорит мой друг. — На выходных схожу в библиотеку.
Иногда мне кажется, что Йоэл читает книги исключительно для того, чтобы рассказать о них мне. Этот мальчик — просто ходячая энциклопедия, которую я радостно впитываю в себя. И я могу быть уверен, что в среду Йоэл расскажет мне что-то интересное. Мой маленький друг никогда еще меня не подводил.
Потом я возвращаюсь на Гамластан. Там, на набережной, есть один лоток с хот-догами — не единственный, но особенный. За ним работает Аннели.
Аннели — негритянка лет тридцати пяти-сорока на вид. Ее родители были иммигрантами, но дочери дали уже шведское имя. Аннели всю жизнь прожила в Стокгольме и предпочла его пустые улицы всей виртуальности сразу.
На самом деле, ее здесь нет. Моя подруга — голограмма, почти как я. Одна из немногих голограмм, за которыми стоят живые люди, а не программы. Мало кто соглашается на такую работу, но Аннели, как я уже сказал, очень любит Стокгольм.
У моей подруги больше нет тела. Совсем недавно оно еще было, но после того, как в Аннели врезался грузовик, от моей подруги осталось не так уж много. Верхняя половина, если говорить точно. Голова Аннели тогда почти не пострадала, а вот ноги даже не смогли выковырять из смятого в лепешку велосипеда. Поддерживать жизнедеятельность этого обрывка выходило дорого, ремонтировать — еще дороже…
Поэтому теперь Аннели живет в чайнике. Ну, это она так шутит. Просто пластиковый контейнер, в котором хранится ее мозг, действительно цилиндрической формы, и в нем что-то плещется. Только проводов наружу торчит в несколько раз больше.
Аннели живет в чайнике, а на работу ходит ее проекция. Голограммой, подключенной к системе, быть намного лучше, чем призраком. Моя подруга может касаться некоторых предметов вроде своего лотка или продуктов — не по-настоящему, а просто отдавая сигналы автоматике, конечно, — и немного изменять внешность. Сегодня на Аннели ярко-красные сережки, а пружинки волос стянуты в тугой хвост на затылке. Она прекрасно выглядит.
— Добрый вечер, — говорит Аннели. — Желаешь хот-дог по-французски, по-американски, по-стокгольмски, братвурст, чоризо?
Я не знаю, прописано ли у моей подруги в контракте: приветствуй этой дурацкой фразой каждого — в любом случае, никто не уволит Аннели, если она ее не произнесет. Моя подруга прекрасно все понимает, поэтому вряд ли она обращается ко мне как к человеку от усердия. Просто ей кажется, что так будет правильно.
— Не сегодня, Аннели, — говорю я. — Не сегодня.
Она улыбается.
— Сегодня день Йоэла, не так ли?
Я люблю свою подругу за то, что она всегда помнит такие вещи.
— Да, — отвечаю я. — И Леннарта я тоже видел.
— Хороший день, хоть и прохладно.
Я смотрю на покачивающийся от порывистого ветра зонт над лотком Аннели. Поднимаю глаза на затянутое тучами небо.
— Прохладно, да.
Мы часто играем в такие игры с Аннели. Представляем, будто у нас есть тела, и мы можем чувствовать.
— Знаешь, — говорит моя подруга, — а я тоже кое с кем познакомилась.
Она кивает куда-то вниз, и я послушно обхожу лоток. Аннели и правда не одна. У нее в ногах, нахохлившись, сидит трехцветная кошка и жует сосиску.
Кошка. В современном Стокгольме.
Наверное, я уже много лет не видел ни одной кошки или собаки. После смерти — точно.
— Откуда она взялась? — спрашиваю я подругу.
— Понятия не имею, — пожимает плечами Аннели. — Но с ней веселее.
Кошка отрывается от трапезы и поднимает голову. Я встречаюсь с взглядом внимательных зеленых глаз и вдруг понимаю еще одну странность: животные и птицы ведь не обращают внимания на голограммы. Многие вообще считают, что их глаза не способны нас увидеть.
Но кошка смотрит на меня не как на пустое место. Ее взгляд пытливый и изучающий.
— Я называю ее Вильма, — говорит Аннели. — Она вроде бы не против.
Я собираюсь резонно заметить, что «Вильма» — это человеческое имя, но вдруг замолкаю. Кошка все еще не отводит глаз. И мне отчего-то становится неудобно.
Когда Аннели растворяется в воздухе, уходя в виртуальность, Вильма увязывается за мной.
Я замечаю ее не сразу. Сегодня мне отчего-то тревожно и совсем не хочется стоять на набережной всю ночь, как я делаю нередко. Поэтому я еще раз огибаю Гамластан и по западному мосту перехожу на Нурмальм. Довольно долго иду на север и понимаю, что уже с месяц не гулял у старой обсерватории. Не спеша поднимаюсь на холм.
Сейчас что-то около десяти вечера, и солнце все-таки соизволило сползти по горизонту пониже. Я смотрю на черные, серые и красные крыши домов. На деревья. Интересно, было ли здесь так же спокойно, когда по улицам еще ездили автомобили? Кто знает.
Тихое, но настойчивое мяуканье заставляет меня опустить глаза. Вильма. Сидит рядом и как ни в чем не бывало умывается. Будто она всегда была здесь.
— Откуда ты взялась? — спрашиваю я, не особенно надеясь на ответ.
Кошка, естественно, молчит.
— Я — не Аннели, — зачем-то объясняю я. — Я не смогу покормить тебя. Прости.
Вильма презрительно фыркает. В ее глазах столько насмешки, сколько вообще может выразить кошачья морда.
И я начинаю понимать.
— Ты мод, да? — спрашиваю я.
Вильма все еще не удостаивает меня даже движением головы. А вот я пялюсь на нее, будто на какое-то странное, невиданное существо. Потому что если я прав, то…
Ретроградный Иисусе, каким образом кому-то удалось запихнуть человеческий разум в кошку? Как они сумели уменьшить мозг, чтобы он влез в череп таких размеров; а самое главное — зачем?! Моды — не настолько редко встречающееся теперь явление. Я слышал о разумных медведях, тиграх или гориллах. Но кто по доброй воле согласится стать таким маленьким и слабым существом?
Вслух я, конечно, не спрашиваю. Вместо этого я опускаюсь на колени и протягиваю руку к Вильме. Если правильно рассчитать движение, пальцы пройдут только сквозь ее шерсть, не дальше; почти так же, как если бы я и правда мог погладить кошку. Несколько раз провожу ладонью по воздуху и замечаю, что Вильма прикрывает глаза.
Все правильно.
Не вставая, оглядываюсь по сторонам. В любой другой день я бы развернулся и побрел обратно на Риддархольмен, чтобы остаться там до утра. Заночевать прямо возле старой церкви, лежа на булыжниках и глядя в сероватое небо. Как я уже говорил, я не могу спать. Но из отдыха на крохотной площади в самом центре острова получается не худший заменитель. Почему-то именно в этом месте мне всегда становится очень спокойно.
Сегодня я никуда не иду. Я схожу с тропинки и ложусь на землю. Раскидываю руки в разные стороны. Проектор на обсерватории направлен чуть в сторону, поэтому моя правая половина выглядит куда четче, чем левая. Травинки проходят сквозь меня, торчат из моего живота и груди, высовываются изо рта. Вильма подходит и ложится рядом.
Я разворачиваюсь к ней лицом.
— Я ведь не настоящий, да? — вдруг спрашиваю я. — Йоэл… Ты не знаешь Йоэла, но он прочел, наверное, все книги на свете. Перерыл все исследования призраков. Даже почти познакомился с еще одним. Но никто никогда не слышал о таком, как я.
Вильма молчит.
— Мне же никто ничего не объяснял. Никто никогда не говорил мне: теперь ты привидение, сынок. Я же сам так решил. А может… я вообще не умирал? Может, я был таким всегда? Просто появился. Такой вот… более сложный глюк в системе. Если можно сделать разумной кошку, то почему нельзя — программу?
Моей щеки касаются косые лучи солнца. И отчего-то именно в этот момент мне безумно хочется ощутить их тепло.
— Что ты думаешь? — настойчиво спрашиваю я Вильму, в глубине души надеясь, что вместе с мозгом ей сумели модифицировать и речевой аппарат.
Кошка сворачивается в клубочек и начинает громко мурлыкать.
Я смотрю, как медленно ползут по небу облака.
* * * * *
В среду Йоэл решает меня сфотографировать.
— Неправильный подход, — говорит он. — Нельзя такие задачки, как с тобой, решать в теории. Я искал в статьях похожие случаи — похожих случаев нет. Но это не значит, что мы не сможем найти отгадку. Надо просто понять, чем именно ты отличаешься.
— И как мы это поймем? — интересуюсь я.
— Узнаем, кто ты.
Я не опускаюсь до ехидного: «Угу. А вот это, конечно, задачка элементарная». Мой маленький друг никогда не болтает просто так. Если уж Йоэл начал говорить, это значит, что у него есть план.
План моего друга выглядит как обычная цифровая камера с чувствительным объективом, которую он притащил с собой. И полчаса спустя я удостаиваюсь своей первой посмертной фотосессии.
— Чертова кепка, — бурчит мальчишка, подыскивая подходящий ракурс. — Если б ее можно было снять…
Мы находим удобное место прямо напротив проектора, позволяющего мне выглядеть почетче, — не с первой попытки, ведь нужно еще учитывать направление солнца. Йоэл долго сражается с режимами съемки. Но даже когда все продумано и настроено, остается еще одно досадное неудобство.
Моя идиотская красная кепка.
Я задираю подбородок повыше, впервые полностью открывая другу лицо. Замираю.
— Забей, — смеется Йоэл. — Камера сама уберет помехи. И можешь улыбнуться, если что.
Я не особенно умею улыбаться. Но ради друга все-таки пытаюсь. На снимке эта гримаса выглядит довольно угрожающей.
Склонившись над плечом Йоэла, я с удивлением вглядываюсь в экранчик фотокамеры.
Хочу, чтоб вы понимали: в отличие от призраков прошлого, я все-таки отражаюсь в воде и зеркалах. Так что я примерно знаю, как выгляжу, — только примерно, потому что предпочитаю не смотреть. Но с фотографий Йоэла на меня глядит незнакомец.
— А ты старше, чем я думал, — удивляется мой друг. — Почему-то считал, что тебе лет двадцать.
— Может, я просто плохо выглядел? Ну, я же все-таки отчего-то умер.
— Может… — с сомнением бормочет Йоэл.
У меня худое, скорее тридцатилетнее уже лицо с торчащими скулами и впалыми щеками. Бесцветные то ли от искажений, то ли просто от природы глаза. Не слишком мужественный подбородок. Ничем особо не примечательный нос. Вечная — в самом прямом смысле этого слова — легкая небритость. Оттенок нескольких выбившихся из-под кепки прядей совершенно не поддается определению.
— Ты уверен, что меня вообще можно найти?
— Скажи спасибо, что родился не в Токио, — фыркает Йоэл.
— Спасибо, — задумчиво говорю я.
На самом деле, я уже совершенно уверен, что моему маленькому другу ничего не удастся обнаружить. Но я просто не могу произнести это вслух.
С Аннели, конечно, о таких вещах болтать легче. Любое существо становится тебе ближе, если вы одинаково преломляете свет.
— Ненастоящий? — смеется она. — Это с чего бы?
— Потому что это все объясняет, — спокойно продолжаю я. — Йоэл сам мне говорил… Самое простое решение всегда самое верное.
— Ты с ним-то об этом разговаривал?
— Нет, — качаю головой я. — Только с Вильмой. И она, кстати, не возражает.
— Вильма? — хохочет Аннели еще громче. — Ты что, совсем уже с катушек слетел? Она же кошка!
Я встречаюсь взглядом с моей новой четвероногой подругой. С прошлой пятницы она так и проводит каждую ночь со мной. Днем часовым сидит у лотка Аннели, а после окончания смены находит меня. Не знаю, как. От меня не пахнет ничем, а я нарочно теперь пытаюсь находить новые, непривычные для себя места, чтобы дождаться утра. Но Вильма все равно приходит и ложится под бок. Ее мурлыканье — лучшая колыбельная. Даже жаль, что оно совсем не помогает мне.
Я ночую на здоровенной транспортной развязке у Сёдермальмской площади — прямо посреди проезжей части. Ночую на идеально подстриженном газоне у ратуши. На пустом лодочном причале. На футбольном поле в Тантолундене. И рассказываю кошке истории, доставшиеся мне от Йоэла, Леннарта и Аннели.
Своих у меня почти что и нет, но Вильме, кажется, на это плевать. Я болтаю и болтаю ночь напролет, а она слушает. Не споря. Не осуждая. Лучшая в мире собеседница.
Леннарт, впрочем, не слишком от нее отстает. Слушать — это его работа.
У той девочки не вышло, спокойным, мало что выражающим голосом рассказывает он мне в четверг. Нервы не выдержали. Она не одна такая, поясняет Леннарт. Многие оказываются неспособны выносить тишину. Крики чаек — не замена человеческой речи, говорит мой друг, заметив, что я уже открываю рот, чтобы возразить. А воскресных собраний (даже Леннарт не пытается называть их службами) недостаточно, чтобы утолить жажду общения. Да, мой друг готов выслушать каждого. Он примет любого, в любое время. Если нужно, то даже ночью. Но девочка не хочет жить такой неполной, ограниченной жизнью. Ей требуется что-то настоящее.
Настоящее… Мне есть, что сказать на этот счет. Но Леннарт будто читает мои мысли. Не сравнивай себя с ней, говорит он. Они все гораздо более искалечены, чем ты.
Он говорит «они», а не «мы». Я привычно отмечаю этот забавный факт.
Когда в пятницу я прихожу на площадь Карла в обычное время, Йоэл уже ждет меня. Ждет с таким гордым видом, что кажется, он вот-вот лопнет.
— Я просмотрел все отчеты о смертях, начиная от четырех лет назад и до момента нашего знакомства. На всякий случай. Себе я верю, а вот твоей прозрачной башке — не очень, — рассказывает мой маленький друг. — Все, понимаешь? Включая женщин, детей и стариков. Если из-за этого я провалил сегодняшнюю контрольную по истории виртуальности — ты будешь мне должен.
Йоэл замолкает, любуясь моим напряженным лицом. Он не торопится делиться тем, что обнаружил. И я немедленно понимаю, что именно мой друг для меня припас.
Я думаю: он ничего не нашел. Думаю: меня не было ни в одном из его дурацких списков. Потом произношу это вслух и наблюдаю за бровями Йоэла, на секунду встретившимися с его челкой.
— Как ты догадался?
Призраки никогда не устают. У них просто нет веса, который давил бы на ноги, — да что там — у них и ног-то на самом деле нет. Но я вдруг чувствую, что не могу больше стоять.
Опускаюсь на землю и роняю подбородок на грудь. Моего лица теперь совсем не видно за козырьком, но мне кажется, что я дрожу. Интересно, как это смотрится со стороны? Помехами? Волнами, как на море?
— Все верно, Карлсон. Я тебя не нашел. А я же мастер в этом. Если я тебя не нашел, значит, ты не умирал.
«Не умирал». На самом деле, он не договаривает. Не умирал — значит, и не рождался. Не жил. Не существовал. Никакой я не призрак, не отпечаток бывшего человека. Я… Как это назвать? Искусственный интеллект? Способность мыслить, зародившаяся у чего-то, никогда и не притворявшегося живым?
Наверное, я должен радоваться собственной уникальности. Но на душе становится горько и тяжело.
На душе? Нет. Что за глупости? Мои уши — микрофоны, глаза — камеры, облепившие каждый дом, каждое чертово дерево и скамейку в Стокгольме, будто паразиты. У меня нет чувств. А значит, нет и души.
— Эй, — говорит Йоэл. — Ты что, заснул там?
Пару дней назад я бы рассмеялся. Но теперь как-то не до смеха. Слегка приподнимаю голову.
— Я еще не все рассказал.
— Да ладно, — горько отвечаю я. — Что там рассказывать? И так все понятно. Я не умирал. Я не был живым. Я — не призрак. Я…
— Елки-палки, — прерывает меня мой друг. — Ты что там уже успел себе накрутить, привидение из детской книжки? Я сказал только то, что сказал. Ты не умирал. Ты до сих пор жив.
У меня нет сердца. Но мне кажется, что-то подпрыгивает в том месте, где оно должно быть.
— Йоэл?
— Я готовился к этой идиотской контрольной. Начал читать учебник с самого начала — появление виртуальности, первые версии, отладка, все такое. И вспомнил про одну интересную штуку, — мой маленький друг делает очередную многозначительную паузу. — Короче, лет двадцать-двадцать пять назад виртуальность жутко глючило. Баг на баге. У кого-то руки через предметы проходили, как у тебя; кто-то не мог смотреть по сторонам, в некоторых местах тупо выбрасывало. Ну и вот. Когда кто-то вылетал — часто оставались артефакты, а иногда и вообще весь образ мог сохраниться. Стояли такие неподвижные чуваки, которыми никто не управлял. И вот у меня появилась одна дурацкая мысль…
Я слушаю его молча и даже не шевелясь. Будто тоже превратившись в какой-то артефакт. В тень.
— А вдруг с тобой случился глюк наоборот? Если в системе может зависнуть изображение, то почему не может — кусочек сознания? Тех-то потом вычистили всех, но ты же другой. Взяли и пропустили.
Ко мне, наконец, возвращается дар речи.
— Двадцать лет назад, Йоэл… Это очень крутая идея, но — нет, не сходится.
— Да что ж ты такой придурок сегодня? — злится мой друг. — В системе, я говорю. Ты завис в системе. А когда уже тебя там выбросило в реальный мир — это дело десятое. Блин, да ты говоришь иногда, как мой дед. Элементарным вещам удивляешься. Я давно заметил.
Молчу.
— Сколько там мы уже знакомы?
— Пару лет.
— И скажи, я часто говорю какую-то фигню просто так? Стал бы я рассказывать тебе дурацкую теорию? Я уже проверил, Карлсон. Я тебя нашел.
Мир замирает. Мир становится тихим, как у той девочки Леннарта. Мир становится зыбким и страшным. Я чувствую все это, потому что я настоящий. Потому что где-то есть человек, у которого двадцать лет назад было такое же лицо. Потому что этот человек не умирал.
Да, но… Кто тогда, получается, я?
— Густав Лейф Линдхольм, — произносит Йоэл. — Так тебя зовут.
Густав… это имя точно было в списке, но ничего не екнуло. Не екает и сейчас. У меня ведь, на самом деле, нет никакой амнезии. Я просто неполная копия. Сокращенная версия.
Нет, никакой я не Густав. Карлсон — единственное, на что я вообще могу рассчитывать. И самое смешное, это имя нравится мне даже больше.
— И… что теперь? — зачем-то спрашиваю я. — Что мне делать теперь?
Я не знаю, что там видит Йоэл из-за моей кепки, но, наверное, глаза у меня стали совсем щенячьи. Просто мне вдруг кажется: если кто в целом мире и может дать совет — то это мой маленький друг. В конце концов, у него всегда водилась целая куча логично обоснованных идей.
Только вот Йоэлу все еще не больше четырнадцати. Он бывает в реальности часов десять в месяц. И совершенно не представляет, как решаются такие вот… ненаучные проблемы.
— Не знаю, чувак, — качает головой он. — В принципе, у тебя вариантов немного. Или забей и забудь, или…
— Что или? — быстро спрашиваю я. Не то чтобы мне не нравился вариант с «забудь». Просто… какой-то части меня не хочется, чтобы все было зря.
— Встреться с ним, — неуверенно говорит Йоэл. — Поговори. Я без понятия, что это тебе даст, но может, у него есть какие-то ответы.
Ответы… Не уверен даже, что знаю вопросы, — но на короткую секунду эта идея кажется мне невероятно привлекательной, а моему маленькому другу хватает ее же, чтобы загореться. И дальше все происходит уже как-то само собой, без моего вмешательства.
Йоэл к Густаву Линдхольму идти не хочет. Он еще в своем уме и примерно представляет, как далеко пошлют надоедливого пацана даже в виртуальности. При этом мой маленький друг уже разработал целый план и подготовил десяток аргументов, почему это непременно должен сделать Леннарт.
Я говорю, что Йоэл сошел с ума. Объясняю суть ретроградного христианства и по памяти передаю их основные заповеди. Добавляю, что у Леннарта наверняка есть еще и ворох собственных причин держаться подальше от виртуальной реальности. Но упрямства моему маленькому другу отсыпали едва ли не столько же, сколько ума. Тут десять минут ходьбы до церкви, говорит он. Идиотизмом было бы не спросить.
Говорят, большинство детей, родившихся в этом и прошлом году, рискуют вообще не научиться ходить. Родители вытаскивают их в виртуальность еще младенцами, где детишки резвятся в виде щенков или жеребят, пока их реальные ножки атрофируются из-за отсутствия нагрузки. Но Йоэл — представитель переходного поколения. Ходить — да и бегать, и ездить на велосипеде — он умеет прекрасно. Сегодня один из тех дней, когда это нисколько меня не радует.
А еще меня жутко бесит тот факт, что Йоэл отправляется разговаривать с Леннартом один. Конечно, я не смог бы зайти в церковь. Но элементарнейшие правила приличия требуют того, чтобы мой маленький друг позвал священника наружу. Йоэл не делает этого. Забавно, как стеснялся этот парень познакомиться с герром Линдхольмом — но как легко при этом решается поболтать с Леннартом. Не потому, что священник — тоже мой друг, нет. Просто в реальности для Йоэла все немного не по-настоящему.
— Во вторник, — говорит мой маленький друг, когда выходит из церкви. — Он сходит в виртуальность во вторник. Раньше не сможет, у него «остались неоконченные дела».
Это звучит как цитата, и я приподнимаю бровь. Но Йоэл все равно не замечает.
— Приходи в среду утром, как обычно. Узнаешь, что он смог выяснить.
— Как ты сумел его уговорить? — у меня нет горла, но вопрос выходит почти по-настоящему хриплым. — И… почему он не вышел?
— Мне не пришлось уговаривать, — пожимает плечами Йоэл. — Он как будто хотел и сам.
Больше мне не удается вытянуть из него ничего.
Время до среды растягивается в бесконечную череду вязких и липких минут. У меня больше не получается отдыхать по ночам — я то и дело вскакиваю и начинаю ходить из стороны в сторону, а пару раз и вовсе бросаю Вильму и иду куда глаза глядят. Она не пытается догонять меня. Понимает, что мне нужна не компания, а нечто другое. Если бы я сам знал, что…
Леннарт сказал прийти в среду — но я, конечно, прихожу каждый день. Рву привычные маршруты, срезаю углы, не брожу кругами по Старому городу, а с самого утра с Риддархольмена (или где меня в этот раз застал восход) спешу на Юргорден. Я болтаюсь там по много часов, одновременно боясь отойти слишком далеко от церкви и чересчур приблизиться к ней. Вдруг Леннарт специально избегает меня?
Но любимая скамейка моего друга каждый раз пустует. А чайки носятся над заливом с возмущенными криками. Этот кусочек парка давно уже включен и в их маршрут. Вряд ли птицы способны испытывать благодарность или даже тоску. Но я уверен, что и через много лет прапраправнуки нынешних чаек отчего-то будут делать лишний круг над одной-единственной скамейкой на Юргордене. Интересно, найдется ли тогда хоть кто-нибудь, кто обратит внимание на эту странность?
Когда, наконец, наступает среда, я дожидаюсь Леннарта, стоя у самой воды. Проводить всю ночь прямо здесь — ужасно глупо, но я ничего не могу с этим поделать. Я стою у воды и не слышу, как уходит на свой пост у ног Аннели кошка, зато отчетливо различаю приближающиеся шаги.
Еще нет и восьми. Мой друг знал, что я непременно буду ждать его, и поэтому решил прийти пораньше. Я оборачиваюсь, и слова застревают у меня где-то в районе горла.
— Леннарт, — шепчу я.
— Он встретится с тобой сегодня в три. На набережной Шеппсбрун, — произносит священник и как ни в чем не бывало садится на скамейку.
Сегодня у него нет с собой булочек. Их просто нечем было бы взять.
— Леннарт, — все так же глухо повторяю я.
Он улыбается. Это странно, но мне кажется, что у моего друга разгладилось несколько морщин. Будто он раз и навсегда сбросил тяжелый груз с плеч и теперь свободен.
— Хороший способ похудеть килограмм на пять, — говорит Леннарт. — Правда, я вряд ли кому-то его посоветую.
Мне хочется заплакать. Мне хочется обнять его. Мне хочется произнести хоть что-то осмысленное — уж на это-то я точно способен. Но у меня не выходит. У меня не выходит даже толком сказать спасибо.
Я стою неподвижно, будто превратившись в то, чем и должен быть. Зависшую голограмму. И молчу.
— Какого черта, отец? — слышу я откуда-то справа и с трудом отвожу взгляд от своего друга. — Стоит мне отвернуться, как тебя уже куда-то понесло. Ты что, решил вывести меня уже в первый день?
Парень, который приближается к нам по дорожке, пофыркивая, будто возмущенный ежик, — высок, широкоплеч и красив.
Вьющиеся светлые волосы, характерный упрямый подбородок… В его лице есть что-то неуловимо знакомое. И я вдруг понимаю, что именно молодой человек вкладывает в слово «отец».
В его руках — куртка. Все еще не обращая на меня ни малейшего внимания, парень набрасывает ее Леннарту на плечи. Заботливо застегивает молнию доверху.
Сын. До сегодняшнего утра я даже не представлял, что у моего друга может быть сын. Вряд ли Леннарт прятал его от меня. Скорее, парень просто был далеко. Далеко-далеко в виртуальности.
— Луве, — говорит мой друг. — Это мой Луве, и я очень его люблю[1].
— Карлсон, — представляюсь я.
Леннарт почему-то улыбается еще шире.
Густав Линдхольм ждет меня в три, а это значит, что я пропускаю встречу с Йоэлом. Наверное, это даже неплохо — я все равно вряд ли способен сейчас на осмысленную беседу. Но к моей чести, про своего маленького друга я хотя бы вспоминаю.
Я прихожу на площадь Карла в половину третьего — в глупой надежде, что Йоэл пришел пораньше, и я успею его предупредить. Но наверное, мой друг еще в школе. Я разворачиваюсь и зигзагами пересекаю ровные кварталы Остермальма. Я не опаздываю. Но у меня не получается не спешить.
Без пяти три я выхожу на Гамластан. Каких-нибудь двадцать лет назад нам с герром Линдхольмом пришлось бы договариваться поконкретнее. «Встретимся у памятника». «На автобусной остановке». «У четвертого фонаря справа». Сейчас в этом нет необходимости. Шеппсбрун все такой же большой. Просто теперь он еще и безлюдный.
Он уже пришел, да. Я замечаю его еще на мосту и почти незаметно усмехаюсь. В ожидании меня Густав Линдхольм не подходит ни к памятнику своему почти тезке[2], ни к дворцу и ни к пристани. Он стоит перед лотком с хот-догами. Тем самым, особенным — с улыбающейся чернокожей женщиной и трехцветной кошкой, жмущейся к ее ногам. Вряд ли настоящий я отдает себе отчет в том, что делает. Просто в сером и пустом Стокгольме его подсознательно тянет к чему-то… живому.
Я не ускоряю, а, наоборот, замедляю шаг. Жадно рассматриваю незнакомое лицо, пытаясь обнаружить… сходство? Различия?
Герру Линдхольму уже явно за пятьдесят. Он плохо выбрит и почти полностью сед. У него несколько десятков лишних килограмм и непропорционально худые ноги, как у всех, кто годами не выходил из виртуальности. Совсем разучиться ходить или стоять нельзя. Но Густава Линдхольма немного покачивает с непривычки. Ему трудно и очень неуютно.
Порывистый восточный ветер наверняка пряно пахнет морем. Но герр Линдхольм замечает только сырость и поплотнее кутается в плащ.
Он похож на меня. Похож, как отец может быть похож на сына, как фотография пятидесятилетнего человека может быть похожа на фотографию его же в тридцать. Он похож на меня в достаточной степени, чтобы я поверил.
Наверное, приближаясь к Густаву Линдхольму, мне следует задрать подбородок повыше. Дать и ему вглядеться в собственное лицо двадцатилетней давности. Но я отчего-то опускаю голову.
— Добрый день, — говорю я и киваю Аннели.
— Добрый… день, — неловко отвечает настоящий я. Ему явно непривычно слышать голос собеседника откуда-то сбоку, не в такт движениям открывающегося рта. А еще… герра Линдхольма тоже, кажется, не учили разговаривать с призраками. — Ваш друг…
— Наверное, нам можно обращаться друг к другу на «ты», — мягко прерываю его я.
— Да, — растеряв остатки уверенности, говорит Густав. — Наверное…
Он явно не понимает, какого черта здесь забыл. Зачем поддался на уговоры «этого моего друга». Герр Линдхольм — всего лишь немолодой, усталый, совершенно обычный человек, которого зачем-то выдернули из привычного пруда и оставили барахтаться на земле.
Одного.
На всей набережной, которую Густав Линдхольм наверняка еще помнит веселой и многолюдной, кроме него, одни голограммы. И вышло так, что, именно они здесь дома.
Настоящий я ежится. Ненастоящий — запрокидывает голову, в очередной раз за последнюю неделю открывая свое лицо другим.
Густав замирает. Забывает, что ему холодно; забывает, как устали ноги. Все его внимание концентрируется на мне; и герр Линдхольм даже не замечает, как неприлично открывается при этом его рот.
Я молчу. Мы оба молчим довольно долго.
— Да, — глухо произносит он, наконец. — Да, это правда. Сначала я не поверил, но это правда. Ты — это я.
И снова пауза. Тишина. Я не знаю, что ответить. Я вообще не знаю, о чем с ним говорить.
Нас привели сюда разные вещи. Густава Линдхольма — любопытство. Твоя живая фотография разгуливает по Стокгольму — надо же такому случиться. Меня… наверное, просто желание узнать больше. Понять себя.
Но герр Линдхольм вовсе планировал рассказывать истории из нашего общего детства. Мы не будем обсуждать школу, колледж (или где там он-я учился?), первую любовь и первое погружение в виртуальность. Нам, в общем-то…. совсем нечего друг другу сказать.
— Как так вышло? — бормочет Густав. — Какой странный феномен. Нужно обязательно куда-то об этом сообщить. Научный мир просто сойдет с ума.
Ну, или так. Или обсудить со мной будущую сенсацию. Это безопасная тема. Нейтральная. Будто взятая из учебников светских бесед.
Мой живот сжимается, и я начинаю ощущать нечто вроде тошноты.
Это тоже ненастоящее, заимствованное чувство. Такое же, как и все. У меня нет ничего своего — только отпечатки, бледные тени эмоций Густава Лейфа Линдхольма. Но если того Густава нет уже двадцать лет — вправе ли стоящий передо мной человек требовать его долги?
И так ли уж я обязан их отдавать?
— Не надо, — тихо говорю я. — Не надо никому говорить. Пожалуйста.
Он смотрит на меня с удивлением. Кажется, даже несмотря на приветствие и пару брошенных мной фраз, герр Линдхольм до сих пор не считал меня в полной мере разумным.
— Я не хочу, чтобы меня изучали, — продолжаю я. — Поэтому… давай все это останется между нами.
Густав молчит еще, по меньшей мере, минуту.
— Не хочешь… Чего же тогда тебе нужно?
Наверное, это очень забавно смотрится со стороны. Пятидесятилетний ты, пытающийся понять, что творилось… творится в голове у тебя тридцатилетнего. Полагаю, каждому хоть раз хотелось поучаствовать в подобном разговоре. Правда, особой благодарности на лице у Густава не видно. А я раздумываю над тем, как мог бы ответить на его вопрос каких-нибудь полчаса назад.
И понимаю: очень здорово, что он спросил именно сейчас.
— Жить. Просто жить дальше. Здесь, — отвечаю я. «Жить» — глупое, совершенно неподходящее слово, но я отчего-то не задумываюсь об его уместности.
Наверное, прямо сейчас я честнее, чем был когда-либо. Когда я все еще был Густавом Линдхольмом и когда перестал.
Он кивает и отчего-то опускает глаза.
— Ладно, — говорит Густав. — Как скажешь. Я буду молчать. Был рад… знакомству.
Его правая рука дергается, и я узнаю привычный жест. Герр Линдхольм чуть было не пожал мне руку.
— Мне надо идти, — сбивчиво объясняется он. — Я работаю. Отпросился буквально на полчаса. Надо возвращаться в офис.
Я его не слушаю. В общем, я даже не смотрю на него больше. Здесь есть Аннели, Вильма, залив и чайки. Куча интересных вещей, на которые можно смотреть.
Краем глаза я улавливаю, как Густав Линдхольм разворачивается, чтобы уйти. Не дождавшись моего ответа. Толком не попрощавшись.
Я окликаю его, и Густав резко оборачивается.
— Можно я… попрошу тебя об одной вещи? Совсем мелочь.
Он смотрит на меня настороженно. Наверное, герр Линдхольм опасается, что я захочу увидеться с ним опять. И что ему будет сложно сходу придумать подходящий предлог для отказа и придется изворачиваться и нести какую-то неопределенную чушь вроде: «Да, конечно. Как только у меня выдастся свободная минутка. Обязательно».
— Погладь кошку, — говорю я.
— Что? — замирает Густав.
— Она сидит за лотком, и ее давно не гладили.
Густав Линдхольм приближается медленно, будто туча с севера. Проходит мимо меня. Заглядывает за лоток с хот-догами. Аннели отходит в сторону.
— Кошка, — удивляется Густав точно так же, как всего дней десять назад — я. — Ну надо же.
Он опускает руку, и Вильма слегка приподнимается на задних лапах ему навстречу. Трется о широкую ладонь Густава. И начинает мурлыкать.
«L» как любовь Татьяна Аксёнова
Рассказ занял первые места в номинациях «Самая интересная идея» и «Лучшая форма» на конкурсе «Хомо» в январе 2015 года.
— Только не меняйся, — твердит Мелисса мне на прощанье. — Только не меняйся, прошу тебя, не вздумай меняться; пожалуйста, обещай остаться прежним.
Она повторяет это на разные лады, снова и снова, будто заклинание. И, конечно же, плачет.
— Я ведь ухожу не на войну, — немного невпопад отвечаю я. Только немного — потому что Мелиссино «Не меняйся» слишком уж похоже на «Не умирай». И она понимает это не хуже меня.
— Не меняйся, — отчаянно шепчет Мелисса, когда я в последний раз целую ее и сажусь в седло верного Джимми. Я знаю, что назад лучше не смотреть, но, доехав до конца улицы, все-таки оглядываюсь на наш старый дом и одинокую фигурку во дворе. «Не меняйся», — эхом звучит в ушах.
— Что ты, Мелисса, — говорю я сам себе. — С чего бы мне вдруг измениться?
* * *
Перед тем как сгореть, письма Мелиссы превращаются в красивых бабочек со светло-коричневыми, пергаментного оттенка крыльями. Если попытаться схватить их, они взрываются прямо в руках, обжигая пальцы и иногда лицо. Поэтому раз за разом я просто наблюдаю за тем, как крупные, размером с две моих ладони бабочки кружатся по комнате, на мгновение устраиваются на столе, широко раскрыв исписанные мелким почерком крылья, и снова взмывают вверх.
И только через пару часов начинают тлеть.
— Зачем тебе письма? — спрашивает мастер Джо каждый раз, когда ловит мой ненавидящий взгляд. — Ты же все равно не умеешь ни читать, ни писать.
Я умею. Но если учитель в чем-то уверен, его не переубедить.
Моего наставника зовут Джо, да. Просто Джо. Именно так он представился, когда я, измотанный ночью в седле и промокший, подъехал, наконец, к стоящему на краю деревни домику. «Что это за имя? — подумалось мне. — Что за дурацкое имя?» Я ничего не сказал вслух, но тут же ощутил на себе презрительный взгляд.
— Ты не заслужил и такого.
Меня он называет «мальчик», «ученик», а иногда и «идиот». Не знаю, что это — мелкая мстительность, или он пытается унизить так каждого подопечного; впрочем, насчет своих предшественников я могу только догадываться. Мы не говорим о мастере Джо. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Как, впрочем, и о странной науке, которую я вроде как должен здесь постигать. За несколько месяцев, проведенных в этом доме, так называемый «наставник» не научил меня ровным счетом ничему.
— Сходи за водой, — равнодушно бросил он в то самое первое утро. Я и спешиться не успел. — Ведра в сарае, колодец — на том конце улицы. Твой конь устал. Расседлай его и напои. А потом наруби дров.
На этом, по большей части, и исчерпываются темы наших бесед. Подмети двор. Сходи на рынок. Свари похлебку. Сплошные домашние хлопоты. Топор найдешь на поленнице, а охотничий нож — на полке у печи. Мастер Джо ничему не учит, но я делаю для него все: убираю, ухаживаю за кроликами и курами, готовлю. Огород у учителя тоже имеется, но осенью хотя бы с ним забот нет. Зато мне часто приходится убивать — этих же кур и кроликов. Зима будет холодная, пожимает плечами мастер. Все равно померзнут. Лучше уж сейчас мяса поедим, а весной куплю новых. Вот я и режу глотки, и ощипываю, и разделываю. Я тоже родился в деревне, но, наверное, за всю жизнь не убил столько живности, сколько за два месяца у мастера Джо. Зато теперь я справляюсь быстро и без лишних усилий. И готовлю с каждым днем все лучше.
Только вот не за этим я сюда приехал, нет, не за этим. И Мелиссе я обещал вернуться пораньше, не оставлять ее надолго одну. Вернуться — а потом сразу разбогатеть и зажить по-настоящему.
Да, много всего я обещал ей. Писать каждую неделю — тоже. Только вот не пишу. Ни единого письма еще не смог отправить; ладно, что ее весточки не прочел — ждет-то Мелисса не ответа, а просто… хочет узнать, что я жив. Что не изменился. А я думаю день за днем: не решит ли жена, что и молчание — тоже знак. Вестник перемен. Ведь раньше я бы непременно написал ей, раньше я нашел бы способ…
Мелисса уже два месяца ждет письма, а мне все никак не совладать с ломающимися в руках перьями и пергаментом, который обращается в золу, едва я нацарапаю пару строк. Наставник следит за мной; каким-то образом он знает все, что бы я ни делал и о чем бы ни задумался. Нет ничего, что можно утаить от мастера Джо в доме, а выходить со двора доводится все реже. Даже причитающееся мне скромное жалование учитель посылает Мелиссе сам — лишь бы я не перекинулся лишним словом с почтальоном, лишь бы не уговорил передать короткую записку жене.
Нет, наставник не позволяет мне писать. Он не позволяет делать ничего, для чего требуется ум. И через два месяца этого странного ученичества я подхожу к мастеру Джо и прошу научить меня читать.
* * *
— У нас будет малыш, — говорит Мелисса.
Ее глаза светятся от счастья, у моей жены нет никаких сомнений и никаких страхов. Ничто не может омрачить ее радость. А я оглядываю крошечный домик с кроватью, на которой едва помещаемся мы вдвоем; с сундуком, в котором лежат три Мелиссиных платья и мои две пары штанов, а больше совсем ничего; воспоминаю голодную зиму, когда я не то что чудом не продал Джимми — чудом не прирезал на мясо.
Мне тоже очень хочется, чтобы у нас был малыш. Когда-нибудь. Когда все будет иначе. Но Мелисса безмятежно улыбается уже сейчас.
— Какое счастье, — выдавливаю я из себя. — Наконец-то.
Я бы подхватил жену на руки и закружил по комнате, если бы точно знал, что удержу ее. Поэтому я просто крепко обнимаю Мелиссу и прижимаюсь к ее щеке своей. Жена не видит сейчас моего лица. Я очень этому рад.
* * *
Мастер Джо ждал этого. Конечно, мастер ждал этого — иначе с чего бы ему так понимающе улыбаться?
— Садись, — говорит мой наставник, опускаясь на лавку и указывая на место рядом с собой. — Возьми лист пергамента и перо и садись сюда.
Я подчиняюсь, а потом внимательно смотрю, как учитель выводит на листе одну-единственную букву.
— Что это? — спрашивает мастер.
— «А», — говорю я, чувствуя себя восьмилетним мальчишкой, которого отец решил научить грамоте.
Наставник кивает.
— Верно. Что она означает?
Я смотрю на него, не понимая вопроса. Месяц назад я бы даже мог заподозрить, что учитель надо мной подшучивает. Но нет, мастер Джо не умеет шутить.
— Ну, сама по себе — ничего, — наконец, говорю я. — Но рядом с другими буквами…
Он не дает мне договорить.
— На что она похожа? — спрашивает наставник.
— На крышу дома? — неуверенно предполагаю я.
Мой учитель морщится.
— Подумай.
Я смотрю на начерченные мастером диагональные линии. На перекладину между ними. Смотрю и думаю не о том, на что похожа знакомая с детства буква, а больше: зачем наставник вообще задает такие вопросы? А еще: для чего он искал ученика, если, на самом деле, не хочет ничему учить?
«Ни к чему запоминать, на что похожа эта буква, — хочется сказать мне. — Я и так прекрасно умею ее писать». Но я молчу. Молчу и жду, что скажет мастер Джо.
— На наконечник стрелы, — говорит он с улыбкой. — Вот на что.
Я продолжаю молчать. Учитель продолжает улыбаться.
— Укол, — говорит мой наставник. — Острая боль. Неожиданность. Что еще может означать стрела?
«Понятно что», — думаю я. И отвечаю:
— Смерть.
— Верно, — кивает мастер. — Как и многие другие буквы, «А» может означать смерть. Но, конечно, не только это.
Я все еще не до конца понимаю, чем мы здесь занимаемся, когда он выводит на пергаменте «В». Не рядом с «А». Не так, будто они часть одного слова. Поодаль.
— На что она похожа? — снова спрашивает учитель.
А я снова не нахожусь с ответом.
* * *
Я занят странным делом, пока Мелисса возится на кухне, пытаясь соорудить нам суп. Я считаю деньги. Очень странно считать деньги, когда у тебя всего лишь два десятка мелких монеток — и ты точно знаешь, что осталось их ровно столько. Я складываю монеты в две одинаковых стопки. Потом в четыре. Снова собираю в кучу. Денег не становится больше. Денег, если я опять не найду подработку, хватит совсем ненадолго. Даже если попытаться есть меньше.
Я прячу все это богатство обратно в красивую деревянную шкатулку, где должны бы храниться наши ценности, если бы они у нас еще были, и натягиваю сапоги. Подхожу к Мелиссе, целую ее в плечо.
— Долой с кухни, мужчина! — смеется жена и слегка ударяет меня ложкой по лбу.
— Уговорила. Раз так, то схожу прогуляюсь, — сообщаю я и умудряюсь все-таки чмокнуть отчаянно уворачивающуюся Мелиссу в нос.
Мы оба хохочем, но когда я выхожу из дома, улыбка сползает с моего лица. Медленно ковыляя по улице, я в который раз думаю о том, что делать дальше. Нельзя сказать, что я не пытался, нет. Я почти все перепробовал; получил десятки отказов и несчетное число сочувственных взглядов. И теперь мне, в общем, не на что больше надеяться. Разве только на чудо. Или… Я вдруг вспоминаю про последнее, самое странное объявление. И когда приближаюсь к доске, уже ищу глазами именно его.
В левом нижнем углу. Маленькое, почти не заметное — и нисколько не истрепавшееся, не сморщившееся за месяцы от дождя.
«Чародей ищет ученика».
Я не слышал, чтобы кто-то в деревне решил написать этому самому чародею. И, рассматривая странные, очень твердо и четко выведенные на пергаменте буквы, я вдруг думаю, что объявление ждало все время именно меня.
* * *
«S» как змея, «I» как кость, «E» как волчья пасть, — повторяю я про себя, оттирая кухонный пол от золы. «R» — спусковой крючок; цель, власть, приговор, уверенность. «О» — это глазница; глазница — зрение, предвидение; но одновременно и пустота, слепота, бессилие, лишение; смотри на то, что справа и слева от нее… Я не дурак, я запомнил почти все буквы сразу, но мастеру Джо этого недостаточно. Он требует, чтобы я знал еще и значения. По три-пять значений на каждую букву для начала. На самом деле, их много больше.
«G» как тиски, — проговариваю я, сворачивая курице шею. «N» как гильотина, «X» как скрещенные мечи, — бормочу, разрезая тушку на части. «U» как котел. Я все еще не знаю точно, зачем делаю то, что делаю, но любопытство заставляет продолжать. Любопытство, а еще скука. Я уже давно не задумываюсь над тем, куда деть куриные перья или какие травки лучше добавить в бульон, и потому радуюсь возможности хоть чем-то занять голову.
На то, чтобы заучить все буквы как следует, назубок, у меня уходит несколько дней. И однажды вечером я уже без приглашения сажусь на скамью рядом с мастером. С пергаментом и пером в руках.
— Что ж, — говорит наставник, будто продолжая начатую беседу. — Теперь ты готов ко второму уроку.
Он не устраивает проверку, не задает вопросов. Возможно, учитель уверен: я не пришел бы к нему, если б сомневался в себе. А возможно, наставник уже узнал все, что хотел. Просто заглянув мне в глаза.
Мастер Джо забирает пергамент и выводит на нем три буквы. Одну рядом с другой. Так, чтобы получилось слово.
«FQI».
— Что здесь написано?
Я смотрю на лист. На учителя. Снова на лист. Мне уже, в общем, ясно, чего хочет наставник, но я все равно упрямо говорю:
— Таких слов нет.
— В твоем языке — нет, — соглашается мастер. И ждет. Просто ждет, что я скажу дальше.
— «F» — это факел, — сдаюсь через минуту. — То есть, огонь. «Q» — петля. Ловушка, западня. «I» — кость. Смертельная ловушка? Ловушка в огне? Это лесной пожар, да? Вот что оно значит?
Учитель улыбается.
— Неплохо для первого раза.
И замолкает. Я вдруг чувствую, что уязвлен. Два дня я зубрил эту чертову азбуку. Два дня повторял про себя значения букв, как скороговорку или детскую считалочку. И теперь… только неплохо?
— Что не так? — спрашиваю я.
— «I», — говорит мой наставник. — Зачем там «I»? Разве лесной пожар сам по себе не смертелен?
— Не знаю, — отвечаю я.
Мы оба долго молчим, и я отчего-то принимаюсь рассматривать мастера Джо. Будто не успел за несколько месяцев изучить его худое, еще не старое лицо, серые глаза и странные, очень коротко остриженные волосы. Мой учитель нисколько не похож на чародея. Он не носит бороду, и руки у него грубые, не боящиеся тяжелой работы. Да, теперь все в доме мастера делаю я. Но до этого он легко управлялся и сам. Все-таки не слуга был нужен моему наставнику. И правда — ученик.
— Почему ты думаешь, что я написал только одно слово? — вдруг спрашивает мастер, и я вздрагиваю, возвращаясь мыслями к пергаменту и буквам на нем.
— А что же?
— Фразу. Образ. Событие. Смотри, — кончиком пера учитель прикасается к листу, оставляя на нем небольшое пятнышко. — Факел — это огонь? Да, но это слишком прямо. Факел — еще и свет, проводник, известия. Петля — не обязательно ловушка. Чаще всего это цикл. Возвращение к исходной точке. А кость… Кость — это просто время.
Я молчу, вглядываясь в чуть измятый пергамент в руках мастера Джо.
— То, что здесь написано, я прочел бы как: «Разведчики вернутся нескоро», — говорит он, и я даже слегка приоткрываю рот. Не от удивления, нет. Скорее, от досады. Я вдруг ощущаю себя обманутым.
— Но как… — с трудом подбирая слова, спрашиваю я, — как, по-вашему, я должен был об этом догадаться?
— О, — усмехается мой наставник, — боюсь, что никак. Разве ты не понял, мальчик? Второй урок состоял вовсе не в том, чтобы читать слова. Он нужен был для того, чтобы ты осознал: пока что ты не знаешь совсем ни черта.
Его улыбка становится еще шире, и я понимаю, что ничего так в жизни не хотел, как врезать по этой лучащейся самодовольством физиономии. Я ненавижу своего учителя. А он забавляется, глядя на меня.
— Запомни, мальчик, — говорит мастер Джо. — Ты ничего не знаешь. И за последние два дня ты ни на йоту не стал умнее. Вопрос в том, готов ли ты это признать. Потому что только в этом случае я буду тебя учить. Иначе можешь убираться хоть сейчас.
Я ненавижу своего учителя. Ненавижу его снисходительность и властность, ненавижу каждую из его придирок и его улыбок. Я ненавижу в нем абсолютно все: пожелтевшие зубы и шрам возле уха, бугристый ноготь на мизинце, отрастающую на подбородке щетину; стоптанные сапоги, в которых он разгуливает по дому, принося с собой уличную грязь. Но вот Мелисса… Мелиссу я люблю.
— Я ни черта не знаю, — проговариваю сквозь зубы. — Будьте добры научить.
Ради жены я правда готов на многое.
* * *
— Что еще ты выдумал? Что ты себе выдумал? — повторяет Мелисса. В ее глазах стоят слезы. — Зачем ты так со мной, Пит?
Я был к этому готов, но все равно не могу выдержать взгляд жены.
— Мелисса, — говорю я тихо, — подумай сама. Я ведь грамотный, и, говорят, умный, и… что еще я могу делать?
Я вытаскиваю из-под стола искалеченную ногу — так, чтобы Мелисса могла ее видеть.
— Мне не пойти в наемники; работник из меня медленный, никуда не годный. Что еще я могу, милая? Чем я заработаю нам на хлеб?
— Нам достаточно хлеба, — твердо говорит моя тихая застенчивая жена. — Разве мы голодаем? Разве мы плохо с тобой живем?
— А малыш? — спрашиваю я.
— Мы справимся, — отвечает Мелисса еще тверже.
Я никогда не видел ее такой. С этим огнем в травянисто-зеленых глазах. С подрагивающими губами и со сжатыми маленькими кулачками.
— Я должен, милая, — говорю я, и жена вдруг прячет лицо в ладонях. Осторожно касаюсь ее плеча. Мелисса сбрасывает мою руку.
* * *
Оказывается, у мастера Джо есть даже книги, написанные вот таким манером. Целые тома, состоящие из бессмысленных сочетаний букв, собирающихся в бессмысленные предложения. Наставник пока не дает мне их в руки — то ли не хочет, чтобы ученик знал, что в них написано; то ли просто считает: до книг я еще не дорос.
С последним учитель, возможно, и прав, но разбираю я с каждым днем все больше и больше. Мастер Джо исписывает теперь целые страницы перед тем, как передать их мне, и некоторые фразы я читаю влет, даже не задумываясь. Наставнику все равно приходится меня поправлять, но его замечания все больше похожи на уточнения. На прояснения деталей, а не общего смысла. Улыбается учитель теперь тоже иначе: на место ехидства пришло удовлетворение или даже гордость. Не знаю, я не слишком много вглядываюсь теперь в его лицо. Не то чтобы моя ненависть куда-то делась — просто на нее теперь нет ни времени, ни сил.
Дело не в заботах по дому — я продолжаю обслуживать наставника, но как-то бездумно, не слишком интересуясь тем, что делаю. Все мои мысли заняты теперь очередной задачкой. И в те минуты, когда по комнате летает очередное письмо, или к нам заходит какой-нибудь деревенский житель, кланяясь почти до земли и вываливая на стол продукты или россыпь монеток, я понимаю, что наука мастера мне во благо. Если не можешь изменить какую-то вещь — не думай о ней. Выбрось из головы. Забудь.
Может быть, забывать — тоже своего рода урок. Не знаю.
Когда однажды утром наставник протягивает мне деньги, я не сразу понимаю, что прошел еще месяц. И не пересчитываю свой заработок — сразу же отдаю обратно. Учитель лучше меня знает, что с ним делать.
Мастер Джо кивает и кажется довольным. Через несколько минут перо в его руке снова танцует над листом пергамента. И вот этот подарок уже совсем не хочется возвращать.
Хитросплетения символов без остатка занимают меня на несколько часов. А когда задание выполнено, я просто начинаю играть с буквами в голове. Расставлять их так, как взбредет в голову, и пытаться прочесть то, что вышло.
«Z» — шрам. Это остаток, след, но еще и воспоминание, знание, опыт. Если мы добавим «U» — котел — мы получим подготовку к знаниям, то есть учебу. То, чем занимаюсь я. Но если приписать еще и «W»… А с какой стороны приписать? Слева? Тогда «W» будет больше влиять на «Z». Частокол и шрам. Знание и защита… Что-то забытое… или скрытое. Тайное знание. Тайная наука, которой меня обучают. А если, наоборот, прибавить «W» справа? Что мы получим? Обучение и частокол… забор… Мы упираемся в частокол. Обучение заканчивается?
Игра увлекает меня настолько, что на этот раз не отпускает и ночью. А вскоре я и вовсе почти прекращаю различать сон и бодрствование: абракадабра из слов и букв крутится в голове и во дворе, и за столом, и в кровати. Они собираются в цепочки и хороводы, кружатся, танцуют и вместо праздничных песен выкрикивают мне в уши все новые смыслы. «S» — это змея. Что такое змея? Разве только коварство и медленная смерть? Как на счет гибкости, незаметности, скорости? А блеск? Что ты думаешь о блеске чешуи? О неуловимости? Как насчет того, что у змеи нет ног, но есть острые зубы? Она откладывает яйца. Она шипит. Что из этого важно? Змея похожа на веревку, а еще на линию, на росчерк пера. Змею можно встретить в лесу, но можно и посреди деревни. Если «S» — это змея, а «J» — рыболовный крючок, может ли змея означать червя, если написать обе буквы рядом?
Проснувшись, я все еще думаю о змеях. И на странице, которую выдает мне вечером мастер Джо, отчего-то особенно много пузатых «S». Ну, или так только кажется.
* * *
— Я слышала про чародеев всякое, — шепотом говорит Мелисса тем же вечером. Мы лежим в нашей узкой кровати, и жена жмется к стене, пытаясь отодвинуться подальше. У нее не выходит, ни капельки не выходит, но мне все равно больно.
— Что? — спрашиваю я.
— Некоторые говорят… — начинает Мелисса и запинается. — Некоторые говорят, что они вообще не люди.
Я расплываюсь в широкой и, как мне хочется верить, убедительной усмешке.
— Не люди? Ну что за глупости, милая. Кто тогда?
— Не знаю, — упрямо поджимает губы жена.
Я осторожно убираю прядь волос с ее лица. Поглаживаю Мелиссу по щеке. Мне хочется, чтобы жена успокоилась. Чтобы не думала о глупостях. Чтобы улыбнулась мне, как улыбалась еще вчера. Чтобы в ее глазах светились вчерашние лучики счастья.
Но Мелисса не улыбается. И кажется, даже ласку терпит с большим трудом.
— Ты что же, боишься, что он меня съест? — говорю, продолжая усмехаться. Я уже не думаю, что все это возможно обратить в шутку. Но еще пытаюсь.
— Нет, — отвечает Мелисса. — Я боюсь, что ты сам превратишься в чудовище.
Глупая улыбка так и приросла к моим губам. Согнать ее не выходит никак.
* * *
Мастер Джо все еще выдает мне по странице в день, не больше. Полчаса, ну, час — вот на сколько хватает теперь его заданий, и ни на какие уговоры наставник не поддается. Несколько раз я даже пытался броситься на него с кулаками, но быстро успокаивался под тяжелым взглядом. Учитель ни разу не причинил мне боли — но может, я знаю точно.
Вообще, настроение мастера теперь все чаще приподнятое и благодушное, я же становлюсь раздражительнее день ото дня.
— Это жестоко, — мрачно говорю я. — Это жестоко — не позволять мне думать. Вы ведь должны меня учить.
— Я и учу, — усмехается учитель. — Сейчас у нас с тобой урок терпения. И ты не справляешься.
Глиняная чашка в моих руках вдруг трескается и разваливается, заливая колени горячим травяным отваром. Интересно, когда я успел стать таким сильным?
Мастер Джо довольно скалится. Я убираю с пола черепки.
Через несколько совершенно невыносимых дней я снова вспоминаю о книгах. На сей раз я ни о чем не прошу наставника — к чему попусту сотрясать воздух? — просто решаю дождаться, когда мастер Джо уйдет. К слову, уходит он теперь нередко, несмотря на холод и снежные заносы. Кажется, учитель выполняет какую-то работу для деревенского старосты — во всяком случае, с деньгами у нас к зиме стало даже лучше, и мне не приходится до одурения торговаться за лишнее яйцо или четверть бутыли молока. Но я не слишком интересуюсь причинами, по которым наставник покидает дом. Главное, в такие моменты я ненадолго прекращаю ощущать на себе его пытливый взгляд.
Да, я дожидаюсь, пока мастер Джо натянет меховую шапку и шубу и побредет по снегу в сторону деревни, а затем устраиваю в доме самый настоящий обыск. Я перерываю каждый сундук и проверяю каждую полку, залезаю под лавки и под кровати, осматриваю старые котлы на кухне, а потом, отчаявшись, зарываюсь в стог сена в сарае под удивленные взгляды стоящего там коня. В доме — да и рядом с ним — не остается ни единого закутка, в который бы я не заглянул. Но книг нет. Ни на той самой полке, где, я помню, они лежали еще два дня назад, ни где-либо еще. В отчаянии я заглядываю даже в печь, а потом долго отряхиваюсь от золы и трачу уйму времени на то, чтобы оттереть пол и расставить все вещи на свои места.
Но когда наставник возвращается домой, ему хватает одного взгляда, чтобы понять, что здесь произошло. Он ничего не говорит. Он просто улыбается одной из самых отвратительных своих улыбок, обнажая мелкие желтоватые зубы.
Вечером мастер Джо не дает мне даже обычного задания, и я, в каком-то отчаянном порыве схватив со стола чистый лист пергамента и перо, долго сижу на кровати и пялюсь в одну точку. А потом начинаю писать. Я бездумно вывожу «J», затем «O» и «E» — и вдруг понимаю, что именно у меня получилось. А еще — что все это время читал имя своего учителя неправильно. Много месяцев от меня ускользала одна совершенно очевидная вещь.
«J» — рыболовный крючок. Это ловушка, как и петля; убийство — но убийство праведное. Хитрость и мастерство. Рядом с мастерством «О» может означать только знание, прозрение; может быть, даже всевиденье. И «Е» как завершающий аккорд. Пасть с зубами. Животная сила. Опасность.
Я отрываюсь от пергамента и встречаюсь взглядом со своим наставником. Его внимательные глаза на секунду сверкают желтым. Или мне просто кажется.
* * *
— Не хочу брать Джимми, — упрямо повторяю я. — Тебе он нужнее здесь. В крайнем случае, — мой голос вдруг предательски срывается, — ты всегда сможешь его продать.
Мелисса так отчаянно качает головой, что на секунду мне кажется: та вот-вот оторвется. Конь — это, конечно, не любимый охотничий пес. Но мы оба к нему по-настоящему привязались.
— Нет, — говорит Мелисса. — Путь долгий. Лучше верхом, да и то за день не успеешь. Ты только не ночуй в лесу, хорошо? Дай Джимми отдых вечером и скачи дальше.
Она отчаянно пытается показать, что смирилась. Что ее мольбы в первые дни — всего лишь минутная женская слабость. Что она приняла и поддержала мое решение. Что она хорошая жена. Мелисса больше не пытается отговаривать меня, зато без умолку болтает. Решает, что нужно успеть, пока я еще здесь. Обсуждает дорогу и сколько хлеба мне завернуть с собой. Волнуется, чтобы я не замерз ночью.
Все эти хлопоты немного раздражают, но я понимаю, что лишь они и помогают жене держаться. Мелисса то носится по дому, то убегает в деревню… К вечеру она уже просто валится с ног. Я знаю, почему Мелисса делает так: просто если она не засыпает сразу, то невольно начинает шмыгать носом в подушку. И я не уверен, что от моих робких объятий жене становится легче.
Чем ближе подходит день отъезда, тем больше мне кажется, что наоборот.
* * *
На стене сарая нацарапано слово. Не рукой мастера Джо — уж его-то манеру выводить буквы я узнаю мигом, даже если не писать их, а вырезать ножом. Кем-то другим и, кажется, довольно давно. Странно, как я не замечал.
«J», «I», «M», «M», «Y». Целых пять символов, и — странное дело — «J» отчего-то крупнее всех других. У моего наставника буквы всегда одинаковой высоты. Один из бывших учеников? Кто-то, кто строил этот сарай для мастера Джо?
Впрочем, гадаю я недолго. Не хочется тратить время на досужие размышления. Не то чтобы я боялся, что неожиданный подарок исчезнет… Просто его смысл занимает меня куда больше.
Крючок. Кость. Паук — нет, целых два паука. Человечек с задранными руками. Я всматриваюсь в них во все глаза, а губы сами собой начинают шевелиться. Каждая из букв представляется мне клубком шерсти, который я разматываю, извлекая новые значения, и осторожно сплетаю с нитями из других клубков. Распускаю, если узор получается невнятным, а после начинаю вязать снова. Раз за разом. Попытка за попыткой. Когда рисунок обретает структуру и ясность, я понимаю, что простоял у стены не менее получаса. Я медленно опускаю вилы и возвращаюсь в дом. Беру со стола нож.
Кровь, вытекающая из перерезанного кроличьего горла, оставляет на полу узоры и письмена. Я держу тушку за задние лапы и слегка покачиваю ею из стороны в сторону, внимательно глядя вниз. Если получится буква — мне не хочется ее пропустить.
Когда струйка истончается настолько, что превращается в череду капель, я отбрасываю кролика в сторону. На кучу таких же, бесполезных уже тел.
— Что ты делаешь? — спрашивает холодный, подчеркнуто безразличный голос. Я оборачиваюсь.
Мастер Джо стоит в дверях. Только сейчас я понимаю, что не видел его весь день. Учитель снова уходил, но теперь вот вернулся.
— Что ты делаешь? — повторяет наставник.
Его губы поджаты, а глаза превратились в узкие щелочки. Морщины, кажется, проступили на лице сильнее. Я молчу — несколько секунд, не больше. А потом мастер Джо вдруг оказывается со мной лицом к лицу. И впервые за все время отвешивает мне пощечину.
Щеку обжигает — почему-то я ощущаю именно жар, не боль. Отворачиваюсь в сторону. И молчу.
Через распахнутую дверь в дом заползают холод и сырость.
— Где конь? — спрашивает учитель. — Где Джимми?
Имя кажется знакомым, но я не подаю вида. Опускаю глаза. Наставник стоит в луже кроличьей крови, размазав сапогами все мои узоры.
Я молчу. С этого дня мы с учителем почти всегда молчим.
* * *
Заплечный мешок, в который я укладываю свою последнюю пару штанов и запасную рубаху, старый и уже латанный. Я смотрю на него с удивлением, будто в первый раз, и вдруг понимаю: в нашем милом и таком уютном доме вообще нет никаких новых вещей. Все уже попадает сюда с прорехами и потертостями, чиненное и перекрашенное заново. Даже я.
Я смотрю на худую до прозрачности Мелиссу в сером, сотни раз перестиранном платье и понимаю, что точно не передумаю. Потому что если уж ей и должен был достаться калека-муж — то в придачу не должен идти еще и покалеченный дом с покалеченным добром. Моя жена заслуживает большего.
— Пиши мне, — говорит Мелисса. Ее покрасневшие от слез глаза выглядят просто огромными. — Обещай, что будешь мне писать.
— Да, — легко говорю я. — Каждую неделю.
— Лучше каждый день, — кончиками губ улыбается жена.
— Только если и ты будешь.
Мелисса кивает и порывисто обнимает меня.
* * *
Письмо лежит на столе. Просто лежит — не порхает по комнате, не взрывается и не тлеет. Я не сразу вспоминаю, что именно означают эти перевязанные бечевой, сложенные в несколько раз листы. Но потом меня осеняет. И я против воли расплываюсь в улыбке.
Не знаю, когда письмо появилось здесь. Наверное, его принесли, пока я убирал со двора остатки подтаявшего снега или чистил кроличьи клетки. Но теперь оно здесь, лежит как ни в чем не бывало, только руку протяни и схвати. Письмо здесь, а мастер Джо, напротив, ушел в деревню с четверть часа назад. И вернется не так уж скоро.
Я протягиваю руку. С минуту просто держу сверток в руках, не решаясь поверить в собственное счастье. А потом быстрым, судорожным движением даже не развязываю — разрываю бечеву. Быстро разворачиваю лист.
Он не загорается. До последнего я думаю, что все это — просто очередная мерзкая шуточка моего наставника; но кажется, даже ему свойственно ошибаться. Я так давно перестал обращать всякое внимание на пергаментных бабочек, что учитель, наверное, решил: письма мне больше не интересны.
Но он не прав, ох как не прав. Я и правда мог бы забыть, мог бы потерять интерес — но мастер Джо все еще не дает мне книг, реже и реже балует новыми заданиями и вообще, кажется, передумал хоть чему-то учить. Его деланное безразличие просто сводит с ума, да; ведь я приехал сюда именно за этим; ведь мне важно постигнуть науку, хотя и я не помню точно, почему.
И наставник думает, что я вдруг забуду про письма? Я улыбаюсь, улыбаюсь еще шире. И впиваюсь глазами в строчки.
Первая строка — всего два слова или две фразы. «D», «E», «A», «R» — читаю я. «D» — взрывная волна. Мощь, которую не усмирить, усиленная опасностью от «Е». Неожиданность стрелы, врезающейся под кожу. Власть спускового крючка, на котором лежит твой палец. А еще «D» может означать распространение; события, расходящиеся, как круги на воде… опасные события. Опасные и внезапные. Но кажется, есть способ с ними совладать… Ответ дальше. Ответ — во втором сочетании букв, которое отчего-то кажется мне странно знакомым. Я разглядываю его так и этак и вдруг понимаю, что читаю собственное имя. «Р» — горбун. Монстр, уродец — что ж, это про меня. Хромой, никому не нужный, ни на что не годный — на меня ведь упала чертова балка пару лет назад; упала и раздробила правую ногу. Уродец — это я. Но горбун означает еще и удачу, а ведь мне и правда везет. И должно везти в следующих буквах. В «Е» — волчьей пасти — такой же, как у моего учителя. В силе — да, от работы я стал силен. Рядом неровно выведена «Т» — топор. Упорство и борьба. Замыкающая «Е». Усиливающая первую. Усиливающая всю конструкцию. Добавляющая… свободы? Ведь волки всегда свободны. Удача, сила, борьба, свобода. Вот я какой. И раз все это написано обо мне, значит, письмо и дальше касается меня. Того, что я должен сделать.
Опускаюсь взглядом на следующую строку. «I». Просто «I». Кость, гниение, умирание. Время? Но почему отдельно? Почему это так важно? «M», «I», «S», еще одна «S». Паук и кость, две змеи. Паутина, смерть… вокруг смерть… Незаметная смерть, если я правильно понимаю змею. Внезапная атака. Выходит, первое «I» означает: скоро. «Y», «O», «U». Фигура с поднятыми руками означает смирение и капитуляцию, а еще — жертву. «О» — бессилие. «U» — планирование. Если я подготовлюсь как следует, добыча будет бессильна. Значит, я должен быть готов.
* * *
Этой ночью мне снится Мелисса. Но не улыбка на ее милых губах, не зелень любимых глаз, не длинные пальчики и даже не ее маленькие округлые груди — ничего из этого.
Мелисса из моего сна мертва.
Она лежит на пороге дома, несуразная и нелепая со своим слишком большим животом, с разорванным в лоскуты и уже пропитавшимся кровью старым платьем; с внутренностями, вываливающимися наружу. Ее рот открыт, будто моя жена еще пытается что-то произнести; одна из рук бессильно тянется к отброшенному в сторону дорожному мешку — что толку от него теперь? — другая привычно поддерживает живот. Пальцы Мелиссы тоже испачкались, вся земля испачкалась в крови моей жены и жадно впитала ее в себя. И я, нависший над телом Мелиссы и разглядывающий то, что от нее осталось, не думаю о том, что здесь произошло. Я не жажду мести, не впадаю в отчаянье. В своем сне я размышляю лишь о том, что прорастет весной на удобренной Мелиссой почве. И просыпаюсь, хватая воздух ртом.
— Переезжай к родителям прямо завтра, — говорю я жене утром, отхлебывая молоко из стакана и совсем не ощущая вкуса. — Не задерживайся здесь. Не оставайся одна. Пожалуйста.
Мелисса грустно смотрит мне в лицо. У нее круги под глазами — темные, мрачные круги. Уже который день и никак не сходят.
— Я справлюсь, — говорит жена твердо. И я понимаю, что спорить бесполезно.
Не мне учить Мелиссу благоразумию. И не мне, оставляющему жену здесь одну, просить ее быть осторожной.
— Если ты долго не будешь отвечать на письма — будь уверен, я за тобой приеду, — говорит Мелисса, когда я уже натягиваю сапоги.
Я невесело улыбаюсь и обещаю, в который раз обещаю не молчать.
— И не меняйся, — вдруг тихо говорит жена. — Если ты изменишься, я просто не переживу.
По ее щеке скатывается первая за сегодня слеза.
* * *
Слова и строки сливаются перед глазами в цельное полотно, значения и смыслы сплетаются в образы, создают картины. Не те, которые можно купить на ярмарке за четвертак, — живые, полные движения, звуков и запахов. Кровь и разорванная плоть, огонь и безумие, разложение и смерть — я вижу все это яснее комнаты вокруг меня; и она уплывает, отступает куда-то вдаль, пока мой взгляд все быстрее скользит по пергаменту вверх и вниз, перепрыгивает через строку, соединяет буквы по вертикали и диагонали и ловит все новые образы. Нож. Топор. Копье. Стрелы. Зубы — десятки рядов зубов. Руки испачканы в красном. Мухи облепили глаза. Сизый живот распух от воды. Красные полосы на шее. Черви доедают тело. Голова скатилась с плахи. Я вижу страшное — то, что должно казаться страшным, — но оно больше не пугает меня. Я проник внутрь письма, которое читаю; внутрь самих букв и постиг сотни, тысячи новых смыслов. Сила сплетается вокруг моих пальцев, воздух становится прозрачнее у моих глаз, ноздри раздуваются от предвкушения.
Зазубренный меч. Насаженная на кол женщина. Чумная крыса, забежавшая в деревню. Культя вместо обмороженной руки. Шипение змеи перед атакой. Выплюнутые на землю зубы. Облако ядовитого газа. Лужа блевотины. Вырванное сердце. Вкус крови на губах.
Тихий, но настойчивый стук. Медленно, очень аккуратно я кладу письмо обратно на стол. Открываю дверь.
Странная, непропорциональная фигура, непомерно раздувшаяся в талии. Длинные вьющиеся волосы обрамляют овальное лицо. Что-то кажется мне знакомым, но я никак не могу понять, что. Втягиваю носом воздух. Медленно облизываю губы.
— Пит?
Одиночество Илья Объедков
Рассказ занял третье место в номинации «Лучшая форма» на конкурсе «Хомо».
— Ой, да как же ж так? Да, разве можно иначе-то? Ведь не о себе радел. О детишках-сиротах. Ведь, кто окромя меня сбережёт их. Не хотел я душегубом становиться. Видит Бог, не хотел. Ведь руки, будто сами всё творили. Спужался я. Слышь, Серко? Дюже спужался.
Серко с пониманием посмотрел на трясущегося Емельяна. Не в себе мужик. Не мудрено. Сеструха его ещё до Пасхи померла, а на него четверых детишек оставила. Емельян-то мужик неплохой, работящий, да криворукий какой-то. Всё у него в невлад выходит. Куда ему такую ораву прокормить? Как-то забредал Емеля в гости. Жалился всё. Серко по-пьяни, да по глупости подсказал, как быть. Да кто ж пьяных слушает? Дурни только.
— Ты, Емеля, хорош по-бабьи причитать. Давай по порядку — чего сделалось-то.
Емельян в сердцах смахнул ещё стакан горькой, да и начал свой сказ.
— Я ведь, Серко, апослятваво совету и впрямь задумался — пойду на большую дорогу. Не с голоду же помирать. Люд разбойный, вольный на торном тракте промышляет. Чем я хужее? Мне много-то не надо. Было бы хлеба вдоволь.
Ага, значить. Бреду по дороге-то, ноги бью. Обозы попадаются, да мужики в них кряжистые, суровые. Не совладать с ими мне. Уж на третий день нутро жрать перестало требовать, да и сам я умаялся. Засел в кущерях у обочины. Слышу — колокольчик. Старуха бредёт. Цыганка. В лохмотьях, да побрякушках. А бельмыу ей белые. Слепая. Меня так и дёрнуло. Цыгане-то завсегда в цацкахходють. А тут — одна, да ещё и слепая. Можа от табора отстала, а можа турнули её, чтоб не кормить.
Сижу, а сердце набатом бухает. Думаю, услышит старая. Изловчился я, схватил цыганку за руку, да и в лес поволок от дороги подале. Она поначалу непонимаюче не сопротивлялась, топала следом и бусами брякала, а потом спохватилась. Затароторила что-то по-своему. А потом как вопьётся когтями мне в руку и тикать. Да, куда там слепошарой от зрячего. Сбил её с ног и насел на старуху. А она как коряга — не согнёшь. Шипит, плюётся. Отпусти, говорит, прокляну. Я уж и рад был бросить, да бежать. Тока она своими руками костлявыми — хвать меня за бороду и душить.
Спужался я. А цыганка бормочет по-свойски и одной рукой глаза мои ищет. Тут и я ейное горло сдавил. Перестала бормотать, лишь бельмами пустыми вращает. Я-то про себя шепчу, прости Господи, отпусти старая, а сам всё давлю. Глядь, а глаза у ей кровью налились. Как у упыря, аж страшно. Обмякла она и я попустил. Сам не ведал, что творю. Сгрёб побрякушки с её шеи и бечь в лес. Долго бёг, будто за мной свора по пятам шла. Изорвался по кустам весь. А как стал, так и понял, что сотворил-то. Ведь грех-то какой. Не хотел же ж убивать. Руки сами, как не мои, были. А глаза её! Как вспомню — волоса дыбом. Ой, дай, что ли, выпить.
Серко наплеснул в стакан.
— Ты, Емеля, уймись. Грех-то — грех, да времена такие, что, гляди, и не смертный. Давно ли смута стихла? Били людей без счёта. Чего греха таить, и я кровью руки перепачкал. Если бы в леса эти не сбёг, давно бы голова с плахи скатилась. Так тогда попы смуту на все четыре стороны крестили. Всё крови самозванца на троне алкали. А они, как-никак, слово Божие несут. А раз уж им можно, то нам и подавно — людям-то тёмным. Стало быть, можно, когда невмоготу.
Емельян отдышался, шмыганул носом, да размазал сырость по усам.
— Ты слухай, Серко. То — не конец. Бёг я по лесу, пока без сил в овраг не скатился. Гляжу в руке цацки цыганские — медные-то. Слышь, Серко — не золотые. И крестик православный на гайтане из конского волосу. Это ж получается, что зазря я жизнь человечью погубил. За горсть меди. И такая меня тоска взяла. Захотелось, как зверю лесному, выть протяжно. Как же я смог-то?
Засыпал я башку себе листвой. Думаю, буду лежать, пока Господь не приберёт. А там росомахи растащат и поделом. Лежал и задремал. Приснилась мне цыганка. Пальцем грозит, а из глаз кровью плещет. И руки у неё, слышь, чёрные.
Очнулся я с криком, а в голове оголосок лишь — «единожды». Чего это значит? Ну, сон на то и есть, чтоб не понимать, да забывать. Как не страшно было, а после побудки попустило. И помирать уже не так хотелось. Да и детишки дома ждут. Они-то в чём повинны?
Побрёл я обратно. А стемнело уж. Слышу, вдалеке голоса и костерок горит. Подкрался, а там два мужика хмельных беседуют. Притаился я и тут чую в бок мне пика упёрлася. Третьего я не доглядел.
— Нукась, давай на свет, — хохотнул он.
А куды деваться? Вышел я к костру.
— Гляньте, браты. Гостя вам привёл.
— Один он?
— Один.
— Что ж ты, дурень, один бродишь? Не звери, так люди удавят.
Опять я затрясся. Чудное дело. Токма сам помереть хотел, а теперь и не хочется вовсе.
— Не бойся, бродяга. Выпей, да ночуй здесь. А утром иди куда хошь.
Выпил я, да и окосел сразу. Никак три дня постился, а тут натощак — на тебе. И хорошо стало. Поленья в костерке потрескивают, мужички о своём балабонят. И, как зельем сонным, с ног повалило.
Видать, долго спал. Солнце уж припекать стало, а я лежу, и подниматься не охота. Тишина. На руки свои — глядь, а пальцы как в саже — черные. Вскочил я. Зола в костре уж истлела давно, а мужички как лежали вповалку, так и поснули. Хотел было толкнуть, откланяться за ночлег. А они мёртвые. Слышь, Серко. Как есть — мёртвые. Двое у кострища, а третий к дереву прислонился. А рожи у всех чёрные.
Меня тогда, как толкнуло, — видать зельем, что пили потравились. А я глотнул нет-ничего и только пальцы опалило.
— Во, как? — Серко оживился. — И чего ты?
— Чего-чего. Побёг. Да не далеко. Ведь, думаю, не с пустыми руками люди шли. Им-то теперь ни к чему. Прокрался назад. Чего боялся — непонятно. Мертвяки ведь. Лежат и не трепыхаются. Обшарил полянку и карманы ихние.
— Ну? — Серко аж привстал.
— Да хорошо набрал. Деньги медной, да серебряной — целую горсть, соли узел с полпуда. Купцы видать, аль разбойники.
— Ну, чего ещё взял?
— Дык, убёг я. Ветка где-то хрустнула и выпь заухала. Спужался и побег. Вроде, не виноват, а на душе тревожно. Будто я их порешил.
— От, дурень. Кто ж на ночлеге добро в карманах хоронит. Нужно было под деревьями, в корнях пошарить. Небось, там побогаче схоронено.
— Да не до того было. Вот. Два дня в лесу хоронился, а посля плюнул, да на ярмарку побрёл. Набрал зерна, гостинцев, да сладостей детям. Напросился в обоз к мужичку. Он в нашу сторону ехал. Весёлый такой. Всю дорогу радовался, да болтал. К дочке на свадьбу ехал, гостинцы вёз. Лошадка у него неказистая, да, как будто, устали не знает. Трюхала всю ночь без остановки, пока мы спали.
Серко зевнул и потянулся за бутылью и замер от слов Емельяна.
— Помер наутро мужик. Лицо чёрное, как в саже перепачканное. И у меня ладони тоже… сгрёб я своё добро и к дому. А лошадёнка его дальше повезла. Дочке подарок…. Наливай, что ли?
Серко наплеснул и сказал.
— Ты руки-то покажи.
— Ды, вот, — Емеля протянул чёрные ладони.
— Эк, тебя! А я смотрю — чего ты их в темень прячешь?
Емельян выпил и занюхал рукавом.
— Ты слухай дальше. Пришёл, значить, домой. Дети радуются, а у меня на душе неспокойно. Ведь не пил я с мужиком, а помер он так же. И чего я чернею? Может, это хворь какая? Бабка рассказывала, что в её молодости такой мор по округе шёл. Деревнями люди вымирали. Может, и я чего подхватил?
Кручина такая, что руки припускаются. Видать, расплата за то, что бабку погубил. Тут сосед Егорий, ты знаешь — шорник, на огонёк забрёл. Выпили, поболтали. Порадовался за меня, что так скоро заработать смог. Тока, не сказал я ему, как. Да и хмель что-то не шёл. Всё думы какие-то. Убрёл он за полночь, а я, слухая, как дети посапывают, приснул.
И тут Емеля завыл.
— А на утро — беда-то какая…. Слышь, Серко, детишки сестрины… мёртвые все. Лежат на лавках, а лица чёрные. Как же так? Сеструха мне наказывала беречь их. А я что? Сам хворью принесённой в могилу свёл. Тока тогда я припомнил слова старухи убиенной. Проклинала она меня. Слышь, Серко? Проклинала! И сон мой давешний. Единожды один ты будешь — ведьма во сне кричала. Прокляла меня старая, как есть, прокляла. И я сам сгубил детишек! Слышь? Я!
— Да уймись ты. Совсем умом тронулся. Не наговаривай на себя. Навыдумывал. А, ежели, и так, то твой грех — это старуха удавленная, а остальных ты и пальцем не касался.
Емельян растёр слёзы по щекам.
— Не конец это ешо. Слухайдале. Люди в хату набежали. Бабы завыли. И жена соседа Егория бледная пришаталась. Помер, говорит, супруг и тоже — в рёв. Переполошилась деревня. Самые догадливые на меня стали указывать, мол, я с собой гибель принёс. А я только молчу, да руки в обмотки прячу. Ноги трясутся, хоть наземь садись.
Сообща решили меня пока не трогать, а покойниками заняться. Всю ночь бабы причитали, к утру только стихли. Слишком уж тихо стало… я на негнущихся ногах иду, а они вповалку лежат. Как оплакивали детишек, так и попомерли все.
Я кинулся по деревне, по ставням стучу. Тока никто не вышел. Слышь, Серко? Вся деревня, как один, за ночь вымерла. Все приходили над детями погоревать. Все со мной говорили. Вот оно — ведьмино проклятье. Один я должен быть. Все кто со мной заговорит — помирает. Я же и чую вину-то за собой, и грех тяжкий на мне висит. Так почто других казнить-наказывать? Ой, беды я натворил!
— А что ж ты ко мне пришёл? В ответ за то, что я тебя разбойничать послал? — В глазах Серко искрились бесенята. — Думаешь, я в твоих грехах повинен?
— Что ты, Серко. Как можно. Мой грех, только мой. А пойти мне боле некуда. Ты жизнью битый. Тебя, говорят, и смерть стороной обходит, и нечисть побаивается. Ты ж с любой хворью совладаешь.
Серко ухмыльнулся.
— То — правда. Ни я, ни батя, ни дед мой, ни разу не хворали. А про цыганку, что сказать? Говорят, когда ведьма проклянёт — то беда. А ежели, над умирающим чёрные слова молвит, то ещё хужей. Вроде как с того свету ей помогать начинают. А вот в предсмертное слово ведьмы вся её душа ворожья вплетается. Страшную силу то проклятие имеет. Но я от проклятий сбережён, да и не верю я в них. Гляди, от бабки какую заразу подхватил и разнёс по встречным-поперечным. Почитай за то с табора и турнули её. Ну-кась, руки покажи.
Емельян закатал рукава. Чернота расползлась уже чуть выше локтей.
— Во, вишь? Как там говорил? Как до рожи доберётся — так помрёшь.
— Да я и рад уж, Серко. Невмоготу жить с такой ношей. Что ж за силу такую лютую мне бабка дала? Ярая сила, губительная. Тяжко, хоть в омут головой. Тока грех это.
— Ну, одним грехом больше. От меня-то чего надо?
— Я вот чего удумал. Всё же не хворь это. Не убедишь в обратном. Наказала меня старая одиночеством. Тока не со зла я её удавил. С испугу. Вот и ползёт яд проклятущий по рукам моим. А как там Писании говорится? Согрешила рука — руби её. Вот, я к тебе и пришёл.
— Так ты что ж, дурень, хошь, чтоб я руки тебе обрубил?
Дрогнул Емеля от слов этих, да в пол упёр взгляд и со вздохом сказал.
— Ага, аккурат выше локтя. Черноту пресечь. Сам я никак не смогу. Так ты ж опосля ещё и излечить сможешь. Вон как в том годе Никиту медведь помял и спину в лоскуты нарвал. Ты выходил, да залатал.
Почесал темя под шапкой Серко, всё ещё удивляясь и не веря мужичку горемыке.
— Не, Емеля, ты впрямь умом скис. Это ж надо! Удумал. Раз считаешь себя дюжим грешником — иди в церкву, да отмаливай.
— Так сгублю всех. Не могу я теперь, знаючи, что смерть несу, в город идти. Помоги, Серко. Христом Богом прошу, помоги. Я ж не за просто так. Гляди.
Емельян достал узелок и развязал. Тускло сверкнули серебром монеты. Куда ярче полыхнули глаза Серко. Дюже любил он деньги.
— Эх, ты ж! Скока у тебя.
— Это ещё не всё, Серко. Я у реки под дубом кривым, молнией палёным, ещё прикопал. Всё бери. Ещё в деревне, в хате моей, вязанка шкур горностаевых. Ежели мало — по другим хатам пошарь. Тока не хоронил я людей-то. Не смог я. Опять от своего клятья бежал. Так и лежат там почерневшие. Ты детишек-то схорони. А то не по-людски как-то.
Не торопился Серко. Думал, да за бороду себя дёргал. А потом подбросил в руке узелок с деньгой, хмыкнул, да сунул его себе за пазуху. Любил Серко серебро, да и медью не брезговал.
— Ладно, Емеля, сделаю, как просишь. Срублю руки тебе. Жилы узлами свяжу, да железом калёным прижгу. Жить будешь, тока, что же это за жизнь такая?
— Не отговаривай, не отступлюсь.
— Ну, как знаешь.
Серко запалил костёр поярче, сунул в него нож широкий и достал топорик. При виде его у Емельяна сердце заколотилось, словно медный бубенец. Он заохал, отчаянно крестясь. Серко ухмыльнулся и достал ступку. Нащипал сухих трав с вязанок под потолком и всучил Емеле в руки.
— На, пестиком толочи. С бутыли в порошок доплесни, чтоб кашица вышла. Усердней толочи. Не так шибко больно будет, когда съешь её.
Емельян, трясясь проглотил вяжущую серую кашицу и поплёлся к приготовленной плахе.
— Господи, спаси… Господи, спаси… Господи, спаси…, — без умолку бормотал Емеля.
— Не передумал, великомученик? — Серко потрогал за пазухой заветный узелок.
— Не… давай.
Серко как заправский палач занёс топор.
— Господи, спа….
— Гээх!
И Емеля окунулся в тёмный омут.
Как хотелось жить. Ой, как хотелось жить. Чёрное марево душило, чадило гарью. Боль в руках разгоралась, сыпала искрами и превращала их в огневые крылья.
Емельян открыл глаза. Вокруг рта лазили и щекотали мухи. Он взмахнул рукой и закричал от боли. Не было руки-то. Привстал с трудом Емеля и огляделся. Пыльная хата Серко. Топчан и полы улиты спёкшейся кровью. Скосив взор, поглядел на свои обрубки. Всё вспомнил. И грех свой и кару справедливую. Тоска щемит сердце, а всё же радость какая-то. Из-под окровавленной тряпицы не видать чёрных следов. Кончилась власть ведьмы.
С трудом выбрел Емельян на свет божий. Облизал полопанные губы и припал к бадье с затхлой водой. Вкуснее мёда показалась.
— Серко! — сипло позвал мужичок, оглядевшись, но не отозвался никто.
И то правильно. Сделал дело, исполнил уговор — получи обещанное. Емеля, качаясь, побродил по двору. Ой, нехорошо, да неудобно. А ничего — куры же как-то живут и он попривыкнет. Зато теперь больше на человека схож будет. Ведь не должно человеку одному быть. Как прожить шатуном лесным, зная, что и словом обмолвиться ни с кем нельзя. Бог на то и дал язык людям, чтоб говорили друг с другом. Жалились, да радовались. Ведь, даже любая тварь лесная к ласке тянется. А человеку без неё никак не прожить.
Правильней было бы сдаться тогда, и пусть цыганка удавила бы. Сколько душ невинных уцелело бы. Знать бы судьбинушку наперёд. И за что такая доля-то мученическая? Ой, да что теперь!
Эх, горе-беда! Гори, как сухая лебеда. Пусть всё худое смоет дождями, да развеет ветрами. Соль слёз, пота и крови впитает мать-земля.
Всплакнул Емеля напоследок, да и побрёл в сторону дороги. В город подаваться, к людям. Ведь только ради того, чтобы их видеть, сам себя искалечил Емеля. И невмоготу теперь одному оставаться. А грехи свои он отмолит. Станет у церкви и будет поклоны в пыль отвешивать. Вымаливать у Бога прощения. А люди добрые за него открестятся. Ведь не откажут калеке безрукому.
Щурясь от боли и шатаясь, шёл Емельян по лесу. Радовался он солнцу, дурень беспалый. Возьми он чуть правее, то наткнулся бы на вздутое тело Серко с чёрным лицом. Но, видно, не судьба. И не мог увидеть, как у него самого из-под рваной рубахи, по хребту, под гайтан нательного крестика, расползается чёрное пятно. Уносил с собой в город лютую беду. Печать одиночества. Проклятье слепой ведьмы.
Чистота Клэр Андрей Зимний
Рассказ занял первое место во всех номинациях конкурса «Разврат» в марте 2015 года. Всего на конкурс слетелось 26 авторов с 30-ю рассказами.
— Пойдём развлечёмся, — предложил незнакомый вкрадчивый баритон за спиной Клэр. — Жду тебя на улице.
Затем её поцеловали в шею. Клэр дёрнулась, точно обожжённая прикосновением чужих губ, резко обернулась. Но так и не увидела лица мужчины — только массивную спину и непропорционально короткие толстые ноги. Он шёл к выходу из бара, покачиваясь, будто танцевал с выпитым за вечер бурбоном.
— Это твой парень? — шепнула Клэр подружка.
— Нет, — рассеянно ответила та. — Зря я сюда пришла.
— Ничего не зря! Говорю тебе, первый месяц работы обязательно нужно отметить!
Клэр прекрасно понимала, что новая подружка пригласила её в бар из унизительного милосердия, которое проявляют высокомерные люди к тем, кого считают неудачниками.
— Тоже мне, праздник, — смущённо ответила Клэр.
Она ненавидела новую работу. Зачем она вообще устроилась на телефонную станцию? Впрочем, последний месяц ей везде было не по себе, так какая разница? Да и жить на что-то нужно. Может, она бы даже работала хорошо, но к концу смены начинала раскалываться голова, и Клэр путала линии. Из-за ошибок её оскорбляли звонившие, а подружки-телефонистки смотрели со снисхождением. Будто достойный человек не мог путать линии. «Алло… Соединяю…» Клэр дёрнула плечами.
Рядом с их столиком остановился высокий парень, улыбнулся и весело заявил:
— Дамы, я не подслушивал, что у вас праздник, просто вы невероятно красивы, а мне хочется заказать шампанское! Позволите?
Парень присел за их столик и начал оживлённо болтать. Рассказывая подружке-телефонистке о работе агента по недвижимости, он запустил руку под стол и стиснул колено Клэр. Она вскочила, схватила зонтик.
— Простите, мне… Срочно домой нужно.
Выбегая из бара, Клэр обернулась — подружка в общем-то осталась довольна её уходом.
По козырьку над баром отбивал дробь дождь.
— Ну, пошли? — окликнул её на улице пьяный баритон.
Тучный мужчина курил у дверей. Перед затяжкой он подносил сигарету к лицу несколько раз, прежде чем попасть фильтром в разомкнутые губы.
— Нет, простите.
Клэр раскрыла зонт и торопливо зацокала каблуками по тротуару. За спиной раздались шаркающие шаги.
— Не ломайся! Давай хоть разок перепихнёмся!
Улица была пуста. Клэр побежала. Почему, почему так происходит с ней?
— Стой, шлюха!
Дождь превратился в ливень. Порыв ветра выдернул зонтик из её рук, и тот попрыгал назад, к пьяному преследователю.
Сзади раздался шлепок и вскрик — должно быть, мужчина грохнулся на сырой тротуар. Клэр не стала оглядываться. Завернула за угол улицы и вбежала в первый подъезд.
На лестничной клетке она позвонила в двери квартир. И ещё раз. Никто не открыл.
— Помогите, прошу вас!
В ответ — ни звука. С мокрых волос на лицо струилась вода. Должно быть, из-за растёкшейся туши она выглядела так, будто рыдала уже час кряду.
Клэр не плакала.
— Помогите…
Ей почудились тяжёлые шаги на улице. Она выключила свет в подъезде и замерла, прижавшись к стене. Плохо смазанные петли скрипнули, на фоне дверного проёма вырисовался чёрный силуэт.
«Я невидимая,» — мысленно сказала Клэр силуэту. Она верила в чудеса, хотя была большой девочкой. Большой девочкой, которую вот-вот изнасилуют в подъезде.
Никакого волшебства не случилось. Мужчина шёл к лестничной клетке.
* * *
Хантер не имел права на раздражение или ненависть. Но иногда хотелось оказаться подальше от людных улиц, от стерильно хороших, улыбчивых прохожих, от чужой радости, которая обтекала Хантера, как вода — маслянистый камень.
Он не имел права и на симпатии.
И всё же неотрывно смотрел на светловолосую девушку в ярко-зелёном плаще, торопливо выходящую из бара. Даже издалека Хантер ощущал, что у этой девушки с завившимися от дождя локонами ему нечего было забрать. Она чиста, за ней приятно даже просто наблюдать издалека. За тем, как она встряхивает зонт, как оглядывается, как вздрагивает от обращённой к ней фразы толстяка. Как бросается под дождь, точно тот мог спрятать от непрошеного внимания.
Хантер знал, что дождь её не спрячет. Его самого, с извечными потёками чёрной крови, которая, точно ртуть, собиралась под пальцами и снова растекалась по предплечьям, никогда не прятал ни ливень, ни темнота ночи. Люди, кто брезгливо, кто с отвращением, неизменно отворачивались, старались перейти на другую сторону улицы.
Девушка в зелёном плаще бежала, толстяк тяжело шлёпал по лужам, догоняя. Хантер неторопливо двинулся за ними. Не спешащий на помощь герой, а равнодушный наблюдатель.
Не успела девушка нырнуть за поворот, как Хантер рванул вперёд. Его рука, покрытая чёрной кровью, точно латексной перчаткой, хлопнула толстяка по плечу. Тот приземлился на четвереньки прямо в лужу, похожий на решившую искупаться в грязи свинью.
Хантер склонился над ним, прикрыв глаза. Почувствовал, как толстяк обмякает, расслабляется. Может быть, даже улыбается. Хантер отпустил его плечо и сжал пальцы, пряча в кулаке новую чёрную каплю. Ещё одну среди тысячи других, которые он вынужден носить на себе, чтобы жители города продолжали улыбаться, чтобы продолжали при виде его с отвращением переходить на другую сторону улицы…
И сейчас ему следовало оставить мирно похрюкивающего в луже толстяка и уйти, но Хантер не ушёл. Он хотел ещё раз увидеть девушку в зелёном плаще. Хотя бы под тем предлогом, что обязан успокоить её и сказать, что она в безопасности.
Хантер открыл дверь, поморщившись от противного скрежетания петель, шагнул в тёмный подъезд. Ему показалось, что он слышит частый стук сердца, но слышать его, конечно, не мог. Наверное, дождь барабанил по козырьку подъезда. Хантер включил свет.
Девушка стояла на лестничной площадке, едва заметная в своём плаще на фоне зелёной стены. Волосы, уже не вьющиеся, а попросту мокрые и тяжёлые, облепили перемазанное тушью лицо. И она понравилась ему ещё сильней.
— Он больше не гонится за тобой, — сказал Хантер то первое, что, должно быть, девушка хотела услышать. Но вряд ли она желала узнать это из уст человека, чьи руки покрыты чёрной живой кровью.
— Вы убили его? — прошептала девушка. Дождевая капля скатилась из уголка её губ на подбородок.
— Нет, — Хантер мотнул головой и зачем-то добавил: — Я не убиваю людей.
— Тогда можно… Я пойду домой, можно?
Он отступил, освобождая путь к входной двери, но вместо правильного и разумного молчания заговорил:
— Там темно, давай провожу?
Девушка едва слышно выговорила:
— Хорошо.
Она постояла ещё немного и наконец сделала шаг в сторону Хантера. На стене остался мокрый отпечаток её спины.
По дороге Хантер выяснил, что девушку зовут Клэр, а ещё, что она предпочла бы идти одна. Кроме собственного имени Клэр так больше ничего и не сказала. Хантер тоже не был искушён в беседах, а потому молча брёл рядом, стараясь соблюдать заданное девушкой расстояние между ними. Она будто страшилась, что гадкие капли перескочат с запястья спутника на неё и навсегда замарают.
— Клэр, ты меня боишься?
— Нет, тебя — нет. Мне из-за чёрных капель страшно… и мерзко. — она взглянула на Хантера, и лицо у неё сделалось несчастным. — Прости! Я не хотела тебя обидеть!
— Ничего, из-за них я всем кажусь мерзким. — Чтобы не казаться ещё и жалким, Хантер усмехнулся.
— А нельзя их выбросить? — спросила Клэр и подошла на шажок ближе.
— Не могу.
Ему вдруг захотелось, чтобы она всё узнала. Даже если не поймёт, даже если испугается ещё больше. Хантер снял с запястья крошечную чёрную каплю и взвесил на пальце. Вытянул руку под свет уличного фонаря, чтобы Клэр могла разглядеть.
— Это агрессия. А ещё ревность, подавленность, тревога, трусость… — он подцеплял каплю за каплей, и за его кистью уже тянулись целые бусы. — Они не мои, и я не могу их выбросить.
— Придётся мне просто не замечать их.
Клэр остановилась. Хантер тоже встал. Их разделяло едва ли полшага.
— Вот и мой дом. Спасибо, что проводил.
Клэр почти дотронулась до его плеча — пальцы замерли в миллиметре от замаранной чёрной кровью куртки. Хантер так и не получил благодарного прикосновения. И всё же её жест, даже такой робкий и невинный, всколыхнул что-то в памяти. Хантеру показалось, что он уже когда-то видел Клэр. Нет, не может быть, он бы запомнил. Её бы он точно запомнил.
— Мы ведь встретимся ещё? — спросил Хантер, просто чтобы не молчать.
Вопрос-то был глупее некуда, к тому же ответ он знал наперёд. А потому даже вздрогнул, когда она сказала:
— Да.
* * *
Это нужно закончить. Сегодня.
Хантер изо всех сил старался удержать решимость, глядя, как к кинотеатру приближается Клэр. Три встречи — и так слишком много. Для них, для него, созданного вовсе не для свиданий с девушками. Он не имел права обрекать Клэр на такое же
жалкое существование изгоя.
И фильм Хантер выбрал самый что ни на есть удачный для расставаний — «Касабланку».
Они вошли в зал кинотеатра. На экране ходили люди, раскрашенные во все оттенки серого. Настоящие люди пялились на их трагедию, потягивая коку.
Клэр сняла плащ, заняла сидение с края предпоследнего ряда. Хантер устроился справа от неё и произнёс вслух то, о чём спрашивал себя много раз:
— Мне всё время кажется, что мы уже когда-то встречались. Ты не помнишь?
— Я бы тебя не забыла, — ласково ответила Клэр и, смутившись, стала смотреть на экран. — Как тебе Ильза Лунд?
— Не знаю, кто это.
Хантер сидел вполоборота, фильм его мало интересовал. Пусть он и решил попрощаться, но впереди ещё сеанс в два часа. Можно любоваться красивым профилем Клэр, скромным вырезом нежно-зелёного платья, можно даже обнять её за плечи.
— Актриса в главной роли, — пояснила Клэр. — Неужели ты не видел фильмов с Ильзой Лунд?
— Можно тебя поцеловать?
Клэр обратила к нему лицо, закрыла глаза. Её ресницы трепетали.
— Можно.
Хантер наклонился к ней, гоня мысли о том, что расставаться полагается как-то совсем по-другому. Перед тем, как их губы соприкоснулись, выждал мгновение, чтобы глубоко вдохнуть. И, наконец, поцеловал Клэр.
Так осторожно и нежно, как только мог, погладил кончиками пальцев по щеке. Клэр тихо застонала. Сколь же мало нужно, чтобы в ней, такой чистой, проснулась страсть. Хантер положил ладонь на её затылок, углубляя поцелуй. Клэр вскрикнула и оттолкнула его.
— Прости, прости, — залепетала она, всхлипывая.
Хантер отшатнулся, не понимая, перешёл ли он границу дозволенного или попросту сделал что-то слишком грубо, неловко.
— Не обижайся, — попросила Клэр. — Я тебе не говорила. Каждый раз, когда меня касаются чёрные капли, становится больно. Я старалась не расстраивать тебя, а сейчас не вытерпела. Прости.
— Не извиняйся.
Вот она и произнесла те слова, после которых невозможно было больше тянуть. Придётся отпустить или её, или чёрную кровь.
Кровь он отпустить не мог, не имел права.
— Я делаю тебе больно, так нельзя, — начал Хантер, трусливо избегая прямых, решительных слов. — Мне очень хорошо с тобой, но тебе со мной хорошо никогда не будет. Извини.
— Нет. Я не верю.
Клэр глядела так, будто падала с крыши здания из-за того, что Хантер не подал ей руку. Он отвёл глаза и впервые за весь сеанс посмотрел на экран. Красивая женщина с мягкими полными губами и сверкающими слезинками в уголках печальных глаз чем-то напоминала Клэр. Мужчина за кадром, нежно удерживающий её подбородок, наверняка знал слова, которые могли утешить киношную красавицу. Хантер таких не знал, а потому промолчал.
Может и к лучшему, ведь слова сейчас отказывались подчиняться разуму. Он будет умолять Клэр остаться.
Девушка поднялась и зашагала прочь. Словно в издёвку, красивая актриса на экране уходила куда-то под трагическую музыку с мужчиной в светлом плаще.
Хантер сидел, комкая липкий чёрный шар из крови, стёкшей с рук. Нельзя его отпускать. Как бы ни хотелось кинуться за Клэр, обнять, удержать рядом.
Поэтому пришлось отпустить саму Клэр. Она, наверняка, уже ловила такси. Хантер больше никогда её не увидит.
Он вскочил с кресла, бросился из зала по коридору на улицу.
— Клэр!
Девушка брела по раскрашенному пятнами фонарей тротуару. Дрожала. От холода? От слёз?
Хантер догнал её, преградил дорогу. Если нужно выбрать между счастьем Клэр и счастьем чужих людей, он выберет Клэр. Ей больше не будет больно от его прикосновений, и пусть ради этого даже придётся вернуть городу его пороки.
— Я люблю тебя.
Кровь, более не удерживаемая волей Хантера, рухнула на асфальт прямо под ноги Клэр, разбилась на сонм чёрных капель. Точно выпущенные из банки жуки, они поползли во все стороны. Чужие грехи, мании, тёмные страсти — всё, что Хантер забрал у жителей города, сделав людей чище и счастливее.
И теперь выпустил, чтобы вернуть хозяевам.
— Хантер, — нежно шепнула Клэр, переплела свои пальцы с его.
По рукаву её платья ползла крошечная чёрная капля. Девушка улыбнулась, искренне, радостно. Капля скользнула на воротник, оттуда прыгнула на нижнюю губу Клэр и скрылась во рту.
Выражение лица девушки едва уловимо изменилось. В улыбку прокралось что-то лисье, соблазняющее.
— Пойдём ко мне? Теперь мне будет только приятно от твоих ласк, правда?
Мимо них прошёл подвыпивший мужчина и присвистнул, оглядев Клэр с ног до головы. Та склонила голову набок, беззастенчиво подмигнула нахалу.
В ту секунду Хантер вспомнил, где видел Клэр раньше. Месяц назад он подошёл к ней у входных дверей мотеля, чтобы забрать неутолимую похоть и распутность.
Мышка Мария Куликова
Рассказ занял первые места во всех номинациях конкурса «Жуть» по итогам читательского и судейского голосования. Конкурс проводился в августе 2015 года и собрал 78 авторов с 117-ю рассказами.
Деревушка сверху маленькая, среди снега будто и незаметная вовсе. Огоньки да дымки над крышами — вот и все приметы. Но так ей уютно в тех снегах, словно держит её кто в широких сильных ладонях, баюкает бережно. И плывёт она со своими дымками и окошками мимо снежно-тюлевойзавеси, и смотрит странные сны о маячащем впереди лете. И будто нет в мире ни смерти, ни рождения, а только жизнь — бесконечная, как нетронутая простыня спящего поля.
— Ну, и всё тогда. И живите, — Геннадий свернул договор, суетливо запихивая его в папку. Лист сопротивлялся — ручищи под топор заточены, не под бумажки. И сам бывший домовладелец был какой-то неловкий, будто неуместный в маленьких сенцах. И виноватый. Саню ещё в агентстве смутила эта виноватость, будто Гена продавал не собственный дом — отчее гнездо, а пытался провернуть какую-то махинацию. Но махинатор из него был никакой, да и риэлторы подтвердили: всё чисто, покупай, Александра Сергеевна, владей безраздельно.
— Спасибо, Геннадий. Соскучитесь — заезжайте.
Он застенчиво улыбнулся, кивнул и вышел на крыльцо. Саню кольнула жалость: взрослый, а так по-детски к дому привязан. Не хотел ведь продавать после смерти родителей, из города наведывался. Но говорят, нежилые здания быстро выморачиваются, умирают изнутри. Так и вышло. Геннадий обмолвился, что каждая поездка тоску нагоняет, словно любимые эти стены с укором смотрят: «Бросил, оставил!» Не просто ему сейчас уезжать.
Медленно, будто запоминая впрок, Гена прошёл до ворот, за оградой постоял возле своей «Камрюхи», прощальным взглядом окинув окна. «Ещё заплачет», — с опаской подумала Саша.
— Ну, и всё тогда, — повторил бывший владелец и опять замер. Словно не пускало его что. — Тут неподалеку дед Гудед живет. Вы, если что, к нему…
— Если что? С дровами я в сельсовете решу, по воде тоже — вы же мне всё рассказали.
— Да нет… он по другим делам, — Геннадий, видимо, оставил попытки облечь слабо брезжащую мысль в слова, вздохнул напоследок, и уехал.
Саня ещё постояла у ворот, борясь с нахлынувшим чувством одиночества и даже паники. Хотелось бросить всё это новое хозяйство и вернуться в город с нескладёхой-водителем. Зима лежала длинным пробелом между тем, что было и что будет, а Саша торчала посереди белого листа снега сомнительной запятой — убрать? оставить? Упрямо дёрнула подбородком и пошла в дом. Впереди ждала первая ночь в новом жилище.
«На новом месте приснись жених невесте». Димка, гад, не приснился, окончательно вычеркнувшись из женихов. Зато снилась деревушка Балай с высоты птичьего полета: домишки и лес на многие километры вокруг. Впрочем, километры эти во сне только угадывались: птичье зрение оказалось со странностями, периферия будто отсутствовала, и картинку Саня видела, как в выпуклой линзе. Вот её домик, печным дымом над крышей нарисовалось кудреватое «Саня». «Мило зачекинилась», — подумала Саша-птица. На дальнем краю в изморозь выдохнулась дымным облачком какая-то «Шумера» или «Шушера» — не разберёшь; откуда-то вне посёлка возникло бледно-сизое «Аделаида». В стылом воздухе захрустела то ли сумбурная считалка, то ли детская песенка:
вспугнутым шорохом, шёлковым ворохом шорохом-морохом, морохом-шорохом, фухх… тесно приблизится, тащится-близится, к пеплу прильнёт, тело возьмёт. красное — белым, белое — красным фухх… прорастёт.Тонкий голосок скрежетал, словно царапая блёклое небо. Стало холодно, неуютно, Саня начала падать и проснулась.
Открыла глаза — чужой, давно небелёный потолок, стены со старыми, советских времён, обоями. Просыпаться одной в неосвоенном доме… паршиво. Вот бы проснуться так, чтобы ещё глаз не открывая, почувствовать тёплый упругий бок рядом, вдохнуть знакомый мужской запах, уткнуться… Вот тогда с лёгким сердцем можно улыбаться серому потолку, вставать и осваивать новые владения. А с таким настроением, как сегодня, лучше вообще не вылезать из кровати. Но надо.
Саня, ёжась, сразу побежала к печке: домик за ночь выстыл, было прохладно. Неумело затопила, успев нацеплять заноз. Но вид живого огня неожиданно сообщил её унылому утру странное умиротворение, словно шепнув: «Привыкай».
И Саня начала привыкать: мыть, чистить, выбрасывать. А что делать, раз решила кардинально поменять свою жизнь?
Решение это нарывом зрело-зрело пару последних лет, и наконец лопнуло бурной ссорой с Димом, её шумной истерикой. К личным неурядицам добавился клубок рабочих проблем, и вообще, мир перестал соответствовать её ожиданиям буквально по всем пунктам. Димка хлопнул дверью, на работе она написала «по собственному». Всё это произошло в один день, и только вечером, шагнув в тёмный коридор своей квартирки, она вдруг осознала одиночество, ненужность, безысходность, тоску… да много чего ещё осознала в один этот тёмный момент. «Обрыдло», — странное слово всплыло откуда-то из закромов памяти. Поревела, а утром отправилась к риэлторам — менять постылость привычных координат.
Так и появились в её жизни домик в деревне Балай и новая работа — учитель начальных классов. Деревушку выбрала почти наугад, по музыкальной балалайности звучания да относительной близости к городу. А то, что гибнущая без кадров школа приняла её с радостью, и вовсе показалось добрым знаком
За пару дней домишко приобрёл обжитой вид и немного прогрелся. Саня топила узкую печку-колонну, обогревающую зал и спальню. Но к большой, на полкухни, печи она подступить боялась. Огромный чёрный зев, как в сказке про бабу-Ягу, внушал ей какой-то детский, невесть откуда взявшийся страх. Саша прибралась в кухне на скорую руку, но с наступлением вечера старалась туда не заходить. Сидя в зале, она чутко прислушивалась: казалось, в кухне что-то поскрипывало, шуршало, ворочалось. Замирало, притаившись, а потом продолжало свою неведомую жизнь. Освещённая комната была отделена от плотной кухонной темноты шторками, они слабо шевелились, словно кто-то дышал там, за трепетом ткани. «Нервишки… — подумала Саня. — Лечиться надо».
* * *
Утро началось с гудков машины за окном — приехала Натка с дочкой Ладой. Сестра охала, ахала и ругалась, ведь надо такое учудить — податься в глушь, в тьмутаракань какую-то! Пошумев, Ната бросила затею переубедить упёртую сестрицу и ушла в сельпо за продуктами.
— Саня, а давай снежный дом стлоить! — племяшка столько снега за свою четырёхлетнюю жизнь и не видела никогда.
— А давай! — встрепенулась Саша, — только дом мы не осилим. Может, снеговика?
Дело спорилось, и скоро у крыльца выросла симпатичная снежная баба. Ладка пыхтела рядом, пытаясь слепить бабе внучку, но вдруг поскользнулась, ойкнула, и тут же заревела.
— Чего, чего ты? — всполошилась Саня.
— Зууб выпал! — проныла Лада и протянула тётке ладошку. И правда, зуб — молочный, чуть прозрачный, словно из тонкого фарфора.
— Так это тот, что шатался! Ну, красавица, не плачь! Молочный выпал, настоящий, взрослый вырастет! — успокаивала Саша племянницу, но та продолжала реветь. — А давай, мы его мышке кинем?
Ладка удивлённо округлила глаза, и рёв пошёл на убыль.
Вернулись в дом, наспех скинули шубки-шапки, подошли к печке. Саня, как могла, придавила страх — чего не сделаешь, когда ребёнок плачет.
— А она вдлуг укусит? — Лада боязливо поёжилась.
— Ну, что ты! Мышка пугливая, ты её и не увидишь. Бросим, слова волшебные скажем — и всё! Не бойся, все дети так делают!
— И ты делала? — Лада с недоверием посмотрела на Саню, солидную тётю двадцати семи лет.
— И я, и мама твоя, и бабушки с дедушками — все. Ну, давай, иди сюда!
Лада вздохнула и привычно подняла ручонки вверх: «На меня!» Саня легко подхватила племяшку и поднесла к печке, свободной рукой отдёрнув занавеску. Два голоса вышептали в тёплый надпечный сумрак вечную «обменную» приговорку: «Мышка, мышка, на тебе зуб репяной, дай мне костяной!» Мокрый, ещё в кровинках зубик упал и сразу затерялся в куче хозяйственного хлама.
Лада, довольная, рассказала вернувшейся матери про мышку и похвасталась дыркой в десне. «Вот, оставляй вас одних!» — проворчала Ната. За ужином сёстры вспоминали, как маленькими гостили у деревенской бабушки, своё «молочное» детство. Расстались уже без упреков. Саня махала рукой отъезжающей машине, пока в заднем окне маячило белым пятном улыбающееся Ладушкино лицо.
Ранние сумерки плотно облепили всё кругом, голубые тени ограды расчертили сугробы хаотичной клеткой. Внезапно дом показался ей громадным запертым животным: хребет матицы, рёбра стропил, потемневшая плоть брёвен. Внутри зверя горел свет, прорываясь сквозь щели закрытых век-штор. Дом дышал ей в спину, и большое его сердце — печь среди кухни — было холодно.
Ночь прошла неспокойно. Кухонная печь заполнила всё пространство Саниного сна — мир словно втягивался в чёрное нутро, как в воронку. Устье печи, сбросив заслонку, пугало своей глубиной, свистело сквозняком, настораживало шёпотом, шебуршанием, шорохом-морохом, фухх…
Маленькие ручки в седых ворсинках прижали сладко пахнущий Ладкин зуб к лысоватой груди. В глубине нежно-розовой детской дёснышки тукнуло, ожило и пошло в рост.
Утро выдалось седым, туманным. Ослабленное затяжной зимой солнце неверной рукой водило в тумане, пытаясь нащупать окна, но попадало в «молоко». В доме было сумрачно, за окном — серым-серо, и едва намечены силуэты близких деревьев. Снег валил всю ночь, и Саня, вздохнув, взялась за лопату — а то, глядишь, так скоро и из дома не выберешься.
Она чистила дорожку у ворот и вспоминала тревожный сон. Почему её так пугает эта печь? Ответ не приходил.
Саня вдруг вздрогнула и подняла голову. С другой стороны улицы на неё пристально смотрел незнакомец — маленький какой-то дедок. Заметив, что его обнаружили, он неуклюже, по-птичьи подпрыгивая, захромал в её сторону. Подошёл, тряхнул седыми космами, глянул рыжим разбойничьим глазом.
— Здрасте… — растерянно поздоровалась Саша.
Дед не ответил на приветствие, продолжая изучать девушку.
— Я Гудада, — вымолвил вдруг. Голос негромкий и будто надломленный в сильной ноте — хрипит, сипит. — Гляжу, новый человек.
— Гудада… Гудед?
— Дед Гудед — так местные зовут. Цыганское имя, цыганский дед.
— Мне о вас Геннадий говорил… что за советом к вам можно…
— И что? Не нужен ещё мой совет? — Гудада прищурился.
— Да нет, вроде, — неуверенно ответила Саша. Не станешь же первому встречному рассказывать… Да и о чем? О том, что она печки боится? Курам на смех.
— До свидания тогда, — со значением сказал дед. Взгляд его вдруг стал сочувствующим:
— Лучше уезжай, девка. Ждали тебя.
И развернулся, и зашагал в туманную морозь.
Как это понимать? Уезжай, но тебя ждали? Кто? Директор школы, конечно, ждал — малыши без пригляда были. Но зачем уезжать? Странный какой дед… Да ещё и на «ты» сразу.
Неприятная встреча настроения не добавила. Саня разозлилась на себя: поддалась беспочвенному страху, тут ещё дед этот нагнал туману. С пугливостью надо кончать — всё равно в морозы печь придётся топить, пора привыкать. Дом уже сияет чистотой, а в кухне едва прибрано. Решено, страх долой, нужно обживать и эту «терраинкогнита».
Саня прибавила громкость старого радиоприёмника. Пугающую тишину кухни перекрыло что-то симфоническое. Вооружилась ведром для мусора, влезла на табурет у печки, отдёрнула занавески и опасливо стала сгребать накопившийся мусор. Сгоревшие спички, гусиные крылышки, перепачканные маслом — пироги смазывали, ветошь какая-то… За монотонностью занятия страх чуть притупился. Среди хлама Саня заметила какие-то мелкие желтовато-серые камешки. Присмотрелась, и её передёрнуло от внезапного узнавания — зубы! Потемневшие от времени, маленькие, такие же, как они бросили на печку накануне с Ладой. Сколько же их… У Геннадия, бывшего владельца дома, видимо, было много сестёр и братьев. «Кто зубы — на полку, а кто и на печку», — усмехнулась Саша. Надо же, целая история отдельной семьи…
Ссыпав находку в ведро, она продолжила уборку. Завалы постепенно уменьшались, как вдруг Санина рука в ворохе тряпок наткнулась на что-то мягкое, теплое. Живое. Саня, вскрикнув, чуть не слетела с табурета. Боязливо отодвинула ветошь — блёкло-серый комок шерсти, хвостик… Облегчённо выдохнула: мышей она никогда не боялась, а полудохлых тем более. Мышь, похоже, и правда доживала последние минуты: лежала, тяжело дыша, не пытаясь бежать. «Сколько ж тебе лет?» — внезапно посочувствовав чужой немощи, удивилась Саша. Мышь казалась дряхлой: хвост в каких-то коростах, сквозь редкую тусклую шерсть просвечивала бледная шкура. Только глаза ещё были живы. Старуха, не отрываясь, смотрела на человека. Саня удивилась: разве бывают у грызунов такие глаза? У них всегда чёрные блестящие бусины, а тут — медово-карий взгляд… какой-то очень осмысленный.
Вдруг мышка дёрнулась и подалась вперёд. Движимая неясным порывом, Саня протянула руку, даже не подумав, укусит ли. Последним усилием мышиная бабушка вложила голову в протянутую ладонь, вжалась в человеческое тепло, судорога пробила мохнатое тельце. Почудилось, что тяжёлый вдох пролетел над печью, коснулся Саниного лица. Медовые глаза помертвели, взгляд остановился.
Выбросить на помойку странную мышь, в последнюю минуту искавшую её участия, Саня не смогла — не по-человечески как-то. Выдолбила в промёрзлой земле небольшую ямку, трупик сунула в коробку из-под чая, и мышка легла под снег. «Все в землю уйдём, — подумала Саша. — Разница лишь в упаковке».
Вернувшись с «похорон», девушка вдруг поняла, что страх перед печкой исчез. «Клининг-терапия», — усмехнулась она про себя, уборка всегда действовала на неё успокаивающе. К вечеру она осмелилась даже слегка протопить печь. Сердце дома ожило, и Саня долго в темноте следила через щели дверцы за огненным биением.
Быт был налажен окончательно, и Саня — нет, в этот раз Александра Сергеевна — вышла на новую работу. Директор школы, Павел Игнатьевич, буйной бородой напоминавший одновременно Карла Маркса и дядюшку Ау, провёл её по небольшому одноэтажному зданию, рассказывая по ходу, что и где: столовая, спортзал, три класса и «малышовая». Садика в посёлке не было, вот сельсовет и открыл группу для дошкольников. Из-за двери «детсада» слышались неясный шум, беготня и чей-то тихий рёв.
— У нас воспитательница приболела, сейчас учителя дежурят поочерёдно, — сказал Павел Игнатьевич. — Вы, как уроки отведёте, загляните, с группой познакомитесь.
Саня была совсем не против, малышей она любила. Тихие игры с племяшкой Ладой всегда казались чем-то вроде медитации, погружали в уют. Директор провёл новую учительницу в класс и представил второму «А». «Тоже совсем мальки», — тепло подумала Саша. Прежняя их наставница-пенсионерка вынуждена была проститься с любимыми подопечными — годы брали своё. Молодую симпатичную учительницу второклашки встретили с восхищением: из города, модная, как с картинки, глаза смешливые! Занятия прошли отлично: ребята очень старались, так им хотелось получить одобрение «новенькой» Александры Сергеевны. Попрощавшись наконец с нежелающими расходиться по домам школьниками, Саня в прекрасном настроении отправилась в «детсад».
Она открыла дверь в «малышовую», но тут же резко отшатнулась, чуть не задохнувшись. Запах. Непередаваемая смесь ароматов молока, манной каши, влажных подушек, детского мыла, горшков из умывальни — словом, детство, воплощённое в запахах, чуть не сшибло её с ног. Ошалев от этого неожиданного впечатления, Саня едва кивнула нянечке и с трудом сдержалась, чтобы не закрыть нос рукой.
— Проходите, Александра Сергеевна, ребятишки вас уже заждались, — сказала няня Лида улыбчиво. Семь пар глаз уставились на Саню.
Волосы спутанным мхом, чумазые лица, хитрые глазёнки, алые пятна ртов, чей-то узкий язычок, вылизывающий блюдце с джемом — шёл полдник… Словно мелкая, лесная нечисть… Голова закружилась, противно ослабели ноги.
— Дети, это ваша новая воспитательница, её зовут Александра Сергеевна. Повторите, кто запомнил, как зовут воспитательницу? — обратилась няня к малышам. Ребята нестройно повторили, с любопытством глядя на застывшую в дверях учительницу.
Там — трепет вен на худой шейке. Тут — пот в ключичной ямке. Сонные ещё: неприкрыто-белеющие тела, на щеках следы от подушек. Перемазанные рты, коросты, горошины зелёнки, засохшие пятна на нагрудниках. Детали эти вдруг закружили Саню, она едва сдержала рвотный позыв. Привычный и любимый запах детской, малыши — откуда эта тошнота?
Ребятишки повскакали с мест. Она с ужасом поняла, что сейчас кто-нибудь из них приблизится, коснётся тёплыми влажными пальцами. Нет, только не это! Озноб колко прошёл по позвоночнику. Запах детства вдруг показался сладковатым, гнилостным. Детки словно из земли вышли, из почвы проросли, тонкие пальцы тянулись в её сторону, как бледные корни кладбищенских растений. Мягкие маленькие тела… В приступе паники, чувствуя, что желудок мучительно сжался в спазме, Саня едва нашла силы извиниться и поспешно вышла.
Отговорившись аллергией на «что-то детское» и неловко простившись с директором, Саня, чуть живая, выскочила на школьное крыльцо — на белый свет, в белый снег. Слабость в теле, неверный шаг. До дома недалёко, но как бы не осесть в сугроб — ноги не несут. Она решила доехать на автобусе и побрела на остановку. Перед глазами плыло, мир сливался в сплошное белое.
Влезла в автобус, стараясь не встречаться ни с кем взглядом. Отгородившись, отпрянув, обморочно облокотилась о стекло. Рядом вдруг плюхнулась бабуля — лягушачий рот, лягушья бородавка. На мгновенье привиделся длинный липкий язык — сляпал муху, втянулся — довольно улыбнулась по-бабьи-жабьи, буркнула животом, довольно закатила белки глаз. Саню передёрнуло.
Откуда вся эта призрачная гадость в её голове? С ума она сходит? Плотно прильнула лбом к замороженному окну. Холод ласково оттолкнул безумие. Отложил. Но ведь настигнет…
Дверь автобуса отворилась, она стала выходить и чуть не влетела обратно. Вместо зимней свежести с улицы дохнуло смрадно, аж слёзы навернулись. От остановки до дома несколько метров. Но что это за метры… Пенсионерская улица, молодых, да и просто среднего возраста здесь нет. Слишком много умирания, тления. Старики брели на остановку, а показалось — к ней, на неё. Саня в ужасе зажмурилась, будто услышала: старики шуршат опадающими кожными покровами, дышат умирающими клетками, смеются ввалившимися беззубыми ртами — да, в своем безобразии они смеют смеяться! Шамкают, спешат — они так спешат… Задевают плечом, шипят вслед, перечёркивают её следы скорым концом, распадом.
Глухота, снегота, скрып-скрып, тела двигаются, лица сосредоточены, как у слепых. Взгляды в одну точку, губы в задумчивости жуют самое себя. Движения неверные, словно они ищут в своей слепоте что-то, пытаясь нюхом, слухом определить местоположение в пространстве. Приближаются…
Ей показалось вдруг, что ее молодость и красота сдаются, сморщиваются, пергаментируются, уходят в ничто. Как она доспешила, додышала, дошаркала до дома, потом и вспомнить не смогла.
Скинув шубу, Саня упала лицом в подушку. Ужас липкий — не сбросишь, не убежишь. Подобный страх она ощущала недавно у печки, но слабее, гораздо слабее. Сейчас старые и малые стояли перед глазами, заслоняя собою свет, цепко всматриваясь в неё. Взгляды их, как присоски на стекле — не отлепить. Тогда, на пороге «малышовой», а потом на своей улице девушка словно заглянула в разверстую могилу: мокрая земля ползёт по краям, пахнет свежей смертью, только что случившейся бедой. И сама Смерть словно сидела за маленькими столиками рядом с детьми, спотыкалась по сугробам под руку со стариками.
Пережитый ужас понемногу тонул в пухлоте подушки. Саня пыталась объяснить происходящее рациональными причинами. «Психоз какой-то… Обострённое восприятие на почве стресса», — привычка к разумным объяснениям деловито обрубала бредовые рассуждения. Но поверить в это не получалось.
Вдруг Саша отчетливо вспомнила, что её «заморозило» там, на пороге «детсада» и на улице. Одинаковость. Малые и старые тогда показались Сане безликими, точнее, словно с двух шаблонов намалёванными: детскому и стариковскому. Дети — синеватые тени под глазами, рты, раскрытые в любопытстве, ещё недавно сосавшие материнскую грудь, а теперь — с едва намеченными росинками молочных зубов. Дедушки и бабушки — лица в морщинах, тёмные провалы вялых ртов без блеска эмали…
Саша передёрнулась от яркого образа. И как завтра идти на работу? Как выходить на стариковскую улицу? Мир вдруг сжался до тесной коморки, Саня почувствовала себя запертой, замурованной. Одна мысль о том, что заново придётся пережить этот кошмар, вгоняла в дрожь.
«Дед Гудед… к нему, если что», — так Геннадий говорил. Может, это и есть «если что»? Чертовщина ведь какая-то, и дед… с чертовщинкой (вспомнились рыжие лихие-разбойничьи глаза). Но что ему сказать? «Здрасте, я детей и стариков боюсь?» Так ведь и Гудада старик! Замкнутый круг какой-то…
Мерила комнату бесконечными шагами. Бралась за дела — бросала, мысли разбегались. Почему так нерешительно уезжал Гена? Зачем зашёл дед Гудед — словно проверял? Может, знают что, но молчат?
Не в силах больше маяться в одиночку со своими мыслями, Саня оделась, опасливо выглянула за ворота. Никого, вечерние сумерки разогнали сельчан по домам. Торопливо она побежала узкой, протоптанной меж сугробов тропкой, молясь только об одном — никого не встретить.
Запыхавшись, добралась до дома Гудеда, заколотилась в дверь. Казалось, догоняют, в спину смотрят. Кто? Саня не задумывалась, страшно было задумываться, и вообще — страшно. Дверь распахнулась широко и сразу, словно ведром выплеснули в сумрак тёплый жёлтый свет. На пороге стоял цыганский дед. Саня замерла, приглядываясь к нему, прислушиваясь к себе. Нет, обычный человек, никакого ужаса она не почувствовала. Тихо вымолвила: «Гудада… совет нужен», — и шагнула в сени.
Дед, ни о чем не спрашивая, принялся раскладывать по скатерти потёртые карты.
— Разве мужчины-цыгане гадают? — удивилась Саня.
— Цыгане и на одном месте не живут. Но я бракованный, мне можно, — усмехнулся дед. — Как нога отказала, так с женой и осели в Балае. Ну, рассказывай!
И Саня рассказала всё-всё: как печки боялась, про сны, про Ладин зубик, про сегодняшние кошмары. Стало легче, словно разбавила тревогу чужим участием. Гудадаслушал и всё больше хмурился, руки застыли, перестали тасовать ветхие картонки. Жёстко отложил карты в сторону, припечатал ладонью, будто боясь, что те тараканьём расползутся по столешнице. «Выгонит?» — подумала Саня, и тут же навернулись слёзы. Куда же она тогда?
— Вы мне погадаете? — спросила робко, пряча глаза, смаргивая.
— Нечего тут гадать, — дед глядел как сквозь неё, весь где-то далеко, глубоко. — И так понятно. Ох, девка… Жена моя тебе бы лучше объяснила, да нет её уже.
— Вы вдовец?
Дед неопределённо помотал головой и продолжил:
— Что помню с её слов, расскажу. В беде ты — меж двух могил попала.
— Между… каких? — едва выдохнула Саня.
— Дети да старики. Малышня — они недавно из небытья, а старики — скоро в него. И те, и другие у границы со смертью ходят. А ты меж них, с тех пор, как в этот дом переехала. Говорил я Генке, не продавай, не ты в нём хозяин!
— А кто? В регпалате документы проверяли, всё нормально было.
— Да не в документах дело, — отмахнулся Гудада. — Про семью Геннадия разные слухи ходили. Прабабка да бабка, говорят, с чертями водились. Генка-то простоват, ничего не перенял, да и не по мужскому уму ведовство. А там, где долгое время ведунили, обычным людям-то невмоготу, вот он и сбежал в город. Тебе, получается, кота в мешке продал. А дом-то ждёт, ему живой человек надобен. От этого твоя морока. Да племянница твоя еще зуб отдала, а зуб — с кровью. Дом проснулся, чует, тянет. Тебя чует, да и ей не поздоровится.
— Что ж теперь, бросить всё?
— Погоди, жена говорила, есть средство — обряд удержания. Только зря ты те зубы детские, что на печке нашла, выбросила. В них сила рода была. Без них тебя удержать трудно, а надо. А то… как жена моя, сгинешь, — опять припомнил дед супругу.
— От чего удержать-то? От могилы, что ли? — Саня представила себя стоящей меж двух ям. Вот поскользнулась на мокрой глине, сейчас съедет в одну из них.
— Если б от могилы… Дом, где много поколений свои зубы мышке отдавали, непростым местом становится. А уж сами мыши… Жена перед тем, как… — дед тяжело сглотнул часть фразы, — говорила, мол, «все мы в Божьей горсти, да в мышьих лапах». Ребёнок молочный зуб мышке отдаст, та ему коренной в рост пустит. Так и поставит на смертный путь, человека-то — зуб корнем привяжет дитя к жизни. А старики, как зубы растеряли, так опять на краю могилы и очутились, сидят — ноги свесили. Так уж устроено: человек за жизнь зубами держится.
— Погодите… Значит, тошно мне от стариков и малышни, потому что я теперь вижу, что они рядом с могилой ходят? Так, что ли?
— Так и есть. Тебя же от второклашек твоих или ровесников оторопь не берёт? Или от племянницы — сколько ей, пятый год? Поди, хоть один зуб коренной да есть?
— Растёт, вроде…
— Вот, они крепко за жизнь держатся, от них могилой не пахнет. Спасать тебя надо, а то или свихнешься, или дом приберёт. И медлить нельзя. Зубы с печки зря выбросила, получится ли без них обряд — не знаю. Придётся заместо их силы Генку сюда звать — он хоть и сорняк в своём семействе, да зерно-то одно, что-то в нём да есть.
— А Лада? Вы говорите, и ей не поздоровится?
— Не спрашивай! — замахал руками Гудед. — Про тебя знаю: в опасности ты, но пособить можно. А про неё… только Богу ведомо.
Уходя, Саня всё же спросила:
— Дед Гудада, а почему у вас все зубы на месте? Вы же… в возрасте…
— Тоже мне, Красная шапочка: «Почему у тебя такие большие зубы?» Иди уже, Генке звони, время уходит, — и помолчав, добавил непонятное, — жена меня любила… позаботилась.
Саня добрела до дому без происшествий. Надо было звонить Геннадию, но всё услышанное теперь казалось какой-то ерундой. Ну что она скажет? «Гена, простите, но меня дом забирает?» Чушь… Вдруг остро захотелось затопить печь — там, в кухне. «В крайности бросаюсь», — с удивлением подумала она, давно ли боялась? Саша вспомнила, как вчера было уютно возле огня, и её вновь потянуло на тот островок безопасности и спокойствия. Мысль о ровном биении пламени за дверцей отодвинула ужасы, спасительно заслонила.
Печь словно ждала — радостно распахнула нескрипнувшие дверцы топки, откликнулась на Санины всё ещё неумелые попытки поддержать огонь, задышала, помогла. Саня устроилась за кухонным столом с телефоном. В сказках герой, столкнувшись с проблемой, спрашивал совета у какого-нибудь мудрого предмета: зеркала, например. А сейчас… «Окей, гугл», — прозвучало в тёмной комнате коротким заклинанием. А что спросить? Саша без особого интереса побродила по сайтам практикующих психологов с рассказами о панических атаках, депрессивных состояниях, фобиях — нет, это вряд ли её случай. Она вспомнила про Ладин зубик и вбила в строку поиска: «Суеверия, зубы». Да, вот и мышка, и слова те же, что они с племяшкой шептали недавно: «на тебе репяной, дай зуб костяной!» Строчки плыли перед глазами: суеверия, рассказы пользователей, даже научные работы (надо же, кто-то ведь изучает такое!): «Хтонический аспект мифологии мыши очевиден. Но у мыши есть и небесные коннотации, хотя они менее выражены. В. Н. Топоров в своей статье подчеркивает эти медиативные функции мыши — связь между небом и землёй…»
Небесно-хтоническая мышь… С ума сойти. Это и на свежую голову не осознать, а когда вечер на дворе — и вовсе. Саня почувствовала, что глаза слипаются. Странный этот день вдруг навалился на неё, и она уснула, едва разобрав постель.
Плавность сна, подступавшего первыми ласковыми волнами, нарушил звонок — сестра, Ната. Чего ж среди ночи-то? Хотя… на часах всего пол-одиннадцатого.
— Саня, привет. Я с плохими новостями: Ладу сегодня в больницу положили.
Саня ахнула:
— Да ты что! Серьёзное что-то?
— Не знаю. Температура небольшая, слабость, горло не красное. И так две недели уже почти. От нашего педиатра толку мало, не знает, чего придумать: «Психосоматика, стресс», — говорит. Наконец направление дала на обследование. Сегодня и положили.
— А что, стресс какой-то был?
— Был, но ничего серьёзного. Лада же у нас падать мастерица, ты знаешь. Её в садике толкнули, она подбородком — об угол. Синяк в пол-лица, чуть зуб не выбила. Ну, тот, коренной, что только показываться начал. Ты ещё со своими сказками! Ладка больше не от боли ревела, а от того, что мышка на печке обидится: мол, не бережёшь мой подарок!
У Сани перехватило дыхание:
— Погоди… зуб цел?
— Цел, да побаливает. Там на десне такой синяк… В больнице я про это сказала, но они говорят, что не связано.
Тук-тук… тук… пропуск, пробел. Ритм сердца вдруг скомкался, и тут же оно забилось часто-часто, как стучит обычно у маленьких напуганных существ. Саня перевела дыхание. «Человек за жизнь зубами держится…» — вспомнились слова Гудеда. — «Старики, что без зубов, на краю могилы сидят, ноги свесили». А если человек теряет коренной в середине жизни? Саню вдруг обдало холодной жутью. Получается, что с таким человеком всё, что угодно случиться может — зуба нет, связь с жизнью нарушена! А ведь этот коренной у племяшки единственный.
Едва соображая от тревоги, выдохнула в трубку:
— Ната, я к Ладе приеду завтра, с утра…
— Так я тебя об этом и хотела попросить! Ты можешь отгул взять? Я только к вечеру с работы выберусь, а Лада первый раз в больнице, боится.
— Я отпрошусь, не переживай. И с врачом поговорю.
Белые стены, жужжащие лампы-трубки, запах лекарств. Коридоры длинные-длинные, бахилы смягчают стук каблуков. Свет дробится на стальных инструментах. Ладкина ладошка в руке — горячая. Врач рассматривает снимок, хмурится… ох, как хмурится. Лада сжалась в кресле, глазёнки лихорадочно блестят.
— Ну, что сказать… — стоматолог отложил снимок. — Хорошо, что настояли на повторном осмотре. Острая травма, правый резец нижней челюсти. Дело, в общем-то, обычное, но рентген странный…
Врач указал на тёмный прямоугольник снимка на экране. Маленький корень туманным пятнышком едва виднелся в десне. Рядом четко просматривались здоровые зубы.
— Я сначала диагностировал пульпит, возможный некроз ткани, но… Корень травмированного зуба как будто бы другой плотности, видите? Это уже повторный снимок, и корень со временем как бы тает, растворяется. Исчезает… А синяк растет, антибиотик не работает. Я, признаться, с таким в своей практике не сталкивался. Не думаю, что травма стала причиной состояния, но лучше исключить такую вероятность. Зуб придётся удалять.
— Нет! — Саня, не отдавая себе отчёта, с силой вбила ладонь в стол, сшибла карандашницу. Перехватив испуганный Ладушкин взгляд, с трудом подавила в себе панику, заговорила горячо и быстро. — Семён Павлович, нельзя зуб удалять! Он же коренной, вы не понимаете…
— Да что вы всполошились? Конечно, удалять зуб в таком возрасте неприятно — придется несколько лет жить без него, пока челюсть сформируется и можно будет ставить имплант. Но разницы не заметите.
— Не удаляйте… — Саня вдруг растеряла все слова, слёзы брызнули, она умоляюще смотрела на врача. Не рассказывать же ему про мышь на печке, про цыгана… — Нельзя удалять, Лада ведь маленькая ещё…
И забормотала, от стыда пряча глаза и задыхаясь от неудобства:
— Скажите, сколько, мы найдём… пожалуйста…
— Ну, голубушка, вы совсем не понимаете, что несёте! — Тут уже врач прихлопнул рукой по столу, бумаги прыснули в стороны. — Отведите девочку в палату, хватит истерик!
Тут он смягчился и, серьёзно глядя Сане в глаза, добавил:
— Не волнуйтесь, сделаю, что нужно. Что смогу.
Саня уложила Ладу, сунула пахнущую спиртом сосульку градусника ей подмышку. Племяшка смотрела совсем по-взрослому: болезнь часто придаёт детскому наивному взгляду суровость, скорбность даже. Надо было что-то говорить, но Саша чувствовала, что вместе со словами и слёзы пойдут — не остановишь. Горячая ладошка ухватила за запястье.
— Саня, не бойся, он не злой, селдитый только…
— Ты о докторе? Да, не злой. Он нам поможет обязательно!
Сказала и сама не поверила. Слабая тень корня на снимке. Зуб-призрак. Он тает, а вместе с ним тает и Лада. Мёртвое внутри живого. Цветной картинкой встало перед глазами: этот маленький мёртвый участок разрастается, выбрасывает ложноножки, тянет жизнь из всего, что рядом. Розовые свежие ткани сереют, блекнут. Корень зуба, подарка от мыши, мертвеет и мертвенность эта растёт вглубь. Вглубь маленького живого человека, её любимой девочки.
Слеза скатилась. Саня быстро смахнула её и нарочито весело обернулась к Ладе — остро напоролась на больные воспалённые глаза. Блеск лихорадочный, зрачки чёрными точками, медово-карий взгляд — Лада никогда не смотрела так раньше, но взгляд вдруг показался очень знакомым… Не в силах вынести напряжения, Саня быстро поцеловала племяшку, проверила градусник, не различая цифр. Нужно было уходить, страшно было уходить. Шёпот: «Ещё плидёшь?»
Саня сдала халат в гардеробе, пошла к выходу. И вдруг замерла, словно разом оглохнув, ослепнув, ослабев. Медово-карий взгляд… голубых глаз. У Лады — голубые глаза. Память запульсировала, беспорядочно выдавая образ за образом: зубы на печке, разверстая печкина пасть, дом-зверь в ограде, мышь-старуха. Прощальный медово-карий взгляд глаз-бусинок… Саня тряхнула головой — привиделось же… Привиделось?
Отчаяние и злость закипели внутри. Злость на кого-то неведомого, нависшего над Ладушкой, безразличного к её беде. «Нет, нет, нет», — стучало в голове колёсами тяжелогружёного поезда. «Нельзя, не допусти, меня — не её», — как заведённая твердила Саня. Разрозненные эти слова сложились во фразу, за которую она ухватилась крепко-накрепко, будто не было ничего важнее в тот миг: «Не трожь! Меня возьми — не её, не Ладушку!» Крикнула неведомо кому мысленно, с напряжением, словно тяжёлую вагонетку оттолкнула. И вдруг оглохла от наступившей внутри тишины: злость отступила, мысли утихли. Осталось ожидание — услышит ли тот, страшный? Послушает ли?
Неведомо где, неразличимо для человеческого уха что-то лязгнуло, будто перевели стрелку — вагонетка встала на другой путь.
Ночевала у сестры: тревога не давала вернуться в Балай. Страх за родную душу — страшнейший. Ведь случись что с близким человеком, он исчезнет, а ты останешься. Чтобы вспоминать двести, триста бесконечных кромешных ночей подряд. Один на один с горем, с глазу на глаз. А глаза у горя темны, глубоки — не выплывешь…
С Натой всю ночь проговорили, промолчали, проплакали. Под утро забылись тяжело, и будто сразу — звонок:
— Звоню вас успокоить. Мы сменили препарат. Инъекции болезненные, но, кажется, зуб сохраним…
— Семён Павлович, миленький!
Первые же уколы дали результат: температура спала, лихорадочный блеск глаз сменился на привычные лукавые огоньки. Можно было ехать домой. «Домой?» — удивилась Саня, — «Быстро же меня прибрало, одомашнело». И вдруг до тоскливого нытья где-то в подреберье потянуло в Балай, в тёплый полумрак старого дома. Она представила, как выйдет из машины, как заскрипит нетронутый снег, шесть клавиш-ступенек на крыльце просипят свои ноты, мягко хлопнет дверь за спиной, и вот она — печка, широкая, такая надёжная. Словно центр всего.
В предвкушении встречи не заметила, как домчалась до деревни. Но снег у дома явно кто-то трогал. Топтал нервными ногами, мял ожидающими шагами. Всё это Саня заметила вполглаза — забежала, взглянула печке в лицо, качнулась к белой нетопленной громадине, обнять, прижаться… Телефонный звонок сломал нежность момента.
— Да ты ума лишилась, девка! — накинулся на неё дед Гудед. — Уехала, мне ни слова, Генке не позвонила — время же тикает, дурында! Страха не имеешь?
Вспомнила про обряд, жутко стало.
— Да я… племянница заболела
— «Племянница…», — подразнил цыган. — Генка приедет утром, для обряда. Удерживать тебя будем, а то сгинешь.
А ночью сладко заломило тело. Каждая косточка плавилась в истомном огне, менялась, перетекая во что-то неведомое. Саня становилась всё легче, и в какой-то миг лёгкость эта настолько её переполнила, что лежать под одеялом не стало сил. Она вскочила порывисто, сделала несколько шагов, и вдруг упала, рассмеявшись. Неведомое доселе чувство невесомости, смешное смещение потолка и пола, центра тяжести — все удивляло и радовало. Светлым пятном она стояла среди комнаты на четвереньках, поражённо оглядывая такие привычные, но будто бы невиданные ни разу предметы: необъятную арену стола, великанистый шкаф, окна огромные, не вмещающие серебряную в лунном свете белизну снега. А за стеклом двигались мелкие чьи-то тени, подпрыгивали неуклюже, тянулись голосами к высокому небу. Тонко-ломко запело среди улицы — или просто на грани сознания?
вверх не пырскнешь, вниз не сойдёшь,
из тёплойзолицы плащик сошьёшь —
слёзы землице, косицы золе,
смертным крепень, детское — мне.
мнемнемнемне!
«Мне, мне…» — Саня вдруг поняла, что подпевает странной песне, лопочет неожиданно онемевшими губами. Веселье будто разом утекло в щели половиц, уступив место вязкой тревоге.
Снежный свет слепил. Слабым отражением заоконной белизны светлел бок печки — единственный неизменный и привычный предмет среди этой ночной чехарды. Саня попыталась подняться, оттолкнулась от пола, но её занесло и кинуло обратно — так, что она чуть не ткнулась лицом в пол. Удивлённо уставилась на свои растопыренные пальцы, странным образом вытянувшиеся, прозрачневевшие в полумраке. «Ну и сон… — подумалось ей. — Ну и сон».
Неожиданно ловко перебирая руками и ногами, она пробежала до печки, ухватилась за её тёплый — будто мамкин — бок, прильнула. Отдышалась, успокоилась. Придерживаясь руками за печь, стала подниматься. Но с каждым сантиметром вверх росла боль в спине. Вот она искрой в сырой поленнице пробежала по позвоночнику, вот — плеснула на полешки-позвонки огневой щедрости, забилась всполохами. Саня через силу выпрямилась, и боль заревела мартеном, охватила её целиком, выстрелила в копчик длинным острым ударом. Девушка с криком переломилась пополам, устремляясь вниз, к полу. Упала, тяжело дыша, дрожа ночной тенью. Внезапно пришла мысль: «Вот, кто увидит…» Спрятаться скорее, чтоб не тронули, не вернули уходящую боль! С нежданной прытью кинула тело на стул, оттуда — к приступку, выше-выше, туда — за спасительную печную занавеску. Занавес качнулся, пропуская — и опустился. Саня привалилась бочком к печи и, втягивая тепло всем переломанным телом, провалилась в забытье.
Вздох прогудел над печкой, разбудил: «Эх, девка…». Колыхнулась шторка под рукой, глаза Гудеда блеснули влажно. Саня спросонья ошалело крутила головой — мир изменился. Из него исчезло вдруг всё зелёное и красное, и даже сама память об этих цветах казалась сном. И еще мир пах: навязчиво, подробно, отвлекая от мыслей. Сами же мысли были странными, едва облаченными в словесную одёжку — не мысли-фразы, а мысли-намерения, мысли-предостережения. Мелькнуло словечко «инстинкты», но Саня не была уверена, что знает его значение. Она заоглядывалась — почудилось вдруг, будто потеряла что. И увидела хвост — в серых чешуйках, с беззащитным розовым кончиком. «Мышь. — Вдруг отчетливо поняла она. — Я — мышь».
Огромная человечья ладонь потянулась погладить, попрощаться. Саня отскочила, шерсть на гривке подняла щёткой — не тронь! Откуда-то пришло знание: нельзя мышей-ведуниц трогать, сам перекинешься! Словно понял, отдёрнул руку. «Шумере моей… привет передай. Скажи, скучаю за ней», — прошептал.
Природа не терпит пустоты… Та, с медово-карими глазами, ушла, а дом ждал, морочил. Вот и дождался. Но вместо страха Саня с удивлением ощутила странное спокойствие: всё правильно, так надо. Теперь ей людей на смертный путь ставить. Молочный зубик забрать, коренным к жизни привязать. Так заведено из века в век, а кем — не нашего ума дело.
В сознание хлынули тысячи образов, лиц, линий жизни — переплелись причудливыми узорами человеческих судеб-тропинок. Многовековая память кареглазой мыши-ведуньи наложилась на новую личность, всё больше подчиняя Саню своей воле. Но остаток человеческого сознания метнулся к родному, ещё незабытому: Ладушка, как она? Через снег, леса, расстояния почувствовала тёплую ауру, мерцание спасённого зубика. Будет жить. Хорошо.
И, словно старый сон вспомнила, поплыла обратно, на печь: над еловыми ветками в сугробныхшапках, над спящей рекой-невидимкой, над деревушкой, ждущей лета в чьих-то уютных снеговых ладонях. Над крышами кудрявились печными дымками «Аделаида», «Шумера» — подружки-мышки, ждали, дождались! Эге, Шумера-то в доме деда Гудеда живёт — не совсем вдовец, соломенный! Правду он сказал — любила. С такой заботой вечный дед будет.
И словно не стало ни смерти, ни рождения, лишь жизнь бесконечная. Пройдёт немного времени, чьи-то руки отдернут шторку, и прошуршит над печкой детский, замирающий от близкой тайны голосок: «Дай зуб костяной!»
Все жить хотят. Ну, держи…
Шорохом-морохом. Фуух…
Между Александр Подольский
Рассказ занял первое место во всех номинациях конкурса «Солёные паруса» с январе 2016 года. В конкурсе плавал 51 автор с 58-ю рассказами.
Каменный столб рос прямо из глубины. Верхушка, точно перископ, едва показывалась над водой. Настя прижалась к холодной глыбе, ухватилась за штырь и прикрыла глаза. Шум волн, брызги в лицо, крики птиц… Нет, она не умерла. Пока еще нет.
— Откашляйся, подыши.
Женский голос откуда-то сверху. Спокойный, заботливый. Таким хорошо убаюкивать перед сном, и Насте сейчас больше всего на свете хотелось отдаться течению и уснуть. А уже потом, очнувшись у себя в каюте, рассказывать подругам о ночном кошмаре.
— Но из воды вылезай. Здесь неспокойно.
Голова кружилась, картинка перед глазами плясала, роняя небо на воду. Солнечные лучи отражались в волнах и ослепляли, расползались по морю и дорожкой уходили в чащу облаков у горизонта. Столба было три. Все они на полметра выступали из воды и скрывались в черной бесконечности внизу. На столбе слева стоял тучный мужчина в одних шортах, бритая макушка сияла на солнце, как ангельский нимб. Взгляд толстяка жадно перепахивал волны, будто оттуда вот-вот должна явиться спасательная подлодка. Женщину из-за двух заплетенных рыжих косичек, драных джинсов и домашней кофты веселенькой расцветки можно было принять за студентку, но ее выдавало лицо — измученное, тронутое морщинами. Она сидела на столбе справа, по голень опустив ноги в воду.
— Живая?
Настя оперлась на металлический штырь и взобралась на свободный столб. Присела, осмотрелась.
— Пока не знаю.
Море было повсюду, темно-синие волны лениво переваливались друг на друга и что-то шептали. Посреди треугольника из столбов высилась труба. В метре от верхушки на нее был насажен железный диск, точно здоровенная гайка. А от него на глубину уходила цепь.
— Ничего не понимаю, — удивилась Настя, — а где корабль и остальные? Берег же рядом был…
— С «Софии»? — спросила рыжая, умывая осыпанное веснушками лицо.
— Откуда же еще?
— Так, ну-ка все дружно завалили матюгальники, — перебил мужчина, — опять эта сука плывет. Вынимайте грабли из воды и не кудахтайте.
Настя недоуменно посмотрела на толстяка, но тут же вытянулась на столбе во весь рост. Потому что в воде мелькнул акулий плавник. Когда жуткая рыбина вплыла в треугольник, угольки ее глаз, открытая пасть, ряды огромных зубов оказались так близко, что до них можно было дотянуться. Брызги облизывали пальцы ног, а Настя пыталась не грохнуться со скользкой поверхности — ее ступни едва уместились на верхушке столба. Обогнув трубу, акула ушла вниз, оставив лишь круги на воде.
Прошел час. Настя смотрела в воду, с трудом узнавая себя в отражении — прическа развалилась и торчала темными прядями во все стороны, лицо стало бесцветным, что только подчеркивало природную худобу и острые скулы. Если бы не красивая униформа с вышитым названием корабля, ее легко можно было принять за привидение.
— Сколько в зеркальце не смотрись, морда лица ровней не станет, — засмеялся толстяк.
Настя боялась свесить ноги в воду, но силы оставили ее. Усевшись на столб, она подтянула к себе короткую цепь, которая прорастала из каменной глыбы и заканчивалась раскрытым наручником. Точно клешня неведомого существа. Такие же кандалы болтались на воде у других столбов.
— Что это за место? Кошмар какой-то.
— А что не так? — спросил толстяк и улыбнулся. — Не любишь садо-мазо?
Настя показала ему средний палец.
— В дырке им у себя покрути, костлявая.
— Да пошел ты, мудак, — не выдержала Настя. — Видимо, наручники для тебя и оставили.
Толстяк заржал.
— Они без замков, — сказала рыжая, смыкая наручник вокруг звеньев и тут же размыкая. — Самой можно освободиться. Попробуй, пристегнись. Как ни странно, успокаивает.
— Ну уж нет, спасибо.
— Все равно бутафория.
— Как-нибудь в другой раз. Меня сейчас должны растолкать и сказать, что корабль прибывает в Палермо. И не было никакой катастрофы и тем более вот этих вот столбов.
— Хорошо бы… Но я думаю, что с Италией можно попрощаться.
Под недобрым взглядом Насти рыжая отвернулась и уставилась туда, где солнце царапало линию воды. Ветер гнал облака в неизвестном направлении, вокруг становилось темнее. Море почернело, теперь подводная часть столбов едва просматривалась. Вокруг плескалась мелкая рыба.
— А знаете, что я вам скажу, дорогие мои бабы? — почесывая голый живот, проговорил толстяк. — Мы с вами в глубокой жопе, хотя это вы и без меня поняли. Самое смешное другое: я никогда не был ни в Италии, ни на вашей сраной «Софии». Я вообще невыездной.
Девушки переглянулись. Настя хмыкнула и покрутила пальцем у виска.
— Можете не верить, но мне незачем вам тут в уши ссать. Наш теплоход плыл по Волге с песнями и плясками, все чин чинарем. А потом вдруг стал переворачиваться. Без понятия, что за херня там произошла. Помню, как грохнулся башкой — и привет. А вынырнул уже тут. Вот вам и Италия, пропади она пропадом со всеми макаронами.
Цепь, болтавшаяся все это время у трубы, дернулась, натянулась, лязгнула металлом о диск. Поползла в сторону столба с Настей, затем обратно. Словно секундная стрелка часов, она описала круг у столбов и вернулась к трубе. Теперь цепь вновь висела посреди треугольника, как оставшийся после собаки поводок. Однако по ту сторону был кто-то живой. И теперь он проснулся.
* * *
Бородач гнал собак вперед. Они выбивались из сил, но бежали сквозь снежные брызги, через метель туда, где под светом красной луны виднелись четыре высокие тени. Сани скользили по замерзшему морю, а собачий лай разгонял призраков безжизненной пустыни.
Мальчик спал. Ледяной ветер кусал псов, лицо бородача, но пробраться под слои медвежьих шкур ему не удавалось.
Они миновали черные остовы кораблей в тисках льда — фантомы с той стороны. Их оказалось больше, чем в прошлый раз, а значит, все сильней становился перевозчик. Но даже он не смел нарушить законы этого места. И люди могли его остановить.
Нужно было торопиться. Красная луна зажглась еще вчера, открыв путь. Бородач до сих пор не мог поверить, что выбор пал на его мальчишку, совсем еще ребенка. Хотя мужчинами тут становились гораздо раньше, да и само время шло по-другому. Но каждый раз встречая красную луну, бородач раздевался и выходил к чистому снегу в надежде найти на теле знаки. И каждый раз не находя их, молился, чтобы они не тронули его семью. Когда знаки пришли к сыну, стало понятно: молитвы море больше не слушает.
* * *
Рыжая назвалась Юлей, а толстяк Миллером. На вопрос о немецких корнях он ответил предложением взглянуть на его могучий корень, и Настя послала шутника куда подальше. Она удивлялась, как этого урода терпит Юля, которую тот называл Пеппи. Хотя ситуация и без того была сложная, не хватало только друг с другом собачиться.
С наступлением ночи море успокоилось. Не слышались случайные всплески, затихли волны, исчезли и птицы, если днем они не почудились. Над забытой в мировом океане троицей зависла огромная луна, налитым кровью глазом наблюдая за тенями у столбов. Цепь больше не шевелилась, поверхность моря не рассекали плавники. И это всех устраивало.
— Интересно, нас уже начали искать? — спросила Юля, потирая плечи.
— Должны, — ответила Настя, прижимаясь к столбу ногами, чтобы не упасть. Сон так и манил в свои объятья, обещая возможность проснуться совсем в другом месте. В нормальном человеческом мире.
— Дуры вы сиреневые, — беззлобно буркнул Миллер, — все в сказки верите.
Он закряхтел и с трудом поднялся. Повозился с шортами, и в воду ударила струя.
— Фу, — поморщилась Настя, — ты всегда такой мерзкий?
— А ты, костлявая, мне предлагаешь отплыть в сторону, чтобы никого не смущать? — с улыбкой произнес Миллер, пряча хозяйство в шорты. — Я не самоубийца. Наше дело поросячье — обоссался и стой.
Настя покачала головой и решила не продолжать разговор. Миллер походил на типичного бандюка, а от таких можно ожидать чего угодно. Раз уж он оказался не обезображен воспитанием, лучше вообще никак не реагировать. Юля молчала, массируя виски. Она говорила мало, короткими фразами. Из нее так и сочилась усталость. Под светом этой странной луны рыжая копна выглядела сотканной из огня.
— Юль, а вы долго тут одни торчали?
— Нет. Я приплыла первой. Часа через два он. Ну и ты почти сразу.
— А сама ты откуда?
Юля обернулась, в темноте блеснули глаза.
— Говорила же. С «Софии».
— Нет, я про город, — пояснила Настя, поднимаясь и разминая кости. — Я вот из Питера. Сделала себе отличный подарок на день рождения — устроилась на работу мечты. Пускай обслуживающим персоналом, зато отличная зарплата, путешествия, море, романтика… Эх. Контракт на восемь месяцев, и в первом же плавании такое.
— Да уж. А я из Новосибирска. Из Академгородка. В кои-то веки решила отдохнуть по-человечески. Копила долго. Ну и вот.
— Да насрать на вашу географию, — как всегда элегантно влез Миллер. — Вы лучше подумайте, что мы тут есть будем. Помню, обожрался я как-то морепродуктов, а потом так дристал, что чуть сатана из жопы не вылез. Еле отцепился от меня этот лисий хвост.
Ночь тянулась слишком медленно. Укрывшись за тучами, в темноте растворилась луна. Со сном каждый боролся по-своему: Настя делала подобие зарядки, Юля с головой окуналась в холодную воду, а Миллер травил похабные анекдоты, пару раз даже пробудив смех у спутниц.
Они заметили черную махину чуть поодаль от столбов, когда луна вновь раскрашивала море красноватым сиянием. Поверхность пересекало длинное тело, рассыпая брызги вокруг.
— Красавец! — воскликнул Миллер.
Кит выстрелил в черное небо фонтаном воды и ввинтился в море. Настя с улыбкой провожала глазами уходящего в ночь гиганта, который периодически выглядывал из пучин и разгонял тишину причудливыми звуками. Его песня казалась грустной, словно он тоже потерялся посреди этого бесконечного массива воды и пытался позвать близких. Но ответа не было, и вскоре до Насти доносился только шелест волн.
* * *
Столбы были метров под сто высотой, но сейчас бородача больше интересовала труба. Вокруг нее он разложил дрова, мох, кости животных, сверху насыпал щепок и облил все тюленьим жиром. Мальчик проснулся и встал с саней, когда бородач высекал искру. Он был совершенно голый, снежные колючки царапали кожу, на которой дышали раны. Знаки. Ему оставалось недолго, и он это знал. Червоточины покрывали все тело, меняя облик ребенка.
Залаяли собаки. Бородач повернулся и увидел свет. Вдалеке, у черной кромки льда, двигались огни факелов. Перевозчик. За его упряжкой змеились цепи. Он направлялся к открытой воде, к треугольникам, чтобы вновь попытаться вывести свою лодку в реальный мир. К людским водоемам.
Огонь принялся за подношения. Бородач присел у костра, рядом пристроился мальчик. Лепестки огня хватали снежинки и растапливали их в черном мареве. Дым под красной луной приобретал кровавый оттенок. Отец и сын ждали.
* * *
— Эй, Пеппи, ты у нас глазастая? Ну-ка, глянь туда. Не мерещится ли мне?
— У меня имя есть, вообще-то.
— Ты лучше не языком чеши, а гляди, куда показывают, — не унимался Миллер. — Это ж корабль! Точно, а?!
При слове «корабль» вскочила и Настя. В темноте действительно что-то двигалось. Издалека неразборчивой кляксой к ним приближалось черное судно.
— И вправду корабль… — отозвалась Юля. — Только… почему без огней?
— Электричество кончилось? Лампочки перегорели? Спички детям не игрушки? — сочинял на ходу Миллер.
— Не знаю. Не нравится мне это.
Настя с Миллером принялись кричать, прыгать на столбах, звать на помощь. Они срывали голоса, но на корабле никак не реагировали. Теперь его можно было рассмотреть получше и убедиться, что он на самом деле мертвый. Ни единого огонька на борту, ни души на палубе, ни шума двигателей. А еще цепи… Ржавая громада была опутана цепями.
— Вот же паскудство… Значит, надо самим плыть. Если прохлопаем момент, то никогда эту посудину не догоним. Тут всего-то полсотни метров пилить!
Настя перевела взгляд на Миллера, затем на корабль. Тот шел по прямой и скоро должен был поравняться с треугольником. Но что там на борту?..
— Лучше остаться тут, — сказала Юля. — Эта махина нас раздавит.
— А здесь нас со всем говном сожрут акулы. Я точно валю, а вы как хотите. По цепям наверняка можно вскарабкаться. Или тебе, Пеппи, в кайф на этой каменной елде куковать?
— Я просто…
— Ты просто Пеппи, я понял. С тобой каши не сваришь.
— Я поплыву, — неожиданно сказала Настя. Ее трясло, ноги подкашивались.
— Вот! Это по-нашему!
Настя посмотрела на трубу. Цепь не шевелилась. За черной водой не было видно ровным счетом ничего.
— Ну что, тощая, — ощерился Миллер. Казалось, этот отвратительный тип никогда не унывал, — как говорится, кого сожрет акула, тот в море больше купаться не будет? Готова?
— Нет.
— Вот и отлично. Бомбочкой!
Миллер плюхнулся в воду с залихватским криком, с брызгами. Следом прыгнула Настя. Когда она вынырнула на поверхность и стала нагонять Миллера, до нее долетел лязг цепи.
— Стойте! — крикнула Юля будто бы с другой планеты.
Настя очень хорошо плавала, поэтому поравнялась с толстяком Миллером довольно быстро. А еще ее подгоняла цепь, металлическим хвостом тянувшаяся прямо за ними. Вода вокруг забурлила и вспенилась. Едва почувствовав прикосновение снизу, Настя набрала воздуха в легкие. Тварь дернула с такой силой, что чуть не оторвала ногу. Захлебываясь, судорожно перебирая конечностями, Настя открыла глаза. В черном вакууме двигалось чешуйчатое существо. В облаке пузырей кувыркался Миллер, воду рассекала цепь. А из глубины поднимались лица. Тысячи лиц.
Настя вынырнула на поверхность, вдохнула и зашлась в кашле. Тварь утащила ее обратно к столбам. Рядом матерился Миллер. Красная лунная дорожка перечеркивала треугольник. Настя вскарабкалась на столб и взглянула вслед кораблю. Тот быстро удалялся от них, а потом вдруг накренился и бесшумно ушел на глубину. Сгинул в одно мгновение, будто всем он лишь приснился. По морю прошла рябь, задрожали столбы. Над водой пронеслось протяжное урчание.
— Что это за море, которое пердит, как сраное болото?! Что это за место вообще?!
Юля заплакала, Настя подняла голову к луне. Никто Миллеру так и не ответил.
Рассвет прогнал страхи, но теперь здесь веяло безнадежностью. Все понимали, что им не выбраться. Цепь как ни в чем не бывало обвилась вокруг трубы, подводная тварь затихла на глубине. Солнце обещало издевательски хороший денек.
У Миллера наконец остановилось кровотечение — во время ночной суматохи он распорол бровь о столб. Не без помощи их нового друга.
— Да не хотел нас угробить этот ихтиандр, зуб даю. Он даже кильку какую-то от меня отогнал, могла ведь и сожрать. Хотел бы убить — утопил давно. Похоже, ему надо, чтоб мы тут заседали.
Он сплюнул в воду и потер рану.
— И ведь не для прикола он меня рылом в столб ткнул. Там на небольшой глубине какие-то надписи были или рисунки. Прямо на столбе вырезанные, типа как на пирамидах этих. Не видно ни манды, зато рожа почувствовала будь здоров.
Миллер нырять отказался, Юля вообще никакого интереса к новости не проявила, так что Насте пришлось все делать самой. Нужно было разобраться. Хотя призрачные лица в воде до сих пор стояли перед глазами и пугали ее не на шутку. Не говоря уже об акулах.
Настя погрузилась под воду и стала изучать изображения, высеченные на гранях столба.
Два овала моря наплывали друг на друга, образуя восьмерку. Фигуру перечеркивали четыре вертикальные линии — очевидно, столбы с трубой. Сросшееся море казалось живым существом — в центре рисунка, точно исполинское око, находился клубок цепей-щупалец, которые расползались по воде и обволакивали столбы. Роль зрачка в этом чудовищном глазу выполняло изображение лодки.
Настя выныривала, делала вдох и возвращалась к рисункам, с которых приходилось соскабливать водоросли. И с каждым погружением общая картина становилась чуть яснее.
По обе стороны столбов были люди, причем те, что снизу, изображались кверху ногами. Это напоминало детские рисунки Земли, где жители другого полушария всегда оказывались вверх тормашками. Перевернутые человечки жгли костры, молились и как будто привязывали кого-то к трубе.
На следующей серии рисунков лодка, связанная с системой цепей, плыла сквозь многочисленные треугольники на воде. Ползла через свои владения, будто паучиха, проверяющая паутину. Люди со столбов прыгали в лодку, и когда на треугольнике никого не оставалось, тот уходил на глубину. А цепи рассыпались. В конце концов все треугольники исчезали, лодка полностью освобождалась от цепей и переплывала в новое море. Оно также было изображено в форме овала, только вместо столбов внутри угадывались очертания земных континентов. И вся вода была наполнена человеческими лицами.
* * *
Прорубь открылась, и в черной воде мелькнуло лицо бородача. Он схватился за рычаг на трубе и с силой его опустил. Заскрипели древние механизмы, труба завибрировала. Мальчик подошел ближе и посмотрел в темный провал. Мелкие льдинки расступились, и из воды выскочил металлический диск. Он звякнул у перемычки наверху и застыл. В прорубь от него уходила массивная цепь. Бородач надел варежки, перехватил звенья и потянул. Подключился и сын. Вдвоем они тащили страшный улов, скользили по льду, упирались и снова тянули, пока не достали из черной воронки тело. Души от него мало что оставили, но кости сохранились, кое-где просматривалась и чешуя.
Бородач вынул из кармана ключ и снял с трупа ошейник. Оттащил тело в сторону и накрыл шкурами. Теперь предстояло самое трудное.
Мальчик подошел сам, уже готовый исполнить предназначение. Бородач очистил ошейник в снегу и сомкнул оковы на шее сына. Регуляторами подогнал их под меньший размер, зафиксировал ключом и проверил цепь. Все держалось как надо. Конструкция была такая, что самостоятельно освободиться невозможно.
— Я… — промямлил бородач. — Я не знаю, что сказать.
Мальчик кивнул. Червоточины на его теле расширялись, сквозь кожу лезла чешуя, зрачки меняли цвет и форму. Бородач обнял сына и подошел к рычагу.
— Прости. Это из-за моих грехов. Надеюсь, следующим буду я.
Он вернул рычаг в вертикальное положение, и диск с большой скоростью помчался вниз по трубе, увлекая на глубину и цепь. Когда произошел рывок, мальчик уже наполовину погрузился в прорубь.
* * *
Настя раскрыла наручник. Потянула к запястью и стала потихоньку сводить металлическую клешню. Притормозив, оглядела остальных. Юля будто в трансе наблюдала за процессом, по ее щекам текли слезы. Миллер покачал головой.
— Не дури, тощая.
Настя опустила взгляд на руку — кисть все еще свободно вынималась.
— Давай уже! — закричала Юля. — Тупая ты сука, давай!
Настя бросила цепь, и та повисла у столба, как оторванный телефонный провод.
— Нет! — Юля едва не перешла на визг. — Я не останусь! Хватит! Я больше… только не я… не я…
Солнце забралось на самую верхушку неба, просвечивая облака насквозь. В белоснежных зарослях появились вороны, наполняя тишину гулким карканьем. Ветер обдувал узников столбов и играл цепями.
Когда Юля успокоилась, Миллер заговорил:
— Давай, Пеппи, рассказывай. Что за срань тут творится?
— Он придет сегодня ночью. Лодочник. Захочет забрать всех троих. Потому что все мы должны были умереть. Может, и умерли, не знаю. Но раз попали на треугольник, значит, есть шанс. Значит, море решило, что нам еще рано. Вы видели их? В глубине? Вот они точно умерли. А мы…
— Пеппи, тебе голову напекло?
— Я пыталась утопиться. Дома. Просто легла в ванну в этой самой одежде и стала захлебываться, пока не навалилась темнота. Никаких кораблей, как вы понимаете. Но это море дало шанс все осознать. Понять свою ошибку. И сделать что-то важное, ведь не просто так мы здесь.
— А я-то думал, это меня об столб шарахнули.
Юля грустно усмехнулась.
— Наверное, это место — что-то вроде чистилища для утопленников, не знаю. Но чем бы оно ни было, его надо обязательно сохранить.
— Так ты не с «Софии»? — спросила Настя.
Юля покачала головой.
— Нет, прости. Название корабля на форме прочитала, ну и…
Миллер оживился.
— А нашей тощей пристегнуться советовала, красава. Не проканало, правда. Бывает.
Юля закатала штанину на ноге и показала глубокий след от оков на коже.
— Да потому что я тут уже полгода! И свою вину искупила! Понятно вам?!
Она оглядела остальных и зажмурилась. По щекам поползли ручейки.
— Ты сама видела лодочника?
Юля кивнула.
— Куда он нас отвезет?
— Не знаю. Хочется верить, вернет назад.
— Что за тварь сидит внизу?
— Да не знаю я. Знаю только, что нельзя эту лодку выпускать к нам.
Миллер засмеялся.
— Значит, вариант первый. Один из нас тут остается, а двое других с капитаном Немо плывут туда, не знаю куда. Вариант второй. Мы всей толпой плывем хрен знает куда, но тогда может случиться лютый апокалипсис. Обосраться! Вот это я понимаю — гульнуть в выходные!
Юля рассказала все: и о предыдущей троице, и о жребии из пуговиц, и о том, как у нее через пару дней пропали жажда с голодом, и о диске на трубе, который ушел под воду ровно в тот момент, когда расстегнулись кандалы.
Пришла ночь, а с ней и красная луна. У Насти уже голова раскалывалась от рассуждений и догадок. Казалось, все это происходит не с ней.
— Ах у ели, ах у елки, ах у ели злые волки, — пел Миллер, скручивая из водорослей шарик. Сейчас он по-настоящему нервничал. — Если разобраться, я бы и сам за пару месяцев на поганом столбе придумал и загробный мир, и демонического морского таксиста, да хоть отряд тюленей-разбойников. Лично меня эти каракули ни в чем не убеждают. Да даже если и нужно оставлять, мать его, дежурного, почему обязательно мы? Тощая же сказала, что на картинках херова гора треугольников была!
Из воды выпорхнула ворона и села на трубу. Ковырнув клювом железо, с любопытством стала разглядывать людей на столбах. Она поворачивалась против часовой стрелки и, когда дошла до Миллера, залилась мерзким карканьем.
— Да пошла ты, без тебя тошно.
Миллер швырнул в нее шарик, и ворона поднялась в воздух.
— Теперь хоть ясно, откуда вы повылезли посреди моря.
Настя закрыла глаза, пытаясь собрать мысли в кучу, тяжело вздохнула и начала говорить:
— Мы же спаслись, правильно? Должны были утонуть, но очутились здесь. А сколько людей было до нас? Сколько еще будет? Если мы утопим треугольник, а он окажется последним…
— Слышь, тощая, да мы вообще хер знает где! Застряли, как сопля между этажами. С чего ты вообще взяла, что чертов лодочник не свезет всех дружно в ад?
— Тебя, может, и свезет.
— Эта штука внизу, — сказала Юля, указывая под воду. — Она не пыталась запихнуть нас в наручники. Хотя, наверное, могла. Так что выбор только за нами. Может, это такая проверка. Спасение нужно заслужить, спасая других. Оставить грехи здесь, очиститься.
— Аллилуйя! — Миллер взмахнул руками. — Пеппи уже как сектант шпарит! Если вам так хочется, очищайтесь тут на здоровье, спасайте каких-то там выдуманных людей. Я лично намерен отсюда сдристнуть. Любой адский Усть-Пиздюйск меня устроит больше, чем отсидка на кончике какого-то сраного трезубца.
На трубу присели сразу две вороны. Настя подняла голову и в изумлении открыла рот — над ними кружила черная пернатая туча.
— Он уже плывет… — прошептала Юля. — Ребята, решайте. Второй раз я не выдержу…
Миллер истерически заржал, бубня неразборчивые ругательства.
— Я согласна на жребий, — робко сказала Настя. — Но ты ведь мужчина, мог бы…
— Ишь как запела! — перебил Миллер. — Да вы же, бабы чугунные, все время за равноправие боретесь, так? Ну так какие проблемы? Давайте, в бой!
Настя не могла решиться на такое, просто не могла. Полгода одиночества тут… А если год? Или вечность?
Юля, съежившись на столбе, бесшумно плакала. Миллер бултыхался в воде, стучась головой о цепь. У него опять пошла кровь из раны, но теперь акулы его ничуть не беспокоили.
— Ладно, — сказал он мрачно, — уболтали, суки драные. Я останусь.
Девушки встрепенулись. Юля вытерла слезы и заговорила:
— Спасибо, это очень сме…
— Тихо-тихо, — перебил Миллер. — Есть одно условие. Вернее, даже два. — Он оскалился. — Вы обе прямо сейчас раздеваетесь, и я оттрахаю каждую так, чтобы глаза на лоб полезли. И не надо удивляться. Мне еще полгода без бабы здесь яйца высиживать. Так что до прихода лодочника ваши тушки в моем распоряжении. Ну, или цепляйтесь сами, наручники есть у всех.
Настя посмотрела на Юлю, которая, казалось, выплакала все веснушки. Та тихонько проговорила:
— Какая же ты все-таки мразь.
— Лады, наше дело предложить.
Миллер крякнул и забрался на столб.
— А как же «тощая» и «костлявая»? — ехидно спросила Настя.
— Сухие дрова жарче горят, — пробурчал Миллер и заржал.
Через час с неба на волны опустилось облако сажи. В сторону столбов плыло пятно тумана, за которым тянулись черные птицы. Море довольно урчало.
Раздался громкий щелчок, и девушки повернулись к Миллеру. Его ногу обвивала цепь.
— Да пошутил я, пошутил. Такая уж натура, не держите зла. Тем более что вы и впрямь слишком тощие. Все равно что смерть с косой оприходовать.
Он грустно улыбнулся.
Перевозчик был рядом, из тумана торчал нос лодки. Треугольник затягивало белой дымкой.
Юля спустилась в воду и подплыла к Миллеру.
— Спасибо тебе. Правда. На самом деле это не так страшно, как кажется.
— Ага, конечно.
Лодка заплыла в центр треугольника и уперлась в трубу. У весла стояла почти трехметровая фигура в пепельном балахоне, чуть дальше виднелись другие люди. Юля быстро чмокнула Миллера в щеку, подгребла к лодке и перевалилась через деревянный борт.
Настя до сих пор не могла поверить в такую развязку. Оказавшись в воде, она оттолкнулась от своего столба и добралась до Миллера. Фигура перевозчика нависла над ними огромной тенью.
— Ну ты даешь, — произнесла Настя, качая головой. — Скажи мне только одно: ты же нормальный мужик, зачем выставлять себя таким ублюдком?
Весло упало на воду, и по днищу лодки застучали тяжелые шаги.
— Наверное, потому что я такой и есть.
Миллер схватил Настю за руку и сомкнул кандалы на ее запястье. Да, цепь была обмотана вокруг ноги, но сама клешня первый раз щелкнула вхолостую. Миллер обманул.
— Зря ты прощаться удумала, свалили бы втроем. Но раз сама приплыла, то на всякий случай спасем мир. — Миллер улыбнулся и подмигнул ей. — Не скучай, тощая.
Перевозчик швырнул Миллера в лодку и схватился за цепь. Дернул с силой, еще и еще. Поднимал вверх, пока висящая на цепи Настя не закричала от боли, и только потом отпустил. Когда девушка забралась на столб, лодка уже уходила. Капюшон перевозчика скрывал лицо, но волны ненависти чувствовались даже с такого расстояния. Туман уплывал вслед за хозяином, забирая с собой и воронье. А Настя, едва дыша и уже не сдерживая слез, смотрела вслед исчезающей лодке. Пытаясь в последний раз разглядеть человеческие лица.
* * *
Прорубь затянулась буквально на глазах, и бородач погрузил труп на сани, чтобы потом его по-человечески похоронить. Растормошив собак, он развернулся в сторону селений и погнал упряжку к дому. Обратная дорога была быстрее, ведь собаки не любили море и неслись от него изо всех сил. Работа здесь была закончена. По крайней мере, до следующей красной луны.
Встречный ветер щипал лицо, тревожа старый шрам над бровью. Замерзшее море оставалось позади вместе с воспоминаниями. Бородач закутался в меха и прикрикнул на собак. Дома его ждала жена и тройня рыжих, как само солнце, ребятишек.
Заблудшие Сергей Королев
Рассказ занял все высшие места на конкурсе «Башни, хвосты» в апреле 2016 года. В конкурсе участвовал 21 автор с 29-ю рассказами.
1.
Денисов умер на закате. Прямо на поляне возле брошенной избушки, не дотянув нескольких часов до перевала.
Последние часы своей жизни он только и делал, что бредил. Звал черного аиста, молил о встрече с заблудшими и проклинал всех, кто был рядом.
Стоило осеннему солнцу коснуться верхушек мохнатых сосен, Денисов издал последний хрип и замолк. Бойцы Степаненко стояли рядом, словно караулили, чтобы никто не забрал его бренную душу.
— Навоевался, — вздохнул врач Дорохов, пощупав пульс.
Умершего накрыли дорожным мешком, затушили костер, собрали пожитки. Солнце медленно пряталось за сосновым лесом, редкие лучи с трудом пробивались сквозь скрюченные ветки.
— Нельзя его оставлять здесь, — посетовал Хартов, который вырос с Денисовым в одной деревне и знал покойника лучше других.
— Времени хоронить нет, — отрезал Степаненко. — Каждая минута на счету.
— А с собой?
— Задержит. К полуночи надо быть на перевале.
Хартов судорожно соображал. Нельзя, нельзя было оставлять тело, без защиты и должного уважения. Похоронить, но не здесь, а дома, рядом с матерью и сестрой.
— Утром по этой дороге пройдет отряд Смольного, — задумчиво произнес Дорохов, глядя на тлеющие угли. В глазах его плясали красные искры, от чего он, не выспавшийся и немытый, сам был похож на мертвеца.
— Я останусь до утра! — вызвался Хартов. — Посторожу!
— Замерзнешь, — Степаненко был неумолим, — да и опасно одному, звери…
— Не было здесь зверей, — перебил командира Дорохов. — Никогда. И белых тоже нет. Здесь никого, только, вон, на опушке домик брошенный.
Хартов увидел, как задергался левый глаз у Степаненко, а в уголках рта начала скапливаться белая слюна. Сейчас вспылит.
— Я останусь с Хартовым, — поспешил успокоить командира Дорохов. — Переночуем, вдвоем справимся, не замерзнем. Меня на перевале один черт к Смольному припишут. Ну, раньше к нему поступлю, вам меньше мороки. Утром вместе с его бойцами тело до перевала донесем, а потом Хартов вас догонит.
Степаненко закрыл глаза, покачался туда-сюда. Остальные ждали, затаив дыхание.
— Тьфу на вас, сидите тут, жопы морозьте. С перевала уходим утром, если к обеду нас не нагонишь, Хартов, до конца войны будешь у меня сапоги чистить.
Хартов поморщился, но кивнул. Ему не привыкать. А вот Дорохов хотел что-то возразить, но поймал умоляющий взгляд товарища и замолчал.
Через пять минут отряд Степаненко ушел на юг. Деревья сомкнулись, отгородив оставшихся у костра бойцов хвойной стеной. Солнце почти скрылось, из последних сил цепляясь за острые верхушки сосен.
Хартов пошарил по карманам покойного, достал старый, чуть не до дыр затертый снимок, спрятал в свой сапог.
— А скажи-ка мне, Хартов, — Дорохов сидел, прислонившись спиной к черному стволу дерева, — ты из дружбы верной так печешься о мертвеце или женушке его угодить хочешь?
— Совсем сдурел? — сказал вслух Хартов, а про себя ужаснулся: и как старый лис обо всем унюхал?
— Он же только о жене своей и трепал все дни напролет, — продолжил Дорохов. — И до ранения, и после. И когда с шашкой бежал к бандитам рубиться, тоже ее имя вспоминал. Красивая, чего уж говорить. Я бы с такой загулял…
— Ты, хоть и врач, но не заговаривайся, — сквозь зубы процедил Хартов. — Не посмотрю на твою важность, порублю на куски.
— Это вряд ли, — врач поднялся на ноги, отошел за дерево. — Силенок маловато.
Хартов промолчал, нельзя с Дороховым в контры вступать. Он волк матерый, во многих переделках побывал. Пристрелит — даже бровью не поведет. Лучше стерпеть. Ради покойного. Ради жены его, чего уж там…
— Ты мне вот что скажи, — Дорохов вернулся назад, на ходу заправляя рубаху в штаны. — Ты же в этих местах вырос, правильно?
— Ну, значится, так.
— И что же это за аист такой, черный, которого весь отряд боится, аки дети малые?
— Суеверия это все, — Хартов разжигал угли, изредка поглядывал на покойника. — Ходят-бродят по лесам духи мятежные, заблудшими кличут. В наказание за грехи тяжкие, много лет назад, боги их своего тела лишили. Вот они и ищут себе новые тела, в которые можно вселиться. Иногда в аиста обращаются, иногда в медведя черного, даже в дерево сухое, чтобы охотников и грибников подманить.
— И что же, — Дорохов сел у огня, положил на колени винтовку, — в кого-то они вселялись?
— А как же! И в людей, и в зверей, да только не подходит им ни одно тело. Как попадет в него заблудший, так тело гнить начинает и разлагаться. Одна-две луны и все, непригодным стает. И приходится снова тело искать. И среди стариков есть примета…
Где-то вдалеке хрустнула ветка, послышался хлопок.
— Примета, значит, есть, — Хартов взялся за шашку, так, для успокоения, — кто черного аиста увидит, тот не жилец больше, день-два и заберет его заблудший.
— А с телами что стается потом? Кто-то их находил?
— Тела они прячут. Или сжигают. Денисов, вот, считал, что они тела попросту съедают.
Дорохов причмокнул и, показав на мертвого, спросил:
— А в покойников ваш заблудший тоже может вселяться?
Хартов ответил, что нет, не слышал он про такое, но черт его знает.
От леса потянуло холодом и сыростью. Ветки шумели и шевелились на ветру, из ночной темноты выползал туман, который обволакивал землю едва прозрачным покрывалом. Изредка в недрах леса кто-то шумел и, казалось, вздыхал. Но Хартов решил, что это у него от усталости.
Странно, но все эти звуки чудесным образом убаюкивали, а горящие поленья приносили чувство спокойствия, защищенности.
— Я вот что думаю, — сказал вдруг Дорохов. — Мы тут за ночь замерзнем, как суслики. А мне, да и тебе, воспаление легких ни к чему. Что там за домик на опушке?
Хартов всмотрелся в темноту. На мгновение почудилось, что между деревьев он разглядел стеклянные глазницы, в которых горел желтый огонек.
— Лесника, кажется, избушка или сторожка чья-то.
— Но пустая же?
— Пустая, да.
— Давай переночуем там. И друга твоего перенесем.
Хартов замешкался.
— А Смольный? Как бы утром их не пропустить…
— Записку оставим, — Дорохов достал из-под шинели мятую бумагу. — У костра. И мешок. Прочитают, поймут. Да и, ручаюсь, к утру мы уже сами будем на ногах.
Хартов согласился. Посмотрел на покойного Денисова. Тот, будучи живым, наверняка бы согласился. А уж мертвый и точно не был против.
2.
Вблизи дом был намного больше, чем казалось с поляны. И построен как-то странно, будто змея деревянная разлеглась полукругом и, высунув ступенчатый язык, ждет, пока добыча подберется ближе.
Странно, но окна целые, да еще наличники узорчатые, уж не усадьба ли барская?
Дорохов поднялся на крыльцо, ступени отозвались недовольным скрипом, показалось даже, что выругались вслед незваному гостю. Врач толкнул входную дверь. Та открылась, изнутри пахнуло чем-то острым.
— Заносим, — скомандовал Дорохов, и Хартов подчинился.
Не по себе ему было около этого дома, во дворе из земли торчали обломки крестов, похожие на железные кости мертвых зверей. А сам дом словно дышал, тяжело и прерывисто, и от стен исходила неведомая сила…
Внутри никакой мебели. Широкий коридор, с одной стороны к которому примыкала кухня, с другой — комната. По помещениям гуляли сквозняки и запахи пряных трав.
— У дверей ляжем? — тихо спросил Хартов, врач кивнул. Видимо, ему тоже было не по себе.
— Покойника в угол, сами напротив. Я сейчас осмотрюсь, а ты устраивайся.
Сказал и исчез во внутренностях пустого дома. Тут же навалилась тишина, звенящая и хрупкая, и чудилось, что где-то внизу, никак в самой преисподней, кто-то посвистывал.
Хартов заглянул в комнату, но в свете осенней ночи увидел лишь вязанку дров у окна да старый стул. А будто и не стул то был, а сгорбленная фигура, из которой торчала…
Он приблизился и понял, что перед ним чучело, набитое соломой, одетое в цветной кафтан и шаровары, на голове папаха. Вместо головы набитый чем-то мешок, на котором нарисовано лицо, полное страдания. Черные глаза, треугольный рот и зачем-то приклеенная жидкая бороденка.
— Сторожит тут кого, а? — спросил вернувшийся Дорохов, и Хартов вздрогнул.
— Не знаю, может, не спрашивал. Есть чего бояться?
Дорохов сел, положив винтовку на колени.
— Ни души. Во всех комнатах только и мебели, что стульев пара и шкаф платяной. И на кухне еще стол.
— Не нравится мне здесь, — признался Хартов. — Будто есть тут кто, кого мы увидеть не можем. А он нас видит, и все время рядом стоит.
— Чего же ты предлагаешь?
— Дежурить предлагаю, по очереди. Я первый. Ближе к утру тебя разбужу.
— Вот деревня, везде вам бесы чудятся, сам хоть не уснешь?
— Не усну, — заверил Хартов. — Летом на полях по двое суток работали, не спали.
— Тут тебе не поле, — вздохнул Дорохов, устраиваясь на пол. Положил мешок себе под голову и предупредил напоследок:
— Если вдруг чего, сразу буди.
Не прошло и минуты, как он захрапел. А Хартов сидел, поглаживая холодную сталь своей шашки и слушал. Внутри дома то и дело что-то падало, перекатывалось и стучало по стенам. Нет-нет, да и свистнет кто или вздохнет обреченно. Хартов был уверен, что в доме есть подвал, потому что от половиц шел сквозняк. И внизу тоже кто-то был. Может, звери, а, может, и нет. Звери не умеют шептаться.
На миг показалось, что мешок, под которым лежал покойный, шевельнулся. Хартов отогнал от себя наваждение, зажмурился, с силой стиснул зубы. А когда открыл глаза, все будто пропало — и звуки, и шорохи. Даже мир вокруг. Остался только дом. Пустые комнаты, спящий Дорохов да мертвый Денисов.
И чучело.
Оно тоже было здесь. Потому что в навалившейся тишине Хартов отчетливо слышал, как скрипнул стул, на котором сидела соломенная кукла.
3.
Он уснул. А кто-то прошел совсем рядом и открыл входную дверь. Снаружи разливалась темнота, похожая на густое черничное варенье, и там, между исполинских сосен промелькнуло что-то черное и большое. Аист. Черный аист.
Дорохов спал и что-то бормотал. Мешок лежал у него под головой, а винтовки не было. Хартов похолодел и пощупал вокруг себя. Шашка, которую ему подарил дед, пропала.
В соседней комнате скрипнул стул, и Хартов встрепенулся, вскочил на ноги, в нерешительности замер. Будить Дорохова? Или самому пойти в пустые комнаты, где все стены и предметы, словно живые, наблюдают и выжидают, пока глупый человек потеряет бдительность.
Эх, была не была! Покойный товарищ лежал тут же под пыльным мешком, огромный и тяжелый, как вековой камень. И в этот момент Хартов твердо уверился, что мертвые не ходят. А с живыми он легко может справиться.
Успокоил себя и шагнул в соседнюю комнату. И почувствовал, как ледяные лапы сжимают внутренности и связывают их в мертвый узел.
Стул пустовал. А от него по пыльному полу, выписывая зигзаги, вели следы — в коридор, на кухню, снова в коридор и на улицу, в лес.
Хартов пошатнулся, кровь прилила к вискам и выстукивала барабанной дробью. Будить, Дорохова будить! Плевать на страх, на издевки, тут что-то нечисто!
Он подскочил к врачу и начал трясти того за плечо. Дорохов выругался и спросонья ударил Хартова в солнечное сплетение. В глазах заплясали искры, мир накренился и всей своей силой ударил в грудь.
Хартов упал прямо на мертвое тело Денисова, и оно, подобно тряпичной кукле, продавилось под весом сбитого с ног товарища.
— Хартов! Ирод! С ума сошел?
— В-ви… в-винтовка, пропала! — Хартов хватал воздух ртом и никак не мог прийти в себя. — И ш-шашка!
— Ты уснул что ли? — в глазах Дорохова мелькнула ярость. — Ты знаешь, от кого мне эта винтовка досталась? Я тебя сам закопаю!
— Я… я…
Да как ему объяснить, что не его это вина, что в доме кто-то есть? Хозяин, может, вернулся или звери бродят…
— Я найду… найдем! Сейчас, только голова… пройдет.
Дорохов не ответил, он смотрел куда-то мимо него. Туда, где должна была лежать голова покойника. Хартов с трудом приподнялся и повернулся, чтобы увидеть, что отвлекло Дорохова?
Мешок лежал на полу, обнажив то, что до этого прикрывал. Соломенное чучело, еще недавно сидевшее на стуле.
— А где покойник? — прохрипел Дорохов.
И в этот же миг захлопнулась дверь, а на кухне с громким стуком открылась крышка подвала.
4.
Сначала появились руки, длинные и костлявые. Потом косматая голова, похожая на клубок грязных ниток. Ухватившись за края, существо подтянулось и выбралось из подвала.
— Ну здрасьти, гостя дорогия! — просвистело-пропело существо. Из коридора Хартов увидел, что ног у него нет, зато рук больше, чем положено. Четыре, шесть, восемь! И все торчали вдоль тела! Не человек, а громадный таракан, с лапами, похожими на пожеванные канаты.
— Стало быти, знакомиться давайтя, — в черном балахоне существо почти сливалось с голыми стенами.
— Ну чаво сидитя на задворках, проходитя, не боитися!
Дорохов вскочил на ноги и рванул к дверям, ухватился за ручку и потянул. Дверь как будто усмехнулась, но не поддалась. Тогда Дорохов юркнул в комнату, но тут же вылетел обратно, упал к ногам Хартова.
Из темноты вышел Денисов. Глаза его были черными, и в уголках рта виднелась густая бесцветная слизь. Руки в земле и в какой-то жиже, напоминающей гороховую кашу.
— Флюшка! Чиготь встал, как дерево! Ведя гостей!
Крепкая рука ухватила Хартова за воротник и будто беззащитного котенка швырнула к ногам черного таракана. Жалобно взвыли половицы, и рядом приземлился Дорохов. Лицо в крови, нос свернут на бок.
— Чиготь пожаловаля, гостя дорогиие? — пропело существо.
Мертвый Денисов помог забраться ему на стол, и оттуда черный таракан казался скалой, нависающей над всем миром. Хартов увидел, что и голов у него несколько. Три, четыре, пять! Торчали из шеи, из плеч, одна из живота. И все какие-то маленькие, будто почки весенние на ветке березы.
— Ну? Чиготь молчатя?
— Мимо проходили, — с трудом выговорил Дорохов, — погреться зашли. Ничего не трогали, не хулиганили. Отпусти, батюшка, а иначе…
— Чиготь иначя? — существо закачалось, того и гляди сорвется черным камнем и придавит насмерть.
— Иначе утром другие бойцы придут и вам несдобровать.
Существо засмеялось, заклокотало каким-то свистящим смехом, будто старый насос тщетно пытался качать воду из высохшего колодца. А следом засмеялся весь дом. И стены, и мебель, и пол. И в открытом подвале что-то клокотало, булькало, свистело. На поверхности то и дело появлялись грязные капли, словно там внизу бурлила помойная яма.
— А нама до утрать то и не надя, мы пуще ветра управимся, и чихнутя не успеешь. Правду грю, Хартов?
Он вздрогнул. Посмотрел в замешательстве на страшного хозяина.
— Чиготь пялишь глазища? Гри соратнику своему, засим к заблудшим прибилыся?
Сильные руки подняли Хартова над полом. На миг он увидел в подвале лица, похожие на потекшие глиняные маски. А через миг те же сильные руки усадили его на стул и крепко связали.
— Нутя, — буркнула тварь, став как будто больше. Хартову показалось, что она раздувается, как огромный шар.
— Заблудшие, — начал Хартов, стараясь не смотреть на Дорохова, — в самом деле существуют. Только никакие это не аисты и не медведи и не черты. А колдуны, древний род…
Существо издало недовольный свист.
— Божества, меж прочим! Задолготь до первых людей здесь уживались!
Хартов закашлялся, потом продолжил:
— И могли они, по слухам, души в другие тела перемещать. И свои, и чужие души могли, да. Даже в предметы перемещали. И в мебель, и в деревья, и в камни…
— И в мертвых! — хохотнул таракан. Покойный Денисов отозвался довольным свистом.
— И жили они так сотнями лет, души свои то в одно, то в другое…
— Как проститутки, — усмехнулся Дорохов.
Мертвец ударил его кулаком по затылку. Дорохов как-то странно обмяк, а покойный Денисов усадил его на стул и крепко связал.
— Живой хотя? — встревожился хозяин, который раздувался и раздувался.
— Ж-жив-вой, — проворчал Денисов, и голос его был чужим, каким-то далеким.
Мертвец похлопал врача по щекам, тот тихо застонал.
— Ну, стало бытя, заблудшия могуть душу свою хоть куды пристроитя, — протянула тварь.
— И многие приходили к ним с дарами, с приношениями, умаслить чтобы. А те, взамен, душу человеку тоже…
— Бла-го-ус-т-ра-и-ва-ли! — хохотнула тварь. — Ыть, какое слово от вашего брата узнатя. Продолжай, мил сын.
— Про что? — стушевался Хартов, понимая, что любое сказанное дальше слово превратит его в подлеца.
— Про тоть, как ваши красные муравьи всех заблудших года два назадя истребили, вырезали, закопали. Как дома наши сжеча пыталися. Про этоть можешь рассказатя. Али как мы не умератя в вашем огне большевистком. И теперя ютимся в норах, в мебели, в застенках старых, да на луну воем. А можешь…
Тварь замолчала, и в тишине Хартов отлично слышал, как что-то рвется и рвется из тесного подвала.
— А можетя про тоть рассказатя, как удумал ты, рожа красная, товарища сваяво сгубитя!
Хартов посмотрел на мертвого Денисова. Тот стоял и качался, словно старая липа, которую гнуло ветрами и клонило к земле.
— Прости, — тихо сказал Хартов. — Мне же и вправду дорога жена твоя. — Денисов раскачивался, Дорохов смотрел в пол. — Но не как любовница. Как сестра. А не могу я своей сестре сказать, что муж ее умер. Не могу без тебя домой вернуться. Я же обещал, что вместе с войны придем. И на кой черт ты к бандитам полез с одной саблей…
Хартов замолчал, глотая соленые слезы.
— Извини, Дорохов. Но я пообещал. Что Денисов вернется домой. Целый и невредимый. Хоть и в чужом теле.
И тогда Дорохов завыл, закричал, силясь разорвать крепкие узлы. Черный хозяин на столе задорно свистнул, и мертвяк столкнул врача прямо в жижу, которая булькала на дне подвала.
Крик Дорохова утонул, захлебнулся в стоне других, жаждущих чужой плоти и тепла. И будто не было никогда отставного сержанта, талантливого врача Дорохова, лучшего стрелка во всем Зауралье.
— Хорошия, хорошия подношения, — хозяин причмокнул и огромным шаром скатился вниз, к Хартову. От него пахло мочой и гнилью, да так сильно, что начало щипать глаза.
— Вы обещали, — прошептал Хартов, с трудом сдерживая тошноту.
— Помнитя, мы помнитя, — согласился хозяин. — Жирнуя тушу красноцветнуя на обратную душу друга твояго.
Казалось, еще немного, и от противного запаха разорвет легкие.
— Только вот чиготь, — где-то в складках балахона показались крючковатые пальцы, в которых блеснула острая шашка. — Другу твояму понравитися с нами, не хотяти обратно в тело бренное возвращатися.
Тень дыхнула в лицо Хартову, и того замутило еще сильнее.
— Тебя зовутя к нам! А чиготь? — Шашка упала к ногам Хартова. — У нас хорошо, ни болезнея, ни смертея! Красота!
Сказав это, хозяин подхватил Хартова вместе со стулом, поднял высоко-высоко, под самый потолок.
— Домой-ту вы вернетися, нусь тела ваши точнотя вернутися, а сами у нас погоститя!
Тварь швырнула его в подвал, туда, где копошилась зловонная масса, похожая на переваренную кашу с комками в виде лиц. Падая, Хартов наконец понял, куда деваются старые тела заблудших и почему никто их не находит. В следующий миг десятки рук ухватили его и потянули глубже, глубже.
Жижа залилась в легкие, в нос, разъела глаза, облепила кожу. Заполнила каждую клеточку, каждую частицу его тела. А потом быстро вытолкнула наружу, к самому потолку, где он так и остался висеть, беспомощно наблюдая, как из разинутой пасти подвала выбирается уже чужое тело.
— Ну-уть, — пропел хозяин, — стало бытя, пора в дороженьку!
Сказал — и разлетелся сотней черных лоскутов по всему дому.
5.
К рассвету отряд Смольного вышел на поляну.
На месте лагеря, оставшегося от Степаненко, еще теплились угли, лежали забытые кем-то из бойцов мешки. Ни записки, ни указаний.
Смольный обошел поляну в поисках следов. Заметил у дряхлой сосны что-то маленькое, блестящее. Подошел туда.
Всю ночь, по дороге через лес, ему чудились какие-то тени, похожие не то на зверей, не то на людей. А перед самым рассветом будто увидел он две фигуры в старых шинелях. Окрикнул их, те обернулись, и в ночных путниках Смольный узнал двух бойцов Степаненко. Денисов, кажись, и… как там его… Харев? Командир не успел ничего сказать, как фигуры в шинелях растворились в лесу и поди пойми, на самом деле он их увидел или это голова его уставшая вздумала шутить…
У дерева лежала шашка. И винтовка. Смольный поднял их, осмотрел. Никаких следов, ни крови, ни грязи.
И шашка, и винтовка были еще теплые.
Словно живые.
Составители сборника Над составлением этого сборника работали, участвовали в конкурсах, читали рассказы и выбирали лучших:
Виктор Носуль, Andromeda, Дмитрий Костюкевич, Дмитрий Лазарев, Иван Пирогов, Алексей Жарков, Ирина Мещерова, Бушмина Алена, Адель Ахтямова, Максим Тихомиров, Солодова Марина, shuster, Екатерина Вишникина, Оксана Манзадей, Elloiza, Максим Чапко, Мария Аникина, Анастасия Бабина, Александр Шорин, Дмитрий Сорокин, Гуменюк Лилия Николаевна, Александр Паршин, Объедков Илья, Ноль, Валентин Гусаченко, Тамара Полилова, Виктор Чунчуков, Пол Конрад, Мария Анфилофьева, Ерёменко Филипп, Антонина Макрецкая, Андрей Глумов, Львова Лариса Анатольевна, Артём Бобровник, Игорь Михайлов, Вера Позвонкова, Макс Черепанов, Анна Демченко, Олег Голиков, Роман Гордон, Константин Нэдике, Александр Удалов, Леонид Бондарь, Макс Кауфман, Антон Кузнецов, Мария Иванова, Сорокин Александр, Алексей Борисов (Алекс Бор), Тулина Светлана, Камелия Санрин, Сергей Игнатьев, Влад Копернин, Преображенская Юлия, Марьяна Пискунова, Михаил Кашаев, Евгений Мягков, Ксения Измайлова, Дмитрий Крюков, Роман Железко, Антон Воробьёв, Алина Войченко, Мила Петрова, Мила, Остин Арка, Александр Лычёв, Ксения Владимирова, Ольга Кунавина, Бочарова Евгения, Коршун Михаил, Вад Капустин, Валентина Юрьевна Лабер, Д. Воробьёв, Михаил Семеусов, Юлия Андреева, Александр Белкин, Артур Шмиллер, Нина Парменова, Евгений Ненашев, Юлия Колбанцева, Богдан Климович, Евгения Бартош, Мирослав Девяткин, Екатерина Шофман, Максим Александров, Нец Иван, Полина Максимова, Хром Кржижановский, Настя Литвин, Александр Ионкин, Артём Рачковский, Настя Игнатова, Владимир Шевченко, Гордон Фриман, Алексей Филонов, Тихон Мощанецкий, Грамин Магнус, Сергей Бакалов, Ольга Быстрецкая, Лапикова Олеся, Павел Рославский, Максим Милосердов, Юрий Жуков, Корзун, Елена, Атэр Белобеева, Моисеев Сергей, George Tomasson, Роман Толкачёв, Зак Мудунов, Марина Смыслова, жак де моле, Алексей Будников, Калюжный Иван, Тихон Спирин, Виноградов Дмитрий, Валерий Бохов, Реваз, Владимир Корзинкин, Илья Асосков, Гаранчук Никита, Фугаева Виктория, Воробьева Елена, Анастасия Шаповалова, Марина Иванова, Андрей Анисов, Ольга Цветкова, Павел Виноградов, Алёна Анисимова, Екатерина Васина, Александр Крупский, Юниченко Мария, Александр Витенберг, Руслан Лисицкий, Владислав Ленцев, Алла Лихогруд, Лариса Кривенчук, Алексей Шевяхов, Евгений Ануфриев, Артем Ермашкевич, Евгений Рахимкулов, Тишанская Марина Антоновна, Александра Котенко, Анастасия, Владимир, Михаил Лысенко, Валерий Сагин, Ольга Голубева, Эрик, Антон Пятница, Петр Бирюков, Арти Ноттангам, Леся Яровова, Эльнур Халилов, Валентина Рождественских, Дмитрий Лупич, Игорь Зубов, Артур Ремесло, Паша, Алексей Холявко, Виктор Мохань, Роман Платонов, Сергей Петров, Mark Marchenko, Мария Шемякина, Кудрин Евгений, Георгий Шалыгин, Кондрашова Марина, Артур Федосеев, Стефан Радзивон, Борис Рублев, Валентина Шейко, Ирина Мясоедова, Корунова Елизавета, Валерий Карибжанов, Давид Копалеишвили, Владимир Яремчак, Тианада, Эрик Керси, З Фам, Сергей Липаков, Николай Зайков, Карна Хорт, Павел Березин, Екатерина Романенкова, Дмитрий Ус, Андрей Зимний, Регина Султанова, Иван Макухин, Вук Артем, Пикалов Дмитрий, Анастасия Буркова, Ика Маика, Звягин Ин, Михаил Функ, Татьяна Аксёнова, Игорь Невский, Олеся, Григорий Лебедев, Марита Питерская, Ирина Сверкунова, Ирина Ваганова, Першина Юлия, Веретенова Софья Ярославовна, Роман Шмит, Вячеслав Сычёв, Владимир Найденов, Правдина Ольга Александровна, Фёдор Фёдоров, Мария Егорова, Ксения Карелина, onix385@mail.ru, Олеся Ткачева, Сергей Пашков, Георгий Малухин, Грушникова Екатерина, Илья Кисляков, Анатолий Фоменко, Иванов Андрей, Вася Пупкин Епт, Ира Иризка, Бетева Наталия, Павел Пименов, Ульяна Исаченко, Виценко Юлия, lkjbvhj, Солдаткина Елена, Андрея Миля, Олег Зуев, Дарья Тоцкая, Юрий Ташкинов, Иван Калягин, Natalia Schellenberg, Ирина Абрамидзе, Светлана Васильева, Валерий Важенин, Тихонова Лариса, Виталий Придатко, Ирина Лебедева, Михаил Мочалов, Татьяна Терновская, Никита Лазуткин, Максим Алиев, Сони Дэймар, Михаил Пчеленков, Георгий Кавсехорнак, Андрей Шуляренко, Татьяна Вяткина, Марина Пиляк, Ольга Алексеева, Даниил Витвинов, амелин алексей, Максим Лупин, Александр Мовчан, Равенсо Алекс, Мария Куликова, Сергей Королев, Лютенко Руслан, Аркадий Недбаев, Александр Хмелев, Шуршалов Владислав, Николай Павлов, Артемий Дымов, Граменицкая Елена, Эдвардас Шулус, Евгений Варламов, Александр Остропико, Евгений Рябой, Александр Мецгер, Алефтина Маматова, Денис Скорбилин, Владимир Жуков, Евгения Богомолова, Анастасия Рябова, Ксенья Панькова, Мария Силкина, Ольга Храмцова, Корелов Андрей, Виктор, Ирма Пчелинская, Андрей Шавелев, Глеб Черский, Елена Казакова, Дмитрий Герасименко, Джей Арс, Сергей Д. Блинов, Сергей Блинов, Дмитрий Казанцев, Анна Одинцова, Kэт Бьюфорт, Герасимова Ирина, Максим Сенькин, Алексей Игнатов, Надежда Дерманская, Виктор Лугинин, Кравчук Ольга, Роберт Рим, Александр Придатко, Анастасия Ситник, Елена Ленская, Юлия Гладкая, С. Ш., Ржин Владимир, Акимова Мария, Максим Зорин, Матафонов Петр, Мария Абадиева, Ирина, Григорий Сериков, Сергей Буридамов, Григорий Родственников, Вячеслав Тимонин, Карачевцев Юрий, Григорий Кабанов, Михаил Шнапсов, S&M, Варданян Айк Вазгенович, Вадим Ечеистов, Дмитрий Завьялов, Диана Шакирова, Сергей Петренко, Ковальчук Роман, Денис Климонтов, Константин Чихунов, Вита Слесарева, Романеева Ольга, Куракин Святослав, Даша, Олеся Шмакович, Иван Калюжный, Адамас Ксогм, Саша Белкин, Старовойтов Денис, Кирилл Второй, Надежда Гор, Сарана Даниил, Владислав Кукреш, Алекс Г, Козлов Артём, Глеб Ковзик, Евгений Бессонов, Ярослав Землянухин, Зоя Лаврентьева, Соколова Наталья, Константин Лонгин, Маргарита Зорина, Александр Подольский, Анна Дитхард, Дмитрий Колейчик, Сергей Каспаров, Юлия Фалалеева, Александр Вишбру, Дмитрий Смолянинов, Александр Эйпур, Отрадных Илья, Павел Затула, Елена Ваулина, Иван Фёдоров, Татьяна Алексеева, Кира Эхова, Анатолий Герасименко, Ciara Leon, Анастасия Сёмина.
Примечания
1
Шведское имя Луве пишется так же, как английское love — «любовь».
(обратно)2
На Шеппсбруне установлен памятник королю Густафу III.
(обратно)
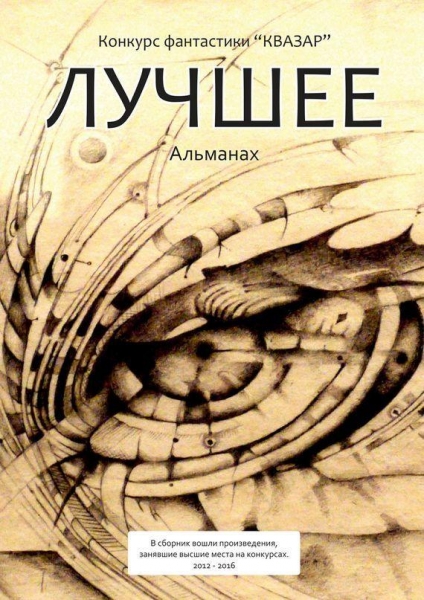

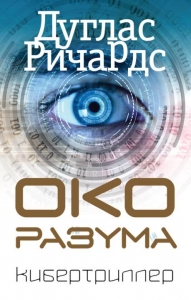
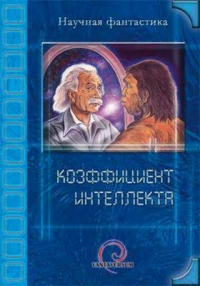



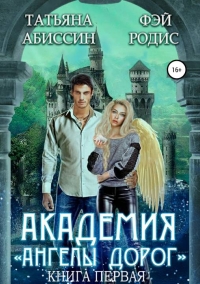

Комментарии к книге «Лучшее. Альманах», Алена Бушмина
Всего 0 комментариев