Александр Юм ОСКОЛ Особая Комендатура Ленинграда
Глава 1 Диверсанты, парашютисты и патруль комендатуры
Разбудил меня сильный грохот. Боец, ввалившийся в каптерку, сбил тумбу с графином и что-то кричал, давя сапогами битое стекло. «Товарищ… гибель… позиция… фашист…» — слова будто падали в глубокий колодец с ватными стенами и вязли, перемешиваясь в кучу.
Зеленый силуэт, маячивший в дверном проеме, напоминал Петю Рузайкина, но вопил почему-то эренбурговским[1] голосом.
Я не сразу разобрался в этих чудесах и все никак не мог понять, чего хочет от меня этот конопатый ярославец. Наконец удалось отбросить цепкие руки сна и спросить более-менее внятно:
— А что, стучаться и докладывать уже не надо?
Петя сделал несколько неуверенных шагов вперед.
— Красноармеец Рузайкин прибыл с донесением!
— Ну?
Переминаясь, Петя захрустел осколками.
— Нашу группу срочно на выезд — агафоновских бомбой накрыло!
— Так, а мы причем? У них же задания со спецдопуском.
Рузайкин зачем-то снял пилотку.
— Некого больше. Начальство за дверью сперва орало, что накрыло Агафонова, потом орало, что не знает, кого вместо него послать, а потом зашел я. За кипятком. Ну и…
— И что прикажешь с тобой делать?
Заглохший Эренбург освободился из радиоплена и гавкнул из эфира: «Убить проклятого гада!» Рузайкин вздрогнул и, надевая пилотку, прогнусавил:
— Мне тоже собираться, товарищ старший лейтенант?
— Конечно! Впереди всех побежишь…
Я поднялся и пошел будить патрульных.
Ребята отмахивались, продирая глаза, спросонок брыкался неулыбчивый ефрейтор Лиходей, однако ж потихоньку наладилось. И дальше как-то удачно пошло: запыхавшийся Бейсенов — уцелевший сержант из агафоновской команды — сообщил, что нужно всего три человека и то ненадолго.
Во дворе нас дожидался чахоточный грузовик-полуторка. Поеживаясь и зевая, Лиходей с Петей полезли в кузов, а я попросил у водителя газету. «Ленинградская правда». Почти свежая, за 5 мая 1942 года. Так… «В течение ночи на фронте чего-либо существенного не произошло». О, про нас: «… части, действующие на одном из участков Ленинградского фронта, в бою с противником захватили 6 немецких танков, 10 орудий…»
— У-чис бить вра-га, — прочитав по складам заголовок, Бейсенов тронул меня за плечо: — Ехать нада.
Я присоединился к своим, перемахнув через борт. Бейсенов, усевшись на правах старшего рядом с водителем, скомандовал, и грузовик тронулся, оставляя позади стрельчатую арку. Часовой у ворот поправил винтовку, а выскочивший за шлагбаум комиссар Теплов что-то прокричал вдогонку, тыча пальцем в браслет часов. Я махнул рукой: не беспокойтесь, мол, задерживаться не будем.
«ГАЗ-АА» был старый, вызванный к жизни по крайней нужде, и казалось, что на крутом ухабе его рассыплет, как отслужившую телегу. Но водила рулил аккуратно и довольно быстро мы добрались на Звенигородскую улицу. Стуча движком, первенец автоиндустрии проскочил расклеванный снарядами поворот и заглох у афишной тумбы.
Бейсенов, перед тем, как скрыться в проходном дворе, показал на карте маршрут. Мы сверили часы и привычным патрулем двинулись вперед.
Гладко и спокойно занялось утро. Не отвлекали подозрительные граждане, которым вздумалось побродить по Ленинграду, не матюгались усталые шофера с несвежими документами, не попадались фронтовики-трехдневнотпущенники. Не было никого. Даже не прятались в подворотнях работницы фабрики «III-го Интернационала» — им, беднягам, после ночной смены на заводе переждать комендантский час не позволял скотина- директор, а пропусков, понятно, не имелось.
Солнце поднялось одним махом. Обычно светило настороженно выглядывало из-за туч, словно боясь напугаться чем-то страшным, и только спустя час-другой приступало к работе. А тут одним махом.
Город будто забыл ненадолго мраморный холод стен и выполз из сырого блокадного тумана. Безусловно, война никуда не исчезла и следы ее — россыпи осколочных шрамов на зданиях, бумажные кресты на окнах, крытые брезентом грузовики, все идущие на юг — никуда, по сути, не делись. Но как-то отошли они на задний план, уступив место майскому ветру с запахом сирени. Воздух освободился от гари, копоти и того особенного зловония, что приходило с нечастыми минувшей зимой оттепелями.
Преобразившись и очистившись, Город стал другим, вовсе не похожим на прежнего себя, замерзающего и умирающего под свист февральской вьюги. Он зазеленел огородами, зазвенел редким детским смехом и, расцветая летними дамскими платьями, все более походил на выздоравливающего доходягу, который, глуповато улыбаясь, щурится на солнце.
Я уж было начал радоваться наступившей благодати, как вдруг из ворот сиганул шпиндель годов двенадцати, воровски оглядываясь за спину.
— Куда бежим?
Пацан, с разбегу налетевший на Лиходея, секунду лупатил глаза кверху, а затем отчаянно пискнул:
— Дяденька ефрейтор! Там у нас диверсант во дворе! Парашютист-вредитель. — И бросив рукав ефрейторской шинели, вцепился в бредущего на разговор участкового. — Ефрем Иваныч, идемте!
Милиционер Лунин поднес руку к фуражке.
— Здравия желаю.
— Привет милиции.
Участковый освободился от пионерского захвата, однако юный гражданин продолжал «бдеть»:
— Ефрем Иваныч, он там, шпион этот, брешет всякое.
— Ладно, пошли.
Чем ближе мы подходили к ажурным кованым воротам, тем громче становилось эхо от голосов во дворе и из смутного шевеления вызревало «несанкционированное скопление гражданских лиц». Причем скопление не было вызвано к жизни соответствующими учреждениями: слишком уж вольно обступили граждане оратора. И как-то подозрителен был сам оратор — хромоногий мужичонка лет пятидесяти.
— Товарищи! Граждане! Ленинградцы! Пробудитесь, — взывал хромой. — Девять месяцев мы в осаде. Бьемся, изнемогая за Родину в последних силах. Погибаем в холоде и голоде, в бесчеловечных налетах. А где э т и, — мужичонка картинно сотряс воздух руками, — партейцы?! Вы их не отыщете в хлебной очереди либо с брезентовыми рукавицами на пожарах. Они сидят там, в глубоких бункерах, звонят по телефонам, пьют какао, и уж будьте покойны — не макуху жрут. Вот что было в мусорке около райкома. Вот чем питается партийная знать!
Агитатор вытряхивал из рогожного чувала комканый ворох и на колотый асфальт сыпались предметы, настолько прочно исчезнувшие из обихода, что их существование давно уже относили к добрым легендам, чем к реалиям, имевшим место быть не так уж давно. Апельсиновые корки, рафинад, раздавленный бутерброд с усохшим повидлом. Звонкая бутылка светила пятью армянскими звездами, лоснился жиром сиговый хвост, а хромоногая сволочь продолжала трусить мешком, как рождественский дед.
— Вот они, вожди наши, вот наша опора и надежа!
Мужичок был желт и одновременно бледен, на съеженном пиджачке болталась медаль «За Отвагу», и был он так убедительно суров, что, не сталкиваясь с подобными типчиками, легко можно было купиться на его россказни. Как вон той, в синем берете. Этой бедолаге с иждивенческой пайкой сердце рвет блестящая обертка эскимо с улыбающимся чучмеком. И думает она: «жрут ведь, сволочи». А мужичонка все травил:
— Из Москвы обкомовской секретарше пломбир везут. Любимый сорт! — Оратор стукнул себя в пиджачок. — Допустили врага к родным стенам и лозунгами прикрылися: «выстоим, победим!» Жданов[2] из черноморского курорта приехал, когда немцы уже Псков захватили.
А теперь народным горбом хотят ордена себе нацепить. Они брешут вам, что хлеба нет! Хлеб есть, не верьте никому! Идите в магазины и на склады! Требуйте. Они бросают народу опилочную горбушку в день, а сами жрут, как белогвардейские помещики. В Смольном расстреляли повара за то, что подал остывший жульон. Развесили на каждом заборе агитацию, скрывая бумагой свое гнилое нутро. Но эти бумажки для нас, для простых людей. А себе они печатают вот что: «список блюд к обеду на индивидуальные персоны». Вот число, товарищи, — пятое декабря. Вспомните, сколько погибло в те дни от недостатков питания! Они же в это время насыщались парижскими винами. Глядите на список!
— Дай-ка мне.
Подозрительно спокойный участковый забрал меню, а мы навели стволы на людей, собравшихся во дворе.
Шибко занесло, видать, обличителя ленинградского партактива, если не заметил он патрулей и синюю фуражку НКВД. Тоже мне — парашютист-вредитель…
— Жульон, значит, повар не согрел?
Участковый встряхнул список яств.
— Сам печатал?
Задержанный молчал.
— Значит, сам. Читай, гадина.
Лунин вытащил наган и агитатор, дрожа подбородком, захлюпал:
— На первое суп грибной фрикасе в качестве горячего блюда и салат из свежих овощей…
Участковый ударил его в живот. Я отвернулся. Хорошего в предстоящей сцене не было ничего, но и останавливать милиционера нельзя.
Меня сейчас интересовал совершенно другой человек. Он находился в толпе и наверняка видел нас, однако сигнал дать не успел. Или успел, а напарник не увидел. В этом виде диверсий один говорит, а второй оценивает обстановку. Надо быстрей цеплять этого второго.
— Товарищ командир, мы агентаживым не доведем, «милиция» с катушек едет!
Я оглянулся. Участковый действительно «ехал». После каждого названного блюда он наносил удар «агитатору». Да, зря тот изобретал такой длинный список. Теперь «алиготе», «запеканка творожная с изюмом» и прочие изыски возвращалась пинком в ребра или крюком в голову.
Убьет или нет?
Но слабый, недоедающий Лунин таких сил не имел. Он очень быстро выдохся и, опершись на завиток фонарного столба, тяжело дышал, утирая мокрое лицо. Участкового бил озноб. Посмотрев невидяще перед собой, он поднял револьвер.
И пришибленный народ утих совсем. «Сейчас расстреляет хромого», — читалось на их лицах. — «А с нами что будет?» Отметка в милиции, допрос, подозрение в пособничестве — и поведут хмурые автоматчики прямо в Большой дом[3], где по слухам приговор выносит любой из старших следователей. Не зазвучит торжественное «суд идет», а хлопнет бумага по столу — и нет тебя «именем Советской Родины».
И даже могилы у тебя нет, потому что, говорят, в подвале Литейного, 5 бросает трупы в адскую мельницу чекист-абиссинец.
Ничего, пусть прочувствуют! Если надавить хорошенько, второй агент полезет как вошь под керосином. Я крикнул:
— Все находящиеся здесь задержаны для установления личности. Встать в один ряд лицом к стене. Все лицом к стене!
Выдернув из толпы дворника, заорал в лицо:
— Кто эти люди?! Зачем ты собрал их здесь?!
— Мин гепсе, — татарин завизжал, приседая. — Не собирал! Мы двор живем, все здесь одни!
Я толкнул его обратно в кучку испуганных людей, продолжая нагонять страху:
— Продались, сволочи! Все продались!
Выбрав из толпы почтенную даму, схватил ее за воротник.
— Ты! Ты помогаешь немцам!
Несчастная выбросила вперед ладони, закричав в ужасе:
— Я не фашист! Нет! Я им не помогаю!
— Ты здесь живешь?!
— Да! Я здесь живу! — Она так радостно закивала, будто прописка в этом доме рядила ее в белые одежды.
— Работаешь на немцев?! Отвечай. В глаза смотреть!
— Нет, нет, нет!
Продолжая орать, я двинул оружие вверх:
— Тогда кто? Говори! Кто чужой?! Говори быстро, где чужой. Расстреляю на месте!
Нельзя, конечно, так. Как жандарм царский. Это ведь наши люди, советские. А я им — взять, чужой! Раньше это называлось грехом, значит, еще один в личное дело. Ладно, пусть лучше эта баба вычесывает моток седых волос, чем давит коленями свои кишки. В прошлый раз диверсант — паренёк лет пятнадцати — швырнул гранату в маминой сумке и удрал. А сейчас все пока идет как по маслу. Ведут, вон, залетных.
Их четверо. Высокий старик в пальто, беленькая девушка, ребенок и очкарик с комсомольским значком. Все напуганы и уже потрепаны жильцами. Сейчас надо держать подозреваемых под угрозой расправы местными, но толпу осаживать.
Визги и крики. Старик закрывает собой мальчика. Кто-то толкнул очкарика и тот молча упал. Девушка втянула голову в плечи. Прорвалась какая-то отчаянная женщина:
— Перестаньте! Постойте! Это же Василь Афанасич с внуком, отец инженерши из пятьдесят четвертой.
Так, двое отсеялись. Значит, девушка или очкарик? Мое тело покрыли тысячи невидимых усиков, жадно впитывающих страх блондинки.
— Лиходей, к стенке э т и х, по закону военного времени.
Показав на мужичонку-агитатора и очкарика, я незаметно дал ефрейтору знак повременить, а девушке предложил пройти для проверки документов.
И пропустив блондинку вперед, в парадное, пихнул ее сапогом в спину.
Когда она рухнула на лестницу, мысль, что это может быть невиновный человек, держалась в голове одну секунду. Холодящая волна азарта накрыла сомнения легко, и остался во мне лишь охотник, напряженный до струнного звона. Я буквально кончиками пальцев, кожей, нутром, черт его знает чем, ощущал страх белобрысой.
«Она! Она!» — ликовал красный чертик в голове, и так сладко было смотреть в ее кривую морду, утыканную красными яблоками страха.
Я не мог оторваться от глаза с бегающим от страха зрачком. Страха убийцы пойманного с ножом, страха вора укравшего то, что красть нельзя, страха того, кто знает, что в и н о в е н. Их много довелось перевидать — таких глаз, таких лиц, подернутых ужасом застигнутого, — и сознание быстро печатало неуловимые штрихи, отсекающие человека и с п у г а н н о г о от человека в и н о в н о г о.
Штрихи эти, конечно, не доказательства. Если я взял не того, никто не будет слушать про интуицию. Может быть, второй агент вообще успел уйти, а безвинно пострадавшему не объяснить, что не было времени разбираться детально. Но нет у меня времени. Господи, не дай ошибиться!
Блондинка хватала воздух, как дурная рыба. Ударил я ее крепко, но больше нельзя, по крайней мере, до тех пор, пока не установится, что агент — она.
Я схватил жидкие волосы и резко дернул к спине, запрокидывая ее голову. Заорал по-немецки:
— Wenn Sie Leben wollen nenne die Namen der Kommandeure?!
По-немецки — хоть и с ошибками — это чтоб сильнее по психике. Конечно, ее не в фатерлянде рожали, но пусть боится.
— Эа-х-ммм-уу!
О! Говорить хочет! Наверное, испугалась, что за немку принял. Дура. Я отпустил волосы, иначе напряженные мышцы держали бы нижнюю челюсть, и прислушался к истеричному воплю.
— Я русская! Рус! Рюсс!
Тварь совсем обезумела. Да ей в сотни раз хуже русской быть сейчас!
— На фашистов работаешь, шлюха?! Отвечай! Убивала советских бойцов подлой рукой?! Отвечай, погань!
Не давая вражине открыть рот, я окунул ее лицом в грязную кашицу, весьма кстати вонявшую под лестницей. Девка зашкребла руками, булькая придушенным воем, и попыталась освободиться.
— Говори правду!
Дав хлебнуть кислорода, я снова опрокинул ее голову.
— Будешь молчать, жизни лишу!
Подождав, когда она засосет вместе с воздухом дерьмо, заорал:
— Убью, сволочь! — и выстрелил над головой, на разгоне не думая о рикошете.
Затем упер ствол «ТТ» в глаз и посмотрел в другой. И опять увидел зрачок. Огромный и судорожно пульсирующий. Он метался, дикий и черный, пытаясь ухватить и мое лицо, и пистолет, и еще что-то, видимое только ему. Это был взгляд существа, превращенного в скота. Мной превращенного. И если она сейчас не расколется, значит, я ошибся и придется отвечать.
— Именем Советской Родины, — мне удалось придать голосу звон холодной стали. Я щелкнул затвором: — За измену и предательство…
— Я скажу! — Белесую прорвало, как гнилой нарыв. — Я никого не убивала! Никого! Он заставил меня!
Ствол упирался в переносицу, и так хотелось нажать на крючок, так хотелось… Оттого и последнее «приговариваю тебя к расстрелу» звучало по-настоящему. А все задуманное поначалу как психодавление на «обьект» было чем-то переходящим в сомнение.
Может, в самом деле, долбануть ей между глаз? Кто-то злой беспрестанно толкал под руку, чтобы я нажал на крючок «ТТ». Ну, зачем здесь эта худая бл…ь с кривыми ногами? В ствол зекает. Шмальнуть бы в лобешник ей… Донесся какой-то крик.
Почему я не могу убить ее просто так? Откуда эти сомнения?..
Убить невиновного — это грех. Совершивший его переходит на темную сторону. Первый шаг легок, но потом тебя несет с горы, бросая на камни, пока не разобьет. Зато на светлой стороне не испытаешь упоения от полета вниз. Светлый путь тяжел и труден, как восхождение. Я не хочу идти наверх. Я у с т а л. Я просто устал. Я просто хочу убить эту суку. Просто нажать на спусковой крючок. Это очень просто…
Но я не могу. Они приковали мои руки цепями — все эти учителя и воспитатели. Эти бесконечные Дяди Вани и Тети Маши, знающие «что такое хорошо и что такое плохо». Бумажные рыцари из детских книг держат меня и не пускают туда, где легко. Из-за них я не могу разнести башку этой суке — так меня учили… Надо о чем-то говорить с белобрысой. Она враг, но убить ее нельзя. Она враг, но я должен стоять рядом, дыша ее запахом. Почему она смердит, как выгребная яма?
Вонь ударила в голову, сбрасывая оцепенение. Я тупо глядел на исходящую тихим завыванием блондинку, чьи ноги совершали беспрестанные загребные движения, и еще по ним текло.
Вот черт, красавица просто обдулась. Обернувшись, я увидел замороженное лицо ефрейтора.
— Лиходей, возьми ведро воды где-нибудь.
Он мелко потряс головой и пулей устремился во двор. На середине лестницы ефрейтор остановился, в полупоклоне отдал честь и еще быстрей понесся наружу.
Все, что было нужно, я выяснил минуты за четыре. Звали деваху Наташа Мандрусева. Жила себе Наташа до войны в райцентре, в семье начальника ОРСа[4], и горя не знала, пока не свезли папу в дом с решетками за растрату.
После прихода оккупантов имела связи с немецкими офицерами. Сотрудничала с гестапо, выдала еврейскую семью. Тех, ясное дело, казнили, а Мандрусеву занесли в картотеку «Добровольных помощников Рейха». В Ленинграде она с марта месяца. В группе еще двое. Командир — немец, эмигрант семнадцатого года. Хромой — барыжник с Андреевского рынка — на фронте никогда не был, убил демобилизованного красноармейца, завладев его документами и наградой. Основная задача группы — это слухи, провокации, пораженческая волна. Балуются ракетами, но редко и по строгому плану, и еще листовки. Так, есть у них какая-то «Доктор Маша» — связная либо координатор — работает в сануправлении. Словесный портрет шпионка дала толковый, так что поймать доктора Машу можно будет.
Когда я вышел из парадного и сделал первую смачную затяжку, обратился ко мне Петя Рузайкин:
— Товарищ командир, а она что — взаправду фашистская агентша?
Петю привезли из-за Волги, далекой от линии фронта, и для него было внове, что человек, с которым ты, может, ехал вчера в одном трамвае, внезапно лазутчик вражеский, про каких пишут книги и снимают кинокартины.
— Как же так? Она ведь наш человек, советский… То есть, я хочу сказать здесь выросла. Почему она тогда за немцев?
Рябое лицо Рузайкина не выражало сурового презрения и волевой решимости. Он скорее походил на деревенского политинформатора, узнавшего, что его сестра путается ночами с Ванькой-трактористом на колхозном току.
— Вы спрашивайте ее, товарищ старший лейтенант, спрашивайте.
— Это пусть ее особотдел спрашивает. Ему за это сахар дают сверх пайка. Мы поймали и сдали куда положено.
— А я тоже могу… например, заметку в стенгазету сделать. В школе редактором был. Мы даже одного врага народа разоблачили!
— Какого врага?
— Скрытого. Он скрывал подлую сущность под личиной педагога истории.
— И как вы его разоблачили?
Петя счастливо заулыбался:
— Один из кружковцев опознал его на фотографии. Там Дмитрий Иванович был в погонах прапорщика. Да еще с царским крестом.
Подошел освободившийся Лунин и понимающе закивал.
— Я тоже помню, один дедушка попался перед войной. Пролетария все корчил из себя. Книжка у него изотовская[5], а как портфель вскрыли — куда там Леньке Пантелею. Деньги, номерные облигации, денежно-вещевые билеты. И все фальшивое…
Участковый замолчал, а я спросил Петю:
— Как же вы добыли карточку, выкрали тайным взломом?
— Почему тайно? — удивился Рузайкин. — Дмитрий Иванович занятия кружка у себя дома проводил иногда, там и подсмотрели в альбоме.
Во, детки! Хорошо, что не довелось мне учительствовать в заведениях Наркомпроса тамошних краев… Чтоб завершить аккорд спросил у разоблачителя:
— Ну и сколько лет твоему Дмитрию Ивановичу дали?
Петя опустил плечи.
— Ничего не дали, только из школы выгнали.
— Стало быть, невиновен оказался?
— Ну да.
— А чего тогда вы, сволочи, на советского гражданина поклеп возвели?
— Да какой он советский, товарищ старший лейтенант?! Самодержавный офицер, а туда же, в госучреждение!
Эх, Петя! Принципиальный ты и честный, как лозунг, но шибко бдительный. При умелом раскладе, сделает тебя комиссар своим «недрёманным оком». Так что придется слегка утихомирить активиста.
— По-твоему, Рузайкин, все бывшие офицеры враги народа?
— Ну да, а как еще?
— Кто тебе это внушил?
Петя хлопал белыми ресницами.
— Я… мне… осмыслил в плане изучения Гражданской войны и сделал выводы.
— Кто еще из твоих дружков так думает? Отвечай! Есть еще такие?
— Д-да.
— Т-а-а-к. Значит, целая организация. Молодец. Ты винтовку отдай пока ефрейтору.
— Мою?
— Твою-твою.
— З-зачем?
— З-затем, что ты, боец Красной Армии, распространяешь клеветнические слухи в адрес военного и партийного руководства СССР.
Бедняга дернулся и начал сереть. Волжский румянец уступил место синеватой бледности и вдобавок Петя стал меньше ростом.
— Я не клеветничествую, товарищ командир… Нас так учили…
— Чему тебя учили, Рузайкин? Тебя учили, что комфронта Говоров предатель рабочего класса? Он ведь не прапорщик, а целый подпоручик. Да еще у Колчака служил! По-твоему, товарищ Жданов тоже враг народа? Дворянин! А писателя-орденоносца Толстого, куда прикажешь девать? Он вообще граф!
— Товарищ командир… Я не знал! Я не думал…
— Чего ты не знал?! Прочитай в любой книжке, там все написано. Или ты что думаешь? Прокукарекал, а там хоть крыша гори?!
— Андрей Антонович, я… без всякой мысли! Честное комсомольское!
— То, что у тебя мыслей нет — не спорю. Я двадцать семь лет живу, но таких дураков не видел. А вот, кто хочет вбить их в твою глупую башку, да еще т а к и е мысли, я выясню, будь уверен! Сегодня к 21–00 подробный рапорт на стол! Что, где и почему.
Обернувшись, я рыкнул на Лиходея:
— Где ведро с водой?!
Тут же дзинькнула стальная дужка.
— Вот!
— Молодец. Вызови машину, жителей собери где-нибудь и поставь к ним этого разоблачителя. Ну и… штык ему отдай, что ли.
Ефрейтор кивнул, а я подхватил ведро и окатил водой измызганную «фрау» Мандрусеву.
— Умойся, смотреть на тебя противно.
Глава 2 Фронт под линией фронта
Бог весть, когда еще случай выпадет, поэтому я достал бритву и рядом с бабами, полоскающими белье в соседнем дворе, стал водить трофейным «золингеном» по щеке, косясь в зеркало.
Зеркало, видимо, из квартиры эвакуированных, было тяжелое, в золоченой раме с резными лепестками и с претензией на старинность. Я даже стушевался как-то — не вязалась моя физиономия с резнолепестковым великолепием. В таком зеркале нужно расчесывать благородные бакенбарды или завивать поэтические кудри, а не подбривать виски «полубокса», попутно снимая щетину. Ну да ладно. Графов у меня в роду не было: разве что какой-нибудь татарский мурза времен Орды — загораю быстро, лицо за пару дней делается совсем черным, а волосы светлые и глаза синие. В общем, гибрид какой-то. Правда, внешности своей значения особого я не придавал; вот только из-за длинных рук гимнастерку намучаешься отыскивать. Большой размер и рост еще ничего — можно подобрать, а рукава выходят непременно короткие.
Побрившись, я предался отдыху на диванчике в конторе расформированного ЖАКТа[6], созерцая копию картины товарища Розанова «Похороны жертв Октября».
Славно-то как. Даже мухи зудят убаюкивающе тихо. Пивка б «мартовского» или «темно-бархатного» да задрыхнуть часа на два, а то с этим уплотнением рабочего дня без очереди в лазарете окажешься. Это в январе лафа была: лежи себе на тюфяке да оставшиеся калории считай. Фунт хлеба — не ситного, а дикая смесь отрубей, макухи, лошадиного овса и сдобренной целлюлозой муки — позволял еле шевелить ногами. Вот мы и шевелили тогда до ближайшего строения с печью. Такой вот ночной дозор — сплошное нарушение. Но нельзя оставлять улицы без патрулирования. А угрожать людям оружием, как сейчас? А мордой в дерьмоМандрусеву? Ничего нельзя. Даже то, что мы здесь около Владимирской площади — нарушение. Это полоса обороны флота.
Только не переступи я «нельзя», эта немецкая гадина могла бы пройти через фильтр контрразведки. Лунин правильную байку рассказал про деда. Когда в марте чистили город, Агафонов заловил одного типчика. Тоже оказался фрукт: держал на антресолях списки коммунистов и комсомольцев, а в штабе местной обороны самым активным активистом считался.
Эх, если б не Бейсенов, отдал бы рапорт комиссару Теплову и получил законный сон и отдых. Я взглянул на часы — до встречи с сержантом двадцать пять минут — и, развернув страницы тетради, которую всегда таскал с собой, начал зарисовывать по памяти портреты. Блондинки Мандрусевой, хромого диверсанта с медалью, смешного дворника…
Рисовал я неплохо. «Талант» внезапно открылся лет десять назад — еще когда учился в Ташкентской школе пехотных командиров — стенгазеты, оформление праздников и прочая агитация. А в Университете умение отточилось на студенческих практиках-раскопках; наверное, треть нарвской керамики из Себяжья в альбомы перенес. Уроки брал у мастеров, да-с… А-ччерт! Огрызок «кохинора» выскользнул из пальцев и, упав, конечно же, закатился в щель между досками пола.
— Что там? — Лиходей, продолжавший «дознание» блондинки какими-то милицейскими приемчиками, выглянул из-за шкафа.
— Та ничего, карандаш закатился… Кстати, о! Фройляйн, иди-ка сюда! — Я объяснил Мандрусевой, что сейчас мы с ней будем составлять, то есть, рисовать портрет Доктора Маши.
Но все испортило некормленое документами начальство.
— Где охрана места происшествия, где рапорт, где задержанные?! — набросился возникший в окне комиссар Теплов.
— Рапорт вот. Супостаты — вон и вот. Охрана происшествия, в виде Рузайкина, прямо за вами, во дворе.
Теплов засопел и буркнул мне в окно:
— А почему боец с одним штыком, где винтовка?
— Товарищ комиссар, ну разве ж можно Пете винтовку доверить, да еще и с боевыми патронами?
Сейчас будет есть с кашей! Но против ожидания, Теплов начал топтаться на месте и вообще дал слабину, по которой стало ясно, что каша будет на второе. А на первое, видно, будет еще какая-то дрянь вроде охраны завалов.
— Ну, товарищ комиссар, люди вторые сутки без сна.
— Прекрати болтовню, Саблин! — закричал он, махая сжатым кулаком. — Будь здесь и никуда не уходи. Никуда! Понял?
— Понял.
— Сиди безотлучно. Я доложил по начальству, оно знает.
— И что?
— Пакет отдашь. — Теплов отнял от груди красносургучное послание с таким вздохом, будто я рупь за сто его утеряю и добавил, закатывая глаза: — Когда появится человек с «полномочиями», проси его мамой родной, но пусть обождет. Ты никуда не суйся. В самом крайнем случае отдашь бумаги и отправишь Бейсенова. Он в команде…
— В какой команде?
— А-а, неважно! — Комиссар махнул рукой и, заталкивая в кузов грузовика пойманных диверсантов, успокаивал себя: — Может, успеем?
Однако не успели. Едва его тарантас покинул уютный ЖАКТовский дворик, как взвизгнули шины, и высунулся из лихо тормознувшего фургона техпомощи лысый майор:
— Где Агафонов?!
— Товарищ майор, я…
— В машину! Быстро!
— Товарищ майор, мне приказано только в крайнем случае.
Брови лысого грозно надвинулись на глаза, в недоброй паутине которых уже плясало мое тоскливое будущее. Наверное, это и есть «человек с полномочиями».
— У меня приказ, товарищ майор.
Лысый побелел до цвета мамонтовой кости и раскрыл «корочку» — цветной листик на последней страничке удостоверения. Листик имел внизу личную подпись нового командующего фронтом и за любую проволочку в отношении «подателя сего» обещал различные неприятности вплоть до расстрела.
Я даже Бейсенова из таинственно поминаемой комиссаром «команды» взять не успел. На свою беду подошедшего ефрейтора Лиходея забрал майор вместо казаха и уже через четверть часа фургон подъехал к магазину «Силикат».
Ожидавший нас крепыш отрекомендовался капитаном Мальцевым и встретил типично русским приветствием:
— Лейтенант, мать твою! Где вы шляетесь?! До сбора десять минут!
За ним торчали двое и щерились в спину шумного командира.
Странные это были ребята. Один, стоявший вполоборота ко мне, имел манеры правонарушителя, только что покинувшего приемник где-нибудь на Малой Охте или Васином острове. Сдвинутая на затылок пилотка, руки в карманах, ремень прослаблен на кулак, не меньше, а из голенища правого сапога выглядывала рукоять «финки». Рубец ожога на поллица, как последний мазок художника, завершил портрет «гопника». Увидев меня, он отвернулся и отошел к двери магазина. Другой еще менее походил на бойца незримого фронта — слишком молодой и веселый. У него вообще не наблюдалось оружия, кроме узкого черного ящичка. «Молодой и веселый» приподнял пилотку.
— Волхов. Константин Сергеевич.
«Гопник», подбросив ногтем желтую монету, сказал капитану:
— Крысодавы уже в трубе. Вон травка пожженная.
Мальцев принюхался.
— Точно… Чего ж ты молчал, сявка? Ить видел и молчал. Ну, шпана, тебя стенка только жизни обучит!
Я достал документы.
— Товарищ капитан, необходимо вскрыть пакет.
— Ну, вскрывай.
— Нужно ваше разрешение.
— Разрешение! А на горшок захочется — тоже разрешение брать пойдешь?.. Ладно, давай, — сказал он, ломая сургуч. — Ты как первый раз замужем.
Почти не глядя, он сделал отметку и, напутствуя, отдал бумаги:
— Все как обычно. Сопровождаете нашу команду вместе с «плутоновцами». На вас бутафория, ну и если случится — дезертиры, бандиты, плюс обычные граждане, которые могут обнаружиться в подземелье. На огнеметчиках — прочая органика. Правда, с крысами сейчас перемирие…
У меня глаза на лоб полезли от этого заявления, но переспросить не удалось — «гопник» отомкнул дверь, отвесив дурашливый поклон.
— Добро пожаловать, гости дорогие.
Пройдя через подсобку магазина, мы очутились в каменной утробе бомбоубежища. За бункером явно присматривали. Печь-буржуйка была покрыта слоем свежей краски, в углу стопка дров, а большое ведро с кружкой на цепочке полнилось до краев водой.
«Гопник» задержался возле плаката «Изучай противогаз».
— Учи-и-ли, готовились к химобороне, аж подмышки облысели, а толку пшик. Батя говорил, прессформы для резины за золото у немца покупали.
Капитан буркнул:
— Нашел место для воспоминаний.
А по мне, место как место. Нормальный блиндаж: столы, стулья, школьная доска, пучеглазый манекен в противоипритном костюме и набор стендов «готовься к ПВХО[7]». Все по уставу: глазу упасть негде. Только радует удушенный человек с плаката — уж больно красочно изобразил страдальца неизвестный рисовальщик оборонГИЗа[8].
«Гопник» прошелся по комнате, уселся рядом и, пропев «А девочек наших ведут комиссары…», подмигнул почему-то мне:
— Верно говорю?
Ответить я не успел. Снаружи донесся громыхающий топот, и в комнату ввалилось нечто похожее на шкаф в кожаной куртке. Верзила поправил заплечные баллоны с огнесмесью.
— Мальцев, а ты чего здесь прохлаждаешься? Майор давно внизу ждет.
До этого спокойно копавшийся в бумагах капитан взорвался:
— Че ты орешь, верста валдайская! Какого хрена вы спустились, если уговор был встретиться на «грунте»!
Великан хмыкнул:
— Без разведки хочешь проскочить? А не боишься?
Мальцев медленно подошел к огнеметчику, медленно потянул его за пуговицу куртки и медленно сказал:
— Борзеешь? Начальство тебе тьфу, да? На меня опереться ногами можно, да?! — Капитан щетинился, отчего залысины перемещались куда-то за уши. — Двери ногой открывать стал, да? Может, тебе еще и денег занять?!
Амбал попятился на выход и, уперевшись в дверную коробку, звенел баллонами до тех пор, пока капитан не проорал, сотрясая бетонные своды:
— Па-а-шел вон отсюда!
Огнеметчик испарился, а злой вепрь Мальцев, рыча, понесся в дальний угол. Там он отодвинул противоипритного человека, за которым обнаружилась потайная дверь.
* * *
Первые сто метров шли по ровному бетону подземелья. Дальше бетон начал трескаться, потом дробиться в мелкое крошево и скоро дорожка превратилась в жидкое, противно хлюпающее месиво. Каким-то образом вода попала в коллектор, и теперь илистая грязь марала дно. Из кладки торчали арматурные стержни, и большого труда стоило увернуться от этих растопыренных железных пальцев.
Пройдя еще метров пятьсот, мы очутились на пятачке. Нас ждали. Недавний амбал-огнеметчик, его неотличимый напарник, и третий — майор, столь же внушительный по габаритам, но с более интеллигентным лицом, покрытым дюжиной мелких шрамов.
Они были невидимо скованы той общностью, которая делает похожими друг на друга совсем не родных, но делающих одно на всех трудное и опасное дело. Что это за дело можно только догадываться, но полтора пуда горючей смеси за спиной автоматически переводило их в категорию «награжден посмертно». Пуля, осколок или какой другой горячий кусок металла, попавший в баллон с керосином, превращают человека за две минуты в сгорающий факел. И хоронить уже некого. Даже кости через две минуты адского пламени сыпались в прах.
Седой лейтенант химслужбы, с которым я в сентябре сорок первого лежал в госпитале на Суворовском, поминал Господин Великий Новгород и подвалы его древних зданий. «Немецкий „Фламен“ дальше бьет, — хрипел накачанный марафетовой дурью седой. — Я фрицев в будку струями загнал и пожег всех. А тот сбоку зашел. Я раньше выстрелил. Только пламя короткое, а немец на сто шагов бьет». Иногда химик ругался: «В баллон парашу всякую пихают, сопло забивается. Шланг рвется — и на десять метров одни головешки». Когда наркоз уходил, лейтенант молчал, потому что смерть — строгая невеста и требует внимание только к себе одной. Бинты и марля — ее фата, а руки в прозекторских перчатках крепко держат избранника. Какие двери выведут из белого лазаретного мира? Куда приведут они? Может, смерть укроет утренним легким платком? Или судьба в фартуке мастерового выпилит тебе деревянный протез. Но может и повезти. Семиликий Ругевит[9] вытащит личное дело с черной звездой и, листая шнурованную бумагу, задумчиво мотнет головой: нет, брат, еще послужи. А потом бахнет папкой и выдаст плац-карту в окопы близ какого-нибудь волховского болота или пропуск на пароход в Невскую Дубровку[10].
Уделом этих троих были питерские катакомбы.
Еще в октябре, в тяжелые дни начала осады, Город наполнили слухи. Детали и мелочи разнились, конечно, зато на выходе этого бурлящего слухами котла было вот что: город и флот в случае прорыва немцев будут взрывать. Тогда я и услышал про «Плутон». Команда состояла из людей, обученных подрывному делу, боевым действиям в подземных коммуникациях, гидротехнике и еще сотне вещей. Подземников сразу же «искупали в чернилах» — обштамповали грифами, из которых самый детский был «совсекретно».
Для чего здесь нужны огнеметы? И вообще, чем они сейчас занимаются, если немцы дошли до рабочих окраин и там зазимовали?
Место, конечно, к романтическим размышлениям не располагает. Пробыл я здесь недолго, а пиявки страха угнездились не только под коленями, но и стыдно сказать в каком месте.
Было в этом страхе что-то от вероятного риска для жизни, немного от неизвестности и очень много от детского страха, который прячется на чердаках и под лестницами, мягко скрипит досками на потолке и только дожидается момента, когда высунешь ногу из-под одеяла.
Где-то рядом Мальцев сыпал проклятьями в сторону «плутоновского» командира.
— Горииванов, где конденсаторы? — доносилось через перебранку его возмущение. — Ты на меня не спихивай, ити его мать! Все снаряжение и карты обеспечивает твоя бригада!
Долго они еще спорили, а потом порезанный шрамами огнеметный майор, подозвал меня:
— Ты здесь поосторожней. Где скажу «беги» или «стой» — исполняй сразу. Иначе амба. Мальцева тоже слушай, его подопечные еще хуже моих будут.
Что он бормочет, какие подопечные? Не, надо чесать подальше отсюда. На воздух, к свету, к людям.
— Товарищ Горииванов, тогда мы лучше поверху пойдем, как-то привычней будет.
— Не успеете. А что будет за опоздание — сам знаешь.
— Да не знаю я! И вообще…
— Старлей, ты пакет вскрыл?
— Да это не мой пакет!
— Отставить!.. Так что, ты давай. Действуй.
Майор двигал своим заштопанным, как с обложки романа писателя-мракобеса М. Шелли, лицом и подумалось: с чего у Горииванова и у «гопника» морды кривые? Майор порезан, сявка пожжен. И что интересно: оба знакомы, как говорится, до боли.
Я немного успокоился, хоть и странно здесь. Майор говорит загадками, Мальцев торочит к поясу железную маску, какие надевают голкиперы женских команд по хоккею, «молодой и веселый» Волхов вытащил пучок цветных проводков и напряженно водит колесики на своем адском ящичке. Только двое из этой компании занимались нормальным делом: гориивановские амбалы вспоминали 1927 год, когда Ленгубсовет физкультуры отменил бокс.
Разные происшествия случались в патруле. Приходилось сидеть в пустынном Александровском парке, ожидая немецкий десант, отбивать налеты на магазины и хлебные ларьки, ловить шпионов-ракетчиков, вывозить пацанов из фэзэушной амбулатории — все они померзли, и мы грузили их трупы, как дрова. Пару месяцев в патруле зимой 41-го — и оставшиеся годы можешь провести в дурдоме на Пряжке. Приходилось даже катать морские мины у побережья, а теперь вот в городской коллектор занесло.
Хорошее место: сырость, гниль, темно и еще, наверное, крысы. «Гопник», кстати, назвал огнеметчиков «крысодавами» — занятный факт. До войны эти звери добавляли хлопот местным жителям. Помню, были какие-то байки про крысиного барона и набеги зверьков на амбары — там они сжирали все, что можно, и отправлялись к Неве на водопой, покрывая склоны серым ковром. Интересно, бродят они здесь или все уже вошли в рацион, вслед за псами и воронами?
Пока командиры совещались, я клацал фонариком, изучая незнакомое место. Плесень, кирпич и грязь. Стены в трещинах, уходящих в боковой тоннель; слепой и короткий, построенный вкрай бестолково, он заканчивался трухлявой дверью с небольшой эмалевой жестянкой. Даже заглянувший сюда Мальцев не ответил, что это за каменный мешок.
— Сколько ходили мимо, а ни разу не видели. Это старый пикет — у нас другие литеры, — он шумно затопал обратно и крикнул в темноту:
— Горииванов! Глянь сюда, охранный пикет нашли.
Майор что-то буркнул и подошел, толкая перед собой Костю.
— Смотри, Волхов, это самый настоящий пост царской сторожевой линии. Можешь замерить, глаз даю, не больше двух «дэ» будет.
— А чего ты так уверен? — скривился тот, щелкая хромированным колесиком. — По-твоему, жандармы лучше нас работали?
Горииванов пожал плечами.
— Жандармы или нет, а двести лет опыта чего-то стоят.
Он поднес горящую спичку к битой эмали.
— Гарда и болотники, одиночные, со стороны Александро-Невской лавры. О! А это что?
Подошедший сзади Мальцев долго разглядывал изображение колеса, в котором спицами были электрические молнии, и в раздумьи щелкнул ногтем по жестянке.
— Хрен его знает. Может, синодальная печать?
Сзади кто-то засмеялся:
— А зачем евреям подземная синагога?
Мальцев на удивление спокойно заметил:
— Ты, Ерохин, наглый и глупый. И если тебе повезет запомнить слово, в котором больше пяти букв, старайся ухватить его смысл. Синодальный — значит, относящийся к синоду, высшему органу русского православия.
Одако Ерохин не обиделся. Чуть ли не водя носом, он светил фонарем на «колесо», а потом сказал неуверенно:
— Надо у Горыныча спросить, видел как-то у него эти колесики.
— Ага! — Один из амбалов покрутил пальцем у виска. — Ты еще в «Скворечник»[11] пойди спроси — там профессора почище Горыныча найдутся.
Ерохин вздыбился:
— Да ты…
— Все, братцы, — капитан развел спорщиков, — через тридцать минут мы должны развернуться под сотым домом.
Впереди шла двойка «плутоновцев», потом Костя со своей «шарманкой», мы с Лиходеем за ними, а замыкал шествие «гопник». Горииванов и Мальцев постоянного места в колонне не имели, находясь в движении между парами.
Изредка Волхов останавливался, поднимая руку. Тогда все приседали, а Костя цеплял на голову черные наушники и водил перед собой искрящейся штуковиной.
Все это было чертовски занятно, только я никак не мог сориентироваться в мешанине «входящих данных». Приборы, тоннели, жестянки с церковными печатями имели для наших сопровождающих какое-то немалое значение. Я лишь двигался в общем русле, полагая, что все разъяснится по ходу пьесы. А вдруг, не приведи господь, придется действовать? Добра от этого будет не больше, чем, если бы посадили меня в штурманское кресло «братской могилы»[12], велев прокладывать курс. Вдобавок устав обязывал искать во всех точках несения службы (и в подземных коммуникациях) следы пребывания организованных преступных групп.
Место, где обнаружились такие следы, выплыло кроваво-кирпичным углом через триста метров. Приемник ливневой канализации. Большой и сильно загаженный. Что-то блеснуло в куче хлама, и я вытащил медный портсигар. Лиходей тоже стал копаться в мусоре, но последующий улов не обнадежил. Попалась рваная калоша с красным треугольником, велосипедный обод и ходики. Порывшись, нашли еще цепочку с гирькой. Костя Волхов зачем-то подергал железную скобу в стене и смачно плюнул. Лиходей изучал содержимое портсигара.
— «Борцы», — вдруг по-детски улыбнулся ефрейтор, высыпая на ладонь табачное крошево. — Довоенные. Прессовки нет, коры нет, хмеля и стружки нет. Бумага папиросная. Сто процентов довоенные, не наш клиент.
Подошел Мальцев.
— Ну, что нарыли, пинкертоны? Улика номер двести пять, таинственный курильщик из подземелья?
А Горииванов ничего не сказал, ожидая пояснений.
— Давняя потеря, — Лиходей помял сырую гильзу, — года два уж, медяшка окислилась.
Я подумал, что Лиходей здесь очень кстати. Раньше он был сержантом милиции и служил участковым надзирателем (в середине тридцатых переименованных в инспекторов) где-то на острове Трудящихся. Из органов его поперли в сороковом, когда некий ретивый политотделец выявил несходство в анкетах разных годов.
В той части личного дела, что дали мне на просмотр, я узнал, что был у него брат Василий, служивший до революции на Кавказском фронте в корпусе генерала Баратова. Лиходей писал во всех документах, что погиб Василий под Хамаданом в 1916-м году. После воссоединения Прибалтики на белоофицерском кладбище обнаружилась табличка «Лиходей В.П. Артиллерии поручикъ 1892–1920», и хотя Лиходей С.П. ничего не знал о Лиходее В.П. с октября семнадцатого, ему поставили диагноз «политическая близорукость» и уволили без выходного пособия.
Зато у нас он был не только как патрульный, но и знал толк в черновой оперативной работе. Комендатура состояла больше из армейцев, поэтому любой человек из милиции города ценился. Милиционер он хоть и бывший, но мастерство не пропьешь, с таким помощником не так тоскливо. Мало того, что за действиями огнеметчиков и мальцевской тройкой приходилось следить, открыв рот, я и свою «оперативно-комендантскую» задачу понимал только в общих чертах. Крепко подвел Агафонов своим ранением. Его инструктировали, как положено, а наш патруль сунули сюда впопыхах, как заплату на валенок.
Легко попасть в ненужное место. По своей ли воле, по злому ли умыслу или просто выполняя приказ. Какая разница? Просто, в одном случае будешь себя ругать, в другом — судьбу, а в третьем — начальство. Но итог всегда один: швырнет о камни, да так, что жив едва останешься, и все твои чувства уместятся в одной фразе: «Во попал!»
Привал устроили, когда миновали узкий коридор — всего полтора метра высотой, — где пришлось идти на полусогнутых. Ходьба гусиным шагом порядком измучила гориивановских ребят с их опасным грузом.
Мы расположились невдалеке от могучей трубы, проложенной рядом с выходом из тоннеля. Куда и откуда она тянулась, никто не знал. Мальцев пожал плечами на мой вопрос. Кто-то видел ее в районе обводного канала, где-то за Площадью Диктатуры, а Горииванов, дымивший самокрутку на баллонах с керосином, вспомнил, как месяца два назад хотели расколоть эту трубу, но молот и лом отскакивали от гулко звенящего чугуна; и автоген не помог, а устраивать взрывные работы в подземелье, конечно же, не стали.
«Гопник» рассказал, как возле какого-то дома ремонтировали мостовую, и строители вытащили здоровенную железяку неизвестного предназначения. И все легко поддержали разговор, избегая реальности. Видимо, подземелье угнетало не только меня, а и конкретно каждого из присутствующих. И то вдохновение, с которым Горииванов расписывал потуги специалистов «Плутона» найти в архивах чертежи загадочного инженерного сооружения, было просто иллюзией пребывания в том мире, где люди ходят по улицам, где светит солнце и весело звенят трамваи.
Двинулись дальше. Шли долго, цепляясь за сочившееся ржавой влагой железо. Остановились у стены, на которой фосфорной краской было написано:
«Сержант Полозов 1918–1942»
Обнажив головы, стояли молча. Я спросил майора:
— Это что, его могила?
Гориивановская длинная тень чуть шевельнулась.
— Здесь не хоронят. От него почти ничего не осталось.
Не стал я пытать, что и почему. Место, где от человека осталась пара пуговиц, и пряжка от ремня, выглядело жутко и устанавливать истину о произошедшем я не стал. Лучше не брать дурного в голову и закрыть глаза на подземные кошмары. Вот уж название осназовцам подобрали — «Плутон», царство подземного страха.
За какие-то полчаса я сильно устал и что хуже — потерял ориентировку. Пугали мрачные своды и тесные лабиринты в грязных потеках. Давили угрюмые стены, поросшие лишайником. Темень и слякоть. В чью дурацкую голову пришла мысль о бандах, прячущихся на дне, если в самом городе так много потайных карманов, что можно упрятать в них гопстопников со всего союза, да еще и место останется?
— Сейчас перейдем вон те трубы, — Горииванов показал на переплетение унылых железяк, — и, считай, на месте. Отдохни пять минут.
Я присмотрел мягкий на вид бугорок около изъеденного сыростью ригеля и подложил под голову противогаз.
Перед глазами все поплыло. Сначала, как будто дерябнул пару пива, легкий шум и все такое-прочее, потом повело сильнее и уже не хотелось подниматься. Поспать бы часа три-четыре… Мальцев не даст. Трескучий он, как будильник. А здесь славно. Только запашок сладковато-микстурный, смазанный чем-то прелым.
Я чихнул. С пола взлетели белые парашютики, усилив прель. Хм, нормально пахнет. Мне отчаянно захотелось подвинуться ближе к дурманящему источнику, но это оказалось не так просто. Попытавшись оторваться от пола, уперся каблуками в бетон, взмахнул руками, цепляя ладонями землю. Все без толку. Зато окружающее предстало в ином свете. Например, стены, ранее скрываемые темнотой, обрели мягкие контуры. Там прятались плюшевые зверьки, махали крыльями голубые бабочки и садились на оранжевую траву.
Я начал их считать. Сбился. Опять начал.
Все, не могу — глаза слипаются. Спать прямо здесь буду до синих мух и шума в голове. Так спят медведи в своих берлогах. Надо лишь подвинуться ближе к пряной волне, бьющей из стенки. Такой же душок, помню, издавали диковинные плоды, привезенные из далекой республики Эль-Сальвадор дядей Гришей Степановым, механиком торгового парохода «Меч Октября». Да, тот же запах, только с добавкой грибов… Голова, зараза, тяжелая, будто кто свинцом зафуговал.
Я попытался доползти к мухомору-невидимке, стреляющему белыми парашютиками. Повернуться удалось — набок или на спину я долго не мог определить, пока не закололи предплечье маленькие пузырьки. Вытащив затекшую руку, я шлепнул по земле. Пальцы воткнулись в какую-то дрянь, невыносимо отвратную даже на ощупь. Е-мое, это ж крыса! Дохлая. И уже давно — гнить начала. И еще рядом. И там, чуть дальше. Везде раскиданы гниющие тушки. Волна отвращения побежала по телу. Я подскочил, но все вокруг предательски закачалось, пол дрогнул, толкая к стене, обросшей чем-то бархатно-зеленым и шевелящимся в радостном предвкушении; но Мальцев все-таки удержал меня, схватив за воротник шинели. Понял суматошный капитан, во что я попал. Понял, каким-то шестым или седьмым чувством. А Волхов держал меня за волосы и слепил фонарем, отыскивая «красновато-бурые или коричневые вкрапления на кожных покровах лица». Ничего не найдя, закачал для профилактики лошадиный шприц масляной жидкости, а потом шлифовал мне лицо и руки белым порошком до такой степени, что почувствовал я себя судовой рындой. Да ну и пусть. Лучше светиться медным колоколом, чем зеленеть прикормкой этого вонючего ягеля.
Крепко влетело мне за этот привал. Майор Горииванов глядел, будто я обесчестил его дочь, Мальцев выстраивал многоэтажную тираду и даже молчаливые огнеметчики глухо матерились. Только вся эта ботаническая суматоха отодвинулась на второй план — послышалась автоматная очередь и тут же влетел очумевший «гопник»:
— Атас, мужики! Крысы!
Горииванов резко поднялся.
— Ты чего несешь, ляпало?
— Гадом буду, крысы. Стадом прут! — «гопник» скороговорил, часто оглядываясь назад. — Здоровые, как свиньи! Ефрейтор, мудак лягавый, из автоматаих шуганул. В клочья! Валить надо.
Все побежали. Командир «плутоновцев» рысил, прокладывая курс; за ним Мальцев, замыкающие огнеметчики переместились в голову колонны. Перед каждым поворотом майор светил в черноту, а его ребята держали проход под прицелом.
Над ухом рявкнул Мальцев:
— Надевай шлем!
— Какой шлем?
— Как на мне!
Я обернулся.
— Нету такого…
Но капитан в железной маске уже побежал, отчаянно махая мне рукой. В темноте слева стремительное и грозное движение напомнило сход лавины, я вскочил и понесся за Мальцевым.
Хотя бежал я очень быстро, на очередной развилке Лиходей обогнал меня, мотыляя стволом «ППШ».
Оставалось лишь молиться, чтобы автомат случайно не плюхнул в меня свинцом.
Стрелок, мать его! Какого рожна понадобилось дразнить ему крыс?!
Низко гудящая от топота сноровистых когтистых лап, острозубая и беспощадная серая масса не отставала. Я больше не оглядывался.
Промелькнуло несколько боковых коридоров, и мы выскочили на бетонную площадку, в дальнем углу которой торчали вбитые в стену одна над другой железные скобы. Лестница! Наверху болталась полуоторванная железная дверца, а прямо над головой резиновая подошва «гопника».
— Быстрей, пехота, мать твою… — азартно выругался Гориванов, после чего длинная струя из его огнемета прогудела сверху, додав копоти и вони.
А я быстрей не мог — остропалая железяка пропорола рукав у плеча, держа крепко и намертво, не давая сделать шаг вверх.
— Ну че, инструхтор, влип?
Немыслимым образом изогнувшись, «гопник» осклабился, направляя в мою сторону острие «финки». Я вспомнил этот нож, вспомнил его хозяина и понял, откуда этот Ерохин помнит меня.
Мы встречались один раз, весной сорок первого, когда я на три дня приехал в Ленинград и, спеша к Астре Далматовой, столкнулся с ним в подворотне.
Глава 3 Инструктор снежной королевы
О том, что на свете есть девушка с именем Астра, я узнал почти два года назад, когда был добровольным инструктором в летнем лагере ОСОАВИАХИМа[13].
К этому времени я имел университетский диплом, перспективу на перспективную работу и зияющую прореху в личной жизни. КрасиваяОльга, на которой я хотел (и давно обязан был, как порядочный мужчина) жениться, вдруг дала задний ход. Милые маленькие ссоры переродились в тягучее заедание по пустякам, объятия у дверей сменило вежливое «заходи», а совместное ожидание счастливого будущего как-то сошло на нет. Его место заняло ощущение глупого хихиканья за спиной, поэтому, когда на мой адрес пришло письмо с «уведомлением», я даже обрадовался. Уведомление сообщало, что я, как закончивший в 1934 году курсы стрелков-инструкторов, обязан пройти переаттестацию. К возможной разлуке Ольга отнеслась спокойно и, раздосадованный этим равнодушным пожатием плеч, наговорил я тогда много лишнего.
Отчаянная злость схватила направление инструктором в загородный лагерь и выбросила меня на станции недалеко от городка Песочный. И только в лагере, оформляясь и получая допуски, пришел я в себя. И томительную безвестность смыла вскоре ежедневная суета выдачи стрелковых ведомостей и подсчета дырок в «яблочках».
Иногда после «отбой-горна» я отмыкал недостроенный тир и садил из трехлинейки по списанным мишеням. Мишени были в германских шлемах (после договора с Германиейих категорически не использовали, но завхоз держал их на всякий случай). Когда попадалось окно в занятиях, шел на берег тихой речки, где обсасывал подробности наших размолвок.
Что-то стояло за пустячными скандалами. Богатого опыта в этих делах у меня не было, однако ощущение холодного стекла под пальцами вместо привычной податливости озадачивало сильно. Убаюкивая себя возможным примирением, я все время чувствовал в груди осиное жало, щепившееся с противным дзиньканьем: «уйдет, уйдет, не любит, уйдет».
Вспоминалась Ольга прежняя и Ольга нынешняя — теперь она старалась держаться в стороне, недоуменно пресекая то, в чем совсем недавно охотно принимала участие. Этот странный разговор по телефону, с лязгом положенная трубка и быстрая, как хлопок, смена интонации: «есть такие люди, которые могут звонить мне в любое время».
«Страданиям молодого Вертера» положил конец приезд Вальки Зворыкина.
Приезд сопровождался скрипением кожаных ремней, матовым блеском кубиков в полосатых петлицах, маханием габардиновых рукавов и ворохом новостей: на флоте и в армии отменяют положение о военных комиссарах, ГОМЗ[14] делает новые фотоаппараты «Смена» (Валька был страстным фотолюбителем), Данилов выиграл первенство по борьбе, в «Гиганте» идет новая кинокартина «Большая жизнь».
— Видел твою красавицу. — Зворыкин Ольгу не одобрял, называя ее не иначе как «красавица с острова Люлю». Он пошкреб затылок и, надев зачем-то фуражку, сказал решительно: — Знаешь, буду без дипломансов. Не нравится мне такое. Видел ее в Александровском с а д е под ручку с одним капитаном.
— Какой еще капитан?
— Летный. Старков его фамилия.
— А ты что, его знаешь?
— Нет, просто его карточку в окружной газете печатали, в рубрике «Сталинская вахта».
— Ну и что. Видел он! Мало капитанов, что ли, в Питере. Может, они в порядке дружеского общения! Или в Русский музей шли.
Валька царапнул на фуражке «звездочку».
— Андрюх, я тебе не мама и вопрос этот решай сам. Но, как твой друг, предупреждаю: хорошая девушка в отсутствии жениха не станет чесать вдоль Грибоедовского канала под ручку.
Зворыкин наподдал сапогом попрошайничающему коту и добавил:
— Ты, Кочерга, не обижайся, но, кажись, отбой тебе по всей форме.
Валька вспомнил мое давнее прозвище из беспризорного детсва, значит дело было плохо. Отвернувшись, я смотрел в окно. Ветер качал мокрые осины, шел дождь, и стало так гадостно на душе.
— Как его звать?
— Старков. Вадим Старков.
«У вас тоже вместо сердца пламенный мотор, Вадим», ― вспомнилась фраза из т о г о телефонного разговора. Значит, он. Значит, все началось еще тогда, в марте, а все ее нелепые обиды и обвинения всего лишь осколки разбитого чувства!
Ехать. Немедленно ехать к ней, пока не поздно.
Я побежал искать начальника лагеря. Еделев дал сутки на устройство личной жизни и разрешил позвонить через служебную литеру.
— Але, але! Галина Аркадьевна, дайте, пожалуйста, Ольгу!
После короткого разговора я медленно вышел на ступени. Валька ждал меня и курил, роняя пепел на рукав серой танковой гимнастерки.
— Понимаешь, Валька, есть, оказывается, такой человек, который ей нравится…
Вернувшись в летний домик, мы долго сидели в темноте. Керосинку зажигать не хотелось. Странно, но было почему-то легко, будто тяжелый мешок сбросил на дальнем переходе. Давящая тяжесть последних недель исчезла, уступив место комку, жгущему в груди. Этот огонь я заливал Валькиным коньяком.
Зворыкин ехал к новому месту службы, в Прибалты, и набрал с собой много разной чепухи — на всякий случай. Горек был тот коньяк. Мы глушили его в мокрую августовскую ночь, и табачный дым стоял туманом. Мой друг отгонял дым рукой с тлеющим огоньком папиросы. И мы говорили. О будущем, о близкой войне, о танке КВ, который девять немецких танков укокает из пушки, а десятого раздавит гусеницами. Я справлял поминки своей любви, а Валька, обхватив шею, стучал головой мне в лоб:
— Наплюй, Андрюха, пусть к черту летит со своим капитаном. Ты завтра же себе лучше в сто раз найдешь!
Если б знал он, насколько был прав. Не на следующий день, а уже через три часа я шел по дороге, ведущей к недосягаемому пьедесталу в снежных облаках…
Правда, сказать, что ступил на путь в белом костюме, откидывая рукой непослушную прядь, не могу. За эти три часа мы успели хорошо надраться. За коньяком ушла бутылка «Солнцедара», потом пошел самогон, потом мы что-то пили в пристанционном буфете, и на поезд героя-танкиста мне пришлось грузить с помощью усатого железнодорожника.
Зворыкин отбивался, ругая усача «масленкой» и, зависнув на поручнях, орал в небо: «Пролетит самолет, застрочит пулемет, загрохочут могучие танки». Андрюня!.. мы их… мы всех… пусть только сунутся… в мелкую крошку!
Ухнул паровоз. Повез моего друга на запад. Там у границы стоял мехкорпус, в одном из полков которого Валька будет командовать батальоном.
Путь в лагерь был долог и тернист. Я падал, цеплялся ногами за чвакающие бугорки в мокрой траве. Потом кто-то пихнул меня в дерезу, и пришлось отдать пол рукава колючему паразиту.
Тропа оказалась утыканной березняком, ветки били по глазам, в ноги бросались поваленные бревна. Удивляясь обилию возникших препятствий, я забредал все дальше в какие-то хвощи и папоротники, пока не заблудился окончательно.
Идиотизм полный! Вчера только проводил занятия с курсантами по ориентированию на местности. Эдакий умный дядя: «Здесь, товарищи стрелки, мох, значит, север там». «Марш-бросок на пересеченной местности это, понимаете, не шутки!» Ага. Кто бы мне сейчас рассказал лекцию о преодолении сильно пересеченной местности в состоянии алкогольного опьянения. Да еще с форсированием болота.
Я предался унынию. Ну, в самом деле, ― теряю невесту, лучший друг уехал черт-те куда, заблудился в лесу, да еще кусают здоровенные, как бомбовозы, комары. Попытался крикнуть, но вышло какое-то булькающее кваканье. Естественно, никто не отозвался, за исключением туземного нетопыря, который сразу же нарочито громко захлопал крыльями, создавая невозможные условия для отдыха. Пришлось оставить уютную кочку и брести дальше. Только вот куда? Лес тянулся на десятки километров до старой финляндской границы и не дай бог забраться в эти чащобы — с фонарем не найдут. Я помнил, что станция расположена точно к северо-западу от лагеря, но это мало чем помогло. Северная звезда была затерта облаками, а попытка вглядеться в небо закончилась кувырком в лужу. Перевернулся на спину, лежу.
Красиво августовское небо. Кроны деревскрывают тучи, мигают редкие звездочки. Показался месяц, потом второй, и я осознал, что пьян вдрызг. В этой мысли утвердил легкий смех невдалеке. Кто-то был рядом. Собрав остаток сил, удалось встать и вылететь на тропу, посередине которой застыл мощный ствол.
Мне стало не по себе — ствол вдруг исчез, и появился ярко-красный зверь. Стояли вокруг него ведьмы и кормили еловыми ветками. Только были они почему-то в тренировочных шароварах и с цветами в головах.
«Вот он!» — атаковали ликующие голоса со всех сторон. «Медведь! Кто твоя невеста?» Мне завязали глаза и стали вертеть, подталкивая руками. Потом они замолчали и разбежались — слышно было, как удаляются шаги. Я сорвал повязку и, пытаясь остановить качающийся горизонт, споткнулся и упал на простертые руки сероглазой ведьмы…
Полностью прийти в себя удалось лишь к утру. Изредка мелькали вспышки просветления с обрывками разговора, но кто дотащил меня в лагерь — не помню. Уверен только, что они добрые славные парни. Принесли в дом, уложили спать и оставили на тумбочке полный котелок воды.
Натянув гимнастерку и ощупав карманы, я растерялся — кошелек с деньгами, ключи и удостоверение инструктора ОСОАВИАХИМа исчезли. Деньги ― ладно, тем более, что пропили мы их почти все. Помню, Валька стучал в окошко железнодорожной кассы и требовал отправить телеграмму в три слова «приготовьте сто рублей». Ключи, по-моему, я положил в пустой кошелек, есть шанс, что оставил в буфете. А вот удостоверение — это плохо. Могут из лагеря выпереть, если Еделев узнает.
А Еделев явился, как чёрт из табакерки. Читал нотацию, ударяя кулаком, возмущенно махал руками, но… Под конец речи кинул армейскую флягу. Первач! Похмелье не числилось в моих бедах, но жест начлагеря был дорог.
В понедельник я вступал в обязанности, которые начинались около 10–00. Судейство. Поэтому с утра на полигон тащиться было незачем, и к началу работы я выглядел не хуже остальных инструкторов. Вот только фраза «траектория движения пули» не задалась, и пришлось заменить ее на «линию полета». А так ничего. Временами, правда, желудок мстительно подбирался к пищеводу, но я регулярно гасил его водой.
Говорят, что в таком состоянии время идет медленнее. Не верьте. Оно вообще не идет, застывая липкой резиной на дне каждого часа. Казалось, что столетняя война была короче трудового августовского понедельника. Стрельбы — Матчасть — Планерка — Опять стрельбы — Упражнение «5+20» — «Дебет-Кредит» — Политзанятия в вечерней школе инструкторов.
Но даже политзачеты когда-нибудь проходят. Наступил вечер, когда я пошел сдавать ведомости учета расхода боеприпасов и в дверях столкнулся с какой-то девчонкой. Ведомости разлетелась по коридору. Девчонка ойкнула и бросилась собирать бумагу. Очень уж не хотелось мне сгибаться — шум в голове, да и желудок пошаливал. А она, присев на корточки и прижимая к груди бумажный ворох, сказала полуобернувшись:
— Я сейчас, я быстро все подберу.
И полуоборот этот и быстрый взгляд из-под рваной челки очень скоро стали меня жечь. Нет, мое сердце не пронзала молния, и толстожопый Амур не стрелял коварно из-за угла. Просто кончики пальцев занемели, и тугая волна перекрыла дыхание.
Наверное, по сто раз на дню приходилось встречать раньше это чудо — и ничего. А сейчас вдруг ее необычная внешность приковывала к себе, как магнит. Черные волосы клиньями, белая, белая кожа, и вместо полагающихся в таких случаях «очей черных» — глаза серо-стального цвета, цвета ледяного балтийского неба.
И еще она отличалась от своих подруг, не становясь при этом белой вороной. Девчата прислушивались к ее мнению, я замечал. Парни тоже не обходили стороной, однако предпочитали все же общество сверстниц более понятных. С теми можно было купаться, шутить, дурачиться, назначать свидания. Даже целоваться, наверное. С ней нельзя. Причем не из-за напускаемого ломания, а вследствие чего-то идущего от самой сути.
Что делать? Собирать листы рядом с ней? Стоять на месте? Подойти? Нет, подойти боязно. Я казался себе носорогом возле хрустального колокольчика и, вцепившись в стул, боялся даже моргнуть.
Пачка бланков была мне протянута со словами:
— Вот, Андрей Антонович, возьмите.
— Да-да, спасибо… э-э… Роза.
— Я Астра. Астра Далматова.
— Очень приятно. Андрей. Андрей Антонович.
Астра улыбнулась.
— Я знаю.
— А! Ну да. Ты, наверное, ищешь Полтавцеву?
— Нет, я жду вас.
Это было уже слишком. Стрелы из глаз и откидывание челки я мог еще вынести. Это ― нет. Я не заслужил того, чтобы меня ждала принцесса.
— Зачем?
— Вы вчера удостоверение потеряли.
— Я?
Отведя глаза, Астра молчала.
— Потерятелось… терерялось… тьфу! Я обронил его где-то, Оля!
Астра всё молчала, но теперь это молчание сделалось осязаемым. Его можно было грузить лопатами и развозить на телегах. Стремясь облегчить свинцовую обстановку, я начал рассказывать, что потерял дорогу, сбился, опять начал. А ей, видать, надоела моя мелкая суетливость, и принцесса сказала:
— Меня зовут Астра.
Я раз в пять сильнее засуетился, желая только одного: скорее все объяснить, чтобы она не ушла, не поняв.
— Я… Мне… Я слышал… это… значит…
Сжалившись, Астра сказала, что я мог недослышать.
— Вот-вот, — обрадовано закивал я. — Недослышал!
Улыбнувшись, она спросила:
— Так вы зайдете к нам забрать его?
— Ну, конечно, Астра! — Я еле удержался, чтоб не схватить ее за руки. — Я сейчас спихну эту бухгалтерию, и все.
Оставалось только уговорить Советку Полтавцеву отнести мои бумаги, но по дороге я был перехвачен комсоргом Жуковым и препровожден в красный уголок. Оказалось, что приехал товарищ из горсовета ОСОАВИАХИМа, ответственный за проведение стрелковой спартакиады.
Уполномоченный направлял нашу деятельность в какое-то русло, чертил схемки зеленоватым крошащимся мелком, вскрывал недостатки и тут же намечал пути их устранения. Потом на трибуну поперся начлагеря, потом комсорг Жуков обещал повысить общий процент попадаемости и, взывая к бдительности, поминал «еще живые тени врагов народа». Завели разговор про заводы, не отпускающие рабочих в снайперские школы…
Уже стемнело, пошел дождь, с громами и молниями, а вся эта говорильня продолжалась. Я попытался улизнуть, но начальник лагеря пришиб взглядом к стулу и сделал такое страшное лицо, что пришлось выдавать неловкую попытку за желание сесть подальше от окна. Когда «народный хурал» наконец окончился, я сразу убежал под прикрытием вставших разом инструкторов. Еделев не смог меня задержать — орать через головы в присутствии ревизующего товарища не решился.
Я выскочил на крыльцо.
Астра стояла под деревом, подняв к небу лицо. Прям беда с ней.
— Ты чего тут? Сейчас молнией бахнет — и тю-тю.
— Меня не бахнет, Андрей Антонович. Я вас жду.
Проклятье! Ну как ей, дурочке, объяснить? От избытка чувств я чуть не сказал ей что-то «эдакое». Надо себя в руках держать, а то бухну вдруг «милая» или вообще «любимая». Голову при ней я теряю, факт. Поэтому сказал, как можно строже:
― Курсант Далматова, вы промокли и замерзли. Возьмите мой пиджак.
Мне пришлось укутать снегурочку и отвести в инструкторский домик, в комнату Ветки — до палаток девчонок было около полукилометра.
Продрогла Астра изрядно. Хотя девчонки в нашем лагере неженками не числились, любую физкультурницу схватит пневмония, постой она пару часов на холодном ветру. Ее надо переодеть в сухое и натереть спиртом. Которого, правда, нет, зато есть похмельный самогон. И комплект чистой байки. Но как это сделать? Только от одного ее присутствия голова чумная, а надо как-то сказать: «раздевайся да ложись в постель».
Я опять нацепил маску сурового отца-инструктора и стал рубать команды: «Переодевайся вот в это, укрывайся вон тем, растирайся вот этим».
— А этим, это чем?
— Это?… м-мм… ― Я помахал в воздухе рукой. ― Это спирт.
Девушка подозрительно скосила глаза на мутное стекло фляги:
— Он больше похож на самогон.
— Ну, самогон. И ладно. Ты ж растираться будешь в профилактических целях.
— А я им буду пахнуть!
— Далматова! Тебя здесь нюхать никто не будет.
— А вы?
— А я пойду и принесу чего-нибудь горячего.
Астра откинула назад волосы и начала стаскивать рубаху. А я, ошпаренно выбегая, был остановлен ехидным вопросом:
— Товарищ командир, а как мне растереть спину?
Боясь повернуться, ответил удушено:
— Руку там… выверни посильнее, — и вывалился в коридор, сопровождаемый тихим смешком.
В коридоре, где я отдыхал, пытаясь придти в состояние близкое к норме, осуждающе глянул на меня с плаката «Механизация РККА» нарисованный красноармеец: мол, что это за сердечные знакомства в учреждении содействия обороне?! Тебе-то что, подумалось, махай себе флагом на броне, а мне что делать с этой вот… Мэри Пикфорд? Ведь сообразила, что я на нее не надышусь, и теперь будет чесать мелкой гребенкой. Девчонки это умеют. Легко! Махнут пальчиком, и взрослый мужик начинает бегать, как Барбос на выгуле. И самое в том ужасное, что я был бы счастлив прыгать около Снегурочки, приносить ей брошенную палку, и, заливаясь идиотскимлаем, крутить хвостом. Но не мог. Она сильно младше меня, может, еще в школу ходит. Кроме того, здесь в лагере она человек, за которого я отвечаю. Подопечная единица, так сказать. Хорош будет инструктор. Впрочем, не будет.
Чай мы пили с маленькими треугольными вафлями, найденными в тумбочке Ветки Полтавцевой, моей подружки детства и по совпадению коллегой. Астра сказала, что утерянные мои документы в её палатке, и что вчера ночью они с девчонками гадали на женихов по какому-то немыслимо старинному гаданию. Что ей выпало быть заколдованной принцессой, которую должен поцеловать жених — медведь из леса, — тогда чары спадут. И тут из леса выпал я.
— Так, значит, ты настоящая принцесса? — сказал я, любуясь Астрой.
— Это легко проверить, — ее зрачки по-кошачьи сузились. — Вы поцелуйте меня.
— Т-ты, спи давай. Десять часов уже, а ей целоваться на ум пришло!
— А что, в десять нельзя целоваться?
— Я тебе устрою тебе завтра! Пока мишень в яблочко не «поцелуешь», со стрельбища не уйдешь.
— Андрей Антоныч, вы где живете?
— Как где, в Ленинграде!
— Не, я знаю, что не в Торжке. В самом Питере, где?
— На Арсенальной.
— И что, арсенальские все такие?
— Какие такие?
— Такие, которые девушек боятся!
— Тебе, «девушка», в куклы еще играть! Или в этих… в пупсиков.
— Много вы прям знаете! — Астра по-детски обиделась и отвернулась к стене.
— Астра, ну хватит. Уже действительно поздно.
Из-за подушки донеслось:
— Мне в палатку надо.
— Я доложусь начальнику лагеря и Совете Полтавцевой скажу, что ты промокла и здесь. Возьми вот градусник.
— Не буду!
— Возьми.
— Не буду я мерить вашу дурацкую температуру!
— Астра, не капризничай. Бери термометр, а я пойду, скажу, чтоб тебя не искали.
— Ну и идите.
Положив стеклянный цилиндрик на табурет, я укрыл Астру еще одним одеялом и ушел. Спи, принцесса.
* * *
Вторник стал днем вития веревок и вытягивания жил. С утра принцесса обосновалась в шумной группе стрелков, и мои попытки вытащить на разговор имели успех не больший, чем старания угрюмого юнца попасть на день рождения школьной красавицы. Вот кино! Уговаривал себя держаться на дистанции, а увидев Астру, обо всем забыл. Что-то происходит в голове. Наверное, химические процессы, ферменты всякие. Только куда эта химия заведет? Вон хихи-шушукания за спиной растут. Надо выходить из боя. Девицы здесь не промах — на подначках устанешь спотыкаться. В общем, плюнул я на это дело и пошел чистить винтовку.
В оружейке народу было немного. Тройка лиговских пацанов, студент-очкарик и толстая девушка со значком «Готов к санитарной обороне». Через всю стену был продернут кумач: «УМЕНИЕ ВЛАДЕТЬ ВИНТОВКОЙ — ДОЛГ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА СТРАНЫ СОВЕТОВ!», а ниже висели плакаты, помогающие овладевать этим умением. Студент, слабо ориентирующийся в тонкостях устройства Мосинской трехлинейки, водил носом по схеме. Бедняга не первый раз собирал оружие, однако никак не мог избавиться от лишних деталей при сборке. Вот и сейчас очкарик пятый раз мазал в баллистоле пружину, думая, как ее можно пристроить в уже собранную винтовку. Один из парней посоветовал заправить ее в ствол.
— А как будет осуществляться функция выстрела?
— Ну как? Опустить патрон в дуло, нажать на крючок, пружину сожмет и патрон полетит.
— Нет, думаю тут иначе, — задумчиво протянул неумеха, — думаю, что пружину надо засунуть в другое место.
— Ну, тогда засунь ее себе в жопу, — сказал другой хулиган и все трое заржали.
Эх, как взвился очкарик! Даже кулаком стукнул в доску.
— Не смейте так со мной говорить! Я вам не какой-то там! Распоясались, негодяи!
Пахнуло бальзамом интеллигентских руганий на лиговских, и пацаны, уморенные ворошиловским режимом, ненадолго окунулись в родную стихию. Они стали теснить оскорбителя к стенке мягкими полудвижениями, как злые коты из страшной сказки.
Пришлось вмешаться:
— Эй, там! В чем дело?
Атаман лиговских снял пальцы с чужого пиджака:
— Дело в том, что сильно умные лезут в чужие разговоры, а потом долго кашляют.
— Может быть. Но если я, хотя бы чихну, ты, дружок, завтра поедешь домой.
Вздыбившись, парень двинулся в мою сторону и я уже приготовился к худшему; но один из лиговских встал между нами, высоко подняв пустые руки.
— Командир, наш друг сильно устал, поэтому хамит, доставляя неприятности окружающим. Мы извиняемся и уходим.
Слава богу, они убрались, а остатки тягостной атмосферы вышибла куча пионеров. Эти бандиты обосновались в лагере только два дня как, однако успели надоесть всем. Лишь мученики-вожатые терпеливо сносили их.
Комната сразу превратилась в муравейник. Детки грохали железяками, пихались у стены, сбивая плакаты, бегали. Двое шустряков размотали кумачевую штуку и принялись ее торочить, вбивая прямо в стену сотые гвозди.
— Это что за безобразия!
Голос оружейника Феди Зеленого пригнул детвору, словно ветер — камыш. Федя еще рявкнул, и рык этот ударял молотом в пионерские головы, корча окружающих в немом столбняке. Даже плакатный гвоздь выпал из стенки.
Молодая поросль, однако, распрямилась быстро и две мигом построившиеся колонны выдвинули в центр комнаты делегата. Краснощекий пухлый пионер вскинул руку-сосиску, жизнерадостно завопив:
— Товарищ дядя Федя, пионеротряд имени Кагановича выстроен для прохождения занятий по стрелковому делу!
Зеленый добродушно булькнул:
— Так-так, это уже лучше.
Дядя Федя был толст, носат и похож на старорежимного борца-тяжеловеса, какие раньше были в цирке. Вообще, если честно, раньше он был бандитом. Беспризорничал, связался с уголовным элементом и к тридцать четвертому году имел три судимости плюс побег. А потом вдруг «завязал».
Тогда проводилась компания по перевоспитанию блатных, и получил Федя от государства белую анкету, паспорт и настоящую фамилию — Кузнецов. Живи и радуйся жизни, как всякий нормальный гражданин. Бывшие дружки-подельники из банды Косого хотели посчитаться, но, во-первых, «отступник» мог убить кулаком быка, а во-вторых, сам Миронов, замначальника 22-го дивизиона[15] милиции, пообещал главарю банды, что тот сменит прозвище на «Слепой», если будет замечен ближе, чем за сто шагов от медвежатника-расстриги. Миронов считался товарищем серьезным и, кроме того, советская власть «держала мазу» по выражению уголовников, за тех, кто вступил на светлый путь.
Так что, работал механик завода «Электроаппарат» Кузнецов без оглядки, имел сына лет четырех и от языкатой своей Татьяны сбегал на все лето в лагерь. Здесь он тоже возился с разной механикой, точил железо и, понятно, ведал матчастью. А еще Федя гнал немыслимо крепкий самогон, угощая им Еделева да круг симпатичных ему людей.
Я тоже был в этом круге. С того момента, когда Зеленый вдруг заинтересовался историей. Вернее, не историей даже, а томиком Римана. Обмахивая Рихардом Ф. Риманом потное лицо, оружейник почему-то заглянул в содержимое книги. Одолев около страницы, Федя, хмуря брови, спросил, на кой ляд мне «эта киноварь». Получив ответ, он совсем помрачнел и удалился, прихватив книгу с собой.
В течение дня от Зеленого мчались гонцы с вопросами на бумажках (типа, что такое артефакт), а на другой день, дядя Федя пришел сам. Обернутый в газету Риман был торжественно возвращен, потом из баула извлечен был фирменный напиток и за второй стопкой понял я, почему Федин самогон прозвали «ударник».
Мы по-доброму приятельствовали. Зеленый оказался неглупым человеком, наблюдательным и многое повидавшим. Заметил он и мои павлиньи хождения.
— Страдаешь? — спросил Федя, развешивая только что принесенные плакаты с различными видами запальных трубок.
— Чего ради?
— Да ладно, я ж наблюдаю, как ты за девчушкой этой, Далматовой, вяжешься. Как, брат, нитка за клубком.
— Ну, есть немного.
— Хм. Было б немного, ты б тогда пиво в буфете дул. С раками, — оружейник пыхнул облаком свинцового дыма. — Чего ты в ней рассмотрел? Худющая, как чалка.
Внезапная куча «юных ленинцев», перебивая друг друга, обступила Зеленого:
— А сколько мертвое пространство у танка? А какой прицел берут на самолет? А на пристрелку винтовки?
Разобравшись с «головорезами», он посоветовал:
— Вон, Ермак Наташку лучше за дойки потягай.
— А тебе, Федор Иванович, если дама поменьше трех обхватов, то и не женщина. Плохо от такой не будет?
Федя бормотнул тихим смешком и, ковыряя лунку для чинарика, ответил:
— От хорошего плохо не бывает. Вон грек твой что написал: «древние эллины воспевали здоровых женщин, способных к многократному деторождению». А греки, брат, это… сам понимаешь!
— Да ну! Греки, брат, женщин только воспевали, а в «этом деле» больше пользовали друг друга.
— Э-кг-хм… Ведь какие мужики серьезные были, полмира завоевали, а вот на тебе… — Зеленый вздохнул, сокрушаясь о древних, но тут-же перешел к более животрепещущим делам.
— Тут другое, студент. Я видел много, так что послушай доброго совета: беги. Она дама крестов, барышня эта. И скоро за нее мужики на части рвать будут друг друга. А ты, если хоть на один узелок с ней завяжешься, то уж до гроба. И любить не будет, и прочь гнать будет, а ты все одно, как дурной налим, за светом поползешь.
Федя встал, сморщил красный, в прожилках нос и предложил тяпнуть «по сто». В подсобке, за железной решетчатой дверью, было прохладно и темно. Стоял там длинный ряд запертых шкафов, единиц в семь, чье содержимое было знакомо только оружейнику.
Черт его, что он там держал, может, просто отмыкал закрытые замки, разнообразя досуг, не знаю. Самогон, во всяком случае, там не хранился, — мутная бутыль стыдливо пряталась под рогожей в мятом ведре. Рогожное одеяло светило дыркой, в которую пролезло стеклянное горлышко.
После первой, Федино лицо поплыло бугристым добродушием помидорного цвета. Щеки начали обрастать ямочками, подбородок наливался, как у брачного жабона, и еще казалось, что вот-вот сожмутся толстые губы и сделают смешное «бррр».
Я затих в ожидании второй. Однако нетерпеливое бульканье из горлышка заменило другое бульканье из другого горлышка — побольше и помощнее. Зеленый помотал головой:
— Не, студент, больше тебе не наливаю.
— Это почему же? — «Ударник» ударил в голову, и Зеленый немного качнулся вверх.
— Напьешься опять, упадешь, заснешь. Кому тебя тащить? Я на работе, а Далматовой не под силу твою тушу волочь.
— А с какого интересу ей таскать меня потребуется?
— А ты у нее спроси. Тянула ж она тебя из канавы, свинью бурую, аж до мостика.
— Ты что, Федор Иваныч, пороху надышался? Это когда такое было?!
— К-а-а-да! — Зеленый вытянул губы в трубочку. — Когда ты, как бревно, из кустов на поляну к девкам выпал.
Вот это заход. Бедная девочка еще и перла меня по откосу метров шестьсот. Я осторожно спросил, открыв один глаз:
— Федь, а я ничего такого?..
— Ничего. Только гитару требовал, да еще врал, что тебе кто-то ногти пообкусывал.
— А зачем гитару? Я играть не умею.
— Ну, эт я не знаю, — Зеленый, спрятав подпольную емкость обратно в рогожу, наморщил лоб. — Ты, если пить не можешь, не пей. А то, что это?.. Прибегает ко мне Зинаида Колчева, чуть не ревет: пошли, мол, дядя Федя. Там наш инструктор пьяный, как грязь валяется. Я, понимаешь, туда, и на тебе — герой. В костер упал, девок напугал.
Мощно тогда я долбанул. Факт. Но, чтоб с песнями и провалами сознания? Вот не было Зеленого, хоть стреляй!
Федя как мысли читал:
— Ты что, вообще ничего не помнишь?
— Почему не помню?! Вокзал помню, как пили там с Валькой, помню. Потом назад шел, потом ведьмы эти…
— Чего?
— Ведьмы, — тоскливо проговорил я, пряча глаза.
— Н-да, — буркнул Зеленый. — Чего ж ты напился-то так?
— Друг приезжал, из Ленинграда.
— Тоже студент?
— Не, Валька танкист. Он в городе на бронекурсах усовершенствования комсостава был.
— Это он из Питера сюда ехал, чтоб нажраться?
— Уезжал он, Федор Иваныч. Назначение получил и уехал.
Оружейник, сопя, вытащил бутыль и разлил еще по «стаканычу».
— Ладно, Андрюха, давай за него. Армейские в случае чего первые полягут. И еще, чтоб никогда вся эта мудрость стрелковая не пригодилась.
— Да ладно, че там, — я одним махом опрокинул стопарь и затянул: — «На отлично мы умеем бить гранатою врага».
— Хватит визжать, — от моего пения Федя стал каким-то уксусным. — Лемешев выискался. Ты объясни лучше, чего вас на эту войну так распирает. Я понимаю, Валька твой, это его хлеб.
— Валька лопух, — я приставил к ушам ладони и показал, какой лопух Валька. — У него финны танк сперли.
— Как сперли?!
— Да так! Днем подбили, а ночью утащили к себе. Лапоть он, а не бронетанковый командир.
— Сам ты лапоть! — оружейник почему-то обиделся. — Человек голову под топор подставляет, а ты разве что таракана шлепанцем прибить готов. Как пули над ухом свистят, забыл уже?
— Можно подумать, что ты их кучами из угла выметаешь.
Федя, правда, один срок пилил сосны за вооруженный налет на склад Ленинградско-Рижского депо. И мутнели слухи, что «овоэнкапээсовская стража»[16] сама не справилась, так что пришлось подкреплять защитников депо отрядом конной милиции.
Ну и черт с ним. Тоже мне — Герой Гражданской.
Зеленого мои сомнения больше не томили. Он, оказывается, уснул, подлец. Откинулся к несгораемому шкафу и сопит в ноздрю. Я потихоньку стал выбираться на воздух, но дядя Федя задержал этот порыв:
— Так ты осторожней с девушкой, на нее Ероха западает. Шпана отпетая.
Федя опять закрыл глаза и погрузился в сон окончательно, став похожим на большой черный мешок возле сейфа.
Вскоре девочка с серо-ледяными глазами стала еще более незнакомой и далекой. Уже нельзя было вот так запросто подойти и заговорить с ней. А те эпизоды, где я (когда-то!)гонял ее за мишенями, обзывал Розой-Мимозой или мог вообще заставить по десяти раз повторять упражнение на стрелковом тренажере «Альмина», вызывали удивление и досаду (сейчас бы так!). Но теперь даже мимолетная ее улыбка причиняла такую радость, после которой надо было еще долго приходить в себя.
Подойти бы налегке и, заведя непринужденный разговор, погулять вдоль поросшего ивняком берега!
Подошел. Завел. Сбиваясь с голоса, плел какую-то чушь. И ретировался, чувствуя, ухмылки окружающих. Краснея, ушел и бездельничал, пока не был вызван к Еделеву.
Начлагеря, отдуваясь, хлебал сухарный полубутылочный квас прямо из горла.
— Тебе что, Саблин, по шее захотелось?
— Да нет, а в чем дело?
Начлагеря куснул жесткий угол французской булки и, делая навыкат голубые глаза, пообещал:
— Убью паразита, — и без перехода ударил по столу и заорал, смешивая фарфоровый звон падающей утвари с густым бронепоездным басом: — Ты где шляешься?! Два часа ждут! Три занятия пропустил! Твои курсанты ходят толпами по городку и наводят безобразия.
— Товарищ начальник…
— Молчать! — На этот возглас откликнулся только один графинчик, упав на стеклянный бок. — Почему опять напился вчера?
Вчерашний Федин «ударник» давно уже растворился, но кто-то донес. Юрочка, наверное, — комсорг штопаный.
Жуков сидел в углу, составляя отчет, и, вспомнив старую обиду, бросил коротко:
— Гнать его надо.
Я промолчал, а начлагеря, двигая носком сапога упапвшие тарелки и чашки, устало сказал:
— Иди, Саблин, и хорошенько осмысли поведение. И чтоб никаких игрушек с учебным процессом.
Старания не нарушать учебный процесс с моей стороны были честными, только в них сразу появился большой изъян. Ветку Полтавцеву бросили в пионерскую банду «упорядочивать стихию», а занятия в ее группе раскидали на остальных. Так что пятьдесят минут каждого дня Астра сидела за партой около меня, а остальные тысяча триста пятьдесят проходили в ожидании следующего урока.
«Игрушек», согласно приказу, не было, но и самого учебного процесса тоже. На уроках я все больше витал в розовых облаках, думая по капле о пережитом. Ловил ее взгляд, слушал ее голос, вспоминал походку. Тешил надежду, что произошедшее с нами не случайность, а если все-таки не будет больше тонких рук в моих ладонях — я по-любому счастлив. Тогда принцесса станет мне звездой на далеком горизонте, которую можно видеть и говорить с ней иногда. И того факта, что она есть на свете, хватит для счастья с головой.
Не шибкая сноровка в общении со слабым полом играла особенно злые шутки из-за многочисленности свидетелей. Каждый раз, когда удавалось поговорить с принцессой, на меня будто надевали пальто из детства — короткое, широкое и клетчатое. В нем я чувствовал себя абсолютным кретином. Правда, однажды случилось поговорить почти наедине, не считая двух тупых пионеров, неспособных запустить простейшую радиосхему. Астра остановилась около них и, наклонив голову, спросила:
— Что, батарейка сдохла?
— Чего это сдохла? Новая совсем, мы ее в «Радиомузыкальных изделиях» брали!
— А ну, дай. — Принцесса потерла «жопку» о ладонь, после чего вставила ее обратно в гнездо. — Включай.
Пионер дал ток, тут же раздался не очень сильный взрыв, и повалил черный дым. Юных радиолюбителей как ветром сдуло, а принцесса, задумчиво глядя, как в пламени корежится доска с проводками и лампочками, укоризненно сказала:
— Ну что вы застыли, давайте тушить.
Вместо земли я схватил и бросил в огонь пригоршню сухих елочных иголок…
Ко всему прочему, принцесса зачастую пряталась среди подруг, соглашалась повидаться; не приходила и белозубо скалилась, когда я в очередной раз казался нелепым. Все это переживалось мной в полный серьез, хотя по здравому соображению могло только развеселить. Но беда в том, что все здравые мысли отлетали при одном лишь взгляде в ее сторону.
И я сорвался, впитывая ее буквально всей сутью, когда мы столкнулись однажды в темной парковой аллее. Вокруг не было ни души, готовилось к дождю цветное небо, а сосна вокруг стала ярко зеленеть особым оттенком, который бывает, если курить листья травы, собираемой узбеками в верховьях реки Чирчик.
— Здравствуй, Астра.
— Здравствуйте.
Дальше надо было говорить о чем-то таком, но приходившие на ум слова тут же смешивались в кучу, из которой удалось вытащить лишь одну фразу. Про погоду. Что-то там про солнце и воздух.
Дождь из намечающегося переходил в моросящий, поэтому вежливо угукнув, принцесса опять замолчала. Но по ее лицу побежал, на секунду оглянувшись (мол, что там дальше), огонек интереса.
— Андрей Антонович, вас что — били в детстве?
— Кто?
— Ну, я не знаю… папа, дедушка.
— Вообще не били!
— А чего вы испуганный такой? Или это лишь, когда вы рядом со мной?
Победив «морального противника», она отвернула голову, скаля зубы в ехидной усмешке. А через секунду хохотали мы оба, потому что из леса прыгнул чумной заяц, сначала ударившийся о мою ногу, а потом об сосну. Обезумев до полного ужаса, лопоухий унесся туда, откуда прибыл.
Смех ее звенел в косых потоках дождя, наполняя душу серебром. Я держал в руках ладони принцессы, а девочки-сосны шептались над нами, скрывая то, что принадлежит лишь двоим. Разбухшая от сырости беседка, где мы прятались от дождя, превратилась в сказочный дворец.
— Позолоти ручку, молодой и красивый! Всю правду расскажу. — Астра гадала мне по руке, напророчив любовь и разлуку. Выпала мне дальняя дорога и две разлуки с любовью — одна разлука длинная, другая короче, но в ближайшем будущем.
— Скоро?
Принцесса опустила за пазуху полученную трешку и пообещала:
— Скоро!
И долго еще длилась бы аркадийская безмятежность, если б не нарушила ее Совета Полтавцева. Потрясая бумажным пакетом, она вымогала плясок:
— Танцуй, Андрюня! Тебе корреспонденция в виде закрытого письма, — и, не обращая внимания на застывшую Астру, вякнула: — А. Саблину в собственные руки от Ольги Романовой. Ленинград. Набережная Мойки, 59.
Не знаю, как бы сложилась судьба Полтавцевой. Может, моя снежная королева превратила её в айсберг или торос, а, может, я умертвил бы более дешевым способом. Но кто-то позвал Ветку из-за ограды и она ушла. А я, не заглядывая в конверт, располосовал его на бумажные ленточки, которые выбросил в лужу.
Снегурочка молчала, я тоже, солнце опять юркнуло в тучи, готовые пустить вместо августовских капель холодные снежинки.
Когда мы расставались на влажных ступеньках, Астра спросила:
— А кто она, эта Ольга?
Брошенный с ее стороны убогий мостик между нами стал для меня важнее тысячи Ольг, вместе взятых. Я впервые до конца это понял и дал отчеркивающий прошлую жизнь ответ:
— Так, уже никто.
* * *
Я заступил на дежурство по лагерю в ужасном настроении после Ольгиного письма. Заинспектировав южные ворота, пошел к северным, которые почему-то назывались «березовые мостки». Уже издали было заметно отсутствие часового.
Дрыхнет, гад, в будке. Или пересмеиваетсяс девушками из полеводческой бригады, обосновавшейся неподалеку. Поискав негодяя в поле, я вернулся и завернул прямо в кусты. Может, там удастся взять с поличным караульного разгильдяя, а уж, накрыв, отвязаться по полной и спускать с подлеца шкуру до полного восстановления утраченного равновесия. Можно было снимать с подлеца струж…
К воротам бежит Астра. В этот момент я почему-то подумал, что, сколько не занимайся со слабым полом легкой атлетикой, все равно бегают они неправильно, далеко назад откидывая руку. Лицо принцессы освещается изнутри тем самым, что распахивает глаза и растягивает улыбку пятикласснице, получившей в подарок бархатного медведя.
Я спешу к ней через обсыпанные ряской лужи, но Астра уже выскочила за ворота. Взмах моей руки останавливается и оклик спотыкается в горле, потому что я понимаю — свет ее лица не для меня. Астру хватает на бегу какой-то «гопник», она весело кричит: «Ерохин!». «Гопник» прижимает ее к себе и смеется, латунной фиксой освещая местность километра на два.
Глава 4 Факелы в темноте
Плюнуть напоследок в поганую рожу «гопника» я не успел. Лезвие «финки» за секунду распустило ткань шинели, железяка отпустила и, рванув вверх по лестнице, мы очутились в бывшей электроподстанции. Устроенная на приличной высоте, чтобы не затопило при наводнении, будка с демонтированным оборудованием и отсоединенными кабелями стала нашим прибежищем.
— Мальцев, кто эти… — майор был готов испепелить меня и ефрейтора Лиходея одним взглядом без применения огнемета.
— Старший лейтенант Агафонов из комендатуры. С бойцом, — Мальцев немного подумал и добавил: — Сволочи.
«Плутоновец» скривился, будто перекусывал зубами стальную проволоку.
— Агафонов, вы одни такие дебильные в комендатуре или там все придурки?
— Я Саблин. Агафонова сегодня утром ранило.
Горииванов и Мальцев переглянулись, я оправдывался дальше:
— Меня майор «с полномочиями» забрал под страхом трибунала.
Горииванов совсем опечалился. Для него, видать, в диковинку наше черезжопуделание, а я уже привык. Однако удивляло другое: отчего эти ребята дали такого чесу, услышав о крысах? И я, кстати, тоже? Животные, конечно, не из приятных, но бежать от них быстрее братьев-чемпионов Знаменских? Ну, бывали с грызунами сложности, посылали меня зимой в Казанский собор, где подозревалась преступная деятельность по изъятию золотых коронок у покойников. Тогда трупы складывали прямо у стены приора, икто-то заметил на лицах мертвых «следы». Оказалось, поработали именно крысы.
— Чего вытаращился, душегуб?
Я, наверное, чересчур задумался, а Мальцева аж распирало:
— Пойди, объясни им, что тебе начальство велело дожидаться «инструктированного командира».
— Кому им?
— Гадам голохвостым!
Мальцев немного помолчал, злобно отдуваясь, и гавкнул:
— Подъем! Или думаете жопами отбиться?! — затем подошел к Горииванову и тоже посмотрел вниз, где шевелилось, грозя пробуждением, утихнувшее ненадолго кубло. — Сидят, заразы. Несколько сотен, не меньше.
Горииванов хмыкнул:
— Подождем вожаков, а то говорить не с кем.
Не с кем?! Хорошее местечко! Мхи нападают, с крысами собираются вести переговоры, того гляди, появится чудище заморское и будет молвить человечьим голосом. Чудовище заморское… А ведь не сказки это Пушкина! И не смешно ни капельки оказаться среди спецов, выполняющих секретную работу. Оказаться лишним свидетелем… Расстрелять ведь могут, чтоб не выболтал правду о подземелье, и останется от товарища Саблина помятый листик с казенным титулом «извещение».
И тут начались какие-то странные дела. Костя потрясал волшебной эбонитовой палочкой, Горииванов поглаживал кадык и покашливал, прочищая горло, Мальцев развязал вещмешок и принялся укладывать пачки галет на плитки шоколада. Затем уселся между мной и Лиходеем.
— Значит так, ребята, попали вы, как два барана в кухню, поэтому все, что я скажу, вбейте в мозги, как шесть исторических условий товарища Сталина. Перво-наперво: исполняйте все указания. Второе — находитесь внутри колонны. Эти каски, — Мальцев постучал по вратарским хоккейным шлемам, — защищают голову, забирайте. Так. Дальше. — Он вытянул из подсумка блестящие фигурные кольца и протянул нам. — Если станете «царем горы», — посмотрев на наши умные лица, он поморщился. — Это когда крысы навалятся и станут жрать. Так вот, тогда быстро сожмите кольцо — и ходу. Последнее. Если поймете, что выхода нет, используйте ампулу. — На его ладони блеснула ампула с черными буквами. — Смерть через пять-восемь секунд.
Капитан порылся еще немного в оранжевой аптечке и заставил съесть по паре маленьких шариков, пахнущих мятой.
— Ну все, считай, пообедали.
Мальцев шлепнул себя по коленям и преувеличенно бодро окликнул Горииванова, свесившегося с площадки.
— Что там, Квазимодо?
«Плутоновец» по-рачьи попятился назад и осклабился:
— Вариантов все равно никаких нет, попробую сговориться.
— Одна попробовала, — «гопник» широко открыл рот, захохотав, — и семерых родила.
Горииванов стряхивал белую строительную пыль на сапоги, мягкие и толстые. Он улыбался, как артист-фокусник, и вспомнил я, что видел эту улыбку в далеком 1926 году на рисованной афише «Ленгосцирка». Была на том плакате еще сисястая принцесса с индийской точкой на лбу, какие-то чудные зверьки и надпись:
«Маэстро Дон Гарваньо и его питомцы из джунглей дикой Азии».
Невероятно! Сам Дон Гарваньо из моих детских лет будет разговаривать с крысами в питерских катакомбах, облачившись в кожаную куртку и стариковские пимы. Дрессированные грызуны из Дикой Азии! Интересно, что он им скажет? Абракадабра или крибле-крабле-бумц? Или заставит считать до пяти, давая за это сахар?
Не знаю, кормил ли Горииванов сахаром своих мангустов, но того, что скинул в чугунную темноту, большинство из нас и на праздники не видело. Да что ж это за сволочь, выбрасывающая еду как мусор!
Тяжелая рука опустилась на мое плечо, остановив рывок. Мальцев держал меня крепко и шептал успокаивающий бред.
Да, здесь их тайга и люди с огнеметными баллонами, наверное, знают, что делают, но как невыносимо это видеть! Еще недавно едой запросто считался вазелин, столярный клей и пахнущая сахаром земля с Бадаевских складов, а выкопанная на Пискаревке, гнильем заквашенная капуста могла сойти за деликатес. Я никогда не забуду крики, прорвавшие темную стену дома на Ломоносовской улице, — там, в корчах, умирала семья рабочего Острякова. Они съели банку графитной смазки, принятую за солидол. А этот человек бросает крысам шоколад и бормочет всякую чушь!
Горииванов свистел, шипел, цокал звонкими переливами, похожими на пение сверчков, делал пассы руками и раскачивался, как факир у корзины со змеями. Все эти действия разбудили воспоминания о знакомом, но бесконечно далеком, упущенным еще в детстве сне. Ты как будто видишь желтую дорожку, веселого человека в костюме Пьеро, слышишь легкий шелест ветвей, но это самое «как будто» неуловимо ускользает, когда пытаешься полностью вспомнить. Только зуд остается в голове, а ты чихнуть собрался и даже скорчил нос в предвкушении, но не чихнул.
Подземелье вмиг заполонилось отвратительным писком, обжигающим душу. Тысячи когтей заскребли по бетону, и серая масса зашевелилась внизу. Вой нарастал, буравя мозг, и я, заткнув уши, упал плашмя на бившегося в судорогах Лиходея. Других не видел, но раскаленный прут, сверлящий голову, один раз пробился наружу, и я уставился на Горииванова. Майор продолжал свою «песню», только стоял он как-то ненадежно: качнется чуть сильней и свалится к крысам.
Тысячи пастей орали, ошпаривая воплями. Мне-то легче, чем остальным. Давно, еще в тридцать четвертом, контузило меня до глухоты. Плюс год в пушкарях, не добавивший чуткости перепонкам. А Лиходею совсем худо. Катается по полу и кричит, беззвучно открывая рот.
— …а… лин! Са…б…ин! — доносилось издалека.
— Держи ему руки! — проорал мне в лицо потный Мальцев, пытаясь надеть ефрейтору нечто вроде наушников. Кое-как замотали голову, и Мальцев орал теперь уже более отчетливо: — Цепляй «глушители», дуба врежешь!
— Да все нормально.
— Одевай, говорю! Скоро такое начнется!
— Да обойдусь я, не ори в ухо!
И мы разом ощутили невесомую тишину. Раздирающий визг исчез.
Горииванова усадили, дали хлебнуть из плоской железной бутылки и все застыли, как на кинопремьере.
— Плохо, братцы, — он поморщился. — Крысяки требуют того, кто в них стрелял. Ефрейтора и… тебя, — майор посмотрел на «гопника».
Теперь тишина давила многопудовой тяжестью, изредка прокалываемая свистом грызунов. «Гопник» спросил:
— А меня за что?
— Не знаю, Ероха.
«Гопник» длинно сплюнул через зубы и вытащил папиросу. Ефрейтор уставился в потолок. И я, похолодев, начал понимать, что не станут они рвать вороты и, крича «ура!», столбить себе дорогу огнем.
Как же так?! Вот сидят живые люди, наши боевые товарищи. И за просто так отдать их на съедение? На съедение в прямом смысле?!
— Вы что, совсем сдурели?! — не выдержав отторгающего молчания, подпустил я «петуха» в голос. — Да сколько там этих тварей?! Сотня? Тысяча. Две? У нас огнеметы и оружие, у меня гранаты есть! Прорвемся, братцы! Да вы кого испугались?
Горииванов устало оборвал меня:
— Сиди молча.
— Молчанку своей жене пропишешь. Пошел ты! Людей моих не дам! Хрен тебе фунтовый!
«ТТ» легко прыгнул мне в руку.
— Ложь пугач на землю.
Я посмотрел вправо, назад и увидел тушу бойца «Плутона» с огнеметом. Брандспойт был направлен мне в спину.
— Давай-давай!
Козел однорогий. Тихо как зашел. И быстро.
Я стоял, держа «тэтэшник» и совершенно не знал, что делать. Сзади упирает дуло амбал, впереди еще трое, а мой патрульный, хоть и вооружен, но сидит, улыбаясь, как деревенский дурачок, и таращится в потолок. Как быть? Одного-двух уложить мне по силам. «Гопник» прыгать не станет, эти у стены оружие засунули далеко. Только амбал опасен. Дунет огнем — и хана, шансов никаких.
Так, стоп! Если огонь попадет в меня, то все равно пойдет дальше и поджарит остальных. Значит, стрелять он не будет и тогда я…
Не успел я додумать «что тогда». Горииванов в немыслимом прыжке ударил меня ногой в живот.
Выблевав положенное в таких случаях, я рванул подсумок, где прятал «лимонку», но рука нащупала пустоту. Вот, гады, укатали все-таки.
— Это ищешь? — Мальцев подбрасывал на ладони гранату и грустно улыбался. — Эка ты, бляха, прыткий!
— Сам ты бляха заборная.
Капитан, жонглируя гранатой, смотрел мне в лицо.
— Ну, говори. Чего замолк?
— А не о чем мне с вами разговаривать, чести много.
Не то что бы я был такой храбрый и отважный. Или жить не хотелось. Нет. Просто, тоска взяла. Не думал я, что застрелят меня, будто дезертира какого в этом подземелье.
— Ты знаешь, сколько трупов мы отдали крысам зимой? — послышался мальцевский голос, а Горииванов тут же подсказал: — Каждый седьмой… Ты знаешь, сколько ребят полегло, когда в октябре они рвали наши заслоны?.. Но тогда мы знали, где их ждать. — Мальцев опустил голову. ― Бациллы крысиной чумы будут готовы лишь к августу, город не готов к борьбе. Если их солдаты — сотни тысяч ― выползут наверх, в Ленинграде начнется паника.
Молча курил «гопник», пуская дым вниз, пустым взглядом смотрел в потолок ефрейтор Лиходей. Давящий туман ваял стену из холодного мрака, и только нелепый фонарь, скрипящий вертлюгом, бросал на нас желтые капли света. Нервно мял подбородок далеко не веселый Волхов, царапал ватную ногу здоровяк-огнеметчик, снимая невидимую в темноте грязь, сопел у стенки Мальцев. Майор-огнеметчик, задумавшись, выбивал железную дробь на баллоне.
— Жаль, столько харчей спустили крысакам, — криво усмехнулся «гопник». — Пойду, пожалуй.
Резко повернулся Горииванов:
— Сядь, успеется.
Тот послушно сел, а «плутоновец» обратился ко мне:
— И ты успокойся. Не надо делать из нас зверей в людском обличье. Сто раз легче принять последний бой, поверь мне. Только у нас на данный момент перемирие и если наша сторона его нарушила, следовательно…
— Сюда все!
Голова одного из амбалов, покрытая паутиной, осветила радостью проем:
— Это не солдаты, товарищ майор! Это бродяги!
Горииванов, Мальцев, все вскочили. Даже приговоренный «гопник» растянул «лыбу», будто услышал про амнистию к Седьмому ноября.
— Фонарь дай! Трясучку, лучше трясучку, — нарастал шум голосов. — Да иди ты со своим патефоном! — прогнали суетившегося Волхова.
Будка наполнилась гвалтом и лихорадочным движением. Как бывает в ситуации, где все вокруг что-то делают, захотелось принять посильное участие в общей суматохе. Я забегал, зачем-то переставляя баллоны огнесмеси, и получил за это втык. Потом сложил горкой разбросанные каски и, не зная, как еще применить свои таланты, сунулся в проем. Сначала услышал «не лезь», потом увидел кулак, затем рыжие на нем волосы, потом серебристый круг о зеленых звездах. Все это за полсекунды пронеслось, а в следующие полсекунды я складнем опустился на пол. Скотина-майор ударил меня в глаз. Ну, ничего, сука, устрою тебе проверку документов при случае!
Тяжело зазвенели огнеметные баллоны. Полетели каски из рук в руки. Коротко ругнулся Ерохин — гнутый крюк зацепился за сумку и порвал резиновую морду противогаза. Остальные маски были целы. Их тщательно проверили, закрыв дыхательные клапана. Также проверили оружие. Его, кроме огнеметов, почему-то оказалось до обидного мало: автомат с запасным диском, пистолеты, граната с капсюлем, завернутым в газету, и нож «гопника». В общем, вся надежда на горючую смесь и секретные плюхи «плутоновцев».
— Первыми идем мы, — распорядился Горииванов. Бросаем гранаты и как можно быстрее перебегаем на ту сторону. Потом комендатура, потом вы. — Он кивнул в сторону «гопника» и Кости. — Мальцев замыкающий. Так. Дальше. Ты, Мальцев, держи позицию, пока не переправимся. Потом — в сторону Лиговского пикета. И не забывайте про ловушки. Когда заскочим в тоннель, бежать след в след. Все, пошли.
Я забрал лиходеевский автомат и оба диска. Тяжело ухнули внизу гранаты, и, спустившись вниз, мы побежали в длинный узкий тоннель. Горииванов сразу же потерял железную каску, ударившись о невидимое перекрытие. Наверное, беги я впереди, отлетела бы моя голова, а так ничего, заметил, слава богу.
На бегу единичные крысы почти не доставляли забот, маленькие стайки лишь грозно светили зубами. Но стайки эти росли, множились, объединялись в хищные ручейки и наконец зверье вывалилось из очередной дыры на пути.
Огнеметы сожгли голодную кучу двумя выстрелами. На короткое время пламя сковало грызунов, и лишь самые предприимчивые из них лезли через огневой заслон, неотрывно преследуя нас.
В одном подозрительном переходе, где мы не могли двигаться в полный рост, блеснул красным эбонитовый прибор и Волхов развернулся.
— Стой! Назад!
Инерция протащила метров на пять. Мальцев, глядя в еще свободный путь назад, закричал:
— Бросай, Костя!
Волхов кинул в темноту ярко-серебристый шар, и мы рванули. Назад. Быстрей назад! Горииванов пустил зачистное пламя. Под ногами захрустели горелые тушки. Обратный путь был особенно мучительным.
В конце очередного коридора я упал, накрыв телом что-то плоское и металлическое.
— Капитан! — заорал я Мальцеву, светя в железную, похожую на мину коробку. — Здесь штука странная…
— Не трогай! — Мальцев топтался в проеме, около изготовившегося огнеметчика. — Это мы ловушки ставили.
— На кого?
— На Гитлера. Быстрее, Саблин, ходу!
Везло нам страшно долго, несмотря на близкую, угадываемую по бесчисленным шевелениям за спиной, грозную массу. Плутоновские амбалы, разворачиваясь, отгоняли ее, но заряды уже были на исходе. Один баллон пуст. Прыгавшие из темных щелей крысы хватали за рукава и ноги, а более сноровистые кидались прямо в лицо.
Сначала прокололся «гопник». Прокололся глупо, споткнувшись о проволоку. Задавив пяток набросившихся тварей, он отбился, но рука и бок сильно пострадали. Его подхватили и поволокли вперед.
Лиходея атаковали у входа в огромный зал десятиметровой высоты. Ефрейтор, бежавший за огнеметным командиром послушным дауном, внезапно оттолкнул Горииванова и первым выскочил из тоннеля.
Но и Лиходея отбили у врагов. Мальцев, размахнувшись, бросил последний шар. Его яркий свет в колеблющемся вое буквально сметал крысье. Звери скрюченно ползали и делали слабые попытки убраться подальше от сверкания.
Темная пустота огромного зала взрывалась огнем. Мы пробивались к центру подземной площади. Те из крыс, что хлебнули горячего вблизи тоннеля, медленно разворачивались, то и дело, ломая строй. Но другие, только что просочившиеся из подземелья, мягко шлепались о бетон и длинными прыжками неслись к нам. Горииванов стоял позади всех и, пока огнеметчик дергал заевший клапан, бил крыс из двух пистолетов сразу. Можно было только дивиться цирковой скорострельности майора — стрелял он сразу с обеих рук, виртуозно меняя обоймы.
— Пикет в сотне метров, огня дай! — закричал грязный и страшный Мальцев.
Клапан, словно испугавшись, стал на место и «плутоновец» дал с колена длинную огненную струю.
Мы втянулись в коридор, минуя путаницу разваленных скаток железной проволоки. Горииванов шел замыкающим, водя ствол огнемета за белым светом шахтерской лампы и не стреляя. Очевидно, и его баллон почти опустел.
Серые перекрыли коридор. Теперь одно могло помочь — бегство. Может, появится спасительная дверь? Или окно? Или хоть какая-нибудь форточка? А — а — а! Ч-черт! Резкая боль подожгла ногу, заставляя прыгать и махать сапогом. Тут же Волхов сбил вцепившуюся гадину.
— Бежать!
Одолев десяток шагов, я понял, что не ходок. Наверное, подрезала сволочь зубами какую-то жилу и теперь сотни стеклянных лезвий впивались в горячую от кровиногу. Взяв автомат наизготовку, я дождался появления орущего серого клубка и уже не берег патроны.
Я стрелял, сидя в луже крови.
Я бил по наплывающему из глубины тысячеголовому жрущему зверю.
Я драл его свинцовыми когтями в маленькие разлетающиеся ошметки.
В сотни рваных кусков.
А когда щелкнул пустым железом затвор, чьи-то руки потянули меня за ворот, по скользкому полу. Вперед под слепящим лучом, невесть откуда взявшегося прожектора.
— Свет! Свет есть! — закричали впереди, и одна за другой стали зажигаться яркие желтые звездочки.
Больно ударив о порог, меня втащили в неизвестную комнату. Горииванов клацнул рычагом, и металлическая дверь запечатала нас наглухо.
Первое время было слышно, как возятся с огнеметами «плутоновцы», как Мальцев хлопает дверцами металлических шкафчиков и как стонет Лиходей. Однако вскоре все угомонились, разбредшись по углам. Один Горииванов считал что-то вслух, но потом утих и заснул на топчане.
Сначала я не ощутил необычность обстановки. Но, присматриваясь, меня стало одолевать странное чувство, будто попал на аттракцион с диковинными вещами. Я перелистал брошюрку по технике безопасности, которая зачем-то объясняла, что «обвязывать колени утопленника следует крест-накрест». На длинном стеллаже упорядоченно лежали противогазы, один из которых был явно не для человеческой головы, да еще с двумя шлангами, рядом — трехпалые резиновые перчатки.
Нарисованное масляными красками окно на глухой стене изображало двор-колодец и хотелось подойти к нему, чтобы поправить нарисованную форточку. На Феликса Дзержинского, с усталой грустью рассматривающего схемы боевых построений крыс, строго взирал старик в ливрее — его фотокарточка располагалась напротив.
Даже голова немного закружилась от таких сюрпризов. А может от потери крови? Мальцев, перевязывая мне ногу, хмурился:
— Да, подъели тебя маленько!
И заставил выпить растворенные в воде таблетки.
— Странно тут у вас, — сказал я, разлядывая синюю табличку с надписью «ОСКОЛ. Образцовый подучасток № 7». — ОСКОЛ — это что?
Капитан пояснил:
— Особая Комендатура Ленинграда. Комендатура, стало быть… Особая, потому что контингент тоже особый. К примеру, тех что «плутоновцы» гоняют. Ну, ты их сам видел.
— А что, и другие есть?
Мальцев пожал плечами.
— И другие есть. Вообще, всякие есть. Потому, наверное, отдельные несознательные личности у нас расшифровывают «контору», как ОСиновый КОЛ. Но это глупое хохмачество.
— А здесь у вас что, узел обороны?
— Да нет, это сборный пункт, — капитан засмеялся. — Обычный старый подвал.
— Подвал? — Я показал на выложенные тесаным камнем стены. — Это нижний ярус крепости или монастыря. Так строили монахи при шведском короле Густаве Ваза. Кладка по датскому способу, но камень уложен на раствор с вкраплениями слюды. В середине шестнадцатого века.
Мальцев выпучил глаза.
— Ты что, архитектор?
— Историк. По довоенной профессии. Диссертацию даже начинал писать.
— По крепостям?
— Нет, — я хмыкнул, — по гидротехнике Петербурга восемнадцатого века.
— Да уж, — капитан в задумчивости потер затылок. — Слушай, а ну глянь сюда.
Он живо подхватился и, отодвинув самодельного вида пожарный щит, ткнул пальцем в стену:
— Оцени!
Одного взгляда, брошенного на барельеф, хватило, чтобы потерять душевное равновесие. Это было изображение Мана ― дохристианского божества чуди, ― переделанного в католического святого Климента. Подобное изображение в запасниках Университета охранялось, как Боевое Знамя.
— А что у него за функции, у этого твоего Мана, — осведомился капитан. — Чем он помочь способен?
— Помочь? — Я рассмеялся. — Ну, против Калмы — бога загробного мира — с мертвецами поможет. Против черного духа болот еще. Кстати, от крыс спасает. Согласно верованиям чуди, крысы — это души убийц. А еще, в качестве святого Климента, сторожит ворота между Божьим светом и адом.
— Пограничник, что ли? — без улыбки спросил капитан.
— Ну, вроде того.
Мальцев поразглядывал меня, спросил о ранениях и, узнав, что я «вообще-то везучий», удовлетворенно велел отдыхать. Сам он так же улегся на стопку спортивных матов рядом с храпевшими огнеметчиками. Я обратил внимание Мальцева на щель между дверью и стеной.
— В палец будет, товарищ капитан. Залезут еще.
— Табличку повесь, чтоб не тревожили, — Мальцев повернулся на другой бок…
— Вставай, победу проспишь!
Голос Мальцева избавил меня от спокойствия еще до пробуждения. Мрачная готовность читалась на его лице, стягивая редкие брови в одну изогнутую линию. Он держал наизготовку телефонную трубку и, как только из нее послышался невнятный шум, сразу начал говорить.
— Да. Нет. Пройти не удалось по непредусмотренным вводным…
Половина того, что говорил капитан, была мне непонятна. Речь шла об энергозаслоне, аргентированной воде и даже о призраках. Часто поминались некие руны и орверы. Да и чёрт бы с ними, с этими орверами, если бы не заговорил капитан обо мне и даже поручился, что я, мол, «подхожу». Сильно мне это не понравилось. Закончив разговор, Мальцев подозвал меня к столу, велев повторить для всех ахинею про Манна-Климента.
— …И таких изображений должно быть три, — закончил я рассказ. — Они образуют вписанный в крепость треугольник, так называемый «щит силы». Ну, по верованиям древних, конечно.
— Это хорошо, — почему-то обрадовался Горииванов, — а на каком расстоянии действует щит?
— Да вы что, товарищ майор, это же мифы. Средневековые суеверия!
— Ну да, ― сказал майор. — И согласно суевериям, какое расстояние?
— Не знаю я. Помню, что по углам треугольника существуют какие-то петли, вдоль которых можно идти целый день без опаски.
— Тогда идем по петлям, — Мальцев решительно поправил ремень. — Объявлена тревога по периметру Лахта — Пискаревка — Шафировская дорога от северного берега Невы. Все туда коротким путем через недостроенный тоннель метро. Ты, Саблин, тоже пойдешь с нами.
Мне это ни о чем не говорило. Хоть к метро, хоть к автобусу, лишь бы наверх попасть. За часы, проведенные под землей, стало казаться, что я здесь родился, вырос, состарился и умер. Только вот организм этого еще не знает, поэтому рефлекторно шевелит конечностями.
— Вы, ребята, уж не испортите все, очень прошу, — гудел Мальцев, затягивая поясной ремень ефрейтору. — Тут километр всего. Потихоньку. Помаленьку. Без приказа никуда не суйтесь, ладно? — Зажатый ремнем Лиходей ответил дебильным смехом, а я кивнул и стал в колонну за огнеметчиками.
Колодец, оказавшийся первым препятствием на пути, был выложен старым, царским еще кирпичом. Он имел вид груши — узкое горло вверху и широкое днище с твердым покрытием. На удивление быстро отбили у этого твердого покрытия здоровенный кусок. Под ним была сетка.
Я брезгливо поморщился. Городское дерьмо когда-то текло сюда и на сетке окаменело то, что не протекло сквозь ячейки. Думать же о том, что проскочило и теперь ждет нас внизу, вообще не хотелось.
Перед спуском натянули противогазы. Правда, и без того плохая видимость в противогазе стала вообще никакой. Однако Горииванов видел в темноте будто кот. Другого объяснения, что он отыскал в липкой темноте столь малое отверстие, я так и не подобрал. Нормальный человек не нашел бы и с фонарем.
К лазу мы подтянулись, как слепцы, держа за плечо впереди идущего, и постепенно растворялись в черной пасти.
Гориивановцы, ефрейтор, Саблин, Волхов, — считал Мальцев прибывавшие головы и последним помог залезть «гопнику» в подъемно-спусковую клеть, как у шахтеров. Тронулись. Да, не доводилось мне кататься на лифте в преисподней.
Мальцев и Костя затеяли спор, а остальные принялись чистить оружие. Были необычны их револьверы: толстая ручка в изоленте, перевитое блестящей спиралью дуло и двухзарядный барабан.
— Товарищ старший лейтенант, у вас соли не найдется? — спросил Костя. Невзирая на металлические стерженьки, добавленные в голос для монолитности, его баритон вполне заметно дрогнул.
Сразу же отреагировал Горииванов:
— Что там у вас?
Мальцев ворохнулся в глубине и ответил, словно его душили:
— Костя, б. ь, батарею сжег.
— Ну, так замени, полный комплект был.
— Накрылся комплект.
Глянув на расплавленные электрические штуковины в мальцевской горсти, майор сумрачно заметил Волхову:
— Я понимаю, э т и лопухнулись, но ты…
Сломленный горем Костя бил по ящику и, когда посыпались искры, засиял и сам.
— Тут еще на пару включений осталось! — Тыкал он волшебный сундучок всем под нос, и такая шла от него радость, будто нашел последнюю из аванса трешку.
— Уйди куда-нибудь, — попросил майор, — обойдемся. Заряд на «железку» сохраним.
Спустившись вниз, мы остановились около ржавой балки, поддерживающей грузный свод. У железного основания конструкции отряд разделился — Костю и «гопника» Мальцев послал в обход. Но видать уж день такой выпал Косте — в темноте он упал и разбил прибор. Мальцев почему-то воспринял разбитие как должное, брызнул светом фонарика по осколкам и отошел.
Когда пошли вперед, я заметил, что мои спутники изрядно опасаются чего-то. Не верить в эти страхи не было повода, и вместе со всеми я слушал подлые скрипы и шорохи, вжимался в бетон, маскируясь, и нервно вскидывал автомат, завидев подобие чего-то движущегося — даром, что патронов не было. Мы без проблем дошли до узкоколейки, смыкнувшись только раз, когда Мальцев вляпался в синюшную пакость, мигом съевшую его сапог.
«Железка» виднелась метрах в пятидесяти. Полотно частью просело, частью наоборот — вздыбилось, делаясь похожим на убитого врасплох ребристого змея. Вагонетки с грунтом лежали около рельс, и неподалеку от проходного щитавиднелся безнадежно поломанный вагончик. Давила тишина и показалось вдруг, что спрятался в ней кто-то страшный с длинными руками наизготовку.
— Чё там интересного? — присел рядом «гопник», обративший внимание на мое усердное вглядывание.
— Да не по себе как-то.
— Ничего, не дрейфь.
И ушел. А я остался думать, что у него произошло с лицом. Хотя, какое там лицо — пародия на человека. Я отложил загадку на потом. Не время отгадывать, да и народ подтягивался, готовясь к последнему рывку.
Неширокая полоска перемешанной с камнем земли, десяток бревен, раздавленное кресло. Все. Что в таком пейзаже нервировало подземный осназ — тяжело догадаться. Но с этим занятием я давно покончил и безропотно подчинился указаниям: не оглядываться, на бегу кричать, а если рядом бегущий упадет — не останавливаться ни в коем случае.
Первый, пошел! Второй, пошел! Вперед!
Чавкает под ногой вязкий грунт. Бежать!
Подлетает вверх сбитое Лиходеем кресло. Вперед!
Спина Мальцева исчезает, как сбитая ростовая мишень, и я, сходу забыв наставления, кидаюсь к нему.
Чья-то рука удерживает меня и бросает вперед. Бросает очень метко, прямо к неведомо откуда взявшейся дрезине. Взобравшись на нее, я обнаруживаю еще пятерых. За мной прыгнул Костя, и железная телега тронулась, проехав метров двадцать. Мальцев показался минуту спустя.
Он шел очень медленно и, не подходя вплотную, остановился. Дрезина ощетинилась оружием. Капитан воспринял это спокойно. Более того — снял пояс с наплечными ремнями и положил перед собой. Костя, не отрывая взгляд от командира, осторожно включил прибор.
— Все нормально, — облизал он пересохшие губы.
Горииванов опустил пистолет.
— Мальцев, ты?
Подавшись вперед, майор не сводил глаз с одинокого силуэта на рельсах. Огнеметчики разглядывали капитана с не меньшей цепкостью.
Капитан посветил фонарем себе в лицо:
— А то!
Наверное, только здесь, среди этих сумасшедших людей, мог вызвать лихую радость подобный ответ. Мальцева подхватили, усадили, заставили хлебнуть из фляги, и Костя погнал дрезину, весело напевая, как Мустафа из киношки «Путевка в жизнь».
Уже у ворот, практически возле долгожданного выхода из подземелья, возникло неожиданное препятствие. Кто-то невидимый за железной ставней требовал пропуск и на лингвистические упражнения с нашей стороны отвечал нудным «положено по инструкции».
Все злились, особенно «гопник», чьи способности возводить построения из непечатных фраз приближались к мальцевским. Когда он замахнулся чтобы жахнуть «финкой» в дверь, та открылась.
— Мальцев, где тебя черти носят? — раздался уставший голос и темноту осветил факел в руках лысого майора.
Глава 5 «Декабрист»
— Я смотрю, ты здоров спать, а, Саблин?
Комната, в которой мы расположились без «докладывающего наверх» начальства, была квадратной, с множеством окон и углов, в одном из которых устроился на табурете «гопник». Удобно так устроился, со вкусом.
Длинная тень Ерохи качнулась.
— Устал, — ответил я, сдерживаясь. — Ты по делу спрашиваешь или как?
— А я так, — он закинул ногу за ногу, — интересуюсь по привычке.
Меня его «привычки» раздражать стали. Сидит, как репей в сандалете, и еще изгаляется.
— С какой целью интересуешься? Активист, что ли?
«Активист» попал в точку. За секунду слетев с табурета, Ерохин направился ко мне, сунув руки в карманы.
— Слышь, ты, — он с грохотом опрокинул попавшийся на пути ящик, — крыса комендатурская…
Оскалившись, я двинулся навстречу и, уже сцепившись с Ерохой, услышал рык влетевшего в комнату Мальцева:
— А ну, потухли оба! Разойтись!
— Брэк, — хмыкнул один из наблюдавших за сценой «плутоновцев».
Мальцев пообещал гауптвахту всем, лично Ерохе пять лет «без права переписки», а мне велел собирать вещи и убывать в распоряжение майора Берендеева.
— Во — он в том здании, на первом этаже, — добавил он и, пропустив молодую врачиху, повел ее к несчастному Лиходею.
Берендееву, лысому майору, что впутал в меня в историю с подземельем и крысами, было лет тридцать пять. В прошлый раз он показался мне почти стариком, а сейчас суетился весьма резво, орал в телефонную трубку и, поминутно высовываясь в окно, грозил всякими карами собравшимся во дворе. Мое предписание он зажал в кулаке, видимо, сразу же забыв о нем.
— В кузов, в грузовик его кидайте, — заходился криком Берендеев, размахивая фуражкой в окне, — идиоты чёртовы!
— Чего стал? Бегом выполнять! — гаркнул он мне, осушив графин с водой.
— Собственно… — я запнулся. — Что выполнять?
— Приказ, лейтенант. Приказ!
— У меня приказ прибыть в ваше распоряжение, — ответил я, осторожно показывая на бумажку в берендеевском кулаке. Майор, сдерживая ругань, развернул предписание.
— Ага… Ты тот «комендач», которого сдуру отправили к Мальцеву… Идиоты чёртовы. Посмотреть бы на того, кто это сделал!
Не выдержав, я прыснул. Майор сцепил на столе руки и отрывисто бросив:
— Отставить смех.
Он подумал, двигая бровями, а потом спросил внезапно:
— Ты белку видел?
— Это… в каком смысле? — я, признаться, от такого вопроса совершенно оторопел.
— Ну, белку, в колесе которая.
— А-а, вы в этом смысле. Так точно, в колесе видел.
— Во-от, — удовлетворенно протянул Берендеев. — Ты не спрыгнешь, пока всё не закончится. Тем более Мальцев сказал, что ты вполне подходишь.
— Да не подхожу я! — сорвалось у меня с языка.
— Что?!
— Не подхожу, — повторил я тихо. ― Не способен.
Еще раз идти к крысам и прочей подземной гадости не было сил. Молча, озираясь по сторонам, угасал я под Берендеевским взглядом, заведенно повторяя про себя: «на фронт, пожалуйста, только не под землю».
— Не подходишь? Тогда собирайся и уходи, — просто сказал майор.
Сгорбившись, я брел на выход, чувствуя себя распоследней дешевкой. Будто друзей бросил, с которыми делал опасное и трудное дело, а потом сдрейфил и, пряча глаза, отговорился убедительной и постыдной причиной. Сам ведь видел таких, которым не было пути назад после презрительного пацанского «ссыкло». И говорил такое сам, и ждал теперь подобного от лысого майора. Но Берендеев молчал и тогда, не выдержав, я обернулся. Майор, закрыв глаза, откинулся на спинку стула.
— Еще что-то? — устало спросил он.
— Да, — мой голос чуть дрогнул. — Я не хотел бы…
— Послушай, Саблин, — сухо перебил майор, — у меня линия в двадцать километров. Ее надо удержать. Чем и как угодно. Людей, хоть как-то способных к действиям, нет. Если не можешь, заставить не имею права. С нашей работой ты столкнулся, знаешь, о чем речь. Если можешь, иди воюй.
От слов Берендеева я дернулся, будто от выстрела, и выпалил:
— Бред.
— Что бред?
— Да все! Подземелья, гранаты с ультразвуком, кольца эти, шары серебристые… Вы что — с марсианами воюете?
Майор засмеялся:
— Ну, считай, что с марсианами, если тебе так легче.
— Легче, товарищ майор. Боюсь я.
— Чего ж тогда вернулся, если боишься? Душа горит? Иди-ка, присядь.
Он повернулся к сейфу, достал тонкую синеватую брошюрку и отдал мне.
— Ты ведь не трус. Я вижу. Что тогда?
— Не знаю, — ответил я.
— Не знаешь? — удивился Берендеев. — Или не хочешь знать? Ты ведь был т а м. Ты не спятил, как твой ефрейтор от крысиного визга. Ты прошел через брошенное метро, ты не загнулся от белого мха. Чего ж сейчас скользишь?
Машинально листая брошюру, я увидел знакомые по комендантской службе схемы.
— Могу не справиться — дело малознакомое и непонятное.
Майор показал взглядом на книжицу. «Памятка командиру, привлеченному для несения кордонно-заградительных мероприятий особкомендатуры г. Ленинграда» — значилось на титуле.
— Ничего, что ты не в силах выполнить, тебе не поручат, — чуть насмешливо сказал он. — Всеми подземельями и крысами занимаются специально подготовленные люди. Но им нужно обеспечить секретность. Раз уж ты попал в струю и не «ссыпался», то можешь заменить Агафонова.
— Что я должен делать?
— Держать, как говорится, и не пущщать. Ничего нового. Сейчас отметишься в опер-секретной части, дашь подписку о неразглашении. И сразу на Пискаревку — там «горит». Ну, а после — инструктаж по всей форме, допуск оформим.
Берендеев рывком поднялся и, схватившись за створку окна, закричал во двор:
— Буран, ко мне! Бегом, мать твою казахскую!
Майор сунул мне ордер, показал, где расписаться в потрепанном журнале, после чего вручил его неслышно подошедшему Бурану Бейсенову и велел отправляться на Пискаревку.
Бейсенова я знал только как агафоновского сержанта, а так он темная лошадка. Но боец храбрый и стрелок замечательный, даже в свободные минуты не расстается с автоматом. Сидит, разбирает по винтикам, смазывает. А вот, что у него в мозгах, только казахский бог его ведает.
В этот раз вместо раздолбанной «полуторки» я получил автобус, да еще с капитаном впридачу. Капитан здорово смахивал на фрица, хотя звался Павел Максимович Ганчев, а приземистый темно-зеленый автобус, маскирующийся под обычную передвижную радиоустановку, был напичкан полуфантастическими механизмами.
Бойцов, какими предстояло мне командовать, после короткого знакомства «принял» Бейсенов, и они расположились на задних сидениях, обсуждая что-то из области сравнительной анатомии. Полутемень заполнилась некими движениями, которые обозначали границы женских форм под ползающий аморальный шепоток. Обернувшись, я приказал вынуть диски, чтобы на колдобинах очередь из «ППШ» не подрезала кого-нибудь.
«Завод ультра-акустического оборудования имени Щорса», — прочитал я на табличке, закрепленной у станины диковинного орудия.
— Уже серийный образец! — с воодушевлением радовался Ганчев. — У нас делают. Пять тысяч дэц и без рассеивания!
Я машинально кивнул, продолжая рассматривать пушку. Лихо, конечно. Видел я, к примеру, экспериментальный пистолет «Балтиец», тоже ленинградский, — ни единой осечки в мороз до тридцати. Но это?.. Литой керамический ствол, шесть зарядов-цилиндров во вращающемся барабане, и длинный гвоздь, направленный в бороду проводов. Он был, по всей видимости, спусковым механизмом.
— Заводские сразу ломаются, — перехватил мой взгляд Ганчев, — гвоздь вернее.
— А это, вообще, что? — спросил я.
Капитан улыбнулся.
— Как что? Вакуумная пушка с электрозвуковыми зарядами. На случай, если экран-поглотитель не выдержит.
— Экран-что?
Тут Бейсенов наклонился к Ганчеву и быстро зашептал что-то на ухо. Капитан вскинул рыжие брови. Казах в ответ щелкнул языком, закатывая глаза.
— Угу, — сказал Ганчев. — Тэк-с… В общем, это не пригодится. Ваша задача — изображая комендатуру, охранять место от посторонних, в особенности от штатских. Пропускать только по пропускам. И задерживать все, что движется. У Берендея инструктировали?
— Так точно. В общих чертах, правда.
— Вот и хорошо. Служба знакома, а если какие непредусмотренные ситуации проявятся — считайте их загадочными явлениями природы. Для чего и приборы предусмотрены, — Ганчев хлопнул по стволу орудия, — соответствующие.
Замолчав, он словно прилип к окну.
Вскоре прибыли — капитан затарабанил в железную переборку, отделяющую водителя. Мы высыпали из автобуса.
Бойцов я расставил между Меньшиковским проспектом и забором детского сада, как того требовал Ганчев. Местность оказалось очень неуютная. Слева и справа — больницы, а впереди кладбище. Но не укрытые зеленью кресты Богословки, а жуткий пустырь за железной дорогой, где зимой хоронили тысячами. Я никогда не забуду этот февраль на Пискаревке. Не забуду длинные рвы вместо могил, заполненные негнущимися мертвыми телами в саванах, и штабеля из таких же мертвых тел, для которых рвы еще копали…
Разглядывая стену детского сада, я будто приклеился взглядом к входу в подвал, с широкими ступенями и растром в виде львиной морды сбоку. Морда косила с желтой стенки и вдруг тоскливо мне стало. Неведомый страх пополз мокрыми щупальцами по спине вверх и обхватил шею. Я закашлял, потирая горло.
Пока бойцы курили и поправляли свою необычную амуницию — каски, обмотанные сеткой из проводов, и прорезиненные балахоны, — Ганчев вывел меня на перекресток.
Впереди виднелась железнодорожная насыпь с одноэтажными будочками за унылым забором. К забору примыкала трансформаторная, из окна которой свешивались кольца толстого кабеля. Приглядевшись, я увидел, что другим концом кабель присоединен к мотовагону, стоящему на рельсах.
— Вы про экран-поглотитель хотели узнать? — спросил капитан. — Вот полюбуйтесь, в том вагончике — передвижной генератор. Километрах в двух севернее установлен стационарный, на Богословском кладбище еще один. А на Пискаревке — новая башня энергозащиты. Это и есть экран, поглощающий минус-энергию.
— Минус-энергию?
— Ну да. Это не сильно вдаваясь в подробности. Здесь после майских гроз всегда подобную «дезинфекцию» проводим. Да вот гляньте сами. — Ганчев протянул мне чудной бинокль с одним наглазником.
Глядя в хитрую оптику, я увидел, как над Пискарёвкой поднималось алое марево. Острые лучи, вырываясь из подземной глубины, взмывали вверх. То разгораясь, то тускнея почти до невидимости, они совершали какие-то сложные построения в воздухе и рассыпались по небу красными стрелами. Убрав бинокль, я снова посмотрел в сторону Пискаревки. Ничего. Никаких лучей и красноватого тумана.
— Что это значит?
Ганчев закурил.
— Нечто вроде энергетической формы жизни. При благоприятных обстоятельствах проявляется в виде таких вот лучей. Мы зовем их «остры».
Отлично. Мало мне разумных крыс, теперь еще живые лучи какие-то. Ну, Берендеев…
— И что, они вот такие… невидимые?
— Да, наблюдать «остров» можно лишь в инфраоптику. Правда, если их будет очень много… — Капитан не договорил, озабоченно разглядывая в бинокль что-то за железнодорожной насыпью.
— И что будет, если много?
— А?.. Да, могут доставить неприятностей. И учтите, Саблин, ― иногда в зоне их действия образуется аномально низкое давление. Неприятная такая штука, действует на психику вплоть до галлюцинаций. Вот тут сплоховать никак нельзя!
Я невольно поежился.
— Да не дергайтесь вы так, родной! — Ганчев засмеялся. — Нам дел на пару часов. Всё по стандарту: курим, ждем, ловим и бьём. Ну, а вы держите оцепление, чтоб ни одна штатская душа не просочилась за Брюсовскую улицу.
Капитан успокоил тем, что дальше железной дороги «остры» не сунутся, подозвал Бейсенова, и они стали измерять расстояние от покосившегося электрического столба до угла детского садика.
— Сгодится, — Ганчев записал что-то в маленькой тетрадце и, решительно направляясь к автобусу, вдруг остановился.
Показалось, что воздух вокруг застыл. Что все звуки исчезли, оставляя вместо себя лишь слабый гул, доносившийся из-под земли. А солнце, несколько раз вынырнувшее из-за облаков, будто утопленник из омута, пропало окончательно.
О н появился одновременно с расплавившими серое небо отблесками грозы. С огромной скоростью вращались пропеллеры, и не понять было — сверкание лопастей или искрение льда заменили солнечный свет. Замороженное время позволяло видеть несущийся дирижабль в мельчайших деталях. Серебристые листы оболочки, местами погнутые, местами оторванные до обшивки, были покрыты причудливым, похожим на татуировку узором. Сползшие к середине корпуса ладони стабилизаторов заслоняли дыру над двигателем. Рваные края ее были обуглены и временами оттуда показывались языки пламени. Сильный ветер срывал иней с обшивки, бросая горстями в пламя.
Тройка барражировавших истребителей пошла наперерез гиганту. Призрак воздушной пустыни всем своим сигароподобным корпусом замигал красным светом и, сбавляя постепенно ход, остановился.
— Майне муттер! Это ж «Декабрист»! — охнул рыжий капитан.
Цепеллин, исчезнувший много лет назад вслед за пропавшей зкспедицией на Шпицбергене, завис над перекрестком. Один из истребителей снизился, покачивая крыльями. «Декабрист» в ответ пыхнул из дыры утробным огнем и, отворачивая, плавно набирал скорость.
Метрах в тридцати от нас проплывала гондола. Чувствуя, как колотится сердце, я неотрывно смотрел на бледно-серый силуэт в капитанской фуражке. Его неподвижность в командной рубке была похожа на мертвенность манекена за стеклом витрины. Прерванные человеческие жизни в далеком двадцать седьмом году не исчезли навсегда, а, застыв, превратились в бездушные тени-трафареты. В полутемных каютах они, то прятались, сливаясь в едином порыве с застывшим шевелением занавесок, то показывались уже в другом иллюминаторе. Несколько одинаково замерших фигур вдруг разом повернули головы в мою сторону, и летучая громадина обдала ледяной стужей.
— Не смотри! Нельзя смотреть! — страшно крикнул Ганчев и, закрыв глаза кончиками пальцев, как в детстве, я провалился в недолгое забытье.
Когда удалось сбросить оцепенение, капитана не было — меня придерживал за руку Бейсенов. Зубы мои стучали от страха и холода. Буран протянул флягу.
— На! — сказал он. — Пей. Много пей. Ахча много, бойся мало.
Сжимая покрывшийся изморозью автомат, казах смотрел в небо.
— Прошлый осень «Декабрист» тоже летать. На стадион «КИМ» видел. Плохо, голод приходить…
Усевшись прямо на землю, я глотал Бейсеновскую «ахчу», упершись взглядом в стену детсада. Окно, мутневшее впереди, было накрест заклеено бумагой, предохраняющей от ударной волны. Зачем? Окно подвальное, почти скрытое приямком, в нескольких метрах — ступеньки вниз.
— Подвал плохой, — нахмурился Бейсенов. — Бутылка есть?
— Нет бутылки, — удивляясь жадности Бурана к спиртному, сказал я. — Может, того, что осталось, хватит?
Бейсенов, не отрывая напряженного взгляда от входа в подвал, расстегнул противогазную сумку и вытащил звякнувшую стеклом емкость.
— На.
— Ну… если надо… — я вытащил резиновую пробку и перед глотком выдохнул.
— Энги, — зашипел казах, — болван. Это раз-твор, смесь в орвер кидать.
— В… куда?
Бейсенов изобразил бросок гранаты.
— Как горючий смесь кидать, даже спичка не нада.
На затертой этикетке бутылки с трудом разобрал надпись: «Наркомхимпром, эксп. з-д Кр. Химик». Чуть ниже — «Раствор аргентита № 1, содерж — 15 %».
Я посмотрел на Бейсенова. Тот молча забрал у меня флягу с «ахчой» и только начал пить медленными тяжелыми глотками, как, едва не захлебнувшись, молниеносно пригнулся и показал пальцем.
— Окно смотри, там!
Как настороженный зверь, казах сбоку подобрался к окну и сразу отпрянул. Лицо его стало совсем бледным — две серые тени за стеклом будто плавали в аквариуме, наполненном красноватым туманом.
— Ганчев звать нада! — Буран передернул затвор автомата. — Я сигнал дам, а ты шибко ходи отсюда. Барлык сигнал давай шибко, асыг. Асыг!
Понять ничего было уже нельзя, казах побежал, а я оглянулся на скрип двери и застыл, как завороженный.
Серая тень, глухо бормоча, дергала засов. Из глубины подвала был слышен еще кто-то нетерпеливый. Он бился в дверь с каждым ударом все сильнее. Дверь, наконец, поддалась, открываясь внутрь, и потянуло прелью застоявшейся воды.
— Ва-ва-а-яа-а, — голос из темноты резанул по нервам.
Я попятился, сжимая бутылку с аргентитом; тени принимали человеческие очертания. Показались мужик в рабочем комбинезоне и малец в купальных трусах.
— Ва-ва-а-яа-а, — голос мужика, глухой и низкий, походил на эхо в колодце.
Может, это сторож детсадовский, а малец заблудился в подвале? Хотя возраст у него не подходящий. Да и садик не работает давно.
В полумраке я разглядел на голове пацана вязаную панаму с нитями. Он накручивал их на палец и муторно тряс головой. Снова запахло гнильем, тиной и еще какой-то приторной гадостью из болота.
— Эй! — я весьма отчетливо сфальцетил. — Кто там?!
Мужик поднял голову, и я понял, что это Валька Зворыкин. Понял по выступающим передним зубам со щербиной на безгубом сожженном лице. Узнал и оторопел, связанный страхом, потому что этих двоих здесь быть не могло, потому что Зворыкин год назад сгорел в танке, а малец Геня Сыч умер совсем давно. Он утонул, ныряя с баржи. И мы с Валькой видели.
Утопленник опять запустил руки в нитки панамы, и я догадался, что это водоросли. Внутри слизких водорослей что-то шевелилось. Геня посмотрел на меня и, беззвучно распахивая рыбий рот, пошел по ступеням наверх.
Боже, боже, зачем он здесь?
Крик его и плач не был слышен, как и в т о т д е н ь, когда он ушел на дно. А потом Зворыкин сказал мне, что ночью Генька Сыч поднялся из подвала и сидел в нашей кухне с протянутыми вперед руками. С них стекала кровь и вода, а на предплечье висела клеенчатая бирка из морга.
Вслед за утопленником по узким ступеням поднимался Валька. Кожаный бронетанковый шлем съехал набок, обнажив красную голову в белых разводах. От напряжения его лицо походило на кусок старого мяса с торчащими обломками костей.
Внезапно сильный толчок качнул землю. Странный гул пошел с Пискаревки. Резкая, никогда ранее не слышанная тональность сгущала воздух над могилами, и вязкая тьма поднялась мне до груди. Дышать стало трудно. Из мертвой земли ударили острые молнии.
Генька словно решился. Он еще быстрее затряс головой, зеленая гадость посыпалась из волос-водорослей, устремившись в подвал. Трясучка охватила Сыча полностью, словно его щекотали и толкали вперед невидимые бесы. Да он и сам был бес, созданный тем, кто выбирался из пискаревских могил и под крики тысяч голосов кинулся сюда.
Зеленая нечисть пригнулась, и бросилась на меня.
— Сайтанды жой![17] — донесся крик Бейсенова, и под звонкий треск автомата, я швырнул в Геньку зажатую в руке бутылку «аргентита».
Сверкнуло и бахнуло — бутылка, разбившаяся о каменный свод, окатила нежить серебряной водой. Сыч взвыл неожиданно сильным голосоми, отмахиваясь, будто его жалили шершни, бросился по ступеням вниз.
Бейсенов поливал вокруг огнем из автомата. Направив оружие в мою сторону, он нажал на спусковой крючок и завопил:
— Олар маңай! Соқ![18]
Очередь пролетела мимо и прострочила Вальку, точнее — пули, проходя насквозь, оттолкнули его. Валька пристально посмотрел на меня, потом развернулся и исчез в темноте подвала.
Вокруг били красные вспышки. Молнии вырывались из земли одна за другой, намереваясь сделать ночь днём. Длинные, пронизывающие воздух стрелы гонялись за солдатами из оцепления.
Ослепленные вспышками люди кричали и метались в поисках нежданно спасительной темноты. Одни были без оружия, другие наоборот палили вокруг себя из автоматов и винтовок: кто-то уже стонал, сраженный пулями своих товарищей. А с Пискаревки, заглушая крики и выстрелы, наступал вибрирующий гул. То была жуткая смесь из несущихся вихрей, панической дрожи земли и шарахающих молний — било сразу в уши, по глазам и хватало за горло.
Один из бойцов, убегая, на полном ходу врезался в стену. Бейсенов сел ему на спину и принялся бить по каске. Слетел щиток из органо-стекла. Тогда-то и я вспомнил об этом приспособлении. Закрыв лицо, я быстро сориентировался — стекло при вспышке сразу темнело. Повалив выскочившего на меня здоровяка, я так же нахлобучил ему прозрачную маску.
— Держать линию! — я орал и хватал за шиворот очумевших бойцов. — Примкнуть штыки! К бою… товсь!
Привычные команды с пинками и зуботычинами сделали свое дело. Строй восстановился. Адские молнии поутихли, оставив дрожащий гул воевать с нами один на один. Сшибая ногами обломки скамеек и штакетника, оцепление двинулось вперед. Только один солдатик повернулся и бросился в другую сторону, сбрасывая на ходу ремни.
— К Мечниковскому выдвигайтесь, — махнул я Бейсенову, — и раненых забирать!
Бежавший опрометью молоденький солдат вдруг перешел на шаг, а затем и вовсе остановился, словно хотел перевести дух. Он глядел перед собой невидящими глазами.
Догорал мотовагон с установленным на крыше генератором. Небо изогнулось волной, с гребня которой сыпалась прозрачная пена, а исчезнувшие было багровые сполохи вновь поднялись над землей, как ростки цветка-людоеда.
Странные фигуры переходили через насыпь. Один, второй, третий. Их уродливые головы освещали путь сияющим глазом во лбу. Неспешное восхождение напоминало ритуал. За первой тройкой шли носильщики, с гибкими прутьямина плечах. Я подумал, что схожу с ума. Или вижу раскрывшиеся ворота ада, который покидают древние египетские боги со звериными головами.
Но боги повели себя непонятно. Один резко поднял руку, и тогда остальные воткнули в землю железные прутья. Они быстро смонтировали решетчатую конструкцию, похожую на картинку из старого фантастического журнала. Когда на концах прутьев заплясали синие огоньки, от группы отделилась фигура, тянущая кабель.
Твою мать! Это же люди в водолазных костюмах!
Ужасающей была их неуместность здесь, далеко от воды. Видимо, позарез им надо подключиться к трансформаторной подстанции — водолаз с тяжелым кабелем в руках шел и шел, не обращая внимания на атакующие молнии. Красные короткие стрелы мелькали в темноте, и одна вдруг взорвалась возле лица. Ослепленный вспышкой, водолаз споткнулся и покатился с насыпи. Резиновый костюм зацепился за торчащий из насыпи кусок арматуры, треснул по спаянному шву и десятки молний впились в незащищенное тело.
— Давай-давай, пошли, — толкал я ослепшего солдатика. Переступая несуществующие препятствия, он брел, вытянув вперед руки к дороге.
В дыму и пыли показался силуэт ганчевского автобуса. Из дымящейся будки вывалился рыжий капитан с телефонной катушкой в руках.
— Сука! Пробило где-то. Вот не свезло, ведь почти загнали! — он сплюнул и скривился. — Давай тяни, к силовому кабелю надо подключаться.
Разматывая на ходу тонкий провод, я показал в сторону насыпи.
— Там водолазы какие-то решетку ставят.
— Да! — крикнул Ганчев — Сейчас замкнем контур.
Французским ключом капитан орудовал под брюхом автобуса. Закончив с проводом, я помог убрать листы обшивки, чтобы выдвинуть антенны. Отогнув петли, мы отскочили — голубоватая паутина разрядов сразу заняла крышу и забрызгала искрами.
— Теперь пора, — надевая резиновые перчатки, сказал рыжий капитан. — Я пробиваюсь к решетке, а ты обязательно дотяни ленту до столба, обмотай вокруг и жди. Если не смогу прорваться — на вот тебе пускач, — и вытащил из автобуса обычную подрывную машинку.
— Спрячься, — звеняще четко продолжал Ганчев. — Если э т о перевалит через Брюсовскую — взрывай. Но только, когда оно дойдет до середины дороги. Если же я замкну контур, всё равно сиди и жди отбоя.
— А э т о, оно какое будет?
— А там поймешь. Ты ведь уже знаешь, какие у нас «явления природы». Что видел-то?
— Мертвых людей, — сухо ответил я. Капитан усмехнулся и, кивнув, полез в кабину.
Я побежал, разматывая металлическую ленту. Чтобы перекрыть дорогу и обмотать столб, хватило пары минут, а Ганчев за это время добрался к насыпи. То, что он замкнул этот проклятый контур, я узнал, когда изнуряющее дыхание спрессованного воздуха разрядилось оглушающим ударом грома, и зашумели редкие капли дождя.
Теперь не будут ходить по земле мертвецы, и красные сполохи уйдут назад, к остальным покойникам; люди перестанут кричать, разбивая себя о стены, а дирижабль-призрак «Декабрист» уберется в свою арктическую преисподнюю и не возвратится никогда. Не зря погиб водолаз, а мальчишка-солдат потерял зрение. И пожар, бушующий вокруг, станет очистительным огнем, прижигающим вскрытый нарыв.
А приказ есть приказ, и я сидел, держа скрюченные от напряжения пальцы на ручке подрывной машинки. Снова и снова взгляд мой скользил по дороге. Нет ничего хуже, чем ждать. Всё приходило на ум: и что капитан уже погиб, и что теперь везде небезопасно.
А если эти твари везде? И тогда почему я здесь? Зачем? Нет, лучше было бы с капитаном, чем ждать. Ждать невидимого и, может, вовсе неразличимого глазом зла, которое станет понятным лишь тогда, когда возьмут тебя за горло. Это им — Ганчевым, Берендеевым и Гориивановым — легко, они ведь пограничники между нашим миром и чужим, где правит тьма, а не свет. А мне, несведущему и, чего скрывать — дрожащему от страха неизвестности, что может, например, сказать вот этот тихий шорох?
Сквозь неплотную темноту я увидел маленькие, с полметра высотой, столбцы вращающейся пыли. Затягивая мусор и грязь, они вытягивались, утолщались на концах, дрожали. Потом из них потянулись узкие отростки, отмечая свой путь пеплом. Кроме этих столбов ничего пока не было, но уж больно зябко стало — казалось, что издыхающий бродяга шарит вслепую руками по земле.
В судорожном вращении больного воздуха то и дело мелькали знакомые сполохи. Я потряс головой. Это был не сон.
«Руки» тянулись в мою сторону. Наверное, это остатки того «минус-поля», о котором говорил капитан Ганчев.
Обогнув домик на пустыре, «руки» запустили пальцы в заросший пригорок. Болезненно дрожа, они подбирали с земли согнутый пополам велосипед, раздавленное зеркало, разномастный каменный сор, битое стекло… Весь этот хлам исчезал, будто второпях схваченные кусочки пищи.
И всё напрасно, слепленному из мусора и грязи существу требовалась другое — энергия. Энергия живого организма. Моя энергия.
Вспотели ладони. Я чувствовал себя приманкой для хищника и одновременно охотником. Совсем чуть-чуть осталось, э т о выползало уже на дорогу. Осталось лишь повернуть ручку. Но вдруг тяжелый свист, как стопудовый пресс, прижал меня к земле. Стремительный, почти видимый звуковой удар сотряс землю, где-то за спиной посыпалась штукатурка, а несколько уцелевших напротив окон выдохнули остатки стекла. Волна откинула меня прямо под щербатый эркер с львиной мордой.
Я остался один. Меня бросили здесь умирать. Все, кто должны уничтожить зло, сбежали. А я ничего не должен — мое место в патруле оцепления, а не среди оживших мертвецов и летающих молний.
Валька Зворыкин опять стоял на ступеньке подвала.
— Ничего, что ты не в силах выполнить, тебе не поручат, — сказал он Берендеевским голосом. Лев, замурованный в стену, смотрел сверху и как будто чего-то ждал. Я повернулся на движение за спиной.
Рукастая ползучая нечисть оторвалась от дороги и встала, мгновенно превратившись в угловатую человеческую фигуру с узкими полосками вместо глаз. Я понял, что еще немного — и глаза-щели откроются, чтобы увидеть бегущих сюда пожарных и железнодорожников. Чтобы забрать их энергию. И мою.
Нечисть запрыгала в диком танце, абсолютно беззвучно вбивая в асфальт красные обломки кирпичей и острые горлышки разбитых бутылок; она махала костлявыми руками и воздевала их в немом торжестве.
Кровь бешено запульсировала и каждый толчок бил паровым молотом в голову, отдавая болью под лопаткой, а лучи, вспыхнувшие в щелях ликующей мерзкой твари, уже подбирались к моему сердцу. И тогда я нажал на рычаг. Вместо взрыва металлическая лента, взметнувшись спиралью, завертелась и отточенными до остроты скальпеля краями принялась кромсать нечисть. А белый лев выбрался из каменной западни и, спрыгнув вниз, ударил меня в грудь каменной лапой.
В том месте было очень мало света. Вернее, его не было совсем, лишь стремительные золотистые блики изредка проносились в бесшумной темноте. Рядом со мной ворочался кто-то свинцово-тяжелый, мающийся во вздохах и всхлипах, как старый пес у камина.
До него был еще один ― резкий и черный. Чернее окружающей ночи и со свистящими крыльями. Эти крылья отчаянно рубили тьму, опускаясь все ниже, пока не исчезли совсем. Свинцовый тоже уходил вниз, но гораздо медленней, как шарик в глицерине. А я целую вечность оставался на одном месте, плавным течением сносимый к центру, где вращалась пустота, затягивающая в себя окружающий мир.
С приближением темного круговорота начало жечь все большее беспокойство. Там внутри находилось, что-то, имеющее отношение непосредственно ко мне. И хорошее это отношение либо плохое ― факт очень важный. Блаженный покой вечного полусна отрывался мягкими пуховыми лоскутами и вскоре вовсе исчез.
А я стал тонуть. В принципе, даже не тонуть, а погружаться. Немного ― на миллиметр-два, однако это скольжение не сулило ни радости, ни счастья. В отличие от воронки рядом с пустотой.
Воронка тоже была явно не градом золотым, в ней чудились глаза с восьмиконечными стрелами и яркий пронизывающий свет. Это было место, где с тебя спрашивают. А подо мной, в подземной вязкой тьме, угадывалась пустота, в которой спрашивать не будут, потому что и так все ясно. И если в холодной воронке сначала будет вопрос, то в пустоте придется держать ответ.
Я устремился вверх, барахтаясь и визжа совсем как тот свинцовый, утонувший недавно. Он долго-долго маячил внизу, а потом резко исчез, будто в прорубь. Меня тоже тянуло в пустоту. И воронка была уже рядом, виднелись даже ее кольца, отливающие изнутри тусклым гранитом. Но чем дальше вниз я уходил, тем хуже держала темнота. Она стала гораздо менее вязкой, и больше нельзя было плавать в ней, как в море; да и темнотой назвать ее было уже нельзя ― скорее, был это плотный туман, сквозь который доносились чавкающие хлопки и скрип ржавого железа. Нет! Нельзя туда. Там больно и плохо. Конечно, не так, если упасть в самом начале этой орбиты (недаром так неистово махал крыльями черный), но уж больно тоскливо. И сама боль там бесконечно-зудящая, как воспаленный нерв.
Мягкая тьма разорвалась белым косым надрезом. Обожгло холодом, воронка уползала и последним жестоким прыжком, в который были вложены разъедаемые ледяной пропастью силы, мне повезло обнять край волны и улететь прочь.
Зала, в которую бросил меня гранитный омут, была наполнена тишиной. Но тишиной осязаемой, создаваемой множеством находящихся здесь людей. Я понял, что это за место и удивился, что совсем не удивился.
Присутствующие были в грязно-зеленой одежде, либо в черном с полосками. Они разместились вдоль анфилады, ведущей к двум ребристым шарам. Кое-где слышались голоса, но большинство сосредоточенно молчали, даже те, кто имел на рукавах звезды, в полутьме переливающие багрецом.
Серые тоже были здесь. Они теснились в своих дурацких кепках с длинными козырьками. Странно было видеть их на вытянутую руку от себя, но здешний владетель рисовал, бросая на холст всех: тех, кто рассказал о своей близкой смерти, и тех, кто пять раз на дню смотрит на камень пустынного пророка; тех, кто ищет ответы в семи книгах, и тех, кто ответ нашел и записал его на красном листе, лежащем в стеклянном кубе мессии. Кресты и звезды остались за внешним пределом, а здесь было то, что ты есть на самом деле и никакие, хоть золотые двухпудовые цепи с ладанками не станут лестницей в небо.
Многие из сидящих в зале уходили. Одни возвращались быстро, всего минуты через две-три, другие исчезали совсем. Пропадали, в основном, люди в пижамах и гипсовых повязках. Человека в летном реглане вели под руки двое. Точнее ― под руку, потому что второй не было. На ее месте шевелилась красная масса, дрожа лохмотьями и обрывками сухожилий. «У вас тоже вместо сердца пламенный мотор, Вадим», ― звенел далекий женский голос.
Неизвестно откуда взявшийся старик посмотрел на меня.
— Кто ты? И как твое имя? Если не услышал своего имени, то будешь отозван.
— Куда отозван? ― вспомнилась холодная бездна у края омута и я чуть не закричал. — Я из ледяного провала выскочил и теперь никуда не уйду!
— Из пустоты, говоришь, выбрался, ― старик казался удивленным, ― тогда в дальнем мире сильно нужна твоя сущность. Да. И неживые вещи остались при тебе, ― он задумчиво тронул бронзовую пуговку моей гимнастерки. ― Идущие к вратам оставляют все, что вратам не предназначено.
Я в сомнении ткнул в блестящий обруч на запястье старика.
— Это купрос, — последовал ответ. — Медь, благословение древних.
Почти все окружающие, действительно, не имели стальных или пластмассовых вещиц: часов, никелированных пряжек и прочего, созданного человеком в обход природы. Изредка проблескивала медь, либо нечто серебристо-золотое; торчали из ремней деревянные ручки ножей, да оставалась целой одежда.
Старик еще раз поднес ладонь к моему лбу, но вдруг испуганно одернулся.
— Твое время еще не пришло!
Полыхнуло огнем, стало трудно дышать, а через мгновение брызнуло каплями света в лицо, и меня понесло вверх, совсем как из артиллеристского окопчика на берегу Даугавы. Только не пели вокруг осколки, и небо стало не дождливым, а чистым и светлым, как в тот памятный августовский день сорокового года.
Глава 6 Праздник Сталинской авиации
18 августа 1940 года наш ОСОАВИАХИМовский лагерь готовился к празднику. С утра девчонки-инструкторши обклеивали стадион портретами героев-летчиков, курсанты готовились к праздничному шествию, а мы с Веткой Полтавцевой копошились в небольшом помещении под трибуной, вытаскивая портреты Вождей и вручая их делегатам от отрядов. Вскоре остался только Клим Ворошилов, но его начальство почему-то сказало не выдавать. Мы поставили бывшего наркома у стенки, но едва отошли, появился завхоз Карпенко.
— Ни, хлопцы, — сказал Карпенко, освобождая антресоль. — Придумали тоже! Не место маршалу у стенки.
— А чем не место?
— Тю! Прошлого раза там Фельдман[19] стоял.
Завхоз вытер лысину кепкой и решительно взялся за угол стенда.
— Ворошилова на чердак тащите, мы с ним германца под Харьковом рубали в восемнадцатом.
Мы затянули первого красного офицера, сверху поставив макет тачанки. Я порезал палец о миниатюрный облучок, а Ветка, у которой дядька, лыжный доброволец, вернулся с финской войны инвалидом, ругнулась тихо:
— Ты б с ним лучше под Выборгом чухонь рубал. — И сполоснув руки из крана с висящим шлангом, вышла на улицу.
Трибуны к этому времени расцвели багрецом флажков, собранных по всему лагерю.
— Твои когда будут? — спросил я чихающую пылью Ветку.
— Эти охламоны закончат, и начнется тренировка.
Юные стрелки соревновались отчаянно и основательно, так что авансировать минут двадцать на личные дела я успевал и попросил Полтавцеву приглядеть за моей группой, если не подоспею вовремя. Ветка кивнула:
— Заметано. А ты тогда отдай Далматовой вот это, — Совета протянула мне бумажный пакет с вещами: футболка, небольшая книжка без обложки и круглое зеркальце. — Вы, вообще-то, чего у меня тогда в комнате делали?
— Я ж тебе говорил.
— Говорил. А теперь расскажи, что было на самом деле. А то, как вафли мои жрать да на кровати валяться, так это вы можете, а… — Не выдержав, Полтавцева засмеялась. — Ну и рожа у тебя сейчас.
— Ветка, ты чего несешь, дура.
— Ладно, не пыхти. Иди уже, куда хотел… А что за срочность у тебя — скоро ведь шествие начнется?
— Дело у меня. Срочное.
— А ну, а ну… поподробней пожалуйста, — сказала Ветка, наклонившись ко мне.
Я заерзал.
— Да ну, там, в общем… — Веткина голова склонилась еще ближе, почти к моему лицу. — Ты никак шалить начал? — она ехидно прищурилась. — Говори с кем!
Я сделал неопределенно-изворотливое движение, которого хватило бы вместо объяснения любому культурному человеку. Но не Полтавцевой. Наоборот, она двинула меня кулаком в бок, понуждая к раскаянию.
— Признавайся! — и, прижавшись совсем уже неприлично, подставила ухо. — Можно шепотом.
Хотел я ей дурацкость сказать и ущипнуть пониже спины — даже руку на талию положил. Но не успел. Сзади грохнуло остро и глухо. И обернувшись, мы увидели Астру возле перевернутого ящика с флажками.
— Ты чего, Далматова? — спросила Ветка.
— Я ничего.
Астра тяжелым взглядом проводила мою руку, сползающую с Веткиной задницы, и продолжила:
— А вот зачем ты, Совета, чужих…
Запнувшись, она стала наматывать на локоть веревку с флажками из ящика, выдав напоследок с подделанным безразличием:
— Вас, товарищ Полтавцева, в медпункт просили зайти.
У Ветки аж лицо вытянулось. Взгляд прыгал с меня на Астру. Приподнялись длинные руки. Большие глаза делались еще больше в разбуженном понимании происходящего. А потом уголок рта ехидно пополз вверх, без слов произнося приговор: «дура, говоришь, Саблин… ну-ну…».
Полтавцева за полсекунды смылась, а принцесса, домотав на руку флажки, швырнула их мне под ноги со всей силы. И так же быстро убежала.
Я постоял, хлопая ресницами, а потом захохотал. Придурковато, но радостно и громко. Только что две девчонки было со мной, потом бац — и обе в разные стороны.
Вещи, забытые Астрой в т о т вечер, были как перо жар-птицы: я все глядел на них — была-таки принцесса! Но сейчас они были грустным эхом прошедшего, тенью мечты, душевной Альгамброй[20], хранящейся в картонной коробке. И расстаться мне с этим сокровищем было труднее, чем Фебу с лавровыми вениками[21].
Ладно, отдам вечером.
Положив бумажный пакет на койку, я умотал «по делам», а когда вернулся, вместо него валялся лишь мятый френчик моего соседа Степы. Сам он дул в шишки утюга, собираясь гладиться.
— А где вещи?
— Какие?
— Ну, книжка из эпохи 1905 года, зеркальце… футболка.
— Черная?
— Зеленая.
— Да были вроде, но ты лучше у Юрочки Жукова спроси, он передо мною гладился.
— А какого он тут…
— Тебе что, жалко? Доска одна для всего коридора… И вообще, какие футболки могут быть! Праздник, оденься прилично.
— Да не моя она!
Степа присвистнул.
— Тогда давай искать.
Недоумевая, я рылся в тумбочке, вынимал и снова укладывал, заглянул под матрац, поднес к свету коробку. Пропали вещи Астры, будто и не было…
— Здравствуйте! — В окне я увидел Варю Халецкую.
Половина наших стрелков — девушки. Не знаю, какими были они в городе: веселыми или занудными, красивыми или не очень, умными или глупыми, счастливыми, противными, компанейскими. Кто знает? Но здесь они были здоровы, шумны и симпатичны. Интересно, почему? С едой не так чтобы — иногда в столовке чай да хлеб скверной выпечки. Режим не артековский: кроссы, заплывы, ночные шатания по азимуту, физподготовка. Жили в палатках и щитовых бараках с дырками.
Правда, отдельные гражданки, подорвавшие здоровье в суровых буднях, занялись поисками выхода на волю, задружив с подлогом и обманом. В ход пошел целый арсенал от банальных радикулитных справок до сложносочиненных трагедий в двух частях с прологом и эпилогом. Но оставшиеся… Ух, девки! Чисто красные яблоки в корзине.
Смотреть на этих румяных кобылиц было просто мучением. Я, в принципе, не шибкий ходок по таким делам, но тут уж, извините, — это как волку овец стеречь без привязи. Комиссар лагеря, скотина жареная, так все устроил, что любой покус расписывался очень жесткими красками. Ему что, он в Гниломморе[22] еще в Гражданскую себе все поморозил и зырил на всех, как тошный свекор.
Нет, оно понятно: дисциплина, моральный долг. Мы ведь обучать их стрелковому делу призваны, а не по кустам валять. Но, честное слово, в глазах этих девчонок можно было иногда отыскать все, кроме готовности к труду и обороне. Да и парни иногда желали овладеть оружием куда меньше, чем товарищем по оружию в юбке.
Я поначалу бесцельно губил юность, считая себя человеком почти семейным, но в последних событиях лучом света блеснул вопрос: а на кой? Теперь уже ясно, что Ольга шлепнула хвостом, и не устраивать по ней великий плач силы нашлись — через любовь к Астре на это смотрелось проще. Сама принцесса находилась в неприступном зените, а ты ходи, вздыхай. Пора было начинать работу в ином направлении.
Вспомнился подслушанный разговор девчат с «Веретена»: свежеиспеченные разрядницы неплохо расслабились и я узнал, что они думают: о стрелковых нормативах — «ужас какой-то», о комиссаре — «старый мудила», о международном положении — «вся эта хрень с немцами добром не окончится». Узнал, что Федя Зеленый сманил в кусты кладовщицу Тимофеевну и так ей вдул на пеньке, что несчастную увезли резать аппендицит. Потом очередь дошла до меня.
— Андрюша, строгий такой, не улыбнется лишний раз, — посетовала Наташа Ермак, ладная маленькая бригадирша ткачих.
— Строит из себя, — ответил неузнанный голос. — А на внешность — так даже очень.
Последовало обсуждение моих достоинств и отрицательных черт, закончившееся вечным вопросом: «А у него большой?»
— А ты пошшупай!
Кусты сирени взорвал клубничный смех и, не дожидаясь развития событий, я поспешил смотать удочки. Ну их, без штанов оставят.
Я вдруг почувствовал себя свободным от всех цепей и перестал бороться до изнеможения с природой. Оказалось, что хлопок по заднице, подмигивание или чуть более тесный обхват в стрельбе с колена не вызывает резкого пресечения. Максимум — схлопочешь по рукам, зато, сколько волнующих перспектив! Будь что будет.
Варю Халецкую я крепко держал сзади, ставя ей локоть на «упражнениеодин». Негодяйка будто случайно завела руку себе под грудь и ехидно растягивала губы в ответ на мою неизбежную реакцию.
Плюнуть на зануду-комиссара, плюнуть. Ведь как оно в песне: «кто весел, тот смеется, кто может, тот… кто хочет, тот всегда найдет». Вот и подыскал я себе с Варей местечко поукромней. У-ух! Даже стол поломали. Варя тоже, наверное, долго ждала своего часа — через три дня я уже еле ноги таскал.
Было с ней хорошо и весело, а дамоклов меч «бытового разложения» лишь додавал остроты нашим встречам. И в оружейке у Феди, и в лесу, и вечером на реке — куда случай только не забросит дорвавшуюся парочку. А вот сейчас надо было уезжать Варе — заболел ее сын, проводивший лето у бабки в Левашове.
— Меня провожать не надо, — сказала Варя. — Свекровь звонила сюда и сказала, что у Ваньки простая ангина. После обеда поеду.
— А доктор хоть есть там?
— Есть. Фельдшерица Анна Францевна. Ванечку она с трех лет знает.
— Это хорошо, только я тебя все-таки провожу. Транспорт найду.
— Не надо, Андрей. Вечером Лешка поедет забирать бидоны со станции, так я с ним.
Глаза Вари смотрели чуть грустно, и успокоенная их тревога наполнялась тихой печалью расставания.
— Варюш, если тебе несподручно, я отряжу кого-нибудь для чемодана, а сам буду на платформе ждать.
Она рассмеялась:
— Ладно, провожай, если ты кавалер такой. В полшестого на мостике тебя прихватим.
* * *
Плюющиеся капельной дрянью тучи отступали на север. Цепляясь за кроны деревьев, они висли над разворачивающимся в небе полотнищем, но ветер погнал их дальше в Финляндию и, наскоро обернувшись, взметнул над стадионом отливающий кумачом портрет Вождя. Начинался праздник Сталинской Авиации.
Первым было торжественное прохождение. Начлагеря Еделев вручил нам с Веткой транспарант и поставил впереди колонны стрелков, сразу за огромным макетом танка. И мы шли под звуки «Страны Героев», совсем как Мэри Диксон и Иван Мартынов из кинокартины «Цирк».
Прохождение стартовало от белой полоски с надписью «финиш» и половину пути я, не отрываясь, глядел в задницу бутафорского танка, влекомого невидимыми носильщиками. Уже отбелели платками колхозниц шитые доски трибун, уже проплыл пьедестал с рупорогласным Еделевым и длинные тени орущих путейцев спрыгнули за спину, а я все не мог оторваться от мелькающих из-под цыганской брони белых пяток.
Многоголосый рев подобно электрическому току бил под дых, устремляясь потоками энергии к самому дну организма.
— Слава Красной авиации!
— Ура!
Невидимые лучи проникали в мышцы, кровь и дальше — в клетки и атомы, чтобы, мчась подобно молнии, зажигать все на пути электрическим огнем.
— Слава советским летчикам!
— Ур-ра!!
И поднималась ответная волна — кипящая и бурная — в стремительном беге ломающая все преграды.
— Слава первой пролетарской стране!
— Ура-а-а!!!
Казалось, что я взмою в небо или обниму руками земной шар, выдавливая из старого мира красные капли. Я чувствовал себя деталью исполинского организма, сверкающего железными крыльями в блеске огней мартена. Только деталью, но деталью важной, деталью, выполняющей свою функцию и вместе с тем чутко улавливающей ритм своих механических собратьев, готовой заменить в любой момент любую из них.
Боль каждого элемента отдавалась болью во мне, а радость зажигала один из тех огоньков, складывая которые моя отчизна освещала путь в будущее. И этот свет объединял миллионы людей в одно громадное Я.
Это ведь мои самолеты покорили Северный полюс, это моя армия раздавила самураев на Халхин-Голе, это на меня смотрят угнетаемые всего света, это мое сердце сияет рубиновым огнем над кабинетом величайшего человека современности! Человека, который знает все беды и радости каждого гражданина моей Великой и Родной страны. Человека, который сделал нашу страну Великой и стал всем Родным.
Кто-то подкинул мои руки, державшие знамя, и сказал моими губами: «Слава!» А я вторил ему, и слезы текли от неохватного счастья. Я повторял шепотом, как молитву: «Слава! Слава! Слава!»
И в каждую клетку входила острая звенящая дрожь. И все нарастала, пока не собралась в груди, пробившись оттуда на волю гремящим радостным криком:
— Слава товарищу Сталину!!!
— Слава, С-л-ава-ва!!! — подхватило тысячекратное эхо и швырнуло нас в темную прохладу под трибуной, где приходили в себя участники праздничного действа.
Мы долго еще ликовали, дыша гипнотическим эфиром, и пьянящий кислород наполнял грудную клетку чем-то горячим и светлым. Он струился по венам вниз, забираясь в такие уголки, что я кинулся в комнату, где мы с Веткой выдавали портреты, остудиться потоком воды из холодного шланга.
— Андрей, прикрути воду, у меня еле течет.
Полтавцева склонилась у крана, подставляя брызгам шею и плечи. Легкое платье Ветки уже намочили холодные струи. Лицо ее держало отблеск знакомого безумия, дыхание резало слова, глаза горели.
Я машинально задвинул засов и, подойдя к склоненной фигуре, положил ее руку на маховик вентиля.
То, что Ветка оделась наспех, я ощутил, когда схватил ее сзади. Казалось, что в меня сунули паровой котел, и он сейчас взорвется, если не выпустить пар.
— Ветка…
— Что-о?
Я прижал ее к себе. Ветка охнула, но лишь крепче уцепила вентиль, выгибая спину. И тут оборвался шланг.
Резиновая сволочь окатила нас водой, напрочь убивая холодным потоком внезапное помрачение нахлынувшей страсти.
Сколько-то еще поплавал туман в глазах, потом где-то рядом загомонили, и взаимное притяжение ослабло. А когда шум перешел в топот, пропало окончательно.
— Бред какой-то, — сдавлено бросила Ветка и, зажмурившись, замотала головой.
— Ты негодяй, — добавила она, накинув полотенце на шею. — Не ожидала от тебя, Саблин, подобного свинства.
— Я сам от себя не ожидал.
Дурманящая пелена окончательно уползла прочь, оставляя меня тет-а-тет с Веткой и совестью.
— Ты, Ветка, прости меня, а?
Полтавцева грустно ударила по вислому шлангу и тот закачался. Ветка прыснула:
— Донжуан!
— Советочка…
— Иди уж, герой.
Я просительно улыбнулся, и быстро поцеловал ее в щеку.
— Иди отсюда, а то побью!
Хорошая все-таки она девчонка.
Мы знались с малолетства, когда Ветка еще гацала на детской площадке в дурацкой панаме. И потом, после возвращения в Питер, и когда учились — я в универе, она в институте Крупской — дружили… И на тебе — чуть не… это самое, друг друга.
Бежать! Бежать прочь, пока не сгорел со стыда.
— Ты, кстати, от Далматовой тогда целый ушел? А то она так посмотрела…
— Как?
Ветка медленно повернула голову, поправляя полотенце на длинной белой шее.
— Слушай, друг любезный, а у тебя с Астрой не шуры-муры часом?
Я невесело покачал головой.
— Не, Ветка, у нее ухажер в Питере есть. На блатного похож, с фиксой.
— Ероха, что ли? — Полтавцева с непонятным смешком махнула рукой. — Тоже мне кавалер — гопота Заохтинская.
Ветка отошла в угол и, спрятавшись за шкафом, стала переодеваться.
— Так, а чего он сюда к ней ездит?
Из-за шкафа донеслось:
— Ну, ездит и ездит. Там другое вообще…
— А с кем она тогда?
Полтавцева зашуршала чем-то, отзываясь:
— Да ни с кем! Аська такая, знаешь, «принцесса нездешняя». Вроде с виду нормальная девка, а насчет всякого-такого…
Шорох разнообразился надсадным скрипом дверцы, вслед за которым послышалось Веткино чертыхание:
— Саблин, там это… нигде ничего не лежит?
— Что не лежит?
— Ну… — Полтавцева зашипела. — Бюстгальтер.
Интимная деталь обнаружилась под сумкой возле маленького зеркала.
— А чего он большой такой?
— Убью гада, — погрозилась Ветка и скоро вышла, поправляя горошистое платье. В сочетании с только что подсмотренным, была она просто чудесна в этом пахнувшем летней зеленью наряде, и досадно стало, что не могу я в нее влюбиться.
— Ветка, а у тебя есть кто?
Она, чуть согнувшись, поправляла в зеркале что-то на голове, косясь в мою сторону:
— Леша есть, Емельянов.
— А-а, это худой такой, как глист!
— Сам ты глист. Лешик, между прочим, боксер-разрядник. У самого Осечкина тренируется. И растет над собой в плане культуры, в отличие от некоторых… — Ветка достала тюбик с помадой, но подумав, спрятала его обратно в сумку. — Ты вот на Далматову заглядываешься, я поняла уже. А если она вся такая принцесса, следовательно, ей нужен кто?
— Принц!
— Правильно. А ты, Саблин, при всем моем к тебе расположении, — Ветка критически оглядела меня с ног до головы. — На принца никак не тянешь.
Раскритикованный Полтавцевой в пух и прах, я, тем не менее, открыл ей дверь и мы пошли по коридору, ведущему прямо за стадион.
* * *
— Авдей! Авдей! — орал конопатый шибздик, нетерпеливо подскакивая на левой ноге. — Авдей, опоздаем!
Кусты невдалеке зашуршали и какой-то пацан, видимо, этот самый Авдей, выбежал на песчаную дорожку, застегивая ремень. Конопатый торопил:
— Быстрей ты, скоро бег с препятствиями начнется.
Бежали работницы канатной фабрики. Лица их скрывали противогазы, но болельщиков это мало тревожило. Девки были молодыми и здоровыми, бежали на совесть и мужики поддерживали красавиц так бурно, что поломали несколько досок деревянных трибун.
М-да, неплохо. Я задымил в ожидании следующих «скачек».
— Любуешься? — Голос Степы, моего соседа по комнате, скользнул в паузу аплодисментов.
— Есть чем.
— Да… Слушай, Андрюха, тут патроны давали. Гадость редкая. Мало того, что порох никакой, еще и гильзы железные.
— А ты их смазывай.
— Да мажу я, а толку нет.
— Тряпочкой попробуй. Тряпочку намочи в ружейном масле и три. Главное, чтоб не салом. На сало разная дрянь липнет, винтовку испортишь.
— Попробую, спасибо. — Степа стрельнул папиросу и, чиркая длинной спичкой, выдавил: — Слышь, тут дело такое… Ну, в общем, это… — спичка все не загоралась и он сломал ее, выкинув вместе с папиросой. Словом, треп идет, что вы там с одной подругой будто бы… — Степа хлопнул пятерней по сжатым в трубку пальцам.
— Ты че?
— Я только разговор передаю.
— Да меня с Варькой и не видел никто, кроме тебя и Зеленого.
— Какая Варька! На тебя Далматову списывают. Комсорг, как ошпаренный, бегает — бытовое, мол, разложение. Ты вроде как пьянствовал с ней, ну и всякое там… Жуков пряник еще тот, так что — будь готов.
— Всегда готов.
С Юрочкой у меня были давние счеты. В Ленинграде он работал литейщиком на машзаводе «Вперед» и был в цеху не освобожденным комсоргом. Видимо, имелась у Жукова сильная тяга к умственному труду на общественном поприще. А образования не было. Вот и пнулся Юрочка, стараясь получить место у конторки. Членствовал во всевозможных бюро, добросовестно выявлял вредителей на собраниях, пролезал на всякие там инструктивные совещания и, наверное, маму родную поменял бы на благодарность в личном деле.
Здесь он тоже развил деятельность очень бурную, выискивая в повседневных мелочах следы подлой деятельности врагов социализма. Неизбежные житейские проблемы он клеймил «уродливыми отклонениями в деле соцкультфронта», неудачные стрельбы — «предательством интересов вооруженного пролетариата», а что-нибудь вроде танцулек с портвейном махом заносил в «бытовое разложение».
Конечно, «бытовуха» не шпионаж в пользу Англии, но в 37-м этой гребенкой хорошо прочесали многих руководителей комсомола. А Жукову светило место в райкоме и старался мальчик за совесть. Неплохо мог замутить воду комсорг и плавал в ней жирной плотвой, копая донную грязь. Одного зацепит высланными родственниками, другого — обеденным пятном на газете с речью Вождя, еще кому-нибудь устроит гнилую подсечку и устроит так, чтоб от него зависело — упасть человеку или подняться.
Большинство, понятно, избегало конфликтовать с Юрочкой. Всем хочется покоя, каждый несет за плечами торбу мелких грешков и кому в радость разжиться неприятностями, если даже сам Еделев — комполка запаса при белой как снег анкете — взят был на прицел Жуковым в «плане борьбы с канцелярским стилем руководства».
Правда, такой мамонт, как начлагеря, ему не по зубам. Герой Энзелийского десанта, ранен под Новобаязетом[23], грамота от ЦИК Дагестана и револьвер с именной табличкой. Да и время сейчас другое.
С ежовщиной покончено, самого предателя-наркома осудили, кажется. А во главе ЧК вождь поставил Лаврентия Павловича — преданного соратника по Кавказу.
А Юрочке наверх — ой как хочется! Потому и гнобит людей. Курсанты не менее нашего терпели от его выходок. Когда административный пыл комсорга охладевал, он лез в стрелково-спортивные дела. И сильно тускнел народ, когда деятель этот залезал в учебный процесс. А Юрочка брал прошлогодние невыполненные обязательства и обещал выполнить их! Уж лучше б наполнял что-нибудь большевистским содержанием… Оно б все ничего, только стрельба из пулемета на лыжах зимой проводится по снегу. Чтоб, значит, лыжам было по чем ездить. А дураку и август — зима, главное — отчитаться.
Ну и отчитался: в спешке не проверили матчасть и коробка «Максима» раскололась. Жуков завизжал «держи вора» и хотел перевести стрелку на Мишку Андреева, здорового мрачного парня с Правого берега[24].
Сначала давил на халатность и расхлябанность, потом вошел в раж и поставил вопрос о вредительстве. Я последний работал с этим номером и знал, что там слабо натянута возвратная пружина. Повесил бирку «неисправно — в ремонт» и все записал в ремкарточку. А этот дурак в нее даже не глянул — невтерпеж было.
На собрании я прижал Юрочке хвост. У-у, — вопил тогда Жуков, — а-а! Третирование, так сказать, актива. Но в тот раз его «стишки» обычного действия не возымели и гад утих. А теперь вот дождался лучших времен.
Хоть и не грело меня вмазываться в гадючную распрю с Жуковым, но раздуваемые искры надо было срочно гасить. Ведь будет копать и копать, сволочь. Почему, интересно, подобным типам в радость мучить людей? Мозги у них так повернуты или крутая жизни тропа отняла на поворотах отпущенную по рождению человечность? Жукову судьба ее отмерила лет до шести.
В школе он, наверное, ябедничал педагогам, затем перешел к более крупным пакостям и к двадцати своим неполным превратился в окончательную гниду…
Забытая принцессой черно-полосатая футболка была накрыта воняющей самогоном книжкой, означая, надо полагать, разврат и пьянство.
— И что ты на это скажешь? — требовал ответа комсорг, обводя плавным барским жестом улики грешного бытия.
— Что, интересно в чужом белье ковыряться?
Я собрал вещи, стараясь удержать остатки спокойствия.
— Положь на место! — Жуков заверещал и разом пропала вальяжная чиновничья спесь. — Я тебе устрою чистку рядов!
— Плевало захлопни.
Юрочка схватил край футболки, продолжая вопить, и тогда я двинул ногой в тумбу стола. Мощный угол с глухим чавканьем уперся ему пониже пояса, и Жуков, качаясь в характерной позе, зашипел белыми губами:
— Ну все, сука, будет тебе счастье. А шлюшку твою из лагеря выгоню с волчьим билетом.
Саму безобразную драку я помню лишь отдельными фрагментами. Пробелы затем восполнили свидетели, освещая разные эпизоды в ракурсе своих предпочтений к тому или другому участнику происшествия.
Так, например, самодеятельный артист Хустин утверждал, что я избивал Юрочку ногами, извергая при этом «ничтожные угрозы». Медеплавильный подмастер с «Красной Зари», наоборот, ставил упор на «хамском отношении комсорга к товарищу Далматовой» и добавлял, что у них в Клочках за такие слова ноги ломают.
Разрушения в комнате, слава богу, не задели шкаф с вымпелами и высоко прибитого сталинского портрета. Единственное, упал кумач с надписью «Боец, не владеющий винтовкой — ручка для штыка» и накрылся макет винтовки Мосина. Упоенный боем комсорг воткнул поминаемый на плакате штык мне в плечо.
Нас отвели в санмедкомнату, где Жукову промыли разбитый глаз, а мне заштопали и забинтовали плечо, оставив лежать на жестком лазаретном топчане. Вскоре появился Федор Иванович Зеленый.
— На ягодах, — сообщил он, вытаскивая «полушку» мутного раствора. — Вчера делал, — и, выглядывая в коридор, быстро наполнил два бумажных стакана.
Бурая жидкость потекла вниз, деловито вкалывая под ложечкой острые ежовые иглы. И еще елозил внутри первый еж, как Федя заботливо нагрузил по второй.
— Давай-давай, студент, это, брат, сильная вещь — полчаса пройдет и хоть на танцы.
Второй еж присоединился к первому, сразу же затеяв с ним громкую возню. Они бурно делили что-то, фыркая и катаясь в пищеводе.
Насилу успокоились оба: один нашел себе развлечение, дергая за ниточки, привязанные к моим рукам и ногам, другой забрался в голову и шелестел там, бегая по кругу. Федя вывел меня через окно и повел домой, повествуя на ходу о знакомом башкирце, занозившегося на лесозаготовках. Остатки острых щепок вытаскивали, по его словам, еще месяца три длинными щипцами.
— А твояДалматова хуже занозы, — бормотал Зеленый. — Говорил тебе, что добра не будет? Говорил! Дырку ты за нее уже получил. Беги, студент.
Тоскуя на матраце, я пытался найти успокоение мыслям. Одолев страничку из «Методических рекомендаций стрелковой службы в системе ОСОАВИАХИМа», я бросил методичку в угол. На кой ляд эти нормативы и «мишени ростовые», если вечером из меня сделают мишень № 9. Занести в пассив можно очень много — только постарайся. Пьянство, разврат, хулиганские выходки, избиение актива и бог весть каких еще собак найдет повесить пескарь Жуков.
Обязательно выплывет разное дерьмо, вроде письма этого недоношенного сморчка Хустина, где он клеймит «инструтора Саблина, во время учебных стрельб палившего из револьвера по лягушкам и другим земноводным». Многое может зацепить комсорг. Но Астру пусть лучше не трогает.
* * *
Под вечер я вышел проводить Варю. Тележка с поддатым конюхом ждала меня аккурат за мостом, и, обнявшись с Варей, мы всю дорогу слушали россказни лихого возницы.
— Товарищ Сталин что говорит? Социализм, говорит, построен, значит, будем дальше двигать. В коммуне остановка. Да ты рассуди, — толкал меня в бок радостный конюх. — Трудодни сейчас богатые. Верка моя чучелом ходила скоко лет, а теперь! Женился-то я в тридцать втором, с действительной пришел и сразу, думаю, Маню заарканю. А житуха тогда была… — Лешка замотал головой, схватившись за челюсть. — Ни боже помоги. Когда на Волховстрой по трудмобилизации щебень возил, думал, ноги протянем. Гэсу эту долго еще до ума доводили. Ага. На другой год полегче, потом еще, еще. Радиоточку соорудили. В сельпо тебе нитки-пуговицы, ситец-диагональ, покупай, чего душа захочет. Народ, понимаешь, все больше в сапогах стал ходить, едрена матрена. А недавно транда моя — в Питер, говорит, поеду. Поехала. — Лешка раззявил пасть и заржал так громко, что испугался даже конь Бадул.
— Накупила помады всякой. Оделась в эту беретку — ну дура дурой. Обиделась… Вы, говорит, Алексей Фомич, в культурном плане человек сильно отставший. Я все, понимаешь, гы-гы да га-га, а потом глядь — вроде как и не она. Такая бабенка, знаешь!
— Какая?
— Ну, такая…
Культурно отставший Алексей Фомич вылепил руками из воздуха нечто объемное и для наглядности покрутил низом туловища.
— И ведь, что главное. Видит она мое мужчинское смушчение и давай жать. Надо, говорит, стул купить городской и у окна его поставить; вон там этажерку для книжных изданий, а в углу патефон. Я, мол, приглядела не очень дорогой в магазине «Ленмузтреста». — Лешка зыркнул по сторонам и сказал тихо:
— А цена ему сто шестьдесят рубликов, понял? Сто шестьдесят!
— Ну так и что? Зато поставишь трубу — и слушай.
— Да, взял и поставил! — закричал конюх обиженно. — А компостовать на какие шиши я буду?!
— Ну, это я не знаю.
— Вот и молчи тогда. Патефона им захотелось.
Алексей Фомич перебрался на другой бок телеги, будто не желая сидеть рядом с человеком, вздумавшим разорить его приобретением патефона. Он шлепал кнутом ленивого мерина и гундел:
— Квакало свое помадой накрасила и ходит принцессой. Патефона им… Дам промеж глаз — и балалайка сгодится.
Потом он успокоился и стал припоминать службу.
— Эт я вам скажу — дело. Не без строгостей, конечно, так на то и войско. А так — в обед кормежка горячая, город Омск видел, грамоте в полковой школе нахватался. Почти шесть классов закончил.
— А почти — это как?
— Заболел. В кордоне стояли вокруг тифозного поселка, потом карантина десять дней — там и подхватил сыпняк. Долго парился. И сразу на увольнение с действительной. Зато домой приехал, а там уже колхоз. Председатель из-за стола руку жал, поднявшись. Уважение! Как запасному красноармейцу материалу дали на поднову избы. Раньше то все — Лешка, а вернулся — не меньше, как Алексей Фомич. Да на «Вы», да в президиум. На тракториста посылали учиться. Не схотел. Ну их, механизмы эти, лучше конь.
— Н-но, пошел! — Лешка замысловато раскрутил бич и мерин, поднимая брызги, влетел на дорогу, ведущую к железнодорожной платформе.
* * *
— Прощай, милый, — Варя приложила на секунду голову к моему плечу, едва ощутимо прижимаясь телом.
— Варь… я это… Как тебя найти в городе? Адреса не говоришь, так давай встретимся где-нибудь.
— Все, Андрюшечка, все, хороший мой! — У Вари скользил белорусский акцент, и получалось «Антрушэчка».
— Почему?
— Потому что одно дело за бабьей надобностью на мужика прыгать, а другое — за удовольствием. Да и тебе не замуж меня сватать.
— А пойдешь?
Варя, помолчав, ответила:
— Не. Мой благоверный — он неплохой. Счетовод в конторе. Пьет только, зараза. Сюда меня отправил, радовался. Дома то я ему «даю жизни». А тут гуляйво — пить можно три недели.
Она рассмеялась.
— Ты хороший парень, Андрей, я тебя вспоминать буду.
— Варь, телефон хоть не выбрасывай.
— Ладно.
Мы крепко обнялись, и, прижав к себе, я поставил Варю на подножку вагона. Варя пахла елкой. Поезд поехал, я уцепился за поручень, ругаясь с кем-то в железнодорожной фуражке. А потом я увидел белое лицо Астры. Кусая губы, снегурочка повернулась и исчезла в наступающей темноте.
Конюха и след простыл, когда я подбежал к вокзалу. Надо Астру скорей догна…
— Товарищ, ОСОАВИАХИМовский лагерь в какой стороне?
Черная «эмка»[25], сбрызнутая первыми каплями лунного света, стояла на травяном бугорке, и из открытого окна смотрела голова в парусиновой кепке.
— До лагеря говорю — далеко?
— До лагеря? А, нет, тут рядом.
С другой стороны хлопнула дверь.
— Вы, надо полагать, тамошний инструктор? — спросил бесцветный, как будто знакомый гражданин, разглядывая белые стрелы моих петлиц[26].
— Я не тамошний, я тутошний.
— Ну, садись, тутошний, дорогу показывай.
«Эмку» затрясло на ухабах и, всматриваясь в сгущающуюся темноту, я думал о том, что запутался вкрай. Ну, действительно, сплю с Варей, люблю Астру, на Ольге собирался жениться. Еще и Ветку чуть не того. Аферист какой-то. Словно бобик сорвался с привязи и давай… Завязываю! Все равно не понять мне женщин.
— … подходящие собрались?
— Простите, что?
Сидевший рядом с водителем «бесцветный» хмыкнул и повторил вопрос:
— Ребята у вас подходящие собрались?
— Где у нас?
— Ну, в лагере… Хорошо обучаете граждан владению оружием?
— Да, неплохой коллектив.
«Бесцветный» (снова, наверное, какой-то проверяющий) и на этот раз хмыкнул:
— Например?
— Например, Яша Левитин. Кроме стрелкового дела он еще бегом занимается, и вообще, разнообразный спортсмен. Боровиков занял в том году четвертое место в Москве.
— А Саблин, как тебе?
— И Саблин хорош.
Здоровяк, сидевший возле меня, улыбнулся.
— Давно его знаешь?
— Ага, двадцать пять лет.
— Ты, что ли?
— Угадал.
— Ну, значит, на ловца и зверь бежит, Коля, разворачивайся.
Шофер стал кружить на узком участке между лесом и пологой обочиной. Через окно машины я увидел одинокую фигуру Астры и схватился за ручку двери. Кто-то крикнул:
— Сидеть!
— Пошел на…
Не до церемоний было в данную минуту с ОСОАВИАХИМовскими чинушами. Я рванулся из цепких объятий, заорав:
— В проводники другого сыщешь, понял?! Отпускай!
«Бесцветный» внимательно посмотрел на меня и прищурился:
— А мне ты нужен. Саблин Андрей, он же Кочерга, шкет из банды хулигана Матвеева.
Он достал трубку, и я сразу вспомнил его, комсомольца по кличке Граф, КОПовца[27] завода Михельсона, из далекого двадцать третьего года.
Щелкнула какая-то рудиментарная извилина в мозгу, и на языке беспризорного детства я брякнул помимо воли:
— Ксиву покаж!
«Граф» взмахнул рукой, из гимнастерки красной птичкой вылетело удостоверение, которое, хлопнув ледериновыми крылышками, показало мне его фотографическую рожу. А рядом — россыпь букв тяжелого калибра: Народный Комиссариат Государственной Безопасности СССР.
Глава 7 Госпиталь им. Осипова. Грюнберг
Все вокруг было завешено белым. Белым и чистым, вызывающим в памяти картинки с крахмальными простынями и запахом глаженых наволочек. Значит, вчера была суббота, постирочный день, и сейчас мама гладит высохшее за ночь белье. Только вот запах… В нашей квартире соседка Нина, детский врач, иногда приносила его с работы.
Я заворочался, пытаясь угадать, кто возится у низкой тумбочки около двери, и на шум обернулась сестричка в белой повязке. В руках она держала ампулу, которую сразу же уронила, завидев мои шевеления.
— Тетя Катя! Тетя Катя! Больной очнулся!
Девушка убежала и привела тетю Катю. Ею почему-то оказался высокий чернявый мужик лет сорока.
— Лев Борисович, я раствор готовила, как всегда десятипроцентный, — щебетала белая птичка, заглядывая снизу в лицо врачу. — А он ― бац! И на меня смотрит.
Доктор посветил мне в глаз блестящей штуковиной, а потом стал расплываться и исчез, оставив после себя один лишь голос.
— Трижды в день колоть. И капельницу…
Поправлялся я быстро. Вставать, правда, не разрешали, но можно было слушать радио, читать и разговаривать с персоналом. Вскоре пожаловал доктор Лев Борисович, оказавшийся начмедом госпиталя.
— Здравствуйте, больной. Как самочувствие?
— Ничего вроде, только голова гудит.
— Тогда будем знакомиться. Кандидат медицины Грюнберг.
— Командир Красной Армии Саблин.
— Очень замечательно. Жалобы есть?
— Есть. Перестаньте колоть всякую дрянь, у меня от нее скоро зеленые черти будут на голове плясать. И еще я пить хочу все время.
Лев этот так и вцепился, будто снимая взглядом кожу слой за слоем. Надо, пожалуй, говорить осторожней. Доктор-то он доктор, да вот каких наук? Если тех, что копаются в мозгах у «квартирантов Фореля[28]», то не помешает промолчать иной раз.
— Нехорошо как-то, знаете, товарищ доктор. Лучше морфий тыкайте.
— Зачем? У вас зависимость?
— Нет у меня зависимости. Я ведь не первый раз на койке валяюсь и знаю, для чего такие бомбы вкалывают. У меня что, ожог? Или множественные осколочные?
— У вас, дружище, острый сердечный приступ и ничего более.
— Интересно. Никогда на «мотор» не жаловался.
— Ну… х… Когда-нибудь все в первый раз… Вы сами-то, как себя ощущаете? Не потерялись во времени и пространстве?
— Да нормально. Только…
— Только, что?
А палата сия не в пример обычным госпитальным. Там сиделку дозовись еще, а у этих торчит рядом, как дежурный «на тумбочке». Нет, здесь что-то не то, надо запускать «дурня», тем более, что Грюнберг всё время выспрашивает о моих приятелях изподвала.
— Понимаете, в той заварухе темень была кругом и устали все. Я лично уже мало чего соображал ― три дня почти без сна. Тут еще молнии эти… Кругом все бегают, как идиоты, стрельба, суматоха. Взорвал, как приказывали, и сознание вон.
Я сгрузил эту чушь на Грюнберга, а он ничего, слушает. Правда, показался мне в его глазах огонек надежды на что-то. Показался и стал таять. Лев прослушал версию до конца и сказал удручающе весело:
— Ну, вот и славно. Лежите, набирайте здоровья и сил, а если что припомните еще, прошу звать без стеснения.
— Я бы, если честно, и не вспоминал ничего.
Доктор обнадеживающе похлопал мою руку.
— И правильно. Мне самому такое было ― устал так, что рук не видно. Резал прямо на себе, потом хлоп, и уже на топчане в палатке. Оказывается, унесли. Заснул с ланцетом в руках.
Он еще раз утешил:
— А вас мы быстренько подновим. Процедурки, режим, питание. Через неделю хоть в кино, хоть на выставку!
Утром следующего дня санитары вкатили в комнату сверкающий никелем шкаф. Его поставили возле кровати и сонный техник, щелкнув кнопками, безлико доложил кому-то невидимому: «все готово», вытер суконкой приборное стекло и устроился рядом на стульчике налаживать рулоны бумаги. Медсестра, не та, что обычно, а другая, захлопотала возле меня, прикрепляя, где только можно, синие проводки. Она ласково уговаривала то «поднять ножку», то «опустить ручку», то немножко потерпеть, потому что будет «немножко холодно». Весьма походила эта мадам на хозяйку, задумавшую отравить беременную кошку. Наконец молодуха убралась, невзначай зацепив меня грудями по животу.
Я лежал опутанный проводками, будто гусеница в коконе. Что теперь будут делать? Электротерапия, что ли? А если не рассчитают или пойдет что не так? Контора-то явно режимная: не скормили в подземелье крысам, так здесь добьют электричеством ― спишут как непредвиденные потери, и пропал безвестно. Ни письма отправить, ни лица родного увидать. Впрочем, лицо появилось. Хоть и знакомое, но вовсе не родное.
— Здравствуйте, Лев Борисович.
— Здравствуйте-здравствуйте, Саблин. Как самочувствие?
— Порядок! Можно выписывать.
— Рано, дружище, рано. Вот полный курс лечения пройдем…
— Доктор, может, вы клизму лучше пропишете или микстуру какую-нибудь? А то больно уж этот «мойдодыр» на «машину ужасов» смахивает.
— Орловского[29] читали? Похвально. С выдумкой был товарищ. А прибора этого бояться вовсе не нужно. Обычная модель. — Грюнберг похлопал боковину шкафчика, и тот угрожающе загудел. — Погружает пациента в состояние глубокого здорового сна.
— И что, даже больно не будет?
— Больно не будет.
Доктор возился с крохотными рычагами, переключал мигающие лампочки и между делом трепался на разные отвлеченные темы. Вспоминал Лев истории из практики, спрашивал, чем лучше драить пуговицы, под секретом рассказал, что на меня будто бы «запала» медсестричка Люся, попросившая забрать ее с дежурств в моей палате, «ибо нет никаких уже сил».
Поддерживая беседу под успокаивающее гудение машины, я боролся с меховыми котами, настойчиво закрывающими глаза.
Грюнберг хохотал и просил не спать, пока не запустит механизм — получится, что машина сна вроде как без надобности и он, Грюнберг, будет опозорен и посрамлен.
Соглашаясь, я устраивался поудобнее и вспоминал по его просьбе что-нибудь бодрящее: бомбежку, отоварившую наш поезд под Ригой, ближний бой, из которого запомнилось только одно: штык воткнулся неожиданно легко, и я перелетел через того немца, выпустив из рук винтовку. Вспоминал и зимние радости блокадного Питера, добрую треть жителей которого можно печатать в жития святых.
Лев изредка наклонялся к машине, на миг умолкая, затем опять трещал или недоверчиво выпытывал про Геньку Сыча.
Чепуха этот ящик-гипнотизер. Еле-еле удалось не заснуть до обещанного доктором сигнала. И проваливаясь под щелканье механических зубчиков, я подумал, что уже не помню, как звали того веселого командира танка с нелепым рисованым якорем на башне. Его машина появилась на берегу, когда из всего упредзаслона осталось живыми человек десять, и до самого Питера не было ни единой нашей части…
Забытье не было сном. Щелкали ключами минуты, проносились, механически постукивая никелем, секунды и кто-то бесчеловечно копался в мозгу, подобно старьевщику: забирая приглянувшееся и брезгливо откидывая ненужное. Иногда звенели серебряные колокольчики. Сразу тысячами. Выбивали какую-то сложную мелодию, и все делалось красным.
Один раз я проснулся. Рядом с электрическим комодом по-прежнему сидел флегматичный оператор, но лицо его теперь било тревогу. Он держал развернутый пергамент бумаги, что-то втолковывая доктору. Опять зазвенело красным, и волны унесли меня прочь из комнаты.
Я пришел в себя и, увидев Грюнберга, испортил ему вступление:
— Самочувствие хорошее, Лев Борисович!
Доктор хмыкнул.
— Уже понял, ― он протянул стакан, ― подкрепитесь.
Я с удовольствием выпил что-то вкусно-холодное, после чего протянул заискивающе:
— Покурить бы.
— Угу. Водки, марафету и девочек.
— Ну, а чего?! Все у вас есть. Спирту много, «дури» тоже, наверное, хватает ― и порошком, и в ампулах. А девочек я видел ― дохлого поднимут. Все бы вам прибедняться.
Лев опять хмыкнул и присел на кончик матраца.
— Вы, я вижу, исцеляетесь прямо на глазах.
— Служу трудовому народу!
— Не сомневаюсь, но хотелось бы направить вас на службу, таки будучи уверенным…
— А что, у вас есть сомнения?
— Так, мелочи. К примеру, что за чепуха о призраках детства?
— Все-таки нехороший вы человек, Лев Борисович. Спящего допрашивать. Это ж надо! Ну, мало чего покажется в темноте со страху. Мы все тогда хорошие были.
— Чч-ч-о-ррт, не получилось! — громко выругался доктор, а оператор-манекен, вскочил с табурета и уставился на Грюнберга пуговичными глазами. — Давай-ка, старлей, все начистоту. — Лев Борисович щелкнул серебряным портсигаром с медведем на крышке, мы закурили, и я честно рассказал всю историю с мертвым Генкой, которую так и не вытравила из памяти докторова машина.
— На свете много, друг Горацио, такого, чего не снилось нашим мудрецам. ― Лев забарабанил пальцами. — Ну, а сами вы, что думаете?
— Мы, материалисты, народ плечистый, не запугать нас силой нечистой.
— Тоже неплохо. Вижу, это происшествие особо вас не гнетет, лейтенант.
— Старший лейтенант. Я ведь вас фельдшером не называю.
— В каком смысле?
— Ну, это старая армейская шутка, что старший лейтенант значительно умнее просто лейтенанта.
— А, ну да. Получается логическая цепочка. Скажите, а подполковник значительно умнее старшего лейтенанта?
— Дистанция огромного размера.
— Вот и слушайте тогда со всей серьезностью. Ваш случай, хотя и редкое, но встречающееся массовое помрачение сознания. Возможно под действием галлюциногенного газа. К тому же, организм, ослабевший без полноценного отдыха и питания. Как следствие ― ураганное расстройство деятельности некоторых долей головного мозга. Вы меня понимаете?
— Честно говоря, не очень.
— Плохо!
Доктор опечалился, но радикальных мер принимать не стал.
— Бехтерев не помог, попробуем Осипова, — непонятно произнес Лев Борисович, и вскоре меня определили в общую палату, разрешив прогулки на свежем воздухе в парке, единственном из уцелевших свидетельств былой гордости научного учреждения.
В клинике раньше былотри смежных здания, шикарный вестибюль, отделанный голубоватой кафельной плиткой: тенистая аллея начиналась сразу от ворот и терялась далеко внизу около фонтанов. Три года назад заложили отдельный корпус.
В пыльной украинской степи копали мергель и жгли в огненных печах полуголые хохлы. Строгали дерево чумазые казанские татары. Уральский мастеровой, выдыхая похмельное дымье, катал железо в арматурную сталь. Армяне слали красный туф, туркмены ― ковры, из Омска пригнали несколько вагонов розоватого кедра для спецзаказовской мебели. Сотни людей тысячи часов строили этот дом. Еще больше народу давало на строительство энергию, выращивали хлеб и ткали одежду строителям. Как в углы древних замков дали в жертву шахтера заваленного породой, ЗеКа, убитого рухнувшим деревом, колхозника из-под Воронежа, подорвавшего здоровье на заготовках и не довезенного фельдшером до больницы. Инженер-инспектор, могучий спец, не дал краснооктябрьским погонщикам подсунуть быструю халтурку к 23-й годовщине Революции ― поехал бедолажный строить комбинат за полярным кругом. А здание вышло надежное и красивое.
Потом резали красную ленточку и трясли друг другу ладони под первомайский оркестр. Фотограф слепил магнием улыбающиеся лица, и было всем светло и радостно, будто сама душа надела белый парусиновый костюм. Разместили по кабинетам оборудование, развели в покои пациентов и уже скоро будущее светило науки Грюнберг доказал возможность лечения отдельных случаев шизофрении низкочастотным генератором.
Доказательства были получены как раз в том корпусе, что улыбается сейчас обугленными провалами окон. Грюнберг, ученик самого Корсакова, смущаясь, присел за стол зама психотерапии, а среди ахающих медсестер и протирающих пенсне коллег ползали слухи о близкой докторской. Правда, сам Лев Борисович думал о своей диссертации меньше многих других. Нет, конечно, «доктор медицины Грюнберг» звучит гордо, папа был бы доволен «стагшеньким». Но генератор! Эта чудесная машина! Шесть лет в Ленинградском медицинском, ординатура, бесконечные дни за рабочим столом, лекции Брюханова и Молочкова, переводные статьи… Труд. Адский труд! Но это уж охота пуще неволи.
Работа должна была полностью завершиться согласно расчету к августу. Но вместо докторского свидетельства Грюнберг получил гимнастерку со шпалой военврача и пошел на фронт. Война не любит мечтателей, зато очень быстро их учит. За две недели в полевом госпитале, Лев Борисович узнал больше, чем за три семестра в Альма-матер.
Вернувшись в Город, он застал на месте нового корпуса большую воронку от авиабомбы и груду битых камней. И все. За один миг дело всей жизни было уничтожено. Истории болезней и материалы на диссертацию сгорели, пациенты частью погибли, частью разбежались и сгинули, а неэвакуированный персонал призвали.
Как так? За один миг разрушить то, что строилось многими столь долго! Всего десяток секунд и бомбы из отсека «юнкера», ведомого каким-нибудь Паулем фон дер Хером, отделившись от самолета, достигли земли, и нет больше прекрасного светлого здания и чудесной машины, возвращающей людям то, что порой дороже жизни ― самое себя. А этот фон дер Гад, лет двадцати, доброго ничего не сделавший в жизни, лег на обратный курс, насвистывая «Розамунду». Сволочь!
— Даже не сволочь. Я слов таких не могу подобрать, Андрей, — волновался Грюнберг, допивая воду из графина, стоящего у изголовья моей кровати. — Они прозвали себя высшей расой. Но высший ли это идеал? Пример другим народам? А чему другие могут у них обучиться? Да и многих, наверное, не будет, если они победят.
— Ну, это уж хрен им, товарищ военврач. Еще три месяца ― и начнется зима. Опять в наступление пойдем. Даст бог, очухаемся, и уж когда в Германию придем… По камешку ихние города раскатаем.
— Наверное, вы правы, Андрей. Они опухоль человечества, а опухоль надо вырезать. Все гнусное и мерзкое, чего должен стыдиться человек, они держат как знамя. И как оружие. Стариков, детей убивают, раненых. Знаете… Привезли машину, всю в дырках от пуль. На боку огромный красный крест тоже в дырках. Раненый, молодой совсем, а друг его, глухой от контузии, трясет меня и кричит: «Мы в разведке были, а Федька их гранатой! Положил сразу трех». — А Федор этот ― пацан лет шестнадцати. Коневский была его фамилия… пневматоракс… я свидетельство подписывал… Господи, как я их всех ненавижу…
— Вы были в ополчении?
— Да, вторая дивизия. ― Грюнберг помял «беломорину» и долго смотрел в зарешеченное окно. — У нас там разные люди были. Много. Артисты, фрезеровщики, портные, даже один специалист по хеттским иероглифам. А военных почти не было.
— Военные остались на полях между Каунасом и Нарвой. Не надо так, Лев Борисович.
— Я не обвиняю, упаси бог. Но как же так вышло, что наша самая сильная в мире армия откатилась аж на окраины Питера. Немцы ведь почти в самом городе были.
— Вот именно: почти. Почти вошли, почти соединились с финнами, почти осадой задушили. Только где сейчас эти немцы?
— Известно где. В трех-четырех километрах на юг от Кировского завода окопались.
— Нет. Те немцы сейчас в земле гниют. И до окопавшихся доберемся, будь уверен.
— А когда, Андрей? Второй блокадной зимы люди не перенесут. В том декабре мы по восьми тысяч в день теряли. На чем люди будут держаться?
— Вы держитесь?
— Я солдат и давал присягу. Ленинградскую.
— Сейчас все солдаты.
— И женщины? И дети?
— И женщины. И дети. Воюем по самому большому счету: или мы, или они.
— Это страшно.
— Мне после траншей на Пискаревке и Богословке ничего не страшно.
— Все равно, когда два народа хотят уничтожить друг друга ― это страшно.
— Что вы заладили… Что может быть страшнее бомбы, упавшей на детский дом? Или мертвецов штабелями под снегом?
— Бомба это кусок металла, так ведь? И блокада ― не ведьма, обнявшая город. Ведь кто-то придумал все это, распланировал в рейхстаге или где там у них. Понимаете, специально придумали. Стольких убить, стольких умертвить, стольким жизнь оставить. Этот народ уничтожить, а этот пощадить. А вон те тоже пусть живут, но не все, а лишь те, кто нам нравится. И живут пусть так, как мы укажем. Мы боги-хозяева, вот что ужасно. Вот что заставляет думать…
— Тут не думать, Лев Борисович, надо, а душить и рвать.
Грюнберг задумчиво повертел стетоскоп, что-то хотел добавить, но смолчал. Только легкое движение, ветерок не то что несогласия, недоговоренности какой-то, скользнул по лицу.
За стеной бухнул снаряд, немцы опять стреляли по городу.
Грюнберг брызнул из шприца тектомином, как вдруг лежащий на соседней койке Осетинец приподнялся и забулькал, тяжело гоняя кадык по шее. Лев сразу же набрал полную кружку и дал ему напиться. Глотательный рефлекс шел у парня необычным графиком, и если залить воду чуть позже, то бедняга попросту захлебнется.
— А-а-збек идти!
Азбек ― его любимое слово. Потому и Осетинец, хотя, по-моему, гора Казбек в Грузии и вообще, может, он курить хочет. Только вот чего он хочет, никто не знает, несмотря на длиннючую латынь в истории болезни. Мозговые импульсы гуляют в организме, как им вздумается, поэтому не то что говорить, двинуть пальцем не может человек с толком.
— Азбек! Аслан магалты!
Осетинец замахал руками, отгоняя нападавшую минуту назад муху. Кружка вылетает из рук поильца, бьется и будит еще двух моих соседей по несчастью ― Иваныча и конструктора Лугового.
Иваныч ― прожекторист, Луговой ― инженер с «завода Котлякова». Оба имеют серьезные дефекты. Прожекторист видит все в зеркальном отражении, а Луговой болеет странной болезнью: если он двигает руками, происходят странные вещи. Например, не дотрагиваясь до коробки спичек, он может перемещать ее. Правда, не всегда и если коробка пустая. Грюнберг говорил, как эта болезнь называется, но я не запомнил. Что-то вроде «теленурез».
Раньше тут был еще один, четвертый. Но бедолага сошел с ума как раз в тот день, когда меня подселили ― стал вещать, что немцы зажгут Волгу, но их стратега пленит богатырь с красными руками.
— Сергей Петрович, ну взрослый же человек! — Грюнберг отобрал у конструктора упавшую кружку Осетинца; вогнал мне в бедро положенное число кубиков препарата и, сложив «пыточный» инструмент в кожаный чемоданчик, ушел. А я остался валять дурня.
Тяжелый осадок после разговора остался, какой-то мутный. И пораженчеством попахивает. Правда, тысячи умерших от голода зимой ― факт. И как не закапывай его в памяти, все равно всплывет. В Городе буквально все кричит о декабрьской жути. Почему невоюющих не успели вывезти из Ленинграда? Кто виноват? Жданов? Ворошилов? Железная дорога?
Нет, так можно далеко зайти. Враги в руководстве были, но их крепко взяли в оборот. Даже чересчур крепко. Говорят, в отношении многих командиров были допущены ошибки. Сейчас эти люди оправданы и воюют. Воюют ― значит, ошибки исправлены, а на партию не обижаются, лучше ошибиться в ком-то, чем проглядеть врага народа.
Только почему же их столько? В иных частях едва не половина старших офицеров. Заговор? Молодые стали во главе армий? А результат?
Герой Павлов за три дня просрал немцам Минск, Понеделин сдался, Копец, потеряв авиацию округа, самоубился. Где Рычагов, где Смушкевич[30], куда подевались сталинские соколы?
В Крыму загубили недавно целое войско. Что ж за напасть такая! Ведь готовились. Оружия горы были… Надо было первыми бить. Раньше, раньше их. Тогда б сразу немцев сделали. Все резину тягали. Зачем, спрашивается? Тяжелые танки в прорыв, легкие ― в рейд по тылам, вместе с кавалерией, гаубицами по площадям, чтоб все в мясо, и десант в глубину. Все! Здравствуй, Атлантика!
Было б как в песне: «малой кровью могучим ударом». Не, ребята, Тухачевский хоть и враг народа, а я его труды еще в военшколе успел проштудировать. Правильный курс был. Немцы его обработали для себя ― и вперед. А у нас в штабах, наверное, деятели типа Грюнберга сидели: «а что будет, а чем это грозит да как отзовется?» Дать бы ему в морду за это!
Утро следующего дня новизной не порадовало. После завтрака ― визит к доктору и бесконечные процедуры в паутине проводов и присосок. «Что вы чувствуете, какой сегодня день, ощущаете ли вы покалывание в ладонях и ступнях, что изображено, шар или цилиндр?»
Всю историю на Пискарёвке я уже пересказал не один раз. И устно, и письменно, и в форме допроса, и в форме вольной беседы. Несколько раз появлялся мягкий лысый человек и внушал, что никаких Зворыкиных и Генок Сычей не было. Просто, еще в автобусе стало плохо с сердцем, и откачали меня уже здесь. Я охотно верил этому плешивому баюну. Уж чего-чего, а оживших утопленников иметь в реальном бытии не хотелось. Иногда внушение сопровождалось приставленными к вискам электродами под эбонитовое гудение знакомой установки. В этом случае верилось еще охотнее, только результат оставался тем же: со временем все произошедшее я мог легко воспроизвести в памяти.
Что-то такое там все же случилось. Не стали бы на пустом месте разбивать огород управленческие эскулапы, каждый из которых носил не меньше двух «шпал» в петлице. И не будут они за «здорово живешь» возиться со спятившим старлеем.
Вся эта канитель надоела мне до зеленого шума. Ну, действительно ― держат здорового мужика взаперти, кормят летчицким пайком и вторую неделю задают одни и те же вопросы. Поэтому, презрев одну из основных заповедей (не задавать много вопросов), на следующем осмотре я, эдак осторожненько, завел беседу со старшим из докторов.
Скоро вы там сообразите что-нибудь, чтоб забыть этот морок? Свихнуться ж можно! Две недели эти фокусы из головы не вытряхиваются.
Бывало в детстве так: раздуваешь в глазах близких неизбежную мелкую неприятность до вселенских масштабов, чтобы перенести ее намиру с мужественным лицом, а, к примеру, физик-изверг (непременно изверг) вкатывает тебе вместо малопочетной, но ожидаемой тройки, «неуд» с переэкзаменовкой на лето. Так и сейчас. Выдали мне вместо «медицина не всесильна» или там «нужно время» такую вот простую на вид фразу.
Эскулап что-то поискал в моих глазах и, видимо, не найдя ничего привычного ему, обернулся ко второму члену «действа», а тот спросил, будто киянкой в лоб:
— Почему вы думаете, что это фокусы?
С минуту я безуспешно переваривал вопрос. Потом с тайной надеждой выдавил нечто похожее на «а что же еще?».
Ответ заставил себя ждать. Во всем — в шуршании медицинской книжки, в постукивании ботинком, в сопении над выдвинутым ящиком стола ― скрипел докторский протест. Прекратив наконец бесцельные телодвижения, он выразил чувства в эдаком среднем звуке:
— М-н-ээ-эммг… понимаете…
И тут я взорвался. Напряжение последних дней, гасимое успокоительным, прорвалось, и язаорал, стуча ладонью об стол:
— Не понимаю! Не понимаю, сколько можно держать меня в дурке и задавать идиотские вопросы! Я боевой командир. Орденоносец. Я такое видел, что вашим психам и в горячке не приснится. Что вам от меня нужно?!
Наверное, лицо мое было из тех, что помещают в пособия по нервным болезням, однако доктор молодец. Сунул мне в руки бумажку какую-то, и пока я разбирал, что там к чему, мой порыв слегка утих. А на бумажке чепуха всякая ― круги, чертики, деревья какие-то. Я выкинул чертиков в угол, сопя, как пацан, развернувший фантик-пустышку.
— Продолжим, лейтенант? — Второй доктор, улыбаясь одними карими глазами, подвинул ко мне пепельницу. Я кивнул. — Так вот, мы хотим установить степень достоверности вашей информации. Другими словами: насколько то, что вы сообщили, соответствует тому, что было на самом деле. Понимаете?
— В основном.
— Ну, с частностями разберемся позже, а в основном, как вы говорите, у нас три варианта. Первый: то, что вы видели, достоверный факт. Второй — это визуальная дезинформация и третий ― обычная глюкоза.
— Что, простите?
Старший доктор, видимо, отыгрываясь за что-то, мстительно поправил:
— Галлюцинации.
— Лично я склоняюсь к третьему, товарищи доктора.
— Извольте аргументировать.
— Аргументирую. Эффекты, мной увиденные, известными методами создать очень сложно. Применить, тем более. Второе. Кому придет в голову гримироваться под моего неприятеля, умершего двадцать лет назад? Я думаю, такие выводы подтверждают второй из вариантов, одновременно отвергая версию о спецэффектах.
— А как вам первый вариант?
— Первый отметаю как заведомо ненаучный. Доктор, я в сказки не верю.
— Наш человек! — кареглазый засмеялся, а старый доктор, фыркая, как морская свинка, обмакнул в чернильницу перо и, бранясь вполголоса, поставил нервную закорючку в углу документа. — Вы признаны годным к строевой службе, — сказал он, собирая бумажки медицинского «дела» и, ругнувшись латынью, добавил: — Товарищ Еленин уладит формальности с вашим начальством.
Вот это уж совсем ни к чему. Участие подобного ходатая не сулит хорошего ни на грамм. Ай, как скверно! Судя по всему, из этой богадельни выпускать меня не собираются.
— Формальностей в нашей конторе немного, так ли необходимо утруждать товарища Еленина?
— Совершенно необходимо.
— Вы что, меня закрыть здесь решили?
— Нет, что вы, — доктор вяло махнул рукой. — Просто ваша последующая деятельность будет проходить в его, так сказать, поле зрения, — и кивнул в сторону веселого кареглазого коллеги.
— Это как? Психбатальон, что ли?
Весельчак хмыкнул, до меня дошло, что это и есть «товарищ Еленин», а докторский голос вошел в неприятный регистр:
— Шутите? Так вот, напрасно. Вам, молодой человек, лучше бы никогда не знать, с чем придется иметь дело. — Доктор пальцем двигал ко мне четверть серой бумаги и на смысл записанного накладывался перевод его недавней manym lavat[31]. — По мне, так лучше копать ямы на Пискаревке, чем заиметь вот это направление.
Глава 8 Еленин
Где-то в конце двадцатых, под руководством профессора Завадова, создали психотехническую лабораторию под вывеской транспортного общества. И бурно закипела работа. Психофизика, психохимия, гипноз; на полную, в общем, катушку, вплоть до астрологии, обтекаемо прозванной астропсихофизиологией. Дальше ― больше. Выгнали отдельный корпус под клинику и, приписав лабораторию к Наркомату Просвещения, продолжили изыскания на строго научной основе.
Ну, какая раньше была лаборатория? Десяток столов в приземистом бараке трамвайного депо, полусамодеятельные приборы и установки, хозрасчет… Словом, кустарщина. А тут — электричество, водяное отопление, санобслуга по штатному расписанию. Убийцу Кирова допрашивали уже здесь, на втором этаже нового здания. Он сидел, опутанный проводами и датчиками, и сумрачный человек по фамилии Глебов задавал вопросы, доцент Болотников производил расшифровку картограмм. Что сказал террорист, никто не мог знать, но Глебов, окончив допрос, все бумаги запечатал в конверт и убыл, прихватив доцента.
Различные методы получения информации или наоборот сокрытия ее носителем. Модели психического поведения. Процессы в нервных клетках. Психоустойчивость. Транквилизаторы. Эргонавигация. Ноосфера… Чего только не видели эти стены! Закладывалась целая школа, правда, неафишируемая и полуофициальная. Секретность! Бдительность! В таком деле это далеко не пустые слова. А население все же подозревало что-то такое… Ведь не на Урале и не в читинской тайге высились бетонные кубы клиники.
Просачивались ручейки сплетен и слухов. Просачивались неизвестно откуда. То ли могучий санитар болтнул лишку за бутылкой или грузчики «Медтехснабпрома» что-то видели, таская лабораторные столы по коридору. А может, и врачебная среда источала тихие разговоры, кто знает?
Компетентные органы эти слухи отслеживали и вяло фиксировали, не проявляя особенного беспокойства. Слухи, они и есть слухи. Кто, в самом деле, всерьез подумает, что между Еврейским кладбищем и Куракиной дорогой колесит мотофургон с хитроумной установкой, определяющей замаскированных белогвардейцев? Или что ГеПеУ ловит в ночных трамваях людей и делает из них гипнотизеров для предсказания наводнений. Однако граждан, «совершенно точно» знавших, что ломовые извозчики отвозят невостребованных мертвецов на Васильевский остров, где их оживляют с помощью магнита, резонно спрашивали: «А зачем?»
А действительно, зачем? Ну что, ГПУ больше делать нечего, как шарить в пустых трамваях? А намагниченные трупы? Фу ты, бред собачий. Это как чугунная решетка Летнего сада. Говорили, что продали ее американцам за сто паровозов, а она вон ― на Стачках.
А подземное электричество, обнаруженное во дворе трехэтажки на Пяти углах? Причем не только обнаруженное, но и подготовленное к использованию — для чего якобы полетела на Северный Полюс эскадридья дирижаблей. На Шпицберген, говорите? Вы, гражданин, врите, да не завирайтесь: где Шпицберген, а где трехэтажка с Кондратьевского двадцать пять! Может, оно, конечно, подземное электричество и есть, но мастерская братьев-нэпманов Кудряшовых, что возле трехэтажки, пользовалась самым обычным, да еще уворованным, путем тайного подключения. Теперь вот, небось, предприимчивые братаны фининспектору про всякие чудеса рассказывают, а вы на их буржуазную мельницу воду подливаете. Может, по сродственному, а, товарищ? Ваша фамилия, как будет?
И дело по-ти-хонь-ку двигалось! Профессор Соловьев рассчитал параметры радиоизлучения для воздействия на болевые центры. Гатаулин и Ким изготовили биотрансформатор и удивляли присутствующих коллег нагреванием бруска металла руками. Бывший судовой врач Бардин на двенадцать секунд оживил мертвую голову собаки, и в его лаборатории с ужасными карибскими масками рождалось новое направление ― некробиология.
Дело спорилось, и, возможно, персонал (уже института) перестал бы удивляться подобным чудесам, но вдруг арестовали посажёного отца учреждения, обвинив маршала в бонапартистских устремлениях. Народ притих, пошли разговоры о малоактуальности многих направлений: Родина становится на военные рельсы, а у вас тут сны зачем-то записывают на бумагу, мертвецов оживляют. Мистика!
Тем болеевсякие хитроумные штучки для получения информации вдруг оказались невостребованными. Теперь можно было проще: дубиной по голове! Радиоизлучатель боли? Психотронный генератор? Это все, граждане, так сказать, эмпиреи. Ненадежно, хлипко, да и когда еще будет. Лучше на эти деньги построить полк 203-миллиметровых гаубиц. Если бабахнут враз — мозги прочистят не хуже ваших генераторов. Ну или взять старую вашу разработку — как там она… параболоид инженера Ганчина вроде… Что? Земной шар может расколоть? Надо будет — расколем!
Убедить проверяющих было трудно, и над институтскими башнями начала сгущаться угрожающая формулировка: «отрыв от нужд».
Помог случай.
В некоей дружеской делегации, покидающей Союз, хватил лишку один товарищ. Да так хватил, что без «ночной психиатрической» дело не обошлось. Товарищу заключительную речь держать о солидарности, а он этой речью по стене лупит и вопит, что буквы разбежались по обоям. И человек наш, не какой-нибудь там скандинавский социал-оппортунист, а «твердый и убежденный».
Одновременно с докладом о происшествии в Смольном звякнул телефон.
Москва полюбопытствовала, что произошло с иностранным гостем в первой столице победившего пролетариата? Смольный промямлил что-то в оправдание и поделился нетвердым убеждением в успешности предстоящего лечения.
Шевеля усами, Москва удивилась такому долгому сроку (выздоровление планировалось через неделю) и, заметив, что отсутствие товарища …рандта никак не поспособствует укреплению рабочего движения, разговор закончила.
Смольный тоже зашуршал усами, тоже опустил трубку и посмотрел на Садовую[32].
А та лишь руками развела. Рабочее движение ― это, конечно, хорошо, но в данное время пациент разговаривает со своими пальцами, и для него, что Третий Интернационал, что, к примеру, Пятый ― все едино.
Тогда поднялся человек с непривычным званием генерал-комиссар и, кряхтя, сообщил: «есть у нас одна методика».
И хворого повезли в гонимый институт, где за два сеанса поставили на ноги. Делегат пришел в себя, произнес пламенную речь и на следующий день убыл, пожав на прощание сотни рук. Даже пить, говорят, бросил.
Обалдевший в последних событиях персонал оставили в покое, заместив для острастки главврача каким-то армянином.
От «нового» ждали всяких гадостей, но «ара» оказался весельчаком и бабником, сыпал анекдотами про психов и в «клинику» не погружался, предпочитая проводить инструктажи с веселыми барышнями из фармацеи.
Постепенно работа вошла в старое русло. Мазались, правда, остаточные явления в виде опять-таки разговоров, но это мелочь, псевдонаучное шуршание. Тем более, что соответствующие службы поднаторели в пресечении всякой болтовни. Были проведены необходимые в таких случаях действия, вершиной которых стала публикация в одном из молодежных изданий фантастического романа.
После говорить на темы близкие к институтским разработкам стало как-то даже несолидно.
— Биолучи? Да! Читал где-то. А, кажется в «Технике юным». Сынишка подсунул, мерзавец. Забавная вещица, генераторы, излучатели, дочь профессора эт цэтера[33] тас-саать.
— Что? Да ну, бросьте. Эдак мы далеко уйдем. Вон писатель Беляев издал книжицу про человека-рыбу, что ж теперь, по-вашему, Ихтиандрус в Смоленке может объявиться?
Конечно, многие работы закрыли, другие урезали, но Вернацкий остался, Грюнберг вообще — расширился и еще появились в этих зданиях двери, в которые не пустили однажды весьма полномочных товарищей.
А вызванный по этому поводу куратор с гербом Союза на рукаве[34] пробыл что-то около минуты за крашеной, невзрачной филенкой и даже слова не сказал на выходе своим подопечным.
Только ткнул палец в сторону таинственного кабинета и запрещающе помахал головой. Сейчас в той комнате музей. Не тот, что в специальном полуподвале Кунтскамеры, тоже со всякими ужасами, а другой ― Особой комендатуры Ленинграда. А рядом — кабинет зампокадрам ОСКОЛа товарища Еленина С. Т.
— А-а, старшой! Заходи, — поприветствовал меня Еленин, а я, протянув ему бумаги, остановился перед столом.
Петлицы честной еленинской гимнастерки, надетой взамен докторского камуфляжа, воронели черной выпушкой[35].
— Здравия желаю.
— Давай-давай, садись. У меня тут маленький бардачок, так что просачивайся к столу, где можешь.
Помещение захламили штабеля расхристаных папок, бумажные рулоны и ящики. Пузатый лендревтрестовский шкаф с оторванной дверцей занимал половину площади, и настолько была непохожа здешняя анархия на иезуитские кабинеты «кадров», насколько сам Еленин не походил на чиновника.
Говорят, театр начинается с вешалки. А я могу добавить из личного опыта, что любая мало-мальски серьезная организация начинается с управления кадров. ОСКОЛ ― организация серьезная. Это я понял по легкости, с какой меня туда забрали из армии. А вот осознание, почему «на кадры» в такой серьезной организации посадили этого размашистого ухаря, было делом, требующим серьезных и длительных размышлений.
— Я дело твое пролистал, ознакомился в общем контуре, ― сказал Еленин, зарываясь в кучу бумаг на столе. — Ты чего на кафедре в «универе» не остался?
— Ну, как вам сказать…
— Во-первых, правдиво, а во-вторых, давай на «ты», не голубая кровь.
— Понял. Группу профессора Андриевского расформировали по делу о вредительстве.
Еленин вытащил из кучи массивный том и подпер им заваливающуюся тумбу.
— Слушай, а ты чего вообще в историки подался? Шел бы в красные инженеры. Или в интеллигенцию захотелось?
— Да кой там черт в интеллигенцию. У меня отец командир Красной Армии, по гарнизонам все… Я лет до пятнадцати мужиков в штатском за людей не считал. Так, думал, шушваль гражданская. Потом в училище два года.
— «И плащ, и шляпу, и пиджачный носовой платок затмит сиянием хромовый сапог»?
Я кивнул и, улыбаясь, продолжил:
— В театр при шашке ходили. Если б не Кара-Агыз…
— Контузия?
— Да. Ручной гранатой.
— Каску надевать надо. — Еленин с довольным видом открыл дверцу монументального шкафа. — Я тут чаек пока сварганю, а ты почитай. Немецкий знаешь?
— Да пойму как-нибудь.
— Вот и читай.
Он зашуршал в углу и через минуту донесся запах давно забытого напитка.
— Ты что там принюхиваешься? — Голос политрука рассыпался смехом. ― Побалую, так и быть. Что враг брешет?
Газета была старая. Немецкий «маршевый лист» (вроде нашей армейской многотиражки) за восьмое августа прошлого года. Что в этой бумажке было интересного, я не мог понять, пока не увидел фотографию с текстом: «Латышская деревня Клаапс, сожженная красными бандами». Этих Клаапсов, Ширг и Пярнасов, я прошел немало, когда мы драпали на восток. Они спеклись в памяти неотделимо-чистые, как их сосны. Но Клаапс я запомнил — там нас пытались спалить чухонские кулаки.
— Ну, как умственное красноречие немцев, лейтенант? Зачем ты уничтожал мирных селян?
Давимый пристальным взглядом Еленина, я вспоминал июльский разгром сорок первого. Тогда фон Леебза семь дней превратил «Прибалтийский особый» в несколько куч битого железа, между которыми бродили ошеломленные люди. Многие дрогнули и, бросив оружие, ушли в германский плен. Другие тоже дрогнули, но встретили иноземцев со сломанным мечом в руке и погибли как настоящие воины. Не убитые в пограничных сражениях и не сорвавшие красные звезды шли к своим через леса и болота. Кто-то переходил фронт тихой ночью, кто-то пробивал огненную линию, жгущую нашу землю от Прибалтики до Черного моря. Где-то наши подразделения второго эшелона атаковали врага, сбивая передовые отряды, где-то немцы сыпали в тыл парашютистов и вбивали танковые клинья. Потом вдруг у самих немцев под боком возникали наши части, наступающие по старым планам.
Вся эта круговерть швырнула меня за опушку сорного леса под Елгавой. Начальник особотдела мотобронебригады, маскировавшейся в том ельнике, учинил допрос по всей форме. Пять часов я рассказывал одно и то же, пока не уснул прямо за допросным столом. По окончанию расследования мне возвратили оружие и направили в батарею. Только я был в состоянии «ни жизнь, ни смерть», и как добрался на позицию, не могу припомнить.
Никто не знает, как повернет свое лицо судьба. Тем более, если она надела гимнастерку цвета грязной земли[36], а колесо фортуны, громыхая траками, чадит бензиновым перегаром.
Адъютант, вручавший мне, словно смертный приговор, назначение, был убит в штабном грузовике, а я, оставшись целым после серии боестолкновений и штыкового боя, вывел семь человек почти к своим. Тогда и попался нам этот крысячий хутор. Уставшие донельзя красноармейцы попадали в соломенное покрывало какого-то строения на отшибе. Обывателей беспокоить не стали.
Местные дойчи уже готовили на рукава повязки с красными факелами [37].
Прибившийся к нам по дороге летчик рассказал, что двое бомберовпрыгнули с подбитого бомбардировщикаи попали на одно село. Командир грохнулся на площади и сломал ногу, а штурмана отнесло ветром за окраину. Но он успел увидеть, как топорами рубили его товарища. Летчик приземлился около дороги, сразу попав на колонну «тридцатьчетверок», ради такого дела повернувшую пять «моторов» и устроивших ливонцам «красную пахоту» ― ни одного целого дома не оставили.
Народ уснул, постов я не назначал (идиот), но примкнувший к нам пограничник Городнянский по собственному почину сидел у двери. Видимо, его потом сморило, потому что разбудил нас треск головешек и чей-то вопль: «горим, братцы!» Городнянский (земля ему пухом) перед тем как заснуть, вывернул петли.
Втянув калитку, мы выбросили две гранаты на воздух, а затем, стреляя и визжа, положили десяток недоарийцев-поджигателей и ушли, запустив хуторянам красного петуха.
Гранаты в дома не кидали, жалко боезапаса. Правда, забрали с собой пернатую живность и толстую девку. Девку цапнули из-за плетеной корзинки, за другое я отбил бы руки. Но в ее лукошке был не только самогон, а еще медвежьи патроны, дробь и четверть керосину в тряпочке (у многих хозяев были охотничьи ружья). Вряд ли нашла она своего благоверного в живых, а если и нашла, то муженек точно ей не обрадовался.
— Так-так-так, ты и автограф свой оставлял, наверное? — спросил начкадров, ставя передо мной дымящийся стакан.
— Зачем?
— Ну как, зачем? «Записав свое имя и званье…» Откуда у них твоя анкета? Читай!
Я пробежал глазами частокол острых букв и таки да: «комиссар Саблин и его подручные». Дальше опять шла фотография с трупами людей в советской военной форме.
— Ну, думай, думай. Как немцы прознали твое имя?
— Наверное, пацан сказал.
— Какой еще пацан?
— Да местный. Мои ребята его из кустов вытащили ― прятался. Вот. А потом Лисицын заорал: «товарищ политрук, товарищ Саблин, тут еще один!» Убивать не стали, малой еще… Гаденыш. Наверняка он, больше некому.
— Ладно, хрен с ним. Потом сыщем. ― Еленин аккуратно сложил газету и похоронил ее в обширнейшей папке. — В рапорте на имя начособотдела, майор Акимушкин описывает противозаконные действия некоего политрука. Фамилию он точно не помнит ― военная такая фамилия на букву «б». Но опознать готов в любую минуту. И этот самый политрук, — Еленин углубился в текст, — «физически воздействовал на командира в два раза старше его по званию». И сдается мне, что этот тип на букву «б» и есть Саблин Андрей Антонович. ― Еленин посмотрел в другую бумажку и, громко отхлебнув, процитировал: ― Командир Красной Армии, проявивший мужество в боях с германским фашизмом и решительность в деле охраны гособъектов Ленинграда.
Еленин подвинул блюдечко с парующим чаем.
— Решительность это, брат, хорошо, но не до такой же степени, чтоб майоров бить!
Я осторожно подул в блюдце. Мать бы его, этого Акимушкина… Уже тогда было видно, что дерьмо ползет из него через край. Ну, зацепил я этого хлюста кривоногого, уж больно противен был: тряс наганом, орал… А от бумажек его липой за километр несло. Какое-то предписание доставить нормировочные таблицы аж в Киров! И число стоит недельной тухлости. Одним словом, «мне в тыл по секретному делу». С ним еще двое… А главное — машина у них. Новый «ЗиС» и зенитный пулемет в кузове.
Когда фрицы посыпали мины, усадил я их в окопы, как желудей, а майору начистил внешность. Совсем зарвался: прыгнул на мой мотоциклет и хотел смыться. Да так резво, будто в том Кирове масло прямо на мед мажут. Я его расстрелять хотел, как дезертира и труса, но не случилось. Немцы пустили два танка в тыл, и началась суматоха.
Оба танка застряли, боец Ломакин забросал их сверху горючими бутылками, и до вечера все успокоилось. В бою один из нормировщиков погиб, другой проявил себя вполне прилично, а избитого и связанного майора забрал адъютант. Вместе с грузовиком и пулеметами. Он спросил командира, чтоб отдать пакет с приказом, и отчего-то удивившись, что Матюхин убит, отдал пакет мне. Грузовик запылил к чернеющему на востоке лесу, а вскоре снялся и мой отряд, потому что немцы перерезали шоссе и скоро должны были захватить Гдов.
— Расстрелять, говоришь, хотел? ― нежно пропел Еленин. — Эт серьезно. Только чего ж ты, такой серьезный и решительный, не исполняешь свои прямые обязанности?
Он вытащил очередной документ и углубился в текст.
— «Довожу до сведения командования, что врид[38] комзаслона Саблин проявил недопустимое малодушие и слабоволие в бою с немецкой пехотой. Видя бегущих с поля боя предателей Красной Армии и народа, мл. политрук Саблин не отдал приказа на стрельбу в трусов и паникеров. Если бне появление наших танков, бегущие номерные стрелки смяли б боевые порядки, и мыпотеряли переправу».
— Донцов писал?
— Неважно, кто писал. Важно, почему ты не исполнил приказ. Или забыл уже?
Я помнил. Я помнил все, что произошло под этой несчастной Ивановкой. И саму деревню, отбитую вскоре, и наших раненых, застреленных в голову, и еще живую медсестру неподалеку. И длинные цепи мужиков-ополченцев в синих бриджах[39], полегших на размытом дождями косогоре. И наш горящий танк — «жужжалка»[40], израсходовав боезапас, таранила немецкий панцер.
И тех ополченцев, что бились до последнего. Они, эти музыканты, слесаря и парикмахеры, всю жизнь отрывавшие от своих семей, чтоб армия была могучей и сильной, приняли бой вместо армии. А эта армия бежала на меня, выпучив от страха глаза. А я торчал в «белом штопоре», глядя на этот позор. И лишь когда трехгорбое чудище Т-28 дало очередь под ноги прущему стаду, я заорал:
— Стой! Назад! В атаку, б…! За Родину, за Сталина!
Может, потому я не давал приказ «на огонь», что не видел еще пулеметчиков, отца и сына, лежавших возле сельсовета отбитой у врага Ивановки среди пустых дисков допотопного «льюиса»[41]?
Или мать с мертвым ребенком, убитых одной пулей?
Промолчал я. Как не ответил я и тогда бывшему пограничнику Донцову, державшему свой рубеж утром 22-го июня, когда в домике на заставе горели его жена и дочь…
— Ты, Андрей Антонович, хорошенько запомни: там, где тебе предстоит служить, и отца родного, если что, придется в прицел брать. А наказание за неисполнение приказа хуже, чем все, что можно себе представить.
Глава 9 Старший лейтенант Саблин А. А
Автобус «конторы» отвез меня за город в район Лахты, где с другими курсантами я провел все тридцать семь дней обучения. А еще две недели спецкурса проходил вместе с несколькими ребятами, которых называли странным словом «интуитив».
Что люди могут быстро меняться, я знал. Как и то, что внезапные быстрые перемены случаются под лихими ударами судьбы. Но то, что людей можно м е н я т ь, знать я не мог.
Не ломать, а именно изменить, наделив удивительными способностями. Например, с помощью люм-ламп с фиолетовым светом развивается ночное зрение. Последовательное чередование силы и ритмики голоса уменьшает боль. А по запаху крови можно найти любое существо, как бы далеко оно не ушло и как бы тщательно не пряталось.
Те, с кем я проходил спецкурс, были уже повидавшие виды ветераны. Порой казалось, они не люди даже, а хорошо отлаженные механизмы с фантастическими возможностями. Я с изумлением наблюдал, как любой из них мог с ходу определить, где «пробита» проводка в старом здании курсов, что готовят на ужин, или на какой отметке остановится ртутный столбик термометра завтра в полдень.
Ко мне ребята относились хорошо, даже с интересом — их интриговало мое неизменное везение в орел-решку и способность из десятка спичек всегда вытягивать самую короткую. Как-то раз они предложили мне поймать деревянное кольцо и завязали глаза. Кольцо я поймал четыре раза из пяти. Сойдясь поближе, я понял, что курсанты, хоть и обладают способностями необыкновенными, все-таки нормальные ребята, с обычными житейскими трудностями, чувством товарищества и даже юмором. Как-то старичок-шифровальщик разглагольствовал о секретности:
— Такая у нас служба! После проведения нейтрализации, никто не должен знать, и почти всегда не знают…
Шифровальщик замолк, уронив пенсне, а Паша Миронов ехидным шёпотом продолжил:
— А если бы и знали, так не сказали бы никому, кроме одного товарища Ворошилова[42].
Медицинская форма
Ст. лейтенант Саблин Андрей Антонович
С 2Зго июня 1942 г находился в… ИНФОРМАЦИЯ ОГРАНИЧЕНА
НКО Командировочное предписание
Войсковая часть
Полевая почта…
9 июля 1942 г Ст. лейтенанту Саблину Андрею
№ 141\21 Антоновичу с получением сего предлагается явиться в 9-й отдел ОСКОЛ, для поступления на курсы спец состава, при В/Ч 37 995
срок командировки — 14 дней с «9 июля 194_» по «23 июля 194_»
Основание — распоряжение начальника гарнизона
Действителен с предъявлением удостоверения личности
СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
На слушателя курсов спецсостава ОСКОЛ
Саблина Андрея Антоновича
Рождения 1915 г. Образование в\у. Участник боев с немецко-фашисткими захватчиками. Партии Ленина-Сталина и Социалистической родине предан. Дисциплинирован. К учебе относился добросовестно. Политически грамотен. На курсах пользовался уважением начсостава и курсантов. Принимал активное участие в культурной работе. Морально устойчив. Классово бдителен.
Начкурс
п\полковник
Еругов 12 августа 1942 г.КАРТОЧКА ПЕРСОНАЛЬНОГО УЧЕТА
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ОСКОЛ
Список1
Фамилия Имя Отчество Саблин Андрей Антонович
Год рождения 1915
Место рождения Петроград, сектор 7 (стабильная зона)
Отец Проверка, б-отр
Мать Проверка, б-отр
Другие кровные родственники Не имеет
Религиозные отношения Крещен в православной вере, в Свято-Пантелеймоновской церкви. Метрическая выпись утрачена. Религиозных отправлений не совершает
Участие в сектах и течениях Не состоял
Какие специальные учебные заведения окончил, либо проходил обучение
Объединенная Среднеазиатская Военная Школа, артдив-он (комиссован в 1932 г. по ранению).
Ленинградский государственный университет
То же, спец. курсы Курсы подготовки и переподготовки стрелков-инструкторов системы ОСОАВИАХИМ
Курсы переподготовки политсостава кадров и запаса при Ленинградском военно-политическом училище им. Ф. Энгельса
Уголовному преследованию Не подвергался.
Состоял на учете Деткомиссии ВЦИК (отд Птрг р-на Петрограда по учету трудных детей и подростков)
В преступных сообщестах, бандах и группах (Петроград, 1923–1924)
Состоял в хулиганско-преступной группе Матвеева
На психиатрическом учете Не состоял
Список 2
Антропотип Северо-русский, без монгольской складки
Генотип Стандартный
Врожденные патологии и хронические заболевания Отсутствуют
Венерические и прочие заболевания, критически влияющие на
ВНД, а также их следы Не обнаружено
Импульсация глубоких рефлексов Выраженная
Саногенез при стандартных раздражителях Норма
Саногенез к параэнергетическим раздражителям головного мозга, на появление и присутствие параэнергетических объектов Повышенный, при сверхвозбудимости коры
Валентность реакций ВНД (проба Ганзена) Нейтральная
Псиметрия к антропогенным объектам Стандартная
Энергоустойчивость лобных долей головного мозга Активная
Находился ли в состоянии мнимой (клинической) смерти состояние, также по п1.
Опись 123-7, архив. Предположительное
Взрывные травмы и контузии июль 41 г. — данные эв/госп 2011
Устойчивость гипофиза по Не подлежит огласке
Бехтереву
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ ДВУХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЕННОГО СОВЕТА ЛЕНФРОНТА, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ ВХОДИТ В СОСТАВ ОСОБОГО СОВЕЩАНИЯ
Глава 10 Патруль у Пяти углов
Если идти по улице Эдиссона и повернуть около бывшего магазина промкооперации, остается рукой подать до нашего дежурного пункта у Пяти углов. Или идти по Тепловодскому проспекту прямо до больницы Карла Либкнехта, там тоже недалеко. Какой бес потянул за руку Максимова в зону частной застройки — загадка.
Старшина Максимов — мой наставник, учитель, воспитатель и прочая. Кроме того он главный в дозоре. Я у старшины что-то вроде Санчо Пансы: таскаю приборы, заряды, плащпалатки и прочий скарб согласно артикулу. Попутно знакомлюсь с районом — за три недели должен освоиться и сдать экзамен. Осталась одна.
— Здесь неподалеку вроде эвакопункт для раненых в сорок первом был, вы не помните, товарищ старший лейтенант?
— Не помню такого.
Максимов, однако, не слушал.
— Точно был, с Кушелевской станции сюда часть раненых перевозили, чтоб не скапливались. — Он, отвлекшись, споткнулся о рельс, проследил путь железных параллелей и сразу же продолжил: — Завод, фабрика, цех — это, в основном, нейтральная зона. Особенно, если железнодорожное полотно между участками, а не вот эта самодеятельность со шпалами. — Максимовский сапог ткнулся в узкоколейку. — Чтобы не тратить много времени, можете взять один замер: на пересечении входного, либо ближайшего тридцати пяти киловольтного провода и перпендикуляра к юго-западу от самого большого здания.
Всю эту премудрость запихали в голову еще в Лахтинской спецшколе, но пусть говорит. Делая заинтересованное лицо, я думал о своем, пока сознание не выхватило из фона слово-сигнал: н о в о е, н е и з в е с т н о е! Заработала физиология, вымуштрованная суровыми спецшколовскими преподавателями. Прямо, как у павловских собачек. Свисток — сахар, свисток — сахар — слюна, свисток — слюна.
В классе электросоматики слегка по-другому было. Вместо свистка разряд в пятку, а вместо слюней — искры из глаз. Расширяй, курсант, диапазон понимания. Теперь нужное мозг отмечает автоматически. Буду в Институте экспериментальной медицины, положу цветочек на памятник собаке — крепко доставалось беднягам.
— Вот здесь характерно покручены ветки, — показывал старшина хилую березку у ограды, — внизу под деревом сухая трава, попробуйте маятником.
Извлекалась блестящая гайка с ниточкой и вертелась по часовой стрелке — порядок! За две прошедшие недели я вкратце познакомился с болевыми точками района, с каждым днем все более поражаясь обилию неизвестных проулков и тупичков близ родной Арсенальной улицы. Десятки раз таскался я по этим местам, но вон того дома, близ поломанной ограды, хоть стреляй, не видел. Какие-то будочки, погреба, флигельки, маскирующиеся небогатой зеленью. Убогие стены, заслоняющие битыми фасадами огороды. Не те, блокадные, крошащие землю даже у Смольного (кругом только и разговоров было про капусту и шпинат), а многолетние, распаханные еще лапотными предками. Максимов такие места обхаживал, не жалея ног.
— Перекур, — наконец разрешает старшина и сразу же делает замечание: — Вы ошибку допустили: никогда не ложьте термопистолет на землю.
— Максимов, а почему железная дорога считается безопасной?
Он медленно забивает табак в гильзу и, чикая кресалом, думает вслух:
— Точно не скажу. Но собственным опытом подтверждаю — безопасно.
Дальше по маршруту обнаружился еще один незнакомый квартальчик. Строения напоминали перехожих калик, шедших куда-то и вдруг остановившихся в каменном внезапье. Их окна тускнели старческими бельмами под осыпавшимися бровями перекрытий, следя за нами.
— Старшина, может, туда заглянуть? — Я показал в сторону двухэтажного апельсинового цвета строения.
Ближние к нему дома-старики немедленно уставили глаза на своего благополучного соседа. Оранжевый красавец выгодно отличался, имея, вдобавок, еще и табличку с номером — восьмой. Максимов, рисуя схемку на лавочке и не поднимая головы, разрешил.
— Только в яму не свалитесь, — сделал он странное напутствие, — возле сухого тополя.
Странное, потому что ямы никакой не было. Дерево, да. Правда, не сухое, а, наоборот, пышущее здоровьем. А ямы нет — сразу за тополем начинается ровное пространство, упирающееся в забор.
Внутри домик такой же чисто-ухоженный. Только не апельсиново-желтый, а фиолетовый с синевой. Влево от арочного свода бежала наверх воздушная лестница, красовались на тумбах цветы, а деревянные стеллажи в коридоре не срубили зимой на топливо.
На одной из полок развалился кот. Сначала я даже мимо проскочил, не обращая внимания (таким довоенным покоем убаюкивала пыльная тишина), а потом обернулся в недоумении. Да. Сидит, урчит и щурит глаза. А ведь их съели всех…
— Кс-кс.
Зверь ткнулся ухом в протянутую ладонь, заурчав еще сильнее. Лучики света заиграли с мягкой шерстью, отсвечивающей фиолетом.
— Киса, маленький…
«Киса» упал на спину, изворачиваясь, но какие-то, едва уловимые, звуки плеснули ему в глаза ту озабоченную целеустремленность, которая возникает с приходом хозяйки с рынка.
— Мелкая рыбешка, — довольно явственно произнес женский голос и утонул в смехе.
Тут же угукнул примус, а на его шмелиное гудение отозвался стук детского мяча, колотимого в пол. Казалось, сейчас откроется какая-нибудь дверь, рассеянный чудак-профессор зашагает, стуча палкой по лестнице и, хлопнув себя по лбу, крикнет вверх тонким голосом: «Машенька! Где мои очки?»
На втором этаже хлопнула дверь. Котяра скатился под стеллаж, а я увидел вместо ожидаемого профессора какого-то пончика в куртке из рыжей парусины.
— Ты еще наплачешься! — взвизгнул толстяк и выскочил на улицу.
Дверь с молоточками немного подумала и, скрипнув, отворилась наружу. Я поднялся наверх. По обе стороны длинного коридора располагались квартиры и дверь, первая справа, тихонько скрипнула, полуоткрывшись.
— Эй, кто живой есть? — Я остановился на пороге. — У вас дверь открытая.
— А без любви, какая жизнь, — пропел женский голос, и я вошел в чистую светлую комнату с распахнутым во двор окном.
Здесь все было чудно: порхающие шторы, букет полевых цветов на столе, разбросанные в беспорядке вещи. Только вот самой обладательницы вещей обнаружить не удалось. Грешным делом подумалось, что я обознался и принял за человечий голос патефона из угла. Но когда игла снова заскрипела на пластинке, слащавый мужской тенор проинформировал, что «утомленное солнце нежно с морем прощалось». Ну и чудеса! Куда пропала хозяйка?!
Я обшарил глазами комнату и, каюсь, даже заглянул в щель между комодом и стенкой, но тут же увидел в зеркале улыбающуюся красавицу. Как раз такой могли принадлежать чулки-паутинки, переброшенные через стойку кровати.
— Здрав…
Договорить я не успел — красавица исчезла. Я опять глянул в зеркало, но на сей раз, в нем не только не было женщины, сама комната отразилась вместо розового благоухания страшным зевом обугленной стены. Отпрянув, я увидел на уцелевшей стене фотографию этой женщины. В рамке с черной полосой.
Я бросился вон.
— Саблин! — донесся в окно голос Максимова.
На бегу, повернув голову, я, конечно же, зацепился сапогом за порог. Вместо длинного коридора и квартир напротив, зияла пустота, и, судорожно махая руками, я рухнул вниз.
В ударенной голове звонко перекатывалась мелочь, и самый тяжелый «пятак» долбил тяжелой медью в затылок. В лицо прошамкал беззубый говорок:
— Ты чё, милок, там делаешь?
— А?
— Вылазь, говорю! — старушка озабоченно глядела сверху. — Упал?
Держась за корни вывороченного тополя, я пополз из ямы наверх. В голове шумело, фуражку потерял, Максимов исчез, дом тоже.
В поисках пропажи пришлось просить помощи у бабки.
— Уважаемая, а где восьмой дом?
— Да прям перед тобой!
М-да. Старушенция, видать, сама недавно в яму падала. Я еще раз осмотрел горелые стены, выдаваемые за апельсиновый домик.
— А ты, мать, ничего не путаешь? Он такой оранжевый. И девушка на втором этаже.
— А! Валька? Валька справная! И домик хороший. Только это год назад было. Немец его разбомбил. А Вальку еще до войны отравил бывший любовник — Филипп Тимофеич.
— Это жирненький такой? В брезенте?
— Он, ирод. Ты что ж — его ищешь?
— Да на кой он сдался!
Ответа не было, старушка исчезла. Вместо нее щурился на солнце Максимов.
— Кто это вам на кой сдался?
Ладонь старшины была собрана «домиком», а сам он разглядывал мой планшет, болтающийся на ржавой пике уцелевшей лестницы. Да, не окликни меня старшина, на полном ходу влетел бы я в пустоту, приземлившись аккурат на эту вот арматурину.
— Максимов, я…
— Ладно, приходите в себя, а потом пишите Берендееву рапорт.
Берендеев озабоченно выводил на схеме района какие-то крючья, выслушивая пояснения старшины.
— Они, товарищ майор, на этот дом в момент попали, — сказал Максимов, поглядывая в мою сторону. — Одним словом — интуитив!
— Ладно-ладно.
Берендеев финальным штрихом накинул косую петлю на целый квартал домов и жирно вывел в центре: дом № 8.
— В патруле пусть еще походит. Вместе с тобой.
Он заштриховал нарисованную кривую и полюбовался своей работой:
— Ну как, а?
Еще один, в гражданском, молча сидевший в углу кабинета, выпустил облако табачного дыма.
— Прямая парабола чистейшей воды, майор! Поздравляю!
Глава 11 Эвакопункт
Всю дорогу Максимов тосковал. Он и с утра выглядел не очень, а после того как Берендей опять включил его в дозор, оплыл совсем. А видок! Кубанка старшины была шита разными нитками в разных местах, поверх гимнастерки блестела шоферская кожанка с «мясными» пуговицами, а бриджи вообще были шик: нечто отдаленно синее в пугающих индиговых разводах.
Надо сказать, что в ОСКОЛе на обмундирование и военную выправку смотрели как-то облегченно. Я часто дежурил у телефона и все построения дозоров имел возможность созерцать лично. Балаган! Пыльники, брезентовые курточки, железнодорожные полушинели. Один даже приперся в юнгштурмовке[43]и морской фуражке.
Словом, кто во что горазд, как в гражданскую войну. И ведь не «рогожа» это из запасного дорожного батальона — спецы высокого класса.
Вот и Максимов имел вид партизана, выдернутого из-под елки в ближайшем лесу. Правда, вооружился строго по уставу: 12,7мм карабин с термохимическими патронами, ЭТР — электроточечный разрядник и две гранаты «эфки», что в переводе на технический язык — энергофугас малый, переносной, ЭФ-1. У меня тоже был ЭТР — легкая изящная вещица для нейтрализации призраков и прочих параэнергетиков. Вместо карабина мне полагался тяжелый термопистолет «ТТ», а «энергофугасов малых переносных» я не получил ввиду их дефицитности.
На очередной крыше мы сделали привал. Старшину так и тянуло в темные пространства: чердаки, подвалы.
— Сейчас пивка б, а Максимов? Через мост на летнюю площадку и к ларю. Бахнул бы пивка?
— Да. С рыбкой.
— Не, лучше с колбасой. А рыбку удочкой. Помнишь, как тут сетями корюшку ловили? Артелью!
— Я не местный… Станция Дно, до войны машинистом состава водил.
— Нравилось?
— Нравилось!
Мы помолчали, глядя на тусклые блики уходящего солнца.
— А вы, товарищ старший лейтенант, чем на гражданке занимались?
— Историю преподавал в средней школе.
— Ученый человек! — он поправил что-то в сапоге и добавил зло: — У меня в техникум было направление. Прямо в субботу, двадцать первого, товарищ Якименко вручил. Не довелось. — Максимов дробно стукнул каблуком по железу и поднялся. — Пора идти.
Я направился к пожарной лестнице, рога которой высовывались за парапет, но Матвей уловил меня за пояс и потянул в чердачное окно.
— Зашел с крыльца, вышел с оконца, запоминайте, товарищ Саблин. В спецшколе, наверное, учили?
— Учили.
Старшина подбодрил:
— Ничего, это как на передовой: если в первом бою не убили, считайся бывалым.
— А ты на фронте был?
— У меня бронь энкапээсовская была. Я у райвоенкомата сутки торчал, чтоб из очереди забрали. В депо крик, визг — дезертир, мол, трудового фронта. Спасибо милицейскому начальнику, сади, грит, Якименко, человека на паровоз и не дергай, он не к теще за грибами ходил — на войну просился. Ну вот, сделал я два рейса, а в третий немцы эшелон раскокали. Прямо возле станции, километра за два. Всех «безлошадных» путейцев хотели в желдорбат собрать, но не успели — танки к самой станции подошли. Дали нам тогда карабины, по одному на троих, да учебный «Максим». Из деповских только я и Сашка Ребров из того боя вышли. Остальные ребятки у вокзала полегли, по месту, так сказать, работы.
Максимов опять уныл и дальше топал молча. Небо затянули серые тучи, плеснул дождь, и, накинув плащпалатки, мы еще несколько часов таскались по задворкам.
Иногда старшина звонил в управление, для этого использовались жилкомхозовские телефоны. Но раза два телефонировали с укрытых в смотровых колодцах узлов связи. И если в домоуправлении Максимов ограничивался всякими там «эхами», «вотами», либо другими полуопределенными местоимениями, то в секретных точках доклад шел по всей программе.
После одного такого разговора пришлось галопом скакать через ямы к Гренадерскому мосту. На воде ждали чего-то серьезного, но, слава богу, обошлось.
Только в конце уже, когда во всем разобрались и все утрясли, возникла небольшая перепалка между старшими дозоров, речниками и уж совсем непонятно почему вызванными к мосту людьми из ОР-9[44].
Дозорные обложили водников, комиссар дивизиона «Шторм» Прокудин орал с палубы катера, что у него есть инструкция и «буде чего, он этой инструкцией заткнет пасть любому», а ордынцы[45] тщетно пытались унять подшефный зверинец.
Редкие прохожие стягивались к пятачку, где вооруженные мужчины спорили до крика, и выяснение отношений перенесли на потом. Запыхтел старым дизелем катерок, унося красного и злого Прокудина, оттянулись в глубину дворов пикеты сторожевой охраны и только забытый служебный песик долго чесался на тротуаре, пока не обступили его недобрые граждане. Барбос испуганно надулся и, визжа, понесся к своим. Вдогонку свистнули, кто-то вздохнул: «жирный, подлец, какой», а серо-зеленый автобус с крестом на задней дверке остановился на углу и впустил в себя забытую штатную единицу.
Несколько дней прошли в подобной текучке. Однажды вечером нагрянул Берендей и объявил, что ждут важного субъекта со стороны Шафировской дороги. Народу собрали много, подогнали технику, а толку чуть. Бегали, микишились, обесточили район, держа под напряжением ультра-пушку, без толку перекидываемую с места на место. В конце концов порвали толстый кабель, питающий боевую часть орудия, на подстанции что-то замкнуло, и пока переводили «универсального наблюдателя» из сети на батареи, примчался разъяренный Берендеев.
Товарищ майор поставил весь личный состав в известность, что мы есть мудилы гороховые, что ОРВЕРы[46] невредимо проскочили сквозь наши раскоряченные заграждения и что «на башнях» уже есть потери — четверо убитых.
Просрали. Самым натуральным образом просрали. Надежда ведь была на нас, что не пропустим. Не кто-то, а именно ты должен был задержать нечисть. А стоящий за тобой должен знать, что может делать свое дело без оглядки.
— Сколько там людей, Вова? — полушептал высокий сержант, сидевший спиной к нам. — Двое, ну трое, вместе с оператором. Охрана после госпиталя. РУН нет, тяжелых карабинов нет, только перделки эти вот карманные. Охо-хо, — сержант потер подбородок. — Говорил же я тебе, Вова. Ставь банки на параллель. Вова поставил. Вова умный…
На Максимова упал острый луч света.
— Кто там фонарем махает?! — зло крикнул старшина.
— Ты поговори мне!
Старшина прищурился, закрываясь рукой, и медленно встал.
— Виноват, товарищ майор, — скис Максимов.
— Еще и как виноват, — голос начальника дробился сердитыми камнями. — Ладно, техники проспали, но ты…
— А что, я этот, как его… — Максимов извлек из памяти подходяще значимое, как ему казалось, определение, — вундеркинд, что ли?
— Нет, Матвей, ты ундербунд — маленький усатый раззява. Тебя чего сюда поставили, а? Смотреть, наблюдать, предотвращать. А ты пальцем ковыряешь в ж…
— Вот к чему, Евгений Викторович, вы меня обзываете? — не дал закончить «промывание» Максимов. — Я на два аршина под землю не вижу, и электронаводки у меня нет, а у техников есть.
— Техники получат свое. А мы свое. Башня теперь, как яйцо всмятку. Ты Калиниченко знаешь?
— Знаю. Высокий такой. Он инженер там.
— Он покойник.
Старшина тихо спросил:
— Достоверно умерший?
— Слава богу, да. Хоть в пособие помещай.
Майор раздал карточки с изображением молодой женщины и текстом, в котором указывались приметы. По рядам прошелестел разговор о «подкидыше». Замелькали белые листки с портретом… Астры. Я чуть не охнул — таким поразительным было сходство со Снегурочкой.
— Теперь всю душу вытрясут, пока не найдем, — бубнил все тот же сержант. — Будет теперь служба!
— Не ной, — глушил дядьку расхлябанный тенорок. — Не трави душу.
Разговоры пошли по всему периметру и утихли только тогда, когда командиры групп стали разводить людей по маршрутам…
РУНА — это ручной универсальный асинхронизатор. Хитрый такой приборчик, показывающий отклонение от стандарта в общем магнитном поле. Если «минус», значит, отрицательное поле, тревога, возможно присутствие ОРВЕРа. Если плюс — хорошо и чем плюс больше, тем лучше. Кстати, и характер человека можно им определить: те же плюс и минус, только диапазоном поменьше. Я на людях поработал, для интереса.
Максимов, например, почти всегда был в позитиве. Берендей тоже, но когда орал, стрелка убегала в минус, дотягивая примерно до ведьмака или оборотня. А когда я тайком хотел «прозвонить» Астру, прибор, к сожалению, забарахлил — стрелка стала прыгать по всему диапазону, пока РУНА не потухла — пришлось заменить портативный аккумулятор.
В школе нам объясняли устройство асинхронизатора, но всю «технику» преподавали по старинке и, как человек бесконечно далекий от всего электротехнического, я запомнил лишь как с ним обращаться. Аппарат неплохой. «Бьет» метров на сто, неприхотлив и прост. Правда, аккумулятор часто приходится менять. Шкала состоит из восьми делений, покрытых светящейся краской, что очень удобно в темноте. Посередине ноль, справа — белая дуга, слева — длинная красная.
Сейчас аппарат показывал ноль — «голый вася», норма. Однако Максимов направился вглубь разваленных сараев и торчащих пиками кустов.
— Ничего, — бодрил Максимов, — покрутимся полчасика, зато совесть будет чиста.
Знаю я эти его полчасика. Как пить дать, застрянем до утра.
— Старшина, давай мотать отсюда, завтра подъем в четыре.
— Щас, ща-ас, вон до той стенки и пойдем.
Сначала до стенки, потом от стенки до забора, потом от забора до опять забора, на этот раз каменного, и мелькнули во дворе белые пятна халатов. Больница.
— Вот она, родненькая! — просиял старшина и я понял, что спать в обозримом будущем не придется.
Стрелка РУНы тупо лежала в секторе «зеро», но дотошный напарник сперва обнюхал здание по периметру, потом прошел вдоль забора и приказал «готовиться к высадке».
— Я тут в парке осмотрюсь, а ты давай внутрь. Разыщи план здания, выясни, кто здесь лежит. Не спи, старлей.
— Да что там будет! Вон прибор в нуле завис, не дергается даже.
— Прибор, это что? Это металл в ебаните. Головой надо соображать. У тебя голова или чайник?
— Голова.
— Тогда соображай. Эвакопункт здесь был. Брал в день сотен до трех-четырех. Ранения средние и тяжелые, а медпомощи никакой — не профиль. Привезли, распихали по машинам и отправили — кого на койку в госпиталь, кого на кладбище. Сотни людей вопят от боли, не видя белого света. Представляешь, какое минус-поле?!
— Да-к это когда было то, год назад. А сейчас тут дистрофический стационар.
— Ни хрена. Остаточная деформация все равно есть, значит, минимум психоспоры остались. А «гостю» — это как старая навозная лепешка для червяков.
— Максимов, да ерундистика это все.
— Товарищ старший лейтенант, — вздыбился Матвей, — я сам решу, где ерундистика, а где еще что!
Он перемахнул через забор в сад, а я сделал шаг к воротам. И прямо перед моим носом вылетел из ворот грузовик, сбив деревянный шлагбаум. Вслед за грузовиком выскочил доктор в халате и, потрясая зажатыми в кулаке бумагами, закричал:
— Стойте немедленно! Вернитесь!
Грузовик скрылся из виду. Доктор снял очки, вытирая лоб.
— Безобразие! — он спрятал бумаги в карман и неприязненно посмотрел в мою сторону. — Чем могу?
Я вытянул удостоверение.
— Старший лейтенант Саблин, комендатура.
— Рюрик Евгеньевич, горздравотдел.
Я чуть не рассмеялся. Рюрик походил на доктора из детских книжек.
— Нам надо осмотреть здание и проверить документацию на него. Не возражаете, Рюрик Евгеньевич?
— Да ради бога! Здание — вот, документы находятся в архиве…
Отомкнув архив, я уселся просматривать план здания и прилегающей территории — пока старшина рыскал в саду; к его приходу выдал полную справку:
— Дом одноэтажный, делится на административную и амбулаторную части. В подвале хозпомещения. Есть чердак. Год постройки 1892-й. Материалы: кирпич, известковый раствор, дерево случайных пород. Здание подключено к системе канализации и водоснабжения. Во дворе есть смотровой колодец. Векторная дислокация: 0,5–0,7.
— Хорошо, — Максимов проверил мои расчеты. — Кто тут главный?
— Сейчас дежурный врач Рюрик Евгеньевич.
Из-под двери докторова кабинета вился дымок жженного кленового листа, табачной пыли и еще какой-то дряни, набиваемой в папиросы фабрики Урицкого летом сорок второго.
Старшина постучал и, нерешительно кашлянув, зашел в кабинет.
— Посторонние в здании имеются? — поздоровавшись, спросил Максимов. — Родственники больных, знакомые кого-нибудь из персонала? Мы дезертира разыскиваем.
— У нас дезертир?! — изумился доктор, пожимая длинными плечами халата. — Откуда?!
Доктор раньше был толст. И толст весьма. Видно было, что одежда ему привычна, хотя и на два размера больше.
— Из посторонних была только девчонка местной ПВО, оказывали помощь. Полчаса, как увезли ее. Да вот лейтенант ваш видел машину.
Я кивнул, а доктор импульсивно продолжил:
— А дезертиров у нас, молодые люди, никаких нет и быть не может! У нас контроль, знаете ли!
Контроль обнаружился за столом в позе «спящий на посту». Пожилой отец семейства, присланный, очевидно, по разнарядке из рабочего батальона. Я спросил доктора на кой им вообще охрана. Рюрик возмущенно встрепенулся:
— Как зачем?! А продукты? У нас большое количество продуктов для анемиков[47]. Кроме того, глюкоза в ампулах и вино. На все палаты.
— Ну что ж, давайте смотреть палаты.
— Каждая на восемь койко-мест, — пояснял на ходу Рюрик, — дальше еще две по четырнадцать, а за ними — перевязочная.
Поочередно мы проверили все палаты. И там, где по восемь, и там, где по четырнадцать, и еще три комнаты на десять, женские. Стрелка РУНы все так же торчала в нуле, а Матвей разбег только усиливал. «Здесь он, голубчик, — можно было прочитать на его обычно унылой физиономии, — ищщас схватим!»
Когда подсел аккумулятор, мы уже обошли все палаты, докторскую, чердак и спускались проверить подвал.
— Замени! — Максимов отдал мне прибор, а сам принялся налаживать карабин, вставив в уши гапроновые[48] предохранители; мне приказал сделать так же.
Рюрик испуганно покосился на старшину.
— Я, может, пойду?
— Да, доктор, идите. Спасибо!
Он резво удалился, сказав, что подошлет медсестру с ключами от подвала.
— В саду я все осмотрел. Нормально, — скривился Максимов, загоняя в обойму термопатрон. — Только доходяга какой-то возле флигеля терся. Что у них во флигеле?
— Товарищи! Товарищи, — сверху донесся хрусталек медсестринского голоса. — Вы проходите, а я сейчас поднесу ключи.
В этом доме скорби стук каблучков по лестнице молодой и красивой сестрички звучал патефоном в морге.
— Меня прислал Рюрик Евгеньевич… ой, а что это? — Она свесилась через перила и тронула пальчиком раскрытый блок асинхронизатора.
— Фонарь это, — нагрубил старшина, закрывая прибор. — Ну, чё стоишь? Ключи неси.
— Несу, товарищи командиры, несу! — Каблучки опять зацокали, и сверху донеслось: — Ой, умора. Фонарь! Ха-а-ха-ха!
Мы поднялись на пару ступенек в ожидании ключей.
— Ты заряд сменил? — шипел Максимов, нервно дергая переключателем. — Не сменил! Чего тогда на эту фифу пялиться, товарищ лейтенант?!
Укусив меня понижением в звании, он выставил стрелку на шкале.
— Так что, говоришь, во флигеле?
— Ледник. Для временного хранения трупов, пока не заберет спецфургон.
Старшина сразу напрягся.
— Мы здесь всех посчитали?
— Всех. По списку сходится. А сколько тел у них в леднике?
— По журналу одно. Больного Скачкова, смерть в результате рожистого воспаления.
— Тогда проверим ледник. Пошли через коридор.
Коридор был гол и пуст. Лишь в самом дальнем углу замаячил какой-то дистрофик в больничной пижаме.
— Эй, малый!
Больной полуобернул к нам голову и отмахнулся. И пошел к кипятильному баку, стоявшему неподалеку. Шаркая по полу босыми ногами, парень бормотал, прижимая обмотанную грязной ветошью руку.
Скорее, не парень даже, а подросток, годов пятнадцати. Шея у него раздулась, и опухоль наплывала на лицо.
Из бокового коридорчика выбежала медсестра и столкнулась с доходягой.
— Скачков?!
Упав на спину, она закричала и, быстро перебирая ногами, поползла назад на локтях. Доходяга что-то сказал. Вернее, хотел сказать — открыл рот, но вместо звука вылетела оттуда гнилая зеленая кашица.
— Вали его, Саблин! Это кисляк!
Я выхватил оружие и в секундном повороте, когда метнулся к парню-дистрофику, взгляд зацепил цвет «рубин», которым полыхал ручной наблюдатель: ОПАСНОСТЬ! ОПАСНОСТЬ!! ОПАСНОСТЬ!!!
Бахнул тяжелый карабин старшины.
Заряд попал в Скачкова, выбив из него едкие зеленые брызги. Из-под больничного халата ручьем полилась бурая дымящаяся жидкость. Тут же сверлящий вой сквозь гапроновые затычки хлестанул через уши прямо в мозг и хрупнулась на подбородок соленая каша в кровяных пятнах.
— В подвал! — тонким фальцетом нявкнул старшина, содрогаясь в отдаче. Выстрел отнес кисляка метра на два. Старшина бросился к подвальной двери и сбил прикладом замок, а я прыгнул к медсестре и стащил ее по ступеням в подвал.
КИСЛЯК
Симбиотический организм. Соединение человека с псевдобелковой субстанцией Altina Suprefekta (Альтин), в котором Альтин выполняет роль патогентного рецепиента. Человеческое тело используется для передвижения и в качестве инкубатора. Момент заражения не установлен. Структура Альтина до конца не выяснена, так как до последнего времени удалось получить лишь отмершие фрагменты субстанции. Латентный период не установлен. Характерными признаками поражения является набухание кожных покровов, трансформация некоторых человеческих органов (описательно), функциональные изменения в деятельности желез и органов внутренней секреции (предположительно). Мозговая деятельность в режиме щадящего угнетения.
Действенные профилактические и лечебные мероприятия не выработаны. При нейтрализации данного типа объектов эффективным способом является только поражение антропоидной части симбиотика фугасным боеприпасом.
Утилизация кисляка затруднена в связи со стойкостью патогенной части, т. е. самого Альтина, к воздействию большинства тканерастворителей, огня и др. терминаторов. Наиболее подходящим способом захоронения является цементирование фрагментов трупа в кислото-упорной емкости с предварительной их обработкой хлоралбутангидратом.
Проф. Нечаев «Учебник прикладной патофизиологии».
Помещение было совсем крохотным, похоже, бывшая «слесарка». Верстак, оббитый жестью, тиски, наковальня, и в углу шкаф для инструментов. Максимов разбил стекло в зарешеченном окне и пустил в небо сигнальную ракету.
— Подорвать эту сволочь надо, — сказал Максимов, поправляя в ушах гапрон. — Пока народ не сбежался.
— А что с ним?
— Слизень внутри сидит. Как вызреет — полезет наружу. Я в деревне на Еремином болоте такое видел.
— А…
Старшина отмахнулся.
— Человек, что его носит, умирает. Думают, что лихорадка или рожа. Хоронят. Ну, он потом выходит… В земле эта тварь живет, — он повернулся к медсестре. — Слышь, как тебя?
— Таня. Марвич.
Медсестра Таня не сводила стеклянного взгляда с двери, за которой возился кисляк.
— Скачков этот, давно умер?
— Да, умер.
— Давно, говорю? Ау!
Сестричка повторила:
— Умер.
Максимов приподнялся, чтобы шлепнуть ее по щеке, но бить не стал. Вместо этого надел перчатку и повернул Танину ладонь. Рассматривая зеленое пятно, старшина досадливо крякнул:
— Недели две уже, как подцепила…
Медсестра, тонко закричав, лихорадочно встряхивала рукой, будто могла избавиться от проникшей в её организм дряни, как от прилипшей паутины с дохлыми мухами.
— Тихо, дочка, тихо. — Максимов обмотал пятно влажным бинтом и, подождав, когда я крепко схвачу медсестру, ловко приладил провод из ЭТРа к бинту. Хлопнул разряд и 190 вольт из электротерморазрядника прошили Таню Марвич с головы до пят.
Тело напряглось, дернулось и обмякло. Мы вздохнули было облегченно, однако через секунду на белом Танином халате проклюнулась и стала расплываться зелень. Тут же из-за двери раздался вой боли.
Существо рвалось в комнату, прожигая дверь остро пахнущей дрянью. Оббитое железом полотно скоро превратилось в мешанину из потеков и дыр. А долбящий звук пробивал гапрон, отчего вовсюхлестала из носа кровь и прыгали в глазах красные черти.
— Через полчаса ее нельзя будет спасти, — сказал Максимов. РУНой сможешь электроудар сделать?
Я кивнул.
— Ну, тогда с Богом.
Максимов резко открыл дверь, я швырнул в проем набитый хламом вещмешок, и существо схватило его, дав нам спасительную секунду. Старшина успел прицельно бросить тротиловую пачку из боекомплекта. В комнатенке хлопнуло, и полетели в меня со всех сторон обломки кирпича, доски, мелкое крошево стекла и какие-то железяки…
Цел, вроде, и невредим, только шум в голове да оторванная нога рядом валяется. Моя, как будто, на месте. Может, Максимовская?
— Старшина! Ты живой?
Максимов был живой, но, видать, крепко подраненный ошметками кисляка. Он скорчился на полу — красный, в тлеющих дырках, — пытаясь вскрыть ампулу.
— Старшина, я сейчас, терпи!
Вкатив двойного морфина, я вытащил его в коридор. Пришлось ждать, когда лицо раненого побледнеет, и сразу же колоть камфорой.
— И-и бысс-трей, — шипенье Максимова дополнил взмах руки. Я заблокировал коридорные двери, чтобы никто не смог сюда попасть, и вытащил медсестру из здания.
Итак, передо мной был человек, зараженный ОРВЕРом. Заражение и мутация происходили ураганно — скоро начнется ремиссия органов и тогда всё. Я соединил проводки с генератором и дал малый ток, надеясь возбудить в зараженном организме короткий импульс.
— Простите, товарищ, э-ээ… командир, — возникший из ниоткуда Рюрик Евгеньевич мягко уминал березовый лист около дерева. — Тут, э-э… товарищ…
Черная фигура в капюшоне двинулась ко мне, зацепив ногой провод пускателя, — стрелка тут же устремилась вперед, в красный сектор, и в искрах короткого замыкания лежащее тело медсестры искривилось в дугу.
Если вы никогда не видели, как попадают под электроудар асинхронизатора, представьте человека, бьющегося в беспрестанных конвульсиях, с дыбящимся волосом и в паленом дыму. Организм нечастного панически извергает все лишнее, стремясь хоть чем-то помочь себе; всюду новогодний хлопушечный треск и в хохочущем адском свете бедняга словно танцует дикарскую «пляску смерти». Помножьте все это на два — и получите бледную копию происходившего в больничном саду.
Рюрик сначала держался стойко. Лишь неуверенный шаг назад и хруст раздавленной мензурки выдали его испуг. Потом доктор сложился вдвое и упал, апоплексически хрипя: «Марат, Марат…»
Фигура стояла, не шелохнувшись. А когда все закончилось, и я склонился над Таней, получил удар по голове. Отключился, правда, ненадолго. Только открыл глаза — увидел, как фигура в капюшоне подняла руки и взмыла в воздух, преодолевая забор. Я быстро привел в чувство Рюрика, заорав:
— Там, в коридоре, — Максимов! Под капельницу срочно! Точечные ожоги и болевой шок. Кожу не обрабатывать! И смотри, доктор, у него слабое сердце. Держи на вот этих ампулах до приезда наших врачей.
Я выскочил на дорогу, но, кроме расхлябанного грузовика, вильнувшего последней «тройкой» номера на заднем борту, никого не заметил. Возле ограды, где обвалилась кирпичная кладка, кто-то оставил давленный каблуком след, да виднелась россыпь масляных пятен на асфальте. Пахло бензином, и больше ничего…
Где-то у моря прощалась с Городом ночь. Древний чудак Фаэтон тащил свою колесницу уже над Малой Охтой, вынимая остатки темной накипи из дворов и проулков. Подкрадывались к спящим людям забытые на время сна проблемы, а вот моя проблема уже стояла во весь рост: куда пропала медсестра? Она долго мучилась в цепких когтях минус-поля, потеряв три пальца на руках и вытекший глаз. Но человек вернулся в нее, оставив чужую кровь шевелиться на траве — склизкая гадость была почти извержена из тела. Рюрик не пережил вида нутряной каши, осмысленно сучившей зелеными ростками, и хлопнулся в спасительный обморок.
Прибывшему начальству я доложил, что Таня Марвич исчезла.
Максимова увезли, благо, что дорогу он мог выдержать. Я донес его до санитарной машины и зачем-то проводил фургон к самым воротам, заглядывая в слепое дребезжащее окошко, хотя увидеть в нем чего-либо никак не мог.
Ребята из шифротдела обычно загружены сверх нормы, но я все-таки нашел их командира и объяснил ситуацию. Тот кивнул и снова обратился к своему подопечному, в котором я едва узнал спавшего на посту пожилого дядьку из рабочего батальона. Дядька трусился мелкой рябью, закрывал лицо руками и, ничего не добившись, шифровальщики заперли его в своем фургоне.
— Долбанулся мужик, — сочувственно бросил хромой подполковник, возглавляющий подмогу. — Услышал, как дверь ходуном… открыл, дубина, а там — половина кисляка с одной рукой ползёт.
Голос его был смутно знаком, хотя ни в армейской, ни в комендатурской жизни видеть хромого не доводилось. И голос этот вежливо поинтересовался, где, по моему мнению, находится медсестра Марвич — она же «подкидыш», человек, который сам ничего плохого не делает, но при его появлении оживают мертвецы и в наш мир проходят незваные гости — ОРВЕРы.
Я проверял карманы в поисках портрета-ориентира на «подкидыша», розданного всему личному составу перед поиском, только сейчас осознав, что это и есть Таня Марвич, которую ищет ОСКОЛ. Оглянулся, припоминая, что положил портрет в полевую сумку. Хромоногий «подпол» хмыкнул, поинтересовался «не забыл ли я чего», и я подумал, что веревочка, протянувшаяся из тяжелого детства в ОСОАВИАХИМовский лагерь, дохлестнула и сюда, в нынешнее время. И с Евграфом Еремеевичем Полюдовым, который ловил меня в двадцать четвертом, задержал в сороковом году и окончательно «накрыл» здесь, в бывшем блокадном эвакопункте, мне уже не развязаться никогда.
Глава 12 Поиск
— Вас, товарищ подполковник, и в могиле не забудешь!
Евграф кивнул и принялся ходить вокруг места, где лежала медсестра, с каждым оборотом сгущая лед вокруг себя. Это было схоже с первым предосенним холодком, кусающим пятки на балконе, куда ты раненько выскочил курнуть папиросу.
— Вот чего ты хамишь, Саблин? — прищурился Полюдов. — Нет бы сказать: виноват, упустил трофей. Откуда такая непочтительность? Может, наследственное? У тебя в роду анархистов не было? Нет? А протопопа какого-нибудь из раскольников? Тоже нет. Странно…
Я молчал. Через внешнее спокойствие начоперода пробивались сжатые в ярости кулаки, скрываемые неуместными восторгами по адресу местных пейзажей.
— Воздух какой, а?! Деревья, цветы — чудо просто, город-то без кустика, без елочки. Всюду камень, как в сказке! Не читал «Каменный цветок»?
— Не читал.
Я рассматривал носки своих сапог в тоскливом ожидании приговора. Так напортачить! Так г л у п о напортачить, когда все уже было сделано и оставалось только доставить Марвич в контору.
Подполковник мельком посмотрел на часы и пошел к ограде. Хромает Полюдов, и его, видать, покрестило немецкое железо.
В притушенном свете фар «эмки» Евграф измерял мои таланты к осмысленным действиям.
— Ты уверен, что Марвич после разряда стала нормальной? В смысле, человеком. Подумай, старлей, может ты в «рельс бьешь»?
— Евграф Еремеевич, у нее регулярные пошли, — вспомнил я забытый довод, и Полюдов, чмыхнув, пообещал за поимку медсестры новый орден с золотом[49]. А если нет — велел на глаза начальству не показываться.
Где-то в середине мая возле кинотеатра «Правда» стался большой переполох. Испуганные граждане метались по тротуару, давили друг друга, ломали двери уцелевших шкафов и рушили антресоли в поисках не понадобившихся в прошлую осень противогазов. А газа и в помине не было. Просто, узбек-повар из того батальона, что расположился между Звенигородской и Социалистической, созвал личный состав к обеду ударами в рельс. Солдат был в городе второй день и не знал, что для ленинградцев это означает сигнал химической опасности.
Ложная тревога влечет за собой неправильные действия. Если «подкидыш» Таня, значит, недавний случай на башне энергозаслона расшифрован, и мы знаем, как действовать. Если нет — будем искать дальше. Но для этого надо быстро найти Марвич и доставить в лабораторию.
Задача тем и осложнялась — цейтнот. Начальник оперотдела Полюдов подключил еще двоих и дал машину для оперативности.
Одним оказался Костя Волхов, недавний товарищ по оружию с удивившей меня коробочкой. Второй звался Михеем Сарафановым. Сильный и хитрый, пожалуй, лучший из ликвидаторов «конторы», он имел на боевом счету далеко не одну нейтрализацию.
И вот этими ветеранами поставил меня командовать Евграф. Оригинальное действие. Особенно, если взять во внимание полюдовские недоговоренности. Дай он наводку, так и дело не буксовало бы с самого начала. А так — думай, сомневайся, сопоставляй факты и вопросики эти… Вот к примеру: какой для Евграфа тайный смысл в том, как лежала перед похищением Марвич — на спине или на животе? Потом все факты надо рассмотреть вкупе с общеоперативной обстановкой и сделать выводы.
Хотя?.. Они никого ни к чему не обяжут, мои выводы, отчего ж не пофантазировать?
Первое: почему все на скорую руку? Второе: почему мне дают персональный автомобиль Евграфа, и третье — почему меня поставили командовать?
Так. Значит, в командирах я случайно. У спецов принято ставить на командирский мостик того, кто начинал дело; остальные помогают, даже если они старше и опытней. А то, что я совсем недавний «спец», так на бесптичье и жопа соловей.
Максимова в ближайшее время все равно не поднять. Авто Полюдова это не от заботливости, а от того, что Старо-Муринский заградучасток (это их башня накрылась) всего лишь в полукилометре от злосчастной больницы.
Тогда полюдовский «шухер» объясним. Тогда понятно и личное участие подполковника. Удивляет, как говорится, другое: почему листик с портретом Тани, оброненный Полюдовым в машине, отличается от тех, что роздали нам? На полюдовской ориентировке, сделанной с какой-то старой фотографии, медсестра выглядела младше, был на ней непривычный глазу наряд, и вообще была она скорее похожа на мою Астру, чем на Таню Марвич.
Короче, будем искать медсестру, не углубляясь в мелочи. А если отбросить мелкие шероховатости, то, что мы имеем? Одни вопросы.
Башня рухнула через пять минут после полуночи. А ровно в полночь Татьяна приняла смену в амбулатории. Без опозданий. Рюрик клялся, что «минута в секунду, только волновалась и бледная была». А за пять минут добежать сюда от башни?..
Умеет «подкидыш» перемещаться за миг на километры или может находиться в двух местах одновременно? «Подкидыш» — это обычный человек с необычным энергополем или неопределенной природы сущность? Известно, правда, что никакой прибор и никакой, даже самый сильный, «интуитив» не определит белый поток энергии «подкидыша». А тот не знает своей силы, не знает, что опасен, и незнание делает его неуязвимым для нашей контррразведки, разыскивающей пособников ОРВЕРов среди людей.
Не знаю, есть ли жизнь на других планетах, но если бы на Землю напали марсиане-зоотавры, питающиеся кровью детей, и тогда нашлись бы иуды.
— Ну что, командир, — сказал Сарафанов, открывая заднюю дверцу «эмки», — «подкидного» ищем, да еще с живыми пособниками?
Выехав с больничной дорожки, водитель остановил машину и спросил:
— Куда теперь?
Сарафанов предложил к Неве. Налево — там наш патруль торчит, направо — милицейский, с указанием проверять в с е машины. Если похитители умотали на транспорте, проскочить они могли только по Менделеевской.
Прямо, так прямо. Надежда отыскать беглую ведьму рассеяно теплилась все это время. Но зачем Полюдов бросил нас по следу истекающего маслом автомобиля? Как-то не верилось, что утащили демоны медсестру, погрузили в авто и увезли. Чушь это. Не ездят они в экипажах. Была, правда, история о сером «Бенце», но с того времени прошло уже лет тридцать. Подручные ожившей куклы парикмахера были нейтрализованы в 1916 году легендарным ротмистром Хомутинским, а сама она, избежав ротмистровых «рукавиц», смылась в Европу. Может, и здесь не обошлось без «подручных»?
Конечно, автомобиль единственная зацепка, но уж больно куцая, как натянутая впопыхах детская кепочка. Грубый допуск.
И это незримое полюдовское присутствие за спиной…
Заливающий дорогу свет внезапно разметало огненным столбом. Потом еще один столб подрубил ветхий двухэтажный особняк и старичок, пыльно вздохнув, сложился на тротуаре. Посыпалась в стороны утренняя хлебная очередь, проходившие колонной детдомовцы заметались на дороге. Какой-то боец схватил двух из них и затащил в парадную. Поднял перепуганную насмерть девочку моряк, а возле убитой учительницы остался лежать полосатый детский мячик.
— Стой! Куда?! Стой, говорю! — усатый красноармеец держал за руку тоненькую девушку с комсомольским значком.
Две ее спутницы обернулись, а сама удерживаемая заплакала:
— Дяденька, пустите, у нас смена начинается. Мы для вас поршня точим на «Лесснере».
— Старлей, ехать надо, — озабоченно глянул в сторону отодвигающихся разрывов Михей. — Их обстрел, может, накрыл. Или задержал нам на удачу.
Он повернулся к шоферу, ворчащему о несобираемых костях:
— Погнали!
Тяготеющий к безопасному пребыванию в подвале водитель перекрестился и, отчаянно заломив неуставную фуражку, понесся «вдоль по Питерской».
Взрывы бухали уже на юге, а здесь только кривлялся огонь в окнах уцелевших зданий да выжившие их обитатели глядели на горевший очаг. Убитых не было видно. Не то чтобы их не было вовсе — костлявая имеет свой процент с каждого обстрела, — просто, жертвы остались в каменных могилах домов, окруженные, будто древние пращуры каждодневными вещами, хоть и не нужны на том свете вазы, чайники и плюшевые зайцы. Рушившие улицу немецкие фугасы остальным домам добавили осколочных шрамов, но хотя дорогу усеивали тяжелые обломки, ехать было можно.
— Ну что, что дальше? — вслух подумал я.
Сарафанов придвинулся, положив локоть на спинку моего сидения.
— Давай, может, тут покружим? Пройдем по задворкам, РУНой потыкаем.
Волхов отозвался из темного угла:
— В носу пальцем потыкай.
— Не, ну давай тута засядем. Подумаем, с перерывом на обед. Сам-то, что предлагаешь? — Михей и не думал обижаться.
— Да не знаю я, — сморщился Костя, надевая наушники. — Хотите — давай кататься.
Я все-таки решил ехать дальше. Какой-то неведомый зов манил к островам, завлекая смутным дрожащим порывом в набережную дымку. Не в мусорных Бабуринских переулках, а там, в соленом воздухе моря, летит неведомый Марат, похитивший мою добычу. Где он сейчас, да и существует ли? Хрипел его имя доктор в больничном саду — и что с того? А от наших версий разве больше толку?
— Слушай, что ты все нюхаешь там? — откомментировал Волхов мое очередное высовывание из окна. — Сломаешься на повороте.
Такой оборот мне совсем не понравился. Костя, конечно, умный, и в «спецуре» не новичок, но устраивать махновское партизанство я не позволю. Поэтому пригладил его слегка:
— Товарищ Волхов, ваши хохмы в отношении старшего по званию считаю неуместным и вызывающим. Потрудитесь не распускать язык.
Обиделся, отвернулся к окну. Ничего, пусть откиснет. А то он, видимо, считает военную дисциплину чем-то вроде прописных, но необязательных к выполнению, девяти заповедей.
Волхову много спускается за мастерство. Он был в отряде боевого применения, испытывающем разработки умников из ГНТО, а всякие хитрые штучки, рвущие ОРВЕРов на части, бойцы очень уважают. Не пойму я его — учился на филфаке, потом к физике метнулся. Понял, говорит, что не сдвину камень мироздания силой мысли, и решил одолеть его электрическим полем. Костя ушел в ополчение с пятого курса физмата, и, уцелев в хаосе первой атаки на Ропшу[50], попал в госпиталь на Суворовском проспекте. Там и отыскали парня комендатурские вербовщики.
Волхов дулся почти до самой набережной. А потом перестал; за трехэтажкой кинулся вправо тощий проулок с десятком домов у обочины, и в нем стоял, перевалившись через бордюр двумя колесами, черный «ЗИС» с хлорными цифрами 46–33 на заднем борту.
— Вот он! Поворачивай.
Надо было сразу бежать к грузовику. А пока наш водила развернулся, пока ударил колесом лежавшую тумбу, пока дал задний ход и, наконец, въехал во двор, фортуна уже показала ручкой «большой привет». Темная сгорбленная фигура прыгнула в машину и вскоре две тройки мелькали уже далеко в арочном проеме.
«Жми!» — орал Михей, и шофер жал, словно дырку хотел сделать на месте педали газа. Нас мотало и вверх, и вниз, и вбок, и если бы не дополнительные рессоры, ландо разбилось бы в первой канаве-перекопке. А так лишь звякало нечто в сложном автомобильном организме, да еще к радикулитному напряжению кузова добавился вой подшипников.
Те, что были в грузовике, сначала не заметили погони, а увидев, сразу же стали стрелять, разбив нам боковое зеркало. Держась за поручень, я глядел на прыгающий в ухабах черный «ЗИС», когда вдруг появилось голубое свечение в кабине.
— Защита, — успокоил меня ставший заботливым Костя. — Хрен знает, что у них там… Не помешает.
Я кивнул и приложился к протянутому им наушнику. Наверху что-то не срасталось и Полюдов нецензурно торопил нашу группу. На закуску сказал:
— Спишь долго. По приезду, я тебе переходящую пожарную каску вручу.
Разозленный, я в колесо попал лишь со второй обоймы. «Зис», подстреленный на полном ходу, развернулся с лихим выворотом и медвежьим раскачиванием.
— Костя, держи водилу! — крикнул я и выскочил, забирая влево.
Всего-то метров десять было до цели, однако, уже перемахнув через капот, мне стало ясно, что незнакомец уйдет. Он прыгал гигантскими скачками, умудряясь держать на плече соскальзывающее тело медсестры. Да еще и стрелял.
— Стой! Стой, с-сука! — бранился Михей, вырывая зацепившийся наган. — Убью!
Но прыгун вломился в окованную железом дверь и исчез в подвальчике. Такие строения очень удобны для всяких беглецов, дезертиров и прочих уклоняющихся от мобилизации. Окошки в них крохотные, разве что спьяну и попадешь. Брать с боем подобную фортецию, имея голый пистолет, — гарантированная дырка в брюхе и место на кладбище. Тот же, кто сидит в подвале, защищен от превратностей огневого контакта хорошей стеной, которая всегда тем толще, чем меньше в ней оконца. Обороняющийся может отстреливать наступающих, не особо рискуя ни жизнью, ни здоровьем. Если, конечно, умеет владеть оружием.
Этот умел. Положил нас, родимый, как горошины в стручке, а на любое движение палил так щедро, будто у него за плечами городской арсенал.
Сарафанов забрался в яму около двери, но лавров не снискал. Чтобы проскочить дальше, ему требовалось выйти за расколотый кирпичный уступ, где попадал в сектор обстрела.
Ожидая, пока у стрелка закончатся патроны, я поглядел назад — как там Волхов.
— Я здесь, — отозвался Костя из-за баррикадного мешка с песком.
— Что их водитель?
— Не знаю, я его ЭТРом обездвижил. Вроде не ОРВЕР. В морской форме, письмо при нем, якобы от мамы из Челябинска. А тебя Полюдов опять зовет по рации.
Сквозь царапающий шелест и треск радиоволны принесли диетический баритон Евграфа:
— Долго чешетесь.
— Ну, извините. Как умеем.
— Щетинишься, ротозей? — голос начальника подернулся изморозью. — Надо было смотреть лучше, — и чмыхнув, продолжил: — Докладывай.
— Объект предположительно обнаружен и укрылся в каменном строении. В строение проникнуть не могу — блокирована дверь, и объект ведет огонь из пистолета.
— Ну и что делать собираешься?
— Я думаю, человек пять стрелков подключить, с автоматами. Какая-то часть проходила на Сестрорецк, возьму из отставших.
— Хорошо. Только тебе осталось минут… минут пятнадцать.
— Товарищ подполковник! Я не успею. Мы не готовы!
— Все. Это приказ. И чтоб Марвич не зацепили своими подключениями.
Не знаю, как бы все сложилось, если б не двигалась по проспекту автоколонна. Уже исчерпали мы к этому времени пришедшие на ум способы извлечения затаившегося похитителя. Косте пилотку порвали в клочья меткие пули, Сарафанов распластался около железной двери, а подвижек не было.
Был только избыток усердия, и когда задыхающийся грузовик вытянул из-за поворота куцую пушчонку, решение созрело в какой-то суетливой горячке — лишь бы делать что-то, лишь бы не торчать пнем, считая уплывающие секунды.
Пушку я расположил за обочиной, вправо от амбразуры подвала, и, дождавшись, когда Сарафанов очистит площадь боя, крикнул, не прислушиваясь к ответу:
— Выходи, падла, а то похороню там! — И обернувшись к бледному заике-сержанту, скомандовал: — Орудие к бою. Цель номер один — подвал разбитого здания, возле телеграфного столба. Болванкой!
Вести огонь из пушки по врагу доводилось мне всего трижды. Самый первый раз на Даугаве, где командарм-8 пытался собрать разбитые свои части. Кровавый июнь 41-го разбил нашу сказку, но тогда мы еще этого не знали и неотягощенные незнанием бились до смерти в пограничной баталии. Тогда у людей еще не ослепла вера, а бесчисленные наши танковые атаки позволяли думать что вот-вот, вот еще чуть — и повалится наземь фашист, и пойдет Красная Армия на запад, освобождая трудящихся всех стран.
В тот первый бой батарея дала всего два залпа, а потом немецкие самокатчики стали долбить осаждаемый берег из пулеметов. Мотоциклистов прогнали, но быстрые и наглые, как мухи, они постреляли лошадей, а вытащить орудия из чавкающей грязи вручную мы не успели.
Зато второй раз стрелял долго и от души. Только вот не попал никуда, потому что не мог брать верный прицел после двухсот грамм, а без водки тащить полуторатонную «дуру» восьмой или девятый раз бросаемыми на пулеметы красноармейцами было невозможно.
А за третий бой получил я Красную звезду. Тогда уже меня поставили комиссаром упредзаслона, и в одно замечательное утро выяснилось, что кроме нас и покалеченного батальона НКВД перед немцами больше никого нет.
— Эта дорога последняя артерия между Вешенками и Дятловым, — водил забинтованной рукой, с одним торчащим пальцем, чекистский майор Гараев и обильно уснащал воздух матюком, — у меня… две… пушки, бери… их политрук, и… держи, сколько можешь… развилку.
Первым же снарядом разбили мы немцу ходовую передачу. И сидело, видно, с нами «индейское счастье», потому что следующий выстрел, по выражению матроса-наводчика, тоже был «фартовый». Легкий «панцер», то ли по дерзости своего командира, то ли от дурости, обходил своего незадачливого предшественника почти боком к нашей позиции. А много ли надо 20-ти миллиметровой железной коробке с бензиновым движком? Попал наводчик в самую башню, а там своих порохов под завязку.
Когда ветер, сбив дымную шапку, дал узреть плоды ратного труда, немцев уже не было. Танкисты не стали испытывать судьбу. Их машины гудели в тихом овраге, налаживая обушок для следующего удара, и потихоньку размножалась пехота. Бить они станут в другом месте, благо наша истаявшая дефензива походила на гнилой забор — один столб подпер, а другой рухнул. Поэтому и вынесли мы одну пушку метров на двести пятьдесят ближе к правому флангу.
Орудийные расчеты были флотские — из тех остатков морпеховских цепей, что атаковали Красное. Не шибко умелые и без тени смущения. Опуская боковые упоры, кто-то схватил замок и отбил пальцы, ящик со снарядами упал на землю; остальные силились перевести орудие в боевое положение, пока я не откинул крючки.
Но уже звенела далекая песнь мечей, которую помнят еще древний Дербент и стены византийских городов: «кажи, враг, лик свой и пусть родившая тебя готовится к плачу, ибо остр мой клинок, а рука не знает пощады».
Глаз еще косит назад, подмечая спасительную дремучесть леса, фотографию любимой прижимает к сердцу ватная рука, и складываются губы в прочно забытом «господи, помоги», но, когда плеснет в глаза красный туман, солнце будет промывать лучами каждую грань.
Когда задрожит в испуге земля, одеваясь в огненную шубу, и плавится в черном дыму ревущее небо, а упавший набок горизонт наматывается на каждый в отдельности видимый гусеничный трак — тогда и рвется миллионолетняя нить, свитая дрожащим сонмом предков. И будто чужое крыло несет тебя в захватывающую дух высь, бетонируя дух и плоть. И не производным человеческого гения видится уже стальная коробка с пушкой, придуманная людьми, людьми построенная и людьми же управляемая. Не дело это рук человеков — а зверь, плюющий огнем.
Но и ты уже не есть человек в этот бесконечный миг. Ты сам разящее железо, не подверженное коррозии смерти. И ничего нет в мире, кроме битвы. И даже мира нет — есть лишь квадрат зеленого поля, на котором ОН и ТЫ, превратившийся в каленый нерв. Ни огня, ни крика, ни рвущего в смерть железа не увидишь и не почувствуешь. Лишь прыгнет в резиновом ободе прицела пятнистое тело врага, сожмется в теле невидимая пружина и распрямится. Ни раньше на полсекунды, ни позже на миг, а именно в ТОТ момент, выбранный летящим сверхразумом, когда закованная в сталистый чугун частичка тебя понесется, вращаясь в косых нарезах ствола, уже выпущенная другим твоим «я». И еще ничего не видно, еще кто-то орет твоим голосом «огонь!», а ты знаешь, что попал! Попал! Гори, с-сука-а!!!
Артиллеристский сержант мучительно отрывал куски слов:
— Я н-не мм-могу, т-т-т товарищ ст-т-т…
Затем появился его командир и, глянув на мое удостоверение, приказал отогнать «Прощай Родину»[51] на позицию.
При этом он кричал заике-сержанту:
— Иди, Ровнов, иди, говорю! Без тебя обойдемся!
— Что, сильно контужен парняга? — спросил я у батарейца.
— Да нормально. Он командир теодолитчиков, беречь надо. — Лейтенант затоптал выкуренную с оказией папиросу и заговорщицки подмигнул. — Может, фугаской с недолетом?
— Не надо. Ткни болванкой повыше, чтоб дверь снести, а там, как бог даст.
— Ага. Только я это… Один выстрел — и к своим, а то комдивизиона казнит своей властью.
— Давай. А если что, вручи своему «особняку»[52] этот номер и спи спокойно.
Артиллерист положил бумажку с телефоном в фуражку и убыл, козырнув.
Выстрел — и расходящееся в ширину светло-серое облако подсветило блеском. Я пригнулся, ожидая рикошета. Снаряд попал в перекрытие над железной дверью и только артиллеристский бог знал, куда полетят обломки. Я потерял те, первые секунды, согнувшись и скривившись, как пацан, запуливший мяч куда-то в окна. А когда пробрался в подвал через дверь-гармошку, Волхов был около медсестры, а Сарафанов целил из угла в угол черным наганом.
У противоположной стенки, шатаясь, падал некто в морском плаще с капюшоном, и когда я присовокупил к сарафановскому стволу свой «ТТ», этот, в капюшоне, обернулся и, переломив себя, попросил не стрелять.
— А ты кто такой, чтоб тебя не стрелять?! — зло бросил поднявшийся Костя.
— Майор Скляров. Контрразведка флота.
Начальник оперативного отдела Евграф Еремеевич Полюдов украшал табачными кольцами потолок, временами совершенно исчезая в белом дыму.
Хотя ни обстановка кабинета — два стола буквой «Т», длинный ряд светлых шкафов, табуреты и «железный Феликс» в рамке, — ни сам хозяин, облаченный в п/ш габардин и нарочитые кирзовые сапоги не могли служить образцами презираемого роскошества, все равно казалось, что попал в барские покои с валяющимися на диванах ночными колпаками и резными креслами-качалками.
Бархатную драпировку на окне мял в пальцах ленивый ветерок, пахло заморским табаком из причудливой трубки и сам Евграф словно полулежал на тахте.
— Как службу несем, бойцы? — процедил он, втыкая длинную дымную струю в падугу, и мы завели нестройную песнь-отчет, по-крестьянски переминаясь на блестящем паркете.
Рассказ сразу же не задался, уходя в сторону от существа дела, и скоро один лишь Костя потешал начальника прогнозами по дальнейшему развитию событий.
— Стало быть, из пушки бабахнули, — прервал Костины экстраполяции начоперод. — Знатно, знатно. Можно было бы похвалить за усердие и наградить часами. Но для разрушения зданий существует специальный род войск, именуемый артиллерией. А спецкомендатура выполняет несколько другие функции. Так, Саблин?
— Так.
— А чего вы тогда из орудий палить стали? Вы боевая группа или отряд синдикалистов?
— Но, товарищ подполковник, а что делать-то было?! — вспыхнул Костя, и столько детской чистоты искрилось в том возгласе, что Евграф не сразу и нашелся.
Он потянул из мундштука дым, закутался египетским облаком и лишь после этого отчеканил:
— Не попадаться.
Затем начоперод поднялся и подошел ко мне.
— А если б ты летчиком раньше был, бомбу сбросил, что ли? — И в ласковости его хихикало зловещее притворство, усиливаемое барским постукиванием трубки: «чуки чуки чук, чуки чуки чук».
— Я, гражданин начальник, между прочим, задание выполнил и Марвич, между прочим, сидит в нашем ВИЗОРе[53], а не у моряков.
Полюдов съел «гражданина» и стал сосредоточенно поджигать черный табак.
— Славно время провели, — чмыхнул Евграф, устраиваясь за столом. — Авто поперек дороги, стрельба прямой наводкой в жилмассиве, плюс взвод моряков, наблюдающих за вашими плясками. Это ты, Саблин, орал там: «Я уполномоченный командир ОСКОЛ, все лицом к стене»? Так вроде?
— Так.
— А ты в курсе, что нашего учреждения не существует в природе, и то, чем здесь мы занимаемся, знают лишь двенадцать человек в Городе?
Полюдов смотрел, как часовщик, разглядывающий винтики сложного механизма, словно оценивая: заменить деталь или, хорошенько почистив, установить на прежнее место.
Как бы в сговоре с начальником, яркий луч пробивался между портьерами, издевательски слепя лицо.
— А ты, Сарафанов, чего кривишься? Больно?
— Больно.
— А ты примочи свинцом, помогает.
Михей, конечно, мог возразить, что в морской контрразведке не мальчики из приюта работают и в подвале могли остаться три наших трупа. Черт бы его подрал, этого флотского майора. Заварил парняга такую густую кашу, что в ней зелеными мухами увязли и контрразведка моряков, и наш особотдел, и даже военная прокуратура.
Недобро глядел Евграф, очень недобро. Колючий взгляд остановился на мне, и ощущение было из тех, какие бывают при вдавливании гвоздя в грудь по шляпку.
— Поедешь в штаб Морской обороны. Разыщи комиссара и нарисуй полную картину происшествия по легенде. Сейчас мандат тебе сляпаем, а то морячки на этот счет всегда нервничают.
Начоперод откинул чехол с печатной машинки. «Ремингтон» был все тот же — облупленный, разве что совсем стерся на металле красноватый знак фирмы.
Глава 13 Астра. Осень 1940-го
18 августа 1940 года я был задержан органами государственной безопасности в лице Евграфа Еремеевича Полюдова. Он доставил меня из ОСОАВИАХИМовского лагеря в «контору» и отдал на съедение некоему субъекту по фамилии то ли Рвач, то ли Ткач. Я честно рассказал о драке с комсоргом Юрочкой и, глядя, как следователь читает допросный лист, ожидал приговора.
Что-то не нравилось Ткачу в моих показаниях. Брезгливыми пальчиками вытянул он бумагу из облупленного «ремингтона» и держал ее, как мокрый горчичник. И такая мука читалась на лице, будто половина человечества взвалила свои проблемы на его узкие плечи.
А мне ведь нелегко далась эта речь за милицейским столом. Два раза я проваливался в жалкий фальцет, искательно глядел куда-то в щеку суровому следователю. Выхлебал порцию кипящей газировки из рвачевского стакана… Однако видимой радости по поводу моего белого, как ангельские крылья, раскаяния тот не проявил. Он отставил бумажку на всю длину руки, смотря на нее с таким видом, словно не протокол рассматривал, а неприличную открытку. Тут и зашел Полюдов.
Меня поразили его гражданский костюм и умение находиться везде и сразу. Причем умение это слагалось не из шумного брызганья, а из чеширскокотского способа двигаться. Он и на столе Рвача болтал ногой, и рылся в шкафу у окна, и смотрел на меня из дальнего угла кабинета. И все это как-то сразу.
— Что у тебя с домом Штольца, Павел Ильич? — осведомился Евграф.
Они перебросились несколькими фразами в каких-то странных интонациях, из которых я ничего не понял.
Трудно предположить в каком русле потекла бы беседа в дальнейшем, если бы не вступили к этому времени в реакцию пузырьки содовой и «ударник» Феди Зеленого. Забыл я о предупреждении. Да что Зеленый… Я, честно говоря, уже прописал себя на заготовительных работах сто первого километра, где-то под Кандалакшей. Появился в голове шум и вскоре бил он колоколом «Ивана Великого» прямо в лоб через затылок, отдавая болью в раненое плечо.
— Скажи, Саблин, ты что, развлекаешься таким образом? — поинтересовался Евграф, глядя на утыканную «ремингтоном» бумагу.
— Нет, не развлекаюсь, — ответил я, стараясь удержать разгоняемые ударами «колокола» мысли.
Впечатление было такое, будто прозвучала некая непристойность.
— Ну ладно, — голова Полюдова качнулась в отцовском сожалении. — Твои мушкетерские подвиги в отношении комсорга Жукова пусть разбирает «Осови х а и м». Меня больше интересуют причины твоего пребывания в доме-мастерской художника Штольца осенью 1924 года.
От этих слов я не то что протрезвел — почти пить зарекся. То давнее дело помнилось на уровне «было-не было» и зачем оно всплыло, я понять никак не мог.
Мы с Валькой Зворыкиным стояли на шухере, когда банда Деда грабила нэпманский магазинчик. В банде была шпана постарше, замок они вскрыли ломиком-фомичём, этим же ломиком тюкнули и хозяина, а слам поделили. Нам с Валькой досталось по два ящика папирос «Дюбек», и спрятали мы свою долю в той самой Штольцевской мастерской, недалеко от психиатрической больницы номер три.
Мастерская имела славу самую дурную. Построили ее в середине прошлого века для чего-то церковного. А через год оттуда съехали вместе со всем поповским барахлом, из-за того, что флигель оказался «нечистым». Вскоре здание приобрел какой-то купец, но и у него не заладилось. Сменив еще пару хозяев, флигель перешел к немцу Штольцу — художнику и скульптору, подвизавшемуся на библейской теме. Понятно, что и художник в скором времени влип — стал пить горькую и сразу после революции совершенно спятил.
Потом флигель заселяли анархисты, сектанты, цыгане и прочий подозрительный народец, пока не сделали из него антирелигиозный клуб. Но и его закрыли. Приехавшие на грузовике чекисты забили досками двери, наказав милиции надзирать за флигелем…
Голос Полюдова за моей спиной выдернул из воспоминаний:
— Какое ваше участие, гражданин Саблин, в т е х событиях?
— Я не участвовал ни в каких событиях!
Полюдов материализовался у Рвачевского стола и промолвил малопонятное:
— Не шалю, никого не бью, починяю примус. — И, глянув друг на друга, чекисты засмеялись, как масоны-заговорщики.
Испугался я тогда, что пристукнутый «фомкой» нэпман преставился, и вот теперь доблестные органы нашли последних соучастников давнего убийства. И ничего не рассказал Евграфу.
Ничего о том, как мы с Валькой долбили шмаль на мансарде флигеля. Как вертелись внизу в дурацком хороводе безумные сектанты, как громыхнул гром-молния и в домике начался пожар. Ничего о том, что Валька вышел через окно второго этажа «тушить луну», а я вытащил из огня какую-то девку, брошенную своими религиозными собратьями, и втихую смылся.
Тут меня снова ударил колокол, и сверкнула зеленой искрой мысль: причем здесь Штольц, папиросы, огонь, сектанты и вся эта кутерьма забытой давности? А товарищи следователи разъяснили, что нанесениями гражданами увечий друг другу они занимаются лишь в совокупности с нужными им вопросами. И целую неделю потом сучили кишки.
Только не добились ничего — я и сам не знал, сон это был, или еще что, потому как, кроме хорошей «шмали», за украденные папиросы мы с Валькой получили немного денег, что в совокупности с тюкнутым по голове нэпманом потянуло бы лет на восемь.
Вдобавок к приключениям на Литейном, на кафедре Университета закрутилось дело о вредительстве. Старик профессор мой, хоть и отбился от недругов, но заплатил весьма звонкой монетой: такой, как веселье и радость жизни. Казалось, будто целые черты характера вырезал кто-то из Ильи Игнатьевича. Хвать — и нет безоглядной справедливости. Щелк — и потух веселый задор. Чирк — и меткую иронию заменил хоровой околоначальственный смех. Андриевский стал пуглив, осторожен, основным правилом взял «не высовываться», и те из его друзей, что стали рядом в лихую годину, нередко слышали из-за дверной цепочки голос прислуги Евдокии: «Илья Игнатич нездоровы» или «они спят», или тому подобную чепуху, которую обычно громоздят домашние вокруг нежелающего принимать хозяина.
В таких условиях рассчитывать на аспирантство не приходилось. Тем более, эта возня с Жуковым; облик моральный… В общем, скипидару хватало. И я решил отсидеться где-нибудь в области преподавателем школы или техникума, благо, что план по учителям истории нашей альма-матер был выполнен, и угроза пахать на ниве просвещения за полярным кругом вроде миновала.
Деканатская секретарша Тоня, увидев меня в приемной, затрясла белыми шестимесячными кудрями.
— Саблин собственной персоной! Явился принц. Тебя уж как в песне — «ищут пожарные, ищет милиция».
Тоня была хорошей девушкой, толстой и доброй. Она поведала, что экзамены в аспирантуру могут засчитать на следующий год, если все правильно оформить, что на кафедре обо мне все очень хорошего мнения, и что есть «ваканция» педагога в одной из школ Красногвардейского района. Это даже лучше — вернуться с багажом практической работы.
— Как узнали про эту школу, — раздувала огонек Тоня, — так прям и подумали: «Это для нашего Андрея — опыту наберется, трудового стажа, и будет двигать потом науку через тернии».
М-да. Лихо. Ну и на том спасибо.
— А что это за школа? — спросил я.
— Хорошая, — предупредительно заквохталаТоня. — Ее в десятилетку перевели. Вот и не хватает педагогов.
Секретаршино лицо освежил конфузливый ветерок, когда она сообщила, что «тамошняя историчка пошла в декрет»; бровки поползли вверх, носик вытянулся, а мне почему-то вспомнилось, что беременность учительницы непременно обзывалась «проглотить глобус». Тут уж и мое лицо поползло куда-то вверх, как у юнца, впервые услышавшего от взрослой родни неприличный анекдот.
— А остальные? — игривым шепотом наступил я на секретаршу.
— Остальных один. И то с педтехникумом — не тянет. Так что бери направление, пока это дело через верха не закрутили.
— Беру, Тонечка, спасибо.
— Ну и правильно… — Она разложила бумажки в сосновом чреве шкафа. И как хороший исполнитель, принужденный объяснять поступки начальства, добавила с облегчением: — Все лучше, чем в какой-нибудь дыре сидеть.
В том, что бедняга «педтехник» не соответствует, я не видел ничего удивительного. Детишки были рослыми, шумными и одинаково успешными во многих дисциплинах. Они вырослиумными и здоровыми — эти мальчики и девочки предвоенного выпуска. И вопросы, щелкавшие в разных частях класса, задавались поумней, чем «в каком городе находилась Парижская коммуна».
Ставить точки над «и», приводить воспитательный процесс в нужное русло и пресекать «попытки подрыва авторитета учителя» я не стал. Стучать кулаком здесь было явно бессмысленно. «Педтехник» Тимкин ничего этого не понимал. Мне довелось наблюдать его уроки, после чего утвердился в мысли: если тебя не уважают, лучше уйти. Учителя можно бояться, как завуча «Лжедмитрия», можно не любить, как ботаника Грабовского (он же Хвощ). Можно посмеиваться над старческими хохмами физика или показывать, как лежат параллельно земле руки на мощных сиськах Розалии Ефимовны, дополняя телодвижения калеченым немецким языком. Но если тебе дают прозвище «фифтюшка» и даже самые махровые отличники читают Буссенара и Диковского на твоих уроках, ты «педагогический труп», как выразился «Лжедмитрий». И единственное, что ты можешь сделать в подобной ситуации — подыскать другую стезю.
Разведку боем в этом бассейне с аллигаторами я провел успешно, поговорив о недавно закончившихся флотских учениях, про обмен паспортов и шахматное первенство. Потом рассказал о функциях вновь учрежденного Наркомата Госконтроля во главе с Мехлисом и вывел беседу в, так сказать, непосредственно историческое направление. Не прекращались, правда, отдельные вылазки, но были они по теме, а уж за объяснение, что такое Викжель или почему Николашка не расстрелял генерала Стесселя после сдачи Порт-Артура, я, извините, получаю народные деньги. Впрочем, десятиклассники сами разобрались в гнилой сущности царизма.
— Чего там мудрить, — привстал бритый значкист ПВХО, — плевать они хотели на народ, царские морды. Вон в Румынии — чуть жареным запахло, так ихний король за чемоданы и ходу!
Я осторожно перевел беседу на другую колею — наши войска недавно вошли в Бессарабию и эти слова какой-нибудь умелец, типа Жукова, мог повернуть так, что король бросил нацию, готовую дать отпор Красной Армии.
Контакт налаживался, и я уже мог различить некоторые лица. Еще недавно они спекались в единообразную массу — первый урок все-таки.
— Кто у вас Рублев? — ткнул я ручкой в середину списка. Вместо ответа поднялся высокий парень с лицом заболевшего медведя.
— За что двойка?
— За Девятое января, — наливаясь редкой пунцой, ответил ученик.
— Ну что ж ты… Володя, — в журнале значилось Владилен. — Что ж ты… Девятое января наш советский праздник, а ты ничего не знаешь про этот день.
— Знает он! — обжег с места некий субъект с дикой шапкой волос. — Это «фифтюшка» режет.
— Так, все. Никаких фифтюшек. Как твоя фамилия?
— Шиферс Марк, — жестко представился защитник.
— Значит так, Шиферс Марк. Тебе никто не давал права обзывать педагога всякими прозвищами. Это понятно?
— Понятно, — протестуя, выдавил Шиферс.
А за его спиной, ближе к окну, раздались голоса «непримиримой оппозиции»:
— Педагог! Ганнибала с каннибалом путает, — и все засмеялись.
Ограждая коллегу от заглазных насмешек, я вовсе не думал, что такое отношение не могло выстроиться из ничего. То ощущение брезгливости, которое вызывал Тимкин, становилось понятно только со временем. У ребят эти чувства выносились на поверхность — юношескую непосредственность не притушил еще опыт жизни, — а я проигнорировал звоночек. В тот раз я загнал тему в подполье, где она подспудно бродила почти до конца урока.
Урок был последний и, втюхнув в последние десять минут лет около пятнадцати новейшей истории, мне удалось завершить «первый бал» весьма успешно.
— Если у кого имеются какие вопросы, прошу остаться. Время есть.
Однако школьники, чуя запах свободы, ринулись домой. В этом отношении они ничем не отличались от своих менее развитых предшественников. Только одна девчушка задержалась, разглядывая периферийные литографии деятелей французской революции. Весь урок она пользовалась как щитом спиной рослого увальня по фамилии, кажется, Бурмистров.
— О чем будем говорить? — самодовольным ручьем заструился мой басок и, оборотив голову к ученице с плавной неторопливостию, я так с этой неторопливостию и застыл. Будто углей горячих натолкли за шиворотом, а потом сунули в ледяной сугроб вниз головой. Взгляд Астры холодил, как ноябрьская волна с ледяными крошками, и окатывал таким же, бросающим в жар, холодом.
— А не о чем нам с вами разговаривать.
Я не искал ее в Ленинграде. Не ездил поднимать списки курсантов лагеря, узнавая адрес. После того случая с Варей Халецкой, казалось, порвалась тонкая нить между нами, и не потому что мой поступок был как-то по-особенному гадок и пошл. И тогда считал, и ныне убежден, что моя связь не тянет больше, чем на косой взгляд. А если кто скажет о Варе плохо — язык вырву. И дай бог, чтобы она была жива — весной сорок первого года закончила курсы фельдшеров и уехала по распределению на освобожденные территории в Брест-Литовск.
Нет, товарищи, не потому снежная принцесса зачеркнула мой портрет, что увидела нас на вокзале. Не пододеяльная сторона жизни как таковая разозлила ее. Что-то другое, отделяющее принцессу неперейденной чертой от всех других девушек и до сих пор не понятое мною. Как чарующей красоты изваяние глядела она с холодной вершины, теряя появившийся было румянец. Не разбудил королевич спящую царевну, застрял в кущах, скотина, и глаз не кажет — стыдно. Не тот принц пошел.
Словно подглядев, позвонила в этот день Ольга Романова и стала дергать душу острыми кошачьими коготками. Оказывается, я все не так понял в последнем разговоре. И летчика не было всерьез — лишь так, чтоб подразнить. «А то загордился, как не знаю кто». Но голова моя была чиста, розовые очки на ней отсутствовали, и я понял, что Старков помахал подруге крыльями.
Ольга, однако, так выстроила план, что я вскоре опять был в ее ненавязчивом на этот раз обществе. «Ну откуда они все это умеют?» — ползала в извилинах мысль при виде грамотной полуулыбки бывшей невесты. Наверное, мамочка подсказывает, старая шлюха. Впрочем, не такая уж и старая. На празднике в честь именин Ольгиного отца, Галина Аркадьевна пригласила меня на танец и, пользуясь хмурым освещением, так активно ворочала задницей, что я чуть не уделал ее в ближайшем от комнаты танцев коридоре. Помешала снующая с графином бабушка и элементарное уважение к имениннику — добавь я ему рогов, и бедняга наверняка цеплялся бы тогда ими за потолок. В тот вечерок я улизнул, избежав надвигающегося объяснения.
Давний пожар умер, засыпанный снежной вьюгой, но тлели еще не покрытые морозным инеем угольки. Их воскрешала Ольга. Воскрешала целеустремленно и настойчиво, и, осознавая всю ее игру, я все равно втягивался на Ольгину орбиту, как неоторвавшийся астероид. Сколько, интересно, таких разбитых и оплавившихся каменюк в поле ее притяжения? Летчик Старков оказался сильнее и улетел дальше познавать новые миры, а я падал вниз, хотя знал уже все и больше. Дима-Кокс, мой недавний однокурсник, неведомо как проведавший о нашем разрыве, гундел в «Якоре»:
— Ты, Андрюнь, дельно решил с Олькой завязать. Мы тогда не вмешивались — дело твое, личное, а щщас можно. Деваха она так себе. В кафешку сводил и можно драть. На курсе я первый с ней начал, потом Игорь с Вадиком, потом опять я. А сколько до того было? Вот и считай…
Но я продолжал таскаться к Ольге, не в силах выполоть зловредный корень. Как под гипнозом. А мой сероглазый ангел-спаситель смотрел на уроках только в окно. До главного дело еще не дошло, но Ольга явно зачислила уже победу в свой актив. Враг хоть и не повержен, но побежден. Остается добить его и заставить униженно молить о крохе внимания.
Сыпался белый песок времени, обозначая контуры проблемы: что делать? Жениться на этой подруге означало иметь рога на будущее, ветвистости не меньшей, чем у папы-Романова. Порвать с ней — скатиться в бездну черной тоски, рождаемой стеклянным холодом Астры. Этот холод жег изнутри, позволяя видеть бездну только чуть-чуть, но сразу бежать в ужасе. Бежать куда угодно. На Северный полюс, к Ольге, к черту, к дьяволу, хоть к Мессалине бежать, только б не видеть вселенской пустыни в собственной душе. Я как-то сильно сдал за это время в борьбе с подсознанием, отодвигающим принцессу к далекому горизонту. Это же подсознание толкало меня к Ольге, которая уже возвращалась к обычному: «ну, может быть, завтра».
«Опять сказка о витязе на распутье», — думал я, попутно наблюдая, как парни на школьном стадионе проделывают гимнастические трюки. Было дело, и сам когда-то крутил «солнышко», по двадцать раз подтягивался и вертелся на брусьях. Загляделся и решил тряхнуть стариной. Тряхнул и сразу же попал в школьный медкабинет. Шов от Юрочкиного штыка лопнул, и местными средствами кровь остановить не удалось. Окружающие начали суетиться, большая перемена досыпала перьев в деготь, но остановить бьющую, как из рваного кабана, кровь не получалось.
— Андрей Антонович, вот, — сунула что-то нашатырно-вонючее беленькая Рита Попова и, восстановив резкость в глазах, я увидел принцессу.
Приподняв платье, она тянула черную полоску из юбки-подкладки. Материя поддалась, и повязка украсила мое плечо, прочно стянув жилы. Сам же я был препровожден в лазарет, где засветила угроза получить прививку.
— Иди на урок, Астра, — строго наказала медсестра, забирая жидкость в шприц.
Астра тяжело посмотрела на нескрываемые одеждами пышности Майи Исаковны и медленно вышла, напоследок и меня одарив рублем предостерегающего взгляда. Дверь защелкнулась, а у Майи треснула в пальцах ампула сыворотки.
Завуч отправил меня домой и по пути на трамвайную остановку я присел на лавку во дворике, недалеко от Большеохтинского проспекта. Желтый лист упал на плечо и вслед за его тихим шелестом раздался такой же тихий голос:
— Вам нехорошо, Андрей Антонович?
Да, Астра, мне плохо. Я люблю тебя и не могу в этом признаться. Ни тогда в лагере, ни тем более теперь в школе. И скажу ли когда-нибудь, не знаю. Уйму доводов можно подобрать, но главное в другом: ты, похожая на обычную ленинградскую девчонку, на самом деле, гостья из чудесного мира, где нет юрочек жуковых, войн и опечатанных дверей соседской квартиры. До безумия хочется взять твою руку и читать стихи о звездах, но все что я могу — это кряхтеть на скамье.
— Ты почему не на занятиях, Далматова?
Она тронула бугрившееся повязкой плечо.
— Больно?
— Да нет, нормально.
Принцесса, сев рядом, обронила в жесткой усмешке:
— Как же вас так угораздило на турнике?
Дернулось что-то внутри в безотчетном ожидании благодарности, и вот уж действительно: слово не воробей. Не шевелилось оно тихо, непойманное, а дзыньк с языка:
— Да это еще тогда, в лагере…
Астра растянула нить закушенных губ.
— Когда вы все успеваете, Андрей Антонович? Вас ведь как ветром снесло после того… как… Повязка слезла, кажется. Я поправлю.
И так она взглядом резанула, что я аж застыл. Даже в скоблящем нутро фильме про вампиров, в далеком двадцать восьмом году, не было таких страшных, постепенно меняющих цвет глаз. И там хоть держала мысль, что сидит за ширмой балаганщик Ёська, управляя стрекочущим кинопроектором, и вообще можно уйти, если дрейфишь. А здесь не убежишь из темного зала. Солнце, вот оно — близко, но еще ближе пламенеющие сталью глаза принцессы. И сидел я, как гвоздем прибитый, пока не нависла тень, порвавшая молчание знакомым голосом.
— Вы что, ребята, целуетесь, что ли?
Мы с Астрой обернулись.
— Тьфу-ты! Я их зову-кричу… Ну ты как, Саблин, живой?
Я вздохнул с улыбкой облегчения:
— Ты откуда взялась?
В темных лучах закрываемого облаком солнца упирала руки в боки Совета Полтавцева.
— Там нет уже, где брали, — хмыкнула Ветка и, нисколько не пугаясь страшно серых глаз, отчитала принцессу: — Ты чего это, Далматова, отцу-инструктору санпомощи толковой не можешь оказать. Это ведь из-за тебя ему дырок в плече понаделали.
— А чего было Юрочку трогать?
— А чего было Юрочке за моральное разложение кашу варить?
— Какое разложение?
— Да твое, с Саблиным!
— Мне Жуков сказал, что отец-инструктор устроил дебош.
— Да ты на рожу его смотрела хоть раз из глаз?! — уже орала Полтавцева, заставляя оглядываться редких прохожих. — Ты спала с Андрюхой! Понятно? Вот что этот жучила наплел! А Саблин ему всю морду разворотил и за это попал в милицию.
— Андрей Антонович… Вы же с Халецкой в город уехали.
Астра, смолкнув, глядела на угол дома, упираясь ладонями в зеленый брус лавки. Казалось, в усилии сказать что-то, она оторвала пальцы от крашеного дерева, но свела их уже в кулак и с обидой ударила себя в бедро.
— Почему вы не рассказали мне?.. — еле двинулись ее губы.
Но Ветка услышала и, будто в трубку тугоухому собеседнику, который на деле слышит нормально, просто говорит не слишком громко, опять кричала:
— Слушай, не нервируй меня! Ну, дал по морде Андрюха! Что ему, на всех крышах орать об этом?!
— Вы должны были мне сказать, Андрей Антонович! — вспыхнула Астра. — Должны были! — Резко поднялась и ушла, не оглядываясь.
— Ты был похож на лося в проруби — жалкий и испуганный. — Полтавцева, сделав из ладони козырек, глядела вслед принцессе. — Смотри, не влюбись.
— Мне не положено.
— Сашке Круглову тоже было «не положено». А он из-за нее с моста прыгнул.
— Что еще за Круглов?
— Да был у нас физик в том году. Втюхался по самые уши и бултых — в Невку. Еле откачали.
— М-да, серьезно.
— Куда уж серьезней. Так что, Саблин, гляди — опасная штука. Сашка так, на поверхности, а сколько парней молча зубами клацают.
— А почему молча? Если понравится кто, мы знаешь какие!
— С другими, может, и какие. А Далматова вас, как тигров на тумбах, держит. Только глазами едите. Даже Ероха, гопник один… знаменитый в масштабах квартала. Так и он, как Бобик на цепи, хвостом пыль подметает. Да ты видел его.
— Угу, видел. И что она? Так ни с кем и не ходит?
— Дружит. С Леней Федотовым. Книжки в парке вместе читают.
— Все ты знаешь, Ветка. Возникает даже вопрос: что ты тут вообще делаешь? Как меня разыскала?
— А чё тя искать, не пятак. Завуч послал. Мы, говорит, хотели попросить Тимкина, а ему дело срочное — проводи, говорит, нового педагога. Я в нашей школе, между прочим, пионервожатая. Старшая.
— А я тебя не видел ни разу…
Совета расстегнула клееную дерматином сумку и, порывшись, вытянула красного вида блокнот с огнем поверх звезды: «Слушателю курсов руководителей пионерских дружин».
— Растешь, Полтавцева!
Старшая пионервожатая хохмы не приняла и обиженно сунула книжицу обратно.
— Дурак!
— Ну, Ветка, ну извини, — я легонько ткнул ее пальцами под ребра. Со стороны это выглядело, наверное, очень смешно: широкоплечая девица с перевязанными лентой волосами, вместо модной завивки, по-детски защищается длинными руками от вполне совершеннолетнего мужика с портфелем.
Ну и черт с ним, что смешно. Ветку я любил, хотя было в ней чересчур много прямоты и совсем мало всяких женских штучек, которыми слабый пол умеет приковывать к себе внимание. Виной тому были многочисленные братья и сестры. Придя с Врангелевского фронта, глава семейства принялся клепать маленьких Полтавцевых с таким усердием, что вскоре уже сбивался со счета. Эта орава съедала большую часть времени и денег, так что Ветка, бросив институт, пошла работать.
— Все, Саблин, ты лишен пионерского расположения и сочувствия, — заключила Совета и, забрав мой портфель, указала в просвет между домами. — Вперед! На трамвай!
Дома я сразу же улегся на диван, охая и постанывая до тех пор, пока Ветка не залезла в недра полированного буфета, шурша бумагой.
— Так и быть, накормлю увеченного товарища. Где у тебя соль?
— Там, в шкафчике, — скромно протянул я руку в верхний угол и закрылся подушкой, когда вожатая извлекла бутылку с казенным содержимым. — Мне надобно поддержать гаснущие силы, а ты должна составить мне компанию. Ибо питие в одиночестве есть алкоголизм.
Ветка задумчиво разглядывала наполняющийся стакан.
— Ты все-таки моральный разложенец, Саблин, не без огня дым был.
— Обвинение полностью отвергаю! Я рыцарь, получивший ранение в битве за честь дамы. По сему — предлагаю выпить за дам.
Мы выпили по одной, и я завернул, пока был в «удобном случае».
— Между прочим, пора, чтобы кто-нибудь покусился и на твою честь.
— Уж не ты ли этот «кто-нибудь»?
— Не… ну я, вообще… Лёшик как там — шансы имеет?
Ветка отчаянно хлопнула вторую рюмку и махнула рукой.
— А-а, у него один бокс на уме.
— Ветка, а ты чего, ни с кем еще?
Она подцепила кружок лучка и, подняв его, скинула в широко открытый рот.
— Ну, ты совсем с ума сошел — такое спрашивать.
Упал задетый локтем нож и Полтавцева, наклонившись в его поисках, болтала что-то невразумительное из-под стола.
— Чего ты говоришь?
— По шее, говорю, дам в следующий раз за такие вопросы.
— Ну, Свет, я без всякого… Ты ж ведь нормальная девчонка, только краской не мажешься и это…
— Что это?
— Ну, прямая какая-то. Как стрела.
Вопросительно и удивленно распахнулись карие глаза с длинными ресницами.
— Кривыми и скользкими только подлецы бывают, Андрюша.
— Да я не про то. Вон, Саньке Лаптеву, что ты на вечере сказала, помнишь?
— Ну, что руки у него мокрые.
— Ну и мокрые. Потеет человек от волнения, а ты без деликатности его при всех дураком выставила.
Совета глубоко задумалась, перебирая в памяти недавний август. Лаптев тогда ушел красный как рак и долго не показывался на людях. А Ветку вообще обходил потом десятой дорогой, как и большинство парней, причесанных острым язычком «девушки с веслом».
— Может, и прав ты. Только, знаешь, каждому кланяться — спина обломается. Наливай лучше.
Мы снова дерябнули, и хмель уже вступил в свои обязанности, начиная ворошить угли пониже пояса.
— Полтавцева, давай я тебя со своим другом познакомлю. Он тоже спортсмен, борец.
— Какого общества?
— ЦДКА. Сейчас он бронетанковый командир, в Латвии.
— А летчика у тебя нет? С Дальнего Востока.
Я вспомнил Старкова и облегченно констатировал, что сие не вызывает у меня никаких душевных треволнений. Видимо, рецидив заканчивался, открывая горизонты дальнейшей жизни. Светлый путь, так сказать.
— Ветка-а…
— Что?
— Если что, ты это… то давай с тобой мы…
— Иди в баню, пьяный дурак.
Она закинула руки за голову, скаля ровные белые зубы.
— Заботливый какой выискался!
Полтавцева встряхнулась, будто прогоняя чертиков из головы.
— Все! Пьем только чай, а то я привлеку тебя за попытку соблазнения.
— За попытку не привлекают.
— Ничего, тебя привлекут. Тоже мне герой-любовник! — Она звякнула фарфоровой крышкой, улыбаясь своим мыслям, а затем вооружилась сахарными щипцами. — Устроил притон, понимаешь (Кр-р-рах!). Водка, занавесочки, ковер-фантазия (Крр-ррах!). Иди вон лучше Аську охмуряй!
Потекла горячая струя, оседая шипящим паром на дне заварника, и в комнате несмело появился аромат душистого кок-чая.
— Какую Аську?
— Далматову.
— Так, вождь краснокожих, ты уж в одну дуду дуди. То говоришь: не подходи к ней — с моста упадешь; то наоборот. Ревизионизм какой-то!
— Сам ты ревизионист, — засмеялась Ветка, бросая фантик лимонной конфеты. Фантик упал прямо в стакан, и, вытаскивая бумажку, она так близко наклонилась, что наши лица почти касались друг друга.
— А знаешь, как девчонки в лагере тебя на первах называли? — Совета положила голову на упертые в скатерть локти и вытянула губы. — Милый дрю-юг.
— Это с чего же?
— Ну, как с чего? Рубашечка шелковая, пиджачок с одеколоном да здрасте-пожалуйста, да извините-прошу… На станцию каждый вечер бегал за четыре километра. Телеграммы посылать. Думали, что ты сынок профессорский.
— Долго думали?
— Не-а. — Ветка подтянула носком туфли дубовый табурет и оперлась на него коленом. — Пока ближе не узнали. Порядочный мужик, хоть и культурный шибко.
Табурет был высокий, позволяющий обозревать всю ее заднюю часть, обтянутую зауженым крепдешином. Впечатляющая была картина, и когда младший брат все настойчивей стал напоминать о себе, я был вынужден предъявить ультиматум.
— Полтавцева, если ты не сменишь сейчас же эту позу прачки, твои мечты о большой любви осуществятся прямо на этом столе. С места даже не успеешь сойти.
Она повиляла тугой, как у молодой кобылы, задницей и произнесла раздельно:
— По-меч-тай!
— Светка, имей совесть! Ты знаешь, сколько я бабу в руках не держал?
— А Халецкой ты что — про звезды рассказывал?
Тут ее блуждающий взгляд упал вниз, и я брыкнулся, как застигнутый врасплох купальщик, зажав горстью предательски горбатящееся место. Однако Ветка, упрятав лицо в ладони, захохотала так звонко и весело, что «проблема» упала сама собой.
— Ухожу, ухожу, ухожу.
Замелькали длинные руки и, откинувшись назад, она опять заслонила покрасневшее лицо.
«Надо было ей по полной наливать», — забродила подлая мысль, и чтоб разогнать подступающую волну, я закурил.
— Ты про Варю откуда знаешь?
— Астра сказала…
Четвертая, горькая стопка не пошла, застряв обжигающим пузырем где-то на полпути. Чтобы ее залить, я выхлебал почти весь графин, долго кашляя и стуча кулаком в стол.
— Все, Андрюш, хватит, — жалостливо сказала Ветка, убирая водку. — Аська в тот вечер мимо меня как ураган пронеслась. Я за ней, в домик. А там уже черт-те что. Одеяла разбросаны, чашки-ложки на полу. И сама в углу ревет. Я сдуру подумала, что ты ее обидел. Схватила что-то — и вперед. А она «стой!» кричит. Стой, говорит, не надо трогать его!
— Да-к, а чего ты на меня подумала?
Полтавцева смотрела в окно, вытирая помытую посуду.
— Догадывалась. Я ведь девчонку эту хорошо знаю. Еще удивлялась: чего это Далматова — мужичка, что ли, присмотрела себе? До этого ведь ни в какую.
— Не было ничего у нас.
— И хорошо. Оно ж еще и Юрочка Жуков… Где-то обнаружил бутылку Фединого самогона, хлебнул, наверное, и поперся к Зеленому. Тот, конечно, ему по шее дал и выгнал. Самогон забрал, но Жукову, сам знаешь, — нюхнул и поплыл на седьмое небо ветра ловить. А потом Далматову ему подавай: где-то бегал, искал… Вечером его конюх привез в невменяемом состоянии. Нашел приключений на свою голову… А ты парень серьезный, не хлам какой-нибудь. И Аське не крутил мозги, и сам не попал… Оно молодое, глупое. Сегодня одно, завтра третье. Так что — ты молодец.
Все перемешалось в моей голове. Забытая мной в медпункте лагеря самогонка. Утираемые на ходу слезы Астры. Веткин рассказ, тот дождливый августовский вечер и голос: «А вы поцелуйте меня, и я превращусь в принцессу». Раскрашенные сорокаградусные картинки прыгали ломающимся калейдоскопом и в хмельном запале я не удержался:
— Не молодец я, Ветка.
Полтавцева только что не упала. А так и руками взмахнула, и повернулась, разбив тарелку, и, как положено, к подоконнику привалилась, обхватив подбородок ладонью.
— Я ж ведь на лавочке, как увидела вас, так и подумала: чего это братец Андрюшенька тихенько так сидит? Чисто жеребенок у титьки.
Хрустнуло под каблуком… Собирая фаянсовые осколки, Светка опять сбросила их на пол, закусив кулачок.
— Ну надо ж, а?! Чё делать, Саблин?
— Тебе-то чего волноваться? Выпутаюсь. И потом, откуда это загробное настроение? Ну, втюрился крепко — так ведь не тиф это, не скарлатина, в конце концов. Беда, прям, великая.
В ответ подруга покачала головой.
— Тебе точно беда. Ждать ведь не сможешь, пока она хоть школу закончит, найдешь опять…
— Чего ждать?
— Отэтого, — зло крикнула Ветка, делая неприличный жест обеими руками. — А, не дай бог, будешь одновременно с ней дружить, а с другой любиться — жизни не рад станешь.
— Ну чего ты из нее прямо ведьму какую-то делаешь. Обычная девчонка…
— Ага. Ты сам-то веришь, чему говоришь?
И послушав тикающие вместо ответа ходики, Полтавцева погрозила неуютной тишине.
— Я хоть и не признаю этой чепухи, но точно тебе говорю: ведьма Аська. В тот вечер зашла ко мне ее подруга Зинаида и тихо так шепотом: «Далматова моя странная вся. Пришла, морда попухшая, слезы текут. Я ей зеркало даю — посмотри, на что ты похожа… Она глянула только — зеркало „бух!“ и в куски. Ладони в кровь, а не чувствует. А глаза!» — Совета нервно заходила по комнате. — Я эти глаза сама видела: Северное Полярное море зимой, аж плохо.
Ветка пугливо зыркнула в темный угол, где между комодом и плюшевым диваном подозрительно колыхалась занавесочка.
— Я тогда из домика все-таки выскочила, тебя за жабры взять. Метров двести отмахала до поворота, а под фонарем с Далматовой лоб в лоб — гуп! И слышу от нее: «Не надо, Совета, не трогай Андрея». Я тогда с разбегу и удивиться не успела, а потом все думала: как это она раньше меня прибежала, да еще и не запыхалась вовсе?
— Ты, наверное, левее взяла, через тир. А Астра — напрямик.
— Может быть… — Ветка с сомнением пожала плечами и, видимо, обсасывая удачно подкинутую мыслю, чудно изогнула линию губ. — Наверное… Не, ну точно! Какой ты умный, Саблин, — пряча куда-то в глубину души не успевшее поднять голову сомнение, рубанула воздух Полтавцева и вновь принялась собирать фаянсовое крошево.
— Засиделась я у тебя, — пропела Ветка на мотив «умри моя печаль». — Время-то сколько?
Я взял с полки серебряный «монополь».
— А время у нас всего только… только всего двенадцать!
Ветка потянула часы своими граблями и медленно прочитала надпись на крышке:
— Проле-тар-скому коман-диру Саб-лину от рев. Ташкента… Дядьантоновы?
— Да, отцовы.
— Слушай, а твои думают назад в Ленинград возвращаться?
— Ну, наверное. Отцу еще три года служить.
— Трудно там?
Я засмеялся:
— Чего трудно? Ташкент город хлебный.
Ветка подбросила на руке серебряную луковицу и еще раз прочитала надпись.
— Ништяк. У моего такое же, только портсигар. — Она помахала ценным подарком на вытянутой руке и поинтересовалась: — А у тебя есть еще что-нибудь? Революционное.
— Да полно!
Я извлек большую коробку, и мы уселись на диван, разглядывая сокровища минувшей эпохи.
— Ой, а это что за штука? — ткнула Ветка в середину погрудной батиной фотокарточки.
— Сама ты штука. Это бухарский орден Красного Полумесяца. Приравнивается к Боевому Красному Знамени.
— Хм. На буржуйский похож… А твоя форма сохранилась?
Геройским движением я открыл скрипящую дверь шкафа и облачился в старую гимнастерку.
— Хорош гусь!
— Да ну тебя! А между прочим, вот. — Я разыскал снимок, где был во всем великолепии с шашкой. — Тридцать четвертый год. Перед увольнением по состоянию здоровья.
— Да? А по тебе не скажешь, что болен.
— И не надо!
Я легко забросил Ветку на плечо и забегал по комнате, изображая паровоз дуденьем.
— Пусти, дурак!
Полтавцева забарабанила кулаками по моей спине.
— Опаздываю! Из-за тебя, между прочим.
Я спустил ее на пол.
— Советка, тебя в школе привлекут за опоздание.
Она пфыкнула:
— Какая школа! Я до семнадцатого на курсах числюсь. Свиданка у меня, понимаешь?
— Ого. Тогда хоть муската пожуй, а то дыхнешь ненароком.
— Обойдусь, — Ветка открыла дверь. — Скажу, что приезд отмечали. — Плечо не болит?
— Нормально.
— Ну, пока.
— Я провожу!
Провожать девушку, спешащую на свидание, — только обувь портить. Особенно, если эта девушка с физкультурной легкостью мчит по бездорожью, с места форсирует океанические лужи и так машет руками, что у любого тренера по волейболу покой отсыреет. Вдобавок Полтавцева всю дорогу тарахтела, какой все-таки необыкновенный (не мне чета) парень встретился ей на пути жизни, и к концу пути совершенно задолбала меня своим Лешиком. На трамвайной остановке Ветка подумала, а потом сказала, сурово и честно:
— Не обижайся, Саблин, но ты какой-то зыбкий. Последовательности в тебе никакой. Вчера в галстуке ходишь, сегодня морды бьешь. То насчет Астры слюни пускаешь, то на меня прыгаешь. Роста культурного тоже не наблюдается. Ну, вот что это за пошлятина? — Ветка показала на татуировку в виде синих скрещеных пушек. — Тавро какое-то!
Я прекратил попытки застегнуть проклятую пуговицу на рукаве.
— Ну, чего ты пристала к человеку? Сглупил по молодости.
— Работать надо над собой. В человеке, Саблин, все должно быть прекрасно. Тем более, что Далматова, кажется… ну, к тебе неравнодушна.
— Ты серьезно?
— Серьезно, Андрей. А ну-ка, дай сюда, — она забрала мою кисть и стала внимательно изучать «тавро». — Что же Аська мне говорила тогда?
— Ветка, трамвай!
— Ну все, Андрюш, пока, до завтра.
Полтавцева уверенно забралась на заднюю площадку и долго махала рукой в удаляющемся стекле последнего вагона. Она умчалась навстречу своей большой любви, оставив мне в подарок ослепительный луч надежды. Пусть бессодержательной и возможно напрасной. Черт с ним! Мне было достаточно знать, что принцесса со снежно-серыми глазами не считает меня дешевым утилем. И, может быть, не задаром были те ее слова «я жду в а с, Андрей Антонович».
Обычный ленинградский понедельник стал вдруг особенно ярко наполнен жизнью. И солнце опять стало яркое, и трава опять зеленая, и вода чистая до прозрачности. Я шел вдоль Невы, осторожно неся цветное счастье, будто боялся его расплескать. Счастье, как факт жизни, было мной осознано еще в детстве. Причем знание, пожалуй, слишком раннее, включало в себя, что счастье — вещь мимолетная и скоропортящаяся.
Дядя Гена Мельников, отцов начштаба, привез своему Димке замечательную игрушку из Яркенда. И Софье Марковне большую кучу простыней. Даже мне досталась какая-то особенным образом вышитая тюбетейка. За столом дядя Гена смеялся и шутил, Софья Марковна была меньше обычного противна, а подарок мы с Димкой «изучили» до полной негодности. Они были веселы и счастливы, и я вместе с ними. А потом батальон подняли по тревоге ловить Хурам-Бека и через два часа дядю Гену привезли на повозке с двумя пулями в животе…
Необходимо было продлить миг счастья сколь можно долго, и я бродил по городу легкими шагами, оттягивая момент, когда придется переступить порог дома. За порогом сказка заканчивалась и продолжалась обычная жизнь.
В школе все было по-прежнему, а вот снегурочка немного оттаяла. Она уже не делала из меня пустого места, не обращалась через одноклассников, как раньше, и временами я ловил на себе ее взгляд.
Однажды я задал Астре какой-то вопрос и обнаружил, что за все время вызываю ее впервые. Обнаружил по мелкому перешептыванию и оживленному переглядыванию слабой половины класса при настойчивом подбадривании мужского населения. Сидевший рядом с принцессой Марк Шиферс даже съехидничал довольно явственно:
— Наконец-то! — За что сразу же получил книжкой по голове.
В общем, прогресс был налицо, а временами он становился даже пугающим. На одном из кружковских занятий оказались вдруг только девочки, которые вспомнили о некоем срочном деле и убежали, вытолкнув из своего табунчика Далматову.
— Астра, а чего это все девушки убежали?
— Взносы сдавать.
— А ребята где?
— У них стрельба зачетная.
— Зачем тогда просили перенести занятия? — Вопрос мой постепенно увяз в той особенной тишине, которая опускается на двух нравящихся друг другу людей, когда их насильно усаживают рядом. Так и молчали, не знаю сколько, а спугнула нас загадочная голова, появившаяся и сразу исчезнувшая за дверью.
В настороженно разворачивающемся действе мне было все труднее сдерживаться. Откусываемые кусочки счастья становились все больше и больше и подогревали голод еще сильнее. И хотелось наброситься, чтоб съесть все сразу.
Пуская папиросный дым в белую ночь под ее окнами, я лукавил с собой: мол, куда ты прешься, что может быть банальнее романа с ученицей. Но это были всего-навсего те холопские одежды, в которые кутался мой страх перед принцессой. Но и в холопстве не все однозначно. И в нем пробивался тоненький ручеек мысли, изъедающий душу противоборством желания счастья и осознанием его неохватности — а если в этой неожиданной истории есть какая-то закономерность? Ведь не появись у Ольги Старков, я уже давно отплясал бы свадьбу; не вывихни руку неизвестный мне стрелок, Астра осталась бы дома — Ветка рассказала, что все решилось буквально в последний день. И наконец, почему из всех ленинградских школ я попал именно в эту?
Разброд в мыслях мешал выбрать нужное действие, и я постепенно растворился в кружащем голову течении, забыв, что много сладкого — вредно.
Как-то на одной из переменок я отыскивал Таню Протасову, стенгазетного редактора, и близнецы Ваня-Витя Минаевы указали двумя руками на темный угол с колоннами — там она.
В укромном уголке, имеющемся в каждой приличной школе, несколько девиц хохотали довольно громко, несмотря на приглушаемые ладонями звуки. Барышни упражнялись в косметической науке.
— Это что за будуар здесь? — придержал я Таню, спешащую за колонны с картонным ящиком.
— А это мы к литературному диспуту готовимся. Со спектаклем и инсценировками из русской классики.
В искренности режиссерши я усомнился, как только увидел оборотившиеся ко мне раскрашенные лица. Мало девицы походили на красавиц девятнадцатого века. Да и на западных киноактрис тоже — скорее, на индейцев чинука в ожидании ритуальных жертвоприношений. В лукавом сиянии глаз я не сразу отгадал снегурочку, казавшуюся диковатой в росписях цветной краски. Глаза ее распахнулись широко, затем ударил сильный румянец, сбивая косметическую позолоту, и она, закрыв лицо, выбежала на черный ход.
— Ну вот, убежала! — зачем-то выглянула в створ запасного выхода Таня. — Андрей Антонович, хоть вы сказали бы. Надо играть княжну Мери из Лермонтова, а Далматова отказывается.
А потом был литературный вечер, спектакль «Маскарад», и общественный суд над отщепенцем Печориным. Астра сыграла-таки княжну и с детской радостью кланялась «почтеннейшей публике». Когда стали потрошить «героя нашего времени», я вышел на балкон.
— Вам понравилось? — раздался тихий голос и, обернувшись, я увидел Астру в чудесном голубом платье лермонтовского персонажа.
— Грушницкому надо было усы приклеить, полагалось так, — начал я басом, сошел в тенорок, а закончил и вовсе где-то в фальцете.
— А к княжне есть какие-нибудь претензии?
— Ее сиятельство выше всех и всяких комплиментов.
Астра сделала низкий-низкий реверанс, приоткрывая белую грудь почти во всей незавершенной красоте. Перехватив мой взгляд, она отбросила меня танцующей улыбкой к перилам балкона.
— Милостивый государь слышит звуки музыки?
Я слышал. И оторваться не мог от безумных серых глаз, чувствуя, что теперь уж все, что теперь пропаду я, сколько бы не трепыхался. И отступать уже некуда, а вся моя судьба уже решена и расписана где-то… И снегурочка знает об этом — недаром ведь скрывает черной прядью свою улыбку. И в этом изогнутом подковой пространстве, с перилами и закрытыми окнами, осталась лишь малая лазейка — мышиная тропка к выходу в пыльный и скучный школьный коридор со старыми партами. Можно туда юркнуть, спастись трусливо, если только получится вынести презрительную усмешку принцессы вслед.
Но все, что я смог — это взять в ладонь её тонкие прохладные пальцы. Шаг на плаху был сделан и память бессознательно выкладывала пророчество внезапного классика:
И пусть посмертною секирой Вернется золотой чертог За миг один в безумном мире Отдать не жаль всей жизни срок[54].И мы закружились в осеннем вальсе Шопена.
Кто сказал, что тонуть — беда? Неправда, нет ничего прекраснее погружения. В голову стреляют маленькие фейерверки, рассыпаясь хмельными иголочками, круговорот течения несет тебя в пропасть, и глаза напротив зажигают все, что еще не горит в твоей душе. Не жил тот, кто не падал в бездну этих глаз. Не жил. Так, коптил небо отпущенный срок, чтобы лечь в землю будущим перегноем. Только за этот единственный вальс отдал бы полжизни. А Астра затягивала все дальше и глубже в низвергающий Мальстрем[55] продолжения, где с принцессы спадает мантия из голубого льда, оголяя плечо.
Казалось, что невидимая вуаль скрывает ее взгляд, и как только откинет снегурочка этот волшебный полог — пропаду совсем. Бороться с ней — все равно, что тянуть себя за волосы подобно Мюнхаунзевскому чудаку. Но все-таки я вынырнул, затянутый с головой в бездну: правда, когда прекратилась музыка и не без помощи завуча.
— Это что еще?! — строгий голос Фомичева распахнул дверь на балкон. — Андрей Антонович, Далматова, что за пляски на открытом воздухе?!
— Не Далматова, извините, а княжна Мери, не так ли, сударь? — обернулась красавица в голубом бархате.
— Вне всякого сомнения. И маэстро попечитель в этом скоро убедится. Я подвел принцессу к Дмитрию Ивановичу, и она повела его в следующем танце.
«Попечитель» отбрыкивался, возмущенно тряс подбородками, но потом махнул рукой, весело рассмеявшись.
— Иди в покои, княжна. А вам, мессир, не мешало бы обеспечить даму хотя бы пиджаком — вон дрожит вся.
Отправив Астру в зал, Фомичев подхватил меня за локоть и, озабоченно потирая брюкву носа, тяжело двинул фразу:
— Хм-м… Ты, Андрей Антонович… Ты эт-самое. Грр-м… Смотрел я на ваши па-де-ба. Гм-к-к-к… Не крути девчонке голову.
— Да какую голову, Дмитрий Иванович! Я вообще без всякого…
Фомичевское лицо набрало внезапно оттенок подового хлеба, ради мягкости долго выдерживаемого на пару.
— Мы с тобой не два дружка, в парке болтающих. А работники учреждения, некоторым образом. И здесь на виду все. И каждый шаг отслеживается. Особенно твой.
— А я что, пасынок?
— Нет. Но сигналы на тебя имеются. И заметь — сигналы тревожные. Обвинений выдвигать не буду, но, по-моему, Далматова смотрит на тебя совсем не как на учителя.
— Дмитрий Иваныч…
— Все. Я сказал, ты запомнил. И прекратим на этом.
Завуч промокнулся белым платочком и, казалось, разом стер с лица набежавшую на минуту хмурое облачко.
— Тимкина не видел, нет? Только что я его в этом коридоре видел. Куда девался проклятый!
Еще один эпизод того давнего вечера запомнился. Принцесса, одетая уже в обычное платье, разыскала меня в темном углу.
— А вы Совету не встречали, Андрей Антонович? — голос вырывал из души звенящие струны. — Я тут занозу… А у нее пинцет. Длинный такой.
— А где ты занозу вогнала?
— В примерочной.
— Да нет, в каком месте? Давай вытащу.
И, видимо, желая добить меня совсем, она поставила ногу на приступочек, на две трети обнажив бедро.
— Вот здесь.
Черная щепка, миллиметра в два, забралась под кожу. Вытаскивать ее было сущей пыткой, я изнемог совершенно, и тогда принцесса нанесла решающий удар. Она наклонилась и, глядя вниз, шепнула с ангельской простотой:
— Сильно короткая, да? Надо зубами попробовать…
Будто Гоголевский черт на спину прыгнул. Клацнул я зубами и, как в прорубь ныряя, припал к ноге. Возюкаюсь, балдею, дурак. Уже и заносу ту давно съел, а все никак оторваться не могу — такое блаженство, словно на облаке катаешься. Отлип насилу. Предохранители горят, аж искры в пол, а снегурочка голову мою прижала опять и отвернулась.
— Ребята, спектакль давно окончен! — треснул ехидный смешок Полтавцевой шагах в десяти. — Чего вы здесь делаете?
— Занозу вытаскиваем! — по-пионерски крикнули мы.
— А-а…
Когда юные литературоведы схлынули, растекаясь по домам, я подал Ветке пальто и, влезая в рукава, она вдруг охнула, оглядываясь за спину.
— Ты че кряхтишь, Полтавцева?
— Да вот… Села как-то неудачно. Занозу вогнала. Ты помоги, а? Специалист, как-никак. — И прыснув, она потянула меня к двери.
Расплата за счастье наступила по хорошему прусскому принципу — через сутки после содеяного. Между уроками Фомичев вызвал меня и крепко запер директорские палаты.
— На, читай, — он бросил мне мягкий, густо исписанный чернилами лист. — Казанова!
В документе сообщалось, что «гражданин Саблин, позоря звание советского учителя, имеет половую связь с ученицей вверенного ему класса Далматовой А., о чем свидетельствуют имеющие место частые уединения двух обозначенных лиц, во-первых, непосредственно в стенах школы и, во-вторых, в местах общественного нахождения жителей нашего города, что особенно возмутительно, так как Далматова в момент обжиманий и поцелуев находилась в школьной униформе».
Райнаркомпрос также уведомлялся о том, что «псевдопедагог Саблин, презрев общеобразовательные нормы морали и нравственности, зажимал Далматову прямо на вечере поэзии, почти на глазах детей». В конце письма доброжелатель сглупил, потому что фраза «едва придя на ниву просвещения, Саблин обанкротился как учитель истории СССР» выдала его с головой.
Зачем Тимкину это нужно, думал я, закуривая вторую подряд папиросу. Ну, выгонят меня, дальше что? Все равно он со своим ускоренным рабфаком лопнет на первой же аттестации. В том, что письмо сочинил мой неудачливый коллега, можно было не сомневаться — только собери до кучи факты. Тимкин мог видеть нас во дворике, его искал директор, когда мы со снегурочкой танцевали на балконе. Голова эта еще высунулась — и назад, подлая. Не, точно он. И не в тягость было, мудаку, выслеживать под чьими окнами я стоял!
Паскудная ситуация. «Лжедмитрий», спасибо ему, не рубил с плеча, но вся эта кадриль Фомичеву — как гвоздь в одном месте. Раз у него на руках письмо, которое направлялось в райнаркомпрос, значит «корни» там есть. И будет «господин попечитель со товарищи» гасить огонь прямо в избе. А как? Самый верный способ — спровадить меня куда подальше. Лучше в область. Еще лучше в Карелию, там образовалась новая союзная республика.
Ладно. Прорвемся. Главное — чтоб не трогали принцессу. А то понасоздают хитрых комиссий, активов, бюро. Будут толочь воду в решете на разных заседаниях. Не, если эта каша заварится, брошу все и уеду. Не будет меня — все утихнет, Фомичев постарается.
Вечером я поехал в гости к Совете и выложил все как есть.
— Я тебе говорила, добра от ваших этих… не будет. Говорила или нет?!
— Да ну причем тут… Не обо мне речь. Если что — я собрал манатки и тю-тю на Дальний Восток. Ее надобно оградить!
— Как? Частоколом обнести и вокруг с топором ходить?!
— Да хоть с топором! Я, Ветка, за нее башку на раз отсеку, пусть хоть что потом…
Совета забралась с ногами на топчан и сцепила руки на коленях.
— Знаешь, тебе действительно лучше уехать. В Кемь набирают «язычников» и географов.
— Вообще-то я историк.
— Да какая тебе разница с универовским дипломом? У них на всю республику три десятилетки.
— Думаешь, возьмут?
— Надо, Андрюха, чтоб взяли!
Вырабатывать диспозицию мы ушли в маленький «отвальный» закуток — дополнительную комнату, пожертвованную старшему Полтавцеву родным заводом. Ветка принялась выживать своего дядьку-инвалида, обосновавшегося в этом убежище.
— Сенька, дай людям пообщаться. Потом свои каракули будешь выводить.
Сенька, младший брат ее отца, на заграждениях под Райвола-Йока[56] потерял руку до локтя.
На другой тоже не доставало одного пальца, но хлопец в меланхолию не впал, а наоборот — пошел учиться на бухгалтера, когда брат привез его из госпиталя. В каморке под лестницей он учился писать левой щепотью.
— Принес тебя леший, — заворчал Сенька, прибирая тетрадки.
— Не гунди. Видишь — дело у людей. Секретное. А ты под ногами со своими дебит-кредитами путаешься.
Сенька поднялся.
— Ты бы на ней, Андрюха, женился. Вон жопу какую отъела — лопнет скоро, — и, выходя, шлепнул Ветку по мягкому месту.
Из-за вечернего времени и обязательного семейного ужина до конца детали обговорить не удалось, и шептали мы это дело за столом о семи персон. Суровый глава семейства за едой предпочитал тишину, но, когда тетя Феня поставила кипящий самовар с маленьким чайничком, стало шумно, как в жестянке с пуговицами.
— Вы чего там шепчетесь? — улыбнулась тетя Феня. — Рассказал бы, Андрюш, как жили. Я не признала тебя сразу.
— Не признала Федора Егора, — заметил старший Полтавцев. — Годков пятнадцать минуло, как Антошка Саблин в Туркестан сорвался. А ты, Андрюха, стало быть учительствуешь?
— Учительствую, Тихон Игнатьич.
— Хорошее дело. Все полезней, чем клинком махать.
Был памятен тот вечер в семье рабочего-формовщика. Памятен простым теплом очага, честным хлебом и некоей старорежимностью, в семействе которого война оставила всего двух братьев да саму Ветку. Лишь в январе сорок второго мне удалось разыскать ее и отправить на Большую землю, выменяв на эваколист ургенчский самоцвет.
Казалось, все обговорили и расписали мы в тот вечер. И куда бумаги послать, и какие, и что говорить при случае. А случай подошел с такой глухой окраины, о которой я и думать забыл.
На втором этаже бывшего сахарного завода, в пахнущей известью комнате, крутил шары в барабане судьбы лотерейщик по имени старший лейтенант Никифоров. По отчеству — начальник третьего отделения райвоенкомата.
Никифоров имел награду за Хасан, пах одеколоном из дорогих, а его сапоги сияли почище паркета в залах Эрмитажа. Дел у него было, без балды, по горло, но как-то ухитрялся старлей делать их все сразу, попутно кокетничая с военкоматскими барышнями. А мне он даже сесть не предложил, спросив, не поднимая головы от моего личного дела:
— Младший командир запаса Саблин?
— Да.
— Проходи медкомиссию, потом в комнату…
Когда я уже взялся за ручку двери, Никифоров вдруг «дал по тормозам».
— А ну, постой-ка. Тут написано, что у тебя диплом.
— Есть диплом. Университет.
— Вот и постой пока.
Начотдела закрутил черный диск и, глуша собеседника, заорал в телефон:
— Иван Мокеич, але! Але, Мокеич! Тут парень с корочкой. А? Человек с корочкой, говорю.
Борьба с техникой имела, видимо, старые корни, потому что трубка с силой была кинута на рычаг, а сам аппарат был обозван «сукой».
— Иван Моке-еич! Тягло-ов! Тяглов, ёб-т, зайди, — Никифоров ударил в стену.
Хлопнула дверь и старлей отдал меня в руки очумелому военному с бумагами.
— Мокеич, твой клиент.
Тяглов погрузился в личное дело «отделенного командира Саблина», изредка поглядывая на меня. В противоположность начотделу, капитан Тяглов абсолютно был чужд армейского шика и походил скорее на бухгалтера заготпункта. Низенький, с крупными залысинами большого лба, Мокеич даже ходил, как ревматик перед дождем. Папка с моими бумагами вызвала у него живой интерес в плане заключения ВВК. Капитан ушел в дальний угол и тихо обозвал меня симулянтом.
Я как в огонь попал. Ну, думаю, сидишь тут, морда канцелярская.
— Извините, не понял.
— Ах, не понял! — взорвался Тяглов. — Как от службы уклоняться, так вы все понятливые. А за жабры взяли — хвостом крутишь? Молчать!
— Не ори на меня, — сказал я скупо и зло. — Сам окопался в большом городе. Геморрой высиживаешь.
— Обиделся, — на удивление мирно констатировал Мокеич и уселся на край стола, заваленного папками. — Слышишь вроде нормально, а записано: «потеря слуха на шестьдесят процентов».
— Давно было. Теперь что надо — услышу.
— Ладно, не бычься. Это я тебя и на вшивость проверил, и на здоровье. На курсы пойдешь?
— Что за курсы?
— Допнабор в школу политсостава артиллерии РККА.
— Это на комиссара, что ли?
Тяглов многозначительно поднял указательный палец вверх.
— На замполита! Красной армии нужны образованные политкадры. А у тебя университет, рабочее происхождение, опыт боев опять…
Я вспомнил свой «опыт», когда еще курсантом участвовал в перестрелках с байскими прихвостнями.
Зимой 1934 года начальство удумало конный переход из Алчагана в Кунгай, подключив к этому мероприятию и наш «бомбардирский факультет». В одном из продуваемых злыми ветрами казахских аулов, в юрту, где дули кумыс наши командиры, залетел старшина Бунчук и выдохнул:
— Вашбродь, товарищ начкурс, киргизы взбунтовались!
Тогда у нас, слава Аллаху, был «максим» на лафете и опытный начальник. После разведки он приказал полувзводу кавалеристов, со старшиной, обстрелять басмачей и сразу же отступать. Бунчук был старый лис, воевавший еще с Амангельды[57].
Он выманил степняков прямо на огневые позиции и, пока скотоводы сообразили, что пора сматываться, половина их валялась на снегу. Я помню, как самозабвенно стрелял в мечущихся всадников, истратив четыре обоймы (впустую, наверное).
Лихо мы им по сопатке вмазали. Мало того, что под огонь в упор, так еще и засадный эскадрон ударил, когда киргизы бросились наутек. Захватили двоюродного брата курбаши, нахапали трофеев, веселились, пели… А через два дня попались на подобную же нехитрую уловку и в начале боя меня контузило ручной гранатой.
Фарт посветил мне тогда в песках у озера Алаколь. Зацепило не очень, а самое главное — свои не бросили. Басмачи были ребята простые, и за неимением более культурного досуга развлекались пытками…
… — А ты чего сразу в госпиталь тогда не лег? Контузия все-таки? — полюбопытствовал Тяглов.
— Та пустяки, думал. Обойдется. А как-то наутро бах — и тишина. Как радио слух выключился.
Капитан задумчиво ковырнул воткнутую в стол кнопку.
— Паскудная это штука. Мой товарищ на Баин-Цагане[58] под бомбежку попал.
— Сначала вроде ничего, потом головой стал хворать, а через полгода ослеп. Врачи говорят: «последствия такие».
Каждый раз, вспоминая то время, подкрадывалась в уголок души дрожащая мыслишка: живой ведь. Живой! А многие из набора-33 там уж. Сашке Бурлакову отсекли голову на наших глазах, Толя Ступаченко погиб в Испании, Ерген Багмадов — на Пулеметной горке у озера Хасан. Гордость и надежда курса Витя Пономарев был убит очередью с польского броневика во время освободительного похода. А я только с кобылы упал, да пару месяцев походил в глухих. Зато обнаружил в гражданском бытии столько плюсов, что вскоре и думать забыл о «военке». Правда, поначалу ходил в форме — даже экзамены сдавал в неотразимом френче. Когда русист Углов, «сука в шляпе», начал валить на суффиксах, один из членов приемной комиссии отправил «молодого человека успокоиться», а потом подозвал меня и, сунув черновик, ударил по плечу: «Иди спать, курсант, тебя зачислят».
Прием в военкомате закончился уж совсем любезно. Тяглов на прощание дал неделю «на запой и подготовку».
— Не надо, товарищ капитан. Трех дней хватит.
— Чего так?
— Да я это…
— Баба?
— Почти.
Тяглов с Никифоровым даже присели от смеха. Тыкали друг друга пальцами, хлопали по плечам и, вообще, выражали свои эмоции так бурно, что заглянул на шум заспанный фельдшер.
— Ты уже за сегодня не первый, — веселился Никифоров, — и чего вы от них бегаете? В гарнизоне из всех баб — одна кобыла будет.
Хохот поддержал и я, вспомнив старую шутку, что конник в три раза счастливее артиллериста, потому что у него персональная лошадь, а у батарейцев — одна на троих.
Через несколько дней меня перевели из запаса на действительную, согласно приказа об очередном увольнении и новом призыве в РККА, и я получил направление на курсы политсостава артиллерии, на Лужский полигон.
Вечером я был дома. Вычистил и выгладил обмундирование, собрал вещмешок, упаковав его необходимой мелочевкой, и долго сидел в раздумье: не сунуть ли мне добавочную флягу медицинского спирта. Спиртягой наделила меня соседка Нина после коротких посиделок-проводов. Когда уже собирали со стола, она пошла к себе и вынесла поллитровую емкость.
— Бери-бери, — поддержал супругу Аркаша. — В дальней дороге сгодится.
Взвешивая на ладони флягу, я уж совсем вознамерился кинуть ее в матерчатое дышло, когда истерично забил молоточек звонка. «Ну что за напасть?» — подумал я. Где-то дней пять послал ко всем чертям Ольгу, а вчера она позвонила, требуя выяснить все до конца. «Ну что там выяснять!» — бился испуганный вихрик мыслей. Сейчас Ольга была последним человеком на земле, с которым хотелось бы видеться.
— Андрей, ну что ты! — зашелестел по комнате Аркашин тенорок. И в следующий миг его лицо вспомнило и, вспомнив, скривилось — сосед был забывчив донельзя. Точно так же, как и донельзя рассеян.
И я хорош! Как можно было поручить этому дырявоголовому встретить в дверях бывшую невесту и сбрехать, что меня нет?!
Она вошла, не глядя на Аркашу. Впрочем, на меня также не посмотрела, объектом был выбран примус с торчащей иглой. Ему и адресовалось, наверное, вечернее «здравствуйте».
— Здравствуй, Астра.
Новая укладка не шла ей, делая похожей на мокрый одуванчик. Астра сделала шаг вперед.
— Андрей Антонович, мне Совета сказала, что вы скоро уезжаете.
— Да, Астра, уезжаю.
— Когда?
— Завтра утром.
Снегурочка провела ладонью по матовому боку платяного шкафа и посмотрела мне в лицо.
— Отчего вы бежите? Ведь не письмо это подлое заставляет… Что тогда? Почему вы оставляете меня снова?
— Я не хочу, Астра, чтобы эта грязь тебя коснулась. Поверь мне — даже косая тень может все испоганить.
Астра заговорила, не обращая внимания на распахнутую дверь. Заговорила с неожиданной для нее страстью, все больше загораясь от своих слов:
— А я не хочу верить, слышите? Не хочу! Я не первоклашка, которую нужно оберегать, как цветок из теплицы. И не дурочка, потерявшая голову! Все что я делаю — делаю сознательно.
Принцесса вскинула голову и, пряча молнии в глазах, словно ударила:
— Я люблю вас, Андрей Антонович.
Глава 14 Мы
— …Андрей Антонович! Старший лейтенант Саблин Андрей Антонович, это вы будете? — Адъютант комиссара Балтфлота сердито указывал на меня пальцем. — Прошу приготовиться. Товарищ Смирнов через две минуты вас примет.
Моряки затеяли возню с Марвич, потому что Таня была гражданской супругой капитана Марефьева — его нашли убитым в своей квартире. Карты минных полей у острова Сескер, находившиеся при капитане, исчезли, а соседи рассказали, что кроме Татьяны убить никто и не мог — шум ссоры доносился из окон прямо во двор. Девушка выскочила в крайне возбужденном состоянии и больше ее не видели. Марефьева живым после ссоры тоже.
Скорее всего, так и было. Медсестра перед внеочередным дежурством заскочила домой, где проявилось ее заражение кисляком, а несчастный супруг в это время оказался рядом. Балтийская контрразведка вычислила ее удивительно быстро, и, оглушив меня, капюшононосец Скляров забрал медсестру.
Неприметные военные, уверенно стоявшие на перекрестке, утвердили его во мнении, что не только флот ищет жену Марефьева. Моряцкое авто проскочило на Менделеевскую и дальше в объезд. Около дома медсестры Скляров остановился, чтобы самому поискать пропавшие бумаги и вызвать подмогу телефоном. Это подкрепление и взяло нас в клещи в том подвале.
Балтийцы уставили в нас три ствола, намереваясь обучить дыханию через дырки в животе. И шанс мог прийти к нам только со временем — должны были подоспеть погранцы или оперативники «Шторма».
Я начал махать мандатом, а Сарафанов сцепился с двумя мореманами так, что они даже не стреляли, боясь поранить друг друга. Это дало нам пару минут, однако Михея все же прищучили, приставив к шее чудо-винтовку Токарева со штык-мечом.
Мой «ТТ» целил прям в лобешник франтоватого лейтенанта, а тот взял на мушку мою печень и чуть повел наган к потолку — сдавайся, мол. Лихой морячок. Лихой и отчаянный. Так и стояли мы, пока донеслось со ступенек:
— Олег Дмитриевич, наверху двое чекистов.
— Чего им? — лейтенант равнодушно обернулся к вахтенному.
— Обещают пострелять!
Из окна донесся звук падающих камешков, и чей-то знакомый голос посулил устроить морякам второй Кронштадт:
— Эй вы, рыбий корм! Стволы вниз и выходи по одному, если хотите разойтись добром.
Моряцкий командир лениво озаботился, не повышая голоса:
— А тебе плохо не будет?
И позы даже не переменил, будто переругивался в трамвае из-за открытого окна.
— Мне плохо не будет, — ответили сверху. — А вот экипаж твой гвардейский с первым же паромом левый берег пошлют отвоевывать. Сам знаешь, с кем связался.
Лейтенант сделал одну пятую оборота к ступенькам.
— Мазай…
— Пробьемся, Митрич. Одного-двух зацепят, но пробьемся.
Один лишь короткий миг понадобился ему, чтобы прикинуть вариант отхода из двойного капкана.
— Мы уходим.
— Девушка остается у нас, — сказал я, вытирая мокрый лоб. — И оставьте в покое сотрудника спецкомендатуры.
Здоровяк в бескозырке с надписью «морпогранохрана» вопросительно уставился на лейтенанта и, получив безмолвный ответ, отодвинул штык от горла Сарафанова.
Заготовленную шифровальщиками легенду я рассказал флотскому комиссару. И ничего — прошла с пониманием. Я выяснил, что Рюриковский Марат — на самом деле, крейсер, где служил когда-то Скляров. И напоследок моряки разрешили позвонить по спецсвязи в контору.
— Вам сюда, товарищ старший лейтенант, — открыл дверь без таблички дежурный, указав на ряд телефонов. В ближнем аппарате суровый голос обещал расстрел некоему Попику[59]; я поднял другую трубку.
— Второй слушает, — раздался майский баритон Натана Словакова, начальника диспетчеров.
— Барышня, дайте Полюдова.
«Барышня» засопела и щелчком вкинула Евграфа на связь.
— Это я звоню, товарищ подполковник.
— Ну и что мне теперь делать?
— Не знаю.
— У-гум… Тогда слушай: в связи с оперативной обстановкой твою группу решено не выкидывать на свалку, а использовать и дальше как боевую единицу.
Евграф сообщил, что к прорыву на башнях Марвич не имеет отношения. И слава богу. То, что Таня не пособник, уже немало. Рассказывали, что в прошлом августе выявили изменника в команде охраны Смольного. По тому резонансному делу прилетал из Москвы секретный генерал Рудаков, чтоб выяснить, «кто таких гадов рожает и как их земля носит». Однако кремлевский гость вернул гада в лоно ВИЗОРа, пожурив «спецуру», что не распознали ОРВЕРа. Это и в правду оказался мощнейший колдун, прошедший все системы контроля. Допрашивали его в специальной камере, а когда понадобилось перевести засланца в институтскую лабораторию, то в двери заводили спиной вперед и с одетым на голову мешком.
— А чего сейчас делать?
— Сейчас дуй в контору — на торжественное собрание в честь двадцатилетия ОСКОЛ.
На другом конце провода начальственно завопил «прямой» телефон и Евграф, будто спохватившись, погнал меня служить Родине:
— Давай иди, у тебя час времени.
В управление я добрался на трамвайчике и сразу попал в объятья Сарафанова. Михей как заблудшего сына принял. Правда, замест упитанного тельца на столе тускнела банка тушенки «второй фронт», но упер ее я один. Да еще с настоящим белым хлебом. А после этого влез под душ и на выходе получил чистые бриджи и тапочки.
— Прошу, товарищ, — щелкнул ножницами Михей и за стрижкой поведал занятную историю. Дело в том, что меня продали. Продали, как барана на ярмарке. Вернее и того хуже — поменяли, будто нож какой перочинный или пару сапог. Поменяли на костюмы спецзащиты. У Полюдова было семь таких, подделанных под армейское х/б, со съемным органостеклом для касок. Вот на эти костюмчики и польстился Берендей, да еще и заряды на КАСКАД выторговал, сволочь. А я все удивлялся: как это меня, пограничника, и вдруг в оперативный отдел?
— Да ты не переживай, — успокаивал Сарафанов, — мне батя рассказывал, что нашего деда на собак сменяли, и ничего, живем!
Нисколько мне легче не стало от его исторических исследований, но лейтенант продолжал говорить, и я задремал, когда геройский дед повесил-таки лапти на гвоздь и рванул в тайгу. Я всегда засыпал в парикмахерской под лязг ножниц и резиновое фырканье пульверизатора. В отличие от мирного прошлого, «тройником» не пахло, не шуршали халатами ломовые парикмахерши с вечным Борей, «у которого опять высыпало на попке».
— Не, ну аккуратней можно?! — возопил я, когда Михей, подбривая виски «золингеном», опять полоснул кожу. — Не овцу стрижешь.
— Ничего, сейчас бумажку приладим, — шлепнул газетный клочок Сарафанов и пообещал быть аккуратнее.
Экзекуция завершилась, и, оклеенный бумагой, как афишная тумба, я устроился пить «чай» и слушать местные новости.
— Да собственно… — Михей наполнил алюминиевую кружку. — Лукьянов ребро сломал, Санька Гнездилов пьет бром. А-а, ты все равно их не знаешь… Еще медик подхватил лихорадку Зенгера, наверное, в Москву отправят. Полюдову шею мылили за то, что тебя командовать поставил.
— А начоперод, что?
Сарафанов вытащил из жестяной коробки два кусочка сахара и, дав мне меньший, продолжил:
— Евграф — бетон, даже скулой не дернул. Ходит, руки потирает, как еврей-сундучник. Я думаю, что у него какой-то свой номер в этом цирке.
— Какой?
— Если б знать, — Сарафанов искренне развел руками. — Догадки есть, конечно, но так — на местном уровне. Михалыч, кстати, приволок здоровенную гадину с Васильевского.
— Михалыч, это Мальцев?
— Он самый. Так вот, тварюка эта — метров десяти. Ее мильтон какой-то на Смоленке подстрелил. И представляешь, из нагана. У ней чешуя в палец, ЭТР не пробивает, разве что КАСКАД. А этот, м-мм… — потряс пальцами Михей, вспоминая фамилию участкового, уложившего водного змея. — А! Закеев. И что ты думаешь? Выстрелил — и прямо в глаз!
— А что в этой змее такого замечательного? Наверное, гобра какая-нибудь залежалая.
Я хаял стрелка от мелкой зависти, потому что даже за «гобру залежалую» сразу же посылали представление на «За отвагу».
— Хрен там! — Сарафанов отодвинул блюдце, в которое он наливал кипяток из алюминиевой кружки, и по-мальчишески восторженно выдал: — Капа! Чистой воды капа. У нас такое только Горыныч и помнит.
Горыныч, по-моему, служил еще при Александре, и хотя бы из уважения к седине следовало бы разделить восторг товарища.
— Евграф ту гадину, как увидел, аж заулыбался. И это после того, как Хлазов ему пистона вставлял.
По словам Сарафанова три дня тому Хлазов влетел в кабинет Евграфа и с пеной заорал, что «неизвестно какая б… орудует возле пункта продиводесантной обороны в двух кварталах от Смольного». Оказалось: после появления ОРВЕРа половина противодесантников спятила и они палили друг в друга из автоматов.
Евграф послал туда одну свою группу, плюс группу шифровальщиков, и эти десять человек весьма умно разрешили ситуацию. Оперативники забрались в ряды бьющихся в психозе людей, взорвав несколько бомб, в которые была подмешана закись азота, и стали кричать «немцы-десант-воздух!». А шифровальщики палил в небо, вопя всякую дребедень по-немецки. Получилось здорово: веселящий газ сгладил самые верхние уровни истерии, а осознание опасности привело к тому, что резать и стрелять друг друга перестали, занявшись своими прямыми обязанностями. И все это, по Михею, сделано было «спокойно, без нервов».
— Ты был там?
— Не. Мы на вызове были, на Марата, 27.
— И что?
— Чудаки там обнаружились с такими лицами, что дворник, когда их нашел, чуть сам в ящик не сыграл. Думали психонекроз, а умершие, оказывается, в самогон какую-то дрянь залили. Для крепости.
— А где Костя?
— Скоро будет. Он на Пяти углах застрял — рессора лопнула, — там сигнальчик был из железнодорожной больницы. По всем признакам ОРВЕРы недалеко, а РУНА в белом поле. Погнали туда генератор и Волхова нашего — только ничего не нашли.
Внезапно в комнату закатилось нечто пыхтящее и круглое, заполняющее даже темные углы напористым весельем.
— А, крестник! — взвился колобок, и я разглядел в этой шаро-молнии поминаемого капитана Мальцева.
Я попросил его еще раз поведать историю с водным змеем. Капитан достал мешочек с кривым зубом, гнутым и бритвенно-острым, на серебряной цепочке со штампом «Втормета». Это был действительно зуб капы, единственно известный случай поимки которого был зафиксирован Петроградским ЧК в 1920 году. Правда, поимка — это громко сказано. Чудище получило в морду пол-ленты «максима», а потом веселящиеся морячки, удивленные живучестью гада, провели испытания на прочность из разных видов оружия. Когда приехавший спецрозыск начал собирать, что осталось — отдельные фрагменты, разбросанные по всему Галерному острову, — балтийцы, утомившись колоть и стрелять, насовали, куда могли, динамитных шашек и разом их подорвали. Собственно по гулу и грохоту их и обнаружили так скоро.
Змея потом собрали, сшили, потом повысили в ранге до чучела и установили в нашем музее. Я видел его на экскурсии. Вспоминаемый Горыныч, подходя к экспонату, непременно поглаживал староверческую бороду и поднимал вверх палец, вещая: «Сие — водный змей Капа, обитающий в дельтах холодных рек. В лихое время он просыпается, чтобы предаться ненасытному убийству. Амурские китайцы называют его Лю-шунь, земголы — уирва, а немец-академик Шумахер относил к мифическому чудищу навадонту, что в переводе означает кривозубый демон».
Горыныч рассказывал еще, что тварь имеет сильную гипнотическую мощь, заставляя прыгать в каналы ночных ротозеев, любующихся речными видами. Авария судна «Альбатрос Революции» могла быть вызвана им же, хотя в 1927-м все списали на пьянство капитана — тот находился в постгипнотическом шоке, поэтому и налетел на немецкий пароход «Гамбург». Списать-то списали, а вот объяснить всплывшие затем полутуши с характерными повреждениями не смогли. Как и то, куда пропали тела остальных пассажиров — водолазы облазили весь Морской канал без малейшего результата. «Умельцы, — хихикал Горыныч, — рваные куски людей — это пароходный винт нарубал, а остальных унесло море».
Много еще было за стеклянными шкафами музея, но клык врезался в память.
— Ты, Мальцев, похож на человекообразную обезьяну с этим зубом, — сказал Михей, доставая теплый английский свитер из ящика. — Банан в руки — и в зоосад.
— За собой гляди, — буркнул капитан и потряс меня за плечи. — Слушай, а твой ефрейтор как?
— Должны скоро выписать, — уверил я, хотя Лиходей только-только перестал бояться маленьких лохматых карликов, живущих у него в тумбочке.
Дверь снова открылась и впустила очередного посетителя, но впустила как-то нерешительно и наполовину. Эта половина, делая страшноелицо, сказала с акцентом:
— Миха, я вам всем на вопрос поставлю, собраний через десять минут.
— Это Вадик Егизарян, — зачем-то пояснил Сарафанов. — Его в партбюро хотят вместо Хоменкова — переживает.
Вадик заругался, и под его махание руками «ми все» двинулись в коридор. Народ почти собрался. Около постамента с графином и пепельницами дежурный раскладывал по столу бумаги, а согнутый, если не в три, то в две погибели точно, связист тащил к президиуму пульт управления.
— Двигай к центру, — толкнул меня Сарафанов, — Мальцев вон уже места занял.
Помещение было не то что маленькое, скорее, неудобное — помимо общественных функций его использовали для хранения габаритных запчастей и старых макетов. Устроившись между двигателем струйного генератора и псевдожелезой кисляка в разрезе, я приготовился внимать.
— Все здесь? — голос парторга Узванцева без труда перекрыл легкий шум в зале.
— Охтинские не все подтянулись.
Узванцев посмотрел на дежурного и тот сразу же снял телефонную трубку.
— Шифровальщиков пока нет… испытатели тоже с ними, — доносились разномастные голоса из зала. — Одинцов на Лиговке сломался!
Парторг, не перебивая, выслушал всех по очереди.
— Из Приморско-Выборгского подрайона прибыли? — спросил он и удовлетворенно кивнул.
— Ну, а раз так — семеро Одинцова не ждут, — усмехнулся председательствующий и, разгладив пояс, дзинькнул в графин. — Открытое партийно-комсомольское собрание, посвященное 20-й годовщине образования ОСКОЛ, считаю открытым. Слово предоставляется товарищу Хлазову.
Генерал-комиссара Хлазова я никогда раньше не видел, поэтому с интересом наблюдал за пятидесятилетним, без единой сединки, атлетом, степенно раскладывающим перед собой красные папки и одновременно поглядывающим в зал поверх очков.
— Скоро узнаем, будут ли пряники давать, — шепнул Михей, перегибаясь сразу через две спины.
— Как?
Ответил сосед:
— Если в президиум не вернется — будут медали, а если нет, будут розги.
Михей кивнул, а Хлазов, откашлявшись, стал читать:
— Товарищи командиры и специалисты ОСКОЛ, двадцать лет назад вышло постановление Главвоенморсовета республики об образовании на территории РСФСР линий спецзаграждений по борьбе с ОРВЕРами. Советская власть с первых лет становления проявляла неусыпную заботу…
Глядя на оратора, я почему-то вспомнил рисунок из детской книжки античных мифов. Вверху и чуть сбоку (как на картинке) находился Зевс-руководитель. Президиум из богов-олимпийцев (они же начальники спецотделов и служб) располагался на маленьком возвышении; полубоги (командиры отрядов) занимали первые ряды, ну и мы (рядовые герои) сидели, где и как попало.
Зевс-Хлазов отпил воды, опорожнив на четверть графин, и продолжил мысль:
— Перефразируя наркома Дзержинского, должен сказать: заградитель обязан иметь железные руки, умную голову и крепкие нервы. На наших плечах ответственность за фронтовую зону Ленинграда, безопасность и спокойствие сотен тысяч гражданских, забота о пострадавших от ОРВЕРов…
В президиуме среди «богов-олимпийцев» сидел Евграф в новом, с иголочки мундире, с двумя орденами Красного Знамени. Вообще, все были принаряжены, окна украсили бархатными портьерами, а над сценой протянули кумач с лозунгом: «Очистим колыбель революции».
— …Только за период с конца июня подразделениями ОСКОЛ было исключено не менее шести попыток прорыва, нейтрализовано более двадцати чужаков и их пособников, обнаружено и ликвидировано две эпидемически опасных зоны. К настоящему времени противник оттеснен за линию заграждений, а отдельные районы юга и Заневской части города полностью освобождены от ОРВЕРов. Это наш весомый вклад к четвертьвековому юбилею наступающего Октября…
Даже потолок забелили и подкрасили, а вечно изъеденный грибком простенок у французского окна закрыли диптихом «товарищи Каганович и Берия на испытаниях параэнергетического дезактиватора».
— …Неуклонно растет численность большевиков и кандидатов партии. Коммунист Глухов в одиночку обезвредил двух чужаков; секретарь парторганизации Старогородской спецкомендатуры Сандлер, будучи тяжело раненым, поддерживал бесперебойную связь, пока его не увезли в госпиталь; кандидат партии Жигалов вступил в единоборство с вампиром и ценой жизни спас ребят из детского дома. И таких примеров десятки…
А вот про Жигалова — тут больше головотяпства. Юрка, он медик. Приехал с шифровальщиками, когда, по идее, всех уже нейтрализовать должны были. Оказалось — не всех. Недобитый упырь выскочил прямо на детей во время осмотра.
— …Бойцы Ленфронта и рабочие заводов должны иметь надежную защиту. И они будут ее иметь!
Хлазов читал еще минут десять и закончил совсем в мажоре:
— Родина высоко оцениланаши усилия. Всему личному составу, который участвовал в операциях «Подкидыш» и «Декабрист», объявлена благодарность Верховного, а наиболее отличившиеся представлены к наградам. Среди них: капитан Сеначев награжден орденом Ленина, майор Берендеев представлен к «Красному Знамени», младший лейтенант Ким…
Красный и потный Сеначев, шагая, будто циркуль, поднялся на «пьедестал» и негнущейся рукой взял коробочку с орденом.
— В Смольном мигуна вычислил, — завидуя, шепнул Михею сосед. — Делов на пять минут, а орден Ленина — пожалуйте!
— …Лейтенант Хавьер Руис де Хименес — к ордену Красной Звезды. Старший лейтенант Саблин — к «Отечественной войне» первой степени, сержант Волокитин — к ордену…
— Саблин, ты чего? — Михей толкнул меня в бок и показал на сцену. — Иди!
— Куда?
— Ты че, совсем? Орден иди получай, — Сарафанов улыбнулся. — Поздравляю, Андрюх… — И тут же лихо вскочил сам.
Потом был «антракт» и мы оглядывали и ощупывали боевые знаки под поздравления друзей и знакомых. Михей достал орден Красной Звезды из коробки и разглядывал его «на свет», а я прижимал подбородок, чтоб лучше свой видеть — Полюдов завинтил награду мне на гимнастерку и припечатал колодку, вдавив штифт в ребро, как будто еще раз подтверждая свое слово о награде за найденную Таню Марвич.
— Обмыть бы надо, — почесал в затылке Мальцев, заглядывая в орденскую коробочку Михея.
— Надо будет, обмоем, — сказал Михей. — Только без тебя.
— Это чего так?
— А того, Мальцев, что ты со своей звездой в тумане уже три месяца на халяву пьешь.
Капитану ни медалей, ни премий не выдавали, хотя за отчетный период он отработал минимум на медаль. Вообще-то у Мальцева личный счет в девятнадцать ОРВЕРов, а значит, еще один — и представление на «Звезду Героя»; но все никак не удавалось завалить двадцатого.
— Ну, мужики, ну я ж, как только…
Карандаш Узванцева стукнул в графин, призывая садиться по местам, народ зашевелился; на лобном месте появился следующий ритор, будто с амвона, простирающий длани к богу.
«Как в церкви», — подумал я, глядя на наших мужиков, усердно записывающих в маленькие книжицы. Наверное, так же усердно кланялись на пасху мужики из деревень, но хоть и ковырялись они пальцем в ухе на проповеди, а за веру стояли долго. Нам бы так, чтоб лет на тысячу. И чтоб дети наши не кидали на стол партбилеты, как отцы их срывали когда-то нательные кресты.
Идея — самое главное оружие. Ее надо проводить четко и выверено, без надутых щек, глупости и фальши.
Ладно, прорвемся. Храни, боже, ВКП(б) и ее генерального секретаря, товарища Сталина, потому что без объединяющего светлого будущего народы будут рвать подобных себе до тех пор, пока не взорвут планету. Храни, боже, новый мир.
— …кто был ничем, тот станет всем! — «Интернационал» вознесся к многометровому потолку.
Гимн советской религии, которая, если не продадут ее новые тамплиеры за жирный кусок, навсегда оставит Москву третьим Римом, а четвертому, как известно, не бывать…
Опустился красный прямоугольничек с орденом в полный второй стакан, дружно звякнуло граненое стекло и под выкрики захмелевших товарищей мы с Михеем вытащили обмытые награды. Полюдов сам не пил, только мусолил взглядом емкость, изредка поглядывая по сторонам. Потом ошеломил:
— Коли ты, Саблин, такой герой-орденоносец, принимай группу!
Он поднялся и, положив на середину стола бумажку с чернильным штампом «ВРИД», объявил с оттенком торжественности:
— За нового командира ОСМАГ-2[60]!
А после все-таки выпитой «стопки» сразу нагрузил:
— Завтра с утра зачищаете второй сектор. Потом — на Васильевский. И еще нужно присмотреть за Чугунным проездом, там дикое колебание магнитного поля — расползается, как восьминог. Заедете, хвостов ОРВЕРовских поищете.
— Так ведь были уже там пограничники. Искали.
— Ну и ты поищи. А я вам четвертого в группу дам, «легенда» — эпидконтроль. Врача даже липового для порядка потом откомандирую.
— А Грюнберга можно? В железнодорожке у него коллеги, будет правдоподобно.
— Грюнберг в Москве сейчас.
— А кто ж все-таки в медиках у меня? — икнул я.
— Будет тебе медик, будет и клистир, — сказал Полюдов. — Егизарян!
Вынырнувшего из табачного дыма Вадика начоперод похлопал по плечу.
— Вот тебе врач, целый кандидат наук.
Я почему-то быстро опьянел и нес какую-то ересь:
— И-из-виняюсь! Если он медик, то почему на нем шинель вэвээсовская?
— Какая нашлась, такую и дали.
— Не па-ложено.
Евграф хлопнул меня по торчащему из-под гимнастерки воротнику свитера и скомандовал Вадику:
— Грузи на диван.
Глава 15 На «Вулкане»
Возле Полюдовской «эмки» угрюмо ходил водитель, буцая покрышки. Меня он приветствовал взмахом руки и сразу же скосил глаза на стоящего рядом щеголя в черной кожаной куртке.
— Лейтенант Хавьер Мальвадо де Руис Хименес, — представился щеголь, с сожалением готовясь выкинуть сигарету.
Было что-то майнридовское в его фамилии, что-то пахнущее сельвой и порохом конкистадорских мушкетов. Высокий красавец-гранд имел кроме летчицкой тужурки хромовые сапоги, галифе синей командирской диагонали и фуражку с мечтательным голубым околышем. Он мог быть только лейтенантом. Приставить ему «младшего» или «старшего», это такое же надругательство над прекрасным, как бюстгальтер на статуе Венеры. Таких, наверное, по рождению записывали в гвардию. А старлей — это смытый вечным Кзыл-Арватским загаром юношеский румянец, начинающая мяться по утрам харя или до смерти надоевший гарнизон где-то в безлюдных сопках. Это гуталиновое амбре казарм, въевшееся в единственный цивильный костюм, который все равно надеть некуда; это зеленая тоска палатки с вонью пятидесяти портянок; это молодая жена, не знающая, куда себя деть зимним вечером. В войну старший лейтенант — это бывший председатель колхоза или директор школы, заведующий домом политпросвещения, начальник райпо, разжалованный, как тот же Сарафанов, капитан, в конце концов. А де Руис Хименес не мог быть раньше счетоводом ОРСа или разжалованным капитаном — для этого у него было слишком гордое лицо.
— Курите, товарищ Хименес.
— Благодарю, командир, — испанец протянул мне открытый портсигар. — Подарок отца с Большой Земли.
— Из Москвы?
— Никак нет. Воюет под Сталинградом, штурман.
— Вы, я вижу, направились по его стопам.
Широко улыбаясь, Хавьер расцвел лицом.
— Я уже третий пилот в нашем роду. Отец был в республиканской авиации, а дед в королевской.
Оконце машины скрипнуло, и оттуда выглянул сонный Михей.
— Ага, как же! — Сарафанов, потянувшись, облокотился на двери. — Ты хоть одного немца сбил?
Руис налился смуглым румянцем и, не считая возможным ругаться в присутствии командира, сказал что-то неразборчиво.
— А ну, вылазь! — Я прижёг взглядом отсыпавшегося в машине Сарафанова. — Костя где?
— Костю гээнтэошники арендовали — говорят, что-то умное придумали.
Таинственный и незримый полковник Гатаулин — начальник Группы научно-технического обеспечения, — действительно, мог забрать любого ОСКОЛовца в любое время, поэтому подпрыгивать не было смысла.
— Становись! Боевая задача: помощь в зачистке территории и попутное исследование отдельных кварталов. В нашем распоряжении седьмой ОПРМ, автомобиль, оборудованный радиосвязью, асинхронизаторы и личное оружие. Кроме того, нам выделена единица оружия нового типа — универсальный карабин Кастякова-Добровольского с автоматической настройкой и подачей боеприпасов. Я протянул Сарафанову блестевшую серебром и никелем винтовку.
КАСКАД — предел мечтаний любого спеца, и почему Евграф оснастил именно мою группу, я пока не знал. Было их крайне мало, и давали такие карабины лишь под серьезное дело. Личный состав уже обучали владению КАСКАДом, но мне хотелось, чтобы народ почувствовал «глубину момента»:
— Это оружие разработано советскими учеными, здесь в Ленинграде, специально для боевых частей ОСКОЛ. Его характерным отличием от систем, применямых ранее, является принцип универсальности. Двойная система распознавания «чужака» в течение доли секунды выбирает режим работы КАСКАДа и автоматически посылает нужный заряд в казенник. Конструкция подачи боеприпасов 4+2, системы Добровольского, включает в себя дублированный поражающий заряд четырех основных типов: кислотный, аргентосодержащий, электрохимический и патронтермопоражения. Благодаря унификации боеприпас можно заменить в зависимости от предполагаемой сложности обстановки на трассирующий патрон для МЗО[61], либо компакт-фугас.
Кроме того данная система оборудована мощным разрядником и экспериментальным прибором инфрапоиска.
Это была прекрасная машина, произведение технического исскуства, такая же совершенная в формах, как танк Т-34, Эйфелева башня или американский «джип». И Сарафанов, получив ее в свои руки, осветился счастливо-дурацкой улыбкой. Михей трепетно поднес карабин к груди, прижимая, как прижимал бы старый филателист, перед смертью увидевший «голубого Маврикия», и упоенно полировал осину приклада до тех пор, пока испанец не пихнул его в бок.
— В связи с изменением общеоперативной обстановки, приступаем к работе прямо сейчас. Занять места в машине.
На защиту пояса энергобашен кидали всех, кто мог принести хоть какую-то пользу. Командование торопилось, чтоб закрыть многочисленные бреши, возникающие на всех участках — «пожар» занял уже территорию от Исаковки до Парка Челюскинцев. Сначала в огонь пошли дозоры и оперативники, потом на врага бросили остаток боевых частей, техников и охрану, но очаги поражения стали проявляться не только вблизи контура, а уже и внутри.
Чужаки вырвались у студии кинохроники, недалеко от клиники Эрисмана, и за Оккервилем. Пока нам крепко помогало солнце, но что будет ближе к полуночи?
«Черные» копились в подвалах и тупиках, готовясь к ночному походу, и если они вырвутся, уже никакие уловки шифровальщиков не помогут, а зверь на свободе получит подпитку от ужаса людей. Тогда все. Тогда мы не справимся, и наступит конец света в отдельно взятом городе. Ленинград станет похож на юкатанские развалины — великие и пустые…
На тротуаре возле перекрестка откинулся круглый чугунный люк. Слесарь-битюг в шахтерском шлеме выскочил из подземного колодца и в броске к машине перекрыл визг тормозов истошным криком:
— Ложись!
— Что там?! — Руис на ходу открыл дверь.
Впереди ухнуло и заклубилось вихрем пламя, обнимая ближайший столб.
— Люди, граждане! Закройтесь в домах и личных комнатах! — орал битюг. — Произошел взрыв газа, и он может повториться! Не выходить из квартир, не смотреть в окна!
Слесарь махнул здоровенным, под стать своей фактуре, ключом.
— Товарищи, скорей проезжайте, утечка пропана!
Ответил Сарафанов:
— Ты что, Горииванов, в газопроводчики подался?
— О, Михей! Ребята! — майор потер глаза. — Я с темноты толком еще не вижу, — и, прищурившись, спросил: — Чего это вы на Полюдовской машине катаетесь?
— Мы не катаемся, а выполняем задание, — сказал я, важно открывая переднюю дверь.
— И ты здесь, комендатура! Теперь, значит, с нами?
Мы обступиликомандира огнеметчиков, как мешок на ярмарке, подбирая сыпавшиеся горохом фразы.
— Прет, сучара, спасу нет. На воротах хоть генераторы, а на боковых вводах все вручную… В Гребном порту жегводь видели — такого с гражданской войны не бывало… Все, мужики, бегу.
— А здесь что было? — крикнул вдогонку Руис.
— А хрен его знает! Сами глядите.
Глянули мы осторожненько. Иголка РУНы, дрожавшая в самом начале красного сектора, не обещала особых проблем; Сарафанов посветил дальнобойным фонарем в обугленный колодец.
Что-то налипло на черных стенах. Жидкая блевотина ползла вниз, гулко шлепаясь на бетонную стяжку. Дно колодца размалевал неизвестный художник кровяными сгустками, меж кирпичей бугрился зеленеющий студень, и мертвый глаз в жестком волосе глядел в небо, как на МУРовском жетоне двадцатых годов.
— Хрень какая-то, — задумчиво сказал Михей и дважды выстрелил в дохлое око.
На Васин остров выбрались мы ближе к двум ночи. Зеленый катерок, тянувший по своим моряцким делам что-то на Лахту, подобрал нас и ушел в море, которое небо засыпало мириадами водяных горошин. Город дождь отторгал, разбивал косые струи о здания, рассеивал острыми пиками крыш, уничтожал, впитывая землей. Зато на воде он был свой, и вместе с туманом обращал все, к чему прикасался, в прозрачное волглое марево.
Катерок отчаянно мотало, но казалось наоборот — вроде стоим мы на месте, подминаемые свинцом туч, а с неба прыгают на нас шумные волны. Оттого Васька почудился громадным осклизлым мертвецом, бьющимся головой в невский берег. И плавал он в таком же мертвом тумане, будто находясь на пограничье между нашим и тем, другим миром, из которого приходят чужаки.
Сарафанов ткнул пальцем в туман.
— Вон там есть, причаливай!
Старшина катера хмыкнул и протянул еще метров триста, ловко увернув катер от возникшей ниоткуда баржи. Мы вытащили на сходни узкий длинный ящик и, отойдя метров триста от набережной, я заземлил его, откинув крышку.
— Посвети, Михей!
Сарафанов щелкнул в темноте чем-то металлическим, и яркий луч ткнулся в контур Васильевского острова, заодно обдав зеленоватыми брызгами донкихотовское лицо Руиса. Испанец протянул Михею несколько стержней из ящика, и они быстро собрали что-то похожее на детский металлический конструктор с флюгером, а затем принялись обматывать его проволочной гирляндой.
Это была та же РУНА, только называлась она ОПРМ-7 и были в ней насадки, позволяющие издалека прощупывать «гостей». Бородатые хмыри из радиоинститута напихали всякой умной дребедени, так что надо было всего-то включить тумблер да покрутить динамо в ожидании, когда сойдутся на панели кривые энергополей.
Испанец прижал ногами машинку и отчаянно крутанул маховик. Плексигласовый экран заспанно мигнул, зазмеился параболами, пустил по карте несколько косых линий, а потом все кривые стеклись на самый край — в район Колтовской набережной.
— Хватит, наверное, — Руис кивнул, и тут же внутри конструктора замаячил красный огонек, поворачивая флюгер влево.
Мы трое тоже повернули головы туда, где под умирающей лампочкой отсвечивали свинцовые углы букв на вывеске: «Машиностроительный завод Вулкан. Наркомобщемаш СССР».
Машзавод охраняла баба-вахтерша, визгливым шлагбаумом стоявшая на пути. Даже грозная книжка с гербом в трепет ее не повергла, и пускать на территорию посторонних, без разрешения начальника охраны она «и думать не стала».
— Кто тебя знает! — верещала эта пигалица, дергая клочками пушившуюся поддевку. — Мало что нарисовать можно! Бумага стерпит. Не пущу!
— Ты чё орешь, Надежда? — спросил вошедший последним Сарафанов.
— Михей Степаныч! — делано обрадовалась кикимора. — Здрасьте.
— Здравствуй, здравствуй. Все шумишь?
— Так ить должность такая! Думаете, мне это из удовольствия нравится? Тютюшки! Гавкаю тут целый день, как шавка на аркане. А кто ценит? Вот прошлого раза — прется, значит, дылда одна в манто…
— Ты, Надежда, винты не вкручивай, а рассказывай, кто поднял шум, когда, и по какому поводу.
— А кто поднял? — по-сорочьи закосила вахтерша. — Никто и не поднимал. Работаем тихо-мирно, выполняем план на сто двадцать процентов.
— Надежда…
— А что Надежда? Стою себе ни…
— Постникова! — рявкнул Михей, и Постникова стала ударно возюкать рукавом по вохровскому прилавку. — Не тяни, — поторопил Михей, облокотившись на дерево, и добавил казенно: — Не добавляй забот органам… Перестань! Не реветь! Говори быстро и честно, как на исповеди.
Вахтершино лицо запрыгало, оплывая киселем на фоне десятисвечового маскировочного полумрака.
— Михей Степаныч, Белая Наташа объявилась.
— Кто трепался?
— Да как же трепался, а? Я ж ее сама, своими глазами видела, возле покрасочного.
— Не свисти, бабы ваши исподнее сушили, а ты в крик.
— Какие сушилки! Я ее рядом… как вон до двери. Пяти шагов не набралось бы.
Все уставились зачем-то на зеленую створку проходной, и она стала медленно отворяться. Очень медленно. Душа тоненько завизжала в тягостном предчувствии, и вторило ей плотницким скрипом изматывающее, медленное дерево. Черный сгорбленный зверь вломился в комнату и… бросил на пол ящик с углем.
— Сергей Ильич! Дурак такой! — завизжала Надька, кидая в человека подвернувшийся болт. — Напугал до потери сознания.
— Вы что себе позволяете, Постникова! — интеллигентно заругался Сергей Ильич. — Я вам уголь, знаете ли, — он замер, глядя на мой термопистолет. — Сами вы… пошли бы, извините, в задницу.
«Угольщик» протер черными пальцами очки и водрузил их на прежнее место, попав дужкой в ухо.
— Начальник караула Лотыгин. С кем имею?
Я протянул «мандат» и представился:
— Старший лейтенант Саблин. Комендатура. Товарищ Лотыгин, нам требуется осмотреть территорию завода в сопровождении Постниковой.
— Э-э, мы вообще-то подчиняемся только…
— У нас есть все необходимые полномочия.
Михей поправил на плече ящик с ОПРМ и, забрав Надежду, мы двинулись к сушильному цеху, где, по ее словам, все и случилось.
— Да-а, напугал дедушка, — Сарафанов потер затылок.
— Он такой же дедушка, как и ты, — вступилась за начальника идущая впереди вахтерша. — И сорока нет, и, между прочим, как мужчина может еще.
— А ты что, проверяла? — заржал Михей и даже в темноте был виден румянец на щеках Постниковой.
Вот уж точно: язык впереди ума бежит.
— Он в январежену потерял, — после конфуза ответила Надежда. — Сергей Ильич тогда в КБ работал. Целыми днями на производстве… А его Татьяну племянник убил, за карточки. Талонов не отыскал — так отрубил ей руку и в платок завернул, чтоб унести и съесть потом. Да так и сдох на лестнице в парадном…
Асфальтная дорожка закончилась, и за водонапорной башней показалось кирпичное здание с ведущей к нему грунтовкой.
— Вон где произошло все. Видите — этаж завален, — показала Надежда. — Там и была она.
— Кто? — глупо спросил Руис.
— Кто! Наташка Соколова, прости, Господи. — Вахтерша торопливо перекрестилась и взяла Михея за рукав. — Я с вами не пойду, мальчики, ладно?
— Ладно, беги к своему Ильичу. Только, чтоб не болтать. За такие разговоры знаешь, что?
— Пятьдесят восемь, прим, — отчеканила Постникова и, развернувшись через левое плечо, припустила обратной дорогой.
Михей усмехнулся ей вслед.
— Я дело Соколовой в тридцать пятом разгадывал. Наташа здесь на седьмом участке работала. Правильная девушка — музыкой увлекалась. Влюбилась она в одного типа, а он после того как получил, что хотел, посмеялся над ней. Да еще подло так, при всех.
Сарафанов стал раскуривать блокадный «Казбек» (вымоченную в никотине стружку), роняя смолянистые серпантинки в траву.
— В первую же смену Соколова покончила с собой в трансформаторе — взяласьрукой за голый провод. Когда после похорон стали ее замечать в разных местах на заводе, паника создалась. Развал дисциплины полнейший. Сначала милиция это дело взяла. Костя Кондратьев, ушлый такой опер, тык-мык — видит, дело нечистое. А с «гостями» такими сталкивался. И парень смелый, во!
Михей сжал кулак.
— Силикат! Да… Значит, копал ударно и на Белую Наташу таки нарвался. Тогда мне дело и передали. Но, пока то да се, еще один случай произошел. Кондратьев сначала на саботаж упирал: мол, есть распространители вредительских слухов, сбивающие народ. Вот и взялся активист один эти слухи развеять. Похвалялся! Я, говорит, это ваше суеверие глупое на дым пущу. Девчата ее сменную карточку оставили — вроде как пусть будет, раз уж она тут осталась, а он карточку сорвал и в мусор выкинул. Да еще хвастался, дурак: «Встречу, — смеется, — за волосья, и через забор выкину. Не числится у нас такая». Ну и встретил… Нашли его через два дня в шкафчике для одежды.
— Мертвый?
— Живой.
— Ну и что потом?
— А ничего, — Сарафанов цыкнул коротким плевком в кусты и настроил асинхронизатор на положение «поиск». — В дурдом свезли конверты клеить.
— А тот… тот человек, — подбирал слова испанец, — который совершил эту низость?
— Сёмка? Тот, не знаю. Манатки собрал и в дальние края подался. — Михей вытащил какую-то старую схему. — Защитный контур двух уровней здесь смонтировали — любой удар с «того света» мог выдержать. Ну и взрыв, если теракт какой. Кроме бомбы, конечно.
Я выдохнул, будто перед прыжком в прорубь, и мы вошли в разбитый цех. Перед нами был небольшой, залитый лунным светом зал с двумя рядами станков. Один ряд выстроился вдоль окон слева, а справа приткнулись еще несколько, расположившись за длинной металлической ширмой. Почти у самого входа валялся тяжелый стол и длинные лавки, отброшенные взрывом.
Я посмотрел в дальний конец зала. Снаряд разрушил стену, только один фрагмент ее уцелел. Высокий, с острыми гранями, он походил на обелиск, вверху которого сохранились остатки портрета Ленина и звезда с лучами. Полумесяц заглядывал к нам через пробитую крышу, а Ильич щурился со стены.
— Надо поискать прибором artefaktum, — вдруг сказал испанец.
— Чего? — спросил Михей, уже возившийся с обрывком провода.
— Предмет. Очень похож на обычный, но другой.
— Да говори ты толком!
Руис прищелкнул пальцами.
— Не знаю, как правильно сказать. Это…
— Вещь из «темного» мира, замаскированная под что-то привычное глазу, — помог я испанцу, и тот, утвердительно кивнув, начал рисовать мелом на стене диковинные кресты.
Я включил свою РУНу. А Михей прошел вперед, огибая станки. Пошерудив в углу, огорченно крякнул:
— Кажись все, накрылась защита.
Из стены торчали обрывки кабеля и стержни скомканного корпуса.
— Можно временную сделать, — он почесал в затылке. — Если соединить провода и ток пустить…
— Тише! — Вскинув руку, я смотрел на прибор.
Стрелка РУНы уверенно поползла в красный сектор. Но никаких предметов, которые могли оставить «чужаки», я не видел. Огромная дыра в крыше, стальная балка с цепями, гнутые фермы и фрагмент стены с портретом. Всё.
Мы озирались, высматривая артефакт. Тщетно — найти его среди сотен разбросанных взрывом заготовок и деталей было практически невозможно. А потом заработал станок возле разрушенной стенки.
Что-то надвигалось, заполняя разбомбленный цех холодом.
Нарисованные мелом кресты испанца ссыпались вниз, как прах мертвецов, увлекая за собой штукатурку со стен.
Кто-то невидимый хлопнул дверцами металлического шкафа.
— Ах, разбил мое сердце жокей, — напевал женским голосом невидимый, — и ушел навсегда… Чего ж ты убежал, Семен?
Я почувствовал, как холод останавливает кровь, а Михей запустил руку в подсумок, всматриваясь в едва заметные переливы между трещинами сожженного простенка.
— Ты не Семен! — Едва осязаемая тень пролетела вдоль стенки, касаясь ее вытянутыми руками.
— Кто ты, парень? — Скользящая женская фигура подплыла ко мне совсем близко.
Я медленно пятился и вдруг увидел, как над ленинским портретом ярко горела п е р е в е р н у т а язвезда с пятью лучами. Вот он — артефакт, ключ из темного мира, пятилистник смерти, открывающий призраку путь в Город!
— Бей! — Я бросился на землю.
Карабин Руиса оглушительно захлопал, и сам он кричал что-то, быстро меняя стрелянные конденсаторы. Яркие вспышки разбивались впереди, освещая руку Сарафанова с гранатой.
— Михей, портрет! — крикнул я.
Когда взрыв разнес кирпичную кладку с Ильичом, холодный огонь выплеснулся в цех. Ледяная волна подбросила меня вверх. Я увидел, как Михей судорожно машет рукой, пытаясь сбить пламя. Как Руис прижимает к виску ладонь, и кровь течет между пальцев. Как пляшет в воздухе сотканная из языков пламени фигура. А Белая Наташа приблизила ко мне лицо и прошептала:
— Идем со мной.
— Не могу, — просто ответил я.
Она прикоснулась ко мне рукой и возле сердца стала перебирать пальцами, как слепые ощупывают лицо.
Секундой мелькнуло виденье грустной задумчивой девушки в светлой накидке с зачесанными назад волосами. Она улыбалась и встряхивала длинными белыми прядями, на завитках которых искры играли электрическим светом. Ледяные пальцы на моей груди накрыли фотокарточку Астры.
— Ты любишь такую же, как я?! — Наташа засмеялась. — Смелый парень… Цветок зимы сожжет дыханьем… Я покажу, как у вас будет.
Призрак поцеловал меня в губы, и мир взорвался тысячами серебряных граней, уносимых вихрем умирающих атомов. Этот вихрь захватил и меня. И даже странно было видеть и ощущать себя его частью, соединяясь с другими сущностями в единую бесконечную материю. Но всего труднее было понимать, что эта сияющая бесконечность, столь желанная и такая доступная сейчас, увлекая в счастливую новь, покинет наш мир. И без меня он останется совсем один, черный от взрывов, бессмысленно уродуемый теми, кто его населяет, но давший мне жизнь.
Уже падал в вечность этот сияющий поток, а я все никак не мог раствориться в нем полностью. Сознание цеплялось вспышками за все, что держало меня в моем мире. И тонкая струна, тянущая во тьму, все-таки лопнула и исчезла, унося обратно все то, что пришло к нам из чужого мира.
Чьи-то руки подхватили меня и потащили прочь…
— Наташа Белая — это мой брачок, — признался Михей, когда мы повалились на траву. — Семь лет назад мы что — провели очистку и успокоились. Техника была на уровне машины Уайта. Вместо РУНы пузырек бертолетовой соли, а то и просто лоза. Санобработка — вспоминать смешно: вызывали дядек с пятого дезпункта и те насосиками прыскали. — Он помолчал немного и, дергая фибровый каркас на дне фуражки, добавил: — Висмутом.
— Надо фугас закладывать.
Реплика испанца при всей ее простоте загнала меня в тупик. С боевой точки зрения, конечно, необходимо избавить рабочих завода от потусторонних визитов. Но тайно бродившее желание еще одной встречи и возможный ее результат склоняли чашу весов в другую сторону.
А Сарафанов продолжал вспоминать «дела давно минувших дней».
— Мне т а к а я попалась в тридцать седьмом… Да, в апреле где-то, как раз Орджоникидзе хоронили. Я вел дело о гибели парашютистов из аэроклуба. С первого наскока ничего вроде такого. Четыре десантника: трое на кладбище, один в психбольнице — за дерево зацепился и выжил. Но умом тронулся. А на диверсию не похоже — парашюты в полном ажуре, даже за кольцо никто не дернул. Прозектор клянется, что не от травм ребята погибли. И лица у всех на посмертных фото… — лейтенант развел руками, — …ну, короче, по нашей части лица. Я давай листать милицейские бумаги, съездил на вышку в Сосновке, заглянул на Моховую, в контору ихнюю. И что выходит? Выходит, что курсанты из разных групп. Разбились все в разные дни, но непременно в пятницу. И все — жертвы с одного самолета. Я давай быстренько на аэродром. Туда-сюда, качаю летунов — те ни в какую. Слава богу, нашелся умный человек, подсказал, что в полетной книге есть и кто, и когда, и почему. Сижу я, разбираю эту бухгалтерию: дело идет, цепочка вяжется. Оп-па! Смотрю — полвторого ночи уже. Ну, азарт, понимаешь?!
В эту минуту сверкнуло зарево на юге где-то за Кожевенной линией. Немцы били по острову.
— Ну да, азарт-батюшка, — повторил Михей. — Вышел на воздух, курю. Потом оп — возле аероплана вижу девчонку в летном шлеме. Ладная такая, маленькая, а глаза! Даже ночью видно, что темно-синие. Я ей, что это вы, барышня, одна в темноте гуляете, может, потеряли кого? Она как посмотрела — до сих пор за душу хватает, все б отдал, только чтоб рядом постоять. «Витю ищу», — говорит. Голос такой… Зацепенел я. На самолет смотрю, а не вижу, что это т о т с а м ы йТ-1329… Как она исчезла, я даже не понял — стоял, как баран. — Сарафанов зло дернулся, рассыпая очередную самокрутку. — Оказалось, что Марина, девчонка эта синеглазая, разбилась недавно, прямо накануне свадьбы. Прыгнули вместе с женихом, в воздухе кольца друг другу надели и дальше в ЗАГС планировали. Он приземлился нормально, а у Марины парашют не раскрылся…
— А те, другие парашютисты, чего тогда разбивались?
Лейтенант заговорил после долгого молчания.
— Я в дурдом съездил. К единственному выжившему из четырех. Так вот, он женихом Витей ее и оказался. «Марина Филатова ушла, — говорю ему, — совсем ушла!» Витю прорвало. До этого молчал, как репа, а тут, будто с горки — крики, сопли, слезы… Во время прыжка все погибшие Марину повстречали… Она каждую пятницу — в день последнего полета — искала в воздухе своего суженного… Десантники-то здоровяки, а разрыв сердца… Чего ты хочешь — месяц назад на похоронах за гробом шли… Так что, четыре сбоку, ваших нет. Мне тогда «благодарность» в приказе и «неполное служебное» — не смог я фугас на нее поставить. Первый и последний раз не смог… Такая красота, прям, как поколдовала.
Стало понятно, куда крутит Михей. Слов нет, захватывающее это действо — свет во тьме и неземной красоты существо. Особенно, если оно плохого тебе ничего не делает. Белая Наташа нужна была мне только для того, чтобы узнать, что значат ее слова об Астре. Однако Сарафанов цепко следил, отрезая любую попытку приблизиться к зданию.
— Не дури, — стал на дороге Михей и выразительно поправил за поясом тэтэшник. А испанец, вроде бы невзначай, зашел со спины. Гад иезуитский. Я сдался на милость победителей, получив в ответ бормотанье об инструкциях, порядках и прочем соусе.
На проходной Михей позвонил саперам и шифровальщикам, а потом повернулся к дежурной.
— Так что, Постникова, разлилась в вашем цеху азотхлоркарбидная кислота, — ввернул термин похимичней Сарафанов. — Пары! После таких паров не то что Белую Наташу — господа Бога увидеть можно. — И, нависая над слегка обалдевшей вахтершей, объяснил, что скоро будут дегазаторы и в течении суток ликвидируют неполадки.
Ну, насчет суток не знаю, а поломать комедию шифровальщикам придется.
Свободного транспорта в конторе не оказалось, но Евграф наобещал по телефону, что нас подкинет по воде патруль «Шторма», и в ожидании катера мы заскучали в сонной вахтерской.
Руис мгновенно заснул, смешно зажав кулаком фонарик, Михей крутился возле окна, поглядывая в мою сторону. Наконец, не выдержал и спросил шепотом:
— Что Наташа Белая тебе сказала?
Чёртом дернутый язык мой врал, болтая какую-то ересь. Михей, сидя на подоконнике, как на переменке в школе, кивал, не глядя в глаза, и фальшиво зевал. А когда я замолк, Сарафанов на полном серьезе сказал:
— Андрюх, что б она тебе не говорила, плюнь — обманет. Даже самые-самые из них — враги наши смертные.
Смазывая блестящий воронением разрядник, я холодел от предчувствия надвигающейся беды. Слова Наташи не выходили из головы. Я гнал нежданные мысли, но, расступаясь подобно воде, они не уходили вовсе.
— У тебя еще бинт есть? — спросил Михей, затягивая потуже узел грязно-серой марли на кисти.
Без толку пошарив в полевой сумке, я хлопал по карманам, а когда добрался до того, в котором лежала фотография Астры, понял, что он пуст.
— Что? — Сарафанов, всматривась мне в лицо, склонился с подоконника. — Что случилось?!
— Фотокарточку Астры потерял там, в цеху! Понимаешь?
Михей неожиданно улыбнулся.
— Так беги скорей.
И я побежал за карточкой…
Глава 16 Тринадцатый дом
— Заворачивай! Заворачивай! Правее, правее, я тебе говорю! — мужик в танковом комбинезоне кричал, прилипая к стеклянному окошку грузовика.
На «яшку» — ярославский грузовик, первых выпусков, когда только и было хорошего в автомобиле, что он свой, советский, — тихоходного и неповоротливого, мастера-самоделкины из ГНТО прилепили громоздкий короб с длинной резиновой кишкой, и походил он теперь на гибрид слона с мотоциклом.
— Васька, врубай помпу! — махнул рукой «танковый мужик» и уставился в мой документ.
Бумага убеждала, что я тот самый старший лейтенант Саблин Андрей Антонович, «врид командира ОСМАГ-2», который ответственен за «полную очистку треугольника река Фонтанка — улица Пестеля — улица Моховая».
Это был уже тринадцатый дом, где мы проводили зачистку и, если бы не прямое указание начальства «пошуровать на треугольнике посильнее», ограничились бы осмотром — сил почти не осталось.
Наблюдающий за работой механиков Костя, до этого лишь посмеивающийся, вдруг стал орать на мужика в комбинезоне:
— Куда шланг суешь, балда?
— Тебя забыл спросить, — не полез тот в карман за словом, и Волхов, относящийся к своему младшему лейтенантству с легкой иронией, внезапно ощетинился:
— Ты как со старшим по званию разговариваешь?!
Получилось плохо. Получилось тонко и визгливо, совсем как у белого офицерика из кино, и невидимый в кабине шофер спросил, куда, по мнению «товарища старшего по званию», нужно совать дезактиватор.
— В подвал шестой парадки, — твердо сказал Волхов.
— Смотри, считаю, — шофер стал загибать пальцы, — один, два, три…
Костя ткнул пальцем в ярко алеющую цифру «6» в противоположной стороне дома.
— Оттуда надо начинать!
Окончательно добил «экипаж машины боевой» Руис. Не знаю почему, но испанец набрал в горсть жидкость из шланга и попробовал на вкус. Раз, другой… А потом задумчиво поинтересовался:
— Вы раствор готовили?
«Танкист» мигом очутился на горбу автомобиля, заглянул в мерник. Секунд пятнадцать его лицо делило выражение озабоченности пополам с интересом, потом набежало прохладное облачко на брови и сползло, извиваясь, на подбородок.
— Вася-я-а, я клапан забыл открыть.
Вася молчал.
— Вася, чё делать-то? — выдержав паузу, добивался убитым голосом мужик.
— Вручную крути, гад!
Тонкость в том, что машина самостоятельно крутила соль только при движении автомобиля. И теперь им предстояло вручную и с энтузиазмом крутить механизм, потому что бензин в городе считали не то что на бочки — на литры.
— Давай крути, балда, — шофер толкнул напарника.
И закрутилась невидимая шестерня, толкая в ламинарную воду белый порошок в ярких блестках — каменную соль с добавками аргентита и свинца.
Обработка солевым раствором мест возможного появления господ из преисподней, это, на мой взгляд, горчичник при поносе: пойдет ли впрок неизвестно, зато не навредит. Солька может отвадить всякую мелюзгу, и серьезным чужакам не преграда, так — досадное препятствие. Хотя, говорят, призрак или упырь ее предпочтут обойти. По всем правилам соль нужно сыпать в кристаллическом виде, предварительно облучив радием, но ее в городе мало, энергии еще меньше и наше интендантство выкручивается, изготавливая водный эрзац.
— Товарищ командир, — шофер Василий переминался с виноватым лицом. — Нам бы минут двадцать на закрутку. Ну, получилось так, — вздохнул он, глядя в сторону. — Замахались вусмерть.
— Ладно, не охай. Двадцать пятый дом обработал? — спросил я, указывая на желтое здание по соседству.
— Так точно.
— Тогда вперед, а мы пока присмотримся.
В маленьком дворике играли дети. До войны это был хороший двор: зеленый и полный веселого шума, а сейчас возле обгорелых пеньков сидело с полдюжины ребятишек, занимаясь странным делом: вставая, каждый подходил к большому кусту и недолго постояв, шел на свое место. Казалось, что исполняется некий ритуал, тайный смысл которого был понятен лишь им — малокровно-бледным человечкам, даже в играх сохраняющим усталую неторопливость.
Костя шел впереди, незаметно орудуя РУНой, и вдруг показалось мне, что ступает он, как бы в сонном желтом мареве, тяжело переставляя ноги. Жарко нависнув, солнце почти закрыло собой небесную твердь, покрывая всё неживой слепящей краской. Даже птицы улетели из этого тифозного небытия. Дети поднимали руки, словно мертвые куклы, и сколько я не всматривался, никак не мог разгадать, кому малыши протягивают ладони. Доносились только их непонятные фразы: молоко двести грамм — очередь — полтина сдачи — макароны вместо крупы по карточке…
Когда Волхов стал разглядывать кустарник, оттуда выскочил шустрый пацан в матросском костюмчике и устремился к ближайшей парадке. Взобравшись на приступок, он зло надул щеки и остановился у тяжелой двери.
— Дяденька, дяденька старший лейтенант, вы Левика видите?! — Егоза в красном банте визжала на весь двор, и сразу же пропало склеивающее время оцепенение.
— Это в матроске который?
— Видели, видели! — девчонка подпрыгнула. — А ты, Коля, просто вредина.
— Сама дура, — смело заявил грязнуля со сбитыми локтями, пытаясь извлечь неподдающуюся козявку. — Левик умер, и его закопали в землю.
— А кто тогда с нами в магазин играет? — упрямо выкатил глаза «красный бант».
Умный Коля засунул палец на всю глубину ноздри.
— Тетя Таня сказала, что нам все это кажется.
— Погоди, погоди, погоди, — зачастил Сарафанов, усаживая перед собой девочку. — Ты говоришь, кто-то умер?
«Красный бант» кивнул.
— Да. То есть, не совсем.
— А как?
— Ну, вот… не совсем. Левик играть с нами приходит.
— Но его похоронили?
— Да.
— Давно?
— Давно-о, когда немцы сильно стреляли, и мама прятала меня в бумбоу… боум… бомбоумбещще.
Так. Значит, май-июнь, в это время усилились артналеты. Когда же Левик явился?
— Вчера пришел к нам, — упредил вопрос Коля. — Мы сидели и читали Машкиного «Робинзона Крузо», а он подходит и говорит: давайте в кружилки играть.
— А как это?
— А вот так, — еще одна девочка, показывая, завертелась на месте.
— Пацана кто-нибудь еще видел? — быстро спросил Михей, и дети дружно загалдели. — Никто! Никто! Только мы! Взрослые не видят, даже тетя Таня!
— Опять вы за свое, негодники!
Подошедшая комсомолка (наверное, та самая тетя Таня) осуждающе качала головой.
— Вот. Нашли себе забаву, — она улыбнулась и убрала волосы под берет. — Выдумали, будто приходит к ним Левик Альпер, а он еще в мае убился.
Девушка поправила противогазную сумку и отвела меня, взяв под руку.
— Вы им скажите… Ну, прикажите как военный. А то, прям, мистика какая-то, — при этом ее глаза постоянно соскальзывали на кучку детворы, толпившуюся рядом. Среди них опять мелькал синий костюмчик.
— Детей почти всех эвакуировали, а эти ребята…
— Скажите, Таня, а вы уверены, что мальчик погиб?
— Я-то его и обнаружила, — по щеке девушки побежала слезинка. — Лежал вон там… К Софе должен был приехать с фронта муж. Они с утра готовились, Левик надел праздничный костюм, синий в полоску… До ночи ждали. Софа с Алечкой заснули, а Левик пошел на улицу ждать и попал под грузовик. Ночью грузовики без фар.
Она вдруг повернула голову и, с ужасом глядя в упор на Левика, закричала:
— Коля, перестань ковырять в носу, я все расскажу Марии Дмитриевне!
Руис отвлек ее, а Сарафанов поманил к себе девчушку с красным бантом:
— Иди сюда, дочка.
«Дочка» подошла как-то боком и, чувствуя, что дядя будет спрашивать не о том, как она учится или как зовут ее любимую куклу, принялась глядеть куда-то в сторону.
— Левик ваш друг? — спросил Михей, взяв ладошку ребенка и перебирая на ней пальцы. — Где он?
— А вы его не заберете?
— Нет, что ты! Зови его сюда.
Ребятня молчаливо расступилась. Одинокая фигурка в синем отступила к зарослям терна.
Костя тронул Михея за плечо.
— Отойди, он боится, — и, сделав шаг вперед, оттянул кобуру за спину. — Мы не сделаем тебе зла, мальчик.
— Вы плохие. Он злой охотник, а ты делаешь хитрые ловушки.
— Нет, Левик, он трамвайный кондуктор, а я летчик, наблюдаю за птицами, что живут на дне моря.
— Летчик вон тот — в фуражке, с глазами судьи. А птицы не могут жить в море.
— Да, не могут. Как и мертвые не могут ходить среди живых.
Лёвик придвинулся вплотную к кустам.
— Я жду папу.
— Папа не может прийти.
Лицо призрака задрожало, превратив глаза в глубокие чернильные кляксы.
— Не может сейчас, — повторил Костя, — он попросил нас передать это тебе.
— На вас такая же одежда, как и на папе, — фантом отпрянул, и на его лице снова появилась человеческая маска. — Он знает, что мне здесь нельзя?
— Да, тебе нельзя здесь быть.
— А почему «черным» можно, а мне нельзя?
— Ты знаешь, где «черные»?
— Они рядом.
— Рядом с тобой?
— Нет. Вообще рядом. Вокруг. В домах.
— В этом доме они есть?
— Нет. Они из «шести подъездов» приходят.
— Это высокий дом, рядом?
— Вы будете их прогонять? У них вход сюда скоро будет!
— Будем.
— Они плохие?
— Да.
— Как фашисты?
— Да, Левик.
Призрак исчез в кустах, оставив мягкое шевеление гибких прутьев и тихий звон невидимого колокольчика — дилинь… дилинь-динь…
Теперь ждать некогда. Теперь надо бежать в подвал. Теперь надо отыскать и закрыть «вход», о котором сказал призрак погибшего мальчика. Закрыть самыми толстыми «досками», какие придумаем. А лучше всего — взорвать энергофугасом, когда «окно» из враждебного мира только-только откроется.
Вставив конденсатор в ЭФ-1, рубчатый корпус которой был неотличим от обычной «лимонки», я скомандовал:
— Сарафанов, со мной. Волхов с Руисом. Двигаемся навстречу друг другу от торцов к середине — подвал здесь сквозной. Если в подземной части все нормально — дальше на чердак, а затем вниз по квартирам. Ходу!
На бегу я видел, как Василий и «танковый» мужик указывают на машину со «святой водой». Но ждать было совсем некогда; отмахнувшись, я вцепился в кирпичный уступ и скользнул в открытое оконце подвала.
Я пошел дальше не сразу. За последнее время появилось у меня стойкое отвращение ко всякого рода подпольям, чердакам, углам и чуланам, копящим темноту в своих пыльных карманах. Когда отстроим Ленинград после войны, он будет чистым и стеклянно-прозрачным, настоящим городом будущего. Это будет столица Мира, Счастья и Труда, город — победитель фашизма и прочей адской нечисти. И никакая чернь не поселится больше в его домах.
Ступени шли глубоко вниз, словно ко дну глубокой ямы, и РУНА светила ярко-алым, будто у гнезда чертей. Шедший следом Сарафанов поежился.
— Ну что?
— Ворот застегни, — сказал я и решительно полез в тартар.
Пять ступеней темноты, затем поворот, еще три. И РУНА потухла.
— Михей, атас! — голос порвался, но Сарафанову повторять не надо. Он отпрыгнул под лестницу, беря на мушку фронт, а я свой тэтэшник нацелил в потолок. Что-то упало на щеку. Мокрое. Соленое. От черт! Ладони взопрели — аж пот ручьем.
— Михей, у меня руки шалят.
Сарафанов пробрался через гнутые отводы парового отопления и спросил:
— Чувствуешь что-то?
Я помотал головой.
— Нет, ничего конкретного!
— Ну, тогда вперед потихоньку.
Через десяток шагов мы уперлись в кучу хлама, облитого вонючей жижей.
— Как думаешь, по нашей части? — спросил Михей, наматывая соплю из кучи на проволоку. — Воняет!
Меня даже смех взял, несмотря на мокрую от страха спину. Стоит человек, нюхает похожее на слизняк месиво и говорит, что ему, видите ли, воняет. Правда, Михей при всех своих плюсах не был искушен в тонкостях юмора и, чтобы не обидеть слишком прямого товарища, я отвернулся, сказав что-то нечленорадельное.
— Неизвестная субстанция, — подвел он итог, обходя белый студень.
Шли мы не в косой нахлест, как советовал Руис (рупь за сто, от охотников-иезуитов узнал, мракобес), и, видать, проскочила незаметной первая синяя зарница. Я уже был недалеко от проема в подвал следующей парадки, когда Михей крикнул, поворачиваясь назад:
— Смотри, старлей! — В жирной темноте что-то мигнуло фиолетом и рассыпалось маленькими искрами.
Синим цветет болотник, странное существо, приходящее в Город с теплыми ветрами. Когда наступает лето, этот рыхлый и, в общем-то, флегматичный ОРВЕР становится опасен. В темноте он едва отличим от кошки, поэтому не обращают на его присутствие должного внимания. А болотник выбирает себе жертву: одинокого человека — слабого или больного, — дожидается, пока тот уснет, и забирает жизненную силу. Организм представляет собой смесь млекопитающего, рептилии и насекомого. Единственное, что его выдает — свет в момент поглощения. И тут болотника лучше не трогать — маленький поганец может наброситься, и послесловие укушенного о мохнатом клубке с паучьими ногами отнесут к бреду при бешенстве. Еще нельзя встречаться с ним взглядом — можно провести недолгий остаток жизни в повсюду кажущемся фиолетовом тумане.
Прилипнув к ограждению, Сарафанов изрядно убавил пыли, вытирая лицом доски; но что там внутри, так и не определил. Наконец, вогнав в щеку острую занозу, лейтенант предложил осмотреться по периметру. Я разрешил:
— Ладно, только быстрей давай, а то он уже вовсю шурует.
Дверь нашлась метров через пятнадцать. Самая настоящая дверь с табличкой: «Стой! Высоковольтное напряжение» и самодельным плакатом чуть ниже: «Участок № 2-бис». Стрелка прибора гуляла под стеклом, и я сунул отошедший на покой механизм за пазуху.
— Так, Михей. Я открываю дверь, ты кидаешь «вспышку» и падаешь. Далее по обстановке.
— Понял.
«Участок 2-бис» взорвался лимонной вспышкой ослепляющей гранаты, высвечивая ворвавшегося с противоположной стороны испанца в летной фуражке, закрывающегося ладонью Костю, какого-то упавшего человека и неподвижную фигуру с черной головой и лапой в синих молниях. Я целил прямо в черную голову, но термопатрон впился метра на полтора выше. Сарафанов, гад, руку подбил сапогом и улыбался без раскаяния, опустив ствол грозного КАСКАДа.
— Вы чё, мужики, совсем подурели? — отозвался упавший на пол дядька, отряхивая спецовку. — Одни винтарь в зубы тычут, другие… А у нас план, между прочим. Двадцать ферм за день, хоть кровь с носа. — Он ткнул рукой в железную паутину, кучей сваленную под оконцем. — Ну, скажи им, Серега!
Фигура, бившая молниями, сорвала лицо, которое валялось теперь бесхозно и матово круглело черным сварщицким оком.
— Готово, — отставил держак сварщик и обратился к стоящему рядом Косте: — Закурить есть?
Пока Волхов рылся в карманах, я рассматривал железные шкафы, тиски с разваленными губами, электропечку и металлическую пирамиду. Для чего им затеялось ваять в подвале такую мудреную штуку?
— Все, парни, шабаш, — сказал Сарафанов. — Воздушная тревога. Всем пора в убежище.
— Та ладно, командир, не все равно в каком подвале накроет? — Коренастый мужик в спецовке открыл зеленый шкафчик и вытер потное лицо, бросив майку на глянцевую лыжницу из «Огонька» (дверца была заклеена подобными силуэтами, в основном, женского пола). — Да и работы на полчаса, два захода и готово! Сам товарищ управхоз Дрейцер торопил: «надо, говорит, Собачакин, в срок металлофермы сдать. Их на укрепрайоне ждут, скоро машина за ними будет. Быстрее, понимаешь, надо, уважаемый». Понял? Уважаемый! А ты — бросай… немцы!
Собачакин превратил пальцы в кулак.
— Да мне эти немцы тьфу, я их на Луге, как тараканов, давил мозолистой рукой.
— Как же товарищ управхоз собирается эти железяки отсюда вытаскивать? — спросил Костя. — Вы ж их в одну посваривали. Теперь ни в какую дверь не пройти.
Костя прав. Я внимательно присмотрелся к подозрительной пирамиде. Сие удивительное творение питерских левшей не то, что в двери не влезет — его вообще нельзя оторвать от пола, ввиду нескольких заколоченных в бетон штырей. К ним и была приварена пирамида двойным швом. А в середине зачем-то выбили стяжку идеально ровным кругом, прямо до грунта. Тут же валялись выбитые куски бетона, один из которых повалил табурет с доминошными костями. «Дупель шесть» упал в середину ямки и одиноко белел там.
— Ай, начальство знает, — махнул рукой Собачакин и опять стал вытираться.
А я, чем больше смотрел на пирамиду и ее ваятелей, тем меньше мне все это нравилось. Уж больно похожа была арматурная вязь на проекционную пентаграмму, из-за которой пришлось взорвать церковь на Аптекарском острове.
И еще меня сомнение взяло: чего они шлаком сварным дышат? Компрессор ведь есть — маленький пыльный агрегат с «тысячным» движком стоял рядом. Чтобы отыскать кнопку, мне пришлось нагнуться к мотору, а Сарафанов взялся устанавливать принадлежность рабочих к учреждениям трудового фронта.
— На каком основании вы проводите несанкционированные МПВО огневые работы? — заскрипел его голос. — Где разрешение?
— Так ведь Дрейцер… — потеряно ответил Собачакин и опять взмок.
Чего он потеет все время? Глазки бегают. Может, они подкоп тут замыслили в магазин напротив?
Михей стребовал документы и потный слесарь начал рыться в куче спецовок, рукавиц и штанов.
— И ваши, — сказал я сварному.
Парень усмехнулся, ворочая пальцами в нагрудном клапане.
— Здесь наряд и пропуск, — он отдал Волхову корочки, а затем, сняв держак, ткнул в Костю электрическим кабелем.
Если бы Михей успел бахнуть из карабина, все вышло бы по-другому, но этот хрен Собачакин толкнул от стены арматурный хлам. Стальной центнер мигом накрыл Сарафанова. И Руис не мог стрелять — сварщик, держа тело Кости как щит, добился ближнего боя с испанцем.
Я же стоял как дурак, не зная кого выручать: машущего ножом испанца или Михея, восставшего из железной могилы. Однако проблема выбора недолго мучила. Брошенный в середину пирамиды кабель плавил землю желтым пламенем, и вскоре появилась черная тень, подрагивающая маленькими вихорьками. Сгусток тьмы, подпитываемый электрической энергией, превращался в нечто головасто-уродливое, вращающееся над кругом в полу.
По идее, надо было отключить рубильник, дающий силу черному уроду, но я быстро пнул сапогом в ободранную кнопку «пуск» и направил шланг компрессора туда, где секунду назад находилась мерзкая башка.
Не знаю, что подвигло меня. Чужак заимел в середине себя здоровенную дырищу, и, водя шлангом вправо-влево, я кромсал тьму. Там, где воздух резал вне пирамиды, куски падали на пол и червились короткими смоляными стеблями. Быстро-густая чернь, извиваясь, заклубилась туманом.
Дым прибывал, но ему не было места и получалась какая-то дикая круговерть, выплевывающая, то когтистую лапу в чешуе, то живот с глазами, то сросшиеся кабаньи морды или жуткую ногу; нога была сломана, и торчал из нее крашеный белым горбыль, там, где полагается быть кости.
Потом кривляние тьмы прекратилось, и земляной круг втянул в себя так и не сформировавшийся во что-либо дым.
А-а, сука, не нравится! Я тебе и ток обрежу!
Через секунду меня облило смрадной жижей из пирамиды. Мощный фонтан сбил с ног, и я кувыркнулся в дальний угол. А черный зверь, сконцентрировавшись, молниеносно лепил новое тело из земли. Да, это был чужак, подобный тому, что я завалил возле Пискареки — мыслящая пустота, вбирающая внутрь все, с чем сталкивается, урод из враждебного мира, где мертвая земля родит таких вот обитателей.
Я попробовал открыть глаз, отдирая жгущую дрянь с лица, и увидел, как переваливаются через границу круга черные блестящие кольца гигантской змеи. Я медленно пятился, зачарованный плавным и хищным скольжением ползущей твари. Едва коснулся спиной стены, как в молниеносном броске змея обвила мою ногу и потянула к шипящему нутру черной дыры в бетоне. Попытка уцепиться за ржавый поручень в стене изначально была дурацкой — тварь или ногу бы оторвала, или выдернула железную скобу вместе со мной.
Но что обиднее всего — забздел я.
Даже разрядник не вытащил. Только у самого земляного кратера сподобился на что-то военное — рассыпал пяток гальванических зарядов с белыми полосками.
Зажатый чавкающим объятьем, я видел смутные обрывки нелепых кошмаров, проносившихся в голове подобно грохочущим поездам. Кажется, и «помоги, Господи!» малодушным пятном легло на совесть. И захлебывающийся крик был. И не кольцо ЭФ-1 я дергал, а воротник с зашитой ампулой «Быстрая смерть». Но возле бетонного обрыва увидел я око чудовища и схватил чеку.
Это я не дам тебе жизни, тварюка. Не будешь ты жить здесь, в моем родном городе, в доме, где Левик дожидался отца с фронта. Не стремительной смертью будешь ты, а воняющим в грязи дохлым червяком. И если хоть что-то останется от тебя, то мои товарищи доведут работу до конца.
Ударил взрыв, и стало легко.
А потом, совершенно спокойно, я обнаружил себя лежащим на прежнем месте с гранатой в боевом положении. Чека блестела на мизинце.
— А-а-а! — понесся мой крик, а за ним полетела и фугаска.
Плохо полетела. Я ее и не бросил даже, а откинул двумя руками, как мерзкую жирную гусеницу, — прямо в бездну. Фугаска ударилась о кромку этой бездны и скатилась вниз. Разорвавшись через пять секунд, сожрала весь воздух вокруг себя, обращаясь в ничто. И стремившееся в наш мир зло влетело в это ничто, мгновенно превратившись в вакуум, плотно запечатавший найденное разведчиками ада «окно».
А до этого бухнул, оказывается, карабин Михея, разорвав ползучего гада в куски.
— Спасибо, друг.
— Да ладно, чего там, — отмахнулся Сарафанов, наводя карабин на сплетающееся из черных обрубков змеиное кубло.
— Опять лезет!
КАСКАД расплавил шевелящихся гадов кислотным патроном. Теперь все. Ежели ОРВЕР не смог принять новый облик, то уже не боец, так — дрянь мелкая. Как я его… воздухом!
— Слушай, а где Волхов? Руис?
Михей осмотрелся вокруг и, кинув десяток рабочих спецовок на цементные мешки, присел с видимым удовольствием.
— Эй, мучачо, где ты?
Слабый голос, больше напоминающий отвратительную по выговору брань, зашелестел невдалеке.
— La mazmorra del diablo, проклятый колдун чуть не убил меня.
Михей, скрестив ноги на трупе Собачакина, резвился:
— Какой нехороший колдун! Задумал убить товарища Руиса Хименеса.
— Коста мертвый. — Испанец еще два раза переставил подгибающиеся ноги и словно мягкая кукла привалился к стене.
— Что?!
Сарафанов метнулся в темень, я за ним, но внезапно спружинивший Руис бросился наперерез.
— Не велеть, не взять! — хрипел испанец, отталкивая нас, потому что после установления факта смерти в бою с чужаком, к ОСКОЛовцу могли подойти лишь штрафники-похоронщики.
— Иди к черту! — рвался Михей и, не совладав с рослым испанцем, в бессилии ударил железную дверцу шкафчика. Я скрипел зубами, переживая вскипевшую боль несправедливой утраты.
Руис следил исподлобья за каждым нашим движением.
Потихоньку отпустило, и мы стали готовить к утилизации трупы. Фиксаторовне оказалось и пришлось обматывать тела Собачакина и адского сварщика изолентой. Накладывая крест под коленями, немного успокоившийся Сарафанов сказал мне:
— Гляди, чтоб клеилась, а то интенданты срок годности всегда на два множат.
Когда трупы запеленали, я отправил ребят на воздух. У выхода Руис обернулся:
— Может, я останусь, командир?
— Иди-иди, не спотыкайся. У меня нога что-то… Посижу здесь.
Испанец ушел, а я поудобней умостился возле подвального оконца. С лодыжкой было и вправду не очень. Погань, кроме того что суставы чуть не вырвала, так еще и мясо кое-где обтянула черной пленкой вместо кожи. Весь почти санкомплект потратил: и калиевый раствор, и вонючий пластырь, и центамин, и полную банку ультрамагнезии. Надо еще соль втереть на профилактику. Звякая угнетающим никелем шприца, я вдруг почувствовал, как мелко задрожал воздух…
Вот, значит, какой он!
На старых гравюрах Хога изображают патлатым зверем с клювом, острым и длинным. А на деле это и не клюв — хобот какой-то висит вместо носа.
Хог раскачивался на длинной ножке, цепляясь за край пирамиды. А мне как-то впополаме: сижу, радуюсь. Страха вообще никакого, только магнезия булькает, хотя знаю, что рядом путь в могилу. Не превратился чужак в замкнутое поле энергии, которое кельты прозвали баньшей. Не добрал силы варяг, которая делает его круче любого призрака и теперь он злой и маленький, как вонючий зверь скунс, имеющий три полоски на брюхе. Вот все, что осталось, — недоношенный отросток со злобными глазками.
А оружие далеко. Понимаешь только в подобных ситуациях, что все инструкции писаны кровью. Пропечатано ведь на первой странице крупными буквами для тупых: ОРУЖИЕ НАГОТОВЕ, ПОКА НЕ СДАН ТРУП ЧУЖАКА.
Ну, какого лешего надо было совать разрядник в гармошку батареи?! Думал, чтоб не потерялся, думал — неудобно с ним за пазухой. Хлебай теперь. Сейчас эта жертва аборта добавит удовольствий.
Блестящая рукоять почти рядом, в двух шагах, вот только сделать эти два шага я не мог. Во-первых, раздулась нога, а во-вторых — сильно потратился на отдых. Ничто не могло сейчас заполнить мягкую пустоту внутри. Казалось, воздух настолько тяжел, что пальцем не ворохнуть. А подлая близость оружия рассыпала бессильную злость. Проклиная неистребимую свою проклятую забывчивость, я цапнул-таки ветра в аршине от разрядника.
Батарея отопления наверняка делалась из меди. Голова зацепила самый ее край, но столь мощно, что раздавшийся вслед за боданием металла звон подкинул волосатого уродца в углу. Хог подпрыгнул, оторвавшись от грешной земли, а через секунду его обрубок корчился в солевом потоке, извергаемым засунутым с улицы шлангом. Василий, скачав остаток рассола мне на голову, заглянул в подвал и подмигнул, стряхивая капли со шланга.
— Ждете? Так мы закончили! Можете приступать к зачистке.
Глава 17 Астра. Июнь 1941-го
В середине июня сорок первого мне крупно повезло. Три месяца мы сидели на артполигоне без выходных, долбя танковые чучела, обложенные для эффекта соломой. Мало того, что без выходных — увольнительные не давали. А тут вдруг на тебе: командировка, да еще в Питер.
На станции набилось несколько вагонов счастливчиков-отпускников. Радости было через край, и я на совесть «приложился к первоисточнику» вместе с соседями — шумным капитаном-танкистом и молоденьким флотским лейтенантом. Третий сосед, бомбардир-авиатор имел, паразит, фляжку чистейшего спирта, уложившего всех нас наповал, и в город я уже не помню, как приехал. Помню только, что по вокзалу шли плотной массой, держа внутри колонны тех, кто мог привлечь внимание патруля.
Последний раз дома я был зимой и теперь спешил в родные пенаты. После омовения, дуя ленинградское пиво, я почему-то вспомнил, как перед самой отправкой на действительную, подловил чистенького и свеженького Тимкина и погнал гадюку зуавским бегом к мусорному ящику. А потом вогнал его наполовину в мусорку. Помнится, еще хотелось завершить сей акт подходящим каким-нибудь словом, но из ящика виднелась только нижняя часть педагога, и торжественная речь не состоялась — что ему, в жопу, что ли, кричать. Двинул сапогом, короче, и пообещал сломать руку, буде что с моей принцессой. Тимкин, видимо, осознал и проникся. Во всяком случае, Ветка писала, что никаких действий не предпринималось более, а под новый год его вообще перевели куда-то в «ремеслуху»[62] по оргнабору.
В опустевшей жилплощади радио захлебывалось чем-то спортивным и под медную фальшь труб я готовился предстать пред «светлые очи».
Уже заглядывало солнце в окно, напоминая, что пора идти. Уже запакована была и перевязана ленточкой коробка, еще весной приобретенная в последнем частном магазине Вильнюса. Уже томился в прихожей разноцветный букет, купленный по пути из бани, в магазине на Пестеля. Уже начищен был сапожный хром, и пуговицы на кителе пускали солнечных зайцев. А я все никак не мог решиться.
Та короткая встреча, полная красок и ярких надежд, выцвела — мне случилось в командировке быть одну ночь в Ленинграде, и половину этой ночи я просидел на скамейке в ее дворе. Сидел и курил, глядя на осколок месяца. Принцесса появилась неожиданно, села рядом и прижалась лицом к моей руке…
Теперь же снова развело душу сомнение: так ли я поступаю, и палитра бытия свернулась в одну серую точку на горизонте, колеблющуюся между двумя полюсами. Идти — не идти.
Круги по комнате сужались, пока не вывели меня к зеркалу с отрывным календарем на железной раме.
Календарь не поведал ничего, кроме того факта, что день сегодня — пятница, июня — двадцатого, года пролетарской революции — двадцать четвертого. А зеркало ухмыльнулось момент-снимком угрюмого мужика в военной форме, бледного и неуверенного. В подобных случаях надо сделать безоглядный рывок, а дальше все идет само собой.
Рывок — и я, молодой и красивый, иду с букетом по набережной.
Рывок — и я уже на Охте.
Еще рывок — и я около ее дома.
А потом, не останавливаясь, разбег на три этажа и моя рука тиснет на кнопку звонка под табличкой: «Далматову 2 раза».
Дверь открыла всклокоченная голова, распираемая безудержным весельем. Она прошлась по мне малопонимающим взором, а затем прыснула:
— Ж-жених! — Притворно испугавшись, голова округлила глаза и прижала к губам палец. — Т-с-с!
Затем появился молодой человек с инженерским значком и стал забирать весельчака-конспиратора.
— Вы к кому? — спросил инженер.
— Я? Я к Астре.
— Понимаете… у нее сейчас небольшое торжество, поэтому…
У давешней головы оказались еще и руки, обнявшие молодого человека. Руки наклонили его ближе к голове, и эти двое стали шептаться.
— Вы Андрей, да? — парень сконфуженно потер затылок. — Проходите.
Инженер оказался двоюродным братом принцессы, а голова — ее дядей, который так отвязался, что стал искать Василия Ипполитовича, изначально отсутствующего среди гостей. Инженер одной рукой подталкивал весельчака, другой тянул меня за собой, маневрируя между столом и буфетом. Сидевшие гости начали кидать взгляды в мою сторону, так что вскоре установилось в комнате здоровое любопытствующее молчание.
— Ну что, Астра, знакомь народ со своим гостем, — откинулся на спинку кресла отец Астры, веселый мужик в косоворотке.
Астра вскочила, опрокинув пару бутылок на праздничном столе.
— Это Андрей Антонович, мой… — «общество» затихло, предвкушая определение. — Это мой Андрей.
Стало ясно, что для большинства присутствующих мое существование было секретом на полсвета. Положенное в таких случаях молчание продлилось недолго. Шумные выкрики посыпались с разных концов стола, чтобы осесть вполне заметным гулом, одобрительным в устах одних участников застолья и настороженно-недовольным в других.
Большинство гостей состояло из теток простецкого вида и такого возраста, что еще не трут косточки жильцам на скамейке, но уже примеряются к местам в дворовом трибунале. Они шарили глазами, вполголоса переговариваясь между собой. Враждебность источал тот край, где вертелся жидкий субъект в шерстяном жакетике. Что-то веселое припадало на ум пареньку — он то и дело рассыпался ядовитым смешком на ухо соседу.
После торжественного вручения цветов и подарков к окончанию школы, принцесса утащила меня в свою комнату. А жакетный юноша увязался вслед. Причем говорил исключительно он с принцессой, словно боялся испачкаться общением с таким неромантичным собеседником, как я.
— Астра, я не успел вам рассказать про тот случай с динамовским тренером…
Юноша небрежно перелистывал подвернувшуюся книгу с полки, давая мне почувствовать огромную разницу между образованным молодым человеком и кирзовым нахалом, так ненужно свалившимся на голову. Но я таких деятелей на дух не переносил, поэтому сказал, усмехаясь:
— Мальчик, закрой книжку, там картинок нет.
Куража над слабыми не люблю и не допускаю. Но этот не был «очкариком». За внешней интеллигентной одухотворенностью скрывалось острое жало беспощадного индивида, с глазами, работающими на отыск слабины. Зыркнув буравчиками, юноша сказал, обращаясь по-прежнему исключительно к принцессе:
— Думаю, скоро мы продолжим разговор.
— Что это за перец? — кивнул я вслед его спине.
— Смальтов, — поморщилась снегурочка. — Дядькина жена его зачем-то притащила.
Она стала у окна и смотрела на меня, как на упавшее вдруг счастье, ожидаемое лишь к новому году и поэтому встреченное без должной подготовки. Наконец Астра, как маленькая девчушка, убедилась, что я это я, что я здесь и никуда не убегу через пять минут, а цветы, коробочка с бантом и духи — все ей, по-настоящему. Да уже и не девчушка, а чудесная девушка, красавица-бабочка, наполовину еще притворенная, будто коконом, школьной формой.
— Вы приехали ко мне, Андрей Антонович? Я теперь вас не отпущу!
Астра подошла совсем близко, глядя снизу вверх.
— Завтра у меня выпускной, а потом я уеду с вами.
Я поднял ее и закружил по комнате.
— Уедешь, принцесса, но только на следующий год.
— Почему?
— Тебе исполнится восемнадцать, мы запишемся в ЗАГСе, и ты поедешь со мной.
— Э нет, — принцесса, зажатая в моих объятьях, смеялась уже сверху вниз. — Никаких завтра или потом, только сейчас!
— А ну, марш обратно! — заглянула в комнату старушка, разбив нашу гимнастическую пирамиду. — Астра! Сама убежала и гостя увела!
Среди праздничного люда, обосновавшегося в большой комнате, несколько раз я столкнулся с молодой синеглазой женщиной, которую все называли Настей. Приняв ее за недальнюю родственницу, и я обращался к ней с просьбами типа: «Настя, хлебушка», «Настя, куда пристроить этот графинчик» и тому подобное. И даже исполнил в ее адрес несколько движений кавалерственного толка, пока не остановлены были мои изгибы вопросом снегурочки: «Мам, ты не видела, куда я трешку положила — надо за водой ягодной сбегать».
Сладких водичек не обнаружилось у толстой продавщицы, и, купив несколько бутылок колючего «Арзни» в ларьке «Кавминразлива», мы вернулись к дому. На темной лестнице долго целовались, вскидываясь и переступая вверх по ступенькам при заслышанном стуке в парадном. Это увлекательное восхождение прервал седой пенсионер с мусорным ведром. Старик выскочил у порога лестничного марша и свирепо блестел очками до тех пор, пока мы не укрылись за дверью. В темном коридоре я успел еще раз чмокнуть принцессу, прижав ее к себе чуть ниже дозволенного места.
— Ну что, молодежь, к бою?! — закричала бесшабашная голова, и под грохот стаканов бой с зубровкой продолжался еще несколько часов в табачном дыму.
Суббота, 21-го июня, выдалась на редкость суматошной. Кроме занятий во втором артучилище на руках у меня была куча наказов и писем от сослуживцев, две кучи пакетов и пакетиков и сумка с резиновым слоном. Потом еще закупки эти дурацкие: начпрод Багиев репяхом вис, пока не выколотил из меня обещание привезти из Питерашоколада «Золотой ярлык».
Часам к пятнадцати обе кучи стали рассасываться. Просьбы и наказы были выполнены, пакеты вручены, деньги отданы, а желтый слон был надут щекастым карапузом у меня на глазах. В доме Ленторговли я накупил продуктов себе и Багиеву, после чего отправился домой и, напустив блеску в мундир, приготовился к посещению родной школы.
Как недавние коллеги узнали о моем местонахождении в пределах городской черты — их тайна, но рано утром, когда я еще отходил от застолья, зазвонил телефон. Еле расслышав трещание звонка, я поднял трубку и бесконечно долго выслушивал радостное повизгивание, приглашающее меня на школьный выпускной почетным гостем.
— Григорич, я жутко устал. Хочу выспаться.
Восторженным визгуном оказался географ Ступицын, чей голос я узнал не сразу.
— Андрюха, не будь свиньей, мы все тебя ждем, — на этот раз четко и внятно сказал Ступицын и повесил трубку.
Пришлось идти. Не хотелось, но раз коллектив знает, что я здесь, отсутствие на празднике после приглашения будет, действительно, свинством. В принципе, мое пребывание в качестве гостя не принесет ни печали, ни радости большинству — слишком недолго пробыл я в этих стенах. Но почему нет? Тем более, явных врагов не помнится, а Тимкин не в счет. Разве что Ангелина Исидоровна, осколок прошлого мира, неизвестно какими неправдами задержавшаяся в советской школе.
И Ангелина эта Исидоровна, зловреднейшая химичка во всей Ленинградской области, больше всех расточала комплименты в адрес «доблестного офицерства». А Женя Ромашова, тайное мечтание коллег-мужчин, призналась, что впервые видит такого элегантного военного:
— Вашего брата в последнее время в такие отрепья одевают… Ты знаешь, — красавица Женя перевела дискант в контральто, — мне даже белые офицеры из кинофильмов нравятся, такие они… — И держала меня за ремень, забалтывая до смерти, пока не загремели стулья возле красной трибуны президиума. А потом загремел ставший недавно директором Дмитрий Иванович Фомичев, до раздачи аттестатов еще владелец сотни ученических душ.
— Друзья мои, — улыбался он, — вот и переступили вы порог, за которым начинается большая жизнь. Много путей перед вами, а выбрать нужно один. Да такой путь, чтоб всю жизнь идти по нему прямо. — Дмитрий Иванович отпил чего-то из графина и продолжил: — Плохо ли, хорошо ли научили мы вас — покажет время. Но я думаю, не только знания вынесете вы из этих стен. Главное — это не количество пятерок в табеле, а то — кем вы будете для нашей социалистической Родины. В меру своих сил школа старалась дать вам, ребята, знания и навыки; учила вас любить родную страну, делая из шумной ватаги первоклашек будущих строителей коммунизма. Дерзайте, применяйте знания на практике, умение в деле и ищите. Ищите свое место в жизни, в обществе созидателей.
Грохнуло третий раз, накатывая волной аплодисментов из глубины актового зала. Хорошо сказал Фомичев. Коротко и душевно. И хлопали ему тоже от сердца — с люстровой мишуры долго не спадала колеблющаяся дрожь. Директор пододвинул стопку типографски пахнущих листков с путевкой в жизнь. Ему помогала Ангелина, громко называя фамилии учеников.
Аттестаты выдавали поклассно, в перерывах между буквами выпуская нескольких ораторов. Мне достался «во вручение» родной «В».
Ребята выросли здоровыми и крепкими, а девчонки умными и красивыми. И никто не знал еще, что не сотни дорог перед ними лежат… Одна единственная, о которой сказал Фомичев, но не свободная по выбору, а подневольная для многих и обязательная для всех. Разно прошли ее мальчики и девочки. Да и мы — кто учил и приказывал идти по ней правильно — не все оказались примером. Что ж, судьба только повернула стрелку на пути, а дальше каждый выбирал сам.
Аттестаты я тоже вручал. Астре — четвертой по списку. Трясли мы за пальцы друг друга очень долго, и это сопровождалось гулом доброжелательности. А потом девчонки сломали порядок и задарили меня букетами. Я даже перецеловался со всеми, и хлопали мне очень долго. Особенно, когда принцесса приложилась губами к моей щеке. Хлопки при этом стали гуще, выкрики громче и было такое чувство, что бахнет сейчас шампанское под разгульно-веселое «горько!». Жаркий огонь полыхнул в лицо, дыхание дало сбой, за горло схватило что-то. Звуки окрестного мира еще доносились, но сознание не воспринимало их. Я видел только е е. Принцесса отвечала улыбкой и не отпускала руку, пока Зоя Мамаева не сказала:
— Далматова, освободи место идущему за тобой, — и добавила едва слышно, — еще успеешь…
Этот эпизод придал всему вечеру оттенок легкости. Смех и веселье сопровождало последующих ораторов, так что даже неулыбчивый «Рейсмус» — чертежник с красивой фамилией Хвалынский — несколько раз хохотнул весьма отчетливо, отступив от своей полированной острости. Ангелина исполнила песню собственного сочинения «Школьный сентябрь», Розалия Ефимовна рассказала еврейский анекдот, а физрук сел прямо в чашу салата, по недосмотру забытую на стуле.
Это, конечно, происходило в учительской, где стол был, хотя и небогат, зато полон приязнью. Посидев, я нашел какой-то удобный предлог и удалился, вроде как ненадолго — на банкет из моей казны вкладов не было, а трескать на халяву отучили с детства.
На балконе дымили ставшие взрослыми десятиклассники.
— Здорово, бойцы.
Табун курильщиков беспокойно завозился.
— Здрасте, привет, здравия желаем!
Большинство цигарки попрятало и, по привычке уравнивая всех, я «пригнул» одного из продолжавших курить в открытую:
— Что, Романцев, мужчиной стал?
Романцев сунул чинарик за спину и пообещал исправиться.
— Андрей Антонович, как т а м? — озвучил общий вопрос узколицый Миша Булатов, чемпион по шахматам и «морскому бою».
— Все, как и должно быть. Через год-два сами узнаете.
Поговорили, посмеялись и, когда я повернулся уходить, услышал от пацанов:
— Андрей Антоныч, Астра на школьный двор пошла.
На площадке возле турников и брусьев стояла принцесса. А рядом оттаптывал ножкой си-бемоль Смальтов, ети его в корень.
Было забавно смотреть, как юноша старательно фиксирует на лице борзость. Себе он казался вполне серьезным парнем, хотя больше походил на молодого добермана, описяного, но сохраняющего достойный вид. Даже схватил за локоть принцессу. В общем, надоел он мне. Толкнул я Смальтова под елку, а навстречу уже бегут три девушки-ботанички из группы живой природы.
— Андрей Антонович, Астра! Вас там ищут, — взревели подруги стадным басом.
— Кто?
— Директор, класс, вообще…
Толстушек за габариты и пристрастие к земноводным исследованиям называли «тритоны-три тонны». И не зря. Оля Кандаурова так гыкнула про свою находку, разве только шишки не посыпались. Чуткость не была в ее активе.
— Здесь они, — ревела Оля в мигающее окно. — Сейчас придут!
Мы с принцессой по-голубиному поцеловались и условились, что я заберу ее из дому рано утром. Была у меня задумка отдохнуть где-нибудь в лесах и озерах, чтобы снегурочка немного расслабилась после экзаменов.
Привычку к загородным пикникам командиры нашей части переняли у литовцев, как и другие буржуазные атавизмы. Например, хороший одеколон. Все-таки Прибалтика была еще немного заграницей, в трамваях которой лучше было пахнуть «Красной Москвой» на чистое тело, чем душить новообретенных братьев по Союзу «тройником».
Лето стояло в зените, погода была отличной, и хотелось поскорей побыть с Астрой наедине.
Я договорился с соседом и на его трескучем мотоцикле подкатил за два часа до назначенного времени. Мотоцикл остался под тентом пивного ларька «Красной Баварии» и я потихоньку пробрался во двор.
— Привет! — Одетая в тонкое ситцевое платье снегурочка держала в руках плетеную сумку.
— Привет! Ты чего так рано?
— Я услышала мотоцикл и подумала, что это вы. А сами чего так рано?
— Тебя хотел увидеть побыстрей.
Она кивнула.
— Я сказала Насте, что поеду с вами на Черную.
— И что?
— Сначала не хотела пускать.
— Слушай, а почему ты ее Настей называешь?
— Не знаю. Как-то Настя и Настя. Ее так даже соседский Вовка называет, ему всего девятнадцать, а уж вы…
— А я уж старик!
— Нет, я…
Я подхватил принцессу, и она засмеялась, а строгий дворник звякнул воротами.
— Зачем смеешься, спать иди…
Я велел Астре держаться крепко, и мы помчались навстречу восходящему солнцу. Мотоцикл, плюясь облаками сизого дыма, казалось, был готов развалиться на запчасти при сильном ветре. Но старичок доставил нас в бор уже к семи утра.
Место было чудное. Овражек, лес, пляж чистого песка. И хотя глинистое течение болталось мутью, вода была теплая, особенно для наших мест, — она еще хранила ночное тепло. Мы разложились кое-как, и я мигом окунулся.
— Давай ко мне! — позвал я принцессу, все никак не решающуюся на водные процедуры. — Прыгай, а то скоро холодная будет.
Снегурочка оценила водные просторы и задумчиво согласилась.
— Быстрей переодевайся!
Вздыхая, Астра ушла в кусты. Около минуты в мастерской природы шевелились сосновые лапы, а потом зависло на них очень короткое, похожее на то, что сопутствует любому неудачному действию, слово. Хотя какая связь, к примеру, колючих ветвей с легкомысленной дамой — убей, не знаю. Шевеление прекратилось, и зеленый друг выпустил принцессу из своих лап. Треснула под ногой ветка, поползло мелкое и чешуйчатое по траве, сорока понеслась в зенит, не останавливаясь даже, чтоб обругать, и наконец объявилась Астра. Держась рукой за голову, юная купальщица осторожно передвигалась по кочкам.
— Меня шишка по голове ударила, Андрей Антонович. И еще тут колючки.
Ласковое солнце обняло стройное тело принцессы. Я подхватил ее и отнес к реке.
— Давайте поплывем вон к тому упавшему клену! — Тонкая белоснежная рука метнулась, показывая на мощную крону.
В прыжке я одолел около четверти расстояния до поваленной древесины, а дальше нырнул, остужая кипевшую кровь. Около метущих реку ветвей остановился, заплыл в них и спрятался, как премудрый пескарь. Астра вынырнула возле ствола. Вообще, плавала она здорово, я даже без поддавков отстал на обратном пути — такая она была сильная. И одновременно такая хрупкая.
Возле берега, искрясь от восторга, принцесса подняла сомкнутые ладони и окатила себя небольшим водопадом.
— А я красивая, Андрей Антонович?
— Астра, милая, ты самая красивая девушка.
— На всей Земле?
— На всей Земле.
— И во всем мире?
— И во всем мире!
— Самая-самая?
— Самая-самая… ты — принцесса!
Она засмеялась, откидывая назад волосы, и сдвинув брови, приказала:
— Тогда повелеваю вам поцеловать мне руку.
— Слушаюсь и повинуюсь.
— А теперь прошу к столу.
На широком белом полотенце были выложены аппетитнейшего вида яства.
— А мне? — Принцесса обиженно протянула стакан, глядя на вино.
— Ты, Астра, распущенная девица — свидание, попытка соблазнения и теперь еще алкоголизм. Надо крепко заняться твоим воспитанием.
Она рассмеялась и начала кормить меня с ложечки:
— А-ам! За папу! За маму! За Астру!
Я охотно помогал, минут за десять расправившись с запасами. Дюжина крошек, пустые банки, шкурки съеденной колбасы и выеденная склянка соуса-сои «Восток», без капли этого самого Востока.
— Я, наверное, тебя не прокормлю, — делано загрустила Астра.
Низко склонившись, я прикоснулся к ее губам, и мы поцеловались. Таких прекрасных мгновений в жизни — единицы. Да еще и не всякий имеет помазание, чтобы их получить.
Вспоминая потом день на реке, приходили иногда из окраин памяти все бывшие д о нее. Их немного было, этих «до». Люда, Лена, Татьяна, Люда, Евгения Николаевна, Ольга и Варя — обычный путь двадцатипятилетнего мужика без особых затей и ходок. В каждой из них было что-то хорошее и что-то дурное, и я каждый раз менялся на пути от одной к другой. В принципе, все нормальные девчонки и еще две без имени. У проституток нет имен, кому придет в голову дать имя тому же унитазу, будь он хоть золотым. Да и разница между банальным деревенским «очком» и сверкающим фаянсом чисто эмоциональная. Так что, имя у десятирублевой «садовопарковой» и той породистой кобылы, что делала мне отсос на день Красной Армии одно — большая буква «М» на двери нужника. И хотя эта белокудрая шлюха творила такое, что после мне кто-то уступил место в трамвае, ничто не стоило одного единственного, неискушенного поцелуя снегурочки.
Только-только заглянувшая за дверь сладкой тайны девочка пришла в себя не сразу. Открылись ее глаза и долго смотрели в облака. Что ей там открывалось? Не знаю. Да и кто может знать, какие миры они видят.
— Я будто в небе купалась. Это всегда так?
— Не знаю, принцесса. Но сделаю все, чтобы для тебя это было так всегда.
Она внимательно посмотрела на меня.
— Признавайся!
— В чем?
— Во всем! Ты часто здесь бываешь?
Нехитрая эта хитрость заставила меня сжать ее ладони руками.
— Это только мое место, понимаешь? Было. А теперь оно для нас двоих.
Место замечательное. Легкое, красивое и тихое, где можно побыть вдали от большого люда. Хотя уже год, как я вижу этот большой люд только по праздникам, но все равно тишины не хватает порой. А здесь непревзойденная тишина и покоя в избытке. Правда, вниз по реке торчит неизменный рыбак в лодке, а кусты вдоль тропинки едва заметно шевелятся.
— Пойду, гляну, кто там топчется.
На полянке были трое. Один присел рядом с мотоциклом, стуча по номеру пальцем и оглядываясь на хмыря в «полубоксе», видимо, главного в их компании. Хмырь клевал узким подбородком, а третий — быковатый хлопец со сросшимися бровями — жал резиновое кольцо. Он то и увидел меня первым. Эспандер щелкнул, и все трое подняли глаза в мою сторону.
Тот, кто гладил номер, вихлясто распрямился, выплевывая блатнячковую грязь:
— Ну че, пацан, еб…ся помаленьку?
— Отойди от машины, клоун.
«Полубокс» красиво цыкнул длинной слюной, перед тем как поджечь папиросу.
— Ты давай, линяй отсюда, — осклабился хмырь, — а девочку мы экспроприируем на время.
Вихлястый противно засмеялся на слова атамана, и я тут же ткнул ему в морду сухой веткой. Смех щелкнулся в визг, недомерок упал, держа руки у глаз, я сцепился с предводителем, и забыл о том, быковатом. А он, подлец, кинулся мне под ноги, чтобы атаман имел наибольший успех.
Успех был, но неполный. В спортлагере я год назад отрабатывал стрельбу в перекате, да так усиленно, что рефлекс не зачах. Как только я споткнулся о спину быковатого, мозг дал четкую команду: «на плечо с разбежкой», и атаманский башмак просвистел мимо, сантиметрах в пяти от головы. А дальше случилось нечто уж совсем неожиданное — за спиной раздался рвущийся, будто не хватало воздуха, голос Астры:
— Пошли… вон… уроды!
Принцесса держала наган обеими руками, наведя на «полубокса». Тот дернул губой, делая шаг назад:
— Опусти «волыну», детка, это тебе не за х… — полыхнул сухой выстрел, разнося вдрызг сосновую щепу над его головой.
— А-а-а! — Вихлястый, по-прежнему закрывая рукой один глаз, бросился в кусты. Он смешно перецепился через корень и упал. Быковатый кинулся в другую сторону, прячась в елках.
Забрав у принцессы револьвер, я вытаскивал из барабана стреляную гильзу и краем глаза увидел короткий замах парня с «полубоксом». В его руке мелькнул металлический шип. Длинный и острый. Резиновая ручка-балансир оставляла мне мало шансов — до «полубокса» было не больше десяти метров. Рука, заведенная для броска, распрямлялась и торопливо бежала за ней смертная тень… А потом чьё-то легкое движение будто распахнуло окно в ледяную темноту. За короткое мгновение лето обернулось зимой, тень застыла в падении и, разбившись каплями черного инея, остановила дыханье… Какое-то время всё вокруг колыхалось в морозном сне, а потом ледяная пустыня исчезла. Вернулся июнь, вернулась прохладная зелень под теплым небом. Все стало как прежде. Только «полубокс», выронивший свой шип-заточку, хватался за грудь и шлепал губами, как вытянутый из воды сом. Он пятился вглубь рощицы, неотрывно глядя на Астру. И словно разглядев что-то самое страшное в своей жизни, повалился на землю, хватаясь за голые ветки.
Что-то холодное коснулось моей руки. Принцесса дрожащими пальцами схватила цилиндрик гильзы и, забросив его далеко в реку, разрыдалась.
— Андрюш, давай переберемся куда-нибудь. Тошно здесь.
Я растерянно кивнул. Произошедшее, ворвавшись в геометрически правильный, на квадраты расчерченный мир, двоило сознание. Кто… почему… как? Мысли растекались, словно вода между пальцами. Но, цепляя в петли пуговички гимнастерки, я постепенно выкарабкивался из неуюта н е о б ъ я с н и м о г о. Привычные движения помогли загнать бытие в спасительный футляр, для верности украсив его фуражкой и покрепче затянув ремнем.
— Поехали, Ась.
Снегурочку трясло. Уткнув лицо в колени, она сидела на земле, закрыв руками голову.
— Ась…
В рощице обозначилось движение. Двое гопников тащили своего предводителя прочь; тот вис на руках, безжизненно мотая головой. Услышав их, Астра испуганно вскинула глаза:
— Поехали… Поехали, Андрей Антонович…
Я подыскал местечко невдалеке — такое же радующее глаз, но день уже был безнадежно испорчен. Что-то хлюпало и томилось в душе, пока я, старательно делая бодрый вид, кидал в снегурочку шишками или кричал далекому рыболову «хорош ли улов». Наконец Астра тоненько попросила:
— Едем?
— Едем.
Но ехать не получилось. Разламывая кусты, бьющие зелеными плетями, вышли на плес пожилой колхозник с козлиной бородкой и степенный милиционер. Дед взъерошил бороду.
— Вы кто, стало быть, будете, гражданы?
Стариковское бормотание оказалось еще гаже его, будто травленой, бороденки. Не в момент старик влез — настроение было ни к черту… Короче, послал я аксакала. «Милиция» выступила вперед.
— Документы.
Я рыкнул:
— Представься, как положено.
— Участковый уполномоченый, помкомвзвода милиции[63] Гляндин.
— Младший политрук Саблин, — протянув удостоверение, я сразу же предупредил ненужный вопрос. — Это моя родственница из Чувашии, места наши показываю.
Астра хихикнула в рукав.
Милиционер козырнув, вернул документы и спросил скорее из любопытства:
— Выстрелов не слыхали тут? Вблизи. И вообще подозрительного.
— Да слышал, вроде, в сотне метров по течению. А что, браконьеры шалят?
— Какие к едреням браконьеры! — крикнул дед. — На всю округу одна «тулка» у председателя. Да и сечет она, — колхозник негодующе махнул рукой. — Не, Борька. Я тебе говорю, что из нагана стреляли — звук сухой, как впустую кто-то дрыснул.
— А чего сыр-бор такой?
— Та нет бора никакого. Возле лекпункта[64] молодого человека обнаружили.
Из лесу кто-то вытащил и на крыльцо подкинул. На спине — следы волочения.
Внутри похолодело.
— Мертвый?
— Похоже, что труп.
— Как это — похоже?
Гляндин скривился:
— Да не пойму я… Пульса нет, дыхание не фиксируется. Но периодически он громко вскрикивает… Вот так вот…
Дед «подпрыгнул»:
— И стреляли в лесу!
Милиционер фыркнул:
— Тебе дед, как только войну объявили, всюду шпионы мерещатся.
— Ты дурак, Гляндин, хоть и фуражку носишь. Что пограничник-майор говорил на собрании? Отпустишь, говорил, железную хватку — и враг просочится во все дыры!
Участковый, промокнув потеющее лицо, отвернулся:
— Ага, в сортире у себя пойди поищи.
В этом их препирательстве, длящемся, вероятно, с начала пути, утонуло самое главное, что пустило жуткие побеги в жизнь всей страны от Белоруссии до Камчатки.
— Мужики, я не понял. Какая война?
Оба они остановились, повернулись и первым отозвался дед:
— Ну ты, Аника-воин! С немцами воюем!
Милиционер удивленно запнулся:
— Так вы что, не знаете?
— Ничего.
Козлобородый аксакал припомнил обиду:
— Куда уж им знать! Они местопримечательности досматривают, — и продолжал сволочиться, ковыряясь в ухе. — Ты, Борька, проверил бы эту… из Удмуртии.
Гляндин, вздыхая, топтался до тех пор, пока я не упер ногу в заводной рычаг.
— Товарищ политрук… Это… Оно ведь того… Оно и правда…
— Подойди сюда. Видишь?
Я протянул ему командировочное предписание с реквизитами ПрибОВО и, царапнув печать, понизил голос:
— Мне, Гляндин, на войну ехать, понял? Может, сегодня и ехать. А ты… Сообщение правительства было какое-нибудь?
— Так точно. Обращение наркоминдела Молотова к гражданам и гражданкам. Говорил, что немцы атаковали наши пограничные укрепления и бомбили города. Киев, Минск, Таллин и еще Ригу, кажется.
— А Сталин выступал?
— Нет еще. Но мы все равно — как стрельбу услышали… Колхозник Левашов проявил бдительность. — Участковый показал на рассматривающего мизинец деда.
— Ладно, старшина, бывай.
— Удачи, товарищ младший политрук!
Мотоцикл дернулся и потащил нас к выселку, окутывая сизым дымом округу.
По дороге домой я завернул на Всеволжск узнать новостей. Маленький городок походил на гудящий улей, в который сыпанули слишком много красного. По обеим сторонам шоссе оживленно толкались десятки празднично одетых граждан, кинотеатр выпускал зрителей двухчасового сеанса, торговали пивом вразнос. Военных не было. Один милиционер прохлаждался в тени чахлых насаждений около здания местных властей, да еще парочка сторожила площадь. За площадью увидели мы первые жертвы войны. В дымину готовый здоровяк лежал поперек дороги, а двое мужичков пробовали взвалить его на телегу с худыми ребрами и с такой же ребристой кобылкой в оглоблях. Не здорово у них получалось. Всеволжцы то брали его за ноги и голову, то бросали ноги, выволакивая тушу за плечи вдвоем, то наоборот, закидывали ноги, а голова мягко билась в пыль обочины. В конце концов один из доброхотов сам упал на откос.
Нового здесь ничего узнать не удалось и, миновав колонну осоавиахимовцев с транспарантом «Даешь Берлин!», я прибавил газу, направляясь к Питеру.
Первая мысль о войне была далека от положенной. Первая мысль была такая: некстати, ни к чему и не вовремя. Командировка моя простиралась аж до 25-го числа, и время до отъезда я спланировал как трехдневные качели, на которых мы с принцессой будем летать выше радуги. Теперь все эти планы коту под хвост. Теперь нужно было искать начальника группы, брать сухпай и билеты и отмечать отъезд у военного коменданта.
Осознание долга пришло уже в Ленинграде, когда увидел на Комсомольской длинную очередь у военкомата. И тут же ощутил сцепленные на моем животе руки принцессы. Как током в нерв. Сидит, вцепилась и боится. И защитить ее мне надо любой ценой. Я солдат. Меня кормили и одевали, чтоб я защищал ее, родных, страну, Ветку, с ее грабельными руками, эту вот девочку лет пяти с красным шариком.
Заглушив мотор около дома принцессы, я довел ее до квартиры.
— Ась, я вырвусь к тебе, как только смогу.
— Ты сегодня едешь?
— Не знаю.
— Завтра?
— Не знаю, жди. Если не будет вестей — на вокзал не ходи, я тебя обязательно постараюсь навестить.
— Когда?
— Не знаю, любимая, жди.
— Я люблю тебя!
— И я тебя люблю. Очень сильно люблю, принцесса.
К девяти вечера я был заведен как пружина. Веселыми были эти семь часов, только массовик-затейник, организовавший веселье, видимо, предпочитал всем другим хохмы злые — такие, что до белого накала доводят. Нервы мотались в спираль постепенно: с каждым новым адресом, который нужно было пройти, с каждым этажом зданий и с каждой «поднимитесь выше» комнатой.
Сначала караульный 2-го артучилища, где селились «прибалтийцы», отказался меня пускать. Пока то да се, пока выяснилось, что начальник распорядился не пропускать на территорию неприписной состав, пока разыскивал я нашего куратора, комиссара Никодимова, прошло два часа. Да и не нашел я никого — выходной, люди разбрелись по городу, а я болтался оторванный от остальных.
Множество адресов было посещено без всякого успеха. Военкоматовский майор на ходу развел руками. Из артуправления послали в политотдел округа, а оттуда обратно, только на этаж выше, но все равно заветную печать ставить никто не хотел. Наконец, один капитан-связист сообщил, что командировочных направляют на сборный пункт в здании ЛенБТКуКСа[65] и я помчался туда.
Ни хрена. Кроме муравейной суматохи, которой нахлебался я уже по самые челюсти, на курсах ничего не было.
В конце концов добралась-таки до мозгов мысль, что вполне можно обойтись без этого штампа. Кому он нужен! Если здесь, в тылу, человек заходится в крике от обычного вопроса (административный подполковник чуть в эпилепсию не впал, когда я спросил его, где группа агитации), то какой бардак сейчас на границе можно только представить.
Записавшись у дежурного в книге, я отправился домой. План был прост: собраться в дорогу, поспать хоть несколько часов, капнуть что-нибудь в желудок и, простившись с принцессой, ехать в неизбежное. Еще возюкая ключом в замке, я удивился, что он не проворачивается. Клац-клац. Не идет, зараза. Дернул ручку, как положено, потом ударил ногой и, когда собрался сделать еще что-нибудь взламывающее, дверь открылась сама.
— Ты долго.
Астра вытирала вымытое блюдце.
— Ты как здесь оказалась?
— Нина дала ключ.
— А дома что? Ночь уже скоро. Я тебя провожу, а то родители с ума сойдут.
— Поешь сначала.
Усталый и голодный, я опустошал стол, забыв про все на свете. Уже на заклание выводили эшелон, через несколько часов повезший меня на запад, а я самозабвенно чавкал, изредка благодарственно хрюкая снегурочке. Что было в этом обжорстве? Извиняемая самому себе бесчувственность? Неохватность произошедшего? Или молодой организм просто брал свое? Не знаю. Но не прощу себе того, что насытившись, отвалился и захрапел сразу же.
А проснулся я от телефонного звонка.
— Але, Вишневский говорит. Саблина к телефону быстро.
— Че ты орешь?! Я Саблин.
— А-а, нашелся!
Вишневский, мой сосед по комнате в училищной гостинице, кажется, был навеселе.
— Ты где пропал?
— Вас искал. В УПРАРТе[66], политотделе…
— Никуда искать не надо. Завтра, то бишь сегодня, будет машина, и всех повезут.
— Куда?
— На вокзал, там для нас эшелон будет литерный. Им заберут наших, потом летчиков из 92-й бригады, потом связистов.
Щелкнуло в ухе, и незнакомый голос предупредил:
— Номера частей и фамилии командиров не называть!
Мы с Вишневским испуганно притихли. Наконец он выдавил:
— В общем, подгребай давай.
— Понял. Буду.
Астра сидела возле двери, опираясь о стену. Только сейчас я опомнился. Амба. Через два часа мне уходить, а я дрых, как сволочь. А она сидела рядом и гладила меня — я это во сне чувствовал.
— Ась, ты, наверное, домой звякни. Или давай я, тут дело такое, что…
— Настя знает, где я.
Подойдя ближе, снегурочка положила мне руки на плечи.
— Поцелуй меня.
— Астра…
— Молчи.
— Астра, нельзя…
— Молчи, я уже все решила.
Вырвавшись и вскочив с дивана, на котором сам не знаю, как очутился, я закричал:
— Ты не понимаешь!
В ее глазах вспыхнуло белое пламя, будто в грудь толкнувшее меня к стене, и я застыл в сковывающем гипнозе — руки и ноги не двигались. Только и смог выговорить:
— Прекрати. Нельзя…
И в это время громко ударили часы, отбивавшие полночь.
Астра подняла голову.
Вся она тянулась ко мне; вся ее суть, душа, чувства и помыслы. Но тем сильнее было державшее меня «нельзя».
— Почему нельзя, Андрей?
— Это неправильно…
— Неправильно? Любовь не бывает правильной или неправильной. Она просто есть.
— Нет, Астра.
Она усмехнулась:
— Почему ж ты у меня такой, а?
— Какой еще такой?
Принцесса чуть склонила голову, глядя мне в глаза, и в этом взгляде было все: нежность, любовь, прощение и какое-то совсем взрослое понимание моей самоотреченности.
— Жил на свете рыцарь бедный… — Как только принцесса начала говорить, холодное оцепенение, державшее меня у стены, прошло.
— Ась, ну это все ненадолго. За сколько там немцев мы раздолбаем… Месяц! Ну, пусть за два. Вот представь… Я буду раненый — в госпитале, с героическим, но не смертельным ранением. А ты приходишь в самый нужный момент и спасаешь меня! Так что твой бедный Йорик…
— Рыцарь, — поправила принцесса. Она взяла из раскрытого альбома карточку и стала читать, глядя на мое фотографическое изображение. Напряженная тишина раступилась, оттеняя печальный голос снегурочки:
Жил на свете рыцарь бедный. Молчаливый и простой. С виду сумрачный и бледный, Духом смелый и прямой. Он имел одно виденье, Непостижное уму, И глубоко впечатленье В сердце врезалось ему. Возвратясь в свой замок дальный, Жил он строго заключен, Все влюбленный, все печальный, Без причастья умер он; Между тем как он кончался, Дух лукавый подоспел, Душу рыцаря сбирался Бес тащить уж в свой предел: Но пречистая сердечно Заступилась за него И впустила в царство вечно Паладина своего[67].Астра приложила фотографию к груди. Ресницы ее дрогнули, отпуская в долгий путь слезинку; пробежав свой извилистый путь, она скатилась к опущенному уголку рта— наверное, затем только, чтобы подсмотреть, как слетает с губ принцессы отчаяние души:
— Бедный, бедный рыцарь…
Глава 18 ЗОРГ
— Слушай, Руис, откуда имя такое взялось — Эрмагунд? — любопытствовал Сарафанов, разливая по чашкам наркомовскую жидкость. — По-немецки, что ли?
Хавьер, перекладывая бумаги в Костином шкафчике, извлек мышиного цвета папку и протянул ее через стол.
— Т-э-э-к, — заслюнявил пальцы Михей. — Эгунд, он же Ифрис. В скандинавской мифологии повелитель подземного огня. У финских племен — дух болотного тумана, выходящий на поверхность и нападающий на людей. Возможно, Эгунд — это скопление статичного электричества в почве, либо атмосферная воронка, забирающая воздух подобно небольшому водовороту… Так… угу-м… ага… О! Наиболее известный случай, подтвержденный свидетелями, произошел в 1822 году близ Юккалы и вызвал смятение умов. Изгнание болотного духа описано старцем Антипием в «Житиях»… А поновее ничего нет?
— Пособие читай, — сказал и потом ругнулся по-испански Руис, — и тебя, кажется, поставили пить водку. М-м-м… лить водку!
— И что, и налью. У тебя в Мордобе днем с огнем такой, а?
— В Кордобе, Михельо. Понимаешь, в Кор-до-бе!
Испанец возмущался, размахивая кожаными рукавами, но размах был чуть больше, возмущение чуть громче, а гораздо больше обычного закатывание глаз убеждало, что их владелец кричит больше из привычной необходимости. Их что-то крепкое связывало, иначе взрывной камерадос не позволил бы ухмылки в адрес милой Родины. Да и Сарафанов не стал бы ерничать. В безусловном признании Хавьера как храбреца и умелого воина была изрядная доля уважения к его стране.
Испанская республика стала первой ласточкой грядущего коммунизма в Европе и, когда империалисты развязали там войну, я вместе со многими товарищами подал заявление универовскому военпреду с просьбой отправить меня на борьбу с контрреволюцией. Мы все ненавидели генералов Франко и Мола, подлых марокканских стрелков, а возвращавшиеся оттуда наши летчики и танкисты казались девчонкам недосягаемыми богами в сверкании рубиновой эмалиорденов. В те годы далекая Иберия, прежде никак с Россией не связанная, стала нам близкой и братской по духу, и как родных приняли мы детей испанских коммунистов после падения республики. Дети выросли и встали на защиту своей второй отчизны.
Было интересно смотреть на лейтенанта Руиса в том плане, что потомок грандов, чей далекий предок завоевывал Америку с Кортесом, сидит здесь, граненый стакан возле него и ругается потомок Донкихота с Михеем за какую-то по-жлобски утаенную инструкцию по защите от дурного глаза. Мелькнуло как бы воспоминание о будущем, где на берегах Сены поют с нашими танкистами французы под сорокаградусную, индийские партизаны вшивают в чалму красную ленточку, а где-то в Африке стучит школьным мелом русская учительница, выводя кирилицей под портретом Сталина: «Дагомея — …цатая республика ВЕЛИКОГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА». А еще лет десять спустя, сидит товарищ Руис в каком-нибудь Мендосском райкоме и получает втык за срыв поставок апельсинов народному хозяйству…
— Ну вот, готово, теперь только попа дождаться! — Сарафанов протер невидимую пыль на стаканах и вдруг, устыдившись неумеренной готовности приступить к поминкам, отошел к деревянной полке с тетрадками.
— Андрей Антонович, ты у нас грамотный, подойди, глянь, что здесь.
Я подошел к Михею, затем присоединился испанец, и мы втроем стали глядеть в чудную математическую вязь. Тетрадей насчитывалосьпять. Все они, заполненные мелким Костиным почерком, посвящались какому-то из разделов физики. Какому — я точно сказать не мог: формулы, схемы, рисунки, опять формулы. Немногочисленные тарабарские фразы: буквы знакомые, но о чем письмо — тайна египетской гробницы.
Речь шла о движении субатомных частиц в магнитном потоке. Записи отделялись друг от друга либо числом, либо восклицательным знаком. Иногда через весь лист шла надпись красным: «радиодиапазон», «световой передатчик», «основное — избыточность концентрации» и тому подобное. На одной страничке было выведено: «Сталин — почетный академик. Браво!». Вырывать ее я не стал — что Косте теперь…
Тетрадь заканчивалась словами: «Ивич дурак. Гаринский гиперболоид возможен, если подобрать активатор».
— Голова была, — вздохнул Сарафанов. — Прямо тебе чистый Бланк!
— Планк, — поправил Руис.
— Ну, не знаю: Бланк, Планк… Я в институтах с колоннами не учился. Нету в деревнях институтов.
Испанец возразил:
— В советской стране каждый трудящийся может получить высшую ступень образования.
— Ага, может. Если эдак лет с двух по асфальту ходит. Топ-топ в ясли, топ-топ в школу, топ-топ в ВУЗ. А я с малолетства то с топором в лес, то в поле за мерином. Да ладно, я не жалею ни о чем, — махнул Михей рукой с дивана. — Вот Андрей. Сколько лет мозги сушил, и что — учил потом соплявок наравне с ускоренными выпускниками двухмесячных курсов. А ты, Руис? Три года в училище, а на войне летал всего один раз.
Хавьеру действительно не повезло — свой первый и последний боевой вылет совершил двадцать второго июня. Его «ишак» отцепился от авиаматки[68] в ста километрах от границы, и, пока немецкие зенитчики гадали, что за самолет летает над ними, влепил две фугаски прямо в скопление железнодорожных вагонов.
Топлива на обратный путь хватило, но, подлетая к своему аэродрому, он увидел развороченное поле в огне и, протянув еще километров пятьдесят, рухнул в березняк.
Когда немцы выпалили горючку, фронт ненадолго застыл, и за дело принялись военюристы. Невидимо-незаметные во время боев, они выждали и начали строить замешанные на догадках обвинения. Командиру ВВС Красной Армии Руису Хименесу досталась «умышленная порча военного имущества в виде фронтового истребителя-бомбардировщика И-16». Серьезное дело, тянущее на измену Родине.
Следователь из прокуратуры имел бумаженцию, по которой полковой аэродром был еще в наших руках, когда испанец угробил самолет. Тут еще и следователь загнул о франкистских шпионах. Добили героя. Вместо награды — свидание с прокурором.
Взбешенный Хавьер сказал, что всем этим бумагам место под хвостом наваррского осла, а следователя послал к дьяволу. Выкрутиться ему удалось, потому что немцы захватили Псков, началась неразбериха, а когда Руиса хватились, он был уже далеко.
Внезапно заговорило радио, передавали сводку: «…В районах Кущевской и Сальсканаши войска вели ожесточённые бои с численно превосходящими силами противника. Опорный бой с противником произошёл около одной воднойпереправы. Действующие на этом участке наши части истребили до 1500 гитлеровцев. На поле боя осталось несколько десятков подбитых немецких танков. Не менее ожесточённые бои шли в районе Сальска. Гитлеровцы предприняли несколько танковых атак и ценой больших потерь потеснили наши части…»
Сарафанов зло дополнил Левитана:
— В центре Ленинграда частями спецкомендатуры ликвидирован крупный вражеский прорыв. Наши части несут потери…
Он, вскочив с дивана, подошел к окну.
— Да где этот протопоп шляется?! Я, можно сказать, с ног валюсь, а их преосвященство изволят задерживаться.
Между тем, батюшкино запаздывание начинало действовать уже всем на нервы.
— Он, может, на входе стоит, — предположил Руис, поглядывая на золотые часы-браслет.
— Твою мать! Я ж пропуск отнести забыл.
Сарафанов умчался и вскоре доставил отца Ферафонта, облаченного ввиду предстоящих мирских сует в цивильный костюм. Крест он заправил под рубаху, а его место заняла медаль «За боевые заслуги».
— Это где ж вы так расстарались батюшка?
Отец Ферафонт любовно огладил серебряный круг и молвил в бороду:
— На реке Усть-Ижоре ратоборствовал в народном ополчении.
Н-да, лихой поп. И личность его в этой бороде как есть разбойничья. Такие попы заправляли в кулацких бандах, наверное.
Руис подвинул батюшке стул, а мы расселись на сымпровизированные из телефонных катушек табуреты.
— За упокой души новопреставленного воина Константина, — поднялся, размашисто крестясь, отец Ферафонт, и мы, не чокаясь, выпили.
Михей сразу же «поехал» и стал ругать некоего Виктора Фомича, отпустившего Волохова из научной группы.
— Это ж какую голову скрошили! Одних тетрадей штук пять, и все по-научному — коэффициенты, величины, функции. Нет, чтоб сидеть в белой рубахе… Полез очкарик, — и обьяснил непонимающему испанцу, — ну, очкарик, сопляк. Лопух. Усекаешь?
Руис кивнул.
— Amatore.
— Точно. Сколько этих студентов на Луге закопали — страсть.
Я хорошо знал, о чем говорит Михей. Только из университета в ополчение ушли более двух с половиной тысяч человек.
— Ну что, братцы, по второй? — поднял чарку Сарафанов. — Помянем младшего лейтенанта Костю Волхова.
Эту выпили молча, проталкивая жидкость горючими глотками.
Тяжело было принять факт Костиной смерти. Последние события походили на безостановочную карусель: только соберешься спрыгнуть, а тебя опять несет прочь от желанной земли. Наша баталия на Моховой была всего лишь эпизодом адской круговерти от Смольного до, как говорится, «самых до окраин». На Васильевском зверь был настолько могуч, что завалил концентрированный энергоэкран, а боевую группу, высланную для усмирения, играючи расшвырял по всему кварталу. Командование тогда задействовало новую технику без всякого успеха, первый бой получился комом.
Парк челюскинцев был завален горелыми тушками непонятно чего, дымились одноэтажные постройки, а за канавой пускал в землю искры убитый «язычник». Светопреставление, короче.
Я в дальнейших событиях активного участия не принимал, ввиду чуть не оторванной ноги, зато черновой работы хватило. Даже проститься с Волховым не смог по-человечески. Костю сжигали в институтском крематории, а я в это время спал возле теплой батареипод зенитную долбежку.
— Слушай, отец, а как это выходит у тебя, — приставал к Ферафонту Михей. — Дезактиватор, это ж механизм какой! Три завода его делают, а тут бац — дядя волосатый пошептал и все. Чисто, как в ванной.
— Сие промысел божий через рукоположенных слуг осуществляемый.
— Ну, а чего тогда ОН разрешает зверью гадости творить?
— А это есть попущение божие.
Михей подумал и разлил еще по одной, прислушиваясь к бульканью на дне фляжки.
— Что-то совсем я запутался, давай выпьем лучше.
Руис заурчал, жуя пахнущий давно забытым укропом огурец, и затеял диспут с уклоном в религию. Что-то о знамениях и явлениях. Про темный крест над драмтеатром, о статуях царей и о том, прорвутся ли немцы в город, если суворовский памятник все же раздолбает фугасом. Потом вспомнили старика на могиле, предсказавшего мор и голод — были об этом разговоры перед войной.
Вообще, действительно, интересно. Как поп сумел дезактивировать такой сложный рельеф? Обычно вызывали спецмашину, но в обстановке неизобилия техсредств, начальство наказало разыскать какого ни есть служителя культа (хоть раввина!), чтобы тот на месте произвел обряд очищения. И ведь был результат. Доставленный Михеем батюшка так усердно обработал кадилом нехорошее место, что поле прибора чуть белым не сияло. Я сам проверял.
Вот, значит, какая силища у них. Давили-ломали церковников, а все лезут, как гниды. Я с неприязнью поглядел на краснорожего попяру, вольготничающего за столом. Козел бородатый. Вот что бесит меня, так это их непременное стояние за углом. Чуть где, чуть что, они всегда здесь, всегда рядом со скорбными лицами и нашептывают, нашептывают, встряхивая пыльные ризы.
А водка — дрянь. Горчит и производит в желудке некие контрдансы. Гонят, сволочи, из целлюлозы в пищевом институте… Сарафанов этот… Сидит, балдеет. Какой-то он старый и морщинистый, как гриб. И еще жадный — вон, лезет в край стола, рука загребущая. А испанец в углу обосновался ногами болтать. Морда иезуитская. Говорят, у него в роду несколько поколений подряд служили в инквизиции: кто в судьях, кто в следователях. Палачи. Тебя, дружок, самого на дыбу. Или нет — лучше волосики чикнуть и на угли их в ночь, когда цветет вереск. Послушал бы я тогда его вопли.
Злость на окружающих накатывалась зубастыми волнами. Казалось, кто-то черный грызет душу. Черный и тяжелый, с длинными мохнатыми лапами. Когда я пытался стряхнуть злобный морок, эти лапы сжимали раненую ногу. Понятно, чего он добивается. Но и дружки мои хороши: один крутит блестящий цилиндрик на цепочке, а другой шепчется с обросшим, как филин, попом. Мало у нас духовных пастырей в политотделе, еще и этот. Да-к наши хоть не тягают кресты из аргентума. Неприятный металл: мягкий и жирный, как церковный воск. Крест паскудно-белый, как брюхо плотвы, и кажется, струится в нем едкая жидкость, убегая затем вверх по массивной цепи. Не то, что на шею повесить, в руки не взял бы! А этот, иш, мнет пальцами.
Испанец переместился из облюбованного им угла опять к столу, выстраивая в линию нестерпимо блестящую посуду.
— От это я одобряю, — повернулся Михей на жуткое бульканье. — А то, понимаешь…
— Что ты понимаешь, — обрезал я. — Как водку жрать и палить из карабина?!
— Ты чего, командир?
— Я тебе не «чего», понял?! Конь долбанный.
Сарафанов дернул противно-белесыми ресницами.
— Старлей…
— Пасть закрой!
Я подхватил стакан, чтобы выплеснуть водку в ненавистную харю, но разлил, кидая тяжелые капли на стол. Стакан дрожал в побелевших пальцах. Испанец стал между мной и Михеем.
— Мировую, мировую, — поддержал поп Ферафонт, хлопая, как дурак в погремушку.
— Я пить не буду.
— Надо пить, maldita sea[69], — испанец вглядывался в мое лицо, и я понял, что он может заподозрить…
— Ладно. По последней и спать.
Под его давящим оком я влил в себя мерзкую жидкость. Еще ни разу водка не была столь невыносимой — как репейники глотал, и ползли на подбородок вонючие капли. А затем будто кинули мне в живот цементный мешок. Мешок был тяжелый, намоченный дождем и шевелился, давя острыми углами кишки.
— Держи его! Держи. Ноги!
Михей, зажимая мне голову, получил отравленный фонтан, бьющий из внутренностей.
— На живот давай!
Перевернув мое тело, испанец нажал сверху, выдавливая остатки.
— Ты как, старлей?
— Не знаю…
В животе стало полегче, но вдруг невыносимо зачесалась нога в том месте, где рвал ее убитый чужак. Добравшись через кирзач и порванное галифе к зудящей коже, я погрузил в рану пальцы. Чесал, ощущая липкую кровь и смахивая на пол мясные кусочки красновато-зеленого цвета. Чесал долго и яростно, пока Ферафонт не склонился посмотреть «что там такое», задев крестом увеченную ногу. Оранжевые звезды разбежались и прилипли к пустоте черной неяви, которая завернула меня в свое покрывало…
Через пелену в глазах я увидел Михея с дымящимся этээром. Испанец для чего-то упал на колени и нес чушь, выставив сложенные впереди себя руки. Чушь была на латыни. А из вороха шинелей торчали сапоги отца Ферафонта, указывая на уверенную нестойкость к спиртному.
Что тут за хренотень происходит? Напились и подрались? Похоже на то. Все болит, и голова — чугун.
— Вы чё, мужики?
Руис подскочил, закрывая лицо ладонью, серебряное распятие он держал на отлете, водя им по воздуху. Только закончив эти малопонятные движения, он близко наклонился.
— Молчи, Андре, ты ЗОРГ.
Странно, однако, видя, что он орет почти во весь голос, я, тем не менее, едва слышал испанца. Скорее по интонации, да еще по страшным, словно с иконы, глазам, я понял, о чем он говорит. Все другие звуки — крик ветра, птичьи вопли, дребезжание бесконечного стекла в шкафу или мягкий бег пыли — доносились даже чересчур громко. Более-менее голос Руиса был понятен, зато Сарафанов, о чем-то горячо втолковывающий и машущий руками, показался мне беззвучно квакающей жабой.
Прошла боль. Неужели исчез давящий ком в животе? Как бы не так! Рот снова переполняла черная жидкая грязь, в ноге закопошились сотни колючек. Монотонная дробь в голове заслонила все другие звуки, умолкая на короткий срок от эфадиновогошприца, дающего короткий, словно взмах утопленника, проблеск живой мысли.
— Командир, держись! Прошу тебя, держись.
Испанец ломал вторую ампулу, а Михей казнился, крича и подтягивая жгут:
— Блокаду надо, Андрюха, сразу надо было… эх!
— Да кололся я. Все лекарства извел.
Говорить было трудно. Слова приходилось выуживать, как из грязи, очищая от налипшего мусора.
— Держись, командир, — повторил испанец и показал три пальца на руке. — Вспомни, что тебе дорого и держись за это…
Хавьер держал носилки, ускользая в синее небо, но все еще стараясь вытащить меня из холодного омута. «Сomandante no vayas allí![70]», — кричал он шепотом, и, цепляя скользкие грани колодца, я гадал, что значат эти слова.
Ты — ЗОРГ, кричал мне испанец.
Ты — ЗОРГ, сказал мне седой врач в зеленом халате.
Я — ЗОРГ, зараженный организм, захлебывался в сыром ужасе мозг, и мутнело зеркало с моим лицом в дрожащих руках медсестры. Хотелось спрятаться от судьбы, вернее, от неизбежной предопределенности событий, наступающих после некоего действа. И если до этого действа ты сам выбираешь путь (пусть чуть вправо или чуть влево на поле атаки), дальше выбора нет.
Даже на войне человек, если не кузнец, то в какой-то мере подручный в кузнице своего счастья. Даже в любви можно уйти от всего на край света, а с Астрой — и за край света.
Но здесь, на этом ложе, беги хоть в космос — толку не будет. Потому что ЗОРГ в тебе, потому что ты и есть ЗОРГ. Это как гусарская рулетка, только в барабан забиты все шесть патронов.
А может быть, повезет и удастся отвертеться от хватки зверя, до конца дней пуская слюни в одном из дурдомовских казематов на Пряжке? Но скорее всего, я превращусь в нежить, только по оболочке похожую на человека. А то и вовсе в какое-то чудище.
Маленькая часть, пылинка, атом чужака, пробил стенку из лекарств и попал в мозг. Какую адскую работу он там сделал? Что готовит из меня проклятая спора?..
Не хочется. До смертного ужаса не хочется быть тварью из ЭТИХ. Только одна мысль о такой участи бьет острой иглой через тело, выжимая литры воды.
И другая мысль, очень тихая, но печально-беспрерывная — жить хочу, хочу жить, хочу жить, хочу жить. Пускай даже зверем, но жить!
А дороги нет. Как только лечащий врач Военно-врачебной инспекции поставит диагноз «несовместим с человеческой личностью», сразу меня шлепнут или отправят в «зверинец» ВИЗОРа.
Я боролся, но все слабее, — заряд эфадинатаял, жадно впитываемый испуганными нейронами.
Кто-то склонился надо мной, и в искаженном фокусе проявилось заботливое лицо Михея.
— Ты как, Антоныч?
— Не очень.
— Хуже бывало, ты главное — не кисни. И вот еще… Коновалы будут подписывать тебя на «восстановление», не иди, пусть в анабиоз отправляют. А то, сам знаешь.
Да уж, знаю — «Установка Интенсивного Восстановления» не предусматривает иных вариантов, кроме «успешного лечения» либо «летального исхода».
— Андрюха, подумай! Отправят в хранилище изолятора до лучших времен, так хоть жив останешься!
— Нет, Михей, не хочу я там, как брюква, на складе лежать. А ты сам бы, что выбрал? А Руис, а другие? Дай лучше зеркало.
Михей поднес к моему лицу карманное зеркальце и, пытаясь улыбнуться, выдавил слова популярного куплета:
— Ты, моряк, красивый сам собою…
Никакого моряка я не увидел в мутной глади. Мелькнули только белки глаз и дикие зрачки. А потом побежали серебристые змейки, и зеркало покрылось сетью мелких трещин.
— Иди, Михей Степаныч, даст бог, свидимся.
Он что-то хотел возразить, но в палату ворвалась куча людей в белом, сопровождаемая ревом доктора:
— Вон отсюда! В-о-о-н!
Не доходя до койки метра четыре, белый отряд выпустил вперед вожака и остановился полукольцом, обнюхивая мое лежбище. Атаман умял бороду в кулак и обратился ко мне:
— Ну что, братец? Надо бороться.
Они проделали какие-то замеры, покачали блестящим маятником перед глазами, дохляк в очках ударил по ноге резиновой кувалдой и сразу же испугано отскочил. А потом, когда экскурсанты вдоволь насмотрелись на ЗОРГа, седой прогнал их и сказал, грузно опираясь на спинку кровати:
— Этот проныра Сарафанов тебя на ВИЗОР уговаривал?
— Да.
— В общем… Загорск… или ИВО — интенсивное восстановление. Выбирай. Есть несколько минут перед…
Он велел «сестрице» проследить за капельницей и потопал к выходу, а у двери занял место охранник в костюме биозащиты, держа наперевес короткий фугасный штуцер.
Первая минута растворилась в беззвучном крике всей сущности, у которой отнял последнюю надежду человек в белом халате.
Вторая минута сыпала пепел воспоминаний о том, как я здесь очутился, и как могло бы быть так, чтоб этого не было. О том, как встретилась на жизненном пути Астра, морозной звездочкой сорвавшаяся с неба, чтобы отогреться у меня в ладонях.
Третья минута ушла на бесполезные поиски выхода из больничной клетки и тоску по элеватору в Загорске, где хранились в анабиозе тела бойцов, задетые чужаками.
А потом я с воплями отодрал инстинкт, в ужасе топтавший внутренности только от ощущения близости установки ИВО. Через толстую кирпичную стену ощущался испепеляющий жар ее пластин. Там за стеной был ад. Или как там он называется у существ, похожим на которых становлюсь я. У них тоже есть пекло и боятся они ничуть не меньше, чем люди…
— Давай… ИВО… — Жар охватил все тело, и с предельным усилием, чувствуя, что еще немного и выговорить человеческие слова не удастся, я захрипел: — Быстрей!
Медсестра потянула иглу и я почувствовал, как никелированная сталь выходит из тела. На этом стержне, связывающим меня с миром людей, держался спасительный полог, закрывающий кружеворот видений. Теперь они ворвались в брешь. Сначала живые — люди с оружием, пробирающиеся вдоль стен; истекающие водой трубы, поваленные деревья… Потом, когда начали распадаться химические цепочки лекарств, на смену пришли другие. Смутные и тягостные, они подползли незаметно, как хвост гайды, сплетающийся с волосами жертвы. Несущие зло, или просто диковинные, видения размыли реальность и я уже не понимал разницу между сном и явью. Дома, каналы, мосты… Деревья с голыми ветками, на которых вместо листков начали распускаться барабаны… Сфинкс с лицом Белой Наташи, взлетевший с Египетского моста… Сидевший на подоконнике Михей — недоверчивый, с прищуром… Полюдов… Ероха, курящий почему-то полюдовскую трубку… А потом появился тот, в инквизиторском плаще, чьи шаги в огромной пустой зале с готическим потолком отзывались в душе надеждой и болью. Он поднял капюшон и смотрел полным мрачной ненависти взглядом. И хвала Господу, что ненависть этого человека с лицом Руиса была направлена не на меня.
Ударили часы, отбивая полночь. Из тени испанца вышла фигура в бело-голубом одеянии, направляясь ко мне. Вуаль шевелил невесомый ветер и сама фигура была легкая и блаженно холодная, как музыка, сотканная из шепота зимней ночи. Тонкие пальцы погасили огонь, сжирающий мое тело; нежность и печаль смыли накипь с души и, склонившись надо мной, принцесса тихо сказала:
— Бедный мой рыцарь.
А потом глухие удары смешались с набегающими волнами света, и люди с красными символами бога-победителя сбросили меня в ад.
Примечания
1
Эренбург И. Г. — советский писатель. Во время войны его радиовыступления завоевали популярность среди населения.
(обратно)2
Жданов А. А. — советский государственный деятель, один из руководителей обороны Ленинграда.
(обратно)3
Большой Дом — разговорное название здания УНКВД Ленинградской области, на Литейном проспекте.
(обратно)4
ОРС — отдел рабочего снабжения. Организация, занимавшаяся обустройством быта советских индустриальных рабочих.
(обратно)5
Изотовская книжка — удостоверение, выдаваемое ударникам тяжелой промышленности. Названа по имени передового шахтера Никиты Изотова. Давала ряд льгот.
(обратно)6
ЖАКТ — жилищно-арендное кооперативное товарищество. В 1937 г. жилищно-арендная кооперация была ликвидирована и жилищный фонд городов передан в ведение местных Советов.
(обратно)7
ПВХО — противовоздушная и противохимическая оборона.
(обратно)8
ОборонГИЗ — Государственное издательство оборонной литературы.
(обратно)9
Ругевит — бог войны у балтийских славян.
(обратно)10
Невская Дубровка — плацдарм на левом берегу Невы, где шли ожесточенные бои в 1941-42 гг.
(обратно)11
«Скворечник» — Ленинградская психиатрическая больница № 3 имени Скворцова-Степанова.
(обратно)12
«Братская могила» — на армейском жаргоне название тяжелого бомбардировщика ТБ-3 с одиннадцатью членами экипажа. Устаревший и тихоходный, бомбардировщик становился легкой добычей немецких истребителей.
(обратно)13
ОСОАВИАХИМ — общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (1927–1948), впоследствии ДОСААФ. Военизированная организация СССР, развивавшая в том числе стрелковое и минно-подрывное дело.
(обратно)14
ГОМЗ — Государственный оптико-механический завод.
(обратно)15
Дивизион — территориальное подразделение милиции в один из довоенных периодов, соответствующее райотделу.
(обратно)16
Военизированная охрана железных дорог СССР в довоенный период.
(обратно)17
Они везде! (казахск.)
(обратно)18
Убей дьявола! (казахск.)
(обратно)19
Фельдман Б. М. — председатель ОСОАВИАХИМа до 1937 г. Расстрелян.
(обратно)20
Альгамбра — сказочный дворец, полный сокровищ.
(обратно)21
Преследуемая Фебом нимфа была превращена своим отцом в лавровое дерево, с листьями которого этот мифологический персонаж не расставался.
(обратно)22
Сиваш. В 1921 г. Красная Армия ударила по войскам Врангеля в Крыму, форсировав поздней осенью мелководный Сивашский залив.
(обратно)23
В 1921 г. несколько советских военных кораблей высадили десант в иранском порту Энзели и отбили у англичан суда, уведенные белогвардейцами.
Новобаязет — один из оплотов армянских националистов во время дашнакского восстания в 1920 г.
(обратно)24
Правый берег — окраина Ленинграда.
(обратно)25
Эмка — бытовое название легкового автомобиля ГАЗ-М1
(обратно)26
Инструкторы ОСОАВИАХИМа имели право носить униформу со знаками различия.
(обратно)27
КОП — Комитет Общественного Порядка. Добровольная общественная организация в Петрограде-Ленинграде 1920-х годов, созданная для борьбы с хулиганами и прочей мелкой преступностью. В противодействии последней, КОПовцы, многие из которых прошли войну в составе элитных «пролетарских» частей РККА, зачастую игнорировали соблюдение процессуальных формальностей.
(обратно)28
Одна из психиатрических больниц Ленинграда.
(обратно)29
Владимир Орловский — сове тский писатель-фантаст, известный в 1920-е годы.
(обратно)30
Павлов Д. Г. — Командующий Западным Особым Военным Округом (Зап. Фронт). Расстрелян за поражение в Белоруссии в начале войны.
Понеделин П. Г. — Командующий 12-й Армией в начальный период войны. Расстрелян. Обвинение о добровольной сдаче в плен не соответствует действительности.
Копец И. И. — Командующий ВВС ЗапОВО, узнав о поражении своих частей, застрелился. Сталинский сокол. В 29 лет стал генерал-лейтенантом авиации. Перед войной был начальником ВВС РККА.
Рычагов П. В. — Сталинский сокол, начальник Главного управления ВВС РККА. Расстрелян.
Смушкевич Я. В. — Сталинский сокол, один из первых дважды героев Советского Союза. Перед войной — генерал-инспектор ВВС РККА. Расстрелян.
(обратно)31
Грубая латынь. Примерно: «Я умываю руки».
(обратно)32
На Садовой улице до войны располагался отдел городского здравоохранения.
(обратно)33
И так далее (лат.).
(обратно)34
Нарукавная нашивка сотрудников госбезопасности.
(обратно)35
Черная выпушка на петлицах — деталь форменной одежды политсостава.
(обратно)36
Термин «хаки» происходит от индийского khaki — грязь, земля.
(обратно)37
Отличительный знак латвийских фашистов.
(обратно)38
Временно исполняющий должность.
(обратно)39
Одна из характерных деталей обмундирования ленинградских ополченцев.
(обратно)40
Жужжалка (арм. жаргон) — название легкого советского танка Т-40.
(обратно)41
«Льюис» — английский ручной пулемет времен Первой мировой войны. Использовался частями Народного ополчения из-за недостатка в вооружении.
(обратно)42
Цитата из популярной детской книжки А. Гайдара. Здесь — с ироническим подтекстом.
(обратно)43
Юнгштурмовка — куртка или рубашка особого покроя, популярная среди молодежи СССР 1920-30-х годов.
(обратно)44
ОР-9 — особая розыскная группа, использующая животных.
(обратно)45
Ордынцы — в/служащие отряда ОР-9 (жарг).
(обратно)46
ОРВЕР — организм, враждебный естественному разуму.
(обратно)47
Анемик — больной малокровием.
(обратно)48
Гапрон — спецматериал, не пропускающий ультразвук.
(обратно)49
Орден Отечественной войны (1-й степени). Указ о его учреждении был издан в мае 1942 г.
(обратно)50
Одно из мест первых боев дивизий ленинградского ополчения.
(обратно)51
«Прощай Родина» — 45-мм противотанковое орудие (армейский жаргон).
(обратно)52
«Особняк» — представитель особого отдела (армейский жаргон).
(обратно)53
ВИЗОР — временный изолятор-распределитель.
(обратно)54
Из стихотворения А. С. Пушкина «Клеопатра». Здесь — в изложении автора романа.
(обратно)55
Водоворот у берегов Норвегии, описанный Эдгаром Аланом По. Нарицательное название мистического водоворота вообще.
(обратно)56
Место тяжелых боев советско-финской войны (1939–1940).
(обратно)57
Амангельды Иманов. Предводитель восстания кочевых казахов в 1916 году.
(обратно)58
Гора в Монголии. Район встречного сражения между советскими и японскими бронетанковыми соединениями, в период боев на реке Халхин-Гол в 1939 г.
(обратно)59
Попик П.А. Заместитель начальника тыла Балтфлота.
(обратно)60
ОСМАГ — Особая маневренная группа. Подразделение ОСКОЛ, выполняющее функции оперативного реагирования.
(обратно)61
МЗО — Малозаметный объект. Термин, применямый к ОРВЕРам с развитой мимикрией.
(обратно)62
Ремесленное училище. Школа профессионально-технического подготовки квалифицированных рабочих в 1940-50-х годах.
(обратно)63
Специальное звание Рабоче-Крестьянской Милиции, соответствующее армейскому старшине.
(обратно)64
Лекарский пункт.
(обратно)65
Ленинградские Бронетанковые Курсы Командного состава.
(обратно)66
Управление артиллерии округа.
(обратно)67
Стихотворение А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный».
(обратно)68
…«ишак» отцепился от авиаматки… — общеупотребительное среди летчиков название самолета И-16 и многомоторный воздушный авианосец.
(обратно)69
Чёрт побери́ (исп).
(обратно)70
Командир, не уходи (исп).
(обратно)
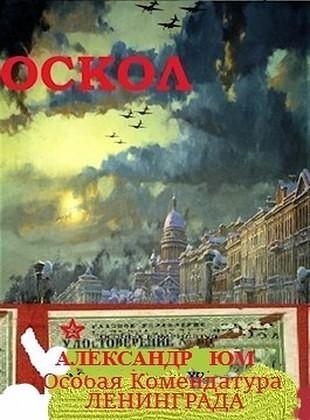


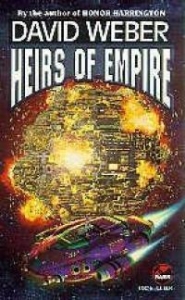
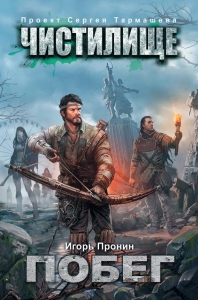




Комментарии к книге «ОСКОЛ. Особая Комендатура Ленинграда», Александр Юм
Всего 0 комментариев