ПРОЛОГ
Мир съежился до размеров крохотной полусферы, диаметром не более двадцати метров, в центре которой, под протекающем куполом, сидел рядовой Ченкаширского гренадерского полка Ее Величества Энтони Оливер. За стенками полусферы все затопила темнота, и лишь запахи, отвратительные запахи разложения, кислые и немного сладковатые, которые приносил ветер, говорили о том, что там по-прежнему еще что-то осталось, а ядовитая темнота не успела все растворить.
Энтони было до отвращения тоскливо и одиноко, будто он оказался на необитаемом острове, отрезанном от населенных земель тысячами километров океана, а его товарищи, которые спали сейчас всего-то в десятке метров от него, были не более чем фантомами. Если их тронуть рукой, то она пройдет сквозь тело, как сквозь дым, не встретив никакого сопротивления. Энтони чувствовал, что его мозгом начинало завладевать помутнение. Оно походило на голодный припадок.
Наконец рассвет выбрался из берлоги, где он прятался в течение всей ночи. Добравшись до небес, он стал стирать и без того тусклые звезды и теперь они едва проступали сквозь серую пелену, точно краски, которыми они были нарисованы, выцвели от времени. Отвратительное время суток. Веки начинают слипаться, и чтобы они окончательно не закрылись, между ними, наверное, нужно вставить палочки. Слишком холодно и зябко. Кожа покрылась мурашками и загрубела. Она стала напоминать апельсиновую корку, будто всего лишь за несколько минут ее поразил целюлит.
Вся последняя неделя была слишком жаркой. Воздух плавился, становился зыбким, словно ты оказался в комнате смеха и теперь смотришь на отражения в кривых зеркалах. Но минувшим вечером небеса прохудились. Если вначале дождь совершал лишь небольшие разведывательные набеги, то теперь он осмелел и вот уже несколько часов лил не переставая. Это походило на утонченную китайскую пытку. Она рано или поздно сводила с ума. Выдержать ее невозможно, но зато и уснуть тоже нельзя.
На дне окопа стали скапливаться лужицы. Очевидно, грунтовые воды залегали здесь неглубоко, и ребята, которые два дня назад рыли эти укрепления, не добрались до них каких-то нескольких сантиметров. Энтони положил под ноги пустой ящик из-под снарядов. Но толку от этой хитрости немного. Подошва на левом сапоге прохудилась, нога безнадежно промокла и начинала твердеть, превращаясь то ли в камень, то ли в лед. Пропитавшаяся водой шинель все еще удерживала остатки тепла, но Энтони уже давно начала колотить дрожь, и это несмотря на то, что ветер не мог пробраться в окоп, хотя и щекотал ноздри запахом разлагающейся органики. Хотелось заткнуть нос платком или зарыться лицом в сырые прохладные стенки окопа. Казалось, что сладковатый, похожий на шоколад запах въелся в одежду и кожу. Теперь его не смоешь даже мылом, так что если Энтони сбросит с себя форму и простоит под душем столько, сколько ему позволят его товарищи, он все равно будет пахнуть смертью. Чтобы избавиться от этого запаха, нужно, пожалуй, вываляться в извести.
Изредка Энтони осторожно выглядывал из-за бруствера. Густой, как кисель, туман, обрывался почти на самых подступах к окопам. Он почти затопил полосу колючей проволоки, а то, что творилось на германской территории, и вовсе не различалось.
К звуку разбивающихся о землю капель прибавилось еще и чавканье. Энтони оглянулся. К нему приближался лейтенант, одетый в непромокаемый плащ. На голову офицер набросил капюшон. Теперь его вполне можно спутать с посланником смерти, и если бы он замогильным голосом сообщил Энтони, что пришел забрать душу солдата, то тот нисколько не удивился бы этому.
Лейтенант старался ступать на пятки — так легче вытягивать из грязи сапоги. Он поддевал грязь носком, делая примерно такие же движения, что и футболист, который хочет отправить мяч вверх свечой.
— Все спокойно? — спросил офицер.
— Да, — Энтони вытянулся, отдал честь.
Челюсти свело холодом, рот плохо слушался его. Теперь он вряд ли сумел бы произнести более сложную фразу. Очень хотелось оказаться в землянке. Спрятаться под навесом от дождя. Снять мокрую шинель и прижаться к теплому боку спящего товарища, а еще, еще…
Он был среди тех, кто, узнав о начале войны, отправился бить стекла в германском посольстве, и если бы не конная полиция, то ему все-таки удалось бы пробраться внутрь здания и устроить там погром. Тогда в нем проснулась звериная ярость. Она возбуждала его так же, как и толпа, которая запрудила Трафальгарскую площадь, потому что он понял — наконец-то пришло время перемен. Он ждал их. Он хотел изменить свою жизнь, ведь кроме скучной юности и бедной старости она ничего ему не обещала. Но у Энтони сложилось слишком неправильное представление о войне, потому что она ассоциировалась с Индией, откуда ветераны сражений возвращаются в метрополию непременно богатыми, словно тех, кому не повезло и чьи кости обглодали дикие звери или высушил ветер, вовсе не существует. Он был наивен. Он верил, что флот его страны самый сильный в мире, а континентальная армия — ему под стать. Он даже предположить не мог, что германцы могут оказаться на суше настолько сильными, что их с трудом будут сдерживать объединенные силы Англии и Франции. И если тогда, в августе кто-нибудь сказал бы ему, что через семь месяцев война все еще не закончится и вместо прогулок по улицам поверженного Берлина он, как крот, будет все глубже зарываться в землю, неподалеку от какой-то французской деревушки, спасаясь от шрапнели и пуль, в лучшем случае он отлупил бы этого провидца, обозвав его предателем, а в худшем — сдал бы в полицейский участок. Беда в том, что война стала напоминать работу, на которую надо ходить изо дня в день, вставая рано утром, а если это ночная смена — то вечером, и так год за годом до пенсии.
Название деревушки Энтони запоминать не собирался, потому что вчера они останавливались возле другой, а завтра окажутся рядом с третьей. Если держать в памяти все названия, то там не останется места для более важных воспоминаний. Неожиданно в душе возникло предчувствие надвигающейся беды. Туман отступал медленно. Из него, как ребра из полуразложившегося трупа, торчали ежи, обмотанные колючей проволокой. Через час, а возможно, и чуть раньше туман рассеется, но Энтони подозревал, что у него нет этого часа. Лейтенант увидел, как напряглось лицо солдата, глаза уставились в туман, будто он хотел что-то увидеть в нем, — так мореплаватель всматривается в горизонт, надеясь разглядеть берег. Рука Энтони крепко, слишком крепко сжала винтовку, так что выступили вены, а кожа давно уже приобрела неестественно бледный оттенок.
— Что там?
— Не знаю.
Тонкий пронзительный свист впился в барабанные перепонки. Потом послышался шлепок, словно встревоженная человеческими шагами лягушка прыгнула с берега в пруд и затаилась среди тины. Снаряд погрузился в вязкую землю и застрял там, отчего-то не разорвавшись, но это был только пристрелочный выстрел. Через несколько секунд заработали германские гаубицы. Воздух заметно потеплел и наполнился стаями раздраженных шершней. Осколков стало так же много, как и капель дождя. От нескончаемых грозовых разрядов раскалывались небеса, а их кусочки сыпались и сыпались на спрятавшихся в окопах солдат. Казалось, что германцы поставили перед собой задачу — превратить английские окопы в однородную массу и теперь старательно претворяли замысел в жизнь, методично и неторопливо, как повар, который взбивает яичный белок и сахарную пудру. Впереди мелькнула тень, словно летучая мышь в темной пещере или светлячок, который ударился в освещенное окно, забарабанил по стеклу крыльями, а потом исчез. Боши будто выходили из воды, появляясь постепенно, вначале голова в каске (лицо почему-то закрыто противогазом), одновременно с головой штык, конец винтовки и чуть позже — руки и грудь. Серая шинель сливала голову и винтовку в единое целое, последними возникали ноги.
Германцы шагали покачиваясь, будто слегка пьяные, скорее всего так оно и было, и очень медленно, словно уже устали, потеряв слишком много сил, продирались сквозь туман.
Энтони принюхался. Газа он не чувствовал. Боши могли надеть противогазы, чтобы усилить психологический эффект от своего внезапного появления. Лейтенант что-то кричал, размахивал пистолетом и лихорадочно, почти не целясь, палил по приближающейся цепочке германцев, и хотя с такого расстояния промазать мог только слепой, пока никто не падал.
Энтони выстрелил в солдата, шедшего почти напротив него. Он хорошо видел, как пуля разорвала шинель на груди. Эта рана была смертельной. Но из нее не выступила кровь. Бош лишь покачнулся от толчка, а потом двинулся дальше. Энтони не слышал, чтобы германцы начали надевать какие-нибудь защитные панцири, способные остановить ружейную пулю.
Еще сонный взвод топал по грязи, расплескивая ее по стенкам окопа, и занимал оборону. Гаубицы утихли. Тем временем из тумана появилась вторая цепочка германцев, и почти сразу же обнажилась третья, потому что туман резко отступил и съежился.
— Быстро по местам, — кричал лейтенант.
Он подгонял пулеметчиков взглядом, нервно наблюдая за тем, как их дрожащие, скорее от холода, чем от страха, руки заправляют пулеметную ленту. В таких случаях обычно оказывается, что после нескольких выстрелов пулемет заедает. Лейтенант не выдержал и сказал «Огонь» раньше, чем пулеметчики приготовились к стрельбе.
Прозвучал дружный, раскатистый залп. Дождь прибил пороховой дым к земле. Все опять промахнулись. Показалась четвертая цепочка.
— Чертовщина, — зашипел лейтенант. — Вы что, стрелять разучились? Он, очевидно, забыл, что несколькими секундами ранее сам не мог ни в кого попасть.
А потом затарахтел пулемет. Этот звук был приятен. Он успокаивал и походил на утробное урчание, которое издает двигатель автомобиля или мотоцикла. Лейтенант и без бинокля прекрасно видел, что далеко не все пули уходили в молоко.
— Цельтесь в головы, — приказал он. — Похоже, у бошей под шинелями доспехи.
Энтони поймал прицелом мухообразную голову германца, отдав предпочтение левой глазнице, затаил на миг дыхание, чтобы оно не мешало стрельбе, и плавно нажал на курок. Отдача толкнула прикладом. Энтони сжал зубы. У него на плече уже образовался внушительный синяк, постепенно из синего превращавшийся в бурый. Глазница германца треснула, расплескалась пластмассовыми осколками вперемешку с кусками костей, ошметками кожи и кровью. Бош остановился, словно не понимая, что с ним случилось. Его руки выпустили винтовку. Она упала в грязь. Германец хотел потрогать разбитую глазницу, руки дернулись, поднимаясь вверх, но в это время его ноги подломились и он наконец-то повалился. На все это ушло несколько секунд. Энтони даже начинал подумывать, а не загнать ли пулю в правую глазницу боша, чтобы немного ускорить этот процесс.
Пулеметчики щедро поливали цепочку огнем. Второй номер едва успевал направлять ленту, а у наводчика, скорее всего, уже начали покрываться волдырями ладони, потому что корпус пулемета сильно нагрелся. Вода в нем начинала закипать. От пулемета потянулся столб пара, мешавший прицеливаться. Германцы даже не пытались пригнуться к земле и ни разу не залегли, чтобы спрятаться и переждать убийственный поток пуль. То ли они были так фанатичны, что смерть для них ничего не значила, то ли уверены в собственной неуязвимости, но скорее всего они просто ничего не соображали, накачавшись перед атакой шнапсом. Впрочем, в этом случае они обычно горланили песни, подбадривая себя и пряча страх.
Дождь немного охлаждал пулемет. Возможно, именно из-за этого вода в нем так пока и не выкипела, но пар мешал пулеметчикам, застилал глаза, и они долго еще не видели результатов своей стрельбы.
Пули превратили шинели в лохмотья, а тела рвали в клочья, как будто это чучела, набитые соломой, так же не чувствующие боли. А потом пулемет наконец-то замолчал. То ли заклинило, то ли он перегрелся, выяснять времени не было. Пар быстро рассеялся, и пулеметчики, к своему ужасу, увидели всего лишь в нескольких метрах впереди себя германских солдат.
Энтони поймал в прицел новую мишень, но за долю секунды до того, как он хотел уже нажать на курок, залп сделали германцы. Они стреляли, как ковбои в американских вестернах — не прицеливаясь с уровня живота, а поэтому их пули были не опасны, пройдя примерно в полуметре над окопами. Боши оказались никудышными стрелками. Видимо, у германцев стало так плохо с резервами, что они бросили на прорыв необстрелянные части. Впрочем, для того и нужно пушечное мясо, чтобы принять на себя поток пуль, который в ином случае мог бы достаться на долю более подготовленных солдат. Энтони вновь выстрелил, но промахнулся. Пуля скользнула по каске германца, оставив на ней сверкающую серебром бороздку. Бош замотал головой. Наверное, его слегка оглушило. Ему осталось ждать смерти всего лишь миг, но вдруг Энтони замер. Краем глаз он заметил, что уже убитый им германец вновь поднимается. Он встал на четвереньки и стал шарить руками по земле, отыскивая утонувшую в грязи винтовку. Грязь забила ее дуло, забралась в спусковой механизм, а это значило, что для стрельбы винтовка сделалась бесполезной, но у нее был штык, и в рукопашной она еще могла пригодиться. Рука Энтони задрожала. Он не мог больше заставить себя выстрелить. Германцы по-прежнему шли медленно. Теперь они могли бы и побежать.
— Гранаты, — прохрипел лейтенант. Он сорвал голос.
Солдаты побросали гранаты, припали к земле. Она содрогнулась. В окопы залетели запах гари, комки земли и куски человеческих тел. Когда дым растворился, оказалось, что первой цепочки бошей уже не существует. От нее остался лишь один солдат, у которого были оторваны обе руки. Германец не потерял сознания, очевидно из-за болевого шока, и теперь стоял даже не раскачиваясь, вмерзнув в землю, как языческое божество. Он упал, когда до него докатилась вторая цепочка и кто-то толкнул его, выведя из равновесия. Англичане закидали гранатами и ее. Эффект был такой же, но это были последние гранаты.
Энтони обязательно бы бросился бежать. Но они упустили время, и теперь немцы, какими бы плохими стрелками ни были, перебьют их как на охоте, стоит англичанам только выбраться из окопов. В спину очень легко стрелять. Оставалось лишь подороже продать свою жизнь. А впрочем, кому она нужна?
— Примкнуть штыки, — опять прохрипел лейтенант.
Из пореза над левой бровью у него сочилась кровь, но дождь быстро смывал ее, так что кровь не успевала даже свернуться. Лейтенант был энергичен и бодр, казалось, что он принял какой-то наркотик. Он успел справиться с дрожью в голосе, а судя по тому безумному огню, который разгорался в его глазах, взводный уже начинал видеть смерть и отблески ада. Лейтенант слишком много времени уделял изучению действий русских офицеров, видимо, вообразив, что и ему лихой штыковой атакой удастся разогнать противника.
«А, пропади все пропадом. Может, повезет». Рывком Энтони толкнул свое тело из окопа, когда услышал приказ о наступлении. Он поскользнулся и чуть было не повалился обратно. Если бы он стал задумываться и прислушиваться к свисту пуль, то, скорее всего, так бы и не решился покинуть укрытие. Энтони выиграл бы не более пары минут, но это слишком мало, чтобы успеть насладиться жизнью. Главное теперь ни о чем не думать, тогда и не заметишь, как придет смерть. Он завыл протяжно, как воет волк на луну, резко выбросил руки вперед, забыв о том, что германец в броне, и вспомнил об этом, лишь когда его взгляд наткнулся на иссеченную пулями шинель. Энтони подумал, что штык, если не сломается, так обязательно затупится, но шеффилдская сталь легко, с приятным чавканьем вошла в тело германца на всю глубину до ствола, потому что Энтони по глупости вложил в удар слишком много сил, гораздо больше, чем было необходимо. Штык вышел из спины германца, который теперь был похож на большую муху, нанизанную на булавку. Его руки беспомощно вздрагивали.
Когда-то в детстве Энтони собирал коллекцию насекомых, гоняясь за жуками с сачком, а потом подолгу разглядывал добычу, прежде чем заколоть ее булавкой и спрятать в специальной коробочке. Но этого увлечения хватило всего лишь на одно лето. Оно походило на болезнь типа простуды, от которой быстро излечиваешься, так что вскоре он забросил это занятие, а коллекцию раздарил знакомым и поменял на конфетные вкладыши или оловянных солдатиков.
Энтони хотел вытащить штык, но не успел, потому что в эту секунду германец наконец-то выстрелил. У него был автомат.
Энтони показалось, что очередь длится целую вечность и очень долго пули разрывают ему грудь и входят в живот. Он почувствовал боль лишь от первых из них. Она вспыхнула мгновенно, как огонь на облитых бензином дровах, но следующие пули ее погасили. Энтони отбросило назад. Из груди немца выскользнул штык, чистый, блестящий, совсем не испачканный кровью, будто она уже давно вытекла из других ран и на новые не осталось ни капли. Но ее вообще не было, а лоскуты шинели лишь обгорели.
Энтони успел увидеть, как ранили лейтенанта — в горле у того что-то заклокотало, забулькало, изо рта потекла кровь, и он рухнул на землю, уткнувшись лицом в грязь, хотя ноги его все еще продолжали двигаться вперед. По телу пробежала судорога, а когда взводный застыл, его поза напоминала позу раба, припавшего к ногам своего хозяина.
Мир стал исчезать. Звуки перестрелки сменились гулом, он был похож на шум воды, когда голову опускаешь в поток и начинаешь к нему прислушиваться и одновременно чувствуешь, как гудит кровь в венах и бьется сердце. Энтони упал на спину и утонул в грязи — липкой и такой же тягучей, как болотная трясина. Здоровому человеку пришлось бы попотеть, чтобы вновь встать на ноги. Но пули выбили из тела все силы. Глаза Энтони стали стекленеть. В них застыло удивление. А потом пришла тишина…
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Накануне вечером прошел дождь, поэтому страшная жара, от которой уже начали желтеть листья на деревьях, словно осень пришла на месяц раньше срока, немного успокоилась. Вот уже несколько недель ночи превращались в кошмары из-за того, что от жары невозможно было заснуть. Генералу Рандуличу, когда он особенно долго ворочался в постели, казалось, что он оказался где-нибудь в Гоби или Каракумах. Каждую ночь приходилось по несколько раз вставать с постели, смачивать водой пересохшие, готовые потрескаться губы, и лишь под утро, когда восток, а не запад окрашивался красными всполохами, он наконец-то погружался в сон. Но эта ночь выдалась такой спокойной, что Рандулич проспал и едва не опоздал на встречу с командующим армией.
Еще день назад он думал о том, что неплохо перейти на один из вариантов колониальной формы, например на тот, который носят в Туркестане. Однако сегодня Рандулич превосходно чувствовал себя и в обычном летнем мундире. Если же адъютант разгонял «Руссо-Балт» до крейсерской скорости, позволяя стрелке спидометра отклониться вправо примерно на две трети своих возможностей, становилось даже прохладно.
Людей на улицах города можно было пересчитать по пальцам. Ночью германские бомбардировщики дважды сбрасывали на город бомбы. Их главной целью являлся вокзал, но когда пилоты аэропланов поняли, что прорваться туда они не сумеют, то начали просто избавляться от бомб, которые падали куда попало. Владельцы магазинов, опасаясь, что осколки побьют стекла витрин и попортят товары, загодя заколотили их досками. Возле одного из таких магазинов прогуливался полицмейстер. Он постоянно подкручивал великолепные загнутые вверх усы и так увлекся этим занятием, что не только не замечал прохожих, которым, чтобы не столкнуться со служителем закона, приходилось обходить его стороной, но, пожалуй, не обратил бы даже внимания, если бы в один из заброшенных магазинов полезли мародеры. Уличные торговцы выползли из укрытий, как только русские истребители отогнали волну германских бомбардировщиков. Еще не успела осесть пыль. Она кружилась над разрушенными зданиями, как над трупами исполинских животных. Завалы, оставшиеся от предыдущих бомбардировок, уже давно разобрали. На месте двух доходных домов и пекарни остались пустыри.
«Руссо-Балт» объехал зиявшую на мостовой кляксообразную проплешину. Сюда угодила одна из бомб. Она пробила асфальт. Под ним оказалась брусчатка, которую взрыв раскидал в разные стороны. Брусчатка пробивала стены домов не хуже шрапнели. Дыры залатали, а оштукатурить их еще не успели. Воронку на мостовой наскоро засыпали камнями, щебнем, песком и утрамбовали.
Встречавшиеся на пути подводы, груженные мешками с мукой, овощами и другой снедью, которую крестьяне везли на базар, заслышав позади себя рокот двигателя, жались к тротуару, пропуская автомобиль вперед.
В одежде теперь преобладали темные тона, даже барышни, которые раньше щеголяли в красных, голубых, розовых и салатовых платьях, носили все больше коричневое или черное, причем не обязательно из-за траура по погибшим родственникам. Было много военных: пехотинцев и кавалеристов. Но большинство из них редко выбирались за границы вокзала, оставаясь в эшелонах, которые транзитом двигались дальше на запад. Порой эшелоны задерживались на станции по нескольку дней. Местные предприниматели смекнули, что наибольшую прибыль можно получить от увеселительных заведений, поэтому в последнее время их появилось в округе довольно много от дорогих, предназначенных для офицеров, до дешевых солдатских. Они группировались вокруг вокзала, создав между ним и остальной частью города своеобразную буферную зону. Здесь была превосходная питательная среда для шпионов. Кроме того, в ней скапливались разного рода аферисты. Это добавляло головной боли местным властям. Иногда они проводили полицейские проверки, вылавливая нежелательные элементы.
Фанерные тумбы были обклеены агитационными листовками и плакатами. Из-под них виднелись клочки и обрывки афиш, рекламирующих гастроли уездного цирка. Их уже почти оторвал ветер, и теперь они трепетали как флаги. Прошло три месяца, как цирк покинул этот город. С той поры здесь никто не выступал, а заклеивать старые афиши кроме как листовками да плакатами было нечем. Слов на них уже не разберешь, но Рандулич узнал их по цвету. Он ходил тогда на одно из представлений. Он смутно вспоминал жонглеров, акробатов, дрессировщиков, но в память въелся лишь клоун, который в конце репризы убегает с манежа с криком, что решил застрелиться. Вскоре из-за кулис слышится выстрел, а после клоун вновь появляется на манеже с удивленным выражением на лице, дымящимся пистолетом в руках и говорит, что он приставил пистолет к виску, нажал на курок, но промахнулся. У офицеров, которые приходили на представление, этот черный юмор неизменно вызывал приступы смеха и бурю оваций. Рандулич заметил, что после этой репризы никто из офицеров не пробовал застрелиться, хотя раньше такое изредка случалось. Наверное, потенциальным самоубийцам просто становилось стыдно, что их благородный в кавычках поступок обязательно сравнят с выступлением клоуна.
Командующий не афишировал свое местонахождение. На крыше особняка, где располагался штаб армии, не развевался трехцветный флаг, зато там замаскировали два пулемета системы Максима. На столбах, удерживающих ворота, не было никакой таблички. Перед зданием был разбит парк. Его опоясывала чугунная ограда. Деревья разрослись, и из-за этого с улицы стало довольно трудно разглядеть, что же происходит в особняке. Вряд ли кто-либо мог проникнуть незамеченным не то, что в особняк, но даже в парк. Человек, который будет настойчиво заглядывать через ограду, привлечет внимание патрулей. Ворота были крепко закрыты, а если непрошеный гость попытается перемахнуть через забор, дозорные немедленно доставят в контрразведку, благо находилось она всего-то в двух кварталах. Там уже выяснят, стоит ли за этим поступком что-то большее, чем простое любопытство.
Итак, ворота были наглухо закрыты. Рандулич уже смирился с тем, что сейчас адъютант начнет жать на клаксон, как бездомный путник, который поздно ночью добрел до постоялого двора и теперь просит, чтобы хозяева смилостивились и пустили его на ночлег.
Рандулич не любил пронзительный звук клаксона, резкий, неприятный, раздражающий барабанные перепонки, и готовился зажать ладонями уши, чтобы хоть немного заглушить этот звук, но тут ворота стали открываться.
Адъютант крутанул баранку. «Руссо-Балт» дернулся в сторону и чуть было не наехал на другой автомобиль — темно-зеленый «Рено», показавшийся из-за ворот. Адъютант вовремя заметил его, ударил по тормозам, а потом дал задний ход.
Несмотря на теплую погоду «Рено» закрывала брезентовая крыша, поэтому Рандулич не мог рассмотреть, кто в нем сидит. Ему лишь показалось, что он услышал из салона автомобиля какие-то ругательства. Подобные машины были наперечет. Догадаться, кто в нем находиться, не составляло большого труда. Если, конечно, автомобилем не завладели злоумышленники.
Как только проезд освободился, адъютант тут же направил автомобиль в ворота, как будто они в любую секунду могли закрыться и тогда не оберешься трудностей, прежде чем проникнешь за ограду. Ворота захлопнулись позади них.
Двор утопал в тени. Здесь было приятно прогуливаться даже когда вовсю жарило солнце. Адъютант остался в автомобиле, предварительно развернув его. Так удобнее выезжать со двора, но чтобы не задеть стены или не заехать на газон, требовалась прямо-таки ювелирная точность. Возле особняка стоял «Мерседес» командующего — подарок одного из местных купцов, который купил его незадолго до войны, а с началом боевых действий стал считать непатриотичным разъезжать на немецком автомобиле. В нем сидел водитель, затянутый в черный кожаный костюм. На руках, вцепившихся в руль, надеты кожаные перчатки, на голове — шлем. Похоже, он получил солнечный удар, но не сильный, так как большая часть энергии светила рассеялась листьями и до водителя дошли лишь ее крохи, теперь он не замечает происходящего и медитирует. По крайней мере он не обратил никакого внимания на подъехавший автомобиль Рандулича. Очевидно, для того чтобы вывести его из состояния оцепенения, нужна была команда наподобие той, что дают во время старта автомобильных гонок. Так и хотелось подойти к нему, похлопать по плечу и спросить в чем дело. Но эту заботу Рандулич оставил для своего адъютанта.
Перед парадным входом возле каменных львов вместо швейцаров, облаченных в красно-зеленые ливреи, стояли двое караульных. Угрюмые и неразговорчивые, они тоже походили на статуи. Но стоило подойти к ним поближе, как они оживали, словно к ним прикасался волшебник. Караульные знали генерала в лицо и не стали проверять документы, хотя инструкции позволяли им требовать их у кого угодно.
Рандулич поднялся по мраморным ступеням и прошел внутрь здания. Он посещал штаб с периодичностью примерно два раза в неделю, поэтому даже если на улице стояла кромешная ночь, а электростанция по какой-либо причине отключила подачу тока, он все равно без труда прошел бы по коридору, толкнув четвертую дверь слева, за которой находилась приемная командующего.
Стены были голыми, пол устилала потертая ковровая дорожка. Рандулич предполагал, что предназначалась она для того, чтобы оберегать мозаику, выложенную из разных пород дерева. Ковровая дорожка поглощала звуки шагов, но все равно в коридоре было так же неуютно, как в необжитой комнате, в которой еще не завелись домовые. Создавалось впечатление, что прежние хозяева этого здания вывезли все, что смогли, включая утварь, мебель и прочие вещи. Новые хозяева собирали обстановку впопыхах, совершенно не заботясь о том, насколько она подходит к интерьерам и как гармонирует друг с другом. Главное, чтобы присутствовала в необходимых для работы количествах, поэтому рядом могли преспокойно стоять кожаный потертый диван и деревянный аскетического вида стул. Командующий подыскивал себе особняк поменьше, а этот собирался превратить в госпиталь.
В коридоре царила суета. Здесь было так же многолюдно, как на званом вечере. Удивительно, что с улицы дом казался тихим, как пансион благородных девиц, но всем известно, кто водится в тихом омуте…
Адъютант командующего куда-то запропастился. То ли побежал добывать воду для самовара (надо заметить, что уже неделю как водопровод не работал), то ли отлучился по какой-то другой причине. Рандуличу пришлось войти в кабинет без приглашения. Дверь, обитую толстым слоем войлока, приходилось пихать сапогом.
Собственно, это был не кабинет, а большой зал. Почти под потолком размещался балкон для оркестра — великолепное место для наблюдения, если сюда удастся пробраться шпиону. Вооружившись биноклем или подзорной трубой, он сможет узнать важные секреты, особенно если займет там место сегодня. Балконом уже несколько месяцев не пользовались, и вход в него давно заколотили. По углам зала, словно задвинутые туда в наказание, стояли развесистые, похожие на небольшие деревья золоченые канделябры, как плодами усыпанные свечками. Зажигали их крайне редко и еще реже развязывали собранные в узлы портьеры, на которых уже накопилась пыль. Там же, в углу теснились большие, как платяной шкаф, часы работы Павла Буре. В центре зала располагался т-образный массивный стол, опиравшийся на не менее массивные деревянные ножки, вырезанные в форме львиных лап. Их было не четыре, а гораздо больше, и они могли выдержать вес десятков тарелок с кабанами, утками, цыплятами, осетрами, приправленными всевозможными соусами, утопающими в разнообразных кашах и гарнирах. Но это было так давно, а сейчас стол был пуст. Его окружало несколько кресел.
Командующий армией генерал Алексей Павлович Колчин стоял спиной к двери, всматриваясь в карту западных районов империи. Она занимала всю стену позади стола. На карте обозначались даже незначительные поселения. Но никаких специальных пометок, будь то линия фронта или дислокация русских войск, на ней не было.
— Вы до безобразия пунктуальны, — сказал командующий, оборачиваясь.
Его лицо было бы заурядным и незапоминающимся, если бы не изумительные глаза. Нет, они не были похожи на огромные плошки, как у собаки из сказки Андерсена, но взгляд генерала мог пронзать насквозь, как стилет, выпотрошить человека, вывернуть его наизнанку. Некоторые из подчиненных, чувствуя за собой вину за какую-либо, когда шли к Колчину, впадали в состояние мистического ужаса. Несмотря на возраст генерал был по-прежнему поджар, как охотничья собака, которая ко всему прочему несмотря на годы не утратила нюх.
— Присаживайтесь, Николай Иванович, — сказал Колчин, указывая на одно из кресел. — До вас здесь был городской голова. Надо признаться, что словесная баталия с ним отняла у меня много сил. Я даже испугался, что не успею его выпроводить до вашего приезда. Пришлось пойти на некоторые уступки.
— Я видел его автомобиль. Похоже, он все-таки остался недоволен исходом визита.
— Слишком многого хочет. Он просил помощи в решении коммунальных вопросов. Пришлось пообещать, что мы посодействуем в ремонте водопроводной станции. Станция нужна военным не меньше, чем жителям города.
Колчин сел. Он немного прихрамывал на левую ногу. Тот, кто ничего не знал о генерале, мог бы подумать, что он подвернул ее, когда выбирался из автомобиля или поскользнулся на мокрых после дождя ступеньках. Но история была давней. Круг людей, знавших о том, как Колчину с изуродованной во время пыток ногой удалось бежать из японского плена, как он затем пробирался к своим через китайские провинции, был узок даже тогда, десять лет назад, а теперь… Многие из посвященных умерли или погибли. Вот только Колчин все не мог понять, как о тех событиях прознал беллетрист Петр Придиус. Он написал роман, тактично изменив имена главных героев. Книга пользовалась успехом. Колчин по праву мог потребовать от Придиуса часть гонорара.
Генерал не мог долго стоять, поэтому любил сидеть в кресле, вытянув левую ногу вперед. Именно в этой позе он обычно разговаривал с посетителями и проводил совещания.
Генерал не переставал вбивать в головы своим подчиненным, что ему не нужны напрасные потери и лобовые атаки, если есть возможность совершить обходной маневр. Командующего слушались. Он не мог совладать лишь с морскими пехотинцами. Похоже, те возомнили, что мир начинает проваливаться в тартарары, после того как их корабли оказались на дне, а они — на суше. Теперь моряки повсюду искали смерть, но она избегала с ними встречаться, словно боялась их…
За последний год у Колчина не выдалось ни одного свободного дня. Рандулич знал, что командующий не выдержит этого темпа. Если он не сбавит темп, то через два-три месяца его ждет кровоизлияние в мозг или инфаркт. Это знал и Колчин. Но в этом заключалась вся его жизнь. Куда деваться перекатиполю, когда затихает ветер? Наверное, остается ждать, пока не подует снова, и так без конца. Генерал совершенно не следил за состоянием родового поместья, доставшегося ему по наследству от отца. Когда дела пошли совсем плохо, а дом стал постепенно приходить в упадок, Колчин сбросил с себя эту обузу. Он распродал и дом, и прилегающие к нему земли, а вырученные деньги пожертвовал казне на военные разработки. Теперь у командующего ничего не было, за исключением внушительного послужного списка. Обзавестись семьей ему все как-то не хватало времени. Колчин обещал восполнить этот пробел в своей биографии, когда выйдет в отставку. Но спешить с этим не стоило. Некоторые прочили генералу лет этак через семь десять кресло министра обороны. Но мир менялся так быстро, что загадывать что-либо на такой длительный срок было просто бессмысленно. Колчин знал об этих разговорах, но старался не забивать ими голову и не воспринимал их всерьез. Пока ношу министра обороны неплохо нес генерал Поливанов, который, слава богу, занял это кресло, любезно освобожденное Сухомлиновым незадолго до войны. Останься Сухомлинов в нем подольше — не избежать большой беды, а так все обошлось.
— Для штурмового отряда подыскали работу, — Колчин начинал разговор издалека лишь в том случае, если видел, что собеседник не готов еще воспринять главное сообщение. С Рандуличем все было по-другому.
Рандулич знал, что в отношениях с англичанами наметилось очередное похолодание. Те обратились к русским через французов с просьбой провести как можно быстрее наступление, ссылаясь на то, что у них начались на фронте неприятности. Ставка Верховного Главнокомандующего ответила уклончиво, с одной стороны обнадежив союзников, но не давая им конкретных обещаний. Однако большинство членов Ставки склонялись к мысли, что надо избегать непродуманных и неподготовленных действий. Хватит одного Самсонова, впредь подобные ошибки повторяться не должны. Как докладывала разведка, дела у англичан были не так плохи, как они сообщали. Союзники просто хотели, чтобы германцы перебросили с Западного фронта на Восточный несколько своих дивизий. Англичане всегда старались переложить нагрузку со своих плеч на другие. Но вот метания германцев из стороны в сторону были непонятны. Если в самом начале кампании в сферу их внимания попала в основном Франция, то на следующий год они сосредоточили свои усилия против России. Не добились здесь заметных успехов и, видимо, вновь намеревались обратить взоры на Запад. В конце концов, они подтвердят истинность поговорки о том, что будет с тем, кто погонится сразу за двумя зайцами.
— Но я вынужден вас огорчить. В разведке все уже продумали (по крайней мере, они так считают), составили план действий и расписали пьесу по ролям. На вашу долю почти ничего не осталось. Все, что они предусмотрели, — это выступление в начале и в конце представления, а все остальное время вам придется находиться вне сцены. Главная роль досталась капитану Мазурову. Я знаю, что он еще в госпитале, но в разведке утверждают, что Мазурова можно выписывать когда угодно. Формально его можно продержать в госпитале еще не одну неделю, но не стоит. Подробнее можете расспросить обо всем этом хорошо вам знакомого начальника аналитического отдела внешней разведки полковника Игнатьева. Похоже, именно он заварил кашу. Игнатьев должен приехать, — Колчин бросил взгляд на часы, — через сорок минут. Он нам расскажет об операции. Чуть раньше сюда прибудут светлейший князь Павел Игоревич и генерал Гайданов. Вот, собственно, и все второстепенные персонажи этой пьесы. Статисты, я бы сказал. Вернее, мы похожи на снабженцев. От Гайданова требуют «Илью Муромца», от меня и светлейшего — только одобрения и поддержки, хотя мне кажется, светлейший князь уже в курсе этой операции. Ну, а вы должны предоставить штурмовой отряд. Вам же предстоит стать координатором всех действий. Несколько бессонных ночей гарантированы. Нет, я все-таки выразился неправильно. Мы не статисты. Скорее, нам отводиться роль кукловодов. Мы будем дергать за ниточки. Кажется, Игнатьев уже получил поддержку Ставки, от нашего решения собственно, ничего и не зависит. Нас просто поставят в известность.
Колчин распалялся. Раздражение охватило его не столько из-за того, что на начальном этапе подготовки операции с ним никто не советовался, а, скорее, потому, что он ревностно относился к своим обязанностям и терпеть не мог, когда кто-то начинал не спросясь лезть в его вотчину и навязывать свое решение.
В обществе Рандулича он мог позволить себе и более резкие выражения. Все-таки знали они друг друга с незапамятных времен, страшно сказать — аж с прошлого века, словно с ушедшей геологической эпохи, будто тогда был еще ледниковый период, а теперь началась оттепель, хотя вернее наоборот — тогда была оттепель, а теперь надвигался лед.
Впервые Колчин с Рандуличем увиделись незадолго до так называемой спецкомандировки, в которую их направило очень-очень высокое командование. Официально они находились в каком-то захолустном тмутараканском гарнизоне, который и в глаза-то никогда не видели, на самом же деле поехали в Трансвааль с фальшивыми французскими паспортами изображать добровольцев, приехавших помогать бурам в их борьбе против Британской империи. Тогда они думали, что вскоре придется столкнуться с британцами в открытую…
Раздражение клокотало в Колчине, как закипающая вода в чайнике или, скорее, как пар в котле, и для того, чтобы он не взорвался, пар нужно было немного выпустить, что Колчин и делал, намереваясь выговориться до того, как приедут светлейший князь, генерал Гайданов и полковник Игнатьев. Иначе он опасался, что эмоции перехлестнут через край.
Лицо генерала стало пунцовым, точно он долго парился в бане. «Игнатьев придет к нам, прочитает лекцию, а мы, как прилежные ученики, будем его слушать. В тех местах, которые покажутся нам непонятными, будем просить разъяснений, — думал генерал, меряя комнату шагами. — Он задаст нам уроки на дом, но если мы с ними не справимся, то иметь дело будем уже с директором гимназии. С Игнатьевым все ясно. Если дело выгорит, его наконец-то произведут в генералы, и не он будет смотреть снизу вверх на своего братца, который, кстати, по-прежнему прохлаждается в Париже. Соперничество братьев Игнатьевых всем известно. Но если ничего не получится, то карьеру это ему подпортит. Он рискует. И рискует сильно».
Когда-то этот зал видел богатые пышные гуляния. Здесь собирался цвет губернии, да и столичные знаменитости порой наезжали. Тогда пол в доме устилался ковром из свежих цветов. Независимо от того, какое время года властвовало за окнами, здесь всегда царствовали весна или лето. В особенности запомнился приезд тогда еще совсем юной, только начинающей набирать ореол славы звезды синематографа Веры Холодной, но… Как давно все это было! Целых два года назад. Еще до начала войны владелец особняка миллионер Константин Арцеулов затеял здесь капитальный ремонт, но успел только вывезти мебель, на этом все и закончилось. К особняку он охладел. Занялся другими проектами, а здание передал в безвозмездное распоряжение армии.
Сейчас в зале находилось всего четыре человека. На столе были разбросаны несколько карандашей, циркулей, линеек и пачки документов.
Игнатьев держался уверенно, хотя от обилия золота на погонах слушателей рисковал ослепнуть. Но у него имелся обширный опыт общения с сильными мира сего, и ему приходилось выступать перед куда как более представительной аудиторией. Его звездный час еще не пробил.
В полковнике умер неплохой актер. Ко всем прочим достоинствам красив, статен, умен. Женщины сходят по нему с ума, и он не упускает возможности использовать это в своих интересах. Ему не составляет никакого труда сплести паутину, в которую, как муха, поддавшись на его обаяние, попадает то сотрудница австрийского посольства в Румынии, то супруга какого-нибудь высокопоставленного германского генерала. Бедные женщины и дух перевести не успевают, как оказываются завербованными и вынуждены работать на Игнатьева, а следовательно — и на русскую разведку.
Игнатьев ходил по краю обрыва, иногда заглядывал вниз, любуясь открывшейся ему бездной. Это ему нравилось, и он не спешил отойти от пропасти, когда под его сапогами начинали осыпаться камни.
— Вот уже не одну сотню лет, а точнее с — 839 года, в Баварских Альпах стоит небольшой замок, построенный феодалом по прозвищу Гуго Безумный. Зовется он Мариенштад, — Игнатьев ткнул указкой в карту, но он ошибался, если полагал, что собравшиеся в комнате сумеют разобрать, куда именно пришелся этот удар.
Начало было интригующим. Рандулич поудобнее развалился в кресле, полагая, что рассказ, несмотря на все уверения Игнатьева, будет долгим и мягкое место он успеет отсидеть, даже если станет вертеться и периодически менять позу.
— Прозвище свое Гуго получил из-за того, что для каждого пленника выдумывал новый способ казни. Так он, бедный, развлекался, поскольку никаких иных занятий, за исключением охоты в окрестных лесах и набегов на соседей, у него не было.
У Игнатьева открылся дар рассказчика, об этом его таланте никто и не подозревал. Все думали, что полковник умеет только писать скучнейшие рапорты, переполненные всяческой канцелярской лексикой. Никто, помимо тех, кто был вынужден делать это по необходимости, читать их не стал бы даже под угрозой смертной казни, а попади они в руки конкурентов, то бишь противников, то и те умерли бы со скуки уже на первых страницах. Хороший способ бороться с агентурой врага. Надо побольше подкидывать им опусов Игнатьева. Однако оказывается, что если засадить полковника за письменный стол, дать ему в руки перо, пачку бумаги, то он чего доброго выдаст сборник сказок, который затмит все написанное Гауфом или братьями Гримм.
— Замок как замок, очень скромный, ничем не примечательный. Нет в нем ничего удивительного, как справедливо отметил историк Карл Гумбольт, которому лет сорок назад пришла в голову идея собрать в одной книге описания всех западноевропейских замков. Потратил он на осуществление этой затеи добрых пятнадцать лет, после чего появился на свет вот этот труд, Игнатьев потряс перед собой внушительным томом в кожаном, тисненном золотом переплете.
Присутствующие знали, что это был скорее путеводитель для туристов, чем историческое исследование. Книжку издали на русском языке вскоре после того, как она вышла на немецком.
— Итак, я продолжаю, Гумбольт отнес Мариенштад далеко не к самым лучшим творениям средневековых зодчих. Он оценил его оборонительные качества как вполне сносные, для того чтобы выдержать непродолжительную осаду небольшой армии, при условии, что предусмотрительные хозяева набьют подвалы замка провиантом, а на каждую или хотя бы на большую часть бойниц найдется по защитнику. Гумбольт выделил для Мариенштада всего лишь полтора столбца. Треть из этого объема занимает чертеж. Более подробного описания замка нам отыскать не удалось. Оказалось, что сведения о нем, хранившиеся в библиотеках стран Центральных государств изъяты. Нет о нем ничего заслуживающего внимания и в библиотеках России.
Четыре башни, подсобные помещения, донжон, в котором потомки Гуго Безумного пробили окна. Истлевший прах Гуго, наверное, перевернулся бы в гробу, узнай он, что сотворили с его гнездом, но никто из потомков Безумного давно не живет в этом замке. Там, право же, неуютно. Они продали его кому-то, а те перепродали, цепочка оказалась длинная, замок переходил из рук в руки. Но нам все-таки удалось выяснить, что теперь им владеет германское военное министерство, которое купило Мариенштад через подставную фирму.
Он сохранился в далеко не идеальном состоянии, пока не рассыпается в прах, но капитального ремонта требует, по крайне мере требовал во времена Гумбольта. Сейчас, мне кажется, положение немного изменилось.
На эту мысль наводит, помимо того, что замком теперь владеют военные, то, что за последний год в замок трижды наведывался канцлер Бетман-Гольвег в сопровождении офицеров германского генштаба. По официальным источникам, они приезжали в Мариенштад поразвлечься, но право же — там нечем заниматься и развлечений меньше даже, чем во времена Гуго, потому что пленников под рукой нет. Очевидно, именно по этой причине гости проводили в замке меньше суток. После первого раза это должно было отбить у них всякую охоту приезжать в замок, но они, как я уже упоминал, были там еще дважды.
Периодически в замок привозят разнообразные грузы. Их количество и примерный перечень вы найдете в документах, которые я представил.
Игнатьев действительно походил на добросовестного учителя, который разжевывает новый материал не очень одаренным детишкам. Не так давно он вернулся из поездки по Западной Европе, обогащенный новыми идеями и информацией, которую смогли добыть российские агенты в нейтральных странах, странах союзников и Центральных государствах. Это была очень опасная поездка за казенный счет. За Игнатьевым охотились как противники, так и союзники. У него в голове хранились очень ценные сведения, странно, что он эту голову сохранил.
— На башнях замка установлены прожектора, его охраняют пятнадцать солдат, а если вас заметят поблизости от него, то хлопот не оберешься. Очень любопытно. Не так ли? Места там глухие, все друг друга в округе знают. Чужака вычислят моментально.
Исторический экскурс позабавил Рандулича. Он понимал, что Игнатьев сейчас или чуть позже брякнет какую-нибудь, на его взгляд, сенсацию, за которую газетчики, а возможно, и вражеские агенты, не задумываясь, продадут душу дьяволу. Так повар третьесортного ресторана дает понюхать приготовляемые им блюда голодным посетителям, дожидаясь, когда у тех начнут течь слюнки. Потом их можно кормить. Как правило, чем-нибудь не особенно вкусным. Но Игнатьеву надо поторапливаться, иначе он может растерять слушателей. Рандулич видел, что рассказ полковника начинает раздражать Гайданова. Лицо генерала кривилось. Он порывался вставить какую-нибудь реплику, которая могла бы прокомментировать очередное высказывание Игнатьева. Пока Гайданов держался, однако очевидно, что вскоре он вступит в полемику.
— Я понимаю ваше нетерпение, но подождите еще немного. Приступаю к главному. Профессор Ганноверского университета Вольфрам Тич — известный ученый начала нашего века, о котором, я надеюсь, вы что-то слышали, занимался органической химией и биологией. Он снискал славу и почет у своих коллег. Они считали, что Тич со временем может получить Нобелевскую премию. Но три года назад весь мир облетела печальная весть о том, что Вольфрам Тич погиб в автомобильной катастрофе. Я принес вырезку из журнала «Природа» за май двенадцатого года, где помещена фотография Тича и некролог. А вот другая фотография. Место катастрофы, обгоревший автомобиль. Он ударился в дерево, очевидно, водитель не справился с управлением. Тич обгорел до неузнаваемости, опознали его только по золотому кольцу на безымянном пальце. Сомнительная примета, надо заметить. А теперь я сведу в одно целое первую и вторую часть, моего повествования. По нашим сведениям, Вольфрам Тич не погиб в той автомобильной катастрофе. Его вовсе не было в автомобиле. Смерть была инсценировкой, разыгранной германским военным ведомством. Нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы это установить. Агентурные связи не разглашаю, но сведения заслуживают доверия.
Все три года Вольфрам Тич находился в замке Мариенштад, где проводил какие-то исследования. Подчеркиваю, что за их ходом пристально следили высокопоставленные военные. Канцлер во время своей последней поездки в замок (произошло это месяц назад) вручил Тичу орден. Из этого следует, что Тич добился каких-то результатов.
К этому стоит добавить абсолютно фантастический доклад британского военного министерства двухнедельной давности. Он мгновенно был засекречен. В докладе сообщалось, что одно из британских подразделений сражалось с германскими солдатами, которых очень трудно убить. Пули их не брали. У меня есть сведения, которые позволяют связать этот факт с деятельностью Вольфрама Тича. К сожалению, Мариенштадом заинтересовалась и Интеллидженс Сервис, но там еще не знают, что Тич жив. Британцы попытаются в ближайшее время выяснить, что происходит в замке. Что они предпримут — я не знаю, но мы должны их обогнать.
Игнатьев сделал паузу, перевел дух и продолжил с таким видом, что все поняли: он добрался до сути.
— Надо захватить этот замок, выкрасть Тича и материалы исследований, но как это сделать — вопрос. Есть предложение задействовать в этой операции штурмовой отряд.
Идея создания штурмового отряда, хотя в то время он назывался совсем иначе, полностью принадлежала внешней разведке. В начале тринадцатого года военное ведомство намеревалось организовать тайную экспедицию на Тибет, поручив столь сложную и нетрадиционную задачу разведке. Там, справедливо полагая, что экспедиции предстоит столкнуться с проблемами, о которых и подумать не могли ни Пржевальский, ни Арсеньев, отнеслись к комплектованию экспедиции очень ответственно. Во главе ее поставили некоего майора Строгалева, что само по себе вызывало недоумение. Было похоже, что в биографии майора не хватало какого-то штриха, который стерли или, скорее, тщательно замазали. Так контрабандисты просят случайного художника нарисовать на холсте известного мастера новую картину. Авось таможенники клюнут на эту хитрость и пропустят полотно через границу. Перед Географическим обществом никаких заслуг за Строгалевым не значилось. Здесь крылся какой-то подвох. Вероятно, отчеты о его экспедициях пылились в недрах других ведомств, путь куда был закрыт почти для всех. Видит бог, эти отчеты существовали, но пройдет не один десяток лет, прежде чем их придадут огласке.
Никто не знал, по какому принципу Строгалев отбирал людей для экспедиции и как это происходило. Никто, за исключением, быть может, самого майора, не знал об их прошлом. Стань оно известно, возможно, кого-то ждала каторга, а кого-то всенародная слава. Жаль, что все закончилось, так и не начавшись. Строгалева нашли мертвым у него на квартире. Скрыть факт его смерти не смогли, но в газетах сообщили, что майор умер от сердечного приступа, и ни слова не сказали о том, что этот приступ вызвали две пули. Убийц не нашли. Подозревали, что за всем этим стояла британская разведка, которая что-то заподозрила и таким образом пыталась сорвать планы русских, что ей, в конечном счете, и удалось. Подготовка экспедиции задержалась. Достойной замены Строгалеву все не находилось, а потом возникли куда как более острые проблемы. О Тибете пришлось забыть. У разведки забот стало по горло и без этой экспедиции, подобранных для нее людей хотели распустить, но вовремя одумались. Они стали своеобразным полигоном для применения новых технологий в боевых действиях, а поэтому их снабжали самыми современными и экспериментальными видами индивидуальных вооружений. Это была очень дорогая игрушка. Разведка, так и не наигравшись, не знала, что с ней делать дальше, по крайней мере в обозримом будущем. Поэтому ее решили отдать в руки тех, у кого она не будет валяться, забытая в дальнем углу чулана, чтобы испортиться к тому времени, как о ней вспомнят.
Рандулич, в подчинение которого и попал штурмовой отряд, решил выточить запасные детали, пока игрушка еще не сломалась. Все это очень напоминало работу старателя, который копошится в речке и промывает тонны песка, прежде чем отыщет несколько золотых самородков. Успехи были скромными. Генерал не носился с отрядом как с писаной торбой, пылинок с него не сдувал, но все же старался его оберегать и понапрасну не использовать. Наиболее впечатляющей стала операция по захвату стратегически важного моста в тылу германцев. Штурмовики посыпались тогда с небес на головы солдат, охранявших мост, столь же неожиданно, как град посреди жаркого летнего дня. Германцы прийти в себя не успели, организовать достойную оборону не смогли, а мост не подорвали, хотя, предвидя скорое наступление русских, заранее разложили под каждой его опорой приличное количество взрывчатки. Штурмовики преподнесли этот мост наступающим русским подразделениям на тарелочке с голубой каемочкой. Разговоры после этих событий улеглись нескоро. Но был грех. Был. Однажды Рандулич не удержался и заткнул отрядом брешь в своей обороне, куда помимо штурмовиков отправил все имеющиеся у него на ту секунду резервы, в состав которых входило еще с полсотни кашеваров, писарей, вестовых, посыльных и тому подобного контингента. Как только у него появилась возможность, он немедленно вывел из боя штурмовиков, заменив их на только что подоспевших пехотинцев Саньганского полка. Семерых штурмовиков он недосчитался. Потери среди писарей, вестовых, посыльных и кашеваров выглядели более внушительно. Гурманом Рандулич никогда не был, а готовить пищу для своих частей он поручил солдатам, которые проявили хоть какие-то кулинарные способности.
Тем временем Гайданов внимательно и даже с каким-то остервенением перелистывал документы, подготовленные аналитическим отделом внешней разведки. Он делал это так решительно, что бумажки могли порваться. У генерала с самого начала лекции вертелся на языке вопрос. Прикинув, расстояние до замка от любой из авиабаз русских, он понял, что ни один аэроплан его не преодолеет. Это окажется не под силу даже единственному имеющемуся в его распоряжении новому «Муромцу». Разведка должна была это предвидеть. «Ага, — лицо Гайданова просветлело, когда он наткнулся на ответ, — „Муромца“ хотят немного покалечить и разместить в нем дополнительные топливные баки. Ну что же, способ не нов. Нагрузить судно до верху топливом — тогда оно доплывет даже до края света, если погода будет ясной. Легкий ураган такое судно сразу же перевернет. Это мы уже проходили».
— Простите, а вы не могли бы обойтись собственными силами? — спросил Рандулич.
— Собрать всех агентов и скопом навалиться на замок? У нас не хватит профессионалов. Кроме того, они находятся в менее хорошей физической форме, чем штурмовики, и главное — они ценнее.
— Благодарю, — холодно отозвался Рандулич.
— Вы позволите мне продолжить?
— Конечно.
Игнатьев докладывал о месторасположении немецких зенитных батарей, доказывая, что их можно легко обойти, а в глубине Германии противовоздушной обороны вообще нет. Военное ведомство уже не один год собирало информацию о направлении воздушных потоков над территорией Германии. Главным образом это делалось для дирижаблей. Но теперь она очень пригодилась. Игнатьев с воодушевлением рассказывал о том, какую полезную нагрузку сможет взять «Илья Муромец», когда на нем установят дополнительные топливные баки.
Изложение плана операции заняло минут десять, после чего Игнатьев остановился, обвел взглядом присутствующих.
— Я закончил и хочу услышать ваши замечания, — сказал он.
— Авантюра, — быстро бросил Гайданов, оторвавшись от бумаг.
Голова Гайданова была начисто лишена растительности и походила на бильярдный шар, обтянутый загорелой, немного подсушенной, но еще не дошедшей до стадии ветхого пергамента кожей. Волосы не росли у него даже на щеках, над губой и на подбородке, так что он не мог похвастаться ни усами, ни бородой. В этом было виновато знойное солнце Востока, которое выжгло все его волосы. Но Гайданов нисколько этим не огорчался. Напротив, он постоянно подшучивал над своими друзьями, у которых были и роскошные усы, и не менее роскошные бороды, замечая, что время, которое они вынуждены уделять своей внешности, можно потратить с большей пользой. В Туркестане он сильно повредил желудок, питаясь непривычной пищей. Нередко она была плохого качества, а жажду приходилось утолять солоноватой водой. С недавних пор желудок генерала скручивало от боли. Справиться с ней Гайданов мог, лишь крепко стиснув зубы. Он старался говорить короткими фразами, чтобы боль не застигла его на полуслове. Любая жирная пища после Туркестана вызывала у него аллергию. Спазмы начинались, стоило только кому-то произнести слова «плов» или «жареный баран».
— Но очень привлекательная авантюра, — сказал Рандулич.
Примерно такие же чувства должны были владеть Кортесом, когда он в сопровождении четырехсот конкистадоров решился покорить Перу, или горсткой пиратов, которые уничтожили гарнизон Картахены и разграбили этот богатый город. Стоял в этом же ряду и покоритель Сибири Ермак.
— Согласен, — сказал Гайданов, — но в этом плане есть по меньшей мере один слабый момент. Что вы будете делать, если «Муромец» по каким-то причинам не сможет забрать штурмовиков обратно?
— Снабдим их соответствующими инструкциями. Мои агенты постараются переправить их в нейтральные страны. Но в любом случае, я уверен, что они уничтожат замок. Напомню, что им заинтересовались британцы, — ответил Игнатьев.
«Подложить свинью британцам — что может быть приятнее?» — подумал Рандулич. Британская империя пока еще оставалась в числе союзников, но было очевидно, что она вновь станет главным врагом России, после того как Центральные государства будут разбиты, а в Антанте начнется раскол. В глубине души Рандулич никак не мог смириться с мыслью, что ему приходиться воевать на одной с англичанами стороне. Он относился к этой стране и ее имперским амбициям более чем прохладно. На левом предплечье Рандулич носил рваный безобразный шрам, оставшийся от английской разрывной пули «дум-дум». Этот шрам — личная обида. О ней можно не вспоминать, хотя в сырую и промозглую погоду это довольно трудно. Но многое Рандулич простить англичанам не мог. Крым — забытая история. Гораздо свежее была память о Балканской кампании. Если бы не англичане, то Константинополь еще тридцать пять лет назад стал бы русским. Османская империя уже тогда стояла на краю пропасти, а у России было достаточно сил, чтобы подтолкнуть ее. Теперь же придется положить не одну сотню тысяч русских мужиков, чтобы получить то, за что однажды уже было заплачено. Китай, Индия, Тибет, Средняя Азия повсюду интересы России сталкивались с интересами Британии, и во всех случаях они смотрели друг на друга, как боевые псы, готовые сорваться с привязи и броситься перегрызать глотку врагу. Их связала Франция. Она стала прослойкой. Но и союзнические обязательства перед Францией так же дорого стоили России, которая, спасая Париж и отвлекая на себя немцев, бросила в наступление неподготовленную армию генерала Самсонова. Черт с ним, с Парижем. Французы палец о палец не ударят, если подобная ситуация, не дай бог, сложится под Санкт-Петербургом или Москвой. Россия находится слишком близко от театра военных действий. Любой конфликт в Европе обязательно коснется и ее. Вот только хорошо бы, чтобы она вступила в войну как можно позже, когда Антанта и Тройственный союз уже ослабнут. Тогда, меньшими потерями можно добиться больших результатов. Рандулич не сомневался, что именно так поступят САСШ, хотя пока эта страна на словах придерживалась нейтралитета. Но это означало лишь, что она продавала оружие обеим воюющим сторонам. САСШ вряд ли упустят возможность получить кусок пирога, когда дело пойдет к дележу.
— Мне кажется, что операция оправданна. Господа, затягивая ее начало, мы только упустим время и тогда осуществить ее будет крайне сложно или даже вовсе невозможно. А может, и слишком поздно, — это заговорил до той поры молчавший светлейший князь.
Он стоял возле окна, смотрел на улицу, по которой маршировала пехотная рота, распевая какую-то песню. Солдаты бесшумно хлопали ртами, потому что окна не пропускали с улицы ни звука. Светлейший князь, наблюдая за губами солдат, хотел догадаться, какую песню они поют. Его лицо было в глубоких порезах, как будто он брился тупой бритвой и при этом у него так дрожали руки, что он задел лезвием нос и брови. Больше всего, как это ни странно, досталось лбу, и чтобы остановить там кровь, пришлось даже наложить повязку. Такое бывает с очень тягостного похмелья. Оставалось радоваться только тому, что он не повредил глаза. На самом деле накануне вечером автомобиль светлейшего князя обстрелял «Фоккер». Он заходил на цель сзади и пропахал пулеметной очередью дорогу. Водитель, услышав звуки выстрелов, успел вывернуть руль в сторону. Когда пули забарабанили по автомобилю, они вспороли лишь заднее сиденье. Биплан заложил левый вираж. Развернулся. У него ушло на это не более минуты. На этот раз он бросил бомбу. Она взорвалась немного впереди автомобиля. Взрывная волна разбила лобовое стекло на тысячу осколков и плеснула ими в лица водителя и князя. Осколки бомбы пролетели стороной. Великолепный автомобиль, сделанный по индивидуальному заказу фирмой «Дукс», предмет гордости светлейшего князя, был испорчен. Это огорчало светлейшего. Но техники обещали автомобиль исправить.
На подоконнике, уже соскучившемся по мягким поглаживаниям тряпки, накопилась пыль, а в правом верхнем углу оконной рамы расставил сети паук, выжидая в укрытии, когда же в них попадется муха.
Наконец светлейший князь узнал песню, тихо повторив несколько слов. Его улыбка стала еще шире, когда он понял, что не ошибся и движения его губ в точности совпали с артикуляцией солдат. И тогда он потерял интерес к происходящему на улице.
— Рискнуть стоит. Иначе мы будем топтаться на месте и ждать, когда с неба грянет гром. Меня беспокоит только, что в случае неудачи новейший «Илья Муромец» или его остатки, а так же рация последней конструкции, которая будет у штурмового отряда, могут попасть к немцам. Это секретные разработки. Дарить их германцам никак нельзя.
— Да, да, — затараторил Игнатьев, — Ваша светлость правильно подметили. Если возникнет вероятность, что они могут попасть в руки немцев, то и рацию, и аэроплан надо уничтожить.
— Легко сказать, — скептически проворчал Гайданов, а потом махнул рукой.
Для осуществления его давней мечты — челночной бомбардировки заводов Круппа в Эссене — одного нового «Ильи Муромца» было недостаточно. Генералу была нужна эскадра таких бомбардировщиков. Он знал, что получит ее только через месяц, а до того времени — будет ли у него новый бомбардировщик, или его не будет — безразлично.
Генералы могли сколько угодно отстаивать друг перед другом свою точку зрения, при примерно равном соотношении сил последнее слово оставалось за светлейшим князем. Более того, его мнение могло перевесить и точку зрения абсолютного большинства, хотя он редко пользовался эти правом, обычно поддерживая сторону, получавшую преимущество.
— Я рад, что вы одобрили план операции, — лицо Игнатьева сияло, как у кота, который забрался в кладовку и вылизал до дна крынку сметаны.
Теперь им осталось разучить роли.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Даже здоровый человек со временем превратится в госпитале в больного, а степень серьезности заболевания будет зависеть от того, сколько он проведет здесь времени. Пижама на Мазурове была мятая. Он стеснялся в ней ходить и большую часть времени проводил в палате, валясь на кровати. Это было приятно. У остальных выздоравливающих наряды были ничем не лучше. Шили пижамы, очевидно, на той же фабрике, что и арестантские робы, поэтому, когда выздоравливающие ходили по парку, казалось, что это заключенных вывели на ежедневную прогулку. Ничем они уже не напоминали бравых вояк, от одного вида которых германские и австро-венгерские войска могли броситься наутек. Никто их теперь не испугается. Ну, может, кассир в банке или продавец в магазине, которые решат, что их пришли грабить.
Лето заканчивалось. Когда польют дожди, выздоравливающие лишатся даже незатейливого развлечения в виде прогулки. Останется им лишь одно — сидеть по палатам, смотреть, как по стеклам стекают струйки дождя, а за окнами беснуется ветер, раскачивая деревья и срывая с них последнюю листву.
Мазуров распустился, перестал держать себя в форме и брился раз в два дня. К его огорчению, когда в палату вошел Рандулич, подбородок и щеки украшала молодая поросль щетины, успевшая пробиться на коже за минувшие сутки. Как галантный кавалер, генерал пропустил впереди себя даму, так что вернее было бы сказать, что на пороге палаты, в которой лежал Мазуров, появилась вначале сестра милосердия. Мазуров расплылся в улыбке и хотел уж было отвесить очередной комплимент, подметив, как она сегодня великолепно выглядит. Обычно после таких слов лицо сестры милосердия заливалось красной краской. Она смущалась, опускала взор, чем приводила Мазурова в веселое настроение. Кем она была? Дочкой богатого купца, которой надоело внимание поклонников? Мазуров все хотел расспросить ее об этом. Он почти решился уже, но следом за ней вошел Рандулич.
— К вам генерал, господин, — сказала сестра милосердия, немного запинаясь.
Мазуров и без этого представления догадался, кто к нему пожаловал. Признаться, он был рад этому визиту — хоть какое-то светлое пятно в серой госпитальной жизни.
Вначале Мазурову показалось, что генерал, видимо, оказавшись где-то неподалеку, решил навестить своего подчиненного. Но увидев, как он многозначительно посмотрел на сестру милосердия, после чего та удалилась, капитан понял, что разговор будет серьезный, да и своего адъютанта генерал оставил в автомобиле. Мазуров корил себя, что не обратил внимания на то, как подъехал «Руссо-Балт» генерала. Он мог бы успеть расправиться со щетиной.
— Здравствуй, Николай, — сказал генерал.
Мазуров с трудом мог определить, сколько сейчас времени. Часы-ходики, которые так раздражали своим тиканьем, к счастью, сломались и теперь не беспокоили его по ночам. Стрелки застыли на отметке половина седьмого. Кровать располагалась слишком далеко от окна, поэтому он не видел насколько высоко поднялось солнце. Лишь по теням, которые отбрасывали на подоконник деревья, капитан предположил, что сейчас около десяти утра. Ему стало стыдно, что он в такое позднее время все еще валяется в кровати. Мазуров уже не первый день уговаривал главного врача отпустить его. Но тот стоял как неприступная крепость, несмотря на милый характер и беззащитную внешность.
Если бы не отсутствие наград на груди, можно было подумать, что генерал приехал с парада или со смотра вверенных ему частей. С него можно хоть сейчас писать картину или плакат. Лицо Рандулича потемнело. Не только от загара, но и от пыли. Лишь вокруг глаз — там, где, видимо, в дороге их оберегали очки, — кожа была светлой и чистой. Мазурову хотелось о многом его расспросить, но он ждал, когда генерал объяснит цель своего визита. Однако поначалу Рандулич осведомился о самочувствии. Внимательно выслушал ответ, покачивая головой и о чем-то размышляя. Он мерил палату шагами. Напрасная трата времени. Мазуров мог сказать ему, что в длину она четыре с половиной метра и два с половиной в ширину. Генерал подошел к окну и долго смотрел на улицу. Когда он повернулся, то улыбнулся, хитро сощурив веки, и сделался похожим на лиса, который собирается наплести цыпленку кучу небылиц, чтобы тот добровольно согласился пойти с ним в лес.
— Боюсь, что я с плохими вестями. Мне хочется прервать твой отпуск.
— Это хорошие новости, — сказал Мазуров.
Он смотрел на генерала, думая, что тот сейчас ему все выложит, но ошибся.
— Сколько тебе нужно времени на сборы?
— Минут десять.
— Хорошо. Собирайся. С главврачом я все улажу.
Очень скоро выяснилось, что беседовать с водителем, которому генерал Рандулич поручил доставить Мазурова к тренировочной базе, все равно, что общаться с человеком, который находится на Марсе или на Венере. Фразы запаздывали, а в диалоге было очень много пустот, поскольку водитель по натуре был молчалив и слишком долго подбирал нужные слова.
Он важно и лениво поглядывал на дорогу, погрузившись в собственные мысли, но если вывернуть их наизнанку, то на свет полезли бы такие замысловатые слова, как картер, стартер, гидравлический привод и прочие премудрости. От них у простого обывателя, а к ним иногда причислял себя и Мазуров, кругом пойдет голова, словно ты решил одолеть на сон грядущий учебник по высшей математике, физике или астрономии и явно переоценил свои возможности.
Мазуров совсем недавно избавился от болезненных ощущений в голове. Они появились там после того, как Рандулич за очень короткое время выплеснул на него поток разнообразных сведений, касающихся предстоящей операции. Сведения эти не могли сразу разложиться по полочкам и бродили по мозгу, выискивая там закоулки, в которых можно прилечь и успокоиться. Мазуров не нашел эти ощущения приятными и возвращать их обратно не собирался.
Его возбуждение постепенно улеглось, застыло, как застывает цемент. Вязкая пластичная масса, из которой можно сделать все что угодно, превратилась во что-то твердое и неподатливое. Покрасневшие глаза капитана, словно он долго не спал, чесались от пыли. Рука тоже была в пыли. Тереть сейчас глаза рукой — все равно, что провести по ним наждачной бумагой.
Периодические подпрыгивания автомобиля на кочках укачивали. Мазуров ловил себя на том, что время от времени начинает склоняться к панели приборов. Лишь в самый последний момент ему удавалось ухватиться за край ускользающего сознания, иначе он впал бы в беспамятство. Капитан уже с ностальгией вспоминал госпиталь, где мог проваляться в постели до обеда.
Первоначальная задача, стоявшая перед ним, была очень проста отобрать девять штурмовиков, причем Рандулич невольно сильно упростил ее условия, поскольку теперь Мазурову предстояло выбирать не из двадцати одного, уцелевшего после штурма моста, а всего лишь из четырнадцати. Ставку он решил сделать на старую гвардию. Старый конь борозды не испортит.
Как там было? Капитан Билли протянул руку, думая, что ему дадут золото, но в его ладони оказалась черная метка. Что-то вроде этого. Старый пират очень расстроился. Кажется, его хватил припадок. Мазурову нужно было раздать аж девять таких меток, но самое удивительное заключалось в том, что те, кому они не достанутся, обидятся на него, посчитав себя обделенными. Глупые. В мире существует так много способов для самоубийства. Некоторые из них даже доставляют удовольствие.
Нельзя сказать, что Мазуров остался в восторге от услышанного. Все это очень напоминало тот случай, когда римский император, решив проверить преданность своих солдат, послал один из легионов на Восток, приказав ему завоевывать все земли, которые будут лежать на их пути.
Интересно было бы посмотреть на реакцию этого властелина, если б эти легионеры, обожженные солнцем далеких стран, вернулись в Рим, чтобы бросить к его ногам полмира. Стал бы он раздумывать над тем, а не приказать ли им завоевать другую половину? Но легионеры были всего лишь людьми, хотя некоторые из тех, кого они встречали по дороге на Восток, полагали, что это боги сошли с небес. Ходили легенды, что прежде чем растаять, остатки легиона смогли добраться до Индии, а там их след затерялся. Император вовсе не наделся, что его солдатам удастся дойти до края света и вернуться обратно. Рандулич же придерживался противоположной точки зрения. Да и штурмовиков он посылал совсем не на край света, а всего лишь в Германию.
Мазуров ощущал себя стоящим на берегу, а возле его ног закручивался спиралью водоворот. От этого ощущения мурашки ползли по телу. Осталось совсем немного времени до того, как он бросится в водоворот, а потом… Можно сходить к хироманту и узнать уже сейчас, что будет потом. За прием тот брал всего десять рублей, а если ему немного увеличить гонорар, то хиромант обещал научить тому, как обойти все препятствия. В последнее время его приемная обычно пустовала, потому что никто не хотел знать свое будущее. Оно могло оказаться таким страшным, что и к настоящему примешается горьковатый привкус и дальше жить расхочется.
Автомобиль подъехал к тренировочной базе. Лобовое стекло запылилось, а мир погрузился в желтоватый, разъедающий все вокруг туман. Из КПП выбежал солдат, принялся открывать ворота. Он налег на щеколду, потянул ее на себя, лицо его так исказилось, будто он взялся за очень тяжелую работу, то ли хотел завязать узлом кочергу, то ли разогнуть подкову. Щеколда вначале сопротивлялась, а потом резко поддалась, точно сломалась.
— Богатырь, — процедил водитель.
Солдат едва не упал, потеряв равновесие. Его спасло только то, что он продолжал держаться за щеколду. В пыль упала лишь фуражка. Солдат резво поднял ее, отряхнул, ударив о колено, нахлобучил на голову, но немного криво, кокарда глядела в сторону, как глаз косого циклопа.
Потом он распахнул створки ворот, вытянулся возле них, приложил ладонь к голове, но выглядело это комично. Мазуров выбрался из автомобиля, забрал с заднего сиденья вещмешок, отдал очки водителю.
— Спасибо. Дальше пойду сам.
Он мог бы сделать это и пораньше. Тогда солдату не пришлось бы надрываться и так мучиться с воротами.
— Счастливо оставаться, — сказал водитель.
Он чуть проехал вперед, затем дал задний ход, лихо развернулся на узкой дорожке, лишь немного заехав на обочину задними колесами, а потом помчался обратно в город, отмечая свой путь густым шлейфом пыли, сквозь который было невозможно рассмотреть автомобиль.
Мазурову не понадобилось много аргументов, чтобы уговорить Рандулича вместо привычных мешков с соломой, подвешенных, словно висельники на веревках и предназначенных для отработки штыковых ударов, отгрохать здесь более грандиозное сооружение. Он уверял генерала, что капитальные расходы окупятся сторицей при подготовке новобранцев.
Лагерь был рассчитан на три роты. Деревянные бараки стояли в один ряд. Их сложили из обтесанных бревен, покрашенных зеленой краской, и накрыли покатыми деревянными крышами. Они напоминали бы разросшиеся до невообразимых размеров деревенские домишки, если б на окнах у них были резные наличники. Дальше лежал плац. Этот прямоугольник земли так вытоптали и утрамбовали тысячами ног, которые промаршировали по нему, что во время дождя вода почти не впитывалась, оставаясь подолгу на поверхности и собираясь в огромные лужи. Солнце очень долго не могло их высушить.
Большинство новобранцев винтовки в руках не держали, стрелять не умели, а со штыком они пыталось обращаться, в лучшем случае, как с вилами. Поэтому почетное место на тренировочной базе занимали все те же виселицы с мешками, набитыми соломой. За день они получали так много ударов, что штопать их смысла уже не было. Через пару недель каторжного изучения возможностей винтовки, ее составных частей и того, в каком порядке ее нужно собирать и разбирать, новобранцы привычным движением передергивали затворы, отправляя патроны в казенник, а потом с завидным спокойствием загоняли пулю за пулей в мишени.
Легкое движение, которым отводишь штык противника в сторону, уже не было для них какой-то непонятной китайской грамотой. Учитывая, что у немцев сейчас на передовой все больше появлялось почти не обученных частей, воспитанники тренировочной базы в рукопашной получали над ними неоспоримое превосходство, а если встретишь ветерана, то лучше положиться на пулю.
Ландшафт завершали полоса препятствий, имитация заграждений из колючей проволоки и стрельбище. Оно располагалось в отдалении, чтобы звуки выстрелов не заглушали команд, и упиралось в основание холма, который насыпали здесь люди. Возле него ставились мишени. Пули застревали в склоне холма. Встревоженная выстрелами земля осыпалась. Почти каждый день ее нужно было убирать. Когда-нибудь они пробьют этот холм насквозь.
Город лежал примерно в пяти километрах от лагеря, доставлявшего горожанам большое беспокойство. Но они зла не держали, в своих неудобствах винили исключительно германцев и австро-венгров, а на базу присылали продукты: свежий хлеб, мясо и овощи. Один из городских предпринимателей и вовсе каждую неделю пригонял сюда грузовик со всевозможным провиантом.
Немая сцена из категории «Не ждали». Мазуров стоял один-одинешенек, никто его не встречал, а он, словно путник, оказавшийся здесь впервые, выискивал глазами кого-нибудь, кто согласится выступить в качестве проводника. Была в этом и положительная сторона — никто не гнал его прочь, злых собак с цепи не спускал, и на том спасибо. Солдат тем временем запахнул створки ворот и со скучающим видом продолжил нести тяжкую ношу по охране вверенного его участка.
Он возьмет с собой первого же встреченного штурмовика. Он дал себе слово, как тот джинн, что тысячу лет провалялся на дне океана в запечатанном кувшине. И вместе с тем он знал, что если этот штурмовик не будет среди тех, кого он уже отобрал, он слово свое нарушит. Но ему повезло. Кривить душой не пришлось. Со стороны казарм к нему шел Сергей Рогоколь. Долговязый и худой, точно врачи долго морили его голодом, прописав разные диеты, и немного переусердствовали. Он шел раскачивающейся походкой, руки дергались вдоль тела, точно их поразила болезнь Святого Витта. Больше всего на свете Рогоколь напоминал деревянную игрушку этакого Пиноккио, у которого вместо суставов проволочки. У него всегда был вид человека, который может в любую секунду упасть в голодный обморок. Завидев Сергея на улице, сердобольные хозяюшки, вздохнув и разведя руками, уговаривали зайти к ним в дом, чтобы откушать чего-нибудь. А может, они звали его для чего-то другого. У него было одно неоспоримое достоинство. Рогоколь не понимал разве что язык зверей, на всех же остальных, даже если никогда прежде не слышал, он через какое-то время мог вполне сносно изъясняться. Он умел находить общий язык с кем угодно, не только с сердобольными хозяюшками, впрочем, их он тоже не обделял своим вниманием. Почти каждый, кто слышал его фамилию, порывался спросить — кем ему приходиться министр сельского хозяйства. Эти вопросы Сергею надоели. Он старался поскорее отделаться от них, отвечая, что с министром они просто однофамильцы, после чего вопрошающий терял интерес к этой теме.
— Рогоколь. Ты-то мне и нужен, — сказал Мазуров.
— Рад приветствовать вас, господин капитан, — быстро сориентировался в ситуации штурмовик.
— Брось этот церемониал. Здравствуй. Я тоже рад тебя видеть. Где остальные?
— Мучают новобранцев.
— Это хорошо.
Со стороны плаца донесся стройный хор.
— Неплохо поют, — сказал Мазуров.
— Да. Запевала у них отличный. Немного подучится и может выходить на сцену, а мы его не тому учим, — если начало фразы было сказано с оптимизмом и с каким-то мечтательным выражением на лице, то к ее концу Рогоколь совсем сник.
— Какие новости?
— Неделю назад приезжал князь Иван Михайлович. Посмотрел как мы тут живем, что делаем. Остался доволен. Покинул нас в приподнятом настроении. Вот, пожалуй, и все. Засиделись мы тут, — грустно добавил штурмовик.
— Это легко исправить. Пойдем.
Мазуров погнал штурмовиков на полосу препятствий для чувства собственного удовлетворения. Он знал их не первый год, а за те несколько месяцев, что они не виделись, вернее — он не видел их в деле, поскольку штурмовики несколько раз наведывались к нему в госпиталь, так вот, за эти несколько месяцев они не могли растерять свои навыки и не успели обрасти жиром и ленью. Если это все-таки произошло, стоило прикинуть, сколько потребуется времени, чтобы вернуть их в прежнюю форму.
Он смотрел, как штурмовики взбираются по канату на вышку. Под ней закреплялся раскрытый купол парашюта. У каната было удобное сечение. Его приятно было обхватывать рукой и подтягиваться, чувствуя силу мышц и легкую приятную боль от их напряжения. У него вдруг закололо сердце. Перед глазами возник поручик Истомин. Его парашют запутался в железных фермах моста, как в паутине, а сам Истомин походил на марионетку. Сразу несколько пуль заставили его успокоиться. Но до того, когда Истомин понял, что не сумеет освободиться, а даже если это и произойдет, то все равно он разобьется или покалечится падая, поскольку висел он на приличной высоте, и от него не будет никакого толку в бою, тогда он сделал несколько выстрелов по обороняющимся немцам. Он находился в отличной позиции, с которой хорошо было видно, куда нужно стрелять. Лучше не придумаешь.
Игоря Рингартена Мазуров впервые увидел в цирке. Это произошло в Одессе. Давно это было. Тогда Мазуров еще серьезно подумывал стать астрономом и учился на соответствующем факультете университета, куда поступил он с заметным скрипом и трудностями. У него был великолепный цейсовский телескоп. Он вписывался в обстановку чердака, заваленного книгами, где Мазуров проводил большую часть ночей, примерно так же, как дредноут гармонировал с туземной деревушкой Новой Гвинеи.
Иногда Мазуров отправлялся развеяться, чтобы немного проветрить слишком засорившиеся от всевозможных вычислений мозги. В один из таких дней знакомая затащила его в цирк-шапито, уверяя, что он получит ни с чем не сравнимое удовольствие. С этим утверждением Мазуров хотел поспорить с самого начала, но потом решил подождать до конца представления.
Возле циркового шатра, возведенного на центральной площади города, как обычно, бурлила толпа. Перед представлением здесь можно было немного поразвлечься, попробовав набросить кольцо на деревянный штырь, или поесть сладостей. Клоуны что-то кричали, зазывая и подзадоривая публику, а мрачные борцы, обнаженные по пояс, чтобы всем были видны их мощные мышцы, напротив, вселяли ужас.
Мазуров прыгал по воспоминаниям, как будто шел по болоту, наступая лишь на кочки и проходя мимо топкой жижи. Болотной жижей были выступления клоунов, гимнастов, силачей. Мазуров заметно скучал, изредка зевая и думая, что деньги на билеты потрачены впустую. Им вполне нашлось бы более достойное применение. От выступления дрессировщика, которого сопровождали три не очень откормленных тигра, Мазуров тоже не ждал ничего сногсшибательного и запоминающегося. Но один из тигров почему-то испугался кольца, объятого пламенем. Зверь сидел на невысокой тумбе, поджав передние лапы, и ни за что не соглашался прыгать в кольцо. Словесные доводы дрессировщика, который начинал уже хрипеть, его не убедили. Это становилось интересно. Мазуров прогнал сон. Дрессировщик до самого последнего момента пребывал в убеждении, что контролирует ситуацию. Исчерпав запас красноречия, или, что более очевидно, окончательно сорвав голос, он хлестнул зверя кнутом. Тигр зарычал, оскалил внушительных размеров клыки, но ограничился лишь этим, видимо, думая, что конфликт можно разрешить дипломатическими методами. Он остался равнодушен к призывам дрессировщика. Тому бы объяснить тигру на ухо, что за эту провинность он сегодня мяса не получит, но дрессировщик не стал действовать так тонко, а решил сломать кнут о спину и морду тигра. Зверь вел себя миролюбиво — огрызался, увертывался от кнута, пытаясь поймать его лапой или выбить из рук, но всему есть предел. Вспышка фотоаппарата заставила перейти его к более активным действиям. Он прыгнул, но не в кольцо… Задние лапы еще не успели оторваться от тумбы, когда передние уже начали подминать под себя дрессировщика, точно тигр хотел обнять и сказать ему: «Ну что ты так рассердился, хозяин?» Из глубоких порезов на лице и плечах человека брызнула кровь. Она тут же впиталась в опилки, усыпавшие арену. Дрессировщик закричал от боли. Его рука, потянувшаяся к карману брюк за пистолетом, оказалась перебита и безжизненно повисла. Он дернулся, только теперь очевидно осознав, что пришло время расплаты.
Цирк наполнился испуганными криками. Они затопили все пространство, поднялись под купол и были настолько сильными, что разобрать отдельные слова или голоса было уже нельзя, а барабанные перепонки могли лопнуть. Еще одна вспышка фотоаппарата ослепила тигра. Тот понял, что сделал что-то не так, чем еще больше усугубил свою вину, с сожалением оставил дрессировщика и прыгнул на решетку, которая разделяла арену и зрителей. Зверь решил, что причина всех его бед кроется в фотоаппарате. С ним надо поскорее разделаться, может, тогда удастся помириться с дрессировщиком. Решетка содрогнулась. Сегменты, из которых она состояла, разошлись. Спутница Мазурова кричала. Ее глаза вылезли из орбит от страха. Она боялась, что стоит сделать шаг, как тигр бросится к ней. Ее ноги будто приклеились, а скинуть туфли она не догадалась. «Не бойся, — сказал ей Мазуров. — Все обойдется». Она ему не поверила и продолжала кричать. Остальные зрители не стали дожидаться, когда решетка рухнет, вскочили в едином порыве со своих мест, бросились к выходам. Возле них тут же образовались толпы. В результате выходы пропускали гораздо меньше людей, чем могли бы.
Точно так же спасаются с тонущего корабля, который погружается в воду. Беда в том, что вода пребывает так быстро, что спасется лишь тот, кто сумеет выбраться в первые минуты, а остальные…
Их ждала незавидная судьба, но тигр от такого количества мечущихся в ужасе людей растерялся, сел на краю манежа и стал наблюдать за происходящим, видимо, пытаясь догадаться, отчего это зрители так всполошились.
Под ногами валялись сумочки, веера, растоптанные шляпки, перчатки. Идеальная ситуация для карманников. Ко всему прочему свет приглушили. Никто не подумал, что глаза тигра более чувствительны в темноте, чем глаза человека. Это еще больше усилило панику.
В этот самый момент Мазуров увидел человека, который, как ни в чем не бывало, сидел в третьем ряду и с интересом смотрел на манеж, будто там все еще продолжалось представление. Он улыбнулся, медленно махнул рукой тигру. Тот покорно двинулся в свою клетку. Много позднее Мазуров встретил этого человека в штурмовом отряде. Его звали Игорь Рингартен.
Происшествие в цирке попало во все утренние выпуски городских газет. Ночью их пришлось срочно переверстывать и заменять первую полосу, но владельцы потирали руки от радости. Они должны были выставить тигру столько мяса, что у того мог бы случиться заворот кишок от переедания, поскольку тираж газет мгновенно подскочил и утром их разбирали, как только что испеченные пирожки. Только наборщики всю ночь поминали возмутителя спокойствия недобрыми словами. Их вполне хватило бы, чтобы тигр издох от приступов икоты.
Репортеры взяли в оборот только что пришедшего в себя после пережитых волнений дрессировщика. Да, все-таки — болевой шок, сломанные ребра, синяки, ссадины и шишки, не обошлось и без частичной потери памяти, а как иначе объяснить то, что дрессировщик уверял всех, будто это именно он загнал взбунтовавшегося тигра в клетку. Помощники боялись говорить ему, что в то время, как тигр все еще сидел в раздумьях на арене, они оттащили недвижное тело своего наставника в безопасное место. Мазуров с некоторой долей удовольствия читал бойко написанные статьи, в которых, как это водится, всех пострадавших в давке и сутолоке отнесли к жертвам буйства тигра. Им настоятельно рекомендовалось потребовать компенсации от руководства цирка. Великолепные фотографии украшали первые страницы. Тигр застыл готовый к прыжку. Вот он подмял под себя дрессировщика. Вот он ломает сетку. Дрожь берет. Как и следовало ожидать, репортеры забыли написать только о том, как все было на самом деле. Ну да бог с ними.
— Ты оказалась права, — сказал Мазуров своей знакомой, когда волнения улеглись. — Я получил удовольствие от представления.
Спуск с парашютной вышки не мог заменить настоящих прыжков. Эта часть подготовки проводилась скорее для того, чтобы штурмовики не разучились приземляться и не забыли, как нужно отстегивать лямки, избавляясь от парашюта.
Игорь рванулся вперед, прыгнул на земляной барьер, а следующим шагом попробовал перемахнуть через яму шириной метра полтора, заполненную грязной жижей, которую вырыли прямо за барьером. Жижа доходила до поверхности земли, поэтому сказать какой глубины яма можно было только после того, как в нее угодишь. Игорь не стал это проверять. Сильно оттолкнувшись ногой, он приземлился по ту сторону ямы на обе ноги, но слишком близко к краю. Подошвы ботинок заскользили, он пошатнулся, стал сползать в яму, но во-время пригнулся, уперся руками в землю и, бросив тело вперед, сумел таки избежать падения. Он наткнулся на заграждение из колючей проволоки, а сразу за ними возникла мишень. У Игоря начинало перехватывать дыхание, отчего рука с пистолетом немного дрожала. Тем не менее он сумел всадить две пули в мишень, до того как она исчезла, и был уверен, что выбил как минимум 18. Он хотел упасть на землю, но увидел тонкую, почти сливающуюся с травой натянутую проволочку, конец которой был привязан к мине. Игорь едва не задел ее, а носок его ботинка отделяло от проволочки сантиметров двадцать. Он улыбнулся, быстро переступил через проволочку на полусогнутых ногах, стараясь не дотрагиваться до нее, хотя для того, чтобы мина взорвалась, необходимо было проволочку рвануть. Он тут же лег на живот, почти касаясь головой железных колючек — настолько мало было свободного места, достал кусачки и стал резать проволоку, расчищая проход в заграждении. Проволока оказалась жесткой. Как только Игорь перерезал ее, обрубленные концы со свистом распрямились, рассекая воздух, как кнут или сабля. Они были опасны и могли сильно поранить, поэтому приходилось быть особенно осторожным. И все же пару раз проволока коснулась его, один раз ухватив гимнастерку на плече, а в другой раз прочертив на щеке борозду. Порез был неглубоким. Проволока только разорвала кожу, но щека сразу зазудела и зачесалась. Кровь размазалась по лицу, смешиваясь с маскировочной краской.
Дальше располагалось бревно на подставках, по которому нужно было пробежать. Задача сама по себе несложная, если не учитывать, что поверхность бревна была настолько скользкая, что по ней трудно было сделать даже один шаг.
Строй перекладин, подвешенных на высоте двух с половиной метров над землей, но к этому препятствию руки уже успевали немного отдохнуть, а на нем отдыхали ноги.
Затем двухметровый щит, сбитый из обструганных досок. Он походил на кусок обычного забора, выпиленного из ограды какого-нибудь дома. Его выкрасили в зеленый цвет, но дождь, ветер и снег уже почти стерли краску, обнажив посеревшее, потрескавшееся дерево. Рингартен уцепился руками за его край, одновременно подтягиваясь, толкая тело вначале ногами, а затем и руками, так что он перемахнул через щит с такой легкостью, будто в подошвы ботинок вставили пружины.
Когда Игорь добрался до конца полосы препятствий, его сердце стучало так сильно, что казалось, сумеет пробить грудную клетку, вывалится из раны и повиснет, удерживаемое только жгутами вен. По ногам разлилась тяжесть, как будто в кровь впрыснули цементную крошку и теперь они уже перемешались и начинают медленно застывать. Тяжелое дыхание с хрипом вырывалось из груди. Горло саднило. Оно походило на жерло вулкана, из которого с минуты на минуту должна извергнуться лава. Рот пересох. На губах присохли хлопья пены. Если провести по ним языком, то можно почувствовать соль, похожую на следы испарившейся морской воды. Больше всего на свете Рингартену хотелось закрыть глаза (все равно, кроме мерцающих вспышек, он почти ничего не видел), присесть, а лучше полежать хотя бы несколько минут. Он знал, что этого будет достаточно для того, чтобы восстановить почти все функции тела.
— Неплохо, — сказал Мазуров, похлопывая Игоря по плечу. Он делал это не сильно, но Рингартен согнулся в поясе, будто на него взвалили огромный мешок с мукой.
— Что нас на этот раз ожидает? — каждое слово давалось ему с трудом. После того как Игорь произносил его, проходило несколько мгновений, прежде чем он, отдышавшись, набирал сил для нового слова.
— Пока не время говорить об этом.
— Значит, ты возьмешь не всех, — Рингартен не спрашивал, а констатировал факт.
— Не всех, — кивнул Мазуров. — Но не беспокойся, для тебя я зарезервировал одно из мест.
— Ты очень любезен.
У него были тонкие красивые черты лица, но если его легонько ударить кулаком в нос и губы, лицо станет безобразным. Это многим приходило в голову. Когда-то Игорь зарабатывал себе на жизнь, играя в карты в модных клубах. Ему не приходилось даже шельмовать. Он читал мысли соперника, узнавал его карты и обыгрывал почти до нитки, оставляя только на пролетку до дома. Он играл со всеми, но обыгрывал не всех, а только тех, кто ему не нравился. Как же они его ненавидели. Когда два нанятых громилы сильно отдубасили Игоря, он понял, что пришло время обучиться приемам самообороны. В самом деле — не таскать же повсюду за собой охрану. Он потратил на это два года, а чуть позже освоил и приемы нападения. У него были большие голубые глаза. Игорь умел делать их удивленно-невинными, хотя обычно они оставались хитрыми. Черные короткие волосы и густые черные брови. Если его состарить лет на десять и испачкать лицо тонкой полоской усиков прямо над губой, он стал бы вылитым Максом Линдером. Мазуров назвал бы его обаятельным мерзавцем.
В разговорах с близкими друзьями, а их у Игоря почти и не было, он любил повторять, что его пра-пра и так еще семь раз подряд бабушку инквизиторы сожгли на костре, обвинив в колдовстве. Если бы Игорь родился чуть раньше, ему вряд ли удалось бы избежать похожей судьбы…
Но Рингартену досталась только третья строчка в списке Мазурова. Какая разница? Никакой. Все равно — стоит ли он третьим или десятым. Все попадут. А вторым, сразу за Мазуровым был Петр Азаров. Все его недостатки компенсировались тем, что лучше Азарова никто не мог управляться с рацией. Более того, до войны он работал консультантом в фирме Попова, и несколько его предложений изобретатель радио учел при проектировании нового аппарата, который теперь находился в распоряжении штурмовиков.
А вот еще одна занимательная личность. Женя Колбасьев. Из арбалета он мог пробить пятикопеечную монету на расстоянии сорока метров, при этом стрела редко отклонялась от центра монетки. Где и главное зачем он обучился этому — капитан не знал. Эти навыки могли казаться бесполезными, если не брать в расчет то, что с более современными видами оружия Колбасьев обращался не хуже, чем с арбалетом.
Мазуров пришел к выводу, что если война закончится и они останутся не у дел, то можно организовать передвижной цирк, устраивать представления, кочевать из города в город, демонстрируя свое мастерство. Колбасьев будет повторять подвиги Вильгельма Телля, а подставкой для яблока будет служить, скажем, Андрей Ремизов. Кто-кто, а он-то не должен бояться стрел. У него на левом боку был очень красивый шрам в форме звездочки, как раз такие отметины обычно и оставляют после себя стрелы. На женщин этот шрам производил, наверное, такое же впечатление, как серебряный браслет офицеров минных тральщиков с гравировкой «Погибаю, но не сдаюсь». Больше от этой приятной вещицы нет никакой пользы. По ней можно идентифицировать обезображенный труп. Но вот беда — трупы минеров обычно идут на корм рыбам, а тем все равно кого есть… С левого предплечья Андрей почему-то свел наколку. После нее остался безобразный шрам. Наколка и шрам-звездочка были как-то связаны между собой.
Будущее цирковое представление наверняка украсит номер человека-кошки Павла Миклашевского. Кто пороется в его тумбочке или хотя бы мельком увидит ее содержимое, без труда догадается об увлечениях Павла — там хранятся ботинки с когтями, ледоруб (надо заметить — очень опасное оружие в рукопашной), а еще коллекция безобидных безделушек, но, даже подержав их в руках, не каждый мог сказать, для чего же они собственно предназначены. Узнай об увлечении Миклашевского детишки — проходу бы ему на улицах не давали, просили достать, застрявший на дереве воздушный змей или надувной мяч.
Вот только со стрелками будет явный перебор, потому что Мазуров решил внести в список еще двух. Они отличались от Колбасьева. С ними было все ясно с самого начала. Они входили в число тех, кто должен был отправиться на Тибет, являлись наименее загадочными личностями в его отряде и свято придерживались предназначения, которое выпадает на долю младших отпрысков в бедных дворянских семьях. Раньше они стали бы наемниками, а теперь… это называется так же. Оба среднего роста, поджарые (в одежде они казались худыми), ни грамма лишнего веса, собаки, которые могут долго идти по следу, пока не поймают добычу. Итак: Иван Александровский и Сергей Краубе. Мазуров знал, что оба воевали на Балканах на стороне сербов в тринадцатом году, а Краубе, возможно, годом раньше в Киринаике.
Само небо послало Мазурову в самом начале войны Михаила Вейца. Было бы неразумно удовлетворять его требование и отправлять в пехоту, как того хотел Вейц, явившись на призывной участок, если учесть, что он занимался изучением взрывчатых веществ. Ох, уж эти патриоты! Разумнее было бы вовсе отправить его обратно в лабораторию, приковать кандалами к столу, на котором стоят приборы, и заставить продолжать работу, но когда приходит война чем-то надо жертвовать. Хороший подрывник ценился не на вес золота, а гораздо дороже. Маленькие, похожие на следы от оспин ямки усеивали его лицо. Вейц стеснялся их. Чтобы скрыть хотя бы часть из этих оспинок, он отрастил бороду. Шрамы на руках были гораздо страшнее, но их легко прятали перчатки. Вейц с ужасом думал о том, во что могло превратиться его лицо, если бы он не закрыл его руками, когда в лаборатории взорвались препараты. Он не выжил бы, а так… Брови и ресницы обгорели, кожа стала сухой. Но при известной доле воображения можно догадаться, что когда-то его лицо было красивым. Михаил не любил смотреться в зеркало. Но от этого лицо не переставало быть уродливым, а врачи не могли вернуть ему прежний облик…
Солнце медленно тонуло за горизонтом, затапливая землю кроваво-красными отблесками.
Уходило минут пятнадцать, прежде чем глаза привыкали к темноте настолько, что начинали различать очертания мишеней. Впрочем, штурмовики скорее чувствовали, где те находятся, чем видели их, поскольку было уже слишком темно, и глаза стали плохими помощниками. Мир сливался в однообразную черную мглу, как будто ты оказался на дне океана, осветить который может только мощный прожектор. Облака висели так низко, что казалось, небеса начинают оседать и вскоре упадут на землю, погребая под обломками катастрофы людей и все, что они успели построить. В такие минуты в кровь, вместе с воздухом, просачивается страх, и далеко не у всех есть иммунитет к этому заболеванию.
Поле разделялось на сектора. Каждый вел наблюдение за своей территорией. Если бы мишени стояли на прежних местах — у подножия холма, штурмовики могли стрелять наугад. Они запомнили их расположение и могли выбить неплохой результат даже с закрытыми глазами. Но упражнение усложнилось.
По всему полю на расстоянии от 30 до 150 метров от позиций штурмовиков расставили около двадцати мишеней. В их расположении не проглядывалось никакой системы. Они появлялись на несколько секунд, обычно не более десяти, а потом вновь падали. Усмотреть какую-то закономерность в их возникновении было невозможно. Теория случайных чисел. Нужно было уловить момент, когда мишень появится. При этом она издавала едва уловимый шум. Так трутся друг о друга дерево и металл.
Они успели сделать примерно по десять выстрелов. После Мазуров отправил штурмовиков отдыхать. Ему показалось, что они остались недовольны.
Мазуров сидел за столом на расшатанном до предела стуле. Удерживать на нем равновесие было не менее трудно, чем ходить по канату, а откидываться назад опасно. Стоило только перенести немного центр тяжести, как стул начинал скрипеть, деформироваться, его сочленения приходили в движение, словно это какой-то странный механизм. Он мог развалиться, поэтому Мазурову невольно приходилось склоняться над столом, опираясь на него локтями. Стол, к счастью, был крепким.
Перед капитаном лежала стопка чистых листов бумаги, чернильница, ручка и пепельница, словно он намеревается приступить к мемуарам или к завещанию. Последнее — очень актуально, потому что шансов уцелеть было меньше, чем у игрока в рулетку выиграть целое состояние. Но он не знал с какой фразы начать, задумчиво перебирая в памяти события своей жизни.
Наконец он решился. Схватил ручку, обмакнул ее в чернила и быстро, пока не прошло вдохновение, начал писать.
1. Николай Мазуров
2. Петр Азаров
3. Игорь Рингартен
4. Михаил Вейц
5. Сергей Рогоколь
6. Андрей Ремизов
7. Павел Миклашевский
8. Евгений Колбасьев
9. Иван Александровский
10. Сергей Краубе.
На этом творческий порыв покинул его, и, дописав последнюю фамилию, он остановился, опять о чем-то задумавшись. Вероятно, хотел сделать какие-то изменения. Но нет. Мазуров утопил ручку в чернильнице. Потом взял исписанный листок бумаги, поднес его поближе к глазам, словно плохо различал то, что написал. Но света хватало, чтобы разглядеть список и с большего расстояния. Он медленно прочитал его. На это ушло много времени. Даже никогда прежде не встречая эти фамилии, он успел бы их запомнить. Затем капитан достал из кармана коробок спичек и поджег листок. Мазуров держал его над пепельницей, пока огонь не съел все фамилии, а потом бросил оставшийся клочок, тот быстро съежился и превратился в пепел…
Мазуров раздал черные метки. На следующий день он пригласил к себе в комнату отобранных им штурмовиков.
— Сроки у нас сжатые, — сказал он, после того как изложил план операции, — дальше будем заниматься по индивидуальной программе и не здесь.
Остальным он приказал не в коем случае не прерывать занятий с новобранцами, сообщив, что к ним в помощь Рандулич пришлет несколько ветеранов. «Только обиды на меня не держите. Лучше зажмите пальцы крестом. Но несколько суток так их не удержишь». Ничего Мазуров им не сказал. На этом они расстались.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Аэродром находился в лесу. Его хорошо замаскировали, и если бы двумя минутами ранее пилот не повернулся к Мазурову и знаками не показал ему, что сейчас они начнут снижаться, капитан никогда не догадался бы, что где-то поблизости располагаются пять гигантов «Муромцев» и около трех десятков более мелких аэропланов.
Мазуров почти с самого начала полета убедился, что пилот — ас. Он интуитивно чувствовал воздушные ямы и заблаговременно обходил их, так что «Ньюпор» почти не трясло, и единственной неприятностью был сильный холодный ветер.
Пилот вел аэроплан спокойно и уверенно. Эта уверенность успокаивала Мазурова, заставляя его понять, что с ними ничего не случится, а если они повстречают немецкую эскадру, которая еще не успела расстрелять все патроны, пилот сможет от нее ускользнуть и затеряться в облаках.
Фамилия пилота была Шешель. Ее хорошо знали в среде любителей автогонок. Но даже если бы Мазуров оставался к ним равнодушен, он не смог бы забыть обезображенное жутким шрамом на левой щеке лицо победителя пробега на Императорский приз тринадцатого года. Фотография Шешеля появилась тогда почти во всех популярных журналах Санкт-Петербурга и Москвы, а в некоторых синематографах показывали фильм об этих гонках и то, как светлейший князь вручает победителю кубок и лавровый венок. Шрам придавал Шешелю романтический ореол. Женщины полагали, что он попал в страшную автокатастрофу и чудом остался жив, но реальность оказывалась более прозаичной. Шрам был последствием драки в портовом кабаке Марселя, где Шешель, уже изрядно подвыпивший, повздорил с английскими матросами. Из-за этой драки он чуть не вылетел из летной школы. Но инструкторам было жалко с ним расставаться, и они замяли скандал, воспользовавшись услугой русского консула.
Теперь на счету Шешеля значилось семнадцать сбитых немецких и австро-венгерских аэропланов. Раскрась он свой «Ньюпор» наподобие того, как это сделал Ричговен, один его вид вселял бы в противника ужас. Фотографии вновь могли бы появиться на страницах журналов, но Шешель уже не хотел этого.
На голову Мазуров надел кожаный шлем, на глаза — очки, а на лицо шерстяную маску, но все равно они были слабой защитой от ветра. Кожа на лице заледенела. Мазуров так продрог, что едва мог выговорить несколько слов.
Капитану казалось, что они обязательно должны задеть кроны деревьев так низко шел аэроплан, но он даже не успел испугаться, потому что через несколько секунд аэроплан коснулся колесами летного поля. Оно не было идеально ровным. Аэроплан затрясся, запрыгал на ухабах, а Мазуров, хоть и приготовился к посадке, крепко уцепившись руками в щиток перед собой, все равно едва не ударился о него головой и чуть не прикусил язык. Почти сразу же аэроплан завалился на заднее колесо. Мазурова качнуло назад. Рюкзак с парашютом на спине cамортизировал удар о жесткую спинку кресла. Аэроплан стал замедлять скорость, одновременно отклоняясь вправо. И тут Мазуров понял, что Шешель что-то напевает. Однако кряхтение двигателя заглушало слова. Мазуров не торопился снимать шлем, а тем более шерстяную маску, но ветра уже не было, и очки с глаз он все же сдернул. Их стекла немного запотели.
Из зарослей, которые окружали летное поле, возник солдат. Он приветливо помахал Шешелю рукой, тот ответил взаимностью. Заросли разошлись в стороны, как ворота, открывая вход в небольшую пещеру. Стенами ей служили стволы деревьев, а крышей — их густая крона и маскировочная сетка. В пещере оказалось достаточно места для аэроплана. Она действительно закрывалась деревянными воротами, утыканными зелеными ветками, которые создавали видимость зарослей. Шешель направил «Ньюпор» к пещере, медленно вкатился в нее и развернулся, стараясь не задеть крыльями ветви, а потом заглушил мотор.
— Все. Приехали, — сказал он, оборачиваясь к Мазурову.
— Спасибо, капитан, — ответил тот.
— А, не стоит, — отмахнулся Шешель, выбираясь из пилотской кабины.
Он прыгнул на землю, потом стал приседать, разминая затекшие ноги. В это время солдат закрыл ворота. В пещере сразу стало темно. Свет тонул в листве. К аэроплану подошли два авиамеханика. Мазуров едва не вскипел, когда один из них подал ему руку и хотел помочь вылезти из кабины.
— Я сам, — сказал Мазуров, не скрывая недовольной гримасы.
— Это все из-за генерала Духнова, — сказал Шешель, наблюдая за происходящим. — Когда он собирался к нам, то поспорил на ящик шампанского, что сумеет обнаружить с воздуха наш аэродром. У меня в баках почти закончилось топливо, а над летным полем я пролетел трижды. Когда мы сели, у генерала так затекли ноги, что, спрыгнув с аэроплана, он упал и с полминуты не мог подняться. Теперь солдаты не хотят, чтобы такой конфуз случился еще с кем-то.
— Я признателен за такую обо мне заботу, — сказал Мазуров, — и понимаю, что в этой маске похож скорее на налетчика, но все-таки могу позаботиться о себе сам.
Мазуров снял шлем и маску. Волосы взлохматились. Их немного причесал ветер. Стало холодно, тело пробил озноб, поэтому Мазурову захотелось выйти на летное поле и погреться — там светило солнце.
В лесу располагалось несколько пулеметных вышек. Они охраняли подступы к аэродрому. Немцы не раз пробовали его обнаружить, но у них так ничего и не вышло. Когда наступит осень и листва опадет с деревьев, его уже не спрятать. Правда, к тому времени аэродром будет уже не нужен. Линия фронта уходила на запад.
Деревянный сруб наполовину врыли в землю. С боков его присыпали землей. На ней уже проросла густая трава, а кое-где появился чахлый кустарник. Вот она, келья полковника Семирадского. Если человек перестанет вмешиваться в жизнь природы, то уже на следующий год на крыше сруба прорастут кусты, а потом время съест бревна, из которых он сложен, и тогда крыша провалится, а годы постепенно залечат все раны, которые человек нанес лесу.
Окна в стенах прорубить забыли. Внутри сруб освещался крохотным огоньком, ютившимся на кончике фитиля, вделанного в гильзу из-под артиллерийского снаряда. Его усилий не хватало, чтобы разогнать темноту, более того — огонь вел себя тихо, так чтобы темнота не разозлилась и не набросилась на него.
Полковник Семирадский спал, подложив под голову руки, согнувшись над небольшим письменным столом. Обычно на нем лежали карты, на которых полковник отмечал места предстоящих бомбардировок, но сейчас карты стояли в углу сруба, свернутые в рулоны, а на столе валялся раскрытый где-то ближе к концу томик Пьера Бенуа. Полковник увлекался приключенческой беллетристикой.
В течение последней недели Семирадскому удавалось спать не более пяти часов в сутки, да и то это время выкраивалось с трудом и обычно делилось на два или три сеанса. Немцы активизировались. Они подтягивали подкрепления. Но и без этого на пилотов навалилось так много работы, что Семирадский, как он ни наслаждался полетами, уже начинал желать, чтобы их стало поменьше. У него не было лампы, где жил джинн, и негде было поймать золотую рыбку, поэтому это желание исполнится, только когда закончится война. Впрочем, полковник опасался, что тогда он будет тосковать по прошлому, жизнь потеряет вкус, а полетов станет слишком мало.
Он спал нервно, реагируя на каждый шорох, готовый в любой миг вскочить и броситься к своему аэроплану. Как только Шешель и Мазуров, пригнувшись, чтобы не удариться головами о притолоку, вошли в убежище, полковник проснулся. Его глаза не сразу прояснились, и какое-то, едва уловимое мгновение в них еще оставался отсвет сна, но никто не успел увидеть этого — так быстро он исчез и спрятался в темноте. Семирадский улыбнулся. Он встал из-за стола, отодвинув ногой стул и подошел к Мазурову.
— С возвращением, Николай, — сказал он, осторожно пожимая капитану руку.
Он хорошо знал Мазурова. «Ильи Муромцы» из эскадры Семирадского выбрасывали отряд штурмовиков на тот мост, а истребители прикрывали их.
— Можешь не церемониться, — сказал Мазуров. — Меня неплохо залатали. Профессор Арбатов собрал кость из кусочков. Удивительно, как ему это удалось. Рука ноет к перемене погоды, но это вполне терпимо. Зато я могу предсказывать погоду лучше метеорологов и при этом не нуждаюсь в приборах.
— Я попрошу, чтобы тебя оставили у меня. С метеорологами невозможно связаться, а даже если это и получается, то их прогнозы частенько бывают неправильны. Наверное, следует кому-нибудь из них сломать что-нибудь, чтобы их предсказания наконец-то стали точными, — улыбнулся Семирадский.
— Какой ты все-таки жестокий! Раньше я за тобой таких кровожадных наклонностей не замечал. Неужели Бенуа тому причиной?
— Неплохая книга. Рекомендую. Можешь взять ее, когда дочитаю. Французы, прослышав о моих пристрастиях, прислали мне в нагрузку к «Фарманам» несколько пачек книг.
— Представь себе, за время моего вынужденного безделья, то бишь излечения, я уже познакомился с ней. Видимо, у французов забиты все склады в книжных магазинах и они решили высвободить их, отправив книги нам в подарок. А кроме книг французы ничего не прислали? — Зубы Мазурова блеснули в улыбке.
— Прислали. Пять ящиков шампанского. Но оно уже закончилось. Приходится часто обмывать победы.
Шешель стоял на пороге, прислонившись к дверному косяку, и молча слушал разговор.
— Ты чего встал там как страж? — сказал Семирадский, обращаясь к нему. — Проходи и садись к столу. Сейчас денщик организует чай с вареньем.
— Чай — это хорошо, но я уже согрелся. Хочу порыться в двигателе. Что-то он меня беспокоит. Правда, боюсь, что немцы не дадут времени отремонтировать его всерьез.
— Как знаешь, — сказал полковник.
У денщика была округлая физиономия. Казалось, что его губы за краешки привязаны веревочками к ушам. Улыбка, очевидно, всегда оставалась на его лице, сколько он ни старался делать серьезное выражение. Денщик походил на румяный калач. Пилотом он станет только тогда, когда аэропланы начнут принимать на борт сотни и тысячи килограммов полезной нагрузки. Аккуратная форма хоть сидела на нем мешком, все-таки делала денщика худо-бедно похожим на солдата. Правда, отряд, составленный из таких вояк, много не навоюет и скорее станет пушечным мясом. Все в эскадре знали, что денщик пописывает стишки, в которых он представлял себя асом. Они под псевдонимом Е.Д. регулярно появлялись на страницах журнала «Воздухоплаватель» и считались недурственными, поскольку в них со знанием дела говорилось о «колбасе», то бишь о дирижаблях, о немецких воздушных пиратах и о сражениях под облаками. У денщика даже появились поклонники, главным образом из числа начинающих стареть одиноких дам среднего достатка, которые наверняка были бы раздосадованы, узнав, что их кумир видел аэропланы только со стороны и самое большее, на что он решился, — это забраться в пилотскую кабину и посидеть там несколько минут. Взлетать в воздух, даже в качестве пассажира, денщик боялся, а поэтому отказывался от всех предложений авиаторов взять его с собой. Пилоты убеждали его, что полет пойдет на пользу, что в его творчестве появятся новые мотивы и он станет более живо чувствовать материал, но Е.Д. не соглашался. Природная скромность мешала ему добавить к инициалам еще что-нибудь. Например, «граф Е.Д.» или «штабс-капитан Е.Д.» Это, конечно, было простым поэтическим преувеличением, но на подлог денщик не шел. Писать же перед инициалами правду — рядовой, из крестьян, он не решался, считая, что это несолидно. Подобными подписями можно распугать всех почитателей. Денщик не любил рисковать.
Е.Д. принес пышущий жаром самовар. Комната наполнилась тяжелым ароматным запахом чая. Денщик примешивал к чаю какие-то травы, но рецепта не выдавал, ссылаясь на то, что так, как он, чай никто приготовить не сможет. Семирадский охотно верил этому. Однажды ради забавы он смешал все указанные денщиком компоненты в необходимых пропорциях и последовательности, но, пробуя получившееся варево, был вынужден предварительно зажать нос — так мерзко от него несло. Полковник лишь попробовал его, а потом долго отплевывался и пытался извести отвратительный привкус во рту, прихлебывая терпкое вино. Больше он подобных экспериментов не проводил.
На столе появилась розетка с жидким янтарем. Это был липовый мед. Полковник с ухмылкой сказал:
— Денщик хочет меня подкупить. Ему прислали мед из деревни. Он, шельма, теперь меня им подкармливает. Очевидно, хочет, чтобы я рассказал ему несколько боевых эпизодов, о которых он затем напишет в своих стихах. Пока я держусь, но остальные не такие стойкие. Они ему продались с потрохами, — Семирадский рассмеялся. — А мед очень вкусный. Я и не припомню, когда такой пробовал. Знаешь, в магазинах до войны, даже у Елисеева, он был хуже.
У Мазурова еще не отошли от холода ноги. Казалось, что внутри они состояли из оледеневшего стекла и при любом неосторожном движении могли рассыпаться осколками.
Мазуров сел на деревянную лавку, очень жесткую, но все же гораздо более удобную, чем сиденье в аэроплане, на котором он мучился несколько часов. Вначале он обхватил стакан с чаем ладонями, чтобы тепло передалось рукам, и только затем пригубил напиток, сделав небольшой осторожный глоток. Боясь сжечь гортань, капитан быстро проглотил чай, чувствуя, как лед внутри тела сразу же стал плавиться.
— Не дают тебе покоя… — начал Семирадский.
— Это нестрашно, — убежденно сказал Мазуров. — Гораздо хуже, если обо мне забудут. — Он уже выпил почти полстакана чая и теперь, вспомнив, что на столе есть еще и сладкое, приступил к меду.
— Похоже, на этот раз дело столь секретно, что даже мне не сказали, в чем оно заключается. Только указали точку, где вас должны выбросить, внимательно посмотрел на него полковник.
Зазвонил телефон. Дребезжащий противный звук толчками вырывался из аппарата и пытался столкнуть с подставки трубку. Он не мог предвещать ничего хорошего. Семирадский вздрогнул, услышав его, быстро схватил трубку и поднес ее к уху.
— Да? — секунд пятнадцать он внимательно слушал. Выражение лица полковника почти не менялось, так что невозможно было даже примерно определить, что же ему говорили. — Да. Я все понял. Поднимаю эскадру.
Он уже стоял на ногах, напряженный, как сжатая пружина. Как только разговор закончился, полковник шагнул к выходу.
— Извини, Николай. Разведчики засекли немецкие бомбардировщики с сопровождением. Нужно их остановить. Отдохни пока. Не думаю, что это займет много времени.
Он выбежал из комнаты. Тишину разорвали противные вопли сирены. Если бы такими же голосами обладали жительницы острова, которые зазывали к себе проплывающих мимо моряков, ничего бы у них не вышло. Хотя, возможно, глухого они смогли бы заманить к себе…
Мазуров почувствовал себя плохо. Он оказался не у дел, был пока обузой и не знал, что ему делать дольше. Не хотелось тупо дожидаться возвращения пилотов с задания, да и произойдет это не раньше, чем через час. При этом приходилось учитывать, что настроение Семирадского должно ухудшиться, так как вряд ли все его подчиненные вернутся обратно.
Переход от полутемноты к свету был слишком резок. Когда Мазуров выбрался из блиндажа, ему пришлось прищурить веки. На летном поле царила суета. Несколько аэропланов появились из зарослей, два выруливали на взлетную полосу, один разгонялся, еще один был уже в небе и набирал высоту, начиная разворачиваться, чтобы дождаться, пока к нему присоединятся товарищи. Аэропланы отрывались от земли плавно, а затем резко взмывали вверх. Чтобы не терять время, пилоты шли на риск — они поднимались в небо друг за другом на небольшом расстоянии. Если с кем-нибудь случится неприятность и он не взлетит, то следующий за ним аэроплан вряд ли сможет избежать столкновения. К счастью, все обошлось благополучно. Через несколько минут эскадра исчезла в облаках.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
В госпитале Мазуров привык к тому, что время, особенно днем, превращается в некое подобие тягучей, растопленной солнцем массы, а каждая минута многократно увеличивается в объеме, разбухая, как гниющий труп. Свыкнуться с этим он так и не смог. Впрочем, для пилотов аэропланов, улетевших на задание, время текло значительно быстрее. Капитан вспомнил грифельную доску в укрытии Семирадского. На ней была нарисована таблица, разделенная всего на две колонки: в левой — фамилии пилотов, а в правой цифры, обозначавшие количество воздушных побед. И та, и другая колонки носили следы множества исправлений.
В небе появилась черная точка, которая еще не успела обрести форму аэроплана. Он шел на посадку. Если бы это был человек, то его движения можно было бы описать как пьяные. Аэроплан то проваливался в глубокую яму, почти касаясь колесами деревьев, то вновь поднимался в небо, как мячик, который ударился о газон. Его корпус был измочален, как будто на него напали хищники, похожие на акул, — только их зубы могли оставить на фанере аэроплана такие страшные раны. Хвостовое оперение превратилось в лохмотья. Небольшими кусками оно отваливалось от корпуса, будто аэроплан метил дорогу, как делал это в сказке маленький мальчик, чтобы отыскать потом путь домой. Брезентовая обшивка слезала с бортов буквально на глазах, как старая кожа со змеи, но пока она еще не оторвалась и струилась следом за аэропланом, похожая на шлейф.
На земле суетились техники. Внешне они напоминали дружину, которая, нервно переминаясь с ноги на ногу, готовится отразить накатывающуюся волну неприятельской конницы. На всякий случай они разматывали пожарные шланги, подключали насосы к цистерне с водой. Поразительно, что аэроплан все еще держался в воздухе, хотя его аэродинамические свойства стремительно приближались к тем, которыми обладает этажерка. Видимо, от падения его удерживали только божьи молитвы. Наконец он грузно сел, словно его набили камнями, и почти сразу же остановился. Двигатель, работа которого напоминала кашель заболевшего гриппом человека, затих, но прежде чем прекратил вращаться пропеллер, к аэроплану подбежали техники. Пилот уже выпрыгнул из кабины. Похоже, он не был даже ранен. Все пули достались аэроплану. Бодрым голосом пилот давал указания техникам. Слова не долетали до Мазурова, но жесты лучше любых слов объясняли, что пилот хочет, чтобы техники побыстрее отогнали аэроплан с взлетно-посадочной полосы.
Вскоре стала понятна причина этой спешки. Едва техники подцепили тросом израненный аэроплан, будто рыбу на крючок, и автомобиль-эвакуатор поволок его к зарослям, над взлетно-посадочной полосой появился следующий аэроплан, пилот которого не стал дожидаться, когда освободится место для приземления.
Он летел очень низко. Двигатель работал настолько вяло, что различались лопасти винта. Пеший путник его вряд ли обогнал бы, профессиональный бегун мог с ним посоревноваться, а всадник оставил бы далеко позади себя. Уже над поляной, когда до земли осталось метра три, аэроплан развернуло, как от сильного встречного порыва ветра. Еще несколько мгновений он летел боком, а потом попробовал сделать мертвую петлю, заваливаясь вниз ставшим неимоверно тяжелым носом.
Лопасти избежали соприкосновения с землей. Наверное, аэроплан вышел бы из петли, но высота оказалась слишком мала. Синхронно рухнули стойки между крыльями, выдержали лишь те, что располагались по краям пилотской кабины, а потом хвост с хрустом вошел в землю, разбрызгивая вокруг куски фанеры. Аэроплан превратился в беспомощную муху, валявшуюся на спине. Легкая добыча для паука.
Из кресла, как чертенок из табакерки, вывалился пилот, перемазанный кровью, и повис на ремнях безопасности, похожий на тряпичную куклу. Под весом фюзеляжа оставшиеся стойки вначале прогнулись, а потом тоже треснули и сломались. Аэроплан осел на верхнее крыло, опали растяжки. Крыло вдавило голову пилота в плечо.
По аэроплану ударили струи воды, опутав его, как паутиной. Они хотели разогнать тонкие струйки дыма, потянувшиеся на свет из двигателя, отсечь огонь и не дать ему добраться до топливных баков.
Пилота окатило водой. Он очнулся, но соображал плохо, поскольку болевой шок у него не прошел. Когда к нему подбежали вымокшие до нитки санитары, он что-то бессвязно мычал, видимо, воображая, что оказался в тюремных застенках и сейчас его вновь начнут пытать. Санитары быстро высвободили пилота из пут ремней безопасности, осторожно, поддерживая вначале за пояс и плечи, а затем за ноги, извлекли из кабины, уложили на носилки и понесли в медпункт.
Тем временем техники утихомирили пламя. Но они понимали, что им понадобиться еще минут десять, пока удастся перевернуть аэроплан и убрать его…
Следующие два аэроплана сели один за другим с коротким интервалом, словно находились на показательных выступлениях, а их пилоты хотели произвести впечатление на высокопоставленных особ, которые в эти минуты наблюдали за представлением. Подпрыгивая на небольших кочках, они виртуозно увернулись от потерпевшего крушение собрата, объехали его стороной и скрылись в зарослях — каждый в своем стойле. Техники, проводив их взглядами, радовались хотя бы тому, что новых забот им пока не прибавилось. Но все еще не было аэроплана с нарисованным на корпусе мангустом, а это значило, что Семирадский с задания не вернулся.
— Что полковник? — спросил Мазуров, подойдя к пилоту первого аэроплана.
Тот все еще находился в возбужденном состоянии и не мог понять, как ему удалось не только уцелеть, но даже не получить ни одной царапины. Он смотрел на окружающее удивленными глазами, как будто все вокруг было для него новым. Вопрос капитана вывел пилота из этого состяния.
— Вернется. У немцев нет аса, который смог бы сбить Семирадского. И те, которых мы сегодня встретили, не чета ему. Даже стаей. Хотя потрепали они нас изрядно, — последние слова он сказал с таким выражением, которое было бы более уместно для описания вкусных бубликов или блинов со сметаной. Так купец, завалившийся в трактир, хвалит местные кушанья: «А чай с баранками у вас изрядный».
— Что произошло-то? — спросил Мазуров, видя, что пилот словоохотлив.
— У них была вторая эскадра прикрытия. Вот в чем дело. Тремя аэропланами мы отвлекли истребители сопровождения и уже собирались было разобраться с бомбардировщиками, но тут появилась еще одна немецкая эскадра, а потом… Это надо было видеть. Одиннадцать против семи. Да еще три бомбардировщика. Хотя они только мешались, — пилот замолчал, немного закатил глаза и стоял так несколько секунд, вспоминая прошедший бой. — Но нас не представили, — наконец сказал он.
В небе было холодно, поэтому пилоты постоянно ходили в меховых куртках. Оказавшись на земле, они становились похожи на медведей, которые мучаются от жары из-за своих слишком теплых шкур.
— Это капитан Николай Мазуров, — раздался голос рядом с ними. Подошел Шешель. Его лицо, шлем, который он держал в руках, и белый шарф были измазаны маслом, а в глазах все еще отражалось безумие. Если дорисовать ему пену на губах, то пилот стал бы похож на берсерка. — А это лейтенант Сергей Каличев.
Внимание лейтенанта сразу переключилось на Шешеля.
— Спасибо, Саша. Если бы ты не подрезал немца, зашедшего мне в хвост, горел бы я в бурьяне.
— Три мозельского — и мы в расчете, — усмехнулся Шешель и, помолчав, добавил: — Ты знаешь, что у нас сбили двоих?
— Я видел только, как падал Иванцов, — нахмурился лейтенант.
— Еще Валишевский.
— Черт, эта победа далась нам очень дорого, — сказал Каличев, закусив губу. — А Семирадский?
— Я потерял его. Три немца ушли, но полковник их не преследовал. Топлива у него хватит еще на полчаса. Будем ждать.
К Шешелю подбежал механик. Пилот показал ему два пальца. Знак победы. Но сейчас он обозначал еще и нечто другое.
— Рисуй, — коротко бросил он механику.
Тот улыбнулся и побежал искать банку с краской.
Алексею Левашову удавалось сохранять спокойный вид. Затянутый с ног до головы в хрустящую черную кожу, он мерил шагами расстояние вокруг своего аэроплана, покусывая только что сломанную соломинку и посматривая на работу двух техников. Они уже закончили установку дополнительных топливных баков общей вместимостью 700 литров в салоне и теперь прибирались там. Техники выносили из салона обрезки труб, выметали металлические опилки, подбирали разбросанные тут и там инструменты и складывали их в ящик.
Разумнее было бы установить баки на крыльях, а когда топливо в них закончится, то можно легко избавиться от лишнего веса, сбросив баки. Дополнительную нагрузку крылья выдержат, но могут треснуть, когда на них выберутся штурмовики. Лучше не рисковать.
В самый последний момент конструкторы придумали какие-то усовершенствования. Доделывать аэроплан пришлось уже не в ангарах на заводе, а на летном поле. Изменения были незначительными, поэтому их доверили обычным авиамеханикам, работающим под руководством инженера.
Инженер куда-то запропастился, как, впрочем, и второй пилот.
Левашов не видел летного поля. Деревья закрывали почти весь обзор, но по шуму, который доносился оттуда, он догадался, что вылет оказался не очень удачным. Иногда, заслышав тарахтение приближающегося аэроплана, он останавливался, прислушивался, напряженно прищурив веки, и с раздражением бросал взгляд на техников, которые так шумели, что мешали понять — кто из пилотов вернулся.
Послушав работу двигателя всего лишь несколько секунд, он не только мог определить чей это аэроплан, но и найти повреждения, если таковые были. Техники относились к Левашову с уважением, потому что он часто давал им правильные советы в сложных ситуациях и никогда не отказывался, вооружившись отверткой и ключами, покопаться в неисправном двигателе, будто он получал удовольствие, пачкаясь машинным маслом и керосином.
— Каличев, Зандер, — тихо шептал Левашов, одновременно мысленно загибая пальцы.
У него было отвратительное настроение, и причин тому несколько. Техники исподлобья поглядывали на Левашова. Они хотели заговорить с ним, но, зная вспыльчивый и непредсказуемый характер пилота, опасались это делать.
Левашову было неприятно сознавать, что пока он здесь прохлаждается, в небе гибнут его друзья. Он ничем не мог помочь им, хотя бы потому, что был не истребителем, а бомбером. Но облегчения эта мысль все равно не приносила. Избавиться от нее можно было, отправившись на очередную бомбежку. Но на протяжении последних двух недель, с тех самых пор, как он стал командиром модифицированного «Ильи Муромца», боевых заданий ему не давали. Левашов боготворил новый аэроплан, смотрел на него с восторгом. Внешне он почти не отличался от прежней разработки — такой же огромный, на первый взгляд неуклюжий, похожий на мощный неповоротливый дредноут, главным достоинством которого является не скорость, как у истребителя, а сила. Но его броню можно проткнуть даже пистолетным выстрелом… Аэроплан действительно напоминал древнерусского богатыря, пролежавшего тридцать три года на печке, — обычно медлительного и этим вводившего в заблуждение как друзей, так и врагов, потому что когда приходило время…
Сейчас гигант, раскинув в разные стороны крылья, будто руки, отдыхал, упираясь в землю колесами, прячась от жары под лохматыми ветвями деревьев. Техники доставляли ему беспокойство не больше, чем птицы, усевшиеся на спину уснувшего на поверхности океана кита. Еще он походил на тучного человека, который начнет обливаться поўтом, стоит ему выбраться из тени. Левашов мог часами рассматривать новые двигатели, установленные на аэроплане, запоминая каждый их изгиб, расположение болтов, муфт, подшипников. Он полагал, что этот двигатель может встать в один ряд с самыми выдающимися произведениями искусства. Смотреть на аэроплан для Левашова было гораздо более приятным занятием, чем, скажем, посещение галереи современной скульптуры. Когда двигатель остывал, но еще сохранял остатки тепла, Левашов подносил к нему руку, прикасаясь к металлической поверхности, которая уже не обжигала кожу, а приятно ее согревала. Наверное, особенно приятно будет делать это осенью, когда из-за промозглой погоды начинают ныть суставы.
— Шешель, Агольский…
Левашову хотелось придумать бомбардировщику имя, написать его на носу, так же как это делают на кораблях, но ничего, кроме «Медведь», в голову пока не приходило. А еще «Толстяк». Это прозвище не было обидным. Левашов знал, что в небе модифицированный «Илья Муромец» не уступит в скорости ни «Фоккеру» ни «Альбатросу». У него было время, чтобы проверить это. Вначале пилот не поверил техническим характеристикам аэроплана. Но когда он почувствовал его возможности, то собственный довоенный рекордный беспосадочный перелет из Варшавы в Москву, принесший ему славу и известность, показался детской забавой. Левашов понял, что наконец-то появился аэроплан, при помощи которого он сумеет осуществить свою давнюю мечту — перемахнуть через Атлантический океан.
Истребители могли похвастаться количеством сбитых аэропланов, а Левашов… Никто не считал, сколько он сумел подбить германской и австро-венгерской техники, поэтому в разговорах пилотов для него обычно отводилась роль пассивного слушателя. Невелика заслуга в том, что он записал на свой счет две воздушные победы, которые официально были засчитаны. Многие пилоты могли продемонстрировать более представительный послужной список. Вряд ли можно считать заслугой то, что его никогда не сбивали, хотя однажды он едва дотянул до аэродрома. Техники не поленились подсчитать пробоины в корпусе его аэроплана и нашли их почти полторы сотни.
«Илья Муромец» Левашова лишь формально входил в эскадру Семирадского, на самом деле подчиняясь исключительно Гайданову, так что пилот всецело мог ощущать себя вольной птицей. Это состояние ему не нравилось. В нем не было конкретности. Если бы он заранее знал, что, скажем, к вечеру ему необходимо лететь на бомбежку, тогда он чувствовал бы себя более спокойно. Однако Гайданов перед тем, как аэроплан Левашова перебросили на аэродром Семирадского, лишь приказал ему ждать дальнейших указаний. Ориентировочно они последуют в конце августа. К этому времени «Илью Муромца» предполагалось немного переделать. Левашов понял, что если в угоду дальности пренебрегли грузоподъемностью аэроплана, то ему предстоит довольно продолжительный полет. Генерал обрисовал предстоящую операцию в общих чертах, и Левашов знал пока только то, что ему предстоит выбросить в германском тылу штурмовую группу. О ее количестве и месте высадки диверсантов разговор еще не заходил, хотя Левашов предполагал, что, скорее всего, это будет одно отделение. Больше ему на борт не взять.
Наконец Левашов не выдержал, отбросил мокрую, уже рассыпающуюся соломинку, на ходу выплюнул ее остатки и быстро пошел к летной полосе. По дороге его обогнали техники, которые отложили инструменты, посчитав, что с «Ильей Муромцем» они закончат заниматься попозже, а пока их помощь нужна другим.
Техники убирали с летного поля поврежденный аэроплан. Его уже успели перевернуть, но при этом погнулся винт и почти оторвалось и без того едва державшееся верхнее крыло. Ко всему прочему оно в двух местах треснуло, и с него слетела обшивка, так что, видимо, крыло придется полностью заменить. Нижняя плоскость пострадала меньше. Если техники попотеют, то, возможно, послезавтра к вечеру аэроплан будет готов к полетам.
Техники суетились возле аэроплана, громко переговариваясь, подтягивая его эвакуатором в стойло. Одна из колесных опор поврежденной машины перекосилась, поэтому она никак не хотела ехать прямо, переваливаясь и припадая, как раненая птица, оказавшаяся на земле, то на одну, то на другую сторону, постоянно смещаясь влево.
Эвакуатор двигался медленно, но безостановочно, как муравей, который тащит понравившуюся ему веточку. За состоянием погнутого шасси следил техник. Он шел в полусогнутом положении, так чтобы колесо всегда оставалось в поле его зрения. Как только возникнет первая угроза того, что стойка начнет разваливаться, он немедленно остановит водителя эвакуатора.
Аэроплан, как когтями, скреб летное поле, собирая с него верхний слой и добираясь порой до жирной коричнево-черной земли. Борозды походили на следы когтей какого-то двупалого хищника, оставленные на зеленой шкуре еще не открытого учеными существа, кровь на ранах которого уже успела свернуться, потемнеть и засохнуть.
Птицы следили за работой людей, кружась невысоко в небесах над летным полем. Самые смелые из них садились на борозды, хватали еще не успевших спрятаться червяков и быстро взлетали с добычей, чтобы потом, сев на ветку подальше от людей, попировать.
Левашов отметил, что с момента существования аэродрома это, пожалуй, самый лучший момент для обнаружения его неприятелем. Техники начали заделывать борозды дерном, но минимум в течение часа последствия неудачной посадки будут хорошо видны с воздуха. Хорошо, что немцам, очевидно, сейчас не до этого.
Птицам, чтобы опередить соперников и не остаться голодными, приходилось выхватывать червяков почти из-под колес аэроплана, при этом возникали небольшие стычки за добычу. Пернатые догадывались, что люди сейчас слишком заняты собственными проблемами. Они не сделают птицам ничего плохого, и поэтому те обращали больше внимания друг на друга, чем на людей.
Постепенно летное поле опустело. Жизнь переместилась под кроны деревьев, где техники незамедлительно приступили к ремонту аэропланов, а врачи пытались спасти жизнь израненного пилота. В просветах между деревьями виделись какие-то смутные силуэты, и Левашову казалось, будто это гномы или лесовики, которые бояться показаться людям, поэтому выходят на открытое пространство только ночью, а днем предпочитают оставаться под защитой деревьев. Тех, кто их потревожит или обидит, они могут заманить в хитроумные ловушки — вырытые в земле ямы, замаскированные ветками, или под заостренные стволы деревьев, подвешенные на веревках. Стоит задеть веревку, натянутую вдоль тропы, и заостренный кол упадет прямо на голову, от него не спасет даже стальной шлем.
Левашова раздражали люди, которые в ответственный момент, когда по горло занят работой и не можешь не то, что передохнуть, но даже смахнуть пот со лба, подходят и начинают выяснять, а чем же ты так занят. Но теперь он сам оказался в роли вопрошающего. К счастью, Левашов увидел двух пилотов, которые только что вернулись с задания. Это были Шешель и Каличев.
У Шешеля были стальные нервы. Его лицо ничего не выражало, и несмотря на то, что в этот день он уже сделал два вылета, усталость ничем не проявлялась, и, наверное, он смог бы вылететь и третий раз, и четвертый, и делать это до тех пор, пока на аэродроме не иссякнут запасы топлива. К этому свойству Шешеля Левашов уже привык, хотя познакомился с ним совсем недавно. До войны они несколько раз пересекались на различных летных показах, но их друг другу не представляли.
Собеседник пилотов выглядел довольно странно. Он носил куртку — очень похожую на пилотскую, но сделанную не из кожи, а из пятнистой ткани. Казалось, что куртка то ли измазана грязью, то ли сшита из черных, коричневых и зеленых лоскутков. Такого же цвета были его брюки, немного мешковатые и вытянутые на коленях, на ногах незнакомца красовались ботинки на шнуровке с толстой рифленой, как у альпинистов, подошвой. Погон на его плечах не было. Однако, Левашов сразу понял, что это и есть командир штурмовиков, о которых говорил генерал.
Левашов направился к этой группе. Приближаясь, он в основном наблюдал за незнакомцем, пытаясь понять, что это за человек. Тот почувствовал взгляд, прервал беседу и оглянулся. Его лицо располагало к доверию и вместе с тем говорило о решительном характере. Оно было классически угловатым, так что в него вписывались несколько геометрических фигур. Всю эту конструкцию чуть пригладили, словно по углам прошелся шлифовальным инструментом каменотес или их сгладило время. О такое лицо отобьешь руки, до мяса сдерешь с костяшек пальцев кожу без ощутимого результата, если, конечно, руки не будут при этом защищены перчатками со свинцовыми вставками или хотя бы прокладками, набитыми конским волосом. Левашов считался неплохим боксером и сразу оценил, что на ринге этот капитан будет очень опасным противником. Он был примерно одного роста с Шешелем, чуть выше Каличева и, наверное, на полголовы выше Левашова, а это значило что в нем было не менее 185 сантиметров. Почти гигант, хотя во время атак ему, вероятно, приходится несладко. Он представлял из себя слишком заманчивую мишень. Движения капитана были упругими. Казалось, что он сделан из резины, наваренной на железный каркас, который собран из нескольких сегментов, местами сваренных, а где-то скрепленных либо шарнирами, либо жесткими пружинами.
Левашов улыбнулся. Этот капитан мог оказаться конкурентом в любовных похождениях, в поединке и еще в нескольких случаях, но они находились по одну сторону баррикад, а поэтому по крайней мере до конца войны они останутся если уж не друзьями, не приятелями, так хотя бы не будут врагами. Левашов тоже мог причислить себя к опасным противникам. По крайней мере именно так о нем отзывались в германских газетах. В них, в частности, сообщалось, что пока на стороне России будут воевать такие асы, вряд ли Германия сумеет склонить чашу, на которой лежит победа, на свою сторону. Такие высказывания льстили самолюбию Левашова. Равновесие будет до тех пор, пока по обе стороны останутся профессионалы, но как только кто-либо лишится их и не сможет заменить, это будет означать неминуемое поражение.
На вид капитану было не более тридцати. Им всем было не более тридцати, плюс минус два-три года. Это значило, что помимо войны они успели увидеть в этом мире довольно много, но не настолько, чтобы не стремиться увидеть еще что-то и замыкаться только на войне. Она оставит в их душах глубокие раны. Залечить их сложнее, чем те, которые она оставит на их телах. Но они смогут пережить это и найдут себе занятие после того, как война закончится. Сейчас их призвание — убивать. Но это не единственное, что они умеют хорошо делать. Тем, кому сейчас двадцать, после войны будет гораздо сложнее, чем им, и если война продлится еще несколько лет, то это будет потерянное для страны поколение. Французы для таких людей создали иностранный легион. Возможно, России предстоит сделать нечто подобное, ведь если французы могли растрачивать энергию в Африке или Индокитае, то русские смогут сделать это в Азии. Правда, при этом они когда-нибудь столкнутся с теми же французами и с англичанами и тогда… Тогда грянет новая война. Хорошо, если она будет локальной и не перерастет в грандиозное и масштабное сражение. От его грохота весь мир, сшитый из разноцветных лоскутов, каждый из которых был одной страной, трещит по швам, готовый лопнуть, и не обязательно в том месте, где его скрепляют нитки границ.
И еще… Левашов неожиданно понял, что остаток своей жизни он будет связан с этим человеком, подобно камням, сплавленным в конгломерат. Вот только он не знал, как долго еще продлиться его жизнь. Жизнь — это игра в кости со смертью, а количество набранных тобой очков часто зависит лишь от удачи, и сколько ни тренируйся, никогда не научишься выбрасывать одни лишь шестерки. Главное, чтобы у смерти выпало еще меньше очков.
Левашов подошел уже достаточно близко, чтобы увидеть те же мысли в серых глазах капитана.
Шешель предвидел вопрос.
— Лейтенант Алексей Левашов, капитан Николай Мазуров. Он, похоже, так застенчив, что не стал искать вас до тех пор, пока мы не вернемся и не представим вас друг другу, — сказал Шешель в то время, когда Мазуров и Левашов протягивали для пожатия руки. — Скажу по секрету, это именно тот человек, которого вы ожидаете здесь уже десять дней. По крайней мере я сделал этот вывод после общения с генералом Гайдановым.
— Я уже догадался, — кивнул Левашов.
— Вы очень проницательны.
Шешель смеялся, видимо, высвобождая нервную энергию, накопившуюся за время воздушного боя. Все-таки два вылета — это много, учитывая, что случались дни и даже недели, когда большинство аэропланов стояли на приколе.
— Могу я осмотреть ваш аэроплан? — спросил Мазуров.
— Если вы не шпион, тогда можно, — кивнул Левашов.
— Немцы научились хорошо подделывать документы. Паспортом теперь ничего не докажешь.
— Я вижу, вы нашли контакт, — вмешался в разговор Шешель. — Генерал приказал мне передать капитана на твое попечение, Алексей. Я этот приказ выполнил. Смотри, чтобы он не заблудился в лесу.
— Не беспокойся. Я позабочусь о нем, — сказал Левашов. — Хотя, сдается мне, что капитан в защите не нуждается.
— Прекрасно. А мы подождем Семирадского. Без него кусок в горло не лезет.
— Он все еще не вернулся? — Левашов знал ответ заранее.
— Нет. Кроме того, у нас два аэроплана разбиты и еще два повреждены. Техники набросились на машины, как голодные, и обещают их вскоре отремонтировать. Мы давали им в последнее время мало работы, и они по ней соскучились. Но боюсь, что пилоты не успеют быстро залечить раны, а новые аэропланы в ближайшие дни не обещают.
— Если так пойдет и дальше, воевать будет некому и не на чем…
— Ты рано списываешь нас со счетов, Левашов. Я надеюсь дотянуть до следующей весны. Люблю, знаешь, это время года. Природа расцветает, и все такое…
ГЛАВА ПЯТАЯ
Родись Семирадский сто лет назад, он довольно быстро понял бы, что ему никогда не сделать блестящей военной карьеры и не получить генеральских эполет. В лучшем случае на что он мог рассчитывать после четверти века безупречной службы, это на командование полком, расквартированным в каком-нибудь захолустном, позабытом временем, богом и цивилизацией городишке. В худшем случае его ждал тот же полк, но в городе с гораздо менее приятным климатом. Большую часть года за окном трещали бы морозы, расписывая стекла узорчатыми загогулинами, а ему оставалось только, греясь возле печки, читать пухлый роман какого-нибудь француза, завидуя его героям, которые за месяц в дебрях Африки увидели и пережили больше, чем он за всю свою жизнь. По вечерам к нему заходил бы градоначальник, обрюзгший и скучный, готовый сделать все что угодно, даже выбраться на мороз, чтобы хоть на часок-другой убежать от своей жены, которая постоянно пилит его бесконечными потоками ничего не значащих слов. Из фарфоровых чашек они пили бы чай с вареньем или, что более вероятно, — водку из хрустальных стаканов, закусывая ее хрустящими солеными огурчиками и квашенной капусточкой и стараясь не замечать, что уже наступает ночь и надо ложиться спать.
У него с самого начала не заладилась карьера. Причина тому была до банальности проста — Семирадский не умел ездить на лошади. Разговор не шел даже о джигитовке или взятии высоких барьеров, когда ноги коня, отделясь от земли лишь на миг, переносят всадника через ограду, следом за которой лежит глубокий ров, заполненный водой. Стоило Семирадскому взобраться на коня (а это он умел делать лихо, мощным толчком забрасывая тело в седло), и до того спокойное животное превращалось в неуправляемого, взбесившегося зверя, который стремился побыстрее избавиться от наездника. Конь вставал на дыбы, подбрасывал зад, лягался, кусал уздечку. Семирадскому не удавалось его успокоить, несмотря на то, что он изо всех сил стискивал ногами бока коня, натягивая узду. Результат обычно был одним и тем же: Семирадский оказывался на земле. Впрочем, случалось, что конь стоял на месте как глыба, которую можно было сдвинуть с места разве что автомобилем или поездом. Не будешь же каждый раз привязывать на палку морковку и держать ее перед носом коня, чтобы он наконец-то тронулся с места, как это делает обманутый ослик. Картина, достойная разве что цирка.
Семирадский проклинал себя, но ничего не мог поделать. Очевидно, от него исходила какая-то гипнотическая сила, которую лошади не могли перенести. Впору было обращаться к хироманту или бросать службу, особенно после того, как он упал с коня на маневрах прямо на глазах у императора. Николай Второй остался очень недоволен этим случаем, сразу же спросив у главнокомандующего, отчего у него так плохо обучены офицеры. Император считал, что каждый офицер должен уметь виртуозно ездить верхом, и без специального экзамена не присваивал даже следующего звания. После такого конфуза на дальнейшей карьере стоило ставить крест, но… Уже год как закончилась война с Японией, во время которой стало ясно, что кавалерия вскоре отживет свой век и превратится не более чем во вспомогательный род войск. Чуть позже появились военные аэропланы, и Семирадский за два года смог пройти путь, на который у некоторых уходит лет десять, а другим не хватает целой жизни. Он стал одним из самых молодых полковников в русской армии. Ему было всего-то 32 года.
В самом начале войны к Семирадскому приклеилось прозвище «мангуст», а счет сбитым аэропланам он открыл еще до того, как на его аэроплане установили пулемет. Произошло это только весной, а до этого с неприятелем приходилось общаться исключительно при помощи пистолетов.
В аэроплане, стиснутый с обеих сторон узкими фанерными боками, он чувствовал себя очень комфортно. Наказанием и пыткой для Семирадского были кожаные кресла, расставленные вдоль стен гостиных, где ему часто приходилось бывать, а светские разговоры, бокалы с шампанским и уютное потрескивание умирающих в камине дров он, не задумываясь, разменивал на шум ветра, капли горячего масла и вой двигателя, который заставлял аэроплан дрожать, как от нервного возбуждения.
Несмотря на то, что двухмоторные бомбардировщики «Готта-5», недавно появившиеся у германцев, уступали размерами «Илье Муромцу», в небе они казались огромными монстрами. В особенности это становилось заметно, когда их окружали истребители сопровождения. Свита трех бомбардировщиков состояла из разношерстных аэропланов, в основном бипланов «Фоккер», но среди них затесались и парочка «Альбатросов-Д», и даже один моноплан «Фоккер-Е», чудом доживший до этих дней, поскольку вот уже полгода как подобную модель германская промышленность перестала выпускать. Постепенно, по мере выхода из строя старой техники, немцы переходили на производство всего лишь двух моделей истребителей, делая их в самых разнообразных модификациях. Но оставались у них на вооружении и прежние разработки, уход за которыми выматывал все нервы у техников. Из-за поломки какого-то незначительного агрегата в двигателе аэроплан мог простаивать месяцами, а механикам было легче выточить деталь самим, чем дожидаться, когда ее пришлют со склада или снимут с другого аэроплана, уже не подлежащего восстановлению.
Бомбардировщики приближались медленно, как ленивые, разморенные жарой буйволы, вокруг которых кружилась назойливая мошкара. Их сильно нагрузили бомбами. Сбить бомбардировщик так же тяжело, как отправить на дно дредноут. Он имеет хорошую устойчивость. Его нужно буквально нашпиговать пулями, и только тогда он начнет падать. Рассчитывать, что это можно сделать с одной атаки, не приходилось, за исключением случаев, когда на бомбардировщике взрывались бомбы. Увы, ни на одном из русских истребителей не было ракет. Их применяли только для уничтожения аэростатов и дирижаблей. А от пули боеприпасы не сдетонируют.
Первая волна русских отвлекла сопровождение, вторая набросилась на бомбардировщики, как стервятники, которые почувствовали, что добыча так устала, что уже не сможет сопротивляться. Буйволы решили перейти реку вброд, не зная, что там водятся пираньи. Истребители выпускали длинные очереди, нисколько не жалея патронов. Немцы огрызались. Пулеметы располагались вдоль всего корпуса бомбардировщиков, поэтому они были защищены не хуже, чем еж, который свернулся клубочком и ощетинился колючками. Но они были неповоротливыми, оборонялись пассивно и не могли навязывать свои правила игры. А потом все неожиданно изменилось. Семирадский понял это, увидев, что загорелся один из «Ньюпоров».
Двигатель гудел надсадно, но еще не кашлял, хотя Семирадский чувствовал, что минут через десять он начнет давать сбои, а через двадцать и вовсе заглохнет, захлебнувшись еще не истраченным бензином. Небо очистилось от облаков. Оно стало прозрачно голубым, похожим на родниковую воду, сквозь которую, независимо от глубины, можно увидеть очертания дна.
Едкий черный дым, пушистым хвостом поднимавшийся вверх, остался далеко позади. Он походил на черную, еще не превратившуюся в кляксу струю, которую, спасаясь от врагов, выпустил спрут. Там догорали обломки «Ньюпора». Они превратились в обглоданный скелет, с которого пламя слизнуло кожу, мышцы и вены, но оно было таким ненасытным, что принялась заодно поедать и кости. «Ньюпор» ударился о землю по касательной и поэтому не развалился сразу. Инерция протащила его вперед, прочертив на загоревшейся траве жирный маслянистый след. Чуть раньше Семирадский увидел, как из падающего аэроплана выпрыгнул пилот. Он успел раскрыть парашют, но высота была невелика, и купол не сумел до краев зачерпнуть воздуха. Он лишь чуть-чуть задержал столкновение с землей, немного смягчив удар. Удар был сильным. Семирадскому показалось, что он услышал хруст ломающихся костей…
Купол парашюта накрыл пилота как саваном. Ветер шевелил его, поэтому казалось, что пилот жив и теперь пытается выбраться из-под парашюта, освободиться от опутывающих его лямок, но почему-то ему никак не удавалось это сделать. Потом Семирадский потерял его из виду, сосредоточив все внимание на приближающейся паре «Фоккеров».
Они заходили со стороны солнца, из-за этого сливались с небом, но Семирадский успел разглядеть их прежде, чем они сели ему на хвост, прижимая его аэроплан к земле, где меньше места для маневра. «Фоккеры» летели на малой высоте, уклоняясь от одиноких деревьев. У немцев были спаренные пулеметы, но их очереди проносились далеко в стороне от Семирадского, даже не задевая его аэроплан. Полковник круто заваливал «Ньюпор» то на одно крыло, то на другое, наклоняя их почти вертикально к земле, и летел зигзагами. Немцам было трудно поймать его на мушку.
Оглядываясь, Семирадский видел, что «Фоккеры» упорно следуют за ним, как будто прицепились к его аэроплану тросами. Они превратились в его тени, в точности повторяя за ним все маневры.
Тем временем эскадра рассыпалась и сражение приняло характер одиночных поединков. Один бомбардировщик упал в самом начале схватки, заклеванный, как стервятниками, русскими аэропланами, которые сконцентрировали на нем весь огонь. Второй был поврежден. Его пилот теперь уводил свой аэроплан домой под прикрытием двух истребителей, оставляя за собой тонкий дымный след. Если пустить по нему стаю ищеек, они без труда отыщут бомбардировщик, но беда в том, что ищейкам хватало своих проблем, и им было уже не до добычи. Последнему бомбардировщику, пожалуй, повезло больше всех остальных. В него попали остатки лишь одной короткой очереди. Несколько пуль пробили крылья, но не оставили смертельных повреждений. Он тоже уходил, потому что, оставшись без прикрытия, не мог рассчитывать на успешное бомбометание. Самому бы уцелеть. Ведь он мог легко превратиться в груду обломков, горящих на дне глубокой воронки, гораздо раньше, чем долетит до цели.
Семирадскому заложило уши. Когда он поднял вертикально вверх свой аэроплан, то не слышал ни рева двигателя, ни воя ветра, а лишь глухие удары сердца и гудение крови, струящейся по венам. Винт взбивал воздух, вкручивался в него, как штопор в винную пробку, забираясь все выше и выше. Кожа лица обтягивала череп и стекала вниз, так натянувшись, что могла порваться, обнажая стиснутые от боли зубы. Семирадский не мог даже закричать. Полковник закрыл веки, опасаясь, что у него от напряжения лопнут глаза, а потом несколько секунд не мог разлепить их, настолько они стали тяжелыми. Он изо всех сил обхватил побелевшими пальцами штурвал, как это делает, цепляясь за спасательный круг или обломок доски, бедолага, оказавшийся в воде после кораблекрушения. Его руки, ноги и тело окаменели.
Аэроплан дрожал. Он стал опрокидываться, а потом, сделав небольшую дугу, пошел вниз, наверное, расставшись с надеждой добраться до звезд. Все это походило на катание со снежных горок, когда от страха закрываешь глаза, думая, что если санки долетят до подножия, то больше никогда-никогда не полезешь на эту крутизну.
Аэроплан вошел в штопор. Семирадскому сделалось невообразимо легко, и в голову закралась мысль продлить это ощущение как можно дольше, ведь вместе с любым маневром вновь должна была вернуться тяжесть. Она исчезла так быстро, что могло показаться, будто большая часть тела куда-то пропала.
Земля надвигалась катастрофически, и теперь, чтобы увидеть хоть что-то помимо нее, приходилось закатывать зрачки почти под веки, как при обмороке, или до хруста в позвонках откидывать голову назад, но и в этом случае взору открывались лишь верхнее крыло да узкая полоска неба, которая быстро уменьшалась в размерах, как будто небо оседало на землю и растворялось.
Он едва не потерял сознание, когда начал выравнивать аэроплан. Окружающий мир превратился в какой-то отвратительный белесый туман, в толще которого вспыхивали искры, и каждое их появление отдавалось в затылке пульсирующим ударом. Полковник сумел бы разогнать этот туман, замахав руками, но вот беда — в эту секунду он сжимал штурвал. Отпустит его, и аэроплан вновь рухнет, и вряд ли на этот раз Семирадскому удастся снова выправить его.
Постепенно мир прояснился, очистился, точно вначале в него впрыснули пары хлора, а затем пропустили через угольный фильтр. И хотя легкое головокружение и пульсация крови в висках, напоминавшая вспышки молнии, остались, Семирадский был готов продолжить сражение.
Он сделал петлю так неожиданно и резко, что немцы, не успев последовать его примеру, теперь находились впереди него. Они решили разделиться. Тот, что летел справа, стал карабкаться вверх, одновременно отклоняясь в сторону, а другой заложил крутой вираж налево. В любом случае, независимо от того, кого станет преследовать Семирадский, второй немец вновь постарается оказаться у него на хвосте.
Пилот «Фоккера» попытался было сбить преследователя со следа, оторваться от него и затеряться в облаках, чтобы затем, когда придет время, атаковать. Но Семирадский приклеился к его хвосту и медленно сокращал расстояние. До «Фоккера» оставалось метров 60–70, когда полковник наконец-то нажал на гашетку, почувствовав приятную отдачу ожившего пулемета. У него было превосходное зрение, но уследить за пулями он не мог, и не сразу понял, что промахнулся.
— Проклятье, — прошептал полковник, досадуя, что напрасно истратил слишком много патронов.
Он жалел, что пули не оставляют за собой след. Если бы они были светящимися, начиненными фосфором, он хотя бы знал, насколько далеко в стороне они прошли от немца, и тогда сделал бы поправку. Впрочем, вряд ли у его пулемета сбился прицел. Он жалел еще и о том, что аэропланы его эскадры так и не оборудовали бортовыми рациями. Если со своими подчиненными он еще как-то мог общаться, хотя это происходило на уровне интуиции, то взаимодействовать с артиллерией было невозможно.
У него заслезились глаза. «Фоккер» был чуть менее маневренной машиной, нежели «Ньюпор», а его пилот лишь немногом менее опытным, но в сочетании эти две причины, превращали бой в нечто напоминающее охоту кота за мышью. Правда, если при этом не брать в расчет то, что хвост кота может укусить вторая мышь, неожиданно превратившаяся в огромную зубастую крысу.
Если продолжать сближение, то винт «Ньюпора» мог сломать хвостовое оперение немца. Но оставалась вероятность, что лопасти винта погнутся, мотор заклинит, а сейчас — не тот случай, чтобы уходить с поля при счете один-один. Он вспомнил о Нестерове, но тот все равно был обречен, потому что смерть ходила за ним по пятам. Он сам искал с ней встречи. Он обращался с аэропланом, как ребенок со своей игрушкой, пытаясь выяснить, что же она может еще делать. Аэропланы были далеки от совершенства и не могли выполнять любой каприз пилота. Более того, игрушка была опасной.
Немец нервно оглядывался, и чем ближе русский истребитель подбирался к нему, тем чаще он делал это, так что у него, наверное, уже болела шея от этих слишком частых упражнений. Каждый раз пилот, казалось, получал от очередного поворота и вида русского аэроплана на хвосте заряд энергии, с новыми силами принимаясь выписывать обманные маневры, но результат оставался прежним. С такого расстояния можно было рассмотреть лицо немца, полускрытое шлемом и очками, о том же, что в его глазах угнездился страх, приходилось лишь догадываться.
Следующую очередь Семирадский вбил в «Фоккер», как горсть толстых гвоздей в мягкое дерево — по шляпку мощным и точным ударом. Пулемет с наслаждением проглатывал ленту, раскусывал патроны, как орехи, выплевывая шелуху. Нагретые гильзы сыпались вдоль бортов аэроплана, некоторые из них попадали в пилотскую кабину, обжигая Семирадскому ноги.
Первые пули, едва не задев хвост, утонули где-то в середине корпуса, но затем они побежали к пилоту, наткнулись на верхние крылья. Пули были похожи на капли дождя, барабанящие по крыше, вот только крыша не спасала от них. Пули легко проходили сквозь фанеру. Часть из них досталась пилоту, другая попала в приборы. В лицо немцу брызнули осколки стекла.
Когда Семирадский перестал стрелять, ленты замерли, повиснув на фанере, похожие на отдыхающих змей, которые греются на солнце. Они сделали свое дело и выбились из сил. Их яд смертелен, но его почти не осталось.
«Фоккер» плавно снижался, все еще цепляясь крыльями за воздушные потоки, но вскоре заглохший двигатель, как скатившийся на один борт груз в корабле, нарушил его равновесие, увлекая вниз.
Он так и не успел войти в штопор, ударившись о землю под острым углом, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы «Фоккер» сломался, как карточный домик, разбросав повсюду куски горящей фанеры.
Семирадский резко бросил аэроплан в сторону, боясь, что один из обломков может попасть в двигатель «Ньюпора» и заклинить его. Полковник завертел головой. Он искал второго немца, но тот сам дал о себе знать короткой, оказавшейся бесполезной очередью. До него было метров 150. При большом разбросе попасть с такого расстояния можно было, только рассчитывая на везение и удачу, а уж никак не на собственное мастерство. Очередь оборвалась неожиданно, как будто пулеметная пара подавилась. Семирадский понял, что ее заклинило.
Немцы так и не освоили такой прием, как таран. Они всячески пытались избегать его, поэтому пилот не стал рисковать и постарался побыстрее скрыться. Без пулеметов он оказался беспомощен. На его счастье, воздушные бои все еще напоминали рыцарские турниры, во время которых раненых не добивают, если они признают свое поражение, а тем, у кого сломалось оружие, дают возможность заменить его, чтобы выяснить соотношение сил в следующий раз.
Семирадский быстро догнал своих товарищей, возвращающихся на аэродром. Два поврежденных биплана тащились, будто их нагрузили непосильным грузом, пара других сопровождала их, стараясь уберечь от опасности, если та появится. Общие потери эскадры составляли пока два аэроплана, причем полковник все еще надеялся, что погиб только один пилот. Он помахал крыльями и развернулся, уверенный, что подчиненные доберутся до аэродрома и без его помощи.
Тело Иванцова было заметно издалека. Черная кожаная куртка с меховым воротником, черные брюки и черные сапоги резко контрастировали с невысокой зелено-желтой травой. Парашют то ли отнесло ветром в сторону, то ли пилот сам выбрался из-под него. Однако признаков жизни он не проявлял, и лишь белый шарф, обмотанный вокруг его шеи, трепетал, будто живой. Семирадский неожиданно вспомнил убитого немецкого пехотинца. Вокруг его запястья был обмотан собачий поводок. Собака лаяла, рвалась вперед. Иногда она оглядывалась на своего хозяина и недоуменно смотрела на него, словно спрашивая: «Ну что ты лежишь? Вставай. Побежали». Но вздрагивала только рука убитого, словно в ней все еще сохранялась частичка жизни.
До того как сесть, полковник сделал круг над телом. Ему показалось, что пилот пошевелился, но зрение могло обмануть, и он мог принять желаемое за действительное.
У пилота были открытые переломы обеих ног. Издалека кровь была не видна, но вблизи стало понятно, что ее натекло слишком много. Часть не смогла даже впитаться в землю, осев на траве красными, похожими на ягоды каплями. Она походила на росу, окрашенную красным лучами заходящего солнца. Глаза Иванцова оставались полуоткрытыми. Он стонал, находясь между сознанием и беспамятством, когда с одной стороны окружающий мир воспринимается фрагментарно, но в компенсацию к этому и боль чувствуется далеко не вся. Лицо пилота свела судорога, и оно застыло в болезненной гримасе. Парашют — опавший парус, все еще связанный с пилотом. Семирадский перерезал лямки.
Иванцов мог вообразить, что за ним спустился ангел с небес, хотя полковник, облаченный в униформу пилота, на ангела не походил.
Жизнь Иванцова вместе с кровью медленно пропитывала эту землю. Здесь вырастет хороший урожай. Глаза пилота стали закатываться. Он умирал. Он попытался улыбнуться, но не сумел даже избавиться от гримасы.
— Ну уж нет, — тихо прошептал Семирадский, зная, что пилот все равно не сумеет расслышать его слов, — ты не умрешь.
Полковнику стало больно оттого, что он понял — когда-нибудь и он вот так же будет лежать на земле, а над ним склонится другой пилот. Очень тяжело видеть, как друг расстается с жизнью. Тяжело наблюдать за тем, какие метаморфозы происходят с человеком всего за несколько минут. Он видел много разбившихся птиц, которые гнили, валяясь на земле. Они уставали бороться с дождем и ветром. Они натыкались на столбы, их сбивали выстрелы охотников. Они падали, падали, падали…
Эту территорию контролировали русские войска, но пока прибудет санитарный автомобиль и отвезет пилота в госпиталь, где ему окажут помощь, тот успеет умереть. «Ньюпор» Семирадского был рассчитан всего лишь на одного человека, но он мог выдержать дополнительный вес. Полковник выломал позади пилотского кресла кусок фанеры, отогнул спинку так, чтобы в образовавшееся отверстие пролезало человеческое тело.
— Может, помочь, пан? — услышал Семирадский у себя за спиной.
От неожиданности он вздрогнул, оглянулся. Там стояли два крестьянина, а чуть поодаль лошадь и телега с сеном. Они появились, как кроты из-под земли, или сказочные тролли. Впрочем, полковник видел эту телегу, когда садился, но тогда не обратил на нее особого внимания. Очевидно, крестьяне, увидев падающий аэроплан, поспешили к месту катастрофы.
— Так и заикой можно стать, — буркнул Семирадский.
В глаза ему сразу бросились черные кожаные немного стоптанные сапоги, которые носили крестьяне. У пилота мелькнуло подозрение, что они могли стянуть обувь с мертвых солдат, а за это полагалось наказание, но, присмотревшись, он понял, что сапоги отличаются от военного образца. На крестьянах были свободные холщовые брюки, развевавшиеся на ветру парусами, а ноги казались мачтами, но корпус этого корабля полностью ушел в ил и теперь его ничто не сможет оттуда извлечь, даже если прилетит ураган, способный поднимать к небесам дома и перебрасывать их через горы. Брюки испачкались землей и навозом, к ним пристали соломинки. Но все равно крестьяне не походили на босяков. У них был опрятный, располагающий к доверию вид. Полковник отметил добродушные загорелые лица, иссеченные морщинами, но не от старости, а оттого, что крестьянам подолгу приходилось бывать на природе и в жар, и в холод.
— Ну, добры молодцы, чего встали, как истуканы языческие? Помогите мне. Берите его за ноги. И несите в аэроплан. Не здесь! — закричал Семирадский, когда увидел, что один из крестьян собирается взять раненого за щиколотки. — Разве не видишь, что у него ноги переломаны?
Крестьянин засмущался, молча развел руками, весь его вид говорил о том, что он просит прощения за свою оплошность, но слов не находит. Похоже, у него перехватило дыхание.
— Жив ли он? Может, уже преставился? — сказал он наконец.
— Не беспокойся. Он еще тебя переживет. Бери выше переломов, а ты под мышки. Держите нежно, но крепко и не смейте уронить. Головы поотрываю!
Полковник опять убедился, что его аэроплан — это хрупкая игрушка. Удивительно, что она не рассыпается, когда взлетает и борется с ветром. Только сумасшедший может летать на ней. Семирадский залез на крыло, перевалился в пилотскую кабину. Одной рукой он уперся в борт аэроплана, другой обхватил спинку кресла и сильно потянул на себя. Раздался треск, резанувший по барабанным перепонкам не хуже, чем стрекотание пулемета. Крестьяне безмолвно наблюдали за полковником. Они его осуждали. Аэроплан не был для них чем-то обычным. Их губы что-то шептали. Они, как четки руками, перебирали губами слова, иногда поглядывая на раненого пилота.
— Здорово вы бились, — проговорил все тот же крестьянин, сопя себе под нос. — Дали германцу.
— Дали. Но нам тоже на орехи досталось.
Шурупы вылетели из пазов, спинка оторвалась. С обшивкой Семирадский справился легче. Она отделялась от корпуса, как старая кожа, под которой уже выросла молодая.
— Здесь не очень уютно, ты уж извини, — прошептал Семирадский, осмотрев внутренности аэроплана.
Главное, что его каркас выдержит вес человеческого тела, а что касается неудобств… кроме боли пилот все равно ничего не мог чувствовать, да и боль он тоже перестал ощущать…
К вечеру прилетели остальные штурмовики. Мазуров пошел представлять их Семирадскому, но тот, на этот раз был неразговорчив и угрюм. Его можно было понять. Россия ежемесячно выпускала всего двести аэропланов, то есть примерно по семь в день. Это означало, что ее мощностей хватало только на три таких воздушных сражения. Причем лимит распространялся на все фронты, и если кто-то его перебирал, то ему приходилось задумываться над тем, что делает он это в ущерб другим. Но отсутствие аэропланов — это полбеды, полковник знал, что авиационные заводы начинают увеличивать производство. Семирадский полагал, что в дальнейшем воздушные сражения будут носить еще более жестокий характер и, видимо, перестанут напоминать рыцарские поединки, превращаясь в побоища, где нет никаких правил. Главное — уцелеть самому и уничтожить противника. Водоем наполнился и вода может в любую минуту перелиться через край. Это произойдет сразу же после того, как кто-нибудь расстреляет в воздухе пилота, выбросившегося с парашютом из подбитого аэроплана, или аэроплан, у которого закончился боекомплект. Наступит время более ощутимых потерь. Где найти опытных пилотов? Их немного. Если отправлять в бой новобранцев, то результатом станет лишь катастрофическое увеличение числа сгоревших аэропланов. У него в эскадре встречались пилоты, которых сбивали по два, а то и по три раза, но в этом не было ничего позорного. Ас, получив новый аэроплан, мог одержать на нем десяток побед, прежде чем вновь оказывался сбитым. Десять новобранцев на десяти точно таких же аэропланах вряд ли в сумме запишут на свой счет столько побед. Большинство из них вообще останутся в категории пилотов, не сбивших ни одного противника, а их жизнь на войне продлится не более трех вылетов.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Казалось, что в салоне аэроплана поселились призраки, Лица штурмовиков, выкрашенные черной краской, были едва различимы, только поблескивали белки глаз и иногда зубы. Запас разговоров уже иссяк. Штурмовики летели не первый час и даже на шепот ни осталось ни сил, ни желания. Они молчали. К тому же, чтобы заглушить шум двигателей, приходилось громко кричать. Это всем быстро надоело.
Ритмичная работа двигателей убаюкивала. Веки переставали сопротивляться надвигающимся снам. В салоне было холодно. Система подогрева не справлялась, и только из-за того, что сны замерзали на лету, так и не успев пробраться в мозг, штурмовики все еще не спали. Бодрили и несколько чашек крепкого кофе, которые не так давно они влили в себя, но с каждой минутой его действие ослабевало.
«Илья Муромец» летел высоко над облаками. Они казались дном океана с прозрачной водой. Вот только на дне почему-то не было видно обломков тех, кто потерпел кораблекрушение. Люди появились здесь недавно и еще не успели наследить, но вскоре это упущение будет исправлено. В глубине океана плыла лодка аэроплана, а где-то там, высоко над ней, на поверхности мерцали звезды.
За три часа штурмовики устали смотреть в небеса, устали говорить, устали думать. Единственное, что они могли еще делать, это растирать замерзшие лица (пальцы тогда тоже красились в черное) или выполнять какие-нибудь простейшие гимнастические упражнения, чтобы размять затекшие мышцы.
Стон, издаваемый двигателями, изменился. Аэроплан пошел вниз, но не резко, как при неисправности, а плавно.
Мазуров вгляделся в крохотный иллюминатор, но по звездам не смог определить, прибыли они на место или еще нет.
Через несколько минут нос аэроплана нырнул в облака, взбил винтами пену, разметал ее и подбросил вверх, но пены было так много, что в конце концов она затопила двигатели, быстро поднялась до уровня иллюминаторов, а затем полностью накрыла аэроплан. Если раньше штурмовики видели хотя бы звезды, то теперь мир уменьшился для них до размеров салона. Все вокруг него превратилось в клубящееся море. Если иллюминаторы не выдержат его давления и треснут, то море затопит аэроплан, и тогда штурмовики задохнутся. Впрочем, они взяли с собой противогазы.
Все это продолжалось недолго. Лишь несколько ударов сердца. Потому что слой облаков был не дном океана, а лишь коркой льда на его поверхности, который аэроплан легко пробил. Для этого не требовалось иметь металлические насадки, как у ледокола, да и пропеллеры он не помял. Небо становилось полупрозрачным. Но и сюда пробралась темнота. О том, где находится земля, можно было лишь догадываться, ориентируясь по отблескам лунного света, скользящим по поверхности озера. Свет был тусклым. Он потерял всю свою силу, просачиваясь сквозь облака. Не было видно ни одного огонька, который мог бы обозначить деревушку, городок или хотя бы одинокий домик. Люди внизу спали. Мазурову казалось, что двигатели аэроплана так шумят, что разбудят всех в округе, и тогда операция будет обречена на провал с самого начала. Вернее сказать — даже не начавшись.
Три часа, проведенные на жесткой лавке, закрепленной вдоль борта аэроплана, походили на утонченную пытку, авторами которой вполне могли быть китайцы. Но штурмовики, в отличие от тех, кто попадал к мастерам заплечных дел, могли хотя бы примерно предположить, когда их мучения закончатся.
Время текло медленно, словно загустело от холода. Хорошо еще, что температура воздуха была не столь низкой, чтобы время здесь застыло, превратившись в лед. Впрочем, если подняться чуть выше — за пределы атмосферы… Глупые мысли. Они помогали Мазурову расслабиться и отдохнуть. В это время он мог думать о чем угодно. О последнем романе Казинцева, о любовных похождениях, о еде, но только не о предстоящем задании. Иначе оно измотает его прежде, чем он к нему приступит. От ожидания устаешь больше всего. Прежде чем вновь закрыть глаза, Мазуров провел взглядом от пилотской кабины до хвоста, скользя по лицам своих подчиненных, пытаясь догадаться, о чем они сейчас думают. Каждый погрузился в собственные мысли. Плохое это состояние, потому что мысли в эти минуты появляются все какие-то мрачные, темные, будто ты оказался в пещере, куда не проникает ни одного луча света. Мазуров нащупал в кармане ампулу, поиграл с нею пальцами, чтобы немного успокоить нервы. Он не знал, что в ней находится. Ее содержимое — мутная, как самогон плохого качества, жидкость — предназначалось для Тича, если тот заартачится и не захочет идти со штурмовиками добровольно. Полковник Игнатьев утверждал, что уже через полминуты человек, которому дали эту жидкость, становиться послушным и ко всему безразличным. Он не задумываясь выполнит любой приказ, и если, к примеру, ему прикажут выпрыгнуть из аэроплана без парашюта, он сделает и это, а на лице его будет сиять глупая улыбка. Препарат разработали в одной из лабораторий разведывательного управления. Ампулы хватало примерно на сутки. Никаких отрицательных последствий, кроме головокружения и расстройства желудка, после применения этого препарата не обнаружили, но дело в том, что исследования проводились лишь в течение нескольких месяцев, поэтому никто не мог предсказать, как скажется действие этого препарата через более длительный период времени. Плохо, если Тич впоследствии превратится в идиота.
Игнатьев поручил Мазурову и еще одну деликатную функцию, при мысли о которой капитана начинало мутить, как от приступов морской болезни.
— Если шансов спастись не будет, ты должен убить Тича. Пуля в голову или две. Самый простой способ, — так сказал ему Игнатьев при личной беседе. — Но это на самый крайний случай, — добавил он. — Запомни: Тич нужен нам живым.
Грязная, очень грязная досталась ему работа. Выполнив ее, он может так запачкаться, что уже никогда не отмоется и к нему приклеится плохая репутация. Впрочем, убив Тича, он вряд ли сумеет надолго пережить его. Увы, но им не стоило попадать в плен. В этом случае рано или поздно немцы выведают у них всю правду. Для этого есть слишком много способов. Чтобы избежать этого незавидного будущего, каждому из штурмовиков в воротник куртки вшили ампулу с быстродействующим ядом.
Они превратились в бездомных собак. Если авиаторы, отправляясь на задание, надевали все свои награды, будто это могло испугать противника или хотя бы на время ослепить его сиянием золота, то штурмовики все оставляли на базе. Даже документы. Если германцы поймают их, то они не смогут попасть в категорию военнопленных, с которыми принято обращаться сносно. Они шпионы. А что делают со шпионами? Ставят к стенке.
— Пять минут до высадки, — голос раздался в салоне, заставив штурмовиков невольно озираться по сторонам.
Его стоило приравнять к фразе: «Ваше время истекает. Добро пожаловать на небеса». Вот только процесс будет протекать в обратном направлении. Не с земли на небеса, а с небес на землю, как у падших ангелов. Рупором создателя выступил Левашов. Голос пилота искажался треском помех. Узнать его было трудно, как будто он был записан на старой затертой пластинке. Однако штурмовики вздохнули с облегчением. Наконец-то стала видна цель. Но смотреть в иллюминатор по-прежнему не было смысла. За ним только непроглядная темнота. Мазуров принялся про себя считать до трехсот. Так он хотел скоротать эти последние и, пожалуй, самые долгие мгновения. Остальные занимались, похоже, тем же. Но из капитана получился слишком плохой хронометрист, потому что он не добрался даже до двухсот пятидесяти, когда из кабины вышел второй пилот. Он молча прошел через салон к двери, за которой было крыло, дернул за ручку, надавил на дверь, но снаружи на нее тоже кто-то давил. Кто-то более сильный, чем второй пилот, поэтому как тот ни старался, он смог приоткрыть дверь лишь на один-два сантиметра. В щелку тут же ворвался ветер, а потом она быстро закрылась и больше не поддавалась. Второй пилот бросил бесполезное занятие и оглянулся.
— Ну, помогите же, — наконец сказал он.
Его дыхание сделалось прерывистым. Он устал. Как будто только что выложил все свои силы на стометровке. От пилота было уже мало пользы. Справиться с дверью поодиночке штурмовики не смогли, и чтобы ее открыть, понадобились усилия двух человек. Да и то им пришлось изрядно потрудиться.
На их спинах выступил пот. Никто и не подозревал, от какого шума оберегают их стенки салона. Он захлестнул их. Его стало невозможно перекричать, будто ты оказался возле мощного водопада. Теперь им приходилось общаться знаками.
Шум стал еще более невыносимым, когда отворили дверь по другую сторону салона. В него ворвался холод, мгновенно прогнав даже то тепло, которое заботливо сохраняла маломощная система отопления. Ветер начинал сбивать с ног на подходе к дверям. Любого, кто появлялся на пороге, он заталкивал обратно. Чтобы выбраться на крыло, приходилось держаться за борта и подтягиваться на руках, одновременно очень медленно передвигая ноги. Казалось, если освободить руки — ветер отбросит тело и если не размажет по стенке, то дух от такого удара из него точно вышибет. Второй пилот похлопывал штурмовиков ладонью по спинам, немного подталкивая вперед. Что-то говорить было бесполезно. Они шли друг за другом. Растяжки между крыльями звенели наподобие какого-то струнного музыкального инструмента. Разобрать, что он играл, не получалось.
Аэроплан снижался. Мазуров не знал, насколько упала его скорость, но, оказавшись на крыле, он не сомневался, что «Илья Муромец» продолжает лететь быстрее стрелы, быстрее ветра, быстрее пули.
Только сейчас холод по-настоящему добрался до их тел. Он сделал это одним резким кинжальным ударом в грудь и горло, от которого перехватило дыхание, а остатки воздуха застыли в глотке. Мазуров задыхался. Он не мог проглотить этот кляп и не мог издать ни единого звука — даже стона или мычания, не говоря уже о человеческой речи. Ветер хотел сбросить их с крыльев, беспрерывно атакуя, точно так же, как когда-то немецкая кавалерия штурмовала высоту, на которой они закрепились. Ветер пытался заставить их пальцы разжаться и отпустить поручни, за которые они цеплялись. Он зря старался.
Мазуров огляделся. Отряд был похож на группу самоубийц или на членов религиозной секты, решивших принести себя в жертву. Поверхность крыльев обледенела. Лед быстро таял, но все равно удерживать равновесие было тяжело. Надолго сил не хватит. Наконец пилоты отдали команду прыгать. Штурмовики сорвались с крыльев и бросились бездну, ведь земли они так и не видели. Их сразу же съела темнота. Вероятность, что при прыжке ветер отбросит их на корпус аэроплана, была очень мала, но на всякий случай они прыгали почти с самого окончания крыльев — за дальними моторами.
Аэроплан ушел вверх. Из-за того что он, потеряв часть своего груза, стал намного легче, его подбросило, и «Илья Муромец» начал всплывать, как подводная лодка, откачавшая балласт.
На самом деле ветер был не таким сильным, как это казалось штурмовикам, когда они стояли на крыльях. Теперь Мазуров был уверен, что ветру не удастся сильно разнести их в стороны. К тому же прыгали штурмовики друг за другом с короткими интервалами, и между первым и последним прошло всего несколько секунд. Если, конечно, кого-то не угораздит попасть в сильный воздушный поток.
Под Мазуровым стали расцветать купола парашютов. Они чем-то напоминали вспышки взрывов или клубы дыма, которые почему-то не опадали со временем, а оставались неизменными. Мазуров подумал, что парашюты для ночной выброски нужно было выкрасить в черный цвет.
Сердце начало давать сбои, как прибор, у которого зашкаливает стрелку. Ритм ударов был настолько частым, что кровь обезумела в венах. Растекаясь по телу, она приносила страх во все его закоулки, но особенно настойчиво — в голову. Пора было ее остановить. Мазуров посмотрел в небеса. Он пребывал в на редкость неудобном положении для того, чтобы любоваться звездами. Он их и не увидел, заметив лишь луну, да и та показалась ему смазанной, будто ее нарисовали серебряной краской на черном фоне, а потом кто-то слегка потер рисунок тряпочкой с растворителем. И конечно, капитан не увидел аэроплана и даже не услышал его — настолько сильно гудел ветер в ушах.
Потом он дернул кольцо, старательно отгоняя мысли о том, что парашют может не раскрыться. Боль от лямок была приятной. Парашют с хлопком появился из ранца, наполнился воздухом, навис над Мазуровым, отнимая у него небо и оставляя его глазам только землю. Его основательно тряхнуло. Тело заныло, позвонки хрустнули, мышцы растянулись, но, к счастью, не порвались. Компенсацией за все это стало то, что одновременно тело покинул страх, который продолжал камнем падать вниз.
Когда штурмовики захватывали мост, снизу их встречали ружейными залпами. На этот раз все было иначе. Удавалось даже насладиться полетом. Главное — успеть вовремя стряхнуть с себя очарование небес и не врезаться неожиданно в землю.
Воздух был приятным. В нем растворились запахи, которые занес сюда ветер, украв их у деревьев, травы и земли. Он бросил их здесь, погнавшись за аэропланом. Когда падаешь с небес как дождь, который через несколько минут разобьется брызгами и впитается в землю, хорошо фильтруются мысли. Мозг остается почти пустым.
Парашют вел себя прекрасно. Конструктор Кудинов немного усовершенствовал свою разработку и учел большинство замечаний, которые сообщил ему Мазуров во время непродолжительной беседы на Гатчинском поле. Мазурову очень понравился этот сухощавый старичок в смешном маленьком пенсне на подслеповатых глазах. Он одевался по моде пилотов, и глядя на него никто не сказал бы, что он летал на аэропланах всего пять раз и ни разу не воспользовался собственным изобретением…
Мазурову было гораздо проще, чем его товарищам. Он легко мог определить где находиться земля по угасающим куполам парашютов. Ветер пробовал вырвать их из рук штурмовиков, но те быстро гасили купола, а потом, когда парашюты сдувались, валились безжизненной тряпкой на землю и становились уже не опасны, штурмовики скатывали их и запихивали в сумки.
Они садились на небольшой поляне, окруженной деревьями. Если кто-нибудь спрятался за ними, пусть вооруженный всего лишь винтовкой, ему ничего не стоило перестрелять всех штурмовиков. Они были превосходными мишенями, а контейнеры с рацией и оружием и вовсе вымазали фосфорной краской, чтобы они не затерялись и их было легче искать в темноте.
Действия Мазурова были доведены до автоматизма, как у механической куклы. Мышцы сами могли выполнять их, даже если не следовала команда из мозга. Капитан прыгал с парашютом десятки раз. Иногда ему казалось, что если пуля попадет ему в лоб, ноги все равно самортизируют удар о землю и побегут, гася скорость, — независимо от того, жив Мазуров или мертв.
Кажется, все обошлось. За исключением небольшой неприятности, которую и неприятностью-то называть было слишком громко, учитывая, что они сели в немецком тылу незамеченными. Но ветер все-таки сумел с ними поиграть. Когда Вейц уже находился почти на земле, порыв бросил его в сторону — прямо на дерево. Времени, чтобы выправить положение, у него уже не оставалось. Парашют надежно запутался в ветвях. Штурмовик же беспомощно болтался на лямках, как марионетка. Парашютом пришлось пожертвовать. Вейц еще до того, как к нему подбежали товарищи, извернувшись, вытащил из-за голенища охотничий кинжал с зазубренным лезвием, который великолепно разрывает сухожилия, и перерезал лямки. Потом он, ломая ветки, грузно осел на землю. Он успел сгруппироваться и, к счастью, ноги не сломал, а лишь отбил. С полминуты он катался по земле, постанывая от боли и хватаясь за ступни. Но потом боль отпустила его, ушла искать новую добычу, а для того чтобы остановить кровь, сочащуюся из нескольких неглубоких порезов на лице и руках, потребовалось всего три минуты.
На поляне было тепло. Но холод небес так глубоко проник в их тела, что пришлось выбивать его минут двадцать, в течение которых штурмовики бегали по поляне в поисках контейнеров с автоматами, рацией и кинокамерой. Окончательно холод так и не исчез и давал о себе знать, когда по телам пробегала судорога, как у припадочных.
Мазуров выставил в охранение Александровского и Краубе. Штурмовики двигались бесшумно, словно у них отняли тела, оставив только тени. Так должны двигаться призраки, населяющие средневековые замки, а если они давно покинули Мариенштад, что ж, они там вскоре появятся, и штурмовики сделают все от них зависящее, чтобы это произошло к следующей ночи.
Они все понимали без слов. Для общения им не требовалось даже знаков. Максимум — это кивок головы, а обычно они ограничивались только выражением глаз, будто между ними образовалась телепатическая связь и они чувствовали мысли и боль друг друга. Странно, но в госпитале Мазуров почувствовал, как погибли двое его подчиненных, а теперь он еще в воздухе знал, что весь отряд приземлился благополучно.
Контейнер с рацией и кинокамерой нашел Рогоколь. Он едва не раздавил его и если бы во время не подогнул ноги, то плюхнулся бы прямо на контейнер, и тогда отряд наверняка остался бы без рации. Открывать контейнер он не стал, подождав, пока не подойдет радист.
— Спасибо, — сказал Азаров.
Штурмовики знали, как ревностно он относится к рации и никому не дает ею пользоваться, хотя все умели с ней неплохо обращаться. «Нет, — постоянно твердил Азаров, — вы обязательно что-нибудь сломаете». К счастью, никто на рацию не посягал.
Радист затаил дыхание, когда распаковывал контейнер. У него дрожали руки, словно он только что перетаскивал тяжелые мешки. Азаров снял кожух, быстро осмотрел приборы и наконец с облегчением вздохнул. Он поднял вверх глаза и посмотрел на остальных штурмовиков, которые окружили его плотным кольцом и внимательно наблюдали за всеми его действиями.
— Все в порядке, — сказал он с удовлетворением.
Чуть позже наткнулись и на контейнер с автоматами. Быстро распределили вооружение. Для маскировки стволы обмотали черно-зелено-коричневыми лоскутками, похожими на бахрому.
Спустя час отряд уже расположился на опушке леса, наблюдая за тем, как из темноты возникают очертания башен и стен с зубцами. Штурмовики не стали оборудовать наблюдательный пункт. Они просто повалились на землю, утолили жажду и голод, а потом кто-то из них заснул, а кто-то стал охранять спящих. У них была вечность, чтобы придумать способ, как пробраться за эти стены. Целая вечность. Один день.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Мариенштад — это слово щекотало гортань и рот, как пузырьки газа.
У Мазурова было достаточно времени, чтобы подробно изучить замок. Он несколько часов рассматривал его в бинокль и теперь с закрытыми глазами мог воспроизвести на бумаге. Мариенштад излучал черную энергию. Одной стороной он нависал над пропастью. С трех других к нему подбирался густой лес, но примерно в полукилометре от замка он внезапно обрывался, словно наталкиваясь на непроходимое магнитное поле, и дальше не могли проникнуть ни деревья, ни даже кусты, а только чахлая трава. Зато на опушке леса деревьям явно не хватало места. Они прижимались друг к другу и словно пытались выпихнуть наружу наиболее слабых, сильные же стремились укрыться в глубине леса.
Поначалу замок казался плоским, вырезанным из фанеры или картона и покрашенным черной краской, но бледневшие на небе звезды придали ему объем, и он стал походить на отвратительный каменный нарост или, скорее, на застывший гной, который когда-то выдавили из раны, но забыли протереть, и теперь он превратился в камень.
Утром стало видно, что булыжники, из которых сложен замок, обросли мхом, похожим на мех, словно тысячи крыс взобрались на спины друг друга, а потом волшебник взмахнул своей палочкой, и они застыли, но когда он расколдует их, замок рассыплется за секунду. Зверьки разбегутся по норам, которые они покинули сотни лет назад, а от замка не останется ни следа. Точно так же возбуждали воображение Чичен-Ица и Лхаса.
«Мрачный и неприветливый» — это символ замка, который следовало выбить на его воротах, и еще лозунг: «Входящий сюда, забудь о радости». Можно посочувствовать тем людям, которые когда-то были вынуждены в нем жить, но еще большего сочувствия заслуживали те, кто хотел взять его штурмом. Пришлось бы изрядно попотеть и потерять уйму солдат, прежде чем удастся подтянуть таран к воротам, причем это не давало никакой гарантии, что их можно проломить. Штурмовые башни отпадали, а взобраться на стены можно, только избавившись от доспехов. Надо думать, защитники замка только одобрили бы подобную инициативу. Убивать глупцов, что может быть веселее?
Мариенштадом можно было любоваться часами, если, конечно, знать, что потом уйдешь отсюда и встретишь вечер и ночь у себя дома в теплой постели, вдали от этих мест. Но… Мазуров почувствовал неожиданную печаль из-за того, что именно ему предстояло разрушить этот замок.
— Как ты думаешь, сколько у них продуктов? — спросил Игорь Рингартен.
— На полгода осады хватит, — ответил Мазуров.
— Ай-я-яй, боюсь, раньше нам и не управиться.
На башнях замка были установлены прожекторы, но приветливее от этого Мариенштад не стал, потому что немцы не включали их, уверенные, что никто на них не нападет. Сумасшедшим выглядел как раз тот, кто думал об обратном.
Рингартен думал, что, если на стенах между зубцами развесить гирлянды из колючей проволоки, замок станет похож на тюрьму. К нему вела неширокая грунтовая дорога. Видимо, пользовались ею нечасто. Казалось, что Мариенштад выпал из пространства и теперь живет собственной обособленной жизнью. За весь день к нему никто не подъехал, из него никто не выходил. Без часовых на стенах он и вовсе казался бы необитаемым. Свою работу они выполняли плохо. Но расслабляться не стоило. Часовые могли увидеть отблески солнечных лучей на стеклах бинокля. Оптика предательски выдавала даже измазанных маскировочной краской снайперов, которые могли часами лежать не двигаясь, притаившись в кустах. Случайный отблеск делал всю их маскировку напрасной. Но он длился долю секунды, и чтобы его уловить, нужно было внимательно следить за зарослями. Иногда на это уходило несколько часов. Часовые, охранявшие замок, по сторонам не смотрели и всегда оставались повернутыми к штурмовикам в профиль. Рассмотреть их лица не получалось, а ростом все они были одинаковы. И все-таки Мазурову удалось установить, что одновременно заступают в караул всего два солдата.
Время давно приступило к разрушению замка. С момента его постройки прошло не так много лет, чтобы камень превратился в пыль, но его края обветрились и сгладились. Когда-то каменотесам удалось добиться, что между камнями не просовывалось лезвие меча, а теперь туда протискивались пальцы.
Мазурову не удавалось рассмотреть, насколько глубоки щели, но, похоже, опору можно найти по всей стене. Впрочем, он трезво оценивал свои силы и сомневался, что сможет вскарабкаться по этой стене на самый верх. В лучшем случае он поднимется метра на четыре. Если очень постарается — то на пять, но на оставшееся сил у него не хватит. Потом он встанет перед выбором — прыгнуть вниз самому или дождаться, пока руки ослабнут и пальцы разожмутся. Впрочем, капитан и не собирался демонстрировать способности стенолаза лично, ведь в отряде был Павел Миклашевский.
С самого начала Мазуров рассчитывал на него. Первоначально он полагал, что кто-нибудь забросит на стену кошку с веревкой и заберется по ней наверх. Но часовые могли услышать, как железные зубья кошки скребутся о камень стены. Пробиваться через ворота — слишком шумно. Штурмовики раскрыли бы себя раньше, чем разузнали обстановку внутри замка и сообразили, как им действовать дальше. Забивать стальные штыри в щели между камнями, как при восхождении по крутому горному склону, тоже довольно громко. Оставалось одно: взобраться на стену, используя методику мухи. Или паука. При этом все снаряжение, за исключением ножа и веревки, придется оставить внизу.
Мазуров подозвал Миклашевского. Тот уже осмотрел три стороны замка, совершив небольшой рейд вокруг него.
— Условия примерно везде одинаковые. Все участки должны хорошо просматриваться с башен. Но думаю, что за ними никто не следит внимательно. Надо посмотреть, какой ночью будет ветер, а потом я попробую. Долго ждать нельзя.
Да, как бы они ни старались, но их временное пристанище опытные следопыты обнаружат очень быстро. Не надо обладать выдающимися аналитическими способностями, чтобы понять, где располагался отряд перед нападением на замок. Штурмовики были осторожны, но не приминать траву под силу только бестелесным ангелам. Дальше по следу пустят собак. Их, конечно, найдут. Все зависит от скорости.
Тем временем Азаров вырезал ножом квадратный кусок дерна со сторонами примерно тридцать сантиметров, скатал его в трубку, затем саперной лопаткой вырыл ямку глубиной в полметра. Земля была влажной и не осыпалась со стенок. Рыть мешали корни деревьев, как змеи пронизывающие землю. Но они оказались не очень толстыми. Лезвие лопатки их легко перерубало. Выкопанную землю вместе с обрубками корней Азаров складывал в разложенную на земле тряпку. Он положил в яму кожух с рацией, присыпал ее землей и вернул на прежнее место дерн. Для того чтобы разглядеть тонкий разрез в дерне и поврежденную траву, пришлось бы нагнуться. От такого положения заломит в спине. Выкопанную землю радист отнес в лес, метров за двадцать от стоянки и равномерно раскидал ее так, чтобы она стала незаметной.
Еще накануне штурмовики прочесали лес в округе, но ничего подозрительного не нашли. Мир вымер. Выставив дозорных, штурмовики целый день проторчали в зарослях. Мазуров дал им время поспать, да и сам вздремнул, проснувшись, почувствовал, что тело затекло. Хорошо еще, что земля была мягкой, и если бы не ветки, которые так и норовили впиться в бок, лежать на ней было даже приятно. Комары досаждали не сильно. Они уже успели где-то напиться крови. Время опять тянулось невыносимо медленно. Чтобы ускорить его, нужна была более непринужденная обстановка. Хотелось, чтобы скорее наступила ночь. Штурмовики молили бога, чтобы он побыстрее загнал солнце за горизонт. Очень хотелось двинуться к замку сразу, как только мир начал тускнеть, а солнце коснулось верхушек деревьев, поджигая их. Но было еще слишком светло…
Мазуров с детства любил шоколад, который выпускали в Москве и Санкт-Петербурге. Впечатления о других городах у него складывались вовсе не от архитектурных памятников или каких-либо других достопримечательностей, а от того, каков на вкус местный шоколад. Он всегда просил родителей купить его. За один присест он мог съесть стограммовую плитку, а если запивать чаем, то, пожалуй, прикончил бы и полторы. Возраст не истребил у капитана пристрастия к сладкому, но, лежа в кустах, он мечтал о другой еде… Им выдали по пять плиток шоколада. Специалисты считали, что это самая хорошая пища для штурмовика. Калорийная и не занимает много места. В чем-то они были правы. Шоколад не давал расслабиться, а содержащиеся в нем вещества взбадривали. Но его сладковатый привкус, надолго остававшийся во рту, оседавший пленкой на зубах, начинал раздражать, поэтому его хотелось побыстрее смыть водой из фляжки. Мазуров опасался, что если война продлиться еще год, он приобретет стойкую аллергию к шоколаду. Родные не узнают его, когда он вернется.
Шоколад изготовили на фабрике немца Эйнема, и предназначался он специально для армии. Судя по вкусу, он назывался «Боярским», но его завернули не в обычную пеструю упаковку, а в темно-зеленую бумажку под цвет формы. Естественно, в нем не было и специальных вкладышей, которые так любили собирать дети, чтобы потом хвастаться своей коллекцией перед приятелями. На вкладышах изображались портреты известных пилотов, гонщиков, а в последнее время стали появляться и герои этой войны. Очень полюбились обывателям сценки из ратных подвигов казака Крюкова. Смешно, если Мазуров, когда-нибудь развернув шоколадку, найдет там свой портрет или портрет кого-то из своих штурмовиков.
Капитан не отрываясь смотрел на замок, будто его взгляд мог прожечь в камне дыру или сделать стены прозрачными. Он отворачивался, когда глаза уставали от напряжения и начинали слезиться. Тем временем небо бледнело, как кожа человека, расстающегося с жизнью. Закат брызнул в облака кровью, но она уже почти вытекла из них. Они тоже становились бледными. Их погонял ветер.
— Всем ко мне, — приказ касался постовых, которым передали сообщение по цепочке. Остальные находились рядом.
Мазуров посмотрел в небеса. Облака стерли остатки луны, оставшиеся после того как на нее набросилась земная тень. Узкая полоска света, сочившаяся от спутника, с трудом боролась с темнотой. Потом он посмотрел на замок и почти не различил охранников меж зубцами. Он надеялся, что они столкнутся с теми же трудностями.
Прохладный ветер дул в лица, смывая с них усталость и прогоняя сонное тепло, накопившееся в телах за день. Было очень тихо. Штурмовики терпеливо дождались сумерек, но прошло еще два часа, прежде чем они двинулись к замку. Они надеялись, что служба охраны в замке не очень строгая, а начальник по ночам не проверяет выставленные им посты. К этому времени сон уже должен был сломить караульных или хотя бы сделать похожими на сомнамбул. Теперь им лень смотреть даже по сторонам, и они, как заведенные, двигаются по много сотен раз пройденному маршруту, наступая на свои же, оставленные всего несколько минут назад следы.
В лесу просыпалась ночная жизнь. Потрескивали ветки под весом какого-то хищника. Приглушенно, будто опасаясь кого-то, покрикивали птицы. С наступлением сумерек на штурмовиков набросилась мошкара. Постепенно кожа на лицах начинала зудеть. Скоро появятся волдыри.
Первым шел Мазуров. Штурмовики обмотали тряпками все металлические части снаряжения. Шорох одежды, скрип кожи да дыхание — вот и все, что выдавало их. Минут через пять они осторожно подобрались к замку. Теперь они бы уже не успели вернуться в лес. Они были как на ладони. Их могла срезать короткая пулеметная очередь. Если немцы все же мазнут по окрестностям замка лучом прожектора, им останется только упасть на землю, а там все в руках провидения. Для прожектора хватит одной пули. Потом он погаснет.
Миклашевский дотронулся до основания замка. Поводил ладонями по камням, а потом закрыл глаза и прижался к одному из них ухом, словно пытался услышать то, что происходило по другую сторону стены. Похоже, он молился. Но Павел простоял так не более двух секунд. За это время не успеешь произнести ни одной молитвы, впрочем… Так бушмены завораживают духов огня, а потом они могут наступать голыми пятками на раскаленные добела камни, испытывая при этом не боль, а наслаждение. Миклашевский не был в Африке. Он добрался только до Центральной Азии… Павел повернулся к остальным штурмовикам. Они смотрели на него с надеждой, словно говорили: «Ты уж постарайся».
Колбасьев снял арбалет с плеча, взвел тетиву, положил в лунку стрелу.
— Не беспокойся Паша. Я буду следить за стенами, — прошептал он.
Миклашевский улыбнулся, подумав о чем-то своем, кивнул в ответ. Губы его беззвучно сказали: «Спасибо. Пока».
Когда штурмовик стал карабкаться вверх, то сделался похожим на паука. При этом создавалось впечатление, что у него не четыре конечности, а по меньшей мере шесть, и это несмотря на то, что полз он медленно и осторожно, прижимаясь к камню всем телом и подолгу выискивая опору. Он бесшумно растворился в темноте. Если бы стена вершиной упиралась в облака, он наверняка залез бы на небеса. Возможно, так оно и было.
Миклашевский почти добрался до вершины, когда услышал шаги. У него уже болели пальцы. Он почти не чувствовал их, и каждое новое подтягивание давалось ему с все большими трудностями. Так что теперь он вряд ли сумел бы сыграть на пианино композицию Моцарта, виртуозным исполнением которой производил фурор в светских салонах. Да и в простейшей мелодии схалтурил бы. Но нож он все еще мог удержать в ладони, хотя сейчас зажимал лезвие зубами. Он ошибся, решив, что до часового осталось всего лишь несколько метров. Слух обманул его. Павел понял, что вполне успел бы сделать последний рывок, перемахнуть через стену и спрятаться за одним из зубцов, до того как часовой подойдет к нему. Он понял это слишком поздно. Пришлось ждать, пока часовой удалится на такое расстояние, с которого уже не сможет услышать, как штурмовик переберется через стену.
Миклашевский ненавидел армейские сапоги, которые полагалось носить, согласно уставу. Особенно если у них, как это практиковалось в английской армии, каблук и подошва подбиты металлическими накладками. Вначале казалось, что нога попала в деревянную колодку, потом положение немного исправлялось, но это стоило стертых до крови пальцев и пяток. В сапогах неплохо отплясывать чечетку, но вот передвигаться тихо — проблематично. Даже если наступать на мыски, каждый шаг все равно сопровождается звуками, сравнимыми с колокольным звоном. Он перебудил бы всю охрану, которая, чего доброго, подумала бы, что пришел судный день, и в ужасе сбежалась на эти звуки. Но на нем были невысокие кожаные ботинки на шнуровке, с рельефной каучуковой подошвой, очертанием напоминающую рисунок автомобильной покрышки.
На всякий случай Павел прихватил с собой несколько металлических штырей, которые прятал в специальном поясе. Пока он обходился без них. Кроме того, к поясу он привязал моток веревки с завязанными на ней узлами.
Камни еще не успели отдать тепло, которое впитали днем, поэтому стена походила на остывающую печку. Штурмовик чувствовал, что его ноги миллиметр за миллиметром начинают соскальзывать с опоры. Он перенес основную тяжесть на пальцы, которые сразу же заныли от усталости.
Когда опасность миновала, Миклашевский спрятался за зубцом и стал ждать. С внешней стороны замка он был неразличим. Он посмотрел по сторонам, чуть согнул ноги в коленях, втянул голову в плечи. Охранник уже ушел так далеко, что ни разглядеть его, ни хотя бы услышать его шаги было невозможно. Штурмовик взял кинжал за рукоятку. Ощущения были приятными, несмотря на то, что ладони гудели. Дыхание было прерывистым, но он вскоре сумел вернуть его в привычный ритм. Когда появился немец, Миклашевский соскользнул со стены. Охранник не заметил его и лишь в самом конце, когда одна рука штурмовика уже почти закрыла ему рот, чтобы остановить вскрик, а другая толкнула кинжалом в спину, попытался обернуться, но Миклашевский сумел предвидеть это движение и скорректировал удар так, чтобы он пришелся в сердце. По телу часового пробежала судорога. Штурмовик помог ему удержать винтовку. Немец прогнулся. На его губах выступила пена, а потом потекла кровь, заливая Миклашевскому ладонь. Это продолжалось секунд пять, в течение которых штурмовик, несмотря на свою силу, с трудом сдерживал немца, а потом тот обмяк, превратившись в мешок, набитый соломой. Его руки безвольно опали. Миклашевский положил часового на камень, стараясь, чтобы винтовка не загремела. Крови натекло немного. Маленькая лужица быстро мелела. Кровь просачивалась в щели между камнями. Согнувшись над мертвым телом и вытирая о шинель немца кинжал, штурмовик вновь осмотрелся, похожий в это мгновения на волка, склонившегося над добычей, который пытается выяснить, решится ли кто-нибудь отнять у него трофей. Но в замке было по-прежнему тихо. Никто не проснулся. Лишь второй охранник приближался, скрываясь пока в темноте. Миклашевский мягко, как кошка, прошел десяток метров, а когда распростертый на камне немец перестал быть виден, вновь спрятался за зубцами стен и стал ждать.
Когда он бесшумно отделился от стены, часовой, наверное, подумал, что призраки людей, которых много столетий назад убили в этом замке, вырвались на свободу. Штурмовик успел прочитать в широко открытых глазах, пытавшихся хоть что-то увидеть сквозь полупрозрачную сонную вуаль, удивление с примесью ужаса. А потом Миклашевский легким отточенным движением, похожим на огненный всполох в небе, который неожиданно появляется там во время дождя и так же быстро исчезает, полоснул немца кинжалом по горлу.
Уже не имело смысла зажимать часовому рот. Он ничего не мог сказать. Он хотел что-то произнести, но все звуки не доходили до рта, вытекая через рану на горле, вместе с кровью и жизнью. Кровь в ране булькала и клокотала. Глаза немца стали тускнеть, а когда Миклашевский увидел, что часовой начал оседать, он подхватил его под руки и осторожно опустил на камень, будто опасаясь, что тот, падая, может больно удариться.
Павел разогнулся, как пружина, — сгусток мышц, вен и сухожилий. Ему бы теперь завыть волком, задрав голову к небесам, потому что мгновением раньше из плена облаков наконец-то вырвалась луна. Она была полной. Она залила этот мир серебристым пламенем, и теперь стал виден не только весь замок, но и дорога, вытекающая из-под ворот, и лес, который боялся приблизиться к стенам. Миклашевский и не подозревал, как близко бродила возле него смерть. Он не стал кричать, а только разлепил губы в улыбке. Его лицо было неестественно бледным, как у окоченевшего трупа. Его глаза сверкали, как драгоценные камни. Его предками были варвары. По крайней мере именно так называли их ромеи. Теперь кровь предков, проснувшись от долгого сна, бурлила в его венах.
Павел отвязал от пояса моток веревки, закрепил его на стене и бросил вниз. Он походил на рыбака, который забрасывает леску в озеро. Насаживать на нее приманку он не стал. Рыба была такой голодной, что попалась и без наживки. Веревка тут же натянулась.
Первым показался Мазуров. Ему было гораздо легче, чем Миклашевскому, поэтому у него на лбу даже не выступила испарина. Он легко перемахнул через стену, занимая боевую позицию и дожидаясь, когда к нему присоединятся товарищи. Ему было достаточно одного мимолетного взгляда на лицо Миклашевского, чтобы понять, что все в порядке. Пока все в порядке.
Когда внизу остался только один человек, они втянули веревку наверх и привязали к ней труп охранника. Осторожно, будто из-за резких толчков он мог пораниться или ушибиться о стену, они опустили его вниз, затем проделали ту же операцию со вторым охранником и опустили его вниз, а уже после этого, завернув в гимнастерку винтовки немцев, отправили их следом за хозяевами. Последним на стену залез Рингартен.
Теперь только едва различимые пятна крови обозначали то место, где погибли часовые. В ближайшие полчаса его никто не найдет, а к тому времени, когда следующая смена должна будет заступить на вахту, из замка уже уйдет жизнь.
О том, где может находиться секретное оружие, они сделали предположение еще во время тренировок. Пока это предположение в силе. Теперь они хотели его проверить, стараясь как можно дольше оставаться незамеченными. Именно поэтому они пока не применяли ни автоматов, ни пистолетов, да и немцы подпустили их так близко, что разумнее пользоваться ножами и кинжалами.
В военном министерстве, незадолго до начала войны, кто-то убедил всех остальных, что автоматы очень неэффективны, поскольку напрасно тратят много патронов. Там посчитали, что, стреляя из винтовки, можно поразить цель, затратив куда меньше боеприпасов, поэтому программы разработки российского автоматического оружия были приостановлены. В дальнем бою, когда до наступающего противника, которому негде спрятаться, остается несколько сотен метров, это утверждение было верным. Но забывалось, что в этом случае у обороняющегося есть время, чтобы хорошенько прицелиться. Но в ближнем бою, за то время, пока ты будешь передергивать затвор громоздкой и бесполезной в окопе винтовки, автоматчик успеет нашпиговать тебя свинцом, как утку яблоками. Штурмовикам приходилось использовать трофейные немецкие автоматы системы Шмайссера. Они им нравились, но входили в разряд дефицита, поскольку и у немцев этих автоматов было очень мало.
Мазуров посмотрел на Александровского и рукой показал ему на башню. Штурмовик кивнул в ответ. Их пути разминулись.
Иван боялся, что оступится, упадет, расквасит себе лицо или даже разобьется, поэтому шел осторожно, выставив вперед руки, как слепой, потерявший палочку и поводыря. В черном небе кто-то прорезал люк, в него лился лунный свет. Он притягивал. Александровский потянулся к нему, как ребенок, который тянется к вкусной конфете или к яркой игрушке. Наконец спиральная лестница вывела его на вершину башни. Он осмотрелся. Здесь не было ни души. Стекло прожектора покрывал слой пыли. Видимо, им давно не пользовались. Может, и лампа в нем перегорела. Возле стены лежала кучка праха. Ветер почему-то не разметал ее. Такие следы обычно оставляют после себя муравьи, поселившиеся в подвале дома и проевшие в его фундаменте лазы. Александровский приник к стене и посмотрел вниз — на двор. Сверху были хорошо видны вспомогательные строения — очевидно, подсобные помещения и казарма. У Александровского был автомат и три гранаты — вполне достаточно для того, чтобы прикрыть отряд и так нашуметь, что противник вообразит, будто на башне засело целое отделение. Основное внимание Иван сосредоточил на казарме.
Штурмовики немного задержались. Они появились секунд через тридцать, спустившись по крутой каменной лестнице. Чтобы ходить по ней и при дневном свете, необходимо обладать хорошей координацией и не бояться высоты. Ночью же, прежде чем сделать очередной шаг, приходилось нащупывать следующую ступеньку ногой и только затем, убедившись, что она действительно есть, переносить всю тяжесть тела. Ступеньки могло и не оказаться.
Казалось, что замок вымер. То ли немцы спали летаргическим сном, то ли их скосила эпидемия, выжить в которой удалось лишь двум часовым. В первом случае вместо профессора они должны наткнуться на спящую красавицу. Мазуров еще не подготовился к тому, чтобы обзавестись семьей, поэтому право поцеловать принцессу он, скорее всего, отдал бы кому-нибудь другому. Желающие найдутся.
Тысячи ног, которые прошли по этому двору, перемололи землю и камень в пыль. Она устилала весь двор тонким налетом. На нем отчетливо оставались следы.
Александровский внимательно следил за отрядом. Краубе и Рогоколь прикрывали отряд с флангов. Они держали наготове автоматы, поглядывая по сторонам. Рингартен шел в арьергарде и двигался большей частью спиной вперед. Зато он был уверен, что позади отряда не происходит ничего опасного. Там вообще ничего не происходило. Наконец Ремизов отделился от отряда и отправился к воротам замка.
Трехэтажный донжон, сложенный из массивных блоков, безмолвствовал. Когда опасность набегов воинственных соседей или чужеземных орд миновала и замок перестал выполнять свои основные функции, в стенах донжона пробили большие окна. Они изуродовали замок. Сейчас они были темными и лишь отблески лунного света играли на стеклах, пытаясь пробраться внутрь. Но они натыкались на массивные портьеры и отступали, так и не сумев просочиться сквозь них. Хотя нет, в одном из окон они, похоже, сумели зажечь слабенький огонек.
Водосток поддерживали гаргульи. Они же сидели на углах здания, взобрались на покатую треугольную крышу и взгромоздились на небольшой каменный выступ над дверью. Создавалось впечатление, что со временем их становилось все больше и больше и если замок простоит еще полтысячелетия, то места гаргульям здесь уже не останется и некоторым из них придется искать новое пристанище.
Дверь была сделана из тесно пригнанных друг к другу досок. Как картину в раму, доски заключили в металлическую оправу. Если ее вырубить из камня вместе с рамой, то можно отправлять в музей. Из дверей, на уровне плеч, росли две металлические львиные головы, в носы которых были вделаны кольца. Наверное, львам сделалось больно, когда Мазуров ухватился за кольца и потянул их на себя. Львиные головы могли зарычать и разбудить спящий замок, но они промолчали, стоически выдержав мучения, которые периодически продолжались вот уже не один десяток, а может, и не одну сотню лет. Дверь, открываясь, даже не заскрипела. Смазывать маслом петли, на которых она висела, к счастью, не забывали. Напрасно.
Вот штурмовики открыли дверь. Вот они скрылись в основном строении. «Все. Скоро будет развязка», — подумал Александровский.
Еще на пороге глаза штурмовиков столкнулись со световым барьером, но он был не очень ярким, и поэтому пришлось лишь немного прищуриться, чтобы защитить глаза от рези, а уже через несколько секунд они привыкли к изменившейся обстановке.
Свет лился с потолка. Логичнее было бы предположить, что его источник должен находиться на стенах. Но канделябров со свечами здесь не оказалось. Они были слишком ненадежные, восприимчивые к любым, даже не очень сильным порывам ветра, который мог ворваться в открытую дверь и загасить маленькие кисточки огоньков, танцующих на вершинах свечей, по бокам которых пульсирующими, похожими на узловатые вены струйками стекал расплавленный воск.
В потолок было вмонтировано несколько розеток с лампочками. То ли их никто долго не протирал и они запылились, то ли у генератора, дававшего им энергию, не хватало мощности, но свет был настолько тусклым, что у него хватало сил отнять у темноты только потолок, а возле пола было темно, словно его чем-то затопило. По потолку тянулись электропровода. Почему-то техники, устанавливающие здесь освещение, поленились выдолбить в потолке канавки.
Вдоль стен должны были стоять рыцарские доспехи, а за их спинами знамена, прошедшие через множество битв. Но ничего здесь не было. Только камень, слегка прикрытый начинавшей уже отслаиваться и осыпаться штукатуркой.
На пороге Рогоколь нос к носу столкнулся с двумя немцами. Те коротали здесь ночь. На одном была каска — но не глубокая и удобная, которую можно надвинуть на голову почти до плеч. Эта каска была небольшой, похожей на котелок, увенчанный пикельхельмом. Немцы и не подозревали, что носят измененный на свой лад пруссаками славянский средневековый шлем. Прототип нашли нескольков десяткой лет назад, и когда Николай Первый показал его прусскому императору, тому шлем так понравился, что он приказал сделать похожими на него каски у солдат и офицеров своей армии. Судя по погонам и нашивкам на шинелях, в зале находились офицеры, а их реакция на появление штурмовика показала — это были опытные бойцы, которые придерживались принципа: вначале стреляй, а после уже разбирайся.
Человеческий глаз едва успевал следить за движениями Рогоколя, а чтобы рассмотреть их подробнее, нужна была кинопленка, которую потом следовало просматривать, по крайней мере, с замедленной вдвое или втрое скоростью. Кадр за кадром. У штурмовика не осталось времени замахиваться, закидывать руку с ножом за плечо, а уже потом кидать его. Он бросил нож с уровня пояса, послав его в полет движением, похожим на то, которое делает теннисист, отбивая ракеткой мяч, направленный в корпус. Вот только рукоятку он отпустил. При этом нож не вертелся, а летел прямо, как стрела, разрезая лезвием воздух, и с чавканьем вошел в грудь немца. Удар был настолько сильным, что того отбросило назад. Он врезался в стену. Руки выпустили ружье, которое гулко ударилось об пол, а эхо от этого удара еще долго бродило по коридорам замка. Будто заблудилось и теперь звало на помощь. Оно успокоилось где-то вдалеке.
Рогоколь бросился на пол, перебрасывая пистолет из левой руки в правую. Он умел падать. Когда-то его учили этому. Чтобы не ушибиться, деревянный пол спортивного зала Московского университета устилали матами, набитыми конским волосом. Это происходило поздней осенью, зимой и в начале весны. Когда же футбольное поле в Сокольниках подсыхало, они выходили на улицу. Его команда «Унион» считалось одной из самых сильных в столице, а потом он получил сильную травму в игре с басками и не сумел восстановиться к началу Олимпийских игр. По крайней мере тренер сборной сказал ему, что именно из-за этого он не взял его в Стокгольм. Сергей часами отбивал мячи, стоя в воротах, обливался поўтом, получал ссадины и синяки, а потом, когда сил уже не оставалось даже на то, чтобы встать с земли, а тем более их не было на то, чтобы добраться до раздевалки, он несколько минут, закрыв глаза, лежал, восстанавливая дыхание и успокаивая рвущееся из груди сердце. Но он знал, что чувствует себя превосходно. Вместе с тем он понимал, что два вратаря, отправившихся в Стокгольм, подготовились лучше его. Тренер просто не хотел его обижать. Но они пропустили 12 мячей в игре со злейшим врагом — англичанами. Рогоколь надеялся поехать на следующую Олимпиаду. Непременно за золотом. Но даже если бы они не получили никаких медалей, доказав лишь, что русские отныне не мальчики для битья, а серьезный противник, тогда он тоже остался бы удовлетворен поездкой, а теперь… теперь-то он точно не сможет больше играть.
Оказавшись на полу, он стал кувыркаться, чтобы второй немец не сумел в него попасть. Он не хотел стрелять, все еще надеясь сохранить тишину. Рогоколь успел увидеть красивую мозаику на полу. Он мог разглядеть ее, когда глаза оказывались совсем близко от пола, но это продолжалось меньше мига — фрагментарно пол, стены, потолок, вновь стены и потом все опять повторялось в этой же последовательности, и лишь немца он постоянно держал в поле зрения.
Следом за Рогоколем в залу ввалился Колбасьев. Немец уже успел сдернуть с плеча автомат и теперь пытался передернуть затвор. Но это ему никак не удавалось. Он нервничал. Колбасьев всадил немцу стрелу в горло. Кровь забила, как вода из поврежденного пожарного шланга, толчками, окрашивая в красное стены и пол. Немец стал поворачиваться вокруг своей оси, одновременно складываясь в суставах. Его пальцы, обхватившие рукоять автомата, конвульсивно сжимались, а указательный соскользнул на курок и нажал его. Длинная тугая очередь, которая высосала все пули из ручки автомата, прочертила полосу по полу и стенам. Пули дробили камень, рикошетировали, но глаза у немца уже закатились, он ничего не видел, а когда автомат наконец-то затих, немец был давно мертв.
Теперь бессмысленно сохранять тишину. Из-за этого штурмовики стали чувствовать себя гораздо спокойнее.
— Миклашевский, отвечаешь за казарму. Колбасьев, Вейц! Остаетесь здесь прикрывать нам тыл. Рингартен и Азаров — наверх. Остальные за мной в подвал, — бросил Мазуров.
Он почему-то знал, что именно в подвале они найдут то, что искали. Штурмовики давно уже перевели затворы автоматов в боевое положение и теперь готовились встретить противника таким плотным огнем, что, оказавшись в нем, выжить не смог бы никто.
Колбасьев забросил арбалет за спину, залег на пороге, спрятавшись за стену, и выставил вперед автомат, наблюдая за двором. Тот пока пустовал.
Вейц присел на корточки, прислонившись спиной к стене и опустив руки с автоматом на колени. Он изредка поглядывал на Колбасьева, но главным образом следил за тем, чтобы к ним никто не мог подобраться из самого здания, и полагал, что прежде чем увидит немцев, узнает об их приближении задолго — по дыханию или по шороху ботинок о камень пола.
Ударная сила отряда уменьшалась. Это немного беспокоило Мазурова, но если сейчас завяжется бой, то по количеству огневых точек немцы подумают, что в замок ворвался большой отряд. Не дай бог, начнут сдаваться. Мазуров отгонял от себя эту мысль. Он не знал, что ему делать с пленными. «Илья Муромец» не сможет взять всех их на борт, а вызывать специально для пленных еще один аэроплан глупо и смешно. Но, в самом деле, не расстреливать же их. С другой стороны, если оставить в живых, то они расскажут о том, что произошло в замке. Это наведет на определенные мысли немецкую разведку и контрразведку.
Рингартен и Азаров взбирались по каменной спиральной лестнице на второй этаж. Темнота бесшумно поглотила их, как будто они переместились в другой мир. Лестница поднималась по часовой стрелке — это давало заметное преимущество защитникам во время рукопашной схватки. Штурмовики прижались спинами к стене и шли приставными шагами.
Разбуженный муравейник наконец зашевелился. Вначале ухнуло несколько гранат, затем подал голос автомат на башне, к нему вскоре присоединился еще один у ворот, а следом к разговору присоединились автоматы Колбасьева и Миклашевского, но к этому времени они все вместе едва могли перекричать голоса пистолетов, винтовок и автоматов немцев.
— Началось!
Стены содрогались от глухих ударов, раздававшихся во дворе. Просачиваясь сквозь толстые стены, звук взрывов становился чуть слышным. Они были похожи на отдаленные громовые раскаты, и если бы после каждого взрыва со стен не осыпалась штукатурка, могло показаться, что гремят они где-то очень-очень далеко. А еще они походили на толчки землетрясения. Пожалуй, это было самым точным определением. Гром в сочетании с землетрясением…
Мазуров подвернул ногу, качнулся вперед, из-за этого пуля досталась не ему. Она ударилась в стену. Расплющилась. Он услышал, как она жужжала во время полета, чуть позже до него донесся хлопок выстрела. Каменная крошка, мельчайшая, как пыль, попала в глаза Краубе. Она была едкой и походила на песок, который в бурю носит по пустыне ветер. Краубе заморгал. Сквозь слезы он пытался увидеть стрелявшего или хотя бы определить, где тот находится. Вторая пуля укусила его в правое плечо, но она лишь порвала одежду, рассекла кожу и немного задела мышцы, так что на нее не стоило обращать внимания, если бы не третья пуля, ударившая штурмовика в грудь. У него перехватило дыхание. Кровь забила горло, как пробкой. Воздух уже не мог пробиться в легкие. Краубе стал задыхаться. Он выпустил автомат и схватился не за грудь, по которой текла кровь, а за горло. На губах тоже выступила кровь. Сознание угасало. Последнее, что он понял, — в него стреляли трое немцев. Он упал глухо, лицом вниз. Голова его билась о ступеньки, когда он сползал по лестнице.
Сводчатый потолок подвала плавно стекал на четыре колонны, напоминавшие соединившиеся сталактиты и сталагмиты. В центре подвала они образовывали квадрат со сторонами около десяти метров. Еще восемь колонн наполовину выступали из стен. Подвал был заставлен какими-то приборами. Они казались хрупкими. Вдоль стен стояли огромные стеклянные чаны. Высотой чуть более двух метров, диаметром около метра. В подвал их набилось два десятка — по десять с каждой стороны. Они походили на бочки, в которых храниться вино, но наполняла их мутная серовато-желтая жидкость, напоминавшая протухшие яйца.
Днища чанов утопали в квадратных основаниях, сделанных из какого-то мягкого, похожего на резину материала. С боков их поддерживали металлические штыри, прикрепленные к кольцам, которые опоясывали корпуса. От чанов разбегалась сеть разнообразных трубок. Они опутывали комнату будто паутиной. Большинство из них составляло потолок арки, высотой немного превышающей рост человека. Они добирались до центра комнаты. Здесь на полу на каменных основаниях располагались насосы. Они окружали большой деревянный стол, уставленный колбами, ретортами, спиртовками, спиралями, перегонными кубами, подставками, пробирками с какими-то растворами. Создавалось впечатление, что в этом зале нашел пристанище средневековый алхимик. Видимо, ему удалось приготовить лекарство, которое может бороться со временем.
По трубкам пульсировала жидкость, как кровь по прозрачным венам. Насосы урчали, наполняя комнату однообразным гудением. От таких звуков тянет в сон.
Но все это Мазуров рассмотрел позже, когда у него появилось на это время и исчезла опасность. Услышав первый выстрел, он упал, но так неудачно, что ударился подбородком о камень, прикусил язык и отколол кусочек зуба. Рот стал наполняться кровью. Ее солоноватый вкус истреблял сладковатый привкус, оставшийся после шоколада. Увидев спрятавшихся за насосами немцев, он стал стрелять, пытаясь при этом не повредить приборы и трубки. Пули отскакивали от железных кожухов, визжали, разлетались в разные стороны. Одна из них ушла вверх и перерезала несколько трубок. Из них, как из пораненных щупалец, закапала жидкость.
Первого немца Мазуров ранил сразу же. Расстояние было небольшим. Он сумел задеть лишь голову немца, хотя метился в лоб. Получалось, что вместо десятки он выбил только двойку, да и то потратил на это пули три или четыре. У немца оторвало кусок уха. Мазуров скорее увидел, что немец вскрикнул, прочитав это по его губам — вскрик растворился в шуме насосов, продолжающих перекачивать жидкость. Немец из-за резкой внезапной боли потерял контроль и вместо того, чтобы нырнуть вниз, дернул головой вверх, показавшись над насосом почти по пояс. Прежде чем он успел спрятаться, автоматная очередь прочертила у него на груди полосу, разорвав гимнастерку в клочья.
Тем временем Рогоколь не давал немцам высунуться из укрытий. Русским спрятаться было негде, пришлось компенсировать это плотным огнем. Немцы все же огрызались. Штурмовики могли бы закидать их гранатами, но в этом случае большинство, если не все приборы, будут разбиты.
Пули разбили угол стола в щепки. Жидкость из поврежденных трубок наполнила комнату вонью, но это был запах не протухших яиц, а скорее начинающего подгнивать мяса.
Один из чанов лопнул. Часть его содержимого быстро испарилась, отчего воздух сделался густым и плотным, другая затопила пол. Огромная лужа стала подбираться к штурмовикам. Из чана что-то выпало, но это произошло так быстро, что никто из штурмовиков не успел рассмотреть, что же это было. Зато хорошо разглядел немец, укрывавшийся за чаном, и нервы у него не выдержали. Ему бы прятаться в укрытии и ждать, когда его выручат товарищи, а он высунулся из-за стола и замешкался, не зная, что делать дальше. Наконец немец стал вскидывать автомат, наивно полагая, что ему дадут время прицелиться и выстрелить. Его голова треснула, раскололась на куски, как спелый арбуз, упавший на пол, брызнули ошметки мозга, кусочки раздробленных костей и кровь. Когда он упал, пули еще миг выбивали дробь в стене позади него.
К этому времени Рогоколь подобрался к третьему немцу. Они столкнулись грудь в грудь. У немца был автомат, уже бесполезный на таком близком расстоянии, у Рогоколя — тоже, но еще и нож. Он прочитал в глазах немца удивление, а когда они застыли, в них так и не появилась боль. Немец повис на ноже. Рука Рогоколя задрожала от напряжения. Он опустил нож лезвием вниз. Немец соскользнул на пол.
Убитые никак не походили на алхимиков, которые могли увидеть какой-то смысл в хитросплетении приборов, находящихся в этой комнате. Это были не хозяева, а слуги.
Мазуров быстро осмотрелся. Он неожиданно понял, что нечто подобное уже видел накануне войны в «Гомункулусе». Фильм был таким длинным, что Мазуров с трудом заставил себя досмотреть его до конца. Он его не понял. Но поговаривали, что как только «Гомункулус» появился в кинотеатрах, германская служба безопасности вызвала на допрос Отто Рипперта — режиссера и сценариста этой картины и чуть не посадила его в тюрьму за якобы разглашение государственных секретов. Рипперту как-то удалось избежать наказания. Но это только слухи, тщательно воспроизведенные в документах, которые подготовила служба разведки для этой операции.
— Мы здесь сильно напачкали, — наконец сказал Мазуров.
Находиться в комнате было неприятно, но вовсе не из-за того, что ее забрызгали кровью, а среди вони проступал пороховой дым. Просто ее атмосфера давила, будто здесь много лет назад находилась комната пыток и боль, которую испытывали узники, навсегда осталась, пропитав воздух страхом, и его не смогли выветрить прошедшие годы.
Взрывы и выстрелы во дворе утихли — это свидетельствовало о том, что гарнизон замка перебит или захвачен в плен, а может быть, и то, что немцам удалось уничтожить всех штурмовиков. Мазуров надеялся, что верным окажется первое предположение.
Ему хотелось остаться в этой комнате, чтобы получше ее рассмотреть. Не оставалось никаких сомнений, что они нашли лабораторию, где немцы готовили тайное оружие. Вероятно, где-то здесь находилось и техническое описание. Нужно только повнимательнее его поискать. То, что он по-прежнему не знал, где Тич, начинало беспокоить капитана. В разведке не могли ошибиться, но в замке мог оказаться подземный ход, даже если его и не предусмотрели в первоначальном проекте. Замок построили так давно, что времени пробить скальное основание, даже если пользоваться при этом только металлическим обломком ложки или вилки, который обычно имелся у узников, вполне хватило бы.
Штурмовики достаточно нашумели, чтобы теперь можно было изъясняться не только знаками, но и словами. Однако Мазуров не стал этого делать. Не оставалось никаких сомнений, что Краубе мертв. Мазуров махнул в сторону лестницы. И в этот момент в стене открылся проход. Такого они не ожидали. На пороге возникла человеческая фигура. Значит, в подвал вела еще одна лестница, а они ее не заметили.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Профессор Вольфрам Тич заранее знал, что не сумеет заснуть. Даже если он заберется в кровать, закроет глаза и начнет считать, сон все равно не придет к нему. В небольшое окно, за которым едва различались очертания внешней стены замка, заглядывала луна. Профессор не любил зажигать по ночам электрический свет, но не из-за того, что это могло привлечь насекомых. От них защищали противомоскитные сетки. Он любил ночь, потому что в это время суток работал наиболее продуктивно, но вместе с тем он начинал бояться темноты. Она служила границей, разделявшей дни, а профессор опасался переступить через нее, стараясь как можно дольше оставаться в прошлом. Дни стали просачиваться слишком незаметно, слишком быстро. Он никак не мог замедлить их бег. Когда-то он не обращал на это внимания, думая, что впереди у него так много времени, что он успеет выполнить если уж не все свои замыслы, то хотя бы основные из них.
То была счастливая пора учебы в Ганноверском университете, когда он мог позволить себе роскошь транжирить время по пивным и борделям. Тогда он существовал одновременно как бы в двух ипостасях. В одной — развлекался, а в другой — анализировал итоги проведенных ранее экспериментов и размышлял о новых. С годами мозг становился все более апатичным, медлительным, как постепенно ржавеющий механизм, а его сочленения и шарниры, сколько их не поливай маслом, работали все хуже.
Комната была небольшой — около сорока квадратных метров. Ее стены занавешивали толстые ворсистые ковры, как будто профессор хотел утеплить комнату, опасаясь, что зимой здесь может сделаться слишком холодно и ему придется кутаться в теплый шарф, надеть на ладони перчатки. Иней покроет стекла окон, или, не дай бог, они и вовсе треснут от мороза.
Профессор сидел в удобном кожаном кресле, но в полумгле казалось, что оно сделано из глыбы графита, которую обточили или оплавили. Возле кресла стоял массивный деревянный стол. Его поверхность была обита зеленым, как на бильярдных столах, сукном, на котором в некоторых местах виднелись обожженные дырки и черные кляксы. В темноте невозможно было разобрать появились они здесь из-за пролитых чернил или по какой-то другой причине. По правую руку от профессора в сукне была глубокая вмятина, похожая на след подковы, втоптавшей зеленые ворсинки в дерево. Когда-то здесь располагался цейссовский микроскоп. С его помощью профессор сделал несколько открытий, но теперь он обладал более совершенной увеличительной аппаратурой. Этот стол он купил почти двадцать лет назад. Он не хотел расставаться с ним, поскольку стол был тем немногим, что связывало его с прошлым, которое он все еще старался удержать в памяти. Но оно ускользало от него.
Сейчас на столе возвышался только серебряный подсвечник с наполовину оплавленной свечой. Профессор знал, что ее хватит до утра, а по тому, сколько еще осталось на ней воска, он мог судить об оставшемся до рассвета времени. У него хранился целый набор свечей разного размера.
Взгляд профессора был устремлен в противоположную стену, где в камине превращались в пепел дрова. Он смотрел на огонь как загипнотизированный, а чтобы лучше его видеть, даже отодвинул свечу на край стола.
Кресло было на колесиках, поэтому иногда профессор выкатывал его из-за стола, ставил напротив окна и смотрел на звезды до тех пор, пока их не начинал стирать с небес рассвет. Его зрение еще сохраняло былую остроту, поэтому Тичу казалось, что он видит звезды даже через серую пелену, затягивающую небеса, когда восходящее солнце уже поджигало верхушки деревьев на опушке леса.
Со стороны могло показаться, что профессор умер, по крайней мере в течение последнего часа он не сделал ни одного движения. Он как будто застыл, слился с креслом, откинувшись назад и чуть сместившись к правому краю. Его пальцы подпирали подбородок. Этим он не давал голове склониться на грудь и захлебнуться в снах, поверхность которых находилась где-то в районе шеи.
Огонь в камине, огонь на кончике свечи и лунный свет, смешиваясь в коктейль, успокаивали его куда как лучше, чем наркотики, которые ему доставляли из Циндао. Он прибегал к их помощи очень редко, лишь в тех случаях, когда не мог другими средствами успокоить боль в желудке и суставах.
Одна из стен была полностью заставлена книгами. Некоторые из них он не открывал уже несколько лет и знал, что никогда не будет перечитывать их, но, скользя взглядом по кожаным и картонным корешкам, читая ту или иную надпись на них, он не давал угаснуть воспоминаниям.
На каминной полке располагалась коллекция безделушек, вывезенных из Азии. Он никогда не посещал те страны, где их сделали, но все еще верил, что когда-нибудь побывает в них. Неподалеку на тумбочке стоял патефон, под ним лежала стопка пластинок: немецких, русских, французских, итальянских, английских, американских. Ему не только прощали, что он слушает музыку стран Антанты, но напротив, выполняли любой его каприз. Любую новую пластинку, какую он ни попросил бы, доставляли очень быстро, можно сказать — немедленно, через нейтральную Швейцарию. Он заводил патефон по ночам, но звуки музыки редко вырывались из его комнаты. Стены глушили ее, впитывали, затягивали, как океанская бездна или как зыбучие пески.
Семь лет назад он продал душу дьяволу, связавшись с военным министерством, и хотя контракт между ними был подписан не кровью, а обыкновенными чернилами, результат оказался таким же. Тогда условия казались ему очень заманчивыми. В его распоряжение предоставлялся замок, в котором он мог создать исследовательскую лабораторию, неограниченные финансовые и материальные возможности — все расходы за счет военного министерства. После войны он претендовал на процент прибылей, которые будут давать колонии в Индокитае. Но эти колонии еще нужно отобрать у Франции.
Сроки в контракте не оговаривались, но военные естественно, хотели, чтобы он получил положительные результаты исследований как можно быстрее. Конечно, он мог смириться с тем, что эти результаты никогда не будут опубликованы. Их приравняют к секретам государственного масштаба, а это значит, что он не сможет претендовать на признание коллегами его заслуг. Быть может, многом позже, когда все открытое им уже устареет, когда до этого же додумаются другие, но… Возможно, это произойдет только после его смерти.
В Военном министерстве рассчитывали, что война будет молниеносной.
Тич считал, что германские дипломаты совершили грубейшую ошибку, не добившись выхода России из Антанты. Эта страна — кость, которой Германия обязательно подавится, если попробует проглотить. Сколько ни бросай солдат на Восточный фронт, русские с их неисчислимыми людскими ресурсами выставят в несколько раз больше. Это все равно, что кидать горсти песка в бурный поток, пытаясь построить платину. Казалось бы, многовековой опыт уже давно должен был убедить всех, что Россия — это медведь, дремлющий в огромной берлоге. Пусть она решает свои азиатские и дальневосточные проблемы, которых ей хватит на много лет. Так она быстрее вновь рассорится с Англией. Но если этого медведя разбудить, то от его рыка Европа содрогнется и затрещит по швам. Нужно пойти на любые, даже самые фантастические и безумные требования русских, переступить для блага нации через свой несговорчивый прусский характер и как можно быстрее уладить все разногласия с Россией дипломатическим путем. С каждым днем шансов на это становилось все меньше и меньше, а выгоду от затяжной войны извлечет только Англия она отсидится на острове, да еще и Североамериканские Соединенные Штаты, которые смогут прилично заработать на поставках оружия всем воюющим сторонам.
Вести войну на два фронта глупо. Британская империя — вот главный враг, на котором Германии нужно было сосредоточить свои усилия. На французов можно было не обращать особого внимания. Наполеон, щедро полив европейские поля кровью храбрых французских солдат, растратил всю доблесть, которая приходилась на эту страну и теперь ее солдаты могли только пить вино и ухлестывать за девушками. Только итальянцы могли с ними сравниться и в том, и в другом, а вот на полях сражений французы оказались в более скверной ситуации, чем их деды, которые позволили пруссакам дойти до Парижа. Удары крупнокалиберных гаубиц вносили хаос в ряды французской армии, а затем деморализованных солдат уничтожали пехота и кавалерия. Игра шла по слишком простым правилам, пока в нее не ввязалась Россия.
Нет, прежде чем затевать кампанию, необходимо было создать флот, который мог бросить вызов британскому. Германия перемолола бы любое количество посланников Туманного Альбиона, ступи они на континент, но узкий пролив, который аэропланы и дирижабли могли преодолеть менее чем за час, для немецких сухопутных частей был так же непреодолим, как безвоздушное пространство, отделявшее Землю от Луны.
Те, кого британцы спешно отправляли на континент, чтобы залатать множество дыр, проделанных в обороне союзников тяжелой германской артиллерией, очевидно, были первоклассными рабочими, которые могли сделать превосходные ружья или орудия, но назвать их солдатами было бы большим преувеличением. Как у французов, так и у британцев армии напоминали теперь огромный шар. На первый взгляд, вроде и большой, но под оболочкой, которую составляли кадровые военные, согнанные из колоний, была пустота. У русских шар наполнялся чем-то средним между жидкостью и газом.
Британский лев может сколько ему угодно бряцать оружием, но если держать его на приличном расстоянии, то это оружие окажется не опаснее детских хлопушек. Пусть сидит у себя на островах и не помышляет о том, чтобы пустить в дело когти, помня, что их ему могут сломать.
Господство на море достигнуто не было. В результате германские колонии, которые впоследствии могли приносить хорошую прибыль, бросили на произвол судьбы. Оставленные там войска чувствовали себя как на затерянном в океане острове, а корабль, который покажется на горизонте, обязательно окажется неприятельским. Бог с ними. Колонии были той картой, которую противник мог легко побить. Впоследствии был шанс отыграться, но Генштаб это сборище недальновидных людей, и что теперь толку в том, что германские ученые разработали искусственный каучук, а он — Тич — создал искусственного человека? Морская блокада с лихвой компенсировала все эти успехи.
Профессор приблизился к осуществлению своей идеи еще в десятом году, но на ее доработку ушло пять лет, да и сейчас искусственный человек был далек от совершенства, хотя экспериментальная партия, как отзывались о ней военные, проявила себя неплохо.
Война — это не самое лучшее применение его изобретения. Он мог бы стать богом, выращивая органы для пересадки. Нобелевская премия — это самое малое, что может положить к его ногам человечество. Надо только как-то избавиться от опеки Военного министерства.
Пока ему хватало материалов, но как только дело дойдет до промышленного производства, сырья может не хватить, если… Как это ни отвратительно звучит, но самым лучшим и самым дешевым сырьем для производства искусственных людей были трупы. Судя по тому, как идет война, недостатка в трупах еще долго не будет. Профессор старался не думать о нравственной стороне этого вопроса. Напротив, если мертвые могут принести пользу, что же здесь плохого? К тому же массовые захоронения могут стать источником инфекционных заболеваний… Еще неплохой материал — пленные из лагерей. Зачем кормить столько дармоедов, когда в условиях морской блокады у Германии не хватает продуктов даже для собственного населения?
Его прежние исследования в области органической химии успели создать ему авторитет. На международных симпозиумах к его мнению прислушивались, поэтому, когда он исчез, а затем в газетах появилось сообщение о том, что он погиб из-за несчастного случая, реакция научного мира была однозначной: «Жаль. Мы рассчитывали на него. Он был гениален». У профессора хранилась подборка европейских и американских газет с некрологами и статьями о нем. Тич улыбался, иногда перечитывая их, впрочем, за прошедшие с той поры годы он успел выучить почти все наизусть. Но высокопарные слова тоже мало что значат. В большинстве они оказываются либо лестью, либо ложью.
Ему привозили свежие научные журналы со всего мира. Он с завистью следил за успехами своих коллег, многих из которых знал лично. Большинство из них занялись теперь разработкой отравляющих газов, средств защиты от них, созданием обезболивающих препаратов или более мощных, чем порох и тринитротолуол, взрывчатых веществ. Но эта информация тоже была закрыта.
Одной из причин, почему Тич занялся фундаментальными исследованиями, стало обыкновенное тщеславие. Он хотел славы, мечтал, чтобы его фотографии появлялись в газетах и журналах. Вначале слишком много времени, которое он мог бы уделить для опытов, уходило на поиски средств, на уговоры фабрикантов. Меценаты неохотно расставались с деньгами. Это походило на подачки, главной целью которых было объяснить просителю, чтобы впредь с подобными просьбами он больше не приходил. Но все это уже в прошлом.
Профессор все еще сохранял прежнюю бодрость, но годы, проведенные за письменным столом, давали о себе знать. Он сутулился, уже не замечая этого, и казался теперь сантиметра на три ниже, чем был на самом деле. Его лицо избороздили морщины, с которыми он раньше боролся при помощи всевозможных мазей и кремов, стараясь сохранить кожу свежей, но теперь он даже брился не чаще чем раз в три-четыре дня, а умывался только для того, чтобы взбодриться и прогнать сон. Его некогда ухоженные волосы теперь с трудом поддавались расчесыванию, и обычно на голове у него был беспорядок. Но это — внешние изменения. При желании для того, чтобы вернуться к прежнему облику, хватило бы нескольких часов. Страшнее то, что в его глазах стало разгораться безумие. Он замечал это, но из-за того, что смотрелся теперь в зеркало все реже и реже, успевал об этом забыть. Когда-то в его глазах была надежда. Огонь, питавший его душу, выплескивался наружу, поджигая окружающих, а теперь остались только разочарование и усталость, как будто все уже прогорело в нем, а под оболочкой были лишь пепел и труха. Он смертельно устал.
Вначале ему очень нравился Мариенштад и нисколько не мешало, что по условиям контракта он не мог выйти за его пределы, а замок постоянно охраняли солдаты. Он старался не замечать их. Это ему удавалось. Солдаты никогда не мешали ему и не старались узнать что-либо о его опытах. Наверное, они относились к нему с суеверным трепетом, как к колдуну, от которого лучше держаться подальше и не гневить его, иначе он может разозлиться и превратить тебя в лягушку, змею или в какую-нибудь еще более омерзительную тварь. Профессор улыбнулся. В этом, отгороженном от окружающей вселенной маленьком мире он походил на бога, которому подвластны все природные силы за исключением времени.
Потом появилось безразличие. По мере того как он стал понимать, что подобрался к порогу, за которым лежит открытие, способное поставить его в один ряд с самими великими учеными всех времен, безразличие превратилось в ненависть. Когда замок посетил канцлер Бетман-Гольвег в окружении генералов Генштаба, профессор с трудом сдерживал свое раздражение. Канцлер вручил ему орден — красивую побрякушку, которую он никогда не будет носить, а в ответ на это профессор процедил сквозь плотно сомкнутые зубы какие-то слова благодарности. Но если бы накануне он не принял успокоительное, канцлер услышал бы от него совсем другое… Что этот орден по сравнению с Нобелевской премией и мировой известностью? Пыль.
С годами его тело оплывало, как свеча, одновременно оно разбухало, будто внутри него скапливались газы, которые никак не могли выбраться наружу. От бессонницы его глаза были постоянно красными, и под ними набухли дряблые синеватые мешки. Несмотря на то, что профессор каждый день какое-то время проводил на улице, его кожа приобрела бледно-сероватый оттенок, и если бы у него отросли еще клыки, то он почти ничем не отличался бы от стокеровского вампира.
Сейчас он будто находился вне времени и вне пространства. Такое ощущение можно получить, плавая в воде, температура которой равна температуре тела и, закрыв глаза, слушать, как кровь стучит в ушах…
Неожиданно профессор вздрогнул. По его телу прошла судорога, как будто впитавшиеся в него видения теперь испарялись, заставляя тело дрожать. Он понял, что к потрескиванию дров в камине и вою ветра за окном прибавились другие звуки, но он упустил тот момент, когда они появились. Так же внезапно странные звуки затихли, поэтому их можно было принять за громовые раскаты, причем профессору показалось, что за несколько мгновений до этого он краем сознания, которое продолжало наблюдать за действительностью, видел вспышки молний за окном. Свет луны они не затмевали, но были достаточно яркими. Отчего-то не шел дождь, но возможно, он миновал замок стороной, а тучи обрушили свой груз на окружавший его лес.
У него слипались глаза. Сон всегда приходил не вовремя. Еще с минуту Тич размышлял о чем-то, сидя в кресле, а потом приподнялся и с трудом, шаркая ногами, побрел к лестнице, ведущей вниз — на второй этаж, где располагалась его лаборатория.
Сознание профессора как бы записало все происходящее и когда он прокрутил эту запись назад, а затем воспроизвел ее, ему показалось, что звуки, похожие на громовые раскаты, раздавались с нижнего этажа. Что бы это ни было, но уж точно не гроза. Не шаровая молния, заблудившаяся в лаборатории.
Иногда в страшных снах профессору виделось, как солдаты, обезумев от страха, разрушают его лабораторию, расстреливая колбы с питательным раствором длинными очередями — пока хватает патронов в магазине. Потом, когда автоматы умолкали, они перезаряжали их и открывали огонь вновь. Колбы взрывались, словно их начинили порохом, разбрызгивая вокруг осколки стекла. Страшный сон. Лаборатория — это все, что у него было. Профессор знал, что солдаты боялись его не меньше, чем простые жители Средневековья колдуна, думая, видимо, что он общается с потусторонними силами, которые из-за него могут вырваться на свободу, а чтобы этого не произошло, его надо убить. Но подобные сны являлись ему очень редко, не чаще чем один-два раза в месяц. Он просыпался после них в холодном поту и потом долго боялся вновь лечь в кровать, опасаясь, что эти ужасы приснятся снова. Но он умел обрывать плохие сны в нужном месте.
Свечу Тич не взял. Она могла погаснуть и только бы мешала. Он спускался медленно, считая ступеньки и нашептывая что-то, что со стороны походило и на заклинание, и на безобидное ворчание старика. Прежде чем сделать шаг, профессор ощупывал ступеньку ногой и лишь убедившись, что она отыскала надежную опору, переносил на нее основную тяжесть тела, а затем подтягивал вторую ногу.
Его глаза еще не адаптировались в темноте, когда он наконец-то добрался до лаборатории и застыл на ее пороге…
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Света было мало, поэтому угадывался только силуэт, будто человек был плоским. Он кутался в домашний халат. Казалось, что он только что встал с постели и еще не может окончательно проснуться, но голос его был необычайно тверд, хотя в нем и проступали почти не скрываемые капризные визгливые нотки.
— Что здесь происходит?
Еще до того, как он успел это сказать, возле него оказался Рогоколь. Он двигался как тень, бесшумно танцуя. Мазуров подумал, что ему в сопровождение подошла бы музыка Вагнера. Он испугался и, чтобы остановить Рогоколя, крикнул:
— Это Тич! — он произнес это по-русски.
Рогоколь уже успел понять, кто стоит перед ним. Он хорошо рассмотрел лицо незнакомца. Он даже успел обратить внимание на шелковый китайский халат с драконами, наброшенный на плечи поверх белой пижамы, и на тапочки.
Профессор вздрогнул, услышав русскую речь, попятился, попытался повернуться, чтобы броситься обратно на третий этаж, но полы халата мешали ему, а тапочки сидели на ногах неплотно, и даже если бы Тич был лет на тридцать моложе, все равно его походка была бы старчески немощной. Рогоколь остановил его. Внезапно профессор выбросил вперед правую руку с растопыренными пальцами, метясь штурмовику в глаза. В руке у него ничего не было, но из-за резкости удар мог стать довольно неприятным. Рогоколь успел увернуться, немного отклонившись назад. Профессор промахнулся, теряя опору, и если бы штурмовик не поддержал его, то Тич растянулся бы на полу.
— Осторожнее, — сказал Рогоколь, — вы можете разбиться.
Тич внезапно стал походить на воздушный шар, из которого выпустили треть воздуха. Он съежился, поник. Кожу избороздили новые морщины, словно он за мгновение постарел на несколько лет. Такое бывает с мумиями, которые, пролежав несколько тысячелетий в закрытых саркофагах, почти не изменяются, но стоит свежему воздуху прикоснуться к ним, как они буквально на глазах рассыпаются в прах. Перемена, произошедшая с Тичем, была не столь значительна, но, несмотря на полумглу, так заметна, что Рогоколь отшатнулся от него, как от прокаженного. Но штурмовик быстро овладел своими чувствами и вновь подхватил профессора под мышки. Он держал в руках тряпичную куклу.
— Что с ним? — спросил Мазуров.
— Не знаю, — ответил Рогоколь, испугавшись, что Тич незаметно проглотил яд. Но он внимательно следил за ним и не дал бы этого сделать. После секундного замешательства штурмовик уже мог с уверенностью сказать, что профессор ничего принять не успел. — Боюсь, что теперь от него мало толку, — добавил он.
— Ты можешь привести его в чувство?
— Постараюсь.
Тич был легким. Мешок с костями. Держать его на руках было совсем не трудно, но Рогоколь усадил его на пол возле стены. Профессор не двигался, глаза его бессмысленно закатились.
Лужа на полу начала подсыхать. Ее края, как рама картину, обрамляла маслянистая липкая пленка. Мазуров встал возле нее, почти касаясь носками башмаков. Брезгливо морщась, он все никак не мог решиться сделать первый шаг, хотя прекрасно понимал, что для того, чтобы добраться до разбитой колбы, ему предстоит сделать это. Оттягивая время, он ничего не выигрывал, но справиться с собой не мог. Эта лужа была гораздо более отвратительна, чем, к примеру, болотная жижа или дно пересыхающей грязной речки, превратившееся в чавкающую топь. К счастью, пол был ровным, без вмятин и рытвин, поэтому лужа растеклась по полу равномерно. Она была неглубокой. Жижа едва покрывала подметки ботинок. Мазуров был уверен за качество своей обуви и знал, что жижа не протечет внутрь ботинка, если, конечно, в ней не содержатся кислоты. От неожиданной мысли Мазурова прошиб пот. Впору было возвращаться назад. Но даже если бы капитан стал сейчас осматривать свои ботинки, стараясь понять, начала их разъедать жижа или нет, он все равно ничего не смог бы разглядеть. В этом был свой плюс.
На полу лежал мертвый немец. Его глаза остекленели. Уставившись в потолок, они светились, как фосфорные, а возле…
Желудок Мазурова сжали спазмы. Хорошо еще, что в нем ничего не было, кроме шоколада и остатков кофе, иначе его обязательно вырвало бы.
Человеческий труп был сильно изуродован, как будто его опустили в ванну с серной или соляной кислотой и держали там до тех пор, пока она не растворила кожный покров и часть мышц, обнажив местами кости. Подсыхающая маслянистая пленка обволакивала человеческие останки коконом. Мазуров, превозмогая отвращение, нагнулся, чтобы получше все рассмотреть. Жидкость пахла отвратительно, и у Мазурова перехватило дыхание. Он приложил ладонь к лицу, закрывая нос и рот, пожалев, что не надел противогаз. Беглый осмотр трупа ничего не дал. Капитан терялся в догадках, которые роились в его голове, как пчелы в улье, но ни одной из них он пока не мог отдать предпочтение.
— Что там такое, командир? — спросил Рогоколь.
Тич слабо застонал, пошевелился, сделал попытку приподняться, но сил у него на это не хватило, и он вновь затих.
— Не думаю, что тебе это понравиться, — сказал Мазуров, подходя к ближайшей колбе. — Обезображенный человеческий труп. У меня подозрение, что в этих чанах находятся такие же.
Мурашки пробежали у него по спине, а волосы наэлектризовались и встали дыбом. Он приложил к вискам ладони и уперся ими в стенку колбы. Получился импровизированный перископ. Но сквозь мутную жидкость Мазуров ничего не увидел. Ему показалось на миг, что он стоит перед аквариумом и сейчас, привлеченная движением, из его глубины должна приплыть огромная хищная рыба и сильно стукнуть о стенку хвостом. От такого удара стенка может пойти трещинами, и перед ним возникнет одно из чудищ, обитающих в глубоководных океанских впадинах. Такое, как на гравюрах Гюстава Доре. Мазуров осторожно приставил к стенке фонарик и включил дальний свет. Мутная жидкость оказалась неоднородной, слоистой, с турбулентными завихрениями, цвет у нее был бледно-зеленоватый. Она была такой мутной, что свет проникал в нее не более чем на несколько сантиметров, что же находилось в середине колбы — по-прежнему оставалось загадкой. Колба была сделана из очень толстого стекла, на уровне человеческого роста ее опоясывали четыре резиновых полоски толщиной сантиметров по пять.
Мазуров выключил фонарик, экономя батарейки. Пошлепал к Рогоколю. За последние несколько минут жидкость на полу загустела. Теперь идти по ней было гораздо труднее. Она с неохотой отдавала ботинки, до последнего цепляясь за них. С подошв свисали клейкие лоскутки жижи, которые с чавканьем лопались.
Гомункулус. Как же он раньше об этом не подумал. Разрозненные кусочки мозаики наконец-то сложились в единую картину.
Казалось, что сверху спускался табун лошадей, капитан насторожился. Вскоре в лабораторию вломились Рингартен и Азаров. Они-то двигались тихо, а весь шум создавали их спутники — два испуганных человека в небрежно наброшенных на голое тело халатах, которые постоянно распахивались. Штурмовики подгоняли людей, толкая дулами автоматов в спины. Они порывались поднять дрожащие руки над головой, но сил держать их в таком положении не оставалось, поэтому руки свисали плетями вдоль тела. Иногда они предпринимали героические попытки застегнуть пояса на халатах. Им хотелось выполнить одновременно слишком много дел, поэтому ничего не получалось. От этого смущение и нервозность пленников еще больше возрастали. Их ноги дрожали, будто в течение последнего получаса они занимались тем, что бегали вверх-вниз по ступеням замка. Кожа их блестела от пота.
— Это кто же? — спросил Мазуров.
— На верхнем этаже всего три комнаты. Одна из них — Тича. Она была открыта и пустовала, две другие принадлежали вот этим. — Рингартен с любопытством оглядывавший подвал, замолчал, когда увидев тело Краубе.
— Сергей убит. Продолжай, — сказал Мазуров.
Штурмовик сумел скрыть свои чувства:
— Судя по всему, это помощники профессора. Они заперлись в комнатах и не открывали. Пришлось выбить двери. Кроме них на верхнем этаже никого нет. Сопротивление никто не оказывал. Похоже, от страха.
Мазуров посмотрел на пленников, сощурив глаза. Они были менее интересны, чем Тич. Волосы поседели, глаза потускнели, а лица увяли. На вид им можно было дать лет по пятьдесят, возможно, чуть меньше, но страх делал их старше.
— Придется брать их с собой, — сказал Мазуров. — Свяжи и веди на улицу. Похоже, что там уже все закончилось. Игорь, займись Тичем. И очень тебя прошу, заставь его говорить.
Рингартен присвистнул, увидев Тича. Известие о том, что они взяли профессора, порадовала штурмовика.
— Зовите сюда Вейца и принесите взрывчатку, — сказал Мазуров.
Рингартен не сводил глаз с лица Тича. Профессор должен был испытывать примерно такие же ощущения, как будто ему на кожу, плещут газированную или минеральную воду. Но на этот раз вода смогла просочиться сквозь кожу и покалывание от пузырьков чувствовалось даже под черепной коробкой.
— Где? — наконец спросил Мазуров.
— В кабинете в стене есть сейф. Там хранится часть документов. Но не самая важная. Основная — у него в столе, в выдвижном ящике. Он часто вносит правки в них. Кроме того, он пишет книгу. Мемуарную. Хотя в военном ведомстве строго-настрого запретили ему это делать. Как раз именно эта книга и спрятана в сейфе, — пояснил штурмовик.
— Какой он недисциплинированный, — хмуро улыбнулся Мазуров, — книга нам тоже пригодится.
Замок был взят. Штурмовики уже успели прочесать его. Возможно, в нем были тайники или подземные ходы, которые не так-то легко найти. За это штурмовики ручаться не могли.
— Потери есть? — спросил Мазуров.
— Легко задело Миклашевского и Колбасьева, — сказал Рогоколь.
— А где Вейц? — спросил Мазуров.
— Сейчас придет.
— Поработай здесь. А мы пошли наверх, — сказал Мазуров. — Когда придет Вейц, скажи ему, пусть приступает к работе.
— Будет сделано.
— Сережа, пожалуйста, отведи профессора на чистый воздух. Может, ему там сделается получше.
Рогоколь кивнул.
Азаров притащил кинокамеру и фотоаппарат «Кодак» на раздвижной складывающейся треноге. Хотя аппарат назывался портативным, а по утверждению фирмы-изготовителя был самым маленьким из всех созданных до сей поры человечеством, все равно это было довольно массивное сооружение, размерами лишь немногим уступавшее рации. Объектив торчал из него, как хобот слона. Не хватало только бивней. Аппарат походил на миниатюрную копию марсианских треножников, изображениями которых была щедро снабжена русскоязычная версия романа Уэллса «Война миров». Его корпус, к счастью, был сделан не из металла, а в основном из дерева, покрытого лаком, иначе Азаров вряд ли сумел бы его поднять, а уж тем более дотащить до лаборатории. В двух местах полировка откололась, и еще в одном месте виднелся глубокий порез.
Азаров включил рубильник на стене. Лабораторию залил яркий свет, но его все равно было недостаточно, чтобы сделать качественную фотографию. В лучшем случае удалось бы запечатлеть какие-то тусклые силуэты. Азаров щелкнул языком, прижав его к небу. Он был доволен тем, что прихватил магниевую вспышку. Она напоминала дуршлаг, в котором забыли пробить дырки, словно предприимчивый владелец фабрики по выпуску кухонных принадлежностей сплавлял свою бракованную продукцию производителям фотоаппаратуры.
На какое-то время Азаров замер, как будто был очарован масштабностью открывшейся ему картины. Он даже отошел немного назад, оказавшись почти возле лестницы, чтобы стала видна вся комната. Он медленно обводил ее взглядом, выискивая наиболее выигрышные точки для съемки. Но для того, чтобы хорошо снять эту лабораторию, нужно было потратить не один час. Иначе большинство приборов окажутся потерявшимися в общей массе. Азаров же знал, что успеет сделать не более десятка фотоснимков. Он заранее отдал предпочтение не их количеству, а качеству. Для солидного научно-популярного журнала они вполне сгодились бы.
Азаров передвигался по лаборатории в обнимку с фотоаппаратом и выбирал понравившуюся ему точку, опускал треногу на пол и приступал к съемкам. Во время этих марш-бросков вспышку он держал под мышкой. Она была горячей и обжигала ему бок. Со стороны все его действия выглядели комично.
После застрекотала кинокамера, которой Азаров водил из стороны в сторону, как пожарным шлангом.
Казарма все еще пылала, оставаясь надежным источником света, но огонь постепенно отступал и, насытившись, укладывался спать. В окнах, сумевших сохранить осколки стекол, мелькали отблески пламени, языки которого иногда вырывались наружу, но были слишком слабыми и никого уже не могли достать. Стоял отвратительно приторный запах поджарившегося человеческого мяса, который вызывал у людей приступ рвоты. Он не мог бы понравиться даже каннибалам, поскольку они в очередной раз убедились бы, насколько расточительными могут быть белые люди. Ведь мясо обуглилось и пропало впустую.
Штурмовики собирались возле донжона. Помимо Тича и двух его помощников здесь сидели два пленных солдата. Они успели выбраться из казармы и сдаться. Мазуров подумал, что лучше бы их не было.
Штурмовики сложили всю взрывчатку, которая была у них в рюкзаках, в один мешок. Около пяти килограммов тринитрофокситолуола, в среде саперов получившего прозвище «дьявольская хлопушка». Вейц отнес ее в подвал.
Мазуров с удовольствием остался бы здесь и осмотрел этот замок, побродил по коридорам, но сейчас… Шаги гулко отдавались в стенах и сводах, отражались от них и возвращались обратно. Они дробились, размножались, и из-за этого казалось, что шаг в шаг со штурмовиками идет еще несколько человек, возможно, души тех, кого они убили сегодня, но стоило только остановиться, как призраки незаметно исчезали…
В кабинете профессора все еще было уютно, но вскоре это ощущение исчезнет, ведь огонь в камине почти доел поленья, а подкормить его будет некому.
Дверь была приоткрыта, а сквозь щель сочился слабый боязливый свет, храбрости которого хватало только на то, чтобы проползти несколько метров по коридору. Он походил на мышь, которая по ночам выбирается из норы через дырку в стене и начинает исследовать комнату, но любой посторонний звук, а особенно шаги человека, пугают ее до полусмерти, и она стремительно бежит обратно в нору. Дверь будто заманивала в ловушку. Стоит войти в комнату, как она тут же закроется за твоей спиной, щелкнут затворы, и ты станешь пленником, потому что жить без хозяина комната не могла. Кто же ее тогда будет убирать?
Чувствовался легкий запах благовоний. Он глубоко пропитал стены, никогда не выветривался, а профессор лишь изредка подновлял его. Запах щекотал ноздри, точно в них залетела тополиная пушинка или парашютик одуванчика.
Они походили на воров, забравшихся в чужой дом. Хозяева должны были вернуться сюда нескоро, но могли оставить какие-нибудь сюрпризы, поэтому комната казалась таинственной, до той поры пока Мазуров не коснулся рукой выключателя на стене и не выпустил на свободу электрический свет. Тот мгновенно расколол темноту и загнал ее по углам комнаты, под кресло и стол, куда свет не мог забраться. Там сохранились тени. Штурмовики сощурили веки. Глаза пока не могли поглотить так много света. Им нужно было секунд пять, чтобы к нему привыкнуть.
Дверь не закрылась. Она знала, к чему это может привести. В нескольких метрах от нее на полу валялась другая дверь, которая хотела преградить путь штурмовикам. Она продержалась не более десяти секунд.
Мазуров любил книги. Когда его взгляд ощупал книжные полки, он понял, что на них стоит с десяток томиков, за которые он, почти не задумываясь, отдал бы свое месячное жалованье. Более того, он понимал, что, скорее всего, никогда не станет обладателем таких книг. Он безрезультатно искал их по букинистам лет семь. Он очень хотел взять их с собой. Они заняли бы немного места в его рюкзаке. Но капитан не задержался даже для того, чтобы полистать их и хотя бы на несколько секунд почувствовать себя их владельцем.
Встроенный в стену сейф был прикрыт деревянным щитом, обитым красной тканью. Маленький штурвал под колесиком кодового замка был бы более уместен в подводной лодке, чем здесь.
Рингартен легко, будто боялся сломать, прикоснулся к колесику, несколько раз повернул его, прислушиваясь к треску, который издает кодовый замок, когда на нем набирают цифры. Самоликвидатора — на тот случай, если сейф попробуют вскрыть грабители, — в него не вмонтировали. Рингартен резко крутанул штурвал по часовой стрелке, вцепившись в него обеими руками, как моряк, который заметил, что по левому борту корабля неожиданно возник выступающий из воды риф, и теперь старается как можно быстрее отвернуть в сторону. Дверь открылась с металлическим скрежетом.
В сейфе было штук двадцать толстых и, как оказалось, увесистых папок. Поверх них — пачка журналов, в основном пятилетней давности: немецких, английских, русских — почти все датированы одними и теми же числами. Один из них Мазуров уже видел, поэтому он понял, даже не листая их, почему они здесь находились и что их объединяло.
Журналы они оставили в сейфе, а папки сложили стопками на полу, вскоре добавив к ним еще пять, которые извлекли из выдвижных ящиков в столе. Мазуров пробегал глазами первые строчки на страницах, быстро листая их и выхватывая даже не общий смысл, а лишь отдельные непонятные фразы. Он не мог разобраться — какие из этих документов могут представлять интерес, а какие окажутся бесполезными. Штурмовики переглянулись. Они смогли бы и вдвоем стащить документы вниз за один раз, но это потребовало бы слишком много сил. К концу пути ноги станут ватными и начнут дрожать.
Рингартен побежал за помощью.
Едкий дым ветер относил в сторону донжона, поэтому, когда Рингартен появился на его пороге и, не успев задержать дыхание, до краев наполнил им легкие, то раскашлялся, едва не подавившись. В глазах проступили слезы. Он промокнул их ладонью и попытался побыстрее избавиться от едкого дыма, выдохнув его судорожными рывками.
Дым поднимался к небесам, и над замком уже скопилась темная туча, но, к счастью, издали она была практически неразличима на фоне черного неба. Для тех же, кто находился в замке, она стерла с небес несколько звезд, но не самых ярких и красивых.
Плененные солдаты находились в шоковом состоянии. Они сидели на мостовой, положив руки на колени и опустив головы. Рваная, грязная одежда свисала с них лохмотьями, а в дырках виднелась закоптившаяся кожа. Солдаты походили на нищих, которые уснули, выпрашивая подаяние, на ступеньках храма, а пока они дремали, кто-то утащил лежавшие возле их ног плошки, куда сердобольные прихожане бросали монетки. Пленные выглядели так, словно их жизнь закончилась и впереди не ждет ничего, кроме смерти. Рано или поздно она ждет всех. Вся задача заключается в том, чтобы как можно дольше оттянуть свидание с ней, а это вполне по силам человеку.
За пленными присматривал Рогоколь, но даже если бы он перестал за ними следить, немцы вряд ли решились бы бежать или завладеть оружием, настолько они были подавлены.
Неподалеку, прямо на холодных голых камнях, сидели Миклашевский и Колбасьев. Они раздраженно поглядывали по сторонам. Бинты, которыми наскоро обмотали их раны, пропитались кровью: у одного на голове, у другого на ноге. Но раны эти были не опасными. Миклашевского пуля ударила по касательной в голову, лишь сорвав кожу с черепа и немного задев кость, так что штурмовик был в состоянии, близком к легкой контузии, а у Колбасьева пуля и вовсе прошла через мягкие ткани навылет, не задев костей.
Двор замка походил на госпиталь, на который несколько минут назад по ошибке налетели бомбардировщики, но их бомбометание было не очень удачным.
Оставшись один, Мазуров почувствовал дискомфорт, который в присутствии Рингартена почти не замечал. Теперь ему казалось, что стены давят на него, будто за ними был не воздух, а миллионы тонн воды, готовые раздавить их, выбить окно и, ворвавшись внутрь, превратить человека в кровавое месиво. От таких мыслей ему сделалось не по себе. Капитан испугался, что подхватил клаустрофобию и теперь любое помещение будет производить на него подобный эффект, а жить под открытым небом в палатке, как это делали паломники, отправившиеся в Святую землю, ему не хотелось.
На стене висел телефонный аппарат. «Будет чертовски занимательно, если он сейчас зазвонит», — подумал Мазуров. Но тот, кто хотел сделать это, был слишком нерасторопным. Мазуров быстро одним движением перерезал ножом телефонный шнур. На стене осталась насечка.
Он с облегчением вздохнул, когда услышал приближающиеся шаги штурмовиков. Такое чувство испытывает узник, томившийся много лет в застенках, который узнал, что замок захватили его друзья, и через несколько секунд они выпустят его на волю, если конечно раньше о нем не вспомнят охранники и не придут его расстрелять.
Рингартен и Рогоколь, который поручил охрану пленных раненым штурмовикам, возникли на пороге.
— Вейц отнес взрывчатку в подвал, — сказал Рогоколь.
— Хорошо, — кивнул Мазуров.
Они опустошили эту комнату, и несмотря на то, что ее убранство осталось практически нетронутым, теперь комната походила на пустую консервную банку. Уходя, Мазуров прикрыл ее крышку, толкнув дверь рукой, но она не хотела закрываться, прилипла к раме неплотно, и сквозь оставшуюся щель следом за капитаном пополз луч света. Он не мог соперничать со штурмовиком в скорости и не успел даже лизнуть, как преданная собака, его ботинок.
Спускаясь по ступенькам, Мазуров думал о витраже в оконном проеме донжона — там изображался Парсифаль, спускавшийся в ад в поисках Грааля. Мазурову было жалко, что этот витраж погибнет. У него еще оставалась надежда, что взрыв будет не настолько сильным, чтобы разбить его…
Бикфордов шнур Вейц обмотал вокруг пояса, в кармане брюк штурмовика лежала коробка спичек, а набор взрывателей прятался в прочной герметичной коробочке, прикрепленной к его ремню. Теперь он был экипирован не хуже террориста, решившего войти в учебники истории и подорвать какого-нибудь высокопоставленного чиновника. Еще у Вейца был часовой механизм, и именно им он хотел сейчас воспользоваться.
Кто-то притащил из донжона ковер и укрыл им тело Краубе. Даже в темноте ковер плохо походил на штандарт или знамя, но недостающие детали дорисует воображение, чтобы хотя бы в памяти все осталось так, как должно было быть.
Азаров уже закончил съемки и ушел. Штурмовики оставили Вейца одного, будто он собирался заниматься какими-то таинственными экспериментами, сравнимыми с вызыванием духов, и присутствие посторонних было опасно.
Вейц высыпал из мешка двадцать брусочков ТНФТ. Они рассыпались по полу, как игральные кости, но внешне походили скорее на кусочки мыла, отличаясь от них лишь тем, что в одной из сторон у каждого брусочка было цилиндрическое углубление, куда вставлялся детонатор.
Для того чтобы взорвать колонны, будет достаточно восьми брусочков. Вейц разложил их попарно на четыре кучки. Оставшиеся брусочки тоже разделил на четыре равные части. Их он намеревался разложить по углам подвала, хотя знал, что весь донжон ему все равно не разрушить. В лучшем случае рухнут потолочные перекрытия.
Его пальцы повторяли работу, которую им приходилось делать не один десяток раз, так что в ней ничего интересного уже не было, и хотелось побыстрее от нее отделаться. Вейц вытащил из кармана коробочку с детонаторами и часовой механизм, напоминавший обычный будильник, посмотрел на наручные часы, чтобы сверить время, и перевел стрелки взрывного устройства на полчаса вперед. Он ползал на коленках, как ребенок, который увлеченно играет своими игрушками. Аккуратно, чтобы, не дай бог, не повредить взрывчатку в детонаторе, иначе она взорвется и оторвет ему пальцы, он прикрепил к нему шнур, к которому приделал часовой механизм, а потом всю эту конструкцию закрепил на брусочке и положил под одну из центральных колонн подвала, затем он распределил оставшиеся по другим колоннам. Часовой механизм так сильно тикал, что мог разбудить даже спящего мертвецким сном. Вейц кряхтя и тихо ругаясь из-за того, что у него во время работы затекла спина, распрямился, окинул взглядом подвал. Все — настало время уходить.
Штурмовики поровну разделили между собой папки, положили их в рюкзаки вместо израсходованных взрывчатки, патронов и еды.
Пленных можно было загнать в подвал. Там они нашли бы легкую смерть. Никто даже не заподозрит штурмовиков в том, что они убили пленных. Они были превосходной рабочей силой для рытья могил. Они могли вначале отрыть их для убитых, а потом для себя, выбрав для них место на свое усмотрение. Но они будут халтурить, рыть медленно. Рабы не заинтересованы в результатах своего труда, а если учесть, что чем медленнее они будут работать, тем дольше продлится их жизнь, то они станут копать в час по чайной ложке, для вида с усердием вгрызаясь в землю, но за раз выкапывая лишь пригоршню. Руками грести — и то быстрее. Так пленные дождутся рассвета, а там и немецких солдат, а может, те придут и раньше… Отпустить бы их — пусть бегут куда глаза глядят.
— Уходим, — коротко бросил Мазуров.
Раненые могли передвигаться сами, но остальные помогали им идти, поддерживая под руки. Тича приходилось подталкивать, не столько заставляя его идти, сколько указывая нужное направление, точно он ослеп. То же самое происходило и с двумя его помощниками. Пленные увязались следом. Как мухи, они липли к Тичу, думая, что если будут находиться возле него, то обязательно останутся в живых, хотя еще совсем недавно они относились к профессору с недоверием.
Ворота давно открыли. Их механизмы работали прекрасно и не скрипели, потому что шестеренки периодически смазывались. На них даже не появилось еще оспинок ржавчины, будто их совсем недавно отлили на заводе.
Штурмовики не оглядывались. Не из-за того, что это плохая примета, их мало что могло испугать, даже черная кошка, перебежавшая дорогу, просто они очень спешили. Точно кто-то подталкивал их в спины, невидимый как ветер, но его присутствие чувствовалось. Они оставляли в этом замке часть своего прошлого, бросая его, как кость голодному оскалившемуся псу, лишь бы побыстрее уйти подальше, а то он догонит и укусит.
Возле ворот ждал Ремизов, а потом их догнал Александровский. Он до самой последней секунды оставался на башне, наблюдая за обстановкой.
Площадь, ворота и мост все еще окутывали сумерки, во власти которых замок будет находиться еще как минимум два, а может, и три часа.
Как только они оказались за воротами замка, прошли мост и ступили на землю, Рингартен и Рогоколь, пряча в ладонях тряпочки, незаметно подобрались сзади к пленным солдатам. Те в самое последнее мгновение почувствовали опасность и лишь сделали попытку оглянуться, но не успели даже повернуть головы, только качнули ими в сторону, когда штурмовики зажали тряпочками их носы и рты.
Тряпочки заглушили крик, который, прорвавшись наружу, отфильтрованный тканью, превратился в хрип, затем, когда силы стали покидать пленных, — в стон, а вскоре и вовсе умолк. Тела солдат конвульсивно, как в припадке, изгибались, пытаясь вырваться, но штурмовики крепко стиснули их, зажав руками и не давая шевелиться. Это было страшное зрелище. Немцы, думая, что их душат, рефлекторно вскинули руки к шеям. Глаза у них выпучились, как от недостатка кислорода, вылезли из орбит. Потом они решили, что их отравят. Тела изогнулись в последний раз и повисли, как одежда на вешалке, но тряпочки были пропитаны не ядом, а всего лишь хлороформом. Штурмовики положили бесчувственные тела на землю. Они могли бы оставить пленных солдат в замке на площади перед донжоном, но боялись, что во время взрыва осколки камня поранят или даже убьют их. Спокойнее было бы, конечно, расстрелять этих солдат еще тогда, когда они выбрались из горящей казармы с поднятыми руками, но штурмовики не убивали тех, кто сдался в плен, а взять их с собой тоже не могли. Аэроплан и без того будет загружен почти до предела. Билеты были только для Тича и его помощников.
Тич по-прежнему напоминал сомнамбулу, и все произошедшее с солдатами не произвело на него никакого впечатления. Зато его помощников эта сцена повергла в ужас. Наверное, им показалось, что их убьют если не сейчас, то чуть позже, стоит им только подумать, что опасность уже миновала. Однако вскоре они сообразили, что солдат только усыпили, и когда штурмовики вновь двинулись в путь, ассистенты Тича немного успокоились, но их лица, глаза и движения оставались напряженными еще очень долго.
На невысокой, не доходившей до брюк траве, как слезы или пот, проступила роса. Кожа ботинок не пропускала влагу, но они набухли и отяжелели. Прохладный ветер взбадривал, прогонял сон и служил неким подобием душа.
Их настиг звук взрыва, будто где-то неподалеку открыли бутылку шампанского, демонстративно выстрелив в небо пробкой, причем предварительно хорошенько взболтали бутылку, чтобы она наполнилась газами. К этому времени они дошли до леса. Гипнотическое воздействие замка ослабело.
Оглянувшись, штурмовики увидели, что донжон в объятиях пламени. Оно вырывалось из пустых окон, взбиралось на крышу, постепенно объедая башню и оставляя после себя только каменный скелет. Камень выстоял, но окна в некоторых местах были теперь далеки от геометрически правильных форм. Замок напоминал теперь маяк, на вершине которого горит огонь, освещая окрестности и сообщая капитанам проходящих мимо него кораблей, где их поджидают скалы и утесы. Четко выделялись зубцы стен — нижняя оскаленная челюсть, а верхняя давно рассыпалась, осев пылью во внутреннем дворе. Вот почему ее было там так много.
Скорее всего, огонь не сумеет перекинуться на другие постройки и угаснет, как только в донжоне уже нечему будет гореть, а возможно, и гораздо раньше, но он обязательно уничтожит склад, лабораторию, кабинет Тича и… витраж в стене. Стекло, наверное, уже лопнуло от адского пламени, а Парсифаль расплавился, так и не найдя Грааль.
Место стоянки они нашли только по ориентирам. За несколько часов дерн успел почти срастись. Корни трав переплелись. Азарову вновь пришлось воспользоваться кинжалом, чтобы разрубить их, но к помощи лопатки он прибегать не стал. Он выгребал землю ладонями, осторожно обнажая кожух рации, как делает это сапер, обнаруживший мину, при этом Азаров что-то напевал себе под нос. Остальные штурмовики, как обычно, ему не мешали. Расположившись неподалеку, они сели на траву, используя эти несколько минут для передышки. Струйки пота смыли часть краски с их лиц. Она осела грязными пятнами на воротниках курток. Дым попробовал закрасить обнажившуюся кожу, но ему удалось сделать ее лишь немного темнее. Глаза воспалились, покраснели от бессонницы, усталости и огня.
— Чего я не пойму, — сказал Александровский, — так это почему им сегодня не спалось. Что они делали в лаборатории? Впечатление такое, что нас ждали.
— Взорвать там все хотели, — предположил Рингартен. — Общество профессора опостылело, вот они и взбунтовались.
— Получается, мы им помогли? В смысле, все взорвали.
— Получается, что так.
Ремизов засмеялся:
— Представляю, какие у нас были бы лица, если бы, захватив замок, мы выяснили, что там уже кто-то поработал. Свалили бы все на союзников.
— Точно, — кивнул Александровский.
— Разведка кулаки бы тогда кусала. Повезло, — сказал Ремизов.
— Ну я думаю, такой прыти от союзничков никто и не ожидал, подытожил Рингартен.
У Азарова было шесть насадок — тонких металлических прутьев, из которых, вставляя один в другой, можно соорудить антенну высотой около двух метров. Но Петр сделал все гораздо проще. Он связал из тонкого металлического провода некое подобие лассо, раскрутил его над головой и забросил петлю на макушку ближайшего дерева. Ветви ухватили провод, не дали ему долететь до вершины, но, тем не менее, он повис примерно метрах в десяти над землей. Азаров не стал повторять попытку. В лучшем случае ему удалось бы улучшить свой результат метра на два — три, но для этого придется повозиться и потерять десять — пятнадцать минут драгоценного времени. Конец провода штурмовик присоединил к антенному гнезду, включил рацию и стал ждать, когда она нагреется. Лампы медленно раскалялись, немного потрескивая, как сухие ветки под ногами. Затем к этому звуку прибавился треск статических помех, когда Азаров закрутил тумблером, ощупывая пространство. Звуковой диапазон был чист. Но это вовсе не означало, что радиопереговоры никто не слушал. Немцы могли следить за эфиром. Азаров надел наушники, приложил к губам микрофон.
Он как заведенный повторял и повторял какие-то слова, смысла которых сам, наверное, уже не понимал. Кто-то вложил их ему в голову на гипнотическом сеансе, когда он спал. Петр вспоминал их, только когда прикасался к рации. Проскальзывали какие-то имена. Через какое-то время те из штурмовиков, кто слушал радиста, поняли, что он произносит имена персонажей романов Карла Мая. Было похоже, что у радиста начался бред. Он несет какую-то околесицу, пересказывает содержание книг, которые прочитал в детстве. Он говорил на немецком с легким баварским акцентом. Если его подслушивали немцы, то они могли принять его позывной за переговоры радиолюбителей, а могли и не принять. У всех частных лиц радиопередатчики изъяли еще в самом начале войны, а тот, кто не сдал его, рисковал угодить за решетку, поскольку нарушение этого приказа расценивалось как серьезное преступление и считалось, что штраф в качестве наказания в этом случае мера недостаточная.
Прошло пять минут, затем еще пять. Ответом был лишь треск помех. Он был настолько громким, что Азаров болезненно морщился. Он чувствовал, что начинает терять слух и, даже если в наушниках зазвучат голоса, он все равно не сможет разобрать их, а если снимет наушники, то товарищам надо будет кричать ему прямо в уши, чтобы он хоть что-то услышал. Петр повторял сообщение абсолютно механически.
Внешне штурмовики не проявляли беспокойства. Они лежали или сидели на траве. Казалось, они даже рады тому, что возникла небольшая задержка. Азаров чувствовал, что друзья начинают волноваться, хотя они и не выражали этого ни жестами, ни словами. Они слишком устали, чтобы напрасно тратить оставшиеся силы на пустяки. Они даже делали вид, что не слушают того, что он говорит, будто это касалось только одного Азарова.
Микрофон в руках стал влажным от прикосновений вспотевших ладоней. Он начинал выскальзывать, как только что пойманная рыба, которая все еще не потеряла надежду вернуться в воду, если у нее получится вырваться из человеческих рук. Чтобы не упустить ее, Азарову приходилось все сильнее и сильнее сжимать микрофон. От усилий начали неметь вначале пальцы, затем кисть, а вскоре и рука по локоть. Онемение распространялось, как гангрена, только гораздо быстрее. Оно еще даст о себе знать сильной болью, когда Азаров начнет разминать руку, заставляя циркулировать по ней кровь, а пока…
Он вздрогнул, замолчал, прислушиваясь, а потом заулыбался и вновь стал что-то говорить, но теперь уже с большими паузами.
Помехи… Они сводят с ума. Кажется, что вокруг шумит дождь, да такой плотный, очертания пальцев на вытянутой руке начинают искажаться из-за того, что капли слепят глаза. Два человека, которых разделяет метров 30–40 пытаются докричаться друг до друга, но их голоса сливаются с шумом воды, падающей с небес. Она прибивает слова к земле. Почти безнадежное занятие. Пустая трата времени. Можно кричать, пока не охрипнешь. Но если уловить момент, когда дождь на миг затихнет…
— Удачной ли была охота? — услышал он в наушниках.
— Как нельзя лучше.
Вместо некоторых букв и слов был лишь треск, но они заранее обговорили все, так что Азаров дополнил то, что не разобрал. Вариантов ответа заготовили несколько. Одни из них можно было говорить прямым текстом, но лишь в том случае, когда отряд попадет в наиболее скверную ситуацию, другие были зашифрованы. Они показывали, насколько удачно или неудачно прошла операция.
Он сдернул наушники, провел ладонью по вспотевшему лбу.
— Все в порядке. Они будут на месте примерно через два часа.
Кто бы знал, как ему хотелось после всего этого откинуться назад на спину, заложить руки за голову и валяться так, пока вечерняя прохлада не заставит дрожать тело.
Сумерки постепенно отступали, уползали в лес, где намеревались затаиться до следующей ночи под кронами деревьев. Огонь в замке почти погас, теперь мрачный силуэт был хорошо виден на фоне серого, быстро светлеющего неба, а на востоке уже начинал полыхать пожар, пламя которого поднималось высоко вверх, гораздо выше, чем вершины самых высоких деревьев. Огонь поджигал облака, словно вату, а ветер подгонял их, и они, как брандеры, поджигали другие, более крупные облака. Огонь лился из них на головы людей, затоплял лес, сливаясь с огнем, который накатывался волной с востока.
Облака походили на огненных монстров, запряженных в колесницу, на которой восседало солнце. Медленно, очень медленно оно появлялось из-за леса. Чтобы вновь не сорваться в бездну, чудовища цеплялись огненными щупальцами за стволы деревьев.
Темнота уже не могла остановить их. Алый демонический свет заливал замок, будто земля под ним начала трескаться. Из трещины вырывались газ и магма, а стены медленно оседали в огненный ад. Пока он не добрался до опушки леса, штурмовикам нужно было поскорее убираться прочь.
Как только Азаров упаковал рацию и забросил ее на плечи, штурмовики быстро собрали свои нехитрые пожитки и отправились в дорогу. Напоследок, каждый из них оглянулся, чтобы посмотреть на замок, но в просветах между деревьями он был уже плохо виден, а выходить из леса, чтобы получше его рассмотреть, штурмовики не стали, и без того с этим замком их связывало теперь очень многое.
Не исключено, что им надо будет что-то забыть, чтобы хватило места для новых впечатлений…
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Примерно в семи километрах от замка лежала поляна, на которую мог сесть аэроплан. Она была с небольшим уклоном, но достаточно ровная, особенно по сравнению с окружающими ее горами и лесами.
Чужак в этих местах мог вызвать подозрение. Но если обходить стороной немногочисленные поселения, то можно бродить здесь неделями, не повстречав ни одной живой души, за исключением белок, зайцев и птиц. Поголовье кабанов заметно уменьшили охотники, а волков и более крупных млекопитающих истребили здесь еще в прошлые века, так что в этих лесах не страшно спать на земле, не беспокоясь о том, что ночью на тебя нападет какой-нибудь зверь. Те сами боялись людей и даже голодные не искали с ними встречи.
Хорошая подготовка давала себя знать. Штурмовики, несмотря на то, что каждый из них нес довольно внушительный груз, шли с пружинящей легкостью, как будто забыли усталость на стоянке. Они двигались гуськом, друг за другом, стараясь наступать на следы впереди идущего, но они были разного роста, и, конечно, точно попасть в отпечаток ноги удавалось не всегда. Не позднее чем через два часа они доберутся до поляны. За это время аэроплан преодолеет километров четыреста. Он может обогнать штурмовиков.
Создавалось впечатление, что в Германии даже безлюдный лес все равно ухожен, словно порядок и опрятность заложены здесь не только в людях, но и во всем, что их окружает. Трава казалась ровной, будто ее некоторое время назад подстригали, на земле почти не было веток, а о таких вещах, как бурелом или сросшиеся в непроходимые заросли косматые кусты, говорить и вовсе не приходилось.
Штурмовики получали даже какое-то удовольствие от всего происходящего, стараясь забыть, что в любую минуту позади себя они могли заслышать лай собак, рвущихся с поводков, чтобы побыстрее добраться до добычи.
Несколько раз Мазуров посыпал землю перцем. Если собаки набредут на след, то их ожидает неприятный сюрприз, который может надолго отбить нюх. Бедные. Вначале они долго будут чихать, на глазах выступят слезы, они будут тереть лапами нос, стараясь извлечь из него въевшиеся песчинки перца, но ничего у них не получится. Опытный следопыт смог бы проследить путь штурмовиков и без помощи собак, но для этого нужно хотя бы набрести на него.
Настроение штурмовиков улучшилось, но замаячившая надежда могла оказать им плохую услугу, ведь обычно именно в подобных ситуациях, когда кажется, что все уже позади, совершаются нелепые ошибки, которые сводят на нет все предыдущие успехи.
Огромные сосны толстыми стволами, распилив которые насчитаешь не один десяток годовых колец, обступали Ремизова, протягивая к нему кривые, точно изуродованные артритом ветви, усыпанные мягкими, приятными на ощупь иголками. Толстая сухая кора напоминала запекшуюся на ране кровь.
Ветви цеплялись за одежду штурмовика, за его гимнастерку, а кусты за брюки, но он старался от них увернуться, и они редко доставали его. Большинство солнечных лучей запутывалось где-то в кронах деревьев, поэтому до земли добиралась лишь малая их часть, и ее не хватало, чтобы осветить нижний ярус леса. Трава сглаживала неровности поверхности и прятала насекомых, которые ее населяли, но Ремизов шел так тихо, что слышал жужжание пчел, стрекот сверчка и пение птиц, почти заглушавшее все остальные звуки.
Несмотря на то, что лицо его перепачкалось маскировочной краской, а в руках Андрей сжимал автомат, птицы нисколько не боялись его и, завидев, не пытались улететь или спрятаться в листве. В этом лесу он был единственным представителем человечества. Следом за ним на расстоянии не более полукилометра двигался основной отряд, но до него могло быть и десять километров, и даже десять световых лет. Он не слышал отряда. Его словно и не существовало.
Стволом автомата Ремизов осторожно раздвигал заросли и старался побыстрее проскочить их, пока они не сомкнулись и не поймали его. Ветви хлестали только воздух позади него, едва-едва не касаясь спины. Иногда Андрей отклонялся от основного маршрута то влево, то вправо, проверяя, не таится ли там опасность, например какой-нибудь местный житель, который забрел сюда, собирая грибы, ягоды или хворост для камина. До ближайших деревень слишком далеко. Вероятность встретить здесь человека очень мала. Тем не менее Ремизов проходил как минимум вдвое большее расстояние, чем основной отряд.
Ему очень хотелось остановиться, обнять ствол какого-нибудь дерева, прижаться к нему щекой и отдать коре усталость, которая успела накопиться в нем за последние сутки, взамен взяв спокойствие. Он хотел слушать лес, сделавшись незаметным, затаиться, закрыть глаза, как он делал это десять лет назад в Новой Гвинее. Но там был другой лес: люди уже смогли проникнуть в него, но еще не успели изуродовать. Впрочем, если верить ученым, у них впереди целая вечность. Четыре миллиарда лет. За это время можно так много успеть.
Лес проваливался вниз, стекая с крутого холма, как застывшая лава. Казалось, что землю хлестнул кнутом великан. От этого удара она треснула. Но из раны выступила не кровь, а вода.
По склону бежал маленький тонкий ручеек — хрустальная, пульсирующая ртутью прожилка. Он разъедал землю, как язва, и даже если ручек иссякнет, от него останется коричневый шрам, обозначая место, по которому он сочился. Ненадолго. Трава быстро залечит эту рану.
Ремизов спускался осторожно. Одной рукой он держал автомат, перекинув ремень через плечо и положив ладонь на приклад, а второй балансировал, изредка хватаясь за кусты.
При желании в этом лесу минут за двадцать можно набрать полное лукошко грибов. Лес существовал вне времени. Оказываясь здесь, попадаешь в страну забвения и уже через несколько минут начинаешь забывать о том, что где-то идет война. Она так далеко! На другой планете, до которой никогда не доберешься, потому что ее координаты давно утеряны, а искать наугад, опираясь лишь на собственную интуицию, вряд ли имеет смысл, ведь во Вселенной так много звезд, что и не пересчитать, а планет и того больше.
Ремизов не смотрел на часы. Он гораздо быстрее мог определить время по расположению солнца, запрокинув голову к небесам. Лучи слепили глаза. Штурмовик щурился.
Краска на лице высохла, превратившись в тонкую корку, которая, скорее всего, вскоре начнет отслаиваться, как старая кожа у змеи.
Ручей был невелик. Ремизов легко перемахнул через него, сделав шаг лишь чуть-чуть длиннее обычного. Он шел, наступая на носок и немного сгибая ногу в колене — амортизируя, чтобы на траве остался как можно менее заметный след. Только загнанные в резервацию индейцы сиу, которых он знал когда-то, могли найти этот отпечаток. Эти индейцы вымирали, давно уже не охотились, но сноровка еще оставалась в их крови. Они научили Ремизова не оставлять следов, это спасло ему жизнь на Новой Гвинее и не один раз. Отряд, который шел за ним по пятам, шумел, по мнению Андрея, словно стадо слонов, бегущих на водопой во время засухи, и это Ремизову не нравилось.
У подножия холма лес образовывал проплешину. Деревья здесь росли так же редко, как волосы на макушке лысеющего человека.
Солнце как стервятник обрушилось на Ремизова с небес, вытапливая из тела влагу. Штурмовик взмок. Пот пропитал гимнастерку на спине и под мышками, потом высох, а соль, которую солнце не хотело забирать, приклеила ткань к коже и теперь казалось, что на тело наброшены легкие, но очень неудобные латы. Спина чесалась и зудела, словно исколотая соломой. Ремизов зачерпнул ладонью воды из ручья, смочил ею губы, смывая выступившую корку соли, а заодно и краску. От холодной воды заломило зубы, а горло, казалось, покрылось инеем и затвердело, как кожа на морозе.
Штурмовик быстро поднялся на следующий холм и укрылся от потоков солнечных лучей под лохматыми ветвями деревьев. Андрей старался не делать глубоких вдохов, опасаясь, что стоит только набрать полную грудь воздуха, как он тут же опьянеет. Голова закружится, и если он не упадет в обморок, то будет вынужден, шатаясь, искать опору. Кровь растворит пьянящий воздух, разнесет его по всему телу. Ослабевшие ноги не смогут его удерживать и начнут подгибаться. Потом наступит блаженство. Наверняка именно так должны выглядеть райские сады, жаль только, что он никогда их не увидит, потому что только за то, что они сделали минувшей ночью, гореть ему вечно в аду.
Ремизов едва не заплакал, когда увидел в просветах между деревьями стоящий без движения аэроплан. Сейчас он должен был испытывать такую же радость, как и одинокий путник, который после долгих скитаний по пустыне набрел на оазис. Но Андрей чувствовал примесь печали из-за того, что все так быстро закончилось.
Разморенная теплом железная птица дремала. Высовывающиеся из ее туловища пулеметы смотрели вниз. Но Ремизов знал, что возле одного из них сидит кто-то из членов экипажа, внимательно наблюдая за окрестностями и в случае опасности он среагирует мгновенно.
Колеса аэроплана немного утонули в земле. Штурмовик несколько минут наблюдал за машиной, но никто не подавал там признаков жизни. Вокруг он не увидел следов борьбы, а немцы вряд ли смогли бы захватить аэроплан без кровопролитного боя, после которого в корпусе «Ильи Муромца» должны были остаться хотя бы дырки от пуль.
Одежда штурмовика сливалась с зарослями, и он успел сделать несколько шагов по поляне, прежде чем стал заметен сквозь зеленую растительность. На него тут же навели один из внезапно оживших пулеметов, но Ремизов старался не делать резких движений и шел плавной, немного замедленной походкой, точно пребывал в гипнотическом трансе. Он стал похож на заклинателя змей, а коброй был пулемет.
Чуть позже Андрей увидел, что лобовое стекло аэроплана разбито, а в верхних крыльях, как оспинки, зияют крохотные пробоины, но было слишком поздно исправлять ошибку. Он испугался, что экипаж аэроплана перебит или взят в плен.
Ремизов остановился, точно голос сирены, который звал его, заманивая в ловушку, умолк и теперь он не знает куда идти, а его ноги тем временем оплетают стебли трав, быстро появляющиеся из-под земли. Внезапно он понял, что сил у него осталось только на то, чтобы стоять и молча смотреть на аэроплан. Наверное, так же мог стоять возле пещеры, где разбойники прятали свои сокровища, Али-Баба, не зная, что она открывается словом «сезам». Но даже если бы он знал волшебное слово, то все равно вряд ли смог его произнести, потому что горло пересохло и теперь из него не выдавишь ничего, кроме хрипа.
Пулемет вновь опустился, точно гипнотическое воздействие на него Ремизова ослабело. Дверь в корпусе аэроплана отворилась, и из темноты, как джинн из сосуда, на свет появился Левашов, впрочем, штурмовик не сразу узнал его. Половина головы пилота была обмотана бинтами, сквозь которые проступили маленькие кровавые пятна. Левашов вылез на крыло, затем спрыгнул на землю и, еще даже не успев выпрямиться спросил у Ремизова:
— Где остальные?
Вначале штурмовик лишь махнул рукой назад, но вскоре, проглотив комок, забивший ему горло, смог заговорить.
— Должны быть минут через пять. Я их встречу.
— Хорошо. Мы уже полчаса здесь. Надо поторопиться. Кто-нибудь мог заметить нашу посадку. Что аэроплан русский, никто не поймет, но сам факт посадки наверняка покажется по меньшей мере, странным. Кто знает, возможно, муниципальные власти могут быстро реагировать на подобную информацию.
Левашов тоже нервничал. В течение последних тридцати минут, как только он посадил аэроплан и развернул его против ветра, приготовив для старта, он опасался, что вместо штурмовиков из леса могут появиться немцы. Плена Левашов не боялся. На борту аэроплана было два десятка гранат и так много патронов для пулеметов, что он мог удерживать немцев на расстоянии очень долго. Для того чтобы взлететь, времени хватит с избытком. Но в этом случае штурмовики будут обречены. Неизвестность изматывала Левашова. Его сердце с каждой минутой колотилось все сильнее. Пилот чувствовал, как тело покрывается липкой испариной. Еще немного, и его обязательно хватил бы сердечный приступ. Еще немного, и он подцепил бы простуду. Но теперь все позади. Почти все. За исключением того, что им надо еще вернуться.
— Что случилось? — спросил Ремизов, рукой показывая на голову Левашова, но этот жест был более продолжительным, так что его траектория пересекла и аэроплан.
— «Фоккер». Почти на линии фронта. Мы сбили его. Повреждения минимальны. А это, — Левашов скривился то ли от боли, то ли от раздражения и показал на бинты, — порезался осколками стекла.
Он помолчал. Ремизов стоял как истукан.
— Пять минут? — переспросил его Левашов.
— Может чуть раньше.
— Прекрасно. Я успею прогреть двигатели.
Ему пришлось выключить моторы — приходилось экономить топливо. Он не знал, сколько предстоит здесь простоять, а топлива на обратный путь могло и не хватить.
Штурмовики появились из леса с небольшим опозданием. К этому времени Левашов, забравшись в пилотское кресло, давно уже завел двигатели и теперь держал их на холостом ходу.
Пропеллеры взбивали воздух в пену. Двигатели приятно тарахтели. Листва глушила этот звук. Вряд ли он далеко разносился по округе. Аэроплан готов был сорваться с места. Увидев штурмовиков, Левашев не стал выбираться из кабины, а лишь выкрикнул слова приветствия, но они все равно не были слышны за гулом работающих двигателей.
Второй пилот наспех заделал дыру в кабине куском фанеры, но прикрыть ее плотно все равно не смог. Остались большие зазоры и щели. Во время полета в них будет задувать холодный ветер.
Наверное, будет очень холодно, когда они поднимутся высоко в небо, ведь там всегда стоит минусовая температура, как в вечной мерзлоте, которая никогда не оттаивает. Если бы за облаками водились звери, они могли сохраняться тысячелетиями, не разлагаясь. Археологи отдавали бы много лет своей жизни, чтобы отыскать останки этих ископаемых.
Левашов тряхнул головой, отгоняя нелепые мысли. Помимо курток пилоты взяли с собой шерстяные шарфы и меховые перчатки, а на самый крайний случай припасли бутылку водки.
Левашов замахал руками, подбадривая штурмовиков, но в эти минуты он плохо их видел. Остатки лобового стекла с внешней стороны испачкались. Левашов чувствовал, что штурмовики начинают уставать. Ему очень хотелось расспросить их о подробностях операции, но для этого у него еще будет масса времени. В том случае, конечно, если они вернутся домой.
За счет истраченного во время полета бензина «Илья Муромец» мог в обратный рейс взять больше груза, но штурмовиков осталось только девять (Левашов не стал спрашивать, что стало с десятым. И так все понятно). Плюс трое пленных. Бросать балласт за борт не понадобится.
Второй пилот забирал у штурмовиков рюкзаки, закидывал их в салон, а потом помогал вернувшимся залезть в аэроплан, точно это немощные старики. Они через силу улыбались ему, но от помощи не оказывались.
Дверь в пилотскую кабину была распахнута. Оглянувшись, Левашов увидел, что рюкзаки сложили в кучу возле опустевших топливных баков, рядом с ними легли двое раненых штурмовиков. Они так измотались, что если бы не помощь товарищей, то под конец пути несколько шагов стали бы для них непосильной задачей. На пол постелили парашюты. Остальные расположились вдоль бортов на привычных лавках. Пленные затравленно озирались. Левашов никак не мог рассмотреть их лица.
Прежде чем второй пилот закрыл дверь, отчего в салоне стало еще темнее, в кабине появился Мазуров. Он крепко пожал руку Левашова.
— Все в порядке, — сказал капитан. — Как у тебя?
— Нормально. Взлетаем, — отозвался Левашов.
«Илья Муромец» запрыгал по кочкам, а потом, наткнувшись на самую большую из них, оторвался от земли, завис в воздухе и стал медленно набирать высоту. Когда поляна оборвалась и под крыльями заколыхалось море леса, от земли его отделяло метров тридцать.
Из кабины в салон залетал холодный ветер, заставляя штурмовиков ежиться и плотнее закутываться в куртки, прятать в них ладони, а в воротниках лица.
Аэроплан был уже слишком высоко, чтобы рассмотреть какие-то подробности на земле, впрочем, они уже не пытались этого сделать, а поэтому не увидели, как пронеслись над двумя полицейскими, которые ехали на велосипедах в сторону только что покинутой аэропланом поляны.
Полицейских мучила одышка. Они лениво крутили педали, изредка подшучивая друг над другом, но без злобы, поскольку были знакомы с детства, а сколько они выпили вместе кружек пива — и не сосчитать. Полицейские услышали гул, но к тому времени аэроплан уже скрылся в облаках, и сколько стражи порядка ни задирали вверх головы, не видели ничего, кроме пустого неба. Гул мог оказаться громом. Вот только молнии и дождя почему-то не было.
Об аэроплане им сообщили крестьяне. Поверить такой информации стражи порядка не могли. Ее необходимо было проверить. Если она окажется неправдой, полицейские найдут способ, как припомнить крестьянам то, что из-за них они были вынуждены провести время не в пивной или теплом участке. Сидеть там гораздо приятнее, чем колесить по холмистой дороге. А если слишком часто смотреть в небеса, можно не заметить рытвину, камень или ухаб и упасть с велосипеда. Тогда в лучшем случае отделаешься ссадиной, а о худшем задумываться не хотелось. В армию их не взяли по состоянию здоровья. В полиции они стали служить совсем недавно из-за того, что многих полицейских забрали на фронт и нужно было кем-то их заменить. Выбор-то небогат. У одного из них было плоскостопие. Его ноги быстро уставали от ходьбы, и он часто отдыхал, опираясь на ствол дерева. Если такового не оказывалось поблизости, он сильно косолапил, чтобы ступни хоть немного успокоились. А у другого была такая сильная близорукость, что он ничего не видел уже на расстоянии десятка сантиметров от своего носа. Мир сливался во что-то неопределенное, расплывчатое, будто все предметы окружал раскаленный воздух. Странно, что от постоянного ношения тяжелых очков на его носу еще не появилась мозоль.
На поляне полицейские нашли три колеи и какие-то следы. Вернувшись в участок, они доложили обо всем своему начальнику. Пришлось поднимать его с теплой постели. Начальник был очень недоволен, ругался и не хотел идти в участок. Но вскоре выяснилось, что ночью замок Мариенштад подвергся нападению. Разрозненные кусочки мозаики сложились во что-то осязаемое, но было уже поздно что-либо предпринимать. Слишком поздно. К тому же ни полицейские, ни крестьяне не знали, в какую сторону полетел аэроплан.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Левашов давно уже не чувствовал своих пальцев. Вначале затвердели их подушечки, затем онемение поразило фаланги. Холод растекался по ним, как гангрена. Со временем у Левашова стало создаваться впечатление, что пальцы превратились в ледышки и стали такими хрупкими, словно сделаны из хрусталя. Стоит только попытаться пошевелить ими, как они рассыплются хрустальными осколками, но пилот не решался провести этот эксперимент. На протяжении последних полутора часов он сжимал ладонями штурвал аэроплана. Левашов замерз. Наверное, в лед постепенно превращалась и его кровь. Медленно густея, она начинала застывать в венах, и именно поэтому ему становилось все труднее двигаться. Но куда больше, чем холод, его донимал ветер. Он просачивался сквозь одежду и добирался до тела. От него не было спасения. Он гулял по пилотской кабине, утыкался в дверь, отделявшую салон. Она была плотно закрыта, правда не герметично. Это не страшно. В салоне лишь немногим ниже нуля по Цельсию.
Стекла летных очков по краям покрылись инеем. Морозные узоры не успели пока разрисовать лишь самый их центр, который находился напротив зрачков. Казалось, что очки примерзли к лицу, вернее — к защитной вязаной шапочке, и теперь их нужно было либо отдирать, либо ждать, когда они оттают, впрочем, этот процесс, вероятно, ускорился бы с помощью горячей воды. Левашов не мог улыбнуться, потому что скулы уже не подчинялись ему, но он обязательно это сделал бы, когда вдруг подумал, что после посадки его, скорее всего, придется вынимать из аэроплана как статую. На том месте, где шарф закрывал губы, образовалась ледяная корка. Бедный человек-невидимка, к каким ухищрениям ему приходиться прибегать, чтобы люди его заметили!
Штурмовики дышали на окоченевшие руки, растирали побледневшие пальцы, а потом вновь надевали перчатки, но через десять минут, а то и гораздо раньше, руки снова начинали мерзнуть и деревенеть, и все приходилось делать заново. Бестолковая работа. Если кто-то пытался заговорить, то прежде слов изо рта вырывались густые клубы пара. Слова замирали, оседая налетом на зубах, потому что в открытый рот вливался холод. Слова, которые только что хотелось произнести, забывались, как будто холод мгновенно поражал участки мозга, отвечавшие за память. Хотелось побыстрее приземлиться, чтобы вновь почувствовать на своей коже солнечное тепло. Возможно, тогда и мозг оттает. Здесь, на высоте солнечных лучей было в избытке, но все они, увы, не греющие, холодные.
Тело немело, как у сказочных героев, посмотревших в глаза ледяной змее и теперь становящихся камнем, вот только превращение слишком затягивалось. На аэроплане было несколько термосов с горячим чаем и кофе. Штурмовики наливали непослушными руками напиток в алюминиевые кружки. Стенки кружек быстро нагревались, и пальцам, которые еще не совсем утратили чувствительность, становилось нестерпимо больно. Постепенно по ним вновь начинала циркулировать кровь, пробиваясь сквозь образовавшиеся тромбы, и боль усиливалась. Когда она чуть не срывалась с губ шипением, штурмовики топили ее в горячей ароматной жидкости, которая как расплавленное золото, опаляла горло и поджигала желудок. От первого же глотка все рецепторы на языке теряли свои свойства, так что вскоре штурмовики уже не понимали что пьют, но все равно получали огромное удовольствие. Почему-то начинало казаться, что так они могли немного ускорить течение времени…
Кто-то пробовал заснуть, но сберечь достаточное количество тепла, чтобы заманить сны, никак не удавалось. К тому же после двухчасового сидения на лавке голову начинала сверлить навязчивая мысль, что тело превратилось в некое подобие выставляемого в витринах модных магазинов манекена, в котором плавает угасающее сознание. Сколько глаза ни закрывай, мысли возвращаются только к жесткой лавке. И как конструкторам не придет в голову, что их нужно делать помягче? Чтобы внушить себе, что эти мучения должны когда-нибудь закончиться, штурмовики начинали считать про себя, но, добравшись до четырехзначных чисел, были так же далеки от сна, как и в самом начале подсчетов. Наконец они понимали всю тщетность своих попыток, открывали покрасневшие глаза, но смотреть было не на что — за иллюминатором бесконечное небо, под аэропланом — буруны облаков, а напротив — такое же уставшее, помятое, небритое лицо с покрасневшими от бессонницы глазами. Словно смотришь в зеркало. Очень неприятное зрелище. Лучше снова закрыть глаза. Цикл занимал примерно двадцать — двадцать пять минут. Хорошо еще, что в салоне был выключен свет. Они забыли, что при том количестве адреналина, который все еще был растворен в их крови, попытка заснуть так же неосуществима, как, скажем, полет на «Илье Муромце» на Луну или Марс.
Мазуров вдруг удивленно понял, что некоторым штурмовикам все-таки удалось впасть в дремотное состояние. Усталость взяла свое. Похоже, они могли наблюдать какие-то сонные видения, но вместе с тем часть их сознания воспринимала и окружавший шум, смешивая все это в коктейль. Они морщились, когда кто-то рядом с ними начинал говорить.
Теперь капитан знал, что полет на аэроплане не менее утомителен, чем поездка по Транссибирской магистрали. Но если в поезде есть хоть какие-то развлечения, да и за окном, вместо бесконечно однообразного неба и опостылевших облаков, проносятся леса, поля, деревни и города, то в аэроплане нет ничего. Единственное занятие, которое можно придумать, это ходить по салону из конца в конец, действуя на нервы своим товарищам. Хорошо еще, что полет длиться лишь несколько часов, пассажирам поездов приходится терпеть тяготы путешествия во много раз дольше.
Ветер, который в течение всего подъема тонкими струйками врывался в дырки, оставленные в фюзеляже пулями «Фоккера», успел растрепать их волосы. Но как только аэроплан набрал высоту и крейсерскую скорость, а штурмовиков перестало трясти и вдавливать в стенки корпуса или в лавки, они быстро заделали отверстия, наложив на них тонкий пластырь, чем-то похожий на тот, каким моряки заделывают во время сражения пробоины на своих поврежденных кораблях.
Молочная пелена затопила землю, словно там — далеко внизу — настал конец света, о котором на протяжении последних нескольких десятков лет твердили фанатики, и теперь от всего живого остался лишь один маленький ковчег, но в нем, в отличие от его предшественника, увы нет каждой твари по паре. И он не может плыть. Как только закончится топливо в его баках, он погрузится в молочный туман и утонет, а Земля вновь станет необитаемой.
У Левашова даже не было звезд, чтобы ориентироваться. Ему приходилось полагаться только на показания приборов, молясь, чтобы они не отказали, иначе он ослепнет и оглохнет.
Ночью он никогда не сумел бы посадить свой аэроплан на незнакомой поляне. Вероятность удачи при этом была ниже, чем один на тысячу, и она вряд ли существенно повысится, даже если он приземлялся на той поляне раньше. Ему пришлось бы ждать, пока до нее доберутся штурмовики, натаскают кучи хвороста, обозначая посадочную полосу, и подожгут их, а все это время, аэроплан должен был кружить над поляной, сжигая топливо…
Левашов тихо произносил названия немецких поселений, через которые, как он надеялся, пролетал в эти минуты, и чертил в голове план полета, отмечая его красной пунктирной линией на воображаемой карте.
Внезапно аэроплан качнулся, точно попал в воздушную яму. Он немного накренился на левый борт, но через миг вновь выпрямился, хотя летел теперь более грузно, будто зачерпнул облаков, а они оказались не менее тяжелыми, чем вода. В мерном реве двигателей появился диссонанс, и теперь он больше раздражал, чем убаюкивал.
Авиатор чувствовал, что штурмовики должны недоуменно поглядывать друг на друга, смотреть в иллюминаторы, но лишь тот, кто сидел в передней части салона с левой стороны, мог увидеть, что произошло.
Левашов стал снижаться и постепенно гасить скорость почти до минимума. Ровно столько надо аэроплану, чтобы еще цепляться крыльями за ветер, а не свалиться камнем вниз.
Второй пилот и Мазуров появились в кабине одновременно. Секунды три они боролись с неподатливой дверью и, лишь навалившись на нее вдвоем, смогли сломить сопротивление ветра и отворить ее.
— Что случилось? — спросил Мазуров, обращаясь скорее не к Левашову, а ко второму пилоту.
В кабину капитан пришел, похоже, для того, чтобы убедиться, что с Левашовым все в порядке, если, конечно, можно было считать удовлетворительным то состояние, в котором пребывал авиатор. Он даже не смог сразу ответить на вопрос, и это сделал за него второй пилот, мельком взглянув на панель приборов:
— Отказал левый внешний двигатель.
Для того чтобы увидеть безжизненный пропеллер двигателя, который иногда делал оборот-другой лишь из-за движения воздушных потоков, Левашову было достаточно повернуть голову градусов на девяносто и немного скосить влево глаза, но у него так застыла шея, что сделать это сразу он не смог. И без резких движений его шейные позвонки трещали, как шарниры выброшенного на свалку заржавевшего механизма.
— Не беспокойтесь, капитан. Мы не упадем. Аэроплан сможет лететь даже при двух работающих двигателях, — наконец оглянувшись, выдохнул Левашов, но долетим ли теперь — вот в чем вопрос. Я на него ответить не могу.
Последнюю фразу пилот не произнес, но по тому, как сощурились его веки, Мазуров все понял и без слов. Он нисколько не сомневался в летных качествах «Ильи Муромца», еще до войны читал засекреченные отчеты Сикорского о его испытаниях. Но чудес не бывает.
Тем временем аэроплан погрузился в слой облаков, который, казалось, начнет сейчас втекать в разбитую кабину. Из-за этого хотелось задержать дыхание, а то неизвестно останется ли в кабине воздух, когда ее затопят облака. Не более чем через минуту пелена рассеялась, и они увидели землю. От открывшегося зрелища могло перехватить дух, если бы они в эти секунды не занялись другими проблемами, а так это событие взволновало их не более, чем полустанок, мелькнувший мимо быстро мчащегося поезда. Полустанок был настолько мал и незначителен, что поезда на нем не останавливались, а у пассажиров, которые не спали, не играли в карты, не ели в ресторане, а смотрели в окна, не хватало времени, чтобы прочитать его название, и он всегда оставался безымянным.
Теперь их не скрывали облака. Аэроплан мог заметить любой, кто потрудится поднять глаза к небесам.
Второй пилот следил за приборами. Более всего его интересовали высотомер и показатель скорости. Когда стрелка приблизилась к отметке шестьдесят километров в час, он сказал:
— Пойду посмотрю, что с двигателем.
— Поосторожней, я смогу еще сбросить только километров пять, — сказал Левашов, — а вы, капитан, успокойте своих людей, а то, не дай бог, начнут волноваться, когда увидят, что пилот бросился вон из летящего аэроплана. Подумают еще, что мы падаем.
— Они скорее примут пилота за сумасшедшего. До земли километра полтора, а у него нет парашюта, — улыбнулся Мазуров.
Второй пилот был уже в салоне. Он шел между штурмовиками, которым оставалось с невозмутимым видом сидеть на лавках, словно это — самое надежное и безопасное место на аэроплане. Пилот пытался сохранить равновесие. Он ступал осторожно, стараясь не отдавить штурмовикам ноги, но те заранее поджимали их, прятали под лавку, чем значительно облегчали пилоту его задачу.
Вокруг пояса пилот обмотал веревку длиной метров пятнадцать семнадцать. Свободный конец веревки он привязал к железной скобе, приваренной к краю лавки. Мазуров приказал двум штурмовикам, сидевшим рядом с дверью, открывавшей дорогу к левому крылу (это были Александровский и Рингартен), внимательно следить за вторым пилотом и, если тот начнет соскальзывать с крыла, немедленно втягивать его обратно.
— Надеюсь, что этого не потребуется, — бросил второй пилот, — я, знаете ли, неплохо ходил по трапеции. На крыльях много стяжек и распорок, за которые можно держаться. Думаю, ваша помощь понадобится, только когда я буду возвращаться. Дам знак. Трижды дерну за веревку. Тогда тяните.
— Сделаем все как надо, — успокоил его Рингартен.
Ветер толкнул его в грудь, да так сильно, что для того, чтобы удержаться на ногах, пришлось обеими руками вцепиться в борт аэроплана. Второй пилот стоял так, зажатый в дверном проеме, наверное, секунд десять, прежде чем разжал пальцы, и тут же, пока ветер не успел нанести новый удар, немного согнулся, выставив вперед левую ногу, как это делает бегун в ожидании старта. Стоило сделать первый шаг, высунуться из аэроплана и оказаться на крыле, как ветер тут же изменил свою тактику. Он уже не хотел загнать второго пилота обратно в салон, а стремился сбросить его на землю.
Ледяные струи стегали по лицу, еще немного, и они сдерут кожу и мышцы, обнажив кости. Невольно он закрыл глаза, несмотря на то, что их и так защищали очки. Второй пилот сделал полшага к краю крыла, покачиваясь, как пьяный, и выбирая наиболее оптимальную позу для того, чтобы противостоять порывам ветра. Он широко расставил ноги, немного согнув их в коленях, и как птица раскинул в стороны руки, а затем двинулся вперед. По этой походке, которая находится уже на уровне рефлексов, моряка можно узнать, даже когда он оказывается на суше, потому что, как только он немного отвлечется и перестанет контролировать себя, его руки самопроизвольно отходят в стороны и начинают балансировать. А все из-за того, что моряк привык не доверять поверхности, на которой стоит.
Крыло трясло и качало, как палубу корабля, попавшего в бурю, хотя Левашов старался вести аэроплан как можно плавнее. Крыло было скользким. Таким бывает деревянный пол, на который вылили несколько ведер воды и погоняли ее тряпкой на швабре… У второго пилота перехватило дыхание, но не из-за страха, а из-за того, что он глотнул слишком много воздуха и захлебнулся. Когда штурмовики увидели, что второй пилот оступился и подошел, как им показалось, слишком близко к краю крыла, они чуть не стали втягивать его обратно, но он вовремя выпрямился.
Открывшаяся панорама поражала. Он ощутил ее краем сознания и периферийным зрением, поскольку все его внимание сосредоточилось на ближайшем двигателе. Это была его первая цель. В эти секунды второй пилот не думал о том, что часть крыла под ним может провалиться, как прогнившие доски старого моста, перекинутого через пропасть. Если бы они летели на высоте сто или двести метров и внизу различались подробности: дома, дороги и деревья, — он, скорее всего, мог испугаться, но аэроплан был слишком высоко, а все, что находилось на земле, казалось крохотными миниатюрами, как в стране лилипутов, и из-за этого такой же крохотной становилась опасность. Если подняться еще выше, она вовсе исчезнет.
Дрожь крыла передавалась ногам. Мышцы начинали слабеть. Второй пилот уцепился руками за распорку между крыльями, повис на ней, навалившись почти всем телом, и немного отдохнул, переводя дыхание. Он и не заметил, что спина покрылась поўтом, стекавшим вдоль позвоночника.
Двигатель был тем местом, возле которого можно было вновь передохнуть. Но второй пилот чувствовал спиной взгляды двух десятков глаз, которые его невольно подталкивали.
Кожух двигателя был теплым, лишь на несколько градусов ниже температуры человеческого тела, но тепло почти не ощущалось через кожу перчаток. Он вибрировал с частотой, во много раз превышающей скорость ударов сердца. Пилоту казалось, что он может даже слышать эти удары, ведь их многократно усиливала пульсация крови, отдающаяся в барабанных перепонках.
Когда пилот миновал двигатель, штурмовики потеряли его из виду. Они осторожно вытравливали веревку, когда она начинала натягиваться.
Он почти уже добрался до неисправного двигателя, когда почувствовал, что поверхность крыла уходит из-под ног. Он не успел даже испугаться, потому что растяжка ударила в спину, точно канат на боксерском ринге, посылая его вперед и чуть в сторону, так что пилоту осталось лишь выставить перед собой руки, чтобы не очень сильно удариться о корпус двигателя. Он отбил ладони и пальцы, опять закрыл глаза и чуть не прикусил язык, да еще у него снова перехватило дыхание, словно он получил-таки удар в солнечное сплетение, который выбил весь воздух из легких. Через полминуты он понял, что починить двигатель в воздухе не сможет. Чтобы смириться с этой мыслью, ему потребовалось несколько секунд, в течение которых он сидел на корточках возле двигателя, держась за него пальцами, чтобы ветер не смел его с крыла. Его охватило примерно такое же чувство, которое охватывает кладоискателя, когда тот, преодолев множество препятствий, добирается до места, где, судя по старой карте, зарыты сокровища, и вдруг понимает, что они уже давным-давно разграблены, а значит, все его лишения напрасны.
Второй пилот никак не мог заставить себя двинуться в обратный путь. Он сидел возле двигателя с закрытыми глазами. Так, лежа в кровати, человек старается удержать последние частички сна, одновременно ясно сознавая, что нужно вставать. Вставать так не хочется, что спящий отправляется умываться мысленно, а потом, когда все же открывает глаза, неожиданно понимает, что по-прежнему находится в кровати под теплым одеялом.
Наконец второй пилот прогнал оцепенение, поднялся и трижды дернул за веревку. Штурмовики тут же дружно навалились на нее, будто участники соревнования по перетягиванию каната. Второму пилоту пришлось даже немного отпрянуть назад, чтобы не потерять равновесие. Штурмовики наверняка втянули бы его обратно в салон, даже если бы по какой-то причине он уже не мог идти. Обратный путь оказался гораздо короче. Со стороны пилот был похож на упирающегося ослика, только морковки перед носом не хватало.
Он был слишком спокоен, когда опять очутился внутри аэроплана.
— Ну что там? — спросил Рингартен.
— Цилиндры. «Фоккер» нас тогда все-таки достал. Исправить нельзя, сказал второй пилот.
За то время, что он находился на крыле, его лицо изменилось, хотя это еще почти не ощущалось. Нет, он вовсе не стал казаться старше, его кожу не избороздили новые морщины, а волосы из-за пережитых испытаний не присыпал иней, просто в его движениях появилось больше уверенности, точно так же разительно меняются новобранцы, которым удается выжить в первом серьезном бою. В его глазах появилась глубина. Теперь это были глаза человека, который ходил по краю бездны, ощущая ледяное дыхание смерти. Он столкнулся со смертью слишком близко и теперь не испытывал перед ней панического страха. Он относился к ней равнодушно, как к чему-то обычному и уже надоевшему.
Второй пилот не замечал, что продрог до костей, его кровообращение уже начинало восстанавливаться. Он затворил за собой дверь, отцепил веревку и бросил ее под лавку. Веревка, как змея, свернулась там кольцами. Потом он двинулся в пилотскую кабину.
Кончики пальцев покалывало. Повернув ручку двери, второй пилот вдруг заметил, что оставил на ней кровавое пятно. Он удивленно посмотрел на ладонь. Кожа местами содралась, и теперь из оттаявших ран начинала сочиться кровь. Боли он пока не испытывал, только легкое жжение, будто он запустил руку в крапиву и теперь на ней должны набухнуть волдыри. Он не нашел ничего лучше, как достать из внутреннего кармана куртки носовой платок и обмотать его вокруг кисти. Предварительно он стер кровь с дверной ручки. Вторая рука была не повреждена. Лишь в запястье что-то ныло, как это бывает у стариков при перемене погоды или магнитных бурях.
— В него попал «Фоккер». Ничего не поделаешь, — второй пилот не стал нагибаться к Левашову, поэтому приходилось напрягать связки, чтобы перекричать вой ветра. Ему это удавалось.
— Понятно.
Левашов мягко дернул на себя один из рычажков на приборной панели. Стрелки приборов, до этого мгновения дрожавшие возле одних и тех же отметок, стали отклоняться вправо. Аэроплан перекосило. Нос у него задрался высоко вверх, словно «Илья Муромец» налетел на волну и теперь поднимается на ее гребень.
Второй пилот прижался спиной к стене. Ни одна из стрелок к тому времени, как аэроплан вновь выправился, так и не дотянулась к той отметке, которую она занимала до повреждения двигателя.
«Илья Муромец» опять летел выше облаков, но теперь они проносились под самым его днищем, а некоторые переливались через крылья. Левашов смог бы поднять аэроплан немного выше, но в этом случае на оставшиеся двигатели пришлась бы слишком большая нагрузка.
— Иди отдохни. Ты понадобишься мне только при посадке, — сказал Левашов.
— Хорошо, — кивнул второй пилот и вышел из пилотской кабины.
Только сейчас на него навалилась усталость, словно он стал весить раза в два больше, чем на самом деле. Ему хотелось сесть на лавку и отдохнуть. Хотя бы десять минут покоя.
А Левашов сжимал в руках штурвал и думал о том, что война скоро закончится. Для аэропланов в воздухе опасность будут представлять только птицы, которые могут попасть в двигатель и испортить его. Чтобы заманить пассажиров на небеса, конструкторам придется поработать над усовершенствованием интерьера салонов, предусмотреть мягкие кресла, которые можно быстро переоборудовать в кровати, позаботиться о кухне, о ванне и еще кое о чем, ведь люди, если они не относились к числу мазохистов, не захотят подвергать себя пыткам, да еще выложив при этом кругленькую сумму. Левашову очень хотелось стать командиром такого аэроплана: огромного, роскошного, как океанский лайнер, которому не будут грозить ни отмели, ни коралловые рифы, ни айсберги, а на ту высоту, где он станет летать, птицам не хватит сил забраться…
Мазуров поймал себя на мысли, что бездумно смотрит в иллюминатор. В этом не было ничего удивительного. Его поразило то, что он опять не видит землю. Слой облаков остался ниже. Мазуров упустил тот момент, когда они его миновали. Он завертел головой, наткнулся взглядом на второго пилота, который сидел на лавке возле входа в кабину, привалившись спиной к борту аэроплана. Его взгляд был уставшим, вялым, устремленным в потолок, но постепенно он менялся, и сквозь утомленность проступала настороженность. Черты лица заострялись, будто кожа стягивалась, плотнее облегая мышцы и прижимая их к костям. Расслабленное тело начинало напрягаться, мышцы сворачивались в тугую пружину, которой надо лишь дать команду, чтобы она мгновенно распрямилась. Но эта метаморфоза происходила довольно медленно. Второй пилот чувствовал приближение опасности, как хищный зверь, которого разбудили ночью инстинкты, но опасность еще далеко, поэтому у него остается несколько секунд для того, чтобы собраться с мыслями и подумать, как ее встретить. Мазуров хотел подсесть к пилоту, но тот встал и скрылся в кабине.
Штурмовик посмотрел на часы. Даже с исправными двигателями они еще не успели бы долететь до авиабазы.
— Боюсь, что вскоре нам предстоит принимать гостей, — сказал Левашов.
Он указал пальцем куда-то влево, но второй пилот даже не посмотрел туда.
— Да, я его видел.
Там на синем небе была нарисована черная клякса. То, что это аэроплан, а не птица, второй пилот понял, как только ее увидел. Аэроплан держался на приличном расстоянии, и определить к какому классу он относится, без оптики было невозможно. Он летел параллельным с «Ильей Муромцем» курсом и, судя по его осмотрительности, был не истребителем, а разведчиком, который заподозрил неладное и теперь хочет выяснить кого он повстречал. Подставлять себя под пулеметы он не хотел. Наконец разведчик удовлетворил свое любопытство. Он не помахал крыльями на прощание. Значит, все понял правильно.
Пилоты проводили его взглядами и смотрели в ту же сторону, наверное, еще секунд пятнадцать после того, как чужой аэроплан затерялся в небесах.
— Приготовься к атаке, — сказал Левашов.
Небо было еще чистым, но он знал, что до появления немецких истребителей остались считаные минуты. Все зависит от того, есть ли на разведчике рация. Левашов уже ничего не мог изменить: даже если он поменяет курс, истребители все равно быстро найдут его. Он добьется лишь одного «Илья Муромец» будет дальше от линии фронта, чем если бы он летел по прежнему маршруту.
На аэроплане было восемь пулеметов: по два на каждом борту, по одному в днище и в потолке, один — в хвостовой части, куда приходилось добираться на специальной тележке, последний — над пилотской кабиной (этот пулемет второй пилот зарезервировал для себя: если он вдруг понадобится Левашову, то всегда сможет прийти ему на выручку). Таким образом, аэроплан мог вести огонь во все стороны. Он походил на ежа, который, свернувшись клубком, выставил наружу острые иголки и ждет, когда кто-нибудь решится на него напасть.
Неопределенность закончилась. Мазуров быстро распределил штурмовиков по огневым точкам. Они смотрели в иллюминаторы, как смотрят в бойницы канониры нагруженного золотом галеона, которые несколькими минутами ранее заметили на горизонте пиратский фрегат и теперь ждут приближения всей армады. Ветер слишком слаб. У него не хватает сил, чтобы наполнить жизнью поникшие паруса, но даже если бы он сделал это, то все равно от погони не уйти, ведь в днище, которое и так оплели водоросли, — течь, а в трюме полно воды.
Если у кого-то еще оставалась надежда, что «Илья Муромец» сумеет избежать воздушного боя, то она исчезла, как только в небе появилось два «Альбатроса», а через несколько секунд к ним добавился третий. Их днища были выкрашены в небесно-голубой цвет, а весь остальной корпус — в зеленый с черными и коричневыми маскировочными пятнами. Они принадлежали к эскадре «Кондор», считавшейся у немцев самой лучшей, из тех, что воевали на Восточном фронте. Двое из ее пилотов, помимо командира эскадры полковника Эрика фон Терпца, были награждены «Голубыми крестами», и по меньшей мере еще у пятерых счет сбитых аэропланов приближался к двадцати. Эскадру перебросили на Восточный фронт меньше месяца назад, после того как ее пилоты изрядно потрепали в воздушных боях французов и англичан. Поговаривали, что, узнав о том, что эту эскадру перевели с Западного фронта, английские и французские пилоты дня три беспробудно пили шампанское от радости. Они могли лишь посочувствовать русским, которым теперь предстояло тягаться с немецкими асами.
«Илья Муромец» падал. Он еще цеплялся за небеса и мог пролететь не один десяток километров, но этого было слишком мало, чтобы добраться до территории, контролируемой русскими войсками. «Альбатросы», пользуясь преимуществом в скорости, обогнали «Илью Муромца». Они элегантно развернулись — один заложил вираж влево, другой вправо — и разошлись веером. Описав небольшие дуги, «Альбатросы» опять соединились в пару и пошли в лобовую атаку. Они летели чуть выше русского аэроплана, попадая в поле обстрела как бортовых пулеметов, так и огневой точки, которая находилась над пилотской кабиной. Но на каждом «Альбатросе» была пулеметная пара.
Мазуров прицелился в аэроплан, летевший слева. Глаза начинали слезиться. Очертания «Альбатроса» казались размытыми, будто он гнал перед собой волну раскаленного воздуха. «Муромца» трясло, из-за этого удерживать немца на мушке было сложно. «Альбатрос» постоянно вываливался из прицела, и чтобы не упустить его окончательно, Мазуров открыл по нему стрельбу, когда пули еще не могли причинить немцу ощутимого ущерба. Нет, у капитана не сдали нервы, его выстрел носил скорее психологический характер. Штурмовик надеялся, что немец если уж не испугается и не отвернет, то хотя бы на некоторое время будет выбит из равновесия, занервничает и пропустит благоприятный для атаки момент. Мечты эти были неосуществимыми.
Немцы ответили одновременно, словно все их пулеметы были синхронизированы. Мазуров увидел, как вспыхнули огни, похожие на открывшиеся глаза безумного зверя, а потом послышался свист пуль, и капитан почувствовал, как «Муромец» содрогается от множества попаданий. Очереди прошили крылья, и лишь одна пуля попала в пилотскую кабину. Она задела боковые стекла, но не выбила их, а оставила маленькую дырку, вокруг которой разбежалась паутина трещин.
Мазуров инстинктивно вжался в стену. Пули пробивали борта аэроплана насквозь, и находиться в салоне стало так же опасно, как и в пилотской кабине. Смерть тянулась к «Илье Муромцу». Капитану хотелось сжаться в комок, спрятаться. Он был открыт, как пехотинец, который идет в полный рост по полю, сжимая в руках оружие, и наблюдает за тем, как к нему, так же не таясь, приближаются три вражеских солдата…
Немцы были уже так близко, что второй пилот смог бы различить лица, но он видел лишь их нижнюю часть: губы, скулы, подбородки, а верхнюю закрывали стальные каски. По форме они напоминали пробковые колониальные шлемы, дополненные очками с пластинкой на носу. «Им бы еще плюмажи из страусиных перьев», — подумал второй пилот, но эта мысль проскочила где-то на краю сознания.
Пулемет взбесился, он вырывался из рук пилота, больно бил его в плечо. Горячие гильзы сыпались под ноги и катались по полу кабины. С каждой минутой гильз становилось все больше. Непонятно, почему ни одна из них еще не попала Левашову за шиворот. Или все-таки попала, а он никак на это не отреагировал?
Второй пилот молил бога, чтобы пулемет не заклинило. Он уже оглох и не услышал, что огневая точка, расположенная на верхней части аэроплана, тоже заработала. Он сильно прикусил губу, вскоре по подбородку потекла кровь и закапала на воротник куртки. Он едва не втянул голову в плечи, когда «Альбатросы» пронеслись над «Ильей Муромцем» так низко, что казалось, они могут коснуться его колесами.
Русский аэроплан был сейчас таким же неповоротливым, как и поезд, прикованный к железнодорожному полотну. Его можно расстреливать как в тире, заранее зная, куда он двинется дальше, спокойно прицелиться, дождаться, когда он сам доползет до мушки и нажать на гашетку. Пули пробили топливные баки, но керосин не воспламенился, а каучуковое покрытие баков затянуло пробоины, так что топлива вытекло совсем немного.
Немецкие пилоты перезарядили свои пулеметы. «Альбатросы» зашли на вторую атаку. Они будут делать это вновь и вновь, пока «Муромец» наконец-то не упадет, или до тех пор, пока русские не собьют все немецкие аэропланы.
Нагревшийся ствол пулемета обжигал второму пилоту ладони, но он этого не замечал, как не заметил и боли, когда одна из пуль ударила его в плечо, а другая оторвала маленький кусочек уха и глухо, недовольно впилась в стенку кабины позади него. Он лишь раздраженно сморщил губы, почувствовав толчок, а потом закричал от радости, увидев, что наконец-то попал. Немец судорожно схватился за грудь, нагнулся к приборной доске. Теперь его не было видно. «Альбатрос», словно получив солнечный удар, разучился ориентироваться в пространстве. Ему нужна была опора, чтобы немного передохнуть. Он нарушил строй, стал заваливаться на правое крыло, подставляя небесно-голубое брюхо. Казалось, что оно такое же мягкое и беззащитное, как брюхо акулы. Нужно лишь увернуться от острых зубов, поднырнуть под нее и ударить ножом. Но у второго пилота уже не хватало угла обстрела, и как он ни выворачивал свой пулемет, пули уходили все дальше и дальше за хвостовым оперением «Альбатроса». Ему оставалось лишь провожать немца взглядом, едва сдерживая слезы. Внезапно в самом центре нижнего крыла «Альбатроса» образовалась пробоина. Она росла на глазах, зазубренные края ее расширялись, точно крыло вскрывали консервным ножом. Штурмовик за бортовым пулеметом «Муромца» расстреливал немца, как на учениях, всадив десяток пуль прямо в яблочко. Не было никакого сомнения в том, что часть из них досталась пилоту, и теперь немец точно был мертв. «Альбатрос» перевернулся, сделал бочку, будто хвастался, что сбил неприятеля, но это было неправдой. Он так и не сумел закончить маневр, сорвавшись в штопор. Через несколько секунд «Альбатрос» стал отмечать свой путь дымным следом, а зрелищем того, как он рассыпался, ударившись о землю, мог насладиться лишь штурмовик за хвостовой огневой точкой.
— Мы сбили его! — шептал второй пилот.
— Что у тебя с головой? — спросил его Левашов, на миг оторвавшись от приборов.
Второй пилот недоуменно посмотрел на Левашова. Потом почувствовав, что по левой щеке стекает что-то липкое и скользкое, он вздернул руку к уху, скривился от боли, поднес окровавленную ладонь к глазам и наконец ответил:
— Зацепило, наверное. Но не сильно.
— Перевяжи.
Второй пилот наскоро обмотал голову бинтом. Он спешил. Руки плохо слушались его. Повязка получилась неаккуратной, со временем она могла сползти на глаза.
— Теперь мы с тобой очень похожи, — пошутил он.
— Точно. Как близнецы, — согласился Левашов.
Среди немецких авиаторов ходили легенды о том, что «Муромцы» обшиты броней, впрочем, они вряд ли сами верили в эти слухи, поскольку ни один двигатель не поднимет бронированного монстра в воздух. Они знали, что у русского бомбардировщика есть всего два уязвимых места: пилотская кабина и двигатели, в остальные сколько ни стреляй — все будет без толку.
Сейчас в салоне русского аэроплана был почти ад, но без огня, лишь воздух наполнился едким дымом, который разъедал глаза, поэтому было трудно рассмотреть, кто из штурмовиков стонет на полу. Не устраивать же специально для этого перекличку.
Второй пилот вновь увидел перед собой красные, налившиеся кровью глаза, от которых протянулась огненные плети, но они прошли далеко в стороне, ударив по крылу и выбив на нем барабанную дробь. Двигатель по правому борту зачихал, захлебнулся, словно проглотил слишком много керосина и уже не мог его переварить. Он сделал последнее отчаянное усилие прокашляться, прочистить горло, но было уже слишком поздно. Двигатель заглох, хотя пропеллер по инерции крутился, наверное, еще с полминуты, а потом среди остановившихся механизмов появились язычки огня. Они выбрались из-под кожуха и, взобравшись на его верх, пробовали дотянуться до верхнего крыла, но ветер пригибал их, и максимум, чего огню пока удавалось добиться, это перерезать растяжки сразу за двигателем. Нижнее крыло после этого заскрипело, затрещало, казалось остальные растяжки, не выдержав лишней нагрузки, лопнут, а крыло отломится от корпуса и рухнет вниз вместе с двумя двигателями, один из которых все еще продолжал исправно работать. Аэроплан стал рывками снижать высоту.
Второй пилот кубарем скатился вниз, едва не упав на спину Левашова. Тот, склонившись над рулем, пытался выровнять аэроплан. Второй пилот, как только выпрямился, хотел уж броситься прочь из кабины, но что-то в позе Левашова показалось ему странным. Авиатор опирался на штурвал, повиснув на нем всем телом, словно искал опору, а иначе свалился бы на пол. Он уже ничего не видел. Его зрачки закатились, а в белках появились красные крапинки от лопнувших кровеносных сосудов. Маленькая дырка на кожаной куртке. Ее края уже пропитались кровью. Левашова ранило в грудь. Он терял сознание. Дыхание с хрипом и клокотанием вперемежку с розовой пеной вырывалось из его горла.
Второй пилот толкнул ногой дверь в салон. Здесь, несмотря ни на что, было куда как прохладнее, чем в машинном отделении паровоза или крейсера. Взгляд авиатора наткнулся на тело, лежавшее на полу. Штурмовик все еще был жив. Его вытянутая вперед рука скребла по дереву, оставляя на нем царапины. Из дыма возникла фигура Мазурова.
— Под лавкой огнетушители! — закричал пилот. — Нужно погасить двигатель. Я не могу: Левашов тяжело ранен.
Мазуров кивнул, показывая, что все понял. Завизжали пулеметы по левому борту «Ильи Муромца». Внезапно аэроплан качнуло. Пилот пошатнулся, и чтобы не потерять равновесие, ему пришлось судорожно схватиться за дверной проем. «Муромец» стал заваливаться на нос, как корабль, получивший большую пробоину, через которую в трюм вливается вода.
Левашов сполз с кресла, опустился на пол, руки его все еще висели на штурвале, но аэроплан уже не слушался пилота. Пол в кабине сделался скользким от крови, да еще он наклонился, и ходить по нему стало так же непросто, как по ледяной горке. Чтобы сделать хотя бы шаг, второму пилоту приходилось держаться то за стены, то за кресло. При очередном толчке, он проехал по полу как по катку и остановился, лишь ударившись грудью о приборную панель. Казалось, что он получил по грудной клетке удар металлической булавой, оставившей после себя глубокую вмятину. Теперь потоки воздуха, попадавшие в горло, цеплялись за какие-то препятствия, как вода в реке, обтекающая заросшие корягами берега. Но если не делать резких движений, боль не очень давала о себе знать. Второй пилот не пристегнулся к креслу, и в этом была его ошибка. Он понял это чуть позже. Все приборы покрывала липкая кисловато пахнущая пленка. Пилот застонал от напряжения, когда попробовал что-то сделать с рулем. Какое там. Элероны и компенсаторы будто заржавели и без смазки не могли повернуться даже на долю градуса.
Тем временем пламя добралось до обшивки верхнего крыла, слизнув ткань и фанеру, прожгло его почти насквозь. Огонь разгорался.
Однажды Мазурову пришлось бежать по крышам вагонов поезда при скорости около ста километров в час, при этом он даже перепрыгивал с вагона на вагон. Страховки у него тогда тоже не было. Но двигаться по крылу летящего аэроплана, который постоянно вздрагивал, как в конвульсиях, было неизмеримо сложнее. Он встал на четвереньки и пополз вперед, одной рукой подтягивая следом баллон огнетушителя. Ветер уносил языки пламени назад, точно причесывал их. Они практически не отклонялись в стороны, так что сбоку к двигателю можно было подобраться довольно близко, не очень рискуя обгореть. Мазуров обнял левой рукой стойку, а правой приподнял огнетушитель и ударил его головкой о крыло. Его руку немного откинуло назад. Баллон чуть не выскользнул из пальцев, а прежде чем пена наконец-то попала на горящий двигатель, она густо с ног до головы обдала Мазурова. Он закашлялся. Пена была липкой, как затхлая болотная тина, но пахла гораздо отвратительнее.
Если раньше земля казалась не более чем искусно сделанной игрушкой, с маленькими домиками, полотном железной дороги, по которой бежит паровоз с вагончиками, то теперь она все больше и больше превращалась в реальность. Приближалась земля немногим медленнее, чем при свободном падении.
Ветер подталкивал Мазурова в спину, раздувая куртку так, словно из нее можно было сделать купол парашюта. При такой болтанке даже люди с хорошим вестибулярным аппаратом могли подцепить морскую болезнь.
Несмотря на внешнее охлаждение двигатель успел нагреться, и когда на него попали хлопья пены, он зашипел. Пена стала забиваться во все щели, но большая ее часть сносилась ветром в сторону.
Мазуров медленно водил пенной струей по кожуху двигателя, выгоняя из него огонь, точно полчища тараканов из щелей комнаты. Кожу на лице и руках жгло, словно он окунул их в слабо концентрированный раствор кислоты. Со стороны капитан напоминал воздушного акробата, который выделывает на крыле разнообразные трюки. Вот только публика была малочисленной — всего-то два немца, несколько штурмовиков и, возможно, жители близлежащих поселений. Но вряд ли они могли рассмотреть человеческую фигурку на крыле. Их привлекало само сражение.
Пламя наконец угасло, утонуло в пене. Кожух двигателя прогорел, закоптился, а некоторые из металлических деталей оплавились. Мазуров сорвал бы массу аплодисментов и мог прилично заработать, если бы все это случилось не над польскими деревнями, а над летным полем в Гатчине или в каком-нибудь из уездных городов. Он бы прославился.
«Альбатросы» были стаей хищников, жестоких, умных и расчетливых. Как только их пилоты поняли, что «Илья Муромец» падает, они с еще большим рвением набросились на него, чтобы побыстрее добить. Они не сомневались, что на этот раз не отпустят бомбардировщик. Он слишком далеко залетел без прикрытия на территорию, контролируемую войсками Центральных государств, и если для того, чтобы он упал, не хватит трех пилотов эскадры «Кондор», в небо поднимутся другие аэропланы.
Почувствовав запах крови, они стали чуть менее осторожными, так стая голодных волков гонит огромного лося через засыпанный снегом лес, уже не обращая внимания на то, что у уставшего животного есть острые рога. Мазуров увидел, как из-под «Ильи Муромца» вынырнул «Альбатрос». Он спускался под небольшим углом к земле, почти планируя. Удар! В следующий миг капитан словно оказался на качелях. Он был на склоне горки, в которую превратилось крыло. «Муромец» стал резко валиться на левый борт. Штурмовик отпустил стойку, помогая себе руками, скатился по крылу прямо в раскрытую дверь и упал в салон аэроплана. Бедром он врезался в скамейку. Нога сразу онемела и в дальнейшем опираться на нее было так же неудобно, как на протез. Промедли капитан немного, и горка могла бы стать слишком крутой, хотя кто скажет, где безопаснее: на крыле или в салоне, наполненном пороховым дымом. Мазуров быстро понял причину крена «Муромца» — у него испортился еще один двигатель, быстро терявший скорость оборотов. Холодный пот прошиб капитана. Он не знал, что теперь делать. Хотелось закрыть глаза. Земля катастрофически надвигалась на аэроплан.
Они летели уже так низко, что почти касались левым крыльями одиноких деревьев. Каким-то чудом второму пилоту удалось чуть выровнять крен, но не до конца, поэтому аэроплан коснулся земли кончиком крыла, которое мгновенно стерлось, рассыпалось, словно по нему провели крупнозернистым шлифовальным станком. Затем нагрузку приняла левая пара колес, через несколько секунд правая, но к этому времени левая стойка уже переломилась, будто по прочности ничем не превосходила спичку. Ее обрубок на всю длину впился в землю, вспахивая борозду. Потом, застряв в земле, сломался и этот обрубок, отлетела правая пара колес вместе со стойкой, а аэроплан заскользил на крыльях, оставляя за собой измочаленные куски обшивки.
Второй пилот выбирал место для посадки, уже теряя сознание. На губах был привкус крови. Стиснутые зубы обнажились. Кожа размазалась по щекам, как при перегрузке. Он только сейчас вспомнил, что надо послать сообщение о катастрофе. Ему очень трудно было разлепить губы, заставить их издать какой-нибудь членораздельный звук.
— База. Как слышите меня? Прием, — и, не дожидаясь ответа: — Нас подбили. Падаем. Наши координаты…
Он раз за разом повторял это сообщение. Голос становился все тише. Но второй пилот не замечал этого. Ему казалось, что он кричит. Его стекленеющие, залитые кровью глаза уже не видели, что рация разбита и не работает. Он был уверен, что его услышат. Перед глазами слоилась мутно-красная пелена, через которую второй пилот с трудом различал землю. В нем что-то сломалось, точно жилы были струнами, которые теперь лопнули.
Когда аэроплан коснулся земли обрубком колесной стойки, его встряхнуло, как корабль, который столкнулся с айсбергом или пропахал днищем отмель. Он резко потерял скорость. Штурвал вырвался из ослабевших пальцев второго пилота. Авиатора выбило из сиденья. Раскрашивая панель приборов кровавой полосой, разрывая одежду, сдирая кожу, он врезался в фанерный щит и остатки лобового стекла, но они его не остановили. Как камень, выпущенный из пращи, второй пилот вылетел из кабины, пролетел метров двадцать, прежде чем ударился о землю, но инерция протащила его еще несколько метров, завертев волчком, как безвольную куклу, в которую он и превратился. А потом пилот замер. Он лежал на спине с широко распахнутыми глазами и смотрел в небо. Жесткая струя ветра хлестнула лицо авиатора, но он уже не чувствовал и этого. С уголков его губ стекали ручейки крови. У него не было ни сил, ни желания смахивать ее. Он просто не мог пошевелить пальцами, потому что его позвоночник был переломан в двух местах.
Красная пелена перед глазами прояснилась. Он, не мигая, смотрел в небеса. Он так любил их и всегда мечтал летать! Он смотрел в небо, а жизнь в его глазах постепенно угасала.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Он ощущал каждый камень, на котором подпрыгивал «Илья Муромец», словно ехал на автомобиле со сломанными рессорами, причем автомобиль неуправляем и несется не разбирая дороги со скоростью… наверное, уже не сто, а пятьдесят километров в час. Вполне достаточно, чтобы разбиться.
Он превратился в китайского болванчика, который упал с высокого шкафа и разлетелся на множество кусочков — таких мелких, что склеить их заново в одно целое мог только очень опытный реставратор. А где же его взять? Да и королевскую рать тоже не сыщешь. Мазурова подбросило немного вверх. Он едва не выпустил из рук ножку лавки, за которую держался. Его вены, сухожилия и мышцы при этом растянулись, затрещали, но потом снова сократились, словно были сделаны из резины, и Мазурова вновь бросило на пол. Он ударился скулой, да так, что чуть не вывихнул челюсть и стер в порошок кончики передних зубов. Главный удар пришелся на грудь, мышцы немного смягчили его, но все равно Мазуров напоминал себе кусок телятины, из которой делают отбивную. Всего лишь раз в жизни он испытывал более сильную боль, когда много лет назад прыгнул с обрыва в море и вошел в воду не вниз головой, а под большим углом. Он чуть не утонул тогда. Хорошо еще, что родители об этом случае так и не узнали, а то они больше не отпускали бы его купаться.
Капитана потащило вперед. Он все-таки расстался с ножкой. Скорее всего, пальцы слишком вспотели и соскользнули с нее. Нет, немного раньше кто-то толкнул его в плечо, какой-то бедняга, который так же, как и Мазуров, потерял опору в жизни. Это оказавшись в бурной реке, лучше отдаться воле потока и сберечь силы на тот случай, когда он ослабеет, станет более спокойным. Именно в этот момент надо попробовать из него выбраться… Мазуров выставил вперед руки. Наверное, это спасло ему жизнь, потому что если бы он ударился о стену пилотской кабины головой, то сломал бы себе шейные позвонки. Его вдавило в стену. Капитан никак не мог повернуть голову, чтобы посмотреть, кто лежит рядом с ним, и лишь слышал хрипловатое, булькающее дыхание.
Никто не делал попыток выбраться из аэроплана до той поры, пока он не остановится. Штурмовики хорошо знали, к чему обычно приводят попытки прыгнуть на полном ходу из вагона поезда. Одними ушибами дело не ограничивается.
Провидение выступало в роли маленького мальчика, который посадил несколько жучков в спичечную коробку, а затем, размышляя над тем, что же с ними будет, стал ее трясти. Штурмовикам оставалось лишь ждать, когда провидению наскучит эта забава. Жаль только, что у них не было хитиновых панцирей.
Мазуров не сразу понял, что аэроплан больше не трясет и вместо шума ломающейся фанеры и деревянного каркаса он слышит стоны своих товарищей. Очевидно, на какое-то время он потерял сознание. Капитан ощупал тело. Оно ныло, как будто по нему старательно прошлись дубинками, тщательно обработав всю поверхность и не забыв ни об одном суставе. На каждое прикосновение тело отзывалось то острой, то тупой болю. Но похоже, что он ни сломал ни одной кости.
Свет вливался в аэроплан через десятки пулевых пробоин. В солнечных лучах, как насекомые в янтаре, увязали пылинки. Ненадолго. Лучи не успевали застыть. Мазуров, постанывая, приподнялся на локтях, потом подтянул колени, но так и не встал из-за того, что взгляд его наткнулся на ручную гранату, которая валялась на полу всего лишь в нескольких сантиметрах от него. Мазурова прошиб пот. Капитан подумал, что боеприпасы штурмовиков могли сдетонировать, а чека гранаты, например, выпасть и тогда аэроплан разнесло бы в клочья вместе со всем экипажем. Они летели на пороховой бочке. Это почище, чем летать на ядре. Он быстрым движением схватил гранату, как ловят надоедливую муху, и запихнул ее в карман.
Штурмовики поднимались, отряхивались с затуманенными взглядами, словно они только что начали отходить от наркоза, а потому не совсем понимают, что происходит вокруг. Спросить-то не у кого. Отсутствующие взгляды были абсолютно на всех лицах. Мазуров не был уверен, стоит ли сейчас ему спрашивать у штурмовиков, все ли с ними в порядке. Прихрамывая и подволакивая ногу, он подошел к двери, толкнул ее рукой, но дверь перекосило, и она никак не хотела открываться. Тогда капитан налег на нее плечом, надавил всем телом, скрипя зубами от напряжения. Во рту скопилась костяная крошка. Когда дверь наконец-то поддалась, Мазуров чуть не выпал из аэроплана следом за ней. Дверь сорвалась с петель. Она гулко ударилась о крыло, а затем свалилась на землю.
Поток свежего воздуха ворвался внутрь аэроплана. Мазуров раньше и не замечал, насколько тяжелым был воздух в салоне.
Штурмовики уже не напоминали отряд зомби. Пятеро вполне могли держаться на ногах, двое других с трудом делали попытки подняться, и при помощи товарищей это у них быстро получилось. Приходил в сознание и Тич вместе с один из своих ассистентов, другой не подавал признаков жизни. Рядом с опустевшими топливными баками без движения лежал Азаров. Мазуров решил осмотреть его, пока остальные выбирались из аэроплана. Теперь это стало очень удобно делать. Крыло лежало на земле. С него не надо теперь прыгать, рискуя поломать ноги, или слезать, теряя время, достаточно сделать всего лишь шаг.
Азаров был безнадежен. Чтобы понять, что он мертв, не нужно было даже щупать пульс. Маленькая точка запекшейся крови диаметром менее сантиметра на его левой щеке сразу все объясняла. Рядом валялась рация. Она превратилась в набор битых стеклянных игрушек. Вряд ли стоило ждать чего-то другого, но, открыв кожух, Мазуров испытал такую же обиду, как и маленький мальчик, который нашел под новогодней елкой подарок, а тот оказался поломан. Теперь они оглохли и онемели.
Когда Мазуров поднялся, тяжелый запах паров керосина ударил ему в ноздри. Он быстро зажал ладонью нос и подбежал к немцу. Тот лежал на животе; чтобы увидеть его лицо, Мазурову пришлось переворачивать тело. Оно еще сохранило тепло, но уже начинало деревенеть, становиться непослушным и почему-то очень тяжелым. Рука ассистента Тича согнулась где-то посередине между локтем и предплечьем, из места сгиба вылезал острый обрубок кости, который порвал кожу и одежду. Следом за собой он вытянул веревки вен. Такие раны не редкость на ипподроме, когда всадник на полном скаку падает с коня и не успевает сгруппироваться. На вид рана была безобразной, но не смертельной, если, конечно вовремя остановить кровь. Она, кстати, уже перестала течь и свернулась в отвратительную шершавую, как кора старого дерева, корку. Еще у немца был проломан череп. Кости треснули и вдавились в мозг. Судя по всему, череп он проломил раньше, чем сломал руку, а значит, сумел избежать страшной боли. В какой-то степени ему даже повезло.
То, что лежало в кабине, вытянувшись между панелью приборов и пилотским креслом, можно было назвать человеком не сразу. Просто у человека не настолько гибкое тело, чтобы принимать такие позы. Абсолютно все было неестественным, начиная от положения повернутой почти на 180 градусов головы и заканчивая вывернутыми ступнями. Мазуров наклонился над телом только для того, чтобы узнать кто это, потому что на лицо трупа как раз падала тень от панели. Глаза Левашова так и не закрылись. Второго пилота нигде не было. Оставалась надежда, что он уже выбрался из аэроплана, а Мазуров в суматохе этого не заметил. Он посмотрел на острые куски лобового стекла, которые торчали из рамы, как зубы акулы. К ним прилипла кровь. Свет вливался через акулью пасть мощным потоком. Мазуров все понял. Дальнейшие объяснения ему были не нужны.
Почти все приборы разбились, словно в кабину забрел последователь луддитов, страстный ненавистник техники и воспользовался тем, что за ним никто не следит. Под ногами хрустели осколки стекла. Они впивались в подошвы ботинок, но прокусить их насквозь не могли.
Итак, они потеряли пилотов и аэроплан, так и не добравшись до авиабазы. По подсчетам Мазурова, до линии фронта оставалось еще не менее ста километров.
Штурмовики оттащили от аэроплана упирающегося профессора и его помощника. Те, видимо, почувствовав, что еще могут спастись, стали вести себя капризно. Они что-то кричали о правах человека и о том, что если штурмовики сдадутся, то профессор замолвит за них словечко и, возможно, с ними не будут обращаться слишком жестоко.
«Альбатрос» пролетел над обломками «Муромца», но стрелять по штурмовикам не стал. Хищник выполнил свою часть работы. Теперь за дело должны взяться падальщики.
Так приятно ощущать себя богом, который с легкостью может лишить человека жизни, а может и оставить ее. Такое случается крайне редко. Русские были у Готфрида как на ладони. Маленькие, беспомощные и беззащитные, как муравьи на асфальтированной дороге. Он в любое мгновение мог прихлопнуть их. Для этого надо было лишь нажать на гашетку пулеметной пары.
Русские были ошарашены, но такое почти всегда случается с людьми, которые только что упали с небес, чудом сохранив жизнь. Они все еще не могли понять, как им повезло и что происходит вокруг них. Пройдет еще минут десять, прежде чем они начнут передвигаться. Сонные мухи.
Что-то в их одежде показалось Готфриду странным, но он не мог понять что именно. «Муромец» возвращался с германской территории, но пилот не слышал, чтобы русские бомбили какой-либо объект. Более того, бомбардировщик летел без прикрытия. Готфрид порылся в памяти, но так и не припомнил подобного случая. Хотя о событиях на Восточном фронте он знал лишь по рассказам авиаторов других эскадр да по газетным статьям. Вряд ли у русских возник недостаток в истребителях. Готфрид знал, что их заводы продолжают безостановочно выпускать эту продукцию. Они наращивали темпы, и последствия этого уже начинали сказываться. Германским асам все чаще приходилось сражаться против численно превосходящего противника.
Готфрид надеялся получить ответы если уж не на все свои вопросы, так хотя бы на часть из них, у самих русских пилотов. Им некуда было бежать. Подлесок, неподалеку от которого они упали, было так же тяжело назвать лесом, как лысину — шевелюрой. Но потом она все-таки начинала обрастать волосами. Километрах в пяти к востоку чахлые заросли переходили в настоящий густой лес, в котором при удаче можно и затеряться. Об этом русские наверняка знали, но у них просто не хватит времени туда добраться.
— База, вызывает «Кондор-6». Как слышите меня? Прием. — Готфрид поднес к губам микрофон, соединенный спиральным жгутом с рацией.
— «Кондор-6», База. Слышим хорошо. Прием, — в наушниках голос перемешивался с треском.
— Мы заклевали его. Записывайте координаты.
— Поздравляю, «Кондор-6». Самокатчики уже в пути. Что с остальными?
— Боюсь, что ими теперь может заинтересоваться только похоронная команда.
— Понял. Их мы тоже вышлем. Возвращайся на базу. Отбой.
Русских оказалось десять. Готфрид пересчитал их только для того, чтобы узнать, сколько бутылок шампанского ему сегодня понадобится. Вечером он намеревался угостить пленников. Его удивило, что экипаж «Муромца» был таким многочисленным. Судя по донесениям разведки, он не должен превышать восьми человек. Но Готфрид уже привык к тому, что сведения, полученные разведчиками, как и информация, которую предоставляют метеорологи, часто оказываются не очень точными.
Они так утюжили кабину и салон, а в результате выходило, что все пули прошли мимо. Хотя, возможно, кто-то из русских все-таки убит. Это означало, что экипаж аэроплана был еще многочисленнее.
Запасы шампанского, которое Готфрид привез из Франции, почти растаяли. «Еще одна такая победа, и угощать пленных будет нечем. Придется выпрашивать у менее удачливых пилотов. Но они вряд ли дадут. Нет, — подумал Готфрид, — сбивать бомбардировщики невыгодно. Истребители или разведчики гораздо практичнее. Количество побед такое же, а шампанского на пленных уходит не в сравнение меньше. Настало время, когда его надо экономить. Неизвестно, пошлют ли когда-нибудь эскадру опять во Францию».
Бомбардировщик походил сейчас на покосившийся, подгнивший во многих местах сарай. Он все же был еще не совсем разрушен. Конечно, восстановлению «Илья Муромец» не подлежал и вновь летать никогда не будет. Но инженеры могли получить здесь массу полезной информации.
Эту победу вряд ли припишут ему одному. К тому же Готфрид сделал не самую основную работу. Ее выполнили Пауль и Гельмут, но им теперь все безразлично. Их аэропланы уже догорели, а огонь оставил от людей только обугленные кости. Какая разница, поставят ли на их могилах обычные деревянные кресты, или возведут монумент, к которому будут приводить детишек и рассказывать им о героях минувшей войны. Готфрид мог приписать всю заслугу себе. Все равно опровергнуть его уже никто не мог. Хотя, зачем пачкаться? До «Голубого креста» далеко, а «Муромца» не засчитают за несколько побед. Но крест за доблесть ему обеспечен. Приятно сознавать, что именно он разрушил миф о том, что «Муромца» невозможно сбить.
Но он слишком долго размышлял, кружась над русскими пилотами. Один из них достал что-то из кармана, повертел в руках, а потом швырнул в аэроплан.
— Черт! — прошептал Готфрид, растягивая гласную.
Не надо было обладать высоким интеллектом, чтобы догадаться, что затем произойдет.
Яркая вспышка расколола «Муромца». Он загорелся весь разом, точно его сделали из сухих досок, пропитанных смолой. Земля вокруг бомбардировщика почернела от нестерпимого жара, воздух накалился, стал зыбким, будто все происходящее было миражом, который сейчас рассеется. Но едкий дым, смерчем поднявшийся к небесам, ехидно подтверждал, что все происходящее, увы, правда. Пропеллер успел почти разметать его, но ветер бросил горсть дыма прямо в лицо Готфрида, забил ему ноздри и гортань, как кляпом.
Как бы самокатчики ни спешили, теперь они найдут только головешки. Готфрид сделал вираж над догорающим аэропланом. Ему показалось, что русские пилоты смеются. Они заслуживали того, чтобы воздать им почести. «Альбатрос» покачал на прощание крыльями и повернул к базе.
Слухи об эксцентричных проделках пилотов эскадры «Кондор» были у всех на устах. Это касалось абсолютно всего, начиная от одежды и заканчивая поведением в общественных местах. Слухи окружали эскадру, поэтому когда «Кондор» прибывал на новое место, то все уже знали, что эти ребята немного не в себе и лучше от них держаться на расстоянии. К эскадре приклеилось несколько прозвищ, среди которых наибольшее распостранение получили «Воздушный цирк» и «Цирк на крыльях», а пилотов эскадры называли либо клоунами, либо даже пугалами. Но дело свое они знали превосходно. Командир эскадры полковник Вернер фон Терпц был для них богом, сошедшим на землю. Но частенько он возвращался на небеса, и в это время остальные могли у него поучиться, как надо летать. Его приказы выполнялись беспрекословно. Приказы остальных можно было принимать к сведению, но вовсе не обязательно им следовать. Связываться с полковником опасались как свои, так и чужие, но и те, и другие его уважали.
Как только разведчик обнаружил «Муромца», он сообщил о его координатах, скорости и направлении движения в эскадру. В небо на перехват было поднято три «Альбатроса» — все, что на тот момент было на аэродроме, потому что остальные пилоты уже выполняли какие-то задания, в том числе и подполковник. Когда он вернется, то будет опечален, что охота прошла стороной. Фон Терпц любил крупную дичь. Новая радиограмма ушла в штаб сухопутных войск. В ней предлагалось выслать самокатчиков на поиски сбитого бомбардировщика и оставшихся в живых русских пилотов. Эту информацию восприняли с некоторой долей сомнения и иронии. «Альбатросы» тогда еще не уничтожили «Муромца», а главное — никому не удавалось сбить этот тяжелый русский бомбардировщик. Но игнорировать сообщение в штабе не стали.
Эти земли вот уже несколько столетий переходили из одних рук в другие и лишь полякам, которые здесь жили, они давно не принадлежали. Как только Россия вступила в Антанту, служба немецкой внешней разведки через свою агентурную сеть стала собирать информацию о том, насколько реально поднять в этих областях восстание, которое могло бы сковать передвижение русских частей и тем самым способствовать успешному наступлению германских войск. О Костюшко здесь давно забыли, а тем более о тех временах, когда Речь Посполитая могла позволить своим солдатам совершать набеги далеко в глубь российского государства. Разжигание сепаратистских настроений имело под собой слишком плохую почву. Чтобы она стала плодородной, ее нужно было удобрять много-много лет. Деньги утекали как в бездонную бочку, образуя существенную брешь в германском бюджете. Чахлые ростки сепаратизма мгновенно выкорчевывались властями, которые либо уничтожали их, либо пересаживали в Сибирь. А там климат был неблагоприятным. Шпионы попадали в лапы русской контрразведки чаще всего в очень плохом состоянии духа и тела. С ними успевали «поговорить» местные жители.
Пока германские солдаты еще не успели разозлить поляков, и у крестьян можно было выменять свежие продукты. Они шли на это охотно, но германские казначейские билеты предпочитали не брать. Крестьяне не привыкли доверять бумагам. Наилучшим способом расположить их к себе были золотые и серебряные марки, или на худой конец, медные деньги.
Два с половиной месяца лейтенант Эрих Хайнц не вылезал из боя. Война перемолола треть дивизии, в которой он служил. Эрих был рад небольшой передышке, когда, после легкого ранения, его отправили в госпиталь, а затем в резервную часть. В ее функцию входило поддержание порядка на оккупированной территории. Он воевал с четырнадцатого года. С самого начала на Восточном фронте, а незадолго до этого служил в Танганьике. Дела там сейчас шли очень плохо. Колония была отрезана от внешнего мира британской эскадрой.
У Эриха изрядно расшатались нервы. Иногда он начинал замечать, что перестает контролировать свои эмоции. Ему дали взвод самокатчиков, сплошь состоящий из недавних призывников. Многие были гораздо старше его. Но он смотрел на них свысока, как это делает моряк, прошедший все моря и океаны и побывавший во множестве битв, память о которых хранит его иссеченное шрамами тело. Иногда Эриху казалось, что он слышит далекие разрывы снарядов тяжелой артиллерии русских. До передовой было всего сто километров. Но для Эриха это был глубокий тыл, словно он находился вдали от войны, где-то в Восточной Пруссии.
Пребывание здесь, особенно после фронта, могло сравниться с курортом или домом отдыха, в котором низкий уровень сервиса компенсировался мягкими порядками. Досаждали только инспекционные наезды из штаба да рейды небольших русских конных отрядов. Они держали в постоянном нервном напряжении большинство германских частей, расположенных за линией фронта. Она все еще была размыта и не приобрела таких четких границ, как на Западе, где десятки километров окопов и траншей изрезали землю, а перед ними находились насаждения колючей проволоки и минные поля.
Русские конные отряды беспрепятственно или почти беспрепятственно просачивались на территорию, занятую германцами, взрывали мосты и железнодорожные пути, нарушали коммуникации, а завидев превосходящего по силам противника, быстро, словно призраки, исчезали. Чтобы определить, где они появятся в следующий раз, нужно было воспользоваться услугами гадальщика. Но где же его найдешь?
Взвод расквартировали в брошенной русскими казарме. Прежде здесь находилась кавалерийская часть. Конюшня была грязной, заваленной остатками сена. Пол скрывал внушительный слой конского навоза. Но после чистки конюшня прекрасно подошла под гараж для мотоциклов. Крыша не протекала, дверь запиралась.
Русские уходили быстро, поэтому не успели забрать с собой всю утварь. В казарме солдаты нашли кружки, котелки, столовые приборы и удобные железные кровати на пружинах. Их было примерно раза в три больше, чем солдат во взводе. Здесь хватило бы места для целой роты. Грузовик они оставляли возле казармы и даже на ночь не снимали с него пулемет, забирая с собой только пулеметные ленты.
Эрих не давал расслабиться ни себе, ни своим подопечным, иначе он их назвать не мог. Подчиненными они станут чуть позже, когда повоюют. Он полагал, что вскоре спокойная жизнь должна закончиться. Она не могла продолжаться долго. А если они обрастут жирком, то превратятся в превосходное пушечное мясо в первом же серьезном бою.
Обычно он вставал в шесть утра, но на этот раз проспал гораздо дольше, и когда открыл глаза, то на часах было уже почти восемь. Тому было вполне уважительная причина. Накануне взвод исколесил не один десяток километров, преследуя русских, но они ушли.
Эрих устал, измотался, у него не было сил не только для того, чтобы принять ванну и смыть грязь с поўтом, но даже для того, чтобы раздеться. Он завалился в кровать, стянув с себя только сапоги, а все остальное, как впоследствии оказалось, снял с него фельдфебель Фетцер. Он был единственной опорой взводного. На первый взгляд, Фетцер производил впечатление человека очень мягкого и добродушного. Возникало ощущение, что только натянувшаяся гимнастерка удерживала его живот, но если оторвутся пуговицы или лопнут трещащие на швах нитки, то на землю посыплются все внутренности фельдфебеля. Он был типичным человеком-аквариумом. Когда Фетцер начинал пить пиво, то превращался в бездонную бочку, куда можно вливать жидкость кружку за кружкой. Скорее бы иссякли запасы в пивной, чем фельдфебель Фетцер справился со своей жаждой. Он очень страдал оттого, что не мог сыскать здесь свои любимые сорта, а вырваться в Германию удавалось очень редко. У него было опухшее лицо с пористой, немного красноватой кожей, на которой постоянно выступала испарина, сколько бы он ни смахивал ее рукавом или платком. Кажется, что Фетцер только что закончил пробежку и именно из-за этого взмок. Гимнастерка на подмышках пропиталась по`том, который высох, оставив только соль. Но гимнастерка опять пропиталась, потом опять высохла. Так повторялось множество раз, и теперь под мышками фельдфебеля были залежи кристаллической соли. Он вполне мог поделиться ее запасами с поваром, если тому нечем будет солить похлебку или кашу. Надо лишь снять гимнастерку и немного ее потереть.
В Бремене Фетцер держал маленькую сапожную мастерскую. Чтобы не терять навыков, он с удовольствие чинил обувь солдатам, которые души в нем не чаяли и готовы были выполнить любую его просьбу.
Когда Эрих этим утром смотрелся в зеркало, намыливая щеки и подбородок, на него взирало немного помятое, слегка осунувшееся лицо. Он остался крайне недоволен этим. Прохладная вода сгладила это ощущение. Со щетиной он расправился быстро.
Утро было свежим, но в воздухе ощущался запах бензина. Пять солдат, которые колдовали над своими мотоциклами во дворе возле конюшни, только что залили горючее в баки, а то после вчерашних мытарств там почти ничего не осталось.
Фельдфебель тоже уже проснулся, а может, он и не ложился спать. Солдаты счищали куски налипшей грязи из-под крыльев мотоциклов, проверяли натяжение спиц на колесах, а если это требовалось, то немного их подтягивали. Часть «подопечных» находились внутри конюшни, за исключением трех солдат, что вели наблюдение за местностью, и еще двух, которые ночью дежурили. Последние — отсыпались.
Солдаты, увидев Эриха, оторвались от работы и задолго до того, как он к ним подошел, встали, вытянув по швам руки, испачканные машинным маслом, бутылочки с которым лежали возле мотоциклов. Солдаты чистили цепи. Мотоциклы Баварских моторных заводов слыли лучшими в мире, самыми надежными и неприхотливыми. Они могли дать фору любому, даже самому резвому скакуну, но только если состязание проходило на ровной местности. На холмистой или пересеченной все их преимущество терялось. Мотоциклисту больше приходилось думать о том, чтобы не упасть, балансировать ногами, выворачивать руль, объезжая мелкие кочки, ямы, рытвины, поваленные стволы деревьев и сломанные, валяющиеся на земле ветки, которые так и хотели забиться между спицами и заклинить колеса. Поэтому русские кавалеристы, которые прекрасно знали эту территорию, постоянно ускользали от самокатчиков.
У Эриха были подробные карты района. Незадолго до начала войны их выкрала из российского военного ведомства разведка. Карты перевели на немецкий, напечатали в типографиях Генштаба сухопутных войск и раздали офицерам, служившим на Восточном фронте.
Солнце поднялось уже высоко. Становилось жарко, хотелось сбросить промокшую от пота одежду и отправиться в душ, натереть тело мылом, а потом подставить его под прохладные струи воды. В глазах солдат Эрих читал примерно такие же мысли. Он приказал им заниматься делом.
Эрих загорел здесь так, будто оказался в африканских колониях. Но этот загар был мягким, ровным и стойким. Он не смоется за несколько дней, а кроме того, в Африке легко превратиться в поджаренного цыпленка. Солнце там обманчиво и жестоко.
Эрих услышал цоканье подбитых металлическими подковками сапог о вымощенную камнем мостовую. Он повернулся на этот звук. К нему бежал радист. В руках у него Эрих увидел листок бумаги, вырванный из блокнота, куда радист обычно записывал сообщения. Он не успел застегнуть гимнастерку, за что вполне мог получить наряд вне очереди, если бы Эрих мог посадить кого-то вместо него за рацию, а так радист позволял себе некоторые вольности, заранее зная, что кроме устного выговора никаких наказаний не последует. Он остановился. Последние несколько шагов солдат сделал четко, точно находился на параде, и протянул Эриху листок бумаги.
— Господин лейтенант, радиограмма из штаба.
— Хорошо, — сказал Эрих, пробегая глазами текст сообщения.
Вначале он сделал это очень быстро, всего за несколько секунд, улавливая общий смысл, затем прочитал чуть медленнее, но зато вникая в каждое слово. Выражение его лица не менялось. Он оторвался от листка, нашел глазами фельдфебеля.
— Тревога, общий сбор. Построй взвод. Всем приготовиться к выезду.
Звуки горна прогнали остатки сонного оцепенения. Солдаты высыпали из конюшни, вытаскивая мотоциклы. Они держались за их ручки, и со стороны казалось, что «подопечные» схватили за рога упрямых баранов и теперь куда-то их тащат, наверное, на скотобойню, а те упираются и никуда идти, конечно, не хотят.
Одно отделение построилось возле грузовика. У ног солдат сидели три поисковых овчарки. От приторного жара их языки вывалились наружу, как широкие ленты серпантина, обмазанные липкой слюной. Они вздрагивали в такт с тяжелым быстрым дыханием собак.
Эрих смотрел на часы. Если кто-то не уложится в положенную по уставу на построение минуту, он после возвращения придумает, как наказать провинившихся. На этот раз таких не нашлось. Взвод построился за сорок семь секунд, что было почти рекордом.
— Пилоты «Кондора» сбили русский бомбардировщик. Он упал в девяти километрах к востоку от нас, — громко сказал Эрих, расхаживая вдоль строя. — Перед нами поставлена задача захватить пилотов. Подчеркиваю, желательно взять русских живыми.
Псевдорыцарские поступки пилотов выводили Эриха из себя. Разве трудно было обстрелять русских, когда они выбирались из аэроплана, так нет, спесивый ас даже и не подумал сделать это, и теперь все дерьмо достанется Эриху и его солдатам. Более того, им предстоит в этом дерьме покопаться и измазаться.
— Средняя скорость передвижения пешего по пересеченной местности составляет четыре километра в час. Радиус поисков будет зависеть от того, насколько быстро мы прибудем на место падения. Хотите вернуться побыстрее поторапливайтесь. Все. По местам.
Солдаты взобрались на сиденья мотоциклов, надели на глаза очки от пыли, обхватили рули, пулеметчики удобно устроились в колясках. Им было куда как комфортнее, чем тем, кто оказался в кузове грузовика. Лавки, то там деревянные.
Взревели двигатели. Задние колеса мотоциклов, как копыта быка, который готовится наброситься на матадора, выбрасывали из-под себя куски земли.
Наконец они сорвались с места.
Мотоциклы поднимали тучи пыли, точно ставили дымовую завесу, но именно она задолго могла предупредить об приближении взвода, да еще шум, который сопровождал их.
Эрих ехал первым. Он не думал, что придется вступать в бой с русскими пилотами. Эта поездка, скорее всего, превратится в непродолжительную прогулку на свежем воздухе. Вот только приятной ее не назовешь.
Его форма была безукоризненно чистой и выглаженной, а сапоги начищены до такого блеска, что на носках можно было попробовать отыскать свое отражение. Через несколько секунд езды они запылились. Эрих был высоким, стройным, но не худощавым, а подтянутым. Коротко подстриженные белокурые волосы сейчас закрывала каска, а очки оберегали от пыли глаза. Открытое приветливое лицо, с которого можно рисовать портрет классического защитника отечества, а потом тиражировать Эриха на тысячах патриотических плакатов, которыми были обклеены улицы во всех германских городах. Он не мог похвастаться хорошей родословной. Приставка «фон», которую носило большинство его сокурсников — выходцев из потомственных семей военных, просто сводила его с ума, послужив причиной возникновения ряда комплексов, от некоторых из них он так и не избавился.
Мотоциклы делали на основе гоночной модели, немного адаптированной к трудным дорожным условиям, в которых их предполагалось эксплуатировать. Для этого усилили рамы, наварив на них еще несколько труб, колеса сделали чуть шире, соответственно расширились покрышки и передние вилки. Мотоциклы стали менее элегантными, но это с лихвой компенсировалось увеличившейся проходимостью. Зато цифры на спидометре, обозначавшие скорость, которую теоретически могли развивать эти мотоциклы, остались от базовой модели и теперь казались издевательством, потому что обычно стрелки спидометра нервно вздрагивали где-то посередине, да и то при этом риск не справиться с управлением и вылететь из седла оставался велик.
Эрих в очередной раз проклинал русские дороги. Даже те, которые находились всего лишь в нескольких километрах от границ Германии, представляли собой две неглубокие колеи, выдолбленные в земле колесами крестьянских телег. Двигаться по ним — все равно, что ехать на вагонетке по рельсам. Но передвижение по железной дороге практически не зависит от прихоти погоды, если только снег не слишком заметает рельсы, а эта «дорога» в сезон дождей раскисала, и колеи доверху заполнялись водой. Тогда она становилась такой же непроходимой, как подходы к вражеским укреплениям. Каждый метр пути будет даваться с неимоверным трудом, слава Богу, что до сезона дождей осталось еще месяца полтора. Эрих с ужасом думал, что за это время германская армия может продвинуться еще дальше в глубь Российской империи. Он подозревал, что чем дальше она будет забираться, тем хуже и хуже будут становиться дороги. Если какая-нибудь крестьянская телега застрянет здесь, то мотоциклы с грехом пополам смогут ее объехать, но грузовик встанет. Он не выберется из колеи. Его придется выталкивать, подкладывая под колеса доски, которые грохотали на полу кузова, под ногами солдат.
Собаки поскуливали. Им не нравилась тряска. Они хотели лечь на пол кузова, но доски им мешали, и собакам приходилось постоянно поджимать лапы и следить, чтобы их не прищемили. Солдаты легонько похлопывали собак по головам, стараясь успокоить.
Отряд проскочил деревню, попавшуюся по дороге, так быстро, что если кто-то их и видел, то не понял, что происходит. Большинство крестьян работали сейчас в поле. Возле калиток на лавках лениво сидели старики. Они спали, а когда открывали глаза, то отряд уже уносился прочь, оставляя после себя клубы встревоженной пыли. Когда старики начинали медленно поворачивать головы, чтобы попробовать хоть что-то понять, они видели лишь уносящийся вдаль шлейф, словно по деревне пронесся смерч, но никого не тронул. Старики еще долго будут обсуждать эту невидаль. Минут двадцать, пока их не сморит усталость и они вновь не заснут. Из-под колес в страхе разбегались куры. Пугал их не вид мотоциклов, потому что они не знали, что это за зверь, а рев моторов.
Эрих спешил. Он хотел отрезать русских от леса. Если они успеют до него добраться, их шансы на спасение нисколько не увеличатся, но найти их будет труднее. Это займет гораздо больше времени. Он не станет рисковать своим людьми напрасно. Если пилотов будет трудно взять живыми, он просто прикажет их убить.
Деревня сменилась садами, обступившими дорогу плотной, без просветов стеной. Пыли здесь почти не было. Солдаты могли хоть немного отдохнуть от нее. С деревьев свисали начинающие наливаться цветом, еще неспелые яблоки. Но вряд ли кто-нибудь получит расстройство желудка, если захочет ими полакомиться. Впрочем, все зависит от количества съеденных яблок и неприхотливости желудка. Эрих отметил, что сады — неплохое место, чтобы организовать здесь засаду. Он почувствовал себя немного спокойнее, когда стена деревьев постепенно стала редеть, а потом и вовсе осталась позади.
Примерно через километр Эрих приказал отряду свернуть с дороги. К счастью, колеи становились все менее глубокими. Колеса грузовика почти беспрепятственно выбрались из них. Ну, может, немного встряхнуло тех, кто сидел в кузове, хотя амортизаторы сильно смягчили этот удар.
Неподалеку паслось стадо коров, настолько равнодушных ко всему происходящему, что они даже не повернули головы в сторону отряда. Пастух мельком взглянул на мотоциклистов, а потом продолжил отгонять от своего лица мух. Лишь его собака пробежала метров сто по направлению к отряду, но затем остановилась. Не то она поняла, что не сумеет соперничать с солдатами в скорости, не то просто сообразила, что мотоциклы не были хищниками, которые могут напасть на коров, а значит, не стоит тратить силы. Собака устала. Ее бока вздымались и опадали, а язык вывалился из пасти и повис вздрагивающей тряпочкой.
Их обступали невысокие холмы. Они использовались главным образом для выращивания кормовых трав. Эта страна была слишком расточительной из-за своих необъятных просторов. Арабы пробовали выращивать пшеницу на таких землях, увидев которые, местные жители пришли бы в ужас.
Над одним из холмов почти по его центру поднимался столб дыма, точно курился вулкан, готовящийся выплеснуть поток лавы. Дым пачкал облака, проносившиеся над ним, как трубочист, решивший вытереть испачканные сажей руки о только что выстиранные и еще пахнущие ветром полотенца. Ветер сносил облака в сторону. Казалось, что именно из-за этого дым начинает рассеиваться, но он еще долго будет служить прекрасным ориентиром, по которому без всяких координат можно определить, где упал русский аэроплан.
Эрих скосил глаза влево, посмотрел на часы. Рука дрожала. На часы постоянно наезжал то кусок краги, то рукав куртки. Он получил сведения о падении «Муромца» всего двенадцать минут назад. За это время русские пилоты могли пройти не более километра, и это в том случае, если у них нет раненых, которые значительно замедляют скорость передвижения. Они наверняка пошли к лесу. Только там можно спрятаться. Это лучше, чем сидеть возле горящего аэроплана и ждать.
Грузовик поднимался на холм с натугой, как астматик, ползущий по лестнице с одышкой и желанием остановиться и передохнуть. Не дай бог, двигатель у него заглохнет. Тогда грузовик придется бросить, а солдатам спешиться.
Когда мотоциклисты добрались до вершины холма, им открылся потрясающий вид. Он охватывал несколько километров пространства, включая и клочки леса, и обломки аэроплана, и цепочку бегущих к лесу русских.
Эрих поднес к глазам бинокль, болтавшийся у него на груди на кожаных ремнях, и быстро отрегулировал фокусировку.
Русские бежали, будто под ними горела земля или смерть дышала им в спины, подгоняя их.
— Проклятье, — прошипел Эрих сквозь зубы.
Обычно у пилотов аэропланов были на вооружении только пистолеты. На это раз у русских оказались автоматы. Откуда они их взяли — непонятно. Эриху было обидно сознавать, что он немного не успел. Окажись взвод здесь несколькими минутами раньше, и русские стали бы не более опасны, чем зайцы, которых охотники, забавляясь, гонят по полю. Но теперь…
— Огонь! — закричал Эрих, останавливая мотоцикл, чтобы он не трясся на ухабах и пулеметчик смог прицелиться.
Он знал, что все пули пройдут мимо. Но всегда так трудно расставаться с надеждой, что цепляешься за любую ниточку. Пусть она обязательно оборвется, но это случится лишь через несколько секунд, а за это время, бог его знает, что еще может произойти. Может, небеса рухнут на землю.
Пули легли с недолетом. Эрих видел, как они взрыхляли землю. Когда пулеметчик стал корректировать прицел, русские исчезли в лесу. Деревья сомкнулись за ними, как ворота крепости.
Мотоциклы помчались к тому месту, где скрылись русские. Самокатчики выстроились напротив зарослей и дали длинную тугую очередь из пулеметов. За деревьями они уже не видели русских и стреляли наугад. Пользы от такой стрельбы было мало. Они вряд ли смогут даже напугать русских. Напротив, это лишь подстегнет их побыстрее убраться отсюда. Все пули достанутся деревьям, завязнут в их стволах, пробившись в глубь леса не более чем на двадцать тридцать метров. Они собьют листья с кустов, оборвут кору, размочалят стволы до щепок, а какие-то молодые деревья и вовсе повалят. Всех зверей уже распугали русские, а если какие-нибудь из них, прячась, затаились в зарослях, то теперь они бросятся бежать куда глаза глядят. Им еще долго будут мерещиться эти выстрелы.
Мотоциклисты стреляли для успокоения собственной совести. Она успокоилась через десять секунд. Германской промышленности это лечение обошлось в какие-то триста патронов.
Грузовик остановился. Из него посыпались солдаты. Они прыгали на землю, отряхивались, поправляли амуницию, а затем бросались в лес, двигаясь наперерез пилотам. Возможно, кто-то из русских останется для прикрытия основного отряда.
Собаки лаяли, рвались с поводков. Они были прекрасной тягловой силой и могли увлечь за собой даже мертвого. Их гнали вперед азарт и кровь диких предков. Солдаты рассредоточились так, чтобы не пропустить следы русских. Но не очень широко. Каждый в линии видел не только своего соседа, но и еще по одному солдату, которые шли по бокам. Это исключало вероятность того, что русские смогут прорваться сквозь цепь, незаметно уничтожив часть ее сегментов.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Первым повернул голову назад Рингартен. Он застыл, точно впал в мистический транс. Штурмовики, которые шли следом за Игорем, едва не столкнувшись с Рингартеном, обошли его стороной, словно это была статуя. Он даже не заметил их, да, наверное, и не почувствовал бы, если бы кто-то его толкнул. По телу Игоря прошла судорога. Казалось, оно было заключено в тонкую прозрачную оболочку, которая мешает штурмовику двигаться, но судорога порвала ее.
— Что случилось? — спросил Мазуров.
— Немцы, — прошептал Рингартен, — они скоро будут вон там.
Его рука поднялась, вытянутый палец указал на холм, но прошло еще секунд двадцать, прежде чем там стали возникать человеческие фигуры. Вначале головы в касках, потом плечи, тела, руки, ноги. Они словно вырастали из-под земли или холм был волнами океана, которые, когда-то поглотив солдат, теперь отпускали их. Жаль, что штурмовики не стали ждать этого эффектного зрелища.
Они рванулись вперед все разом. Бросить оружие и поднять вверх руки после всего, что они пережили, было невозможно. В крови опять стало слишком много адреналина. Последний рывок измотал их. Впору падать на колени, смотреть в небеса и молиться, чтобы они ниспослали чудо. Звук стрельбы гасили деревья. Штурмовикам на плечи упал еще один груз, но они его выдержали. Только плечи их ссутулились.
— Пригнитесь, профессор, — сказал Мазуров. — Вы же не хотите погибнуть от германской пули.
Это было преувеличением. Эхо разносило звуки выстрелов, но сами пули до отряда не долетали. Стрельба, напротив, пошла им на пользу. Теперь они могли ломиться сквозь заросли, как стадо лосей, совершенно не заботясь о том, чтобы делать это тихо.
— Я никуда не пойду, — застонал Тич.
— Профессор, жизнь так прекрасна. Вы же не хотите умереть от русской пули.
Мазуров навел дуло автомата на Тича, а палец положил на курок. Этот жест сумел убедить профессора, что лучше подчиниться, и он с неохотой двинулся дальше. Тич только хотел казаться капризным. Это в определенной ситуации могло принести выгоду, но на самом деле он был расчетливым и разумным. Тич не смог обмануть Мазурова, впрочем, он и не старался, давно позабыв азы театрального искусства, которому обучался еще в университете, играя на подмостках студенческой студии. Тогда Тич был популярен. Зрители ходили посмотреть на его игру, и небольшой зал театра оказывался почти всегда забитым. Это ему льстило.
Как только утихли выстрелы, штурмовики услышали лай собак. Листва глушила его, впитывала, как губка, но с каждой минутой он становился все отчетливее — так накатывается ураган, пока еще невидимый, но неотвратимый. От него не убежать, потому что он движется слишком быстро. Нет смысла тягаться с ним в скорости. Да и сил на это уже нет.
— Я останусь, — сказал Рингартен Мазурову.
Он хитро сощурил глаза, будто ему стало больно смотреть на этот мир так много в нем света, хорошо еще, что он терялся в лесных сумерках и доползал до штурмовиков сильно ослабленным, почти издыхающим.
— Попытаюсь продемонстрировать им, что означает термин «мобильная оборона», — и опять Игорь не договорил, беззвучно ответив Мазурову, что справится один, вернее сказать, постарается задержать немцев в одиночку.
— Счастливо тебе.
Мазуров отстегнул от пояса две ручные гранаты, достал из ранца запасную обойму для автомата и передал все это Рингартену, взамен забрав пачку документов, которые штурмовик тащил в своем ранце.
Рингартен растворился в зарослях, как невидимка или дух леса, которого разгневали непрошеные гости, а наказание за это предусмотрено только одно.
Вскоре показались немцы. Затянувшийся финал начинал их раздражать. Страх у них еще не родился, но беспокойство уже начинало перерастать в неуверенность. Особенно это чувствовалось в тех солдатах, у которых не было собак. Они озирались по сторонам, причем поворачивали головы гораздо сильнее, чем того требовал сектор обзора, порученный каждому из них, будто они уже не доверяли соседу, который мог пропустить что-то важное.
Стволы ружей они направляли вперед параллельно земле. Но пальцы лежали не на курках, а рядом — на прикладах. Солдаты боялись, что кто-нибудь, оступившись, может выстрелить и наделать лишнего переполоха. И без того нервы натянуты в звенящую от малейшего прикосновения струну. Лес был для немцев чужим.
Им хотелось, чтобы враг из категории чего-то абстрактного вновь стал реальностью, приобрел лицо и тело. От неопределенности они уставали больше, чем от физических нагрузок.
Рингартен сразу понял, что этим солдатам уже приходилось, вытянувшись цепью, выискивать затаившегося неприятеля. Они брели с немного обреченным видом. Их было даже отчасти жалко.
Рингартен затаился в кустах, присев на корточки, похожий на зайца, который увидел хищника и теперь застыл в ужасе, боясь даже пошевелиться. Он сливался с растительностью. Вот только маскировочная краска на лице почти стерлась. Это могло его выдать. Но человеческий глаз обычно не улавливает таких тонкостей, в первую очередь реагируя на движение. Шевелящиеся ветки это очень достойный объект для пули. Рингартену нужно было немного подождать, как рыбаку, который закинул удочку с вкусной наживкой и теперь точно знает, что рыба рано или поздно клюнет. Надо лишь набраться выдержки и не упустить того момента, когда рыба уже заглотила крючок, но еще не успела стянуть с него приманку. Тогда надо подсекать. И главное — надо сидеть тихо.
Он выбрал крайнего в цепочке немца. К счастью тот оказался без собаки, которая могла бы почуять штурмовика. То, что цепочку на флангах не прикрывали собаки, было ошибкой, смертельной не для всего отряда, а всего лишь для одного из солдат. Он миновал кусты, за которыми прятался Рингартен, ни на секунду не замедлив шаг. Наверное, только человек, проведший долгое время в лесу, мог почувствовать опасность. Штурмовик затаил дыхание, проводил немца взглядом, а потом… Он действовал молниеносно. Моряки в старых, залитых пивом и вином тавернах рассказывают о страшных чудовищах, которые всего лишь на миг показавшись из воды, проглатывают лодки с людьми, а потом стремительно исчезают в океанской пучине, и только пенящиеся круги, расходящиеся по воде, обозначают место, где они появились. Так рождаются легенды, в которые никто не верит, но их интересно слушать.
Рингартен ударил немца ножом под левую лопатку. Лезвие было длинным и тонким. Штурмовик знал, что оно насквозь пронзит сердце. Одновременно он зажал ладонью рот немца. Тело содрогнулось в конвульсиях. Оно не хотело расставаться с жизнью, но нож перерезал нить, на которой держалась душа, и Рингартену показалось, что он почувствовал, как она уходит из тела. Все произошло настолько быстро, что немец не попытался даже издать хотя бы стон.
Солдату было лет двадцать пять. Его лицо отпечаталось в памяти Рингартена, как фотография в семейном альбоме, и он знал, что спустя не один десяток лет сумеет вспомнить его, открыв нужную страницу в толстой-толстой книге памяти. Если задуматься над тем, сколько фотографий в ней хранится, то можно навсегда потерять покой, поэтому Рингартен старался задвинуть их в какой-нибудь отдаленный уголок памяти и забыть о нем, но как же это сделаешь, если постоянно приходиться вклеивать новые фотографии?
В этом был элемент нечестной борьбы. Игорь напоминал себе борца, который обращается к публике, пришедшей в цирк, предлагая любому желающему помериться с ним силами. Силачи, с легкостью разгибающие железные подковы и скручивающие узлом толстые гвозди, под бурные аплодисменты выходят на арену, и вдруг оказывается, что они ничего не могут сделать с этим щуплым, на первый взгляд слабым борцом. Просто он в совершенстве знает массу приемов. Легко, немного вызывающе он уходит из-под ударов. Огромные руки проскакивают мимо. Противники могут выдавить из него всю кровь, но вот только никак не могут его поймать. И в конце концов силачи, эти горы мускулов, оказываются на лопатках. Они лежат на арене, хлопают веками, уставившись глазами в потолок, и никак не могут понять, как же все это произошло. Никто не может этого понять. Все случилось слишком быстро. Затем они застенчиво уходят с арены. Зрители сочувствуют им и не улюлюкают вслед. Но теперь у силачей уже нет той спеси и той уверенности в своей непобедимости, которая была раньше. Впрочем, они не рискуют жизнью. А в той игре, которую сейчас затеял Рингартен, проигравшего ждала судьба поверженного гладиатора, валяющегося на песке арены. Он истекает кровью, но зрителям не понравилось, как он сражался, и поэтому они указывают пальцами вниз, требуя его добить. Победивший вынужден это сделать.
Рингартен положил еще мягкое и податливое, как у куклы, тело на землю, вытер о гимнастерку немца нож. Он вытащил гранату, воткнул ее вертикально в землю вверх ручкой, а к чеке привязал металлическую проволоку длинной метра три. Игорь протянул ее в нескольких сантиметрах над землей и намотал вокруг ствола дерева. Проволока была настолько тонкой, что ее мог увидеть лишь тот, кто обладал превосходным зрением, да и то лишь в том случае, если бы он знал, что и где надо искать. Штурмовик потерял ее из вида, как только отполз от гранаты на несколько метров. Это будет очень неприятный сюрприз — такой же неприятный, как ядовитая змея, спящая в золотом кувшине посреди сказочных богатств. Что делать, поиски сокровищ очень опасное занятие.
Прошло еще с полминуты, прежде чем немец, который стал теперь крайним в цепочке, заметил, что его сосед исчез. К этому времени Рингартен был уже далеко в стороне от преследователей. Он улыбался. Ему нравилась эта игра. Она полностью поглощала его внимание, давая возможность о многом забыть.
Немец окликнул товарища. Он не понимал, куда тот мог подеваться. Ну в самом деле, не могла же под ним разверзнуться земная твердь. В его сторону сразу же посмотрели все, кто услышал этот тревожный крик. Немец пошел назад и немного в сторону, а потом остановился. На его лице наконец-то появился страх. Дрожащие пальцы нащупали курок винтовки. Это придало ему уверенности, но до конца справиться со страхом солдат так и не сумел.
Немец нерешительно сделал еще один шаг, осторожный, точно увидел зверя и теперь резкими движениями боялся его спугнуть, а расстояние еще слишком велико для того, чтобы стрелять. Следующий шаг был уже гораздо увереннее. Очевидно из-за того, что сзади приближались товарищи. Немец не видел их, но зато слышал их шаги.
— Что произошло? — спросил Эрих.
Солдат оглянулся и по инерции сделал еще один шаг. Он хотел остановиться, чтобы сообщить офицеру о своих подозрениях, но подцепил носком сапога тонкую проволочку. Он почувствовал ее. Где-то на краю сознания промелькнула мысль о том, что нога за что-то зацепилась, надо бы проверить, что это, но его взгляд еще не добрался до земли, когда чека, щелкнув выскочила из гранаты. Проволочка опала. Теперь, чтобы увидеть ее, нужно было нагнуться к самой земле, пошарить по ней руками, нащупать проволочку и поднести ее к глазам.
Вспышка света ослепила солдата. Осколки гранаты, разлетающиеся во все стороны, забарабанили по его груди, разрывая в клочья гимнастерку, а голову они превратили в кровавое месиво. Взрывная волна отбросила уже мертвое тело на офицера, сбив его с ног. Кто-то закричал от боли. Заскулила собака, как будто ей отдавили лапу или наступили на хвост и теперь она жалуется хозяину на обидчика. Но хозяин почему-то не хочет ей помогать, и собака продолжает скулить, для того чтобы он хотя бы пожалел ее.
Немцы попаўдали на землю, как подкошенные, уткнувшись лицами в траву, зажимая головы руками и слушая неприятный свист осколков, которые проносились где-то совсем рядом. Нашпиговав землю, они наконец-то угомонились, но солдаты еще несколько секунд лежали не двигаясь, прислушиваясь к тишине, будто она могла в любое мгновение вновь расколоться, особенно если они попробуют встать.
От гула в ушах могли лопнуть барабанные перепонки, словно немцы оказались внутри подвешенного колокола, а кто-то ударил по нему молотком. Сквозь это гудение с трудом пробивался громкий лай собак, рвущихся с поводков. Но это происходило только с теми, кто оказался слишком близко от места взрыва. Остальные быстро пришли в себя, спрятались за деревьями. Они ощетинились ружьями, водили ими из стороны в сторону, как пожарным шлангом, но беда заключалась в том, что ситуация нисколько не прояснялась. Солдаты не видели никакого движения, а взрыв произошел так, словно они забрели на минное поле.
Эрих с ног до головы заляпался кровью. Ему показалось вначале, что он ранен. Он боялся пошевелиться, потому что тогда кровь могла с новой силой политься из ран, а потом лейтенант неожиданно понял, что не чувствует боли. Только ныли ушибы и чесались ноздри от забравшейся в нос пороховой гари.
Кровь пропитала его гимнастерку. Она прилипла к телу, еще немного — и она так к нему присохнет, что отдирать ее придется с такой же болью, как старые бинты, намотанные на рану. Нужно будет залезть в ванну в одежде и ждать, пока она отмокнет.
Солдат упал на него спиной. Его тело давило на грудь, сильно мешая дышать. Каска с солдата слетела. Эрих видел лишь его затылок с копной склеившихся клочками волос. Кисловатый запах подсыхающей крови вызывал тошноту.
Отпихнув труп, Эрих приподнялся. Когда он смог вдохнуть полной грудью, в легких закололо, будто он проглотил горсть сосновых иголок. Лейтенант поднялся, немного балансируя руками, потому что голова кружилась, как от недоедания, перед глазами плыла легкая пелена. Мутило, как при несильной качке, а в ушах стоял звон. Его чуть не вырвало, когда он увидел лицо солдата, который спас ему жизнь. Желудок Эриха конвульсивно содрогнулся, к горлу подступила тошнота, но он быстро отвел взгляд.
Метрах в пяти, прислонившись спиной к дереву, сидел фельдфебель. Его правая брючина чуть повыше колена была разорвана. Фельдфебель старательно бинтовал ногу, но слой бинта был еще невелик, и поэтому на белом проступали пятна крови. Фельдфебель почувствовал взгляд Эриха, оторвался от своего занятия и посмотрел на офицера.
— У меня все в порядке, командир, — сказал он.
В его глазах остался осадок пережитой боли, но он уже почти исчез. Под кустами Эрих увидел мертвое тело второго солдата. «Они за все заплатят. Обойдемся без пленных. Пилоты сэкономят шампанское», — подумал Эрих.
— У нас еще двое ранены, — опять заговорил фельдфебель, — но идти смогут.
— Возвращайтесь к мотоциклам, — Эрих стыдился вызывать подкрепление и хотел еще обойтись собственными силами, — мы пойдем добьем эту дрянь.
— Есть, господин лейтенант.
Казалось, что бой уже закончился и надо подсчитывать потери и собирать трофеи. Но в том-то и дело, что он еще даже не начинался, а взвод уже потерял двух человек, причем Эрих по-прежнему мог лишь догадываться, где находятся русские, и абсолютно не знал, что они могут для него приготовить, а судя по началу воображение у них богатое.
Эрих знаками приказал солдатам снова построиться цепочкой. Теперь они перемещались очень осторожно и, прежде чем сделать очередной шаг, смотрели себе под ноги — нет ли там натянутой проволоки. Вероятность этого была уже невелика. Каждая секунда промедления позволяла русским уходить все дальше. Эрих начал было объяснять это фельдфебелю, но его слова заглушила стрельба. Выстрелы раздавались позади цепочки — оттуда, где находились оставленные ими мотоциклы и грузовик. Это был дружный и довольно мощный ружейный залп русских винтовок.
«Они не могли обойти нас», — прислушиваясь, подумал Эрих.
На лицах солдат он прочитал замешательство. Лейтенант и сам не знал, что там происходит, но если сейчас солдаты увидят его нерешительность, хотя бы тень этой нерешительности, им станет совсем не по себе. И без того им было слишком плохо в этом лесу, словно они оказались в незнакомой стране, где на каждом шагу чужеземца поджидает смерть. Ни один мускул его лица не должен выдать сомнений. В голове пронеслись строчки какой-то песни. Они немного взбодрили его. Он хотел произнести их вслух, но ограничился репликой:
— Быстро. Возвращаемся.
Солдаты развернулись, побежали назад под аккомпанемент пулемета, но он вскоре замолчал, а потом начали ухать взрывы. Эрих боялся даже представить то, что там происходило. Они не разбирали дороги. Ветки хлестали их по лицам, оставляя на коже покрасневшие рубцы, а солдаты уже не делали попыток увернуться от них или хотя бы закрыть лицо рукой.
Время от времени профессора приходилось подбадривать легким толчком в спину. Отряд напоминал неудачливых работорговцев, которые захватили во время набега на поселение всего лишь двух пленников. Издержек на поход они, конечно, не окупят, но приходится стараться из всех сил, потому что появились конкуренты, которые хотят отнять у них и эту бедную добычу. Услышав стрельбу, штурмовики замерли в недоумении.
Рандулич не спал больше суток. Его мозг уже плохо воспринимал сообщения. Веки слипались, глаза покраснели, как у вампира. Голова превратилась в аквариум, наполненный какой-то жидкостью, в которой плавал мозг. При каждом движении мозг касался стенок аквариума. Это отдавалось пульсирующей болью в висках. Генерал осунулся, но даже если бы он отправился спать, все равно ничего бы не получилось. Он мог бесконечно долго лежать в кровати с закрытыми глазами, сон все равно не пришел бы к нему, так сильно было нервное напряжение. Когда-то он отказался от табака. Сейчас ему очень хотелось курить, но не для того, чтобы успокоить нервы, а чтобы убить хоть несколько минут. Рандулич с трудом подавлял это желание, зато не отказывал себе в кофе и уже потерял счет чашкам, которые выпил за последние сутки. Сердце глухо колотилось и уже начинало давать сбои. В желудке скопилась кислота. Она впиталась в его стенки, и теперь Рандулич думал, что он сможет переварить любую еду. На робкие попытки адъютанта убедить его, что нет смысла так пренебрежительно относиться к своему здоровью, генерал либо отмахивался, либо говорил фразы наподобие: «После войны отдохнем». Через некоторое время адъютант понял всю тщетность своих просьб и, смирившись, приносил все новые и новые чашки кофе. Надеясь, что Рандулич этого не заметит, он старался делать кофе не очень крепким.
Звонил светлейший князь, но пока генерал ничем его не мог порадовать или огорчить, а князь, видимо, догадавшись по голосу Рандулича, в каком тот находиться состоянии, не стал затевать разговор, ограничившись лишь несколькими подбадривающими репликами.
Время от времени генерал бросал взгляд на маятниковые часы, висевшие на стене. Их стрелки еще не добрались до той отметки, когда, судя по расчетам, у аэроплана должно закончиться горючее. Рандулич вслушивался в качание маятника. Вначале оно успокаивало его, затем стало раздражать, и, чтобы выпустить напряжение, он был готов уже чем-нибудь запустить в часы, как будто, остановив их, сумеет остановить время. Руки Рандулича зашарили по столу, но нащупали лишь пустую чашку, на донышке которой подсыхала кофейная гуща. Кофейный аромат, как это ни странно, немного успокоил генерала. Большинство его коллег отдавали предпочтение чаю, а он много лет назад пристрастился к латиноамериканскому кофе. Несмотря на то, что этот напиток теперь стало очень трудно достать, он пока своей привычке не изменял. Пришлось лишь перейти на индийские сорта. Запасы латиноамериканского кофе уже иссякли, а пополнить их было нечем. Торговые корабли боялись выходить в океан из-за беспощадной войны, которую развернули германские субмарины. Кофе все равно приходилось везти обходным путем. Босфор контролировали турки, а в Индийском океане пиратствовали германские крейсера. Британцы сами себе перехитрили. Если бы проливы стали русскими, то дорога из Калькутты в Одессу была бы не столь опасной.
Рандулич сидел в мягком кожаном кресле, рядом с массивным деревянным столом, теперь уже пустым, но несколькими часами ранее его заваливали развернутые карты. Свет заполнил комнату, лениво просочившись сквозь окна, хотя в углах, под креслом и под столом еще прятались остатки ночи. Теперь для того, чтобы заснуть, наверное, надо пойти в угол комнаты, встать там, как провинившийся гимназист, а затем нагнуться и вдохнуть темноты. Рандулич встал с кресла. Почувствовав боль в занемевших мышцах, он дождался, когда кровь вновь станет циркулировать в ногах, и лишь затем стал мерить шагами комнату, разминая мышцы и суставы. В течение последних часов он уже не раз проделывал подобную операцию. Как узник, заключенный в темнице, генерал мог пройти из одного угла комнаты в другой с закрытыми глазами, не наткнувшись на стены, потому что точно знал, сколько шагов их разделяет.
Роль стороннего наблюдателя его не очень устраивала, но что поделаешь. Если раньше он завоевывал награды сам, то теперь это делали для него другие. Усталость носила характер больше моральный, чем физический.
Стены комнаты от пола до потолка были заставлены огромными зеркалами. Их установил здесь хозяин дома — собиратель произведений современного искусства, любитель модернизма. Картины и скульптуры он забрал с собой, когда переезжал в Санкт-Петербург. Комната больше походила на танцзал, где примадонны балета часами отрабатывают фуэте. Они падают здесь от усталости и не могут подняться с пола. И тогда по их щекам начинают катиться слезы. Несчастные. У того, кто увидит их в эти минуты, не останется никаких чувств, кроме жалости. Но никто их не видит. А потом примадонны с легкостью поражают своим мастерством зрителей, пришедших в театр, кружат головы поклонникам, которые заваливают их охапками роз, но они все никак не могут утонуть в нем и задохнуться в их аромате. Им кажется, что роз слишком мало. Они приходят в танцкласс каждый день, надеясь, что цветов когда-нибудь будет еще больше…
Даже когда генерал находился в комнате в одиночестве, множество отражений создавали ощущение, что из-за стен за ним кто-то постоянно наблюдает, следит за каждым шагом и пытается повторить любое движение. Прошло несколько дней, прежде чем Рандулич научился в этой комнате отдыхать. Он не хотел пока переезжать из этого дома. Во дворе хватало места для автомобиля. До железнодорожной станции, куда прибывали поезда с пополнением, рукой подать, чуть дальше до казарм, а фасад здания и вовсе выходил на улицу, где располагался госпиталь, так что для того, чтобы проведать раненых и подбодрить их, Рандуличу требовалось пройти несколько шагов. По улице проходило довольно оживленное движение. Она постоянно была запружена конками, телегами и автомобилями, но как только Рандулич появлялся на тротуаре, все тут же уступали ему дорогу.
Гостям эта комната доставляла некоторые неудобства. Генерал замечал, как у оказавшихся здесь начинал блуждать взгляд, словно они оказались на приеме у гипнотизера, а мысли разбегались так, что гости не могли их быстро собрать в единое целое, и прежде чем начать говорить, им было нужно несколько секунд, чтобы собраться. Генерал установил, что в этой комнате хорошо допрашивать пленных, особенно высокопоставленных военных. Он не упускал случая пообщаться с ними.
В дверь тихо, будто боялся потревожить генерала, кто-то постучал. Рандулич поморщился. Он приказал адъютанту обходиться без формальностей и немедленно сообщать любую информацию о ходе операции, а если он, не дай бог, заснет, будить без всяких церемоний и подобных предупредительных стуков в дверь. Дверь отворилась. В комнату вошел адъютант, а следом за ним дежурный радист. В руке он зажал листок бумаги. Взгляд радиста блуждал, создавалось впечатление, что он не совсем понимает, где находится. Его гимнастерка пропиталась поўтом, влажное лицо лоснилось, а наскоро причесанные волосы все равно лежали кое-как. Вот уже несколько часов его радиоприемник, как и у нескольких его сослуживцев, был настроен на частоты, которые использовали для переговоров немецкие пилоты.
— Господин генерал, — начал адъютант, — перехвачено сообщение немецкого авиатора.
Затем заговорил радист:
— Один из пилотов эскадры «Кондор» доложил на свою авиабазу, что сбил русский бомбардировщик. Вот точные координаты места падения. К нему должны были уже выехать самокатчики.
Рандулич быстро просмотрел текст сообщения.
— Спасибо, — сказал он радисту. — Продолжайте следить за эфиром.
Мозг лихорадочно избавлялся от апатии.
— Сережа, срочно соедини меня с Семирадским.
Генерал знал, что на летном поле в боевой готовности находятся три истребителя и один «Илья Муромец». У них прогреты двигатели, и они в любую секунду могут взлететь.
Адъютант подошел к столу, взял трубку телефона, несколько раз покрутил рычаг настройки.
— Эскадра?
После небольшой паузы, во время которой, ему, очевидно, доложили, что он попал туда, куда и хотел, адъютант продолжил:
— На проводе Рандулич. Можно попросить Семирадского?
Он оторвался от трубки, зажал микрофон ладонью и посмотрел на генерала:
— Семирадский на летном поле. Сейчас подойдет.
Рандулич кивнул в ответ. Прошло еще с полминуты, наконец трубка ожила, адъютант встрепенулся и быстро передал ее генералу.
— Полковник.
— Спасибо, — сказал Рандулич адъютанту и затем уже стал говорить в трубку. — Здравствуйте Николай Иванович. Плохие новости. Немцы сбили наш бомбардировщик примерно пять минут назад. Там, похоже, было целое сражение. Немцы тоже кого-то потеряли. Вот точные координаты, — он продиктовал цифры, — но боюсь, что там скоро будут самокатчики. Действуйте по плану.
— Я все понял, — коротко бросил Семирадский.
У него был бодрый голос.
«Это хорошо», — отметил Рандулич.
Генерал нервно забарабанил пальцами по столу, невольно выбивая на нем какую то мелодию, но понял это только после того, как связь разъединилась, и он положил трубку на рычаг телефона.
Рандулич толкнул камень с горы, вызвав лавину, а теперь опять настало время ожидания.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Отряд поручика Селиванова таял, как масло, которое нерадивая хозяйка забыла на лавке под ослепительно жарким солнцем. Из тридцати драгун, которые отправились вместе с ним в рейд по немецким тылам всего четыре дня назад, в седле осталось теперь едва ли двадцать. Они метили территорию, но вместо следов и запахов оставляли следом за собой маленькие холмики с безымянными крестами. Но это — не единственные ориентиры, по которым прослеживалось их продвижение. Более заметными стали разрушенные мосты, перебитые блокпосты на дорогах, взорванные телеграфные столбы и рельсы… Пусть все знают, кому принадлежит эта земля.
Одного раненого приютили крестьяне. Иначе драгуны подбросили бы его германцам, совсем как кукушка оставляет в чужих гнездах кукушонка. Не оставалось никакой надежды, что они смогут выўходить товарища сами.
Их глаза воспалились, а в мышцы въелась усталость. Они пропахли поўтом. Они воротили бы друг от друга носы, но уже перестали чувствовать звериный запах, который теперь исходил от каждого из них. А вот лошадей они старались чистить хотя бы раз в сутки. Чем лошади-то виноваты? Драгуны причесывали им на ночь гривы, кормили с рук хлебом из своих пайков, поглаживая при этом их морды и что-то шепча на ухо. Овес для лошадей они везли с собой и недостатка в пока нем не испытывали. Его хватит до конца рейда. К тому же с каждым днем их оставалось все меньше. «Тем больше достанется на каждого». Пираты редко ошибались. С патронами дело обстояло не столь радужно.
Они забыли, что такое нормальный ночлег. Ночь под открытым небом, на расстеленных на земле одеялах, которые они прихватили с собой, — вот предел мечтаний. И еще спрятаться от холода под шинелью. Главное, чтобы никто их не тревожил, но, к счастью немцы в это время тоже смотрели сны, ведь они хорошо знали, как опасен зверь, загнанный в ловушку, из которой нет выхода. Даже заяц может тогда вцепиться в горло волку. В кого же превратится более крупный зверь? Лучше не дразнить его зря.
Грязные и уставшие, драгуны заставляли коней бежать рысью.
В их глазах светился огонь. Но это было не безумие, а огонь схожий с тем, что появлялся в глазах пиратов, которые смотрели на океанский горизонт. Ведь там в любую минуту могли появиться паруса испанского галеона, осевшего до ватерлинии из-за загруженного в трюмы индейского золота. С таким же успехом они могли наткнуться на армаду линейных кораблей. Но огонь в глазах от этого нисколько не менялся.
Они стали похожи на стайку кочевников, отбившихся от орды. Первая мысль у того, кто их увидит: стоит ли переходить им дорогу? Вторая более конструктивная: конечно стоит, иначе они приведут следом за собой всю орду.
Мир мерно подпрыгивал перед сонными глазами Селиванова, а земля дышала, вздымалась и опадала, точно там, глубоко внизу на волю стремился вырваться поток магмы. Он тужился, набирался сил, надавливал на земной свод, но у него ничего не получалось, и он успокаивался на несколько мгновений, а потом все опять повторялось.
Селиванов был в полудреме. Внезапно он понял, что уже секунд пятнадцать следит за огромным аэропланом, возле которого сновали маленькие истребители.
Селиванов выхватил шашку из ножен. Клинок сверкнул на солнце, со свистом рассек воздух. Он просил крови, начиная вибрировать от возбуждения, и передавал эту просьбу через рукоять человеку, уже впавшему в полубредовое состояние. Селиванов находился на полпути между жизнью и смертью, как берсеркер, который перед боем наелся мухоморов, чтобы не чувствовать боли. Рукоятку мягко обволакивала серебряная полоска. Она повторяла очертания сомкнутой ладони, соприкасаясь с ней, создавала единое целое. На полоске была выгравирована надпись: «За храбрость». Но ее было видно, только когда клинок отдыхал и, спрятавшись в ножнах, спал, медленно покачиваясь в такт с шагами коня.
Поручик знаком приказал отряду перейти в галоп. В кавалерии по-прежнему избегали устных команд. Но теперь уже нет необходимости одним взмахом руки управлять маневрами полков и даже дивизий. Лавина устарела. Лишь венгры в самом начале войны попытались применить тактику подобных атак. Но они выпали из потока времени. Лет пятнадцать назад лавина принесла бы им успех, а теперь… Селиванов никогда не забудет, как десять пулеметов остановили гусарский полк под Каушеном. Это напоминало охоту, когда сидишь с ружьем в руках в засаде, а дичь такая глупая, что даже нет надобности в загонщиках — она сама идет под пули, и ее так много, что главная проблема заключается в том, хватит ли боеприпасов. На душе было паскудно. Хотелось выйти вперед, поднять вверх руки и закричать что-нибудь, чтобы вспугнуть гусар. Пусть они скачут прочь. Селиванов испытывал странное тоскливое чувство, словно он, стреляя по этой массе людей, одетых в красно-синюю яркую, как на императорском параде, форму, уничтожал великое произведение искусства. Нечто подобное должны были чувствовать английские лучники, которые уничтожили цвет французского рыцарства. Тот, кто делал такое, обрекал себя на ночные кошмары. Они уничтожали прекрасное и беззаботное прошлое, для которого в этом быстро меняющемся мире уже не оставалось места.
Селиванов любил лошадей с детства. Именно поэтому он пошел в кавалерию. Но теперь, к своему огорчению, понимал, что, как только будут сделаны надежные машины для перевозки провианта, орудий и людей, конница станет прошлым. Это произойдет очень скоро. Возможно, даже в этой войне. Она затягивается. Впереди у инженеров еще много времени. Что-то сломалось в часах, которые отсчитывали время этого мира, как только на циферблате возник двадцатый век. Механизм заработал гораздо быстрее, а мир стал меняться так фантастически быстро, что для многих это стало неожиданностью, и они до сих пор не могут к нему приспособиться. Он вспомнил фразу из сказки английского математика: «Чтобы оставаться на месте, здесь надо бежать, а чтобы двигаться вперед, нужно бежать еще быстрее». Селиванов не любил книги этого математика, но эта фраза была слишком точной, чтобы ее забыть. Всегда так трудно решиться начать все с нуля.
Селиванов не хотел выжимать из людей последнее. Что толку, если они доберутся до разбившегося аэроплана, а потом их лошади падут возле его обломков. Это будет даже хуже, чем пиррова победа.
Земля была чуть мягкой, пружинящей. Копыта коней оставляли на ней такие же следы, что и печать в расплавленном застывающем сургуче. Вот только сохранятся они всего лишь несколько дней, пока их не сотрет крестьянская телега, не затопчут копыта других коней или пока не начнется ливень.
Под лоснящейся от пота кожей лошадей, проступали рельефные мышцы. Вены и жилы, которые, как веревки, привязывали их к костям, от напряжения трещали, словно корабельные снасти. Лошадей не нужно было даже подгонять, легонько ударяя шпорами по бокам. И без того они мчались, словно за ними гналась смерть. Но она уже обогнала драгун и поджидала впереди. То ли они не подозревали об этом, то ли, напротив, так устали, что считали смерть избавлением от мук и хотели побыстрее повстречаться с ней… Только ветер цеплялся за шинели всадников, пытаясь остановить их и спасти.
Если на такой скорости вылететь из седла, то костей не соберешь. Каждый всадник, зная об этом, все ниже пригибался к шее коня, обхватывая ее руками. Но «Муромца» они догнать не могли.
Поднятая копытами пыль была плотной, как дымовая завеса. Мириады песчинок покрывали тонким слоем слизистую оболочку носа, забивали горло, хрустели на зубах, будто те стали крошиться, как источенный временем камень. Горло пересохло. В глаза словно залетела целая стая мошек.
Они потеряли «Муромца» из вида. Теперь ориентиром для них стал истребитель, круживший в небе, как стервятник над издыхающим животным. Прямо под ним появилась огненная вспышка, словно вставало еще одно солнце. Но у него было слишком мало сил, чтобы подняться на небеса. Оно так и не оторвалось от земли.
Заработали пулеметы и затихли. До аэроплана оставалось еще километра полтора, когда драгуны натолкнулись на немецких самокатчиков. Пулеметы на мотоциклах были направлены в лес. Они не прикрывали фланги и тыл, а солдаты опрометчиво покинули сиденья и выключили двигатели. Когда они увидели всадников, то еще некоторое время пробовали разглядеть их сквозь тучу пыли. Немцы не были старой гвардией, но попали в ту же ситуацию. К их ужасу на приближающихся всадниках оказалась бледно-зеленая русская форма. Немцы бросились разворачивать мотоциклы. Двигатели, конечно, завелись не с первого оборота и даже не со второго. Среди самокатчиков возникла суета и неразбериха.
Драгуны заранее загнали патроны в стволы винтовок. Точность первого залпа была поразительной. Он ударил по немцам, как ураган по оловянным солдатикам. Везение улыбнулось драгунам — при такой скачке практически невозможно точно прицелиться.
Ближайший самокатчик за мгновения до залпа пригнулся. Он хотел спрятаться за рулем. Но одна из пуль, срикошетировав от фары, угодила ему точно в лицо и отбросила назад с такой силой, что он выпустил руль и вывалился из седла, мешком упав на землю. Пулеметчику не повезло еще больше. Пуля вырвала клочок его шинели и глубоко засела в правом плече, видимо, перебив кость и повредив нервную систему. Рука немца мгновенно повисла плетью вдоль тела. Он еще силился нажать на гашетку пулемета пальцами левой руки. Его перекосило от боли. Он сдерживал крик, крепко стискивая челюсти. Следующая пуля раздробила ему зубы. Их осколки разорвали ему губы и гортань, а пуля перебила шейные позвонки. Изуродованным лицом он ткнулся в приклад пулемета. Самокатчик, упавший с мотоцикла, зашевелился. Возможно, это была судорога умирающего человека. Вряд ли бы он смог выжить. Все сомнения исчезли, когда взорвался бак с бензином. Мотоцикл мгновенно исчез в огненной вспышке, а вокруг него разлетелись шипящие куски металла. Загоревшийся бензин окатил самокатчика, превратив его в факел. Жар пахнул в лица остальных самокатчиков, опаляя ресницы, брови и кожу. Струйки горящего бензина потекли к колесам других мотоциклов. Оказалось, что у одного из них перебиты шины на переднем колесе. В резине застрял зазубренный кусочек железа, красноречиво свидетельствуя о причине повреждения. Мотоцикл стал хромым. Самокатчик, в ужасе выкатив глаза, пробовал поскорее убраться подальше. У него были обожжены руки, которыми он успел закрыть лицо, в ладони застрял осколок, но пока самокатчик не мог понять, отчего ему становится так больно, когда он нажимает ручку газа. Он не замечал, как его пулеметчик наполовину свесился из коляски вниз лицом, почти доставая руками землю.
Тем временем драгуны перезарядили ружья и дали второй залп. Его последствия оказались для самокатчиков не столь губительны. Они были плохо видны из-за дыма и огня. Основной целью стал грузовик.
Водитель успел пригнуться. Пуля пробила стекло в том месте, где еще мгновение назад находилась его голова, и ударила в стену кабины. Водителя осыпало осколками стекла, но самые большие и острые упали на капот, а в кабину залетели только мелкие, так что водитель даже не порезался. С шипением вырвались клубы пара из пробитого радиатора. Машина, как калека, у которого одна нога меньше другой, осела на левую сторону. Высунувшийся из-за кабины пулеметчик успел-таки послать в драгун короткую очередь, а потом, вскрикнув, вновь спрятался и больше уже не показывался. Драгуны не видели, что с ним произошло. Лишь водитель грузовика слышал, как тело пулеметчика скользнуло в кузов и упало на пол. Единственный звук, который оттуда доносился, был булькающий хрип. Водитель выскочил из машины и бросился в лес, но, не добежав до деревьев метров десять, споткнулся. Сгибаясь, он по инерции пробежал еще три-четыре метра на подкашивающихся ногах, а потом упал.
Селиванов вырвался немного вперед. Он не оглядывался. Вполне вероятно, что когда он доскачет до мотоциклов, то может оказаться в одиночестве. Где-то на границе зрения он увидел, как, точно зацепившись за что-то, один драгун вылетел из седла, но его нога застряла в стремени. Конь не остановился, а лишь замедлил бег, поэтому драгун волочился за ним по земле, похожий на якорь, который уже не может удержать корабль, попавший во власть урагана. Вскоре Селиванов перестал его видеть.
Если они попытаются отсечь немцев от леса, то обязательно попадут под пулеметный огонь. С такого близкого расстояния пулеметчикам будет достаточно нескольких секунд, чтобы отряд драгун перестал существовать.
В руке у Селиванова был теперь пистолет, но он слишком поздно увидел немца, который бросил в русских гранату. Поручик попал в него, когда солдат уже почти спрятался за коляской мотоцикла и шарил руками по поясу в поисках другой гранаты. За миг до того, как Селиванов нажал на курок, их взгляды встретились и солдат понял, что сейчас умрет. Он бросился на землю. Останься он на месте, и пуля угодила бы ему в ноги, а так попала точно в живот. Он зажал ладонью рану, словно хотел остановить кровь и вытекающую вместе с ней жизнь, а потом свернулся калачиком возле коляски и остался лежать в такой позе, тихо постанывая. Чуть раньше взорвалась брошенная им граната. Что-то забарабанило в спину Селиванова, заставив его лицо покрыться испариной от страха, но, к счастью, это были не осколки, а только комья земли. Все осколки гранаты пролетели стороной. Внезапно конь рванулся вперед, взбрыкнув задними ногами, так что Селиванов едва не потерял равновесие. Из седла поручик не вылетел только потому, что схватился второй рукой за гриву. Из-за этого он чуть не обронил пистолет.
Селиванов не слышал свиста пуль. В ушах гудела кровь: видимо, его слегка контузило. По вспышкам он видел, что немцы начали отстреливаться. Последними мощными скачками конь добрался до мотоциклов и рухнул возле одного из них. Селиванов, почувствовав, что передние ноги коня начинают подгибаться, высвободился из стремян. Крупом конь врезался в коляску мотоцикла, чуть не перевернув его. Селиванова выбросило из седла, как камень из катапульты. Он пролетел над шеей коня и над мотоциклом, задев коленом руль. Выставив вперед руки, он попытался немного смягчить удар о землю и сгруппироваться, но падение вышло очень жестким. Воздух из легких вышел так быстро, будто они в нескольких местах прохудились. Сколько ни вдыхай теперь, они не смогут удержать и капли воздуха. Селиванов почти до костей стер сгибы пальцев на правой кисти. Она сразу же онемела, и ему казалось, что рука сломалась, потому что он услышал хруст. Почти сразу же он понял, что может двигать пальцами.
Пистолет валялся в траве. Селиванов схватил пистолет левой рукой. Боль в правой кисти была тупой, ноющей, так ломит кости у старых людей при перемене погоды. Он попробовал подняться, оперся на локти, но когда начал подтягивать к ним ноги, резкая боль в колене вновь бросила его на землю. Поручик зашипел сквозь зубы, как змея, приготовившаяся к прыжку. В глазах потемнело, впрочем, он все равно ничего не мог рассмотреть сейчас, кроме обгоревшей земли. По цвету она почти не отличалась от пелены в его глазах. Пелена была даже гораздо интереснее. По краям она была мутной, и в ней то и дело вспыхивали крохотные искры.
Волна драгун нахлынула на мотоциклы, обошла их, точно прибой прибрежные скалы, вымывая притаившихся между ними немцев. Их осталось всего четверо. Поднимать вверх руки и бросать оружие они не стали. Они просто не успели подумать о том, что можно сдаться. Времени на размышления им никто не дал. Мотоциклы стали для них примерно тем же, чем были фургоны для поселенцев на Диком Западе, но они были слишком низкими, конь легко мог перепрыгнуть через них, а солдаты не успели выставить мотоциклы кругом.
Когда Селиванов сделал очередную попытку встать на ноги, опираясь теперь на мотоцикл, все уже закончилось. Он упустил большую часть сражения. Оно сохранилось у него в памяти лишь фрагментарно, какие-то перемешанные, не связанные между собой и незаконченные видения, словно кусочки разбитой мозаики: там взмах руки с саблей, в другом месте выставленная вверх винтовка, которой немец пытается закрыться от удара, в третьем — треснувшая каска и, наконец, труп на земле, а неподалеку от него несколько коней, потерявших своих хозяев, сбились в кучу и смотрят на дерущихся людей, не зная, что им делать дальше.
Поручик, почувствовал, что кто-то подхватил его и помогает подняться. Мир быстро стал приобретать более четкие очертания, но его тут же заполнило встревоженное лицо драгуна. Селиванов не сразу его узнал. Взгляд драгуна забегал по поручику, отыскивая раны. Рот Селиванова разрезала улыбка.
— Я не ранен, — прошептал он. Голос раздавался как будто со стороны, искаженный и далекий. Он не узнал его. Он даже не мог понять, сам говорит это или кто-то другой. — Какие у нас потери?
— Пять убито, пять легко ранено, один тяжело.
Селиванов, немного покачиваясь, сделал шаг вперед, боясь, что в поврежденной ноге вновь проснется боль. Но то ли она задремала, то ли поручик уже привык к ее присутствию, по крайней мере ему не пришлось стискивать зубы, чтобы справиться с ней.
— В лесу должны быть немцы, — сказал Селиванов, — с минуты на минуту они здесь появятся.
Первые сказанные им слова едва мог расслышать только помогавший поручику драгун, последние уже вполне были доступны всем остальным.
Русские спешились. Они ходили среди мотоциклов, проверяя, нет ли среди немцев раненых. Селиванов крепко сжал ладонями голову. Только сейчас он заметил, что потерял фуражку. Она валялась возле его ног. Пришлось нагнуться, чтобы поднять ее. Кровь прилила к голове и принесла вместе с собой пульсирующую боль. Селиванов быстро выпрямился, надел фуражку и зарекся в ближайшее время нагибаться, если на то не будет крайней необходимости.
Четыре все еще исправных мотоцикла с пулеметами могли стать прекрасным трофеем, если бы их удалось переправить через линию фронта. Сейчас же они были скорее обузой. Как это ни печально, но мотоциклы придется уничтожить. Пулеметы можно снять, но они слишком тяжелы для коней, и те вряд ли смогут долго выдерживать дополнительную нагрузку.
Драгуны завели двигатели мотоциклов и откатили их подальше от леса. К ним прибавили грузовик. Пробитый резиновый баллон у него совсем стерся и едва не слетел с обода. Получилось что-то похожее на баррикаду, за которой могли спрятаться несколько солдат. Соорудить из трупов коней нечто похожее на бруствер они и не успели, так что этот ценный для укреплений строительный материал остался неиспользованным.
Ко все еще горящему мотоциклу не удавалось подойти ближе чем на пять метров, так сильно накалился вокруг него воздух и такой горячей была выжженная земля. Передвинуть его можно было только грузовиком, прицепив к нему трос. Селиванов не стал терять время: немцы могли застукать их как раз за этим занятием.
Русские наспех разложили под мотоциклами трупы драгун, попытавшись придать им позы, будто они готовятся к отражению атаки, стерли кровь с лиц друзей. Пальцы окоченели и никак не хотели ложиться на курки. Вблизи такой маскарад мог обмануть разве что слепого, но издали все выглядело вполне удовлетворительно. Даже если смотреть в бинокль, подвох заметишь не сразу. Драгуны вылили из баков горючее, забрали пулеметные ленты и спрятались в лесу. Селиванов рассчитывал еще и на то, что пилоты, если, конечно, они не сильно поранились при крушении, также вступят в сражение. В этом случае немцы окажутся в мешке, и тогда их сможет спасти только подкрепление.
Как только смолки выстрелы, Эрих понял, что потерял мотоциклы. Это было обидно и несправедливо. Он сразу отмел мысль о том, что самокатчики могли отбить атаку. Но он понятия не имел, кто мог на них напасть. Догадка у него была. «Наполеон при Ватерлоо. Надо было добить Блюхера. Идиот».
Кровь могла закипеть в его жилах. Пока деревья обступали их плотной стеной, в которой не видно просветов. Одного солдата он послал в разведку. Если тот наткнется на русских, то его можно списывать со счета, зато остальные хотя бы узнают, где находится противник, и не попадут в ловушку. Солдаты бежали не разбирая дороги. Гнев не успел окончательно закружить Эриху голову, поэтому он поднял руку, приказывая солдатам остановиться. После оглушительной трескотни, тишина была чем-то неестественным, словно они незаметно переступили границу совершенно иного мира. Мягкий приятный свет лился с небес. Разбиваясь о верхушки деревьев на несколько ручьев, он добирался почти до нижнего яруса, где на листьях еще не успела испариться роса. Она сверкала, искрилась, словно кто-то рассыпал здесь несметные сокровища. Нужно лишь протянуть руку, чтобы собрать их и стать богатым. Всего лишь в пяти шагах от Эриха возвышался муравейник, а прямо под ногами лейтенанта суетились сотни муравьев. Они тащили пожелтевшие прошлогодние иголочки елей, крохотные веточки, травинки, маленьких жучков и насекомых. Прежде Эрих не замечал их, а теперь подумал, что каждый его шаг убивает нескольких муравьев, вдавливая их в землю и превращая в бесформенную склизкую массу. Кем он был для них? Возможно, когда-нибудь, он, как тибетский монах, станет ходить с веничком в руках и подметать перед собой путь, чтобы, не дай бог, не раздавить какую-нибудь букашку.
Тишина угнетала. От нее начинало гудеть в ушах. Эрих никак не мог смириться с тем, что не слышит выстрелов. Они должны быть. Наверное, он оглох.
Лица солдат были напряжены. Даже собаки, почувствовав, что обстановка резко изменилась, перестали повизгивать. Они дрожали и внимательно всматривались в заросли.
Еще несколько минут назад они были здесь хозяевами, могли громко переговариваться между собой, но теперь, по крайней мере до тех пор, пока им не удастся выяснить, какова сила противника, они вообще перестали разговаривать.
У Эриха оставался еще один вариант действий. Если русских окажется слишком много, он может увести свой отряд и не ввязываться в бой. Зачем посылать людей на верную смерть? Мотоциклы того не стоят, а если представить начальству ситуацию в нужном свете, то он может избежать и пятна на карьере. Он попросит подкрепления и продолжит поиски русских пилотов, но теперь будет осторожнее. Ситуация все же была не такой безнадежной, какой она казалась ему раньше. Он ведь сигнализировал начальству о том, что русские кавалерийские разведывательные отряды чувствуют себя слишком вольготно на захваченных германскими войсками территориях. С ними очень трудно бороться. Чтобы пресечь их рейды, давно уже требовалось принимать радикальные меры. Командование тянуло с этим, ссылаясь на нехватку резервов и считая, что есть гораздо более важные проблемы.
Эрих оказался в идиотской ситуации, когда отправляешься охотиться с легкой винтовкой, заряженной дробью, на зайцев, а встречаешь медведя…
Потянуло гарью, но в этом запахе отчетливо ощущался привкус пережаренного мяса, словно кто-то отправился в лес на пикник, разжег костер, насадил на вертел сочные куски мяса, а потом, пока мясо готовиться, решил прогуляться и заблудился. Шашлык подгорел, а может, у нерадивого кулинара случился сердечный удар и он упал лицом прямо в костер…
Эрих поморщился. Ему захотелось зажать нос ладонью, чтобы хоть немного отфильтровать воздух, или даже надеть противогаз. Но сам по себе запах вовсе не был неприятным, а каннибалы и вовсе нашли бы его восхитительным.
Лес стал редеть. Между деревьями показались просветы. Солдаты двигались почти согнувшись, небольшими перебежками от одного дерева до другого, поочередно. В это время остальные выглядывали из-за стволов и в случае чего могли прикрыть бегущих.
Отряд немного сместился в сторону, возвращаясь по новой дороге. К опушке он подобрался примерно в двух сотнях метров от того места, где остались мотоциклы. Разведчик уже ждал их.
— Что там? — спросил Эрих.
— Грузовик и мотоциклы свезли в кучу. За ней укрылись русские. Я не знаю, сколько их, но места там мало.
Эрих кивнул. Он лег на землю, достал бинокль и поднес его к глазам. Главное, чтобы луч солнца, сверкнув на оптике, не выдал его. Бывало, что наблюдателя принимали за снайпера и обрушивали на него настоящий шквал огня. Остальные солдаты расположились рядом с лейтенантом.
От разбитого мотоцикла остался один скелет. Металл уже начинал остывать. Огонь погас, слизнув с мотоцикла краску и заменив ее сажей. Два самокатчика в остатках дымящейся формы все еще оставались в мотоцикле. Их мышцы прогорели почти до костей. Они сидели с оскаленными зубами, потому что их уже не могли закрыть сгоревшие губы. Вид этих самокатчиков вызвал у Эриха легкую дрожь, по телу пробежали мурашки, как от прикосновений ледяного ветра. Это ощущение быстро прошло. Но русским там должно было быть гораздо хуже. Похоже, у этих ребят стальные нервы, если они легко переносят такое соседство. За баррикадой паслись лошади. Они не отходили от своих хозяев. «Зря они не ушли, — подумал Эрих о русских, — теперь я их не выпущу». На поле виднелись холмики — очевидно, это мертвые тела, не кроты же в самом деле решили посмотреть на то, что здесь случилось. Хотя событие заслуживало определенного внимания.
Увиденное казалось немного нереальным, будто все это происходит на экране синематографа, куда Эрих пришел посмотреть слишком реалистический фильм про войну. Ему очень были нужны пулеметы. Можно было прибегнуть к выжидательной тактике. Отряд Эриха не вышел на связь. Стрельбу слышали в округе, и вполне вероятно, что к месту сражения уже двигается еще один отряд самокатчиков. Эриху же нужно не дать русским уйти. Это вполне ему по силам. Вот только пилоты… Уйдут они или, напротив, вернутся.
— Не давайте этим ублюдкам высунуться! — закричал Эрих. — Стреляйте в баки. Подожгите их!
Он не знал, что баки уже пусты, а бензин пропитал землю. Лошади при первых же выстрелах ускакали подальше от пуль. Дзинг-бэнг. Пули искрили. Пробивали тонкую оболочку баков, уносились прочь. Русские молчали. К мотоциклам Эрих направил несколько солдат. Пули пролетали над головами ползущих людей, сухо колотились в металл, отскакивали, зарывались в землю. Если будешь нерасторопным и чуть поднимешь зад, то в него тут же загонят несколько пуль. От такой мысли очень хотелось провалиться под землю, пусть там даже окажется ад.
Что-то было не так. Эрих поднял к глазам бинокль. Его прошиб пот. Возле русских скакали пули, но они никак на это не реагировали, ни один мускул не дергался на их лицах. Похоже, они не боялись смерти, потому что и так были уже мертвы. Эрих поздно над этим задумался.
«Гром среди ясного неба» — слишком бледное сравнение для впечатления, которое произвели на Рингартена выстрелы. Этот сладкий звук, характерный для винтовок системы Стечкина.
Он остановился и припал к земле, потому что она гораздо лучше, чем воздух, передает звуки. Ему показалось, что он различил мерный глухой топот, но взрывы гранат заглушили его, как водопад заглушает журчание ручейка.
Держаться у немцев на хвосте оказалось очень просто. Приходилось следить только за тем, чтобы выдерживать определенную дистанцию и не приближаться настолько, чтобы наступать им на пятки и вместе с тем не очень отставать. Он хорошо видел их спины и затылки. Иногда ему становилось интересно узнать, что они сделают, если оглянутся и заметят его. Остановятся или нет? Чтобы выяснить это, ему хотелось закричать. Но, услышав его, немцы могли припустить вперед с еще большей прытью. Он мог не поспеть за ними.
Игорь думал, что партия идет к завершению, но оказалось, что еще не все карты розданы играющим. Русские неожиданно получили несколько козырей. Надо постараться их использовать, пока козыри не выпали и немцам. Он подождал, пока немцы перегруппируются. Часть из них осторожно ползком выбрались из леса. Рингартен решил их вспугнуть.
— Хватит играть в индейцев, — прошептал он и бросил в оставшихся в зарослях немцев гранату.
Пока она еще вертелась в воздухе, он достал вторую, выдернул чеку и отправил ее вслед за первой. Он слышал, как первая граната плюхнулась на землю, прямо возле немцев. Она чуть не угодила кому-то из них в плечо. Самокатчики недоуменно смотрели на нее, вначале не понимая, что это, а потом как на змею, которая выбралась из убежища, приготовилась к прыжку и теперь выбирает, на кого ей сперва наброситься, а кого укусить чуть позже. Но если замереть, то, возможно, змея примет людей за камень или поваленные стволы деревьев и уползет.
Эта немая сцена продолжалась ровно столько, сколько понадобилось второй гранате, чтобы долететь до немцев. Она вывела их из состояния ступора. Фельдфебель бросился к гранате, попытался схватить ее, но его ладонь сделалась непослушной и походила на клешню, поэтому вместе с гранатой он зачерпнул комья земли, обрывки травинок, тонкие веточки. Падая на живот, фельдфебель отбросил гранату прочь, стараясь, чтобы она улетела как можно дальше. Ему уже не приходилось выбирать, где мягче. Он грохнулся прямо в кусты, сломал несколько веток, а острый обломок одной из них пропорол ему кожу на щеке. Впоследствии оказалось, что это была единственная рана Фетцера от взрыва. Другим повезло меньше. Граната задела за верхушку кустов, которые ее поймали, остановили, а потом она взорвалась. С кустов посбивало листву, переломало все ветки, скосило их почти по самые корни, словно по лесу прошелся смерч. Осколки исхлестали стволы нескольких деревьев и, как градом, осыпали притаившихся солдат. Вторая граната закатилась в небольшую рытвину, походившую на вход в чью-то нору. После себя она оставила внушительную воронку, по краям которой выступали обрубленные корни деревьев. Казалось, что она сорвала кусок шкуры огромного зверя, обнажив переплетения вен и сухожилий.
До того как граната взорвалась, солдаты успели брызнуть в стороны, как стая испуганных воробьев, и заползти за деревья. Как только осколки угомонились и дым немного рассеялся, Эрих ощупал взглядом пространство. Один из его солдат стоял на коленях, силясь подняться, у него это могло получиться, если бы он помог себе руками. Но руками он схватился за шею, из которой толчками хлестала кровь. Наконец он упал лицом в землю. Другой лежал на животе. Он ободрал вокруг себя весь дерн и собрал его под собой, словно без этого ему было слишком жестко. Солдат обломал себе ногти, ободрал кожу с пальцев, поэтому его руки были в крови. Он походил на человека, который учится плавать. Инструктор боится отпускать его в воду, вот и приходится бедолаге грести по земле. Урок самокатчик усвоил плохо и совсем не работал ногами. Он их не чувствовал. У него был перебит позвоночник. Он что-то скулил, как маленькая побитая собачонка.
— Я умираю. Мне больно. Как мне больно… — но рот и язык работали плохо.
Часть звуков солдат не выговаривал, получалось какое-то мычание, поэтому Эрих не сразу разобрал слова.
Третий самокатчик валялся на спине, согнув в локтях руки, пальцы на них скрючились, как у курицы или индюшки. Его голова была повернута в сторону Эриха и уставилась на него широко открытыми, немигающими глазами, которые уже начинали стекленеть. «Карие», — почему-то отметил Эрих. Он с трудом сдерживался. Желудок спазматически выталкивал съеденное обратно в рот. Этого осмотра было вполне достаточно. Если он и дальше будет продолжать озираться, чего доброго поймет, что от его взвода почти никого не осталось.
Началась стрельба. Пули сбивали листву и ломали ветки.
— Лейтенант, я видел его! Он в кустах. Вон в тех, — донеслось до Эриха.
Во время взрыва Рингартен успел немного переместиться. Этого никто не заметил. Пули пролетали в стороне, задеть его могла разве что шальная.
Один из солдат, отправившихся к мотоциклам, зачем-то вскочил на ноги. Его срезала короткая пулеметная очередь. Секунд десять он стоял, раскачиваясь. Жизнь не хотела расставаться с ним. Его угасающее сознание пыталось понять, что же произошло, а потом он упал почти не сгибаясь. Так падают только мертвые.
— О-о, — промычал Рингартен.
Если первая буква в этой реплике была короткой, то вторая протяжной и долгой, занимавшей столько времени, сколько было необходимо легким, чтобы при выдохе избавиться примерно от половины воздуха. Этот возглас Рингартен стащил у одной своей знакомой, которая, состроив соответствующее выражение лица, таким образом реагировала на неожиданно изменившуюся ситуацию.
Вначале пули ложились далеко от Игоря, но постепенно они начали к нему приближаться, и он стал раздумывать над тем, как незаметнее сменить укрытие.
Среди деревьев замелькали какие-то расплывчатые силуэты, и хотя внешне они напоминали человеческие фигуры, все-таки больше походили на лесных духов, которых разбудила стрельба и теперь они хотят посмотреть, кто же их побеспокоил. Солнце светило им в спины. Из-за этого казалось, что вокруг них ореол, а над головой — нимб. После того, что произошло со штурмовиками за последние сутки, Рингартен мог уже поверить даже в появление каких-нибудь сверхъестественных существ, которые до поры, до времени следили за отрядом, а теперь, когда поняли, что он попал в безвыходное положение, решили спуститься с небес и помочь штурмовикам.
Рингартен устал, и его сознание воспринимало окружающий мир не совсем таким, каков он на самом деле. Он приподнялся на локтях, но видимость все равно почти не улучшилась. Весь гнев духов или ангелов или кто там это был, вылился на немцев. А может, они первыми подвернулись под руку, а потом придет время штурмовиков?
Стрельба прекратилась, но Игорь вдруг понял, что вместо нее слышит лязг металла о металл, хрипловатое напряженное дыхание, стоны и глухие удары. Пелена упала с его глаз, словно несколько минут штурмовиком владело какое-то наваждение, но теперь чары рассеялись. Рингартен вскочил на ноги, замотал головой, как пес, который только что искупался и хочет, чтобы его шерсть побыстрее высохла, а потом бросился вперед.
По его телу, уже давно успевшему согреться, пробежала дрожь. Он ощутил прикосновение липкого страха, которым здесь пропиталось все. Он погрузился в него с головой, но страх стал пробираться в тело не через рот, нос или уши и даже не через поры в коже, а через глаза. Крики, ругань, все, что вырывается из человеческих глоток, на поле боя дает возможность выплеснуться эмоциям и страху. Несмотря на то, что повсюду бродит смерть, это как-то разряжает обстановку. Но здесь дрались с одержимостью обреченных, а поэтому экономили силы, не растрачивая их попусту даже на крик. Чем ближе был Рингартен, тем явственнее он ощущал тот ужас, который охватил дерущихся людей. Они знали, что в этой схватке выживет только одна сторона. Каждый хотел оказаться победителем, но пока противники имели равные шансы на успех. Эта новость оказалась для них слишком неожиданной, и теперь они, наверное, проклинали себя за то, что ввязались в драку, а не обошли друг друга стороной.
Стволы коротких винтовок Стечкина, к которым крепились ножи, хоть и были раза в полтора меньше, чем огромные, похожие скорее на копья винтовки Груши, все равно казались здесь слишком большими и неудобными. Они стали бесполезными после первого же выстрела. У людей не оставалось времени, чтобы передернуть затвор и загнать в ствол новый патрон. Со всех сторон их окружали кусты и деревья, точно сражающиеся оказались в клетке и теперь не могли даже хорошенько размахнуться. Ремешки винтовок постоянно цеплялись за ветви, направление удара немного изменялось, и он еще больше ослабевал. Его хватало только на синяк или ссадину. Череп таким не раскроишь и кости не сломаешь. Вероятность насадить противника на нож была немногим выше, чем у рассеянного, забывшего сачок энтомолога, гоняющегося за насекомыми и пробующего поймать их только булавкой, которую он вытащил из своего галстука.
Человеческие тела перемешались, как шахматные фигуры на доске в середине партии. Рингартен поспел сюда, когда противники уже разделились по парам. Они попали в ситуацию, схожую с той, в которой часто оказывались армии античного мира: строй рассыпался, большая часть солдат перебита, а все происходящее превратилось в слабоуправляемый хаос.
Для Рингартена соперников не осталось. Он выбрал ближайшую пару дерущихся. Они перехватили друг другу запястья и замерли в позиции, когда никто из них уже не мог даже на миллиметр приблизить свой кинжал к груди врага и одновременно хотя бы немного отвести чужой от своей. Это состояние относительного покоя требовало от них чудовищных усилий, лица исказились от напряжения и боли, по коже стекали ручьи пота. Странно, что они еще не попробовали перегрызть друг другу горло. Время играло на руку немцу. У русского был сильно рассечен лоб. Кровь запеклась коркой над правой бровью. От напряжения рана вновь открылась, и кровь стала затекать в глаз. Он наполовину ослеп. Силы быстро покидали его. В левом глазу разгоралось отчаяние. Драгун уже понял, что проиграет. Он застонал. Рука дрогнула, а потом произошло то, что бывает с источенными временем костями, которые кажутся прочными, но рассыпаются в прах при одном прикосновении. Нож вошел ему в грудь почти по рукоятку. В глазах немца появилось торжество, но он вдруг уловил, что к нему приближается еще один русский. Хватка драгуна ослабела, но он все еще продолжал сжимать запястье немца. Оседая, русский потянул его следом за собой. Самокатчик едва не потерял равновесие, согнулся, но устоял. Он успел выдернуть из груди русского свой кинжал, следом за которым, как хвост кометы, потянулся фонтан крови, заливший немца, а потом несколькими судорожными движениями высвободил и свою руку, но…
Рингартен оказался рядом с ним, а у самокатчика осталось время на то, чтобы закричать. Автоматная очередь оборвала его на полуслове. Это было нечестно. Если бы русский ударил прикладом, тогда был шанс победить, а так… Немец стоял с таким видом, словно размышлял, падать ему или нет, но Рингартен немного подтолкнул его, и тот повалился прямо на труп драгуна, еще больше измазавшись его кровью, одновременно пачкая убитого русского и своей. Они были квиты. По индейскому обычаю они стали братьями. Очередь вышла чуть короче, чем того хотел Рингартен. Он по-прежнему давил на курок, но автомат молчал, видимо, закончились патроны.
На шахматной доске становилось все свободнее.
Рингартен уловил какое-то движение рядом с собой, его руки инстинктивно вскинулись вверх, закрывая автоматом лицо. Руки прогнулись, автомат едва не врезался в переносицу, остановившись в нескольких миллиметрах от нее. Рингартен понял, что сумел отбить удар тесака, который оставил на прикладе зарубку. Снайперы на своих ружьях обычно помечают так каждый удачный выстрел. На плечах немца были лейтенантские погоны. Он немного наклонился вперед, словно давая их получше рассмотреть. Рингартен ударил его прикладом автомата, словно отмахивался от назойливого насекомого. Приклад врезался в левую скулу немца, с противным чавканьем раздробил ему кость и отбросил в сторону. Эрих выпустил тесак, растопырил руки, точно хотел что-то поймать. Его пальцы наткнулись на ствол дерева, а потом он врезался в него правой скулой. Этот удар был не таким сильным, как удар прикладом, но все равно немца опять отбросило. Он зашатался, его глаза начали закатываться, а ноги подогнулись, и он сел на корточки, одновременно полуобернувшись, и из-за этого спина его уперлась в ствол дерева.
Рингартен проскользнул мимо него, даже не посмотрев на то, как немец падает.
Игорь перемахнул через мертвое, как ему казалось, тело немца, но тот был еще жив и неожиданно попробовал ухватить штурмовика за ногу. Пальцы соскользнули с ботинка, рука сорвалась и замерла. Рингартена немного развернуло, он приземлился на одну ногу, сделал по инерции пару шагов и наткнулся животом прямо на приклад. Удар заставил его согнуться в поклоне. Игорь хватал ртом воздух, но легкие словно закупорились, в них попадали только капли. Ему на голову обрушилась каменная глыба. Он припал на одно колено, но тут же поднял голову и попытался встать на ноги. Автомат он выронил — этот момент как-то ускользнул от его сознания, и Рингартен вдруг понял, что ему нечем защититься от кинжала, который приближался к его лицу. На его лезвии блестели отблески солнца. Рингартен закрыл лицо ладонью, словно его глазам мешал яркий свет. Он даже не мог уклониться. У него болела шея, и он не мог ею двинуть, словно голову насадили на кол. Металл пронзил ладонь насквозь, но до лица так и не добрался, остановившись примерно в пяти сантиметрах от щеки. Вспышка боли вернула Рингартену угасающее сознание и разогнала сгущающиеся перед глазами сумерки. Игоря толкнуло назад, и он стал заваливаться на спину, увлекая следом за собой немца, который так и не смог вытащить кинжал из ладони штурмовика. Немец скрежетал зубами, вертел рукоятку, из-за этого рана становилась все больше, но вытянуть лезвие никак не мог. Оно не было зазубренным, но, тем не менее, застряло, зацепилось то ли за кости, то ли за сухожилия. Что-то впилось Рингартену в спину, но это были только сломанные ветки. Они не проткнули даже одежду и только слегка, через ткань, поцарапали кожу.
Наконец немец выдернул кинжал. Для этого ему пришлось упереться коленями в грудь штурмовика и сильно потянуть на себя. Безумные глаза самокатчика искали место для нового удара, рука заносила над головой кинжал. С лезвия капала кровь, она падала и на немца, и на Рингартена. Когда самокатчик стал опускать лезвие, штурмовик попытался перехватить его запястье, но промахнулся и лишь еще больше забрызгал немца своей кровью. Она выплеснулась фонтаном из раны. Рингартен успел подумать, что его кровь сделалась похожей на серную кислоту, потому что она мгновенно прожгла в груди самокатчика дырки, да еще отбросила его далеко назад. Но его сознание уже помутилось. Перед глазами плавал белесый туман, а в ушах грохотал водопад. Игорь не слышал выстрелов. Тем более он не мог уже увидеть и почувствовать, как возле него появился Мазуров.
Тот, кто играл русскими, действовал не по правилам. Он ввел в сражение еще несколько дополнительных фигур. Но, возможно, это пешки стали ферзями.
Траву вытоптали, кустарник поломали, на листьях осела кровь. Воздух, переполненный испарениями свежей крови, стал кисловатым на вкус.
Сражение закончилось. Бинтуя Рингартену руку, Мазуров смотрел, как штурмовики оказывают помощь оставшимся в живых драгунам. Их было восемь. Все они в той или иной степени были ранены.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Один из драгун, сидя на корточках, судорожными глотками пил воду из металлической фляжки. Он запрокинул голову, присосался губами к горлышку и все никак не мог от него оторваться. Наконец он утолил жажду, а остатки воды решил вылить себе на лицо. Воды осталось только несколько капель. Драгун разочарованно опустил руки и осмотрелся, словно искал сочувствия.
Наблюдавший за драгуном Мазуров уже отстегнул от пояса свою фляжку, примерно наполовину заполненную водой, и как только его глаза встретились с глазами драгуна, сказал: «Лови», — и бросил фляжку. Драгун цепко схватил ее, на лице его засияла улыбка, как у ребенка, получившего подарок, о котором мечтал целый год. Он быстро отвернул крышку и плеснул водой на лицо. У него немного затекли мышцы, поднимаясь, он покачнулся. Одно мгновение казалось, что драгун снова сядет, но, сделав последний рывок, он оказался на ногах.
У них опять не было времени для того, чтобы вырыть хотя бы одну яму и похоронить мертвых товарищей. Миклашевского и Рогоколя. Штурмовиков осталось шестеро. Возможно, когда-нибудь они вернуться сюда, и если правительство не даст денег, то соберут их сами — те, кто к тому времени все еще будет жив, и поставят здесь памятник или хотя бы камень. Этим они искупят часть своих грехов перед друзьями, а пока они сложили их рядом, точно мертвые, оказавшись вместе, смогут прогнать зверей, которых привлечет сюда запах крови.
— Кто вы? — спросил Селиванов, подходя к Мазурову.
Поручик слегка припадал на ногу и после каждого шага крепко сжимал челюсти, чтобы не застонать, поэтому говорить мог только когда останавливался, да и то эта речь напоминала речь человека, страдающего одышкой, а слова выталкивались из горла вместе с воздухом. У них на двоих с Мазуровым было только две целых ноги.
— Капитан Мазуров, специальный отряд, — он мог делиться информацией только в определенных дозах. Вглядываясь в уставшее и от этого очень спокойное лицо драгунского офицера, он хотел бы рассказать ему все. — Мы летели на том аэроплане.
— Да, вы не пилоты. Я понял это, — слова казались конфетками-тянучками. Гласные буквы звучали в них чуть больше положенного. — Поручик Селиванов.
Он не стал расспрашивать Мазурова, зная, что тот просто не имеет права отвечать.
Вернулся разъезд драгун. Пока все было тихо, но ощущение надвигающейся беды витало в воздухе. Предчувствие редко подводило их, потому что ошибиться во второй раз многим просто не представлялось возможности.
— А это? — Селиванов показал на Тича.
— Очень важный пленник.
— Вы и ваши люди умеете ездить на коне? — спросил Селиванов.
Он подразумевал не просто способность удерживаться в седле и не выпадать из него, когда конь переходит на быстрый шаг. Вопрос был бы уместен, если б адресовался пилоту, поскольку многие из них относились к категории людей, которые хорошо разбирались в механизмах, но кроме этого мало что умели.
— Да, — коротко ответил Мазуров.
— Хорошо. Мой рейд закончился, а после этого сражения высвободилось много коней. На вас хватит, — грустно сказал Селиванов. — Восемьдесят километров можно пройти за день. Боюсь только, что двоим из моих людей не отпущено даже этого срока. Они умрут раньше. Но они вряд ли выживут, даже если сейчас окажутся в госпитале. Наука еще не научилась возвращать обратно тех, кто одной ногой уже ступил в царство смерти, — он немного помолчал. Здесь почти не осталось хищников. Самый крупный зверь — кабан. Да и тех немного. От людей они прячутся в глуши.
Селиванов постоял возле погибших драгун. Мысленно он прощался с ними, запоминал мертвые лица, но в его памяти они останутся другими. По одежде, по лицу, рукам и в волосах убитых бегали муравьи. Пока их было мало. Это только разведчики. Вскоре они сообщат о своей находке, и не пройдет и часа, как здесь соберутся полчища муравьев. Им потребуется не один день, чтобы обглодать трупы до костей.
Тем временем солдаты сложили мертвых немцев рядом с мертвыми русскими. Теперь они не были врагами, смерть поставила их в один ряд. То, что они оказались по разные стороны баррикад при жизни, было не более чем условностью.
Живые нарубили веток и закрыли ими трупы, как одеялом, одновременно что-то нашептывая, то ли молитвы, то ли заклинания, то ли извинения. Кровь на ранах только начинала свертываться. Они испачкали в ней руки и одежду, но еще много времени спустя, оказавшись далеко от этого места, они не смывали ее, потому что эта кровь была последней нитью, связывающей их с теми, кого они знали много лет.
На мундире германского офицера было так много крови, что никому и в голову не пришло, что он жив. Это обнаружилось чуть позже, когда офицер очнулся, выбрался из горы трупов и дополз до дороги. Там его обнаружили немецкие солдаты. В госпитале три дня он будет метаться на границе между жизнью и смертью, не зная где ему остаться. Врачи спасут его, и он будет жить еще долго. Но до конца своих дней лейтенант Эрих Хайнц не сможет забыть этого боя и равнодушного польского леса, быстро загладившего следы кровавой схватки.
— У вас есть рация? — спросил Мазуров.
— Да, — ответил Селиванов.
— Тогда мы можем решить проблему. Я вызову транспортный аэроплан. Он вывезет и нас, и вас.
Селиванов улыбнулся. Если все, что скопилось в душе, выразить словами, это займет слишком много времени, а его нет.
— Вы заберете только раненых. Постарайтесь понять меня. Эти кони спасали нам много раз жизни. Если я их брошу, то буду корить себя всю жизнь. Я выведу их. Это, знаете, для меня примерно то же, что сохранить знамя подразделения. Пусть от него почти ничего не осталось, но оно обязательно возродится. Риск небольшой. Все закончится уже к утру… А пока я советую вам побыстрее покинуть это место. Вы свяжетесь со своими, когда обстановка станет поспокойнее. Хорошо?
— Да.
Кони упирались и не хотели идти, сколько ни сжимай им бока. Штурмовики жалели лошадей, опасаясь причинить им боль. Они поглаживали им шеи, что-то шептали в уши. С заартачившимся осликом все гораздо проще. Надо лишь привязать морковку на палочку и держать ее возле мордочки животного. Он будет идти за ней, не понимая, почему морковка постоянно удаляется, как линия горизонта. Но коня не сдвинуть с места, даже если насыпать впереди него кучу овса. Требовалось внушить лошадям, что теперь они должны исполнять приказы других хозяев. На это могла уйти и неделя. Хорошо еще, что они не делали попыток сбросить седоков. Только Рингартен быстро нашел взаимопонимание с доставшимся ему конем. Он был немного испуган, у него нервно дрожали уши. Во время сражения возле него взорвалась граната, его хозяина убили осколки, а коня опалило и немного помяло взрывной волной, но он абсолютно не пострадал. Он был, пожалуй, самым резвым, а у Рингартена раскалывалась от боли голова, ныла рука, и ему с трудом удавалось контролировать ситуацию.
Импровизированная баррикада из мотоциклов и грузовика пылала. Вокруг стоял такой жар, что от него плавился даже воздух. Он сделался мутным, колеблющимся, будто картина, которую он удерживал, походила на мираж и могла в любой миг рассеяться. Вот только противный, раздражающий ноздри запах горящей резины говорил о том, что все это правда. Лес впитывал большинство едких примесей. До людей воздух доходил немного отфильтрованным.
Драгуны выстроили в цепочку своих коней и стали углубляться в лесные заросли. Только тогда кони штурмовиков стронулись с места. Медленным шагом они двинулись следом за драгунами, но те постепенно перешли на рысь, и чтобы не отстать, коням штурмовиков тоже пришлось ускориться. Они старательно делали вид, что не замечают людей, которые на них сидят.
Семирадский испытывал несвойственное для него чувство — он нервничал, посматривал на часы. Нет, ему не казалось, что время течет слишком быстро, но с каждой минутой беспокойство в душе нарастало, а он никак не мог справиться с этим и успокоиться. Иногда он даже закрывал глаза, пытаясь сосредоточиться, считал до десяти, приказывал сердцу биться помедленнее, но все было тщетно — и он, как заевшая граммофонная пластинка, не переставал повторять: «Все хорошо. Все хорошо».
Нужно было убить время. Он замычал какую-то песню, выуживая из памяти связанные с ней ассоциации. Помог бы холодный душ, но небеса высохли, на них не видно ни единого облачка. Мечтать не приходилось не то, что о ливне, но даже о грибном дождичке.
Отвратительное чувство, которое, видимо, испытывал капитан «Карпатии», когда, получив сигнал SOS с «Титаника», шел к нему на помощь. Но оно владело им несколько часов и за это время вполне могло иссушить его, натянуть нервы и порвать их, а Семирадский должен выдержать не более часа. Причем ему было гораздо легче. Ведь тот капитан знал, что пассажиры с утонувшего корабля продержатся в холодной воде минут двадцать, а те, что оказались в лодках, будут в безопасности, поэтому шесть часов или семь займет его путь, в сущности, не имело большой разницы. Он заранее привыкал к мысли, что уже опоздал. Его ждут окоченевшие трупы, которых удерживают на поверхности только спасательные жилеты, а морякам придется лишь помочь замерзшим уйти на дно. Но он продолжал выжимать из турбин своего лайнера полную мощность, заставляя работать их на пределе, рискуя, что паровые котлы могут взорваться, как будто, что-то еще можно будет изменить. У Семирадского не было такой фатальной неопределенности.
Он гнал от себя мысль о том, что штурмовики уже мертвы. Он загородился от нее частоколом, который возвел из слов популярной песенки, некогда приставшей к нему в одном из ресторанов Санкт-Петербурга, и теперь никак не мог от них отделаться. Но сейчас от нелепой песенки хотя бы ощущалась польза. Точно так же можно попробовать защититься от гипнотизера…
Попадись сейчас на его пути немецкий истребитель или бомбардировщик, Семирадский ушел бы от них, не вступая в перестрелку. Противник, наверное, подумал бы тогда, что может испугать русских пилотов, но в этом заблуждении он будет пребывать только до следующей встречи. К счастью, в небе не было неприятельских аэропланов.
Минувшей ночью полковник сумел выспаться. Он не видел снов. Давно уже они куда-то запропастились, и ночи состояли из черных провалов, в которых ничего не было, кроме пустоты, точно ты зашел в комнату, куда не просачивается свет, и глаза не могут выловить в ней ни единого силуэта и ни единой тени. В этом был свой плюс, поскольку Семирадский знал людей, которых по ночам мучили кошмары. Они, как дети, начинали бояться наступления темноты и в своих комнатах непременно оставляли горящую свечу. Она служила не очень хорошей защитой от ужасов, но ничего другого они выдумать не могли. Семирадский был всего этого лишен. Обделенным он себя не чувствовал.
Ему не удавалось сдерживать себя. Окажись сейчас под ним конь, он безостановочно колотил бы его ногами по бокам и в результате загнал бы бедное животное до смерти, а пытаясь угнаться за ним, загнали бы своих коней и два других пилота. Они шли чуть позади. Километрах в десяти позади них плелась еще одна тройка истребителей под командованием Шешеля. Они сопровождали транспортный аэроплан.
Семирадский не поверил своим глазам, когда увидел черные клубы дыма. Нет, конечно, это верный признак сбитого аэроплана, как пузыри воздуха, которые, вырываясь из глубин, отмечают на поверхности воды место гибели корабля. Но дело в том, что этот след быстро исчезает. Он никак не может существовать в течение часа, даже если здесь затонул океанский лайнер или сгорел дирижабль.
Приближаясь к дымному столбу, Семирадский постепенно стал понимать, что либо аэроплан загорелся совсем недавно и вряд ли основной причиной пожара было падение, либо это горит что-то другое.
Дым был густым, маслянистым. Казалось, что если запустить в него руку, она вмиг покроется сажей или черной жирной пленкой. Удушливый запах пропитал воздух в радиусе нескольких сотен метров от пожара.
Семирадский закашлялся. Он поднял аэроплан немного вверх — туда, где воздух был почище, к счастью, он быстро наткнулся на свежий поток. Дым казался слишком плотным. Ветер практически не сносил его в сторону, поэтому он образовал черную тучу, скрывающую кусок земли не хуже, чем дымовая завеса, которую ставят корабли, чтобы уйти от слишком сильного неприятеля.
Семирадский заложил крутой вираж влево, разворачиваясь и одновременно снижаясь. У него захватило дух, как на снежных горках. Он любил в детстве на них кататься. Он уже догадался, что это не аэроплан, а чуть позже, когда наконец-то различил остатки мотоциклов и грузовика, все стало ясно. Вернее, все еще больше запуталось. Еще он увидел трупы лошадей.
Он едва не задел крыльями края черного облака, сумев проскользнуть мимо него в каком-нибудь метре, словно это был айсберг, столкновение с которым очень опасно.
Семирадский стал описывать круги вокруг мотоциклов, постепенно увеличивая радиус. Наконец он натолкнулся на остов аэроплана. Теперь трудно было понять, чем раньше являлись эти жалкие бесформенные обломки, которые почти полностью съел огонь. Над тонким слоем пепла возвышались четыре оплавленных двигателя. Их слегка припудрила черная пыль, в которую превратились кожухи. Лопасти винтов словно подтаяли, потеряли резкие очертания. За останками «Ильи Муромца» тянулись две борозды, похожие на кильватерный след катамарана. Семирадский пролетел так низко, что растревожил пепел, который поднялся легким облаком, закружился в воздухе и потянулся следом за аэропланом. Пилот высунулся из кабины, насколько это ему позволяли ремни безопасности. Ему показалось, что он различил по меньшей мере два обгоревших человеческих тела и еще одно лежало между бороздами.
Здесь начиналась цепочка, горящие мотоциклы и грузовик ее продолжали, а вот где она заканчивалась, Семирадский мог только гадать.
Он не верил, что немцы захватили штурмовиков. Все факты свидетельствовали о том, что русские смогли расправиться с отрядом противника. Непонятно только, как им это удалось. Сейчас они, скорее всего, были в лесу. Шансов найти их было мало, если только у штурмовиков не осталось рации. Но после крушения «Муромца» можно утверждать, что рация разбита вдребезги. Пытаться разглядеть их среди деревьев или ждать, когда они дадут о себе знать автоматной очередью? Даже в этом случае получится односторонняя связь. Они не сумеют договориться, что им делать дальше. Хотя стрелять можно азбукой Морзе…
Семирадский столкнулся с проблемой, которую не мог разрешить. Надеясь, что сумеет что-то придумать, он накручивал круги на бреющем полете. Он стал похож на приманку, с помощью которой охотник хочет выманить из укрытия дичь. Но он мог добиться и того, что вскоре здесь появятся немецкие истребители. К тому времени сюда уже доберется транспорт, и тогда им придется защищать его. Улетать не хотелось. В нем еще теплилась надежда, что чудо все-таки свершится, нужно только вспомнить слова заклинания. Семирадский никак не мог заставить себя расстаться с этой надеждой. Капитан «Карпатии» спас хотя бы тех, кто находился в лодках. Если люди Мазурова ушли недалеко, то могут услышать аэропланы и вернуться. Хотя… Сейчас они, наверное, хотели только побыстрее затеряться в лесу, чтобы их никто не нашел. Но все же… Транспорт может совершить здесь посадку. Эта мысль утешала слабо. Она просуществовала очень мало, потому что Семирадский увидел шлейф пыли, который тянулся за двумя грузовиками с солдатами. Кто ответит, сколько их еще было укрыто под шлейфом?
Семирадский проверил исправность пулеметов, то же самое сделали остальные пилоты, а потом они полетели встречать грузовики.
Услышав тарахтение двигателя аэроплана, Мазуров придержал коня, поднял руку ладонью вперед, делая остальным знак остановиться.
Песни птиц можно было записывать на граммофонную пластинку, а потом продавать. Они имели бы грандиозный успех, ведь мало что так же успокаивает нервы. Странно, что еще никому не пришло в голову заняться этим, особенно если учесть, что в этом случае не нужно платить гонорар ни композитору, ни исполнителю.
Теперь тарахтение двигателей стало более отчетливым. Оно вспугивало тишину, и та в страхе пряталась во мхах, забиралась в гнилые пни. Тишина трескалась, как хрустальные бокалы. Вернуть ее обратно было уже слишком сложно, потому что барабанные перепонки теряли чувствительность. Лес начинал вибрировать. Так дрожит стеклянный стакан на столе, когда неподалеку проносится товарный поезд. После него еще долго остается ощущение дискомфорта.
Кроны деревьев надежно защищали их. Человеческий взгляд не мог пробраться сквозь листву. Но лучше не рисковать. Драгуны и штурмовики остановились, опасаясь, что пилот аэроплана сумет уловить движение на земле и вернется проверить, что же он увидел. На всякий случай они скинули с плеч винтовки и автоматы, медленно сняли с предохранителей, взвели затворы. Эти звуки показались им громкими, но, конечно, он не шел ни в какое сравнение с шумом работающих двигателей, скорее всего, даже если они станут кричать, пилот все равно не услышит. Он разберет только хлопок выстрела. Особенно если пуля угодит в него.
Драгуны успокаивали коней, поглаживая им шеи. Кони волновались, переступали с ноги на ногу, тихо фыркали.
Мазуров втянул голову в плечи, когда огромная птица закрыла своей тенью часть небес. Она пронеслась, как призрак, но Мазуров успел увидеть кусок ее крыла. Там был нарисован не крест, а сине-бело-красный круг Антанты.
Капитан посмотрел по сторонам. Ему хотелось протереть глаза, чтобы увидеть наконец-то, что происходило на самом деле, а не было плодом его воображения. Но все сомнения развеял Рингартен. Или его тоже околдовали? Хотя поверить в это было еще труднее.
— Похоже, это был наш аэроплан.
Правильно. Откуда здесь взяться французскому или британскому аэроплану, а уж немцы рисовать на своих знаки Антанты не будут. Но смысл фразы сводился к совсем другому. Рингартен спрашивал, что делать дальше.
Кричать и прыгать, как это делают потерпевшие кораблекрушение моряки, завидев вдали парус? Что же еще? Аэроплан мог оказаться всего лишь разведчиком. Но это не давало объяснения тому, почему он летел так низко. Ищут их? Но как сообщить о себе пилоту? Если броситься следом за аэропланом, пытаясь побыстрее выбраться на открытое пространство, то в лучшем случае можно увидеть его хвост, а в худшем — пустое небо.
Мазуров спрыгнул с коня, одним движением перебросив через круп ноги, будто это было гимнастическое бревно, а он уже закончил выступление. Но приземление ему не удалось. Оно было жестким. Мазуров едва не подвернул ногу, а боль отдалась в коленной чашечке.
— Рацию, — прошипел Мазуров.
Он все еще всматривался в небо, словно от его взгляда там мог опять возникнуть аэроплан. Он присел на корточки. Это была не очень удобная поза. Долго в ней находиться тяжело. Но Мазуров полагал, что сумеет связаться с авиабазой быстрее, чем затекут его мышцы и он перестанет чувствовать ноги.
Рация была устаревшей модели. Подобная конструкция считалась верхом совершенства три года назад, а теперь годилась разве что на свалку. Радиус ее действия лишь немногим превосходил расстояние до базы. Если с ней удастся установить связь, то звук будет очень тихим, и любые внешние помехи могут его заглушить. У военного ведомства как всегда не нашлось средств заменить ее на более современную модель. Но драгун она вполне устраивала.
Мазуров разложил рацию на земле, похожий на путника, который решил перекусить, снял с плеч мешок и теперь хочет достать из него еду: хлеб, помидоры, сыр и фляжку с разбавленным вином, — все, что положила туда заботливая хозяйка.
Капитан открыл кожух, включил настройку, надел наушники, левой ладонью прижал их покрепче к уху и медленно завертел колесиком, как взломщик, который ждет, когда же наконец щелкнет кодовый замок сейфа, обозначив первую из цифр нужной комбинации. Лампы нагревались, потрескивая, как сухие поленья в костре. Только не было искр и совсем мало тепла. На той волне, на которой обычно переговаривались русские пилоты, тишину нарушали лишь статические помехи.
Все спешились, но стояли в стороне от Мазурова, словно тот был зачумленный.
Настройка рации требовала предельной аккуратности. Любая, даже самая незначительная ошибка могла свести на нет все старания. У Мазурова начали болеть пальцы, подушечки на них припухли, стали терять чувствительность, и ему пришлось чуть крепче сжать колесико.
Он словно подслушивал чужой разговор, ждал того момента, когда можно вставить свою реплику, но слышал пока только потрескивание. Ждать, что, находясь в тылу противника, пилот станет нарушать радиомолчание и тем самым раскрывать себя без очень веских на то причин, конечно, не приходилось.
Мазурову казалось, что он превратился в заводного солдатика, а маленький ребенок играет с ним. Забавляясь, он смотрит, как солдатик выбирается из сложных ситуаций. Стоит покончить с одной напастью, как ребенок придумывает другую, но если он видит, что с новой бедой солдатику не совладать, то помогает ему. Это означает, что в итоге операция будет успешной, если, конечно, раньше она не надоест ребенку и он не бросит игру…
Треск в ушах раздражал его. Если он еще какое-то время будет его слушать, то обязательно оглохнет.
— Борт Б, говорит борт А. Вижу два немецких грузовика с пехотой. Атакую. Транспорт разбит. Был бой. Группы нет. Видимо они в лесу. Как понял? Прием.
— Тебя понял. Нужна помощь?
— Пока нет. Справлюсь сам.
Руки Мазурова задрожали, лоб покрылся испариной, и вспотели волосы под шапкой.
— Борт А, вызывает группа. Прием.
Он посмотрел в ту сторону, куда улетел аэроплан, словно это могло помочь установить с ним контакт. Ему пришлось повторить эту фразу три раза. Он стал уже беспокоиться, но отчаяния еще не чувствовал, да и сердце билось неожиданно ровно.
— Говорит борт А. Рад слышать вас. Где вы?
— Борт А. Я видел вас две минуты назад. Мои координаты…
— Понял вас. Не могу долго говорить. Борт Б, ответьте группе.
И сразу в разговор ввязался еще один голос.
— Борт Б вызывает группу. Прием.
— Группа слушает.
— Как ваши дела?
— Добыча с нами. Нас шестеро, плюс восемь разведчиков, из них двое тяжелораненые. Забрать надо нас, добычу и раненых. Как понял? Прием.
После такого ответа у пилота должен был возникнуть закономерный вопрос, что за разведчики и откуда они взялись. Но пилот пропустил это мимо ушей как само собой разумеющееся.
— Понял превосходно, — только сейчас Мазуров догадался, что это Шешель.
Тем временем драгуны и штурмовики заняли круговую оборону. На всякий случай. Береженого Бог бережет. Селиванов слышал лишь отдельные слова в этом разговоре, но о его содержании догадаться было несложно.
— Говорит борт А. Возле леса два грузовика с солдатами. Я отвлеку их. Борт Б, садитесь в квадрате шесть и заберите группу. Как понял? Прием.
— Понял хорошо. Буду на месте примерно через семь минут. Группа, как быстро можете прибыть в квадрат шесть?
Мазуров уже развернул карту и следил по ней за поступающей информацией, высчитывая расстояние до места посадки транспорта и прикидывая, сколько до него добираться. Он ткнул карту пальцем в то место, где они находились, провел до точки посадки, а затем поднял глаза на Селиванова, взглядом прося у того ответа. Селиванов, практически не задумываясь, дважды показал растопыренную пятерню.
— Десять минут, — сказал в микрофон Мазуров.
— Понял. Буду ждать. Отбой связи.
В штурмовиках росло возбуждение. Им опять бросали соломинку. Теперь, выберутся они из болота или завязнут в трясине, зависело от пилотов, а уж в их мастерстве сомневаться не приходилось. Они были настолько фанатично преданы своему ремеслу, пытаясь добиться в нем совершенства, что у обычных людей появлялась мысль: «А в здравом ли они уме?» Ответить на этот вопрос было затруднительно, поскольку ни у кого не повернулся бы язык назвать нормальным человека, выделывающего на аэроплане акробатические трюки, от которых у зрителей начинает сводить желудок. Большинство вынесло бы такой вердикт: «Легкая степень помешательства. Изолировать от общества».
Мазуров быстро собрал рацию, вскочил на ноги. Они действительно затекли и распрямились с трудом, казалось, что сейчас суставы заскрипят и из них посыплется ржавая пыль.
— Вы с нами? — спросил Мазуров, посмотрев на Селиванова.
— Да. Хочется удостовериться в том, что все завершилось благополучно.
— Это можно будет сказать только после посадки на нашей базе. Вы по-прежнему хотите выбираться отсюда самостоятельно?
— Даже если бы я передумал, на всех мест не хватит. Но не огорчайтесь, я не изменил своего решения.
— Зачем лишний раз рисковать?
— Без раненых они нас не нагонят. Возвращение будет похоже на прогулку. Мы не станем без нужды ввязываться в драки, зато если возникнет необходимость, вас прикроем.
— Спасибо, — сказал Мазуров.
Они обнялись и пожелали друг другу удачи.
Грузовики остановились. Из них посыпались солдаты, а Семирадский немного подбодрил их пулеметной очередью. Пули всколыхнули фонтанчики на земле, потом запрыгнули на капот, а затем и на крышу и только после этого перебрались в кузов.
Стекло кабины покрылось пылью, но и до этого оно было таким мутным, что рассмотреть через него что-либо представлялось затруднительным. Водителю периодически приходилось высовывать голову из кабины и осматриваться. Когда стекло брызгами разлетелось в разные стороны, Семирадский увидел его. Водитель сидел не двигаясь, вцепившись в руль. Семирадскому показалось, что он мертв, но на самом деле тот просто боялся пошевелиться. Он думал, что если останется недвижим, то его не заденут ни пули, ни осколки стекла. Когда аэроплан пронесся мимо, водитель толкнул ногой дверцу. С первого раза она не поддалась. Водитель надавил на нее коленом, задергал ручку, точно оказался запертым в каюте тонущего корабля, а в иллюминаторе уже видел воду. Он был близок к панике и вертел головой, отыскивая другой путь к спасению. Лобовое стекло почти полностью вылетело. Можно было этим воспользоваться. Но наконец-то дверь выпустила его. Это произошло неожиданно. Водитель вывалился мешком из кабины, и если бы его рука не успела схватиться за дверь, то он обязательно упал бы носом в землю. Падать было высоко. Нос наверняка разбился бы в кровь. А так он отделался лишь несколькими ссадинами.
Солдаты во втором грузовике наелись пыли. Она забила им рот, поскрипывала на зубах, осела на коже, казалось, что они покрыты тональной пудрой. Во время езды они старались спрятаться за кабиной и бортами кузова, зарывались лицами в воротники шинелей, чтобы пыль хотя бы не запорошила глаза, но и это им не удавалось. Глаза резало, и они слезились.
Шлейф пыли, который тянулся следом за первой машиной, как собачка на привязи, накрывал их с головой и они с завистью думали о тех, кто едет впереди.
Изредка водитель пробовал стереть тряпкой налет со стекла, но видимость улучшалась только на несколько минут, а потом опять ничего невозможно было разобрать, словно машина попала в непроглядный туман, который съедал все предметы на расстоянии полуметра от глаз. Руки невольно тянулись к глазам, чтобы протереть их, может, тогда станет виднее. Там, за стеклом бушевала пыльная буря, точно они оказались в Африке. В кабину тоже забралась пыль, с каждым вдохом она проникала в горло, в нем начинало першить. Водитель почти не смотрел по сторонам, а тем более недоступно его вниманию было небо.
Борт переднего грузовика возник из пыли неожиданно. Водитель в самый последний момент резко нажал на педаль тормоза, вдавливая ее в пол, но машину рывками, которые могли выплеснуть из желудка все его содержимое, протащило еще несколько метров. Покрышки раздраженно завизжали. Водителя толкнуло вперед прямо на руль, но скорость была невелика, поэтому удар был просто неприятным, а не болезненным. Машина содрогнулась. Ее немного перекосило, а солдаты в кузове, наверное, попадали с мест. Грузовик остановился всего лишь в нескольких сантиметрах от борта. Солдаты ругали водителя и кричали, что он не дрова везет. Он хотел выбраться из кабины и узнать, что произошло, но пыль уже рассеялась, ветер разорвал ее шлейф. Впереди солдаты быстро переваливались через деревянные борта, стараясь побыстрее покинуть кузов, словно на его полу появились ядовитые змеи. Солдаты что-то кричали, но водитель никак не мог разобрать слов, даже когда заглушил мотор своего автомобиля, потому что мотор первого грузовика все еще продолжал работать, а из его выхлопной трубы, покашливая, вырывались струи газа.
Он скорее интуитивно посмотрел в небо. Там возникло три силуэта, которые походили бы на птиц в бреющем полете, если бы у птиц могло быть по две пары крыльев. Но такие виды науке неизвестны. Солдаты попадали на колени, вскинули ружья и стали стрелять по аэропланам. Водитель услышал, как бьются пули о передний грузовик. К нему приближались огненные плети, стараясь поймать его. Одна из них должна пройти точно через кабину. Водитель нащупал ручку дверцы, повернул ее по часовой стрелке и одновременно толкнул плечом и телом. Заржавевшие петли заскрипели, но дверь поддалась легко. Этот звук резанул уши, точно он был гораздо отвратительнее свиста пуль. Одна из них в это время как раз ударила солдата, который отчего-то замешкался и остался в кузове. Она впилась ему в бок, подтолкнула, и солдат перевалился через борт грузовика. Совершив во время падения кульбит, он грохнулся о землю спиной, и если пуля не убила его, то этот удар точно выбил из него дух.
Плеть стегнула водителя по лицу, когда он уже почти выбрался из кабины. Одной рукой он опирался на дверь, другой — на сиденье. Руки мгновенно потеряли силу, прогнулись, ноги соскользнули со ступенек, будто они стали скользкими, но это произошло чуть позже, когда их залила кровь, а потом в грузовике взорвался топливный бак, и водителя, как куклу, швырнуло далеко в сторону.
Солдаты напоминали кегли, в которые уже несколько раз бросил шар не очень умелый игрок. Кто-то валялся, кто-то стонал, дул на обожженные руки или катался по земле, другие лениво отстреливались. Но их руки дрожали от шока. Они все никак не могли прийти в себя, а попасть в аэропланы и уж тем более в русских пилотов никто из них не сумел. Их командир, как капитан гибнущего корабля, решил последним покинуть кузов грузовика, вот и поплатился за это. Теперь некому было позаботиться о его подчиненных. Сиротки. Если бы в эту секунду им приказали поднять руки, они сделали бы это с радостью, побросав винтовки.
Аэропланы разворачивались, заложив крутой вираж на левое крыло.
Семирадский сочувствовал немцам. Они оказались в самом отвратительном положении, которое только можно придумать. Их застали на марше, посреди дороги, практически не оставив надежды достойно выбраться из этой переделки. Окажись у Семирадского бомбы, все закончилось еще бы быстрее, хотя, конечно, надо обладать большим искусством, опытом и зорким глазом, чтобы попасть бомбой в грузовик.
Он чувствовал себя преступником, который расстреливает безоружных людей. У него исправится настроение, если одна из пуль его заденет, но они летели мимо, лишь две — три попали в крылья, но это было даже менее опасно, чем комариные укусы.
Семирадскому не нравилась роль слуги смерти. Он всегда сторонился ее, но теперь ему в руки дали косу и отправили собирать дань. Так, оказавшись в гуще сражения, латник размахивает мечом, топором или секирой, сокрушая кости и черепа врагов, монотонно, как сеятель, который бросает в землю зерна. Он может работать так и час, и два, и даже три, пока кто-то еще остается перед ним, или до тех пор, пока кто-нибудь не раскроит ему голову.
Семирадскому досталась грязная работа, как, впрочем, и слишком многое на этой войне, а то, что они еще как-то соблюдали правила турниров во время воздушных поединков, не могло продолжаться долго. Вскоре все должно закончиться.
Он походил на ангела смерти, спустившегося с небес, чтобы забрать людей в ад, и знал, что те, кто останется в живых, проклянут его. Полковник стрелял короткими очередями, экономя патроны и стараясь поменьше тратить их попусту. Он знал, что здесь должны появиться немецкие истребители. Странно, что они еще не прилетели.
Аэропланы вновь развернулись. Краем глаза Семирадский увидел транспорт, который шел на посадку, но все это казалось нереальным, зыбким, далеким. Словно мир был разбит на несколько секторов, и эти картины были из другого сектора, который отделяла от Семирадского прозрачная стена. Попробуй он попасть туда, его аэроплан расплющит в лепешку, как муху, которая на полной скорости врезалась в стекло.
Там, внизу все еще копошились люди. Они были еще живы. Они были его добычей, ведь он был стервятником. Три «Ньюпора» методично уничтожали все живое на земле.
Небо на востоке медленно темнело, становилось из прозрачно-голубого пасмурно-синим, словно сумерки, не выдержав, пришли раньше положенного им срока. С востока накатывалась гроза. Изредка различались огненные вспышки, но грохот грома пока оставался неслышим. Постепенно становилось прохладнее, раскаленный душный воздух и нагревшаяся земля, которая, казалось, начнет сейчас трескаться под ногами, как пересушенная в печке корка пирога, начинали остывать. Пока это было едва заметно. Дышалось по-прежнему тяжело. Каждый вдох обжигал слизистую носа, поэтому приходилось дышать ртом — там слизистая была грубее, но и она подсохла, и любой глоток сопровождался болью, словно приходилось проталкивать внутрь комок, утыканный множеством маленьких иголочек. Если бы не поры, которые выпускали из тела немного тепла, кожа тоже треснула бы. На ней появился соленый налет, как после купания в море или океане.
«Илье Муромцу» предстоит возвращаться через грозовой фронт. Пилоты хорошо знали, как это опасно. Молнии, шквальные порывы ветра, которые могут завертеть аэроплан, как щепку в водовороте, — опасностей поджидает не меньше, чем первых мореплавателей, решивших отправиться на поиски неведомого континента.
На открытом пространстве бродила смерть, но она почему-то останавливалась на границе леса, так по легендам вампир или оборотень не может переступить границу тьмы и света и стоит неподалеку, скрытый тенью.
Штурмовики молча наблюдали за тем, как «Муромец» грузно коснулся земли. Он даже не запрыгал по кочкам, точно приклеился к ним, похожий на огромную жирную муху, попавшую в липкую ловушку, которую расстелили на подоконнике. У них не осталось сил на эмоции, вернее сказать, то, что творилось в их душах, уже не отражалось на лицах, только в глазах, а головы синхронно поворачивались следом за аэропланом.
— Пошли, — сказал Мазуров.
Они ехали медленно. Приходилось сдерживать коней, иначе они просто вывалились бы из седел.
Дверь в аэроплане отворилась. Из салона появился пилот. По традиции его с ног до головы зашили в черную кожу. Как ему сейчас жарко! Но пилот делал вид, что все нормально. Грех ему жаловаться на судьбу, особенно когда он увидел эту горстку израненных, уставших людей.
Штурмовики обступили аэроплан. Впору доставать веревки и заарканивать его, так обязательно поступили бы обитатели островов Океании, окажись они в подобной ситуации. Они радовались бы тому, что поймали такую огромную птицу. Еды теперь хватит всему племени надолго. Но они могли принять аэроплан за бога и попадать на колени, уткнувшись лицами в землю. Штурмовики на месте дикарей поступили бы именно так.
Экипаж «Ильи Муромца» сократили до предела. В нем находилось только два человека. За пулеметами никого не оставили. Но ведь все боятся спящего великана, пока не узнают, что он утратил прежнюю силу. Аэроплан был выкрашен в темно-зеленый цвет. Если он постоит немного на солнцепеке, то внутри станет так же невыносимо жарко, как в кочегарне.
Мазуров вдруг понял, что мир начинает расплываться перед глазами. Он пошел рябью, как вода от прикосновений ветра или раскаленный воздух. Голова у капитана была тяжелая, словно мозг превратился в свинец. Осталось только одно желание — побыстрее уснуть.
Пилот спустил трап, сбежал по нему и помог слезть с коня первому из подъехавших драгун. Он делал это осторожно, словно имел дело с игрушками, сделанными из тончайшего китайского фарфора. Драгун перевалился на одну сторону седла, сполз с него, а потом просто упал на руки пилота.
У Мазурова начали дрожать ноги, словно он шел в пещеру, в которой живет страшный дракон. Побелевшие кости тех, кто отважился сразиться с ним, показывают, что ждет смельчака. Пилоту пришлось поддержать капитана за руку, чтобы тот не свалился вниз. Мазуров покачнулся, поднимаясь по лестнице, но, скорее всего, пилот отнес неуверенные движения на счет усталости. Отчасти это было правдой, но только отчасти.
— Осторожно, капитан.
— Благодарю.
У Мазурова сильно расшатались нервы. Чтобы восстановить их, нужно пару недель поваляться на пляже в Крыму. Если бы он был пилотом, то на его карьере можно было ставить крест. Он понял, что боится аэроплана, не доверяет ему. Мазуров явственно ощутил, что под днищем ничего нет, кроме воздуха. Тонкий слой фанеры был слишком ненадежной защитой. Она могла провалиться под ногами, как подгнившие доски мостика, перекинутого через пропасть, на дне которой, почти невидимая в тумане, журчит река. Пассажирский салон показался ему слишком узким, хотя ничем не отличался от других, в которых Мазуров летал не один десяток раз. Капитан почувствовал приступ клаустрофобии. Чудилось, что стены сдавливают ему грудную клетку, мешая дышать, словно он оказался зажатым между ними. На лбу выступила испарина. Мазуров уселся на лавку, огляделся. Штурмовики волновались, лишь раненые драгуны не проявляли признаков беспокойства, но они вряд ли понимали, что с ними сейчас происходит и где они оказались. Они напоминали пловца, который устал бороться с рекой, отдался на волю течению, вынесет или нет — какая разница. Драгун положили на пол, подложив несколько одеял (это лучшее, что могли сделать для них пилоты), и привязали, для того чтобы их тела не катались по полу во время особенно сильных толчков и резких виражей. Остальные расселись по лавкам. Мазуров пожалел, что на них нет подлокотников. Он вцепился в край лавки так сильно, что пальцы побелели. Таким образом капитан сумел унять дрожь и теперь мог говорить, а до этого у него сводило челюсти и зубы стучали друг о друга. Странное ощущение. Он дрожал точно от холода, несмотря на то, что вокруг стояла липкая жара. В таком воздухе раны быстро гноятся, их края становятся фиолетовыми, а потом начинается гангрена.
Голова Рингартена склонилась на грудь, а тело подалось немного вперед. Если бы его не привязали к лавке, он упал бы при первом толчке, как ванька-встанька, вот только без чужой помощи штурмовик не сможет снова взобраться на лавку. Лучше всего его тоже положить на пол, но там уже не осталось места. Штурмовики поддерживали Рингартена под руки. Вначале он что-то бессвязно бормотал, потом замолчал, провалился в беспамятство.
Время опять тянулось бесконечно медленно. Мазуров закрыл глаза. Если бы в эту минуту на аэроплан напали немцы, он не смог бы сделать ни шага. Мышцы перестали подчиняться ему. Капитан сидел на лавке, превратившись в желеобразную массу, которая постепенно оплывает от тепла и стекает на пол.
Мазуров заставил себя открыть глаза, но это оказалось очень трудно сделать. Ему показалось, что без рук не обойтись или придется кричать что-то наподобие: «Поднимите мне веки». Вот смеху-то будет, если, конечно, кто-то в состоянии сейчас понять эту шутку. Он посмотрел в иллюминатор. Селиванов в окружении драгун только отъезжал от аэроплана. Он натянул поводья, разворачивая коня. Мазуров успел-таки помахать ему на прощание рукой. Поручик, увидев этот жест, махнул в ответ. Рука Мазурова сделалась тяжелой, шлепнулась на колено, и он уже не мог больше ее поднять, как ни старался. Последнее движение забрало остаток сил. «Плохо быть немощным калекой», — думал Мазуров, наблюдая за тем, как драгуны исчезают в лесу.
Хлопнула дверь. В аэроплане стало темнее. Пилот прошел в кабину, на ее пороге он развернулся и коротко бросил:
— Всем приготовиться. Взлетаем.
Мазуров качнулся, как от легкого толчка в плечо. Если бы рядом никого не было, его наверняка протащило бы по лавке, а так он сразу же остановился, натолкнувшись на плечо соседа. Давление нарастало. Корпус сотрясался от вибрации и легких толчков.
Вой двигателей изменился. Тембр стал более высоким. Аэроплан сорвался с места, разбежался, его колеса оторвались от земли. Мазурову казалось в эти секунды, что его сердце удерживалось всего лишь на одном сосуде, толщиной не более нитки и теперь он, не выдержав перегрузки, порвался. Сердце скатилось по ребрам, как по струнам, ударилось о кости таза, подпрыгнуло вверх и вернулось на прежнее место.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Поднимаясь над деревьями, аэроплан стал заваливаться на левый борт, как раз на тот, где сидел Мазуров. Под ним разверзлась бездна. На ее дне рос лес. Миниатюрный, похожий скорее на какой-то вид мха или лишайника, он был заключен в раму, которая окаймляла иллюминатор. Картина была превосходной. Ее можно повесить на стене в гостиной. Гости поражались бы ее великолепию. Увы, она смогла удержаться всего несколько секунд, а потом аэроплан выпрямился, лес сполз вниз и в иллюминаторе осталась лишь его частичка, а все остальное пространство отвоевало для себя небо.
Мазуров приклеился к стеклу. Пока лес не ускользнул от него окончательно, он хотел успеть разглядеть среди деревьев драгун Селиванова, но так их и не увидел.
«Илья Муромец» поднимался с трудом, как силач, решивший толкнуть гирю, вес которой близок к пределу его возможностей или даже превосходит их, но он не отпускает ее и все продолжает напрягать мышцы. Рядом с аэропланом скользили два «Ньюпора», и еще один, скорее всего, пристроился ему в хвост. Мазуров, как ни выворачивал шею, его не увидел.
За иллюминатором уже ничего не осталось, кроме облаков, они еще не покрылись сахаристой, сверкающей коркой, это произойдет чуть выше. Мазуров отвернулся от иллюминатора.
На лбу Рингартена выступил пот, то ли от боли, то ли от жара. В аэроплане вскоре будет прохладнее. Мазуров ежился, вспоминая, как холодно им было в первом «Муромце», но здесь, видимо, будет потеплее. Этот аэроплан не сможет забраться так же высоко.
Из кабины вышел пилот. В руках он держал фляжку и тряпочку. Он подошел к драгунам, отвернул крышку фляжки, смочил тряпочку, протер лицо и губы раненого, а потом сделал то же самое и с другим драгуном. Пилота как будто скрывал туман, поэтому Мазуров плохо его видел. Похоже, зрение у него сильно село и теперь предстоит остаток жизни проходить в очках.
Пилот остановился возле Рингартена. Тот, словно почувствовав запах воды, судорожно глотнул, открыл глаза и уставился на пилота. Когда фляга прикоснулась к губам штурмовика, тот запрокинул голову и начал быстро пить, будто опасался, что воду у него сейчас отнимут или она закончится. Крупные капли падали с губ, скатывались по подбородку, обтекали рельефно выступивший кадык и заливали одежду. Было видно, что даже это доставляет удовольствие Игорю. Вода во фляжке закончилась, но Рингартен сделал еще пару глотков, прежде чем понял это. Остальные молча наблюдали за происходящим. В их глазах появилось разочарование. Они попробовали это скрыть.
— Спасибо, — прошептали на миг разлепившиеся губы Рингартена и снова сомкнулись.
— Сейчас еще принесу, — сказал пилот.
Он шел чуть согнувшись, балансируя руками при каждом шаге и цепляясь за колени и плечи штурмовиков, как за перила. Он постоянно смотрел вниз, наступал очень осторожно, выбирая дорогу, будто под ним действительно оказались трухлявые доски веревочного моста, переброшенного через бездну. Драгуны оставили лишь узкую тропинку. Пилот боялся потревожить их.
Новой порции воды Рингартен не дождался. Он слизнул остатки влаги с губ, пока она еще не испарилась, с довольным видом откинулся назад, оперевшись спиной о корпус аэроплана, и заснул.
Пилот вынес из кабины сразу две фляжки. Он отдал их штурмовикам, которые сидели крайними по левому и правому бортам. Штурмовики пили большими глотками, чтобы побыстрее утолить жажду и не очень задерживать своих товарищей. Когда одна из фляжек дошла до Мазурова, то вода заполняла ее еще примерно на треть. Фляжка была прямоугольной, немного изогнутой, чтобы лучше прилегать к бедру и не очень мешать во время ходьбы. Вода в ней нагрелась, стала уже примерно такой же температуры, что и человеческое тело. Мазуров практически не ощущал ее, когда пил, только чувствовал, что, что-то течет по горлу, постепенно затопляя желудок. Он осушил бы всю фляжку, но даже после этого вряд ли избавился бы от жажды. Он вовремя остановился. В горле продолжало першить, но не так сильно, как раньше, словно вода послужила для него неким подобием смазки. Капитан толкнул в бок соседа, передал ему фляжку, а тот что-то буркнул в ответ. Наверное, «спасибо», но звуки утонули в бульканье воды.
Страх постепенно ушел. Мазуров не заметил, когда это произошло. Он увидел отблеск, как от взрыва, а затем услышал далеко вверху раскат грома. Мазуров невольно втянул голову в плечи, будто в любую минуту на него мог обрушиться потолок аэроплана, посмотрел в иллюминатор, но там виднелось только безбрежное море облаков, плескавшееся внизу метрах в ста. Даже самые высокие его волны не могли дотянуться до крыльев. Сразу над облаками небо было молочно-серым, непрозрачным, но постепенно оно меняло цвет, превращаясь в темно-синее, как океанская пучина.
Еще одна молния расколола небо, оставив на нем красный рубец, который быстро затянулся. Мазуров завороженно смотрел на приближающуюся мглу и не мог отвернуться. Внешне он оставался спокойным, как моряк, который видит, что на него надвигается девятый вал. Он уже смирился с мыслью, что ничего нельзя изменить. Капитан нашел в себе силы отвернуться и сделал это вовремя, потому что в следующую секунду аэроплан основательно тряхнуло. Если бы Мазуров продолжал смотреть в иллюминатор, то наверняка врезался бы лбом в стекло. Капитану казалось, что он слышит, как завывает за стеклом ветер, который хочет пробраться внутрь аэроплана, но пока не может найти ни одной щели и из-за этого злится, обещая всяческие напасти и беды.
«Илья Муромец» резко пошел вниз и зарылся в облака, точно хотел от кого-то спрятаться.
Мазуров расслабился. Сны повели его за собой. Он уже не мог разобрать, где реальность, а где видения. Капитан оказался возле подножия громадных ступенчатых пирамид. Он стремился сюда много лет. Рядом с пирамидами сидели индейцы. Они пели. Им осталось только смотреть на развалины некогда великих городов и петь о могуществе, которым когда-то обладали их предки. Стершиеся надписи читались с трудом и были непонятны, но в глазах индейцев светились печаль и надежда, будто они черпали знания из бесконечной бездны прошлого. Для пришельцев знания оставались недоступны. Более того, они даже не подозревали об их существовании.
Неожиданно Мазуров услышал стук, словно дятел бьет в дерево и никак не может добраться до личинки. Откуда ему здесь взяться? Мир под ногами заходил ходуном, как во время землетрясения. Пирамиды стали рассыпаться. Ему хотелось удержать видения, схватить их рукой, но она проходила сквозь них, словно пирамиды были нарисованы даже не на воде, а на ветре или облаках.
Губы немного подсохли. Во рту появился неприятный привкус, а слюна стала тягучей и вязкой. На краях век выступила слизь и застыла, превратившись в крохотные камешки. Мазуров смахнул их, одновременно прогнав обрывки видений.
Ремизов одной ногой упирался в лавку, другая стояла на полу, руки штурмовика обхватили приклад пулемета, которым он водил из стороны в сторону, как кормчий, который хочет поймать нужное течение. В небе расцветали черно-серые крохотные облака. Вдалеке гонялись друг за другом «Ньюпоры» и «Альбатросы».
Пилоты транспорта напоминали горнолыжников, которые должны объехать все ворота, даже не задев их. Отличие заключалось в том, что расположение ворот нужно угадать. Появлялись они неожиданно. Пилотам приходилось наваливаться на штурвал одновременно. Случись что-нибудь в салоне, они узнали бы об этом в самую последнюю очередь. Но там пока ничего не происходило.
— Что там? — спросил Мазуров.
— Бронепоезд с зениткой, но мы от него уйдем, — сказал Ремизов, не отрываясь от пулемета, — и пять истребителей.
Мазуров улыбнулся, вспомнив детскую сказку про Колобка. От дедушки с бабушкой они ушли, от зайца тоже, а сейчас наткнулись на волка и медведя. Он посмотрел на Тича и его помощника. Они сидели на лавках, не реагируя на происходящее, точно погрузившись в медитацию, и теперь, наверное, созерцали внутренний мир или иные пространства. Они ничем не отличались от искусно вырезанных статуй, разрисованных, чтобы еще больше походить на настоящих людей.
Бронепоезд поджидал. Его прямоугольный, немного скошенный нос напоминал упрямого бычка-ротана, который размышляет, что же ему дальше делать. К нему, как пиявки, присосались три бронированных вагона. Между вторым и третьим затесалась платформа с зениткой. Зажатые со всех сторон бронированными плитами, там суетились люди, но истребители, обстреливающие железного монстра, мешали им прицелиться.
Крылья аэроплана были мокрыми. Сырость проникала внутрь и заставляла зябко ежиться. Ветер гнал тучи на запад. Молнии поутихли, небо стало светлеть. Скорее всего, стая туч скоро разбредется кто куда, а дождь отмоет их до белизны.
«В лесу сейчас полно грибов», — подумал Мазуров. Он с трудном собирал мысли в единое целое. Они разбегались, как тараканы, норовя забраться в какую-нибудь щель. Капитан сжал голову ладонями, но это слабо помогало.
Бронепоезд выплюнул еще одну порцию желчи. Но она не долетела до «Ильи Муромца», а разлилась по небу в нескольких сотнях метров за его хвостом. После этого зенитчики успокоились. Штурмовики и пилоты могли вздохнуть с облегчением. Любое попадание шрапнели превратило бы аэроплан в решето с соответствующими аэродинамическими качествами.
— От медведя ушли, — прошептал Мазуров и подумал, что по сценарию на сцене вскоре должна появиться лиса.
За многим, что происходило в воздухе, он мог следить только по теням, скользившим по земле, будто ему показывают оптический аттракцион.
Ремизов нажал на курок, но тут же отпустил его. Очередь получилась короткой. Отдача затрясла тело штурмовика, как в нервном припадке. Со лба сорвались капли пота.
— Ч-черт, — в сердцах промычал он сквозь зубы.
— Попал? — спросил сидевший рядом Вейц.
— Какое там. Все равно, что камешками по воробьям. Они держатся друг от друга слишком близко. В своих боюсь попасть. Стреляю, только чтобы отпугнуть.
— Правильно, — сказал Мазуров.
Это прозвучало как одобрение учителя, который посмотрел на художества своего подопечного. Дескать, рисуй дальше, в том же духе, а потом посмотрим, поставить ли тебе хорошую оценку или отправить домой за родителями. Новые силы в Ремизова это не вдохнуло. Он больше не стрелял, а только шептал всевозможные проклятия и чертил стволом пулемета по небесам похоже, каббалистические знаки, в которых должны запутаться «Альбатросы».
Вейц приник ко второму пулемету, но также оставался сторонним наблюдателем и в ход сражения не вмешивался. Зато теперь остальные штурмовики получили возможность узнавать от него, что творится за другим бортом. Выглядело это примерно так: после продолжительного молчания Вейц произносил какой-то непонятный звук, нечто среднее между стоном и рычанием, что, очевидно, означало промах русского пилота, восторженный, но тоже трудно переводимый возглас, скорее всего, говорил о том, что и стрельба немецких пилотов далека от совершенства. Ни одна из сторон не могла пока записать на свой счет победы. Объяснялось это тем, что пилоты были асами и никто из них не совершал ошибок, так что воздушное сражение напоминало игру в салочки.
Штурмовики походили на зрителей, которые сидят на лавках, расставленных вокруг футбольного поля. Они внимательно следят за игрой, но не могут даже подбодрить свою команду, потому что их разделяет звуконепроницаемая перегородка.
Пулеметная стрельба не прекращалась ни на секунду. В аэропланах вскоре должны закончится боеприпасы, тогда они смогут разойтись с миром. Игра будет закончена вничью, что, вообще-то отражало расстановку сил. Осталось немного потерпеть.
Трескотня раздражала точно так же, как комар, который пищит возле лица всю ночь. Убить его никак не получается, потому что ничего не видно. Надо вставать, зажигать свет, а этого так не хочется делать, поэтому приходится терпеть и надеяться, что комар укусит всего один раз, напьется крови и улетит. Вот только комар-то не один…
Счет открыли немцы. Казалось, что русский аэроплан облили огнем, вначале вспыхнул двигатель, затем шланг, из которого вырывалось пламя, переместили на кабину, крылья и хвост. Пилот попытался выбраться из кабины. Отбиваясь руками от языков огня, которые начинали лизать его лицо, он старался расстегнуть ремни, приковавшие его к сиденью. Прошло несколько секунд, прежде чем ему удалось справиться с застежками, а потом он вцепился ладонями в борта аэроплана, но они уже горели и рассыпались под тяжестью его тела, точно их сделали из картона. Пилот подтянулся, но его лицо уже утонуло в огне, кожа обгорела, задымился шлем, очки треснули. На какой-то миг он застыл в этой позе. Еще немного, и он последним движением выбросит свое тело из кабины. Но нет, пилот стал оседать обратно. Как тающий кусок льда. Пламя накрыло его с головой.
Охваченный огнем аэроплан все еще продолжал лететь, но от него стали отваливаться огромные горящие куски. Вдруг резко и неожиданно он клюнул носом вниз, стал заваливаться на правое крыло и наконец развалился. Из объятий крыльев выскользнул фюзеляж и как бомба ринулся к земле. Крылья падали медленнее. Они кружились, как в танце, оставляя за собой дымный след.
Аэроплан немца раскрасили так, что он походил на дракона. На фюзеляже нарисовали чешую, а на крыльях — перепонки. Рядом с пилотской кабиной размещались маленькие злые глаза. «Дракон» праздновал победу. Русских истребителей рядом не было. Ремизов так долго готовился к этому моменту, что чуть не упустил его. Когда пулемет в руках штурмовика ожил, немецкий аэроплан почти покинул сектор обстрела.
Ремизову показалось, что пули отлетают от чешуи и уходят в стороны, не причиняя аэроплану никакого вреда, за исключением, быть может, маленьких царапин. Андрей налегал плечом на пулемет, который все порывался вырваться из рук, вдавливал его в борт. Горячие гильзы усеяли пол. Они разлетались в стороны. Штурмовики с трудом уворачивались от них.
Ремизов так сильно сжал челюсти, что на скулах проступили мышцы, а зубы, казалось, не выдержат этой нагрузки и начнут крошиться. Возле его лица, извиваясь, ползла пулеметная лента. Пот струйками скатывался со лба, собирался на бровях, стекал на глаза. Ему хотелось стрелять в драконью морду, но он сосредоточился на его спине и боках. Ремизов еще несколько секунд продолжал нажимать на курок после того, как пулемет перестал сотрясаться от стрельбы, и только потом понял, что у него закончились патроны. Он смахнул пот. Глаза стали лучше видеть.
— Не может быть, — прошептал он.
Руки штурмовика опустились. Они повисли плетьми вдоль тела. «Наверное, убить дракона обычные пули не могут, — подумал он, — нужен колдун, который наложит на них чары, и только в этом случае, пули смогут пробить драконью чешую». Ремизов сумел справиться с этим наваждением и, обернувшись, закричал:
— Мне нужны патроны!
Он нагнулся, потом встал на колени, зашарил руками под лавкой. Его пальцы натыкались на пустые гильзы. Они уже остыли и не обжигали кожу. Гильзы перекатывались по полу. Идти по нему теперь стало так же опасно, как по замерзшему пруду. Наконец Андрей нашел ящики с пулеметными лентами. Он вытянул один их них, открыл крышку, схватил ленту и потянул ее на себя. Она стала разворачиваться как змея…
Германский аэроплан плавно терял высоту. Он почти не был поврежден, но пилот получил с десяток ранений, большинство из которых оказались смертельными. Парашют на спине был в нескольких местах пробит. Он еще бы выдержал тяжесть человека, но пилот даже не сделал попытки выпрыгнуть из аэроплана. Он не мучился и умер мгновенно. Раздробленная голова склонилась над приборами, залив их кровью. «Дракону» предстояла последняя посадка.
Хвостовой киль упирался Мазурову в спину, как костяная пластинка на хребте динозавра, поэтому капитану постоянно приходилось чуть нагибаться вперед, а там… нет, это была не бездна, потому что он видел ее дно, и от этого становилось еще страшнее. Хвостовая пулеметная точка очень походила на воронье гнездо. Ее постоянно болтало, и Мазуров опасался, что пулемет выпадет у него из рук, поэтому он все крепче сжимал его, забыв о том, что пулемет надежно закреплен на шарнире. Часть толчков он мог предвидеть. Для этого нет нужды обладать какими-то мистическими способностями, надо лишь следить за элеронами. Периодически они приходили в движение, то опускались, то поднимались, лениво, как хвост огромной рыбы. В это время скрипели петли и начинали гудеть растяжки, а Мазуров вжимался поглубже в кресло. Но укрыться здесь было негде. Пули пройдут через фанерные борта, как будто и вовсе не встретив преграды.
Здесь находилось самое неуютное место аэроплана, куда спокойно можно ссылать провинившихся на исправительные работы. Добраться до него можно было, только лежа на специальной тележке, которая устанавливалась на проложенных по полу аэроплана рельсах. Чтобы заставить ее катиться, приходилось отталкиваться от боковых стенок. Главное, чтобы в голову не пришла ужасная мысль о том, что возвращаться придется тем же путем — по узкому тоннелю, когда над головой нависает потолок и кажется, что в любую минуту он может обвалиться. При этом как-то не думаешь о том, что он сделан всего лишь из фанеры, а не из камня.
Киль рассекал ветер на два потока. Они били не в голову, а в плечи, словно хотели вытолкнуть человека из кресла, но делали это мягко. Ветер шептал о том, какое наслаждение может доставить свободное падение. О, Мазуров хорошо разбирался в этом вопросе. Вот только парашют он с собой не взял.
За всем боем капитан уследить не мог. Стоило ему только повернуть голову, как у него тут же перехватывало дыхание. Ветер забивал в рот и нос столько воздуха, что он начинал захлебываться.
Он походил на постового, которому когда-то приказали охранять горный перевал. Теперь о нем все забыли, помощи ждать неоткуда.
Тем временем еще два аэроплана расстались с небесами. Судя по тому, что их партнеры устремились друг к другу и продолжили выяснять отношения между собой, один из них был германским, а другой русским.
Они, как мотыльки, летят на свет, бьются о закрытое стекло, а потом, если находят в окне лазейку, пробираются внутрь комнаты и, подлетев к огню, падают, опаляя прозрачные хрупкие крылья, но что-то продолжает манить их к свету.
«Альбатрос» появился невдалеке от хвоста транспорта неожиданно, поднявшись снизу, словно всплыв на поверхность из морских глубин. Потом он оказался немного выше «Муромца» и стал к нему приближаться, используя преимущество в скорости. Следом за ним, как стая гончих, преследующих уже почти загнанную добычу, неслись два русских аэроплана. Но Мазуров понял, что они перехватят немца уже после того, как тот обстреляет транспорт. Он поежился, приник к пулемету, поудобнее взял приклад, навел ствол на неприятельский аэроплан. Это была честная дуэль. У немца всего лишь один пулемет, а кабина его аэроплана была таким же плохим укрытием от пуль, что и хвост «Ильи Муромца».
Они будто ждали крика секунданта, который разрешил бы стрелять. Они так и не разыграли, кто из них первым должен открыть огонь, а поэтому, как настоящие дуэлянты, выжидали, отдавая право первого выстрела сопернику, чтобы потом, когда тот промахнется, выстрелить уже не спеша. Это продолжалось несколько секунд, а потом у обоих одновременно сдали нервы.
Лицо немца закрывала железная маска, как у рыцаря, только плюмажа из разноцветных страусовых перьев не хватало для завершения ансамбля, но его в какой-то мере заменял развевающийся белый шарф.
Германец чувствовал позади себя дыхание русских, но не хотел отказываться от атаки на транспорт. Черная краска на лице Мазурова ввела пилота в заблуждение. Удивлению его не было предела, когда он увидел, что за хвостовой пулеметной установкой сидит негр. Откуда у русских в армии, да еще на аэропланах, взялись негры, ведь у них нет колоний в Африке?
«Альбатрос» надвигался, как скорый поезд. Мазурову казалось, что он стоит на рельсах и не может сойти с места, а пулеметом поезд разве остановишь? Все равно, что стрелять в медведя из мелкокалиберной винтовки, которой можно распугать разве что голубей или ворон.
Бешено вращающийся пропеллер, лопасти которого слились в монолитный круг, чуть не задел голову Мазурова, обдав его тугой струей ветра. Она вдавила штурмовика в сиденье. Не наклони он голову, пропеллер снес бы ее лучше заправского палача, одним ударом перерубив шейные позвонки. И лишь когда над ним пронеслись два русских истребителя, Мазуров понял, что за несколько секунд он выпустил в немецкий аэроплан примерно треть пулеметной ленты. Он не заметил, как это произошло. Пальцы действовали независимо от мозга. Он не мог извлечь из памяти этот момент, то ли его и не было, то ли он стерся, то ли был настолько мимолетным, что сознание не успело его зафиксировать.
Взгляд капитана наткнулся на следы, оставленные пулями в хвостовом оперении «Муромца». Вереница маленьких дырочек с рваными краями тянулась прямо к Мазурову, но она оборвалась, не добравшись до него сантиметров двадцать. Почему она остановилась? Капитан обернулся. Немец заканчивал крутой вираж, одновременно пробуя забраться высоко в небо и оторваться от преследователей. Но они гнались следом, не отставая ни на шаг. Две кошки гонятся за мышкой. Теперь у нее нет даже острых зубов. Ни одна пуля, похоже, в немца не попала. Он был как заговоренный. Мазуров стал искать мистические знаки на фюзеляже и крыльях его аэроплана. Но солнце светило в глаза, и аэроплан германца казался черным, хотя на самом деле основные цвета его были красно-белыми.
Немцы растворились в небесах. Так когда-то кочевники устраивали набеги на пограничные русские укрепления. Если они не застигали их врасплох, то после небольшой и обычно бесцельной перестрелки уходили обратно в степь ждать более благоприятного момента для нападения.
Поредевший конвой истребителей постепенно занимал прежние позиции: два по бокам, один сзади и один впереди. Когда «Илья Муромец» пересек линию фронта, капитан не заметил.
Мазуров погладил ладонью приклад пулемета. Шероховатое дерево приятно щекотало кожу. Он осторожно выбрался из сиденья, с удовольствием распрямив ноги, которые до этого постоянно находились в полусогнутом состоянии. Неожиданно он понял, что не может разогнуть спину. Любая попытка сделать это вызывала резь в пояснице, как будто туда набросали битого стекла или, скорее, кровь застыла в венах, превратившись в медленно тающие ледышки. Процесс пошел быстрее, когда Мазуров стал массировать поясницу руками. Когда тело стало более послушным, он отправился в обратный путь. Капитан крепко держался руками за стенки — одно неосторожное движение, и его выбросит из аэроплана так же, как волна смывает с палубы зазевавшегося пассажира, вот только спасательный круг Мазурову не поможет.
Туннель оказался почему-то слишком коротким, словно во время воздушного боя у аэроплана оторвало кусок хвоста. Мазуров сумел преодолеть его, всего лишь пару раз оттолкнувшись от стенок. Луч света, пробравшись в туннель через крохотную пулевую пробоину, как кнутом хлестнул его по лицу.
Мазуров встал, оттолкнул ногой тележку. Она отъехала обратно в туннель и никому теперь не мешала. Потолок был еще слишком низок, и Мазуров не смог выпрямиться во весь рост. Он размял мышцы, несколько раз интенсивно согнув и распрямив ноги и руки. Голова при этом постоянно упиралась в потолок. Застоявшаяся кровь заструилась по венам. Она принесла тепло и боль. Мазуров и не заметил, что замерз.
В салоне стояла невыносимая духота, особенно это чувствовалось после открытой площадки, поэтому первым желанием было разбить иллюминатор и впустить в салон небеса. Капитан почувствовал зависть к пилотам сопровождения, которые сидели в открытых кабинах, потом он вспомнил о ветре и о холоде, но… все равно продолжал им завидовать.
Впору надевать противогазы. От тяжелого воздуха того и гляди упадешь в обморок. Но пока штурмовики держались, хотя их движения стали вялыми, замедленными, будто они находились в какой-то тягучей жидкости, похожей на очень прозрачный студень.
— Все целы? — Мазуров взял инициативу на себя и огляделся.
— Да, — сказал кто-то; голоса он не узнал.
Штурмовики вновь впали в апатичное состояние, как сонные мухи в преддверии зимних холодов. На разговоры не хотелось тратить силы, и без того в горле так пересохло, точно они без умолку болтали на протяжении последнего часа.
Из кабины появился пилот. Солнечные лучи подталкивали его в спину, обступали голову, из-за этого казалось, что у него нимб. Хорошо еще, что тени скрывали его лицо. Будь оно освещено, никто бы и не подумал, что он похож сейчас на ангела-хранителя.
— Через… — слово прозвучало настолько тихо, что его услышали лишь те, кто сидел возле кабины, поэтому пилоту пришлось прокашляться, прочистить горло и лишь только после этого, он сумел внятно произнести: Через десять минут садимся.
Очевидно, каждое слово вызывало у пилота боль, словно его горло было изъедено язвами.
Приятная новость восторга не вызвала. Штурмовики, да и то не все, показали кивками, что расслышали слова пилота. Он вновь исчез в кабине.
Вскоре аэроплан завалился на правое крыло, а в следующие несколько минут могло показаться, что транспорт попал в воздушный поток и теперь его качает на волнах из стороны в сторону, причем их амплитуда была куда как больше, чем на море.
Изредка Мазуров поглядывал в иллюминатор, но не мог отыскать никаких знакомых ориентиров, по которым пилот вел аэроплан к летному полю. Впрочем, он практически не запомнил дорогу, когда летел с Шешелем, и уж тем более не следил за ней, отправляясь на это задание.
Тело стало легким, такой же эффект дают индийские благовония, при этом душа расстается с плотью и отправляется странствовать по свету. Время путешествия зависит от подготовки и выносливости человека.
Несколько секунд аэроплан летел параллельно земле, примерно в полуметре от нее. Так пловец стоит возле воды и не решается в нее ступить, думая, что она слишком холодная, наконец он трогает ее кончиками пальцев, отдергивает ногу, ежится, по телу у него пробегают мурашки, а потом он решительно идет вперед.
Аэроплан запрыгал по земле, как кенгуру. Эти прыжки были длинными, красивыми. Он отталкивался колесами, пытаясь продлить наслаждение полетом, но летное поле не хотело больше отпускать его. «Илья Муромец» заскользил по земле, медленно гася скорость.
Мазуров ждал, что сейчас сломается колесная стойка или еще что-нибудь, но… Когда тряска наконец прекратилась, он почувствовал усталость. Только усталость… Ему казалось, что он смотрит в окно железнодорожного вагона. Люди, стоящие на станции, через несколько секунд останутся далеко позади, и он никогда их больше не встретит, а даже если и встретит, то не узнает, потому что не успел рассмотреть и запомнить их лица.
К аэроплану бежали санитары с носилками. Они походили на охотников, которые хотят добить попавшего в ловушку зверя. Это надо сделать как можно быстрее, пока зверь не оправился и не попытался вырваться, поэтому они не стали ждать, когда аэроплан остановится.
«Кажется, все. Надо хлопать в ладоши, радостно кричать, а когда появятся пилоты, сказать им, что они прекрасно совершили посадку». Но у Мазурова не хватало сил даже на то, чтобы подняться с лавки, словно он прирос к ней и теперь придется выпиливать кусок дерева, на котором он сидел.
Плачевную картину они, наверное, представляли, когда в салон пробрались медики. Вероятно, пилоты сообщили им, за кого нужно браться в первую очередь. Мазуров не успел сказать ни одного слова, а медики уже осматривали драгун. Погрузившись в работу, его они просто не замечали. Это было немного обидно.
С кислыми физиономиями медики поглядывали друг на друга. Но ничего не говорили, хотя и так становилось ясно, что они недовольны состоянием пациентов. Драгуны потеряли слишком много крови, а раны им обработали плохо. Все это снижало шансы на выздоровление. Медики сидели на корточках и, очевидно, хотели выяснить, можно ли раненых транспортировать, или придется делать операцию прямо здесь, в салоне аэроплана. Для этого нужно будет принести инструменты и какие-нибудь осветительные приборы.
Силы постепенно возвращались к Мазурову. Он чувствовал, что может встать. При этом его будет немного покачивать, но вряд ли он упадет, а если и начнет падать, то сможет опереться о борт аэроплана. Он боялся, что застрянет в дверях как раз в то время, когда медики начнут выносить носилки.
Фраза: «Вам помочь?» звучала бы глупо. Она могла только разозлить медиков. Если штурмовикам дать носилки, то они могут выскользнуть из их рук. Раненый упадет на землю. Новые синяки и ушибы не пойдут ему на пользу. Мазуров промолчал. Внезапно он ощутил чей-то взгляд, словно кто-то легонько коснулся его лица. Так ветер, прохладный и приятный, ласково гладит кожу. Глаза Рингартена казались неестественно большими, их оттеняли синяки усталости. Лицо штурмовика было белым, словно его вываляли в муке.
Мазуров попробовал подмигнуть Рингартену, чтобы хоть как-то подбодрить его. Говорить он не хотел, словно слова могли испугать медиков. Он лишь неслышно прошептал губами: «Все», — но Рингартен уже откинулся назад и ничего не видел, за исключением, быть может, болезненных видений.
Медики пришли наконец к общему решению. Они ограничились тем, что шприцами вкололи в вены драгун мутноватую жидкость — совсем как служители какого-то религиозного культа, которые совершают обряд над телом, вот только непонятно, то ли они собираются принести жертву своему божеству, то ли, напротив, стараются вдохнуть жизнь в умирающего человека, призывая для этого потусторонние силы.
Осторожно, словно от грубого прикосновения драгуны могли рассыпаться, медики положили их на носилки.
— В лазарет, — приказал один из них санитарам.
Мазуров почесал небритую щеку. Больше всего ему хотелось сейчас спать. Нет. Прежде искупаться, съесть кусок теплого белого хлеба и запить его молоком, а потом можно и в кровать. У него слюнки потекли от этих несбыточных желаний.
Взгляды медиков скользили по штурмовикам, оценивая их состояние. Только теперь Мазуров сумел рассмотреть их лица: преждевременные морщины избороздили кожу. Они собрались складками возле глаз, а в самих глазах застыли тоска и боль, словно они вытягивали ее у своих пациентов. Их взгляды миновали Мазурова, почти не задержавшись на нем, словно того и вовсе не было, и остановились на Рингартене. Они нашли новый объект, которым теперь всецело занялись.
Мазуров выбрался из аэроплана, остановился у двери, потому что навстречу ему двигались санитары. Они уже отнесли драгун в лазарет и теперь вернулись за следующим грузом. Вначале Мазуров порывался уступить санитарам дорогу. Но санитары забирались на крыло неуклюже, друг за другом. Мазуров понял, что просто не успеет помешать им. Он спрыгнул с крыла. Ноги подкосились, он плюхнулся на колени и, если бы не успел выставить вперед руки, то уткнулся бы в траву носом. Рыцарь вернулся домой из Крестового похода. Он еще и сам не верит, что остался жив. Для этого ему надо поцеловать родную землю. В голове закружилось. Мысли плавали в какой-то жидкости, которую основательно встряхнули, и теперь должно пройти какое-то время, чтобы она снова успокоилась.
Про почетный караул все забыли, барышень с цветами на летное поле не пустили…
Кто-то ухватил его за плечи и помог подняться. Мазуров стал лепетать что-то о том, что все сделает сам. Он даже попытался оттолкнуть помощника, но был слишком слаб, чтобы сопротивляться. На лице капитана проступило раздражение, но оно сразу же исчезло, когда он увидел, кто ему помог.
Семирадский не дал сказать Мазурову ни слова, обнял и легонько похлопал по плечам. Полковник измазался маслом, одна щека припухла.
— С возвращением. Как ты?
— Спасибо. Сносно. Бывало и хуже.
Что-то упало позади Мазурова. Он вздрогнул, испугавшись, что это санитары не удержали носилки и уронили Рингартена. Когда он обернулся, то увидел, что это Ремизов спустился с крыла и разминает мышцы. Следом за ним из аэроплана выбрались Александровский, Колбасьев и Вейц.
— Приятно чувствовать под ногами земную твердь, — сказал Ремизов.
Семирадский не дал Мазурову времени опомниться и увел за собой, приговаривая:
— Пошли. Хоть отдохнете немного, — при этом он махнул рукой остальным штурмовикам, предлагая им пойти следом. — О раненых не беспокойся, говорил Семирадский, — мои медики просто маги. Они могут оживить даже мертвого. Я сам удивляюсь их искусству.
Ноги цеплялись одна за другую. Из-за этого Мазуров постоянно тыкался в плечо или спину пилота, а тот был похож на поводыря, который ведет слепого. Техники тем временем маскировали аэроплан, набросив на него сетку. Определенно они опасались, что эта огромная птица в любую секунду может взмахнуть крыльями и улететь.
Мазуров остановился, обернулся, показал на аэроплан, который все еще просматривался между деревьями, и сказал:
— Там остались документы в ранцах, негативы и пленка.
— Техники все принесут. А вот и начальство.
Мазуров и сам видел, что навстречу идут Рандулич и Игнатьев. Полковник шел так, словно подошвы его сапог сами отталкивались от земли. Ему приходилось их придерживать, иначе, сделав один шаг, он мог оказаться за тридевять земель от летного поля.
Собрав остатки сил, Мазуров выпрямился (до этого он сутулился, как старик, и немного шаркал ногами), попытался сделать шаг твердым. Кое-как это ему удалось. Конечно, он был далек от мастерства тех, кто участвует в парадах, но у них слишком много времени уходит на то, чтобы начистить до блеска медные пуговицы на кителях, пряжки на ремнях и кокарды на шлеме, а еще надо почистить сапоги, выгладить брюки. На остальное, за исключением строевой, уже нет времени. Мазуров им не завидовал. Слишком рутинной была их служба.
Пилоты во время полета не прекращали вести переговоры с землей. И генерал, и полковник знали о том, сколько штурмовиков вернулось и что они привезли. Для более детального доклада времени хватит.
— Я привез архив Тича. Почти весь. Профессор только делает вид тертого калача. На самом деле он все расскажет. Мне кажется, что если ему предложить хорошие условия, он будет с нами сотрудничать.
— Молодцы, — сказал Рандулич. — Отдыхайте. Документы и Тича с ассистентом я забираю. Вам придется еще немного потрястись в машине. Она довезет до города. Там вас ждут гостиничные номера. Я тебе позвоню. Приготовишь мне отчет и обо все расскажешь. Будь здоров.
— Спасибо, господин генерал.
Игнатьев стоял рядом, в разговор не вступал, но лицо его прямо сияло от счастья, и он, как ни старался, скрыть свои чувства не мог. Он не говорил, наверное, из-за переполнявших его чувств. Полковник с трудом сдерживал себя. Ему хотелось побыстрее наброситься на документы, как алкоголику — на бутылку спиртного. Он весь уже находился в сладких мечтах. Мысленно он уже листал эти страницы. Его взор туманился. Его губы что-то шептали. Мазуров чуть не засмеялся. Он добыл полковнику генеральские эполеты. Теперь тот будет обязан ему по гроб жизни, если не забудет, конечно. А Рандуличу Мазуров был благодарен, что тот не стал пока донимать его расспросами.
Мазуров пил чай, медленно приходя в себя. Он был здесь всего лишь двое суток назад. За это время в комнате ничего не изменилось. Только закладка в книжке, которую читал Семирадский, заметно переместилась к концу. И вот что еще — Мазуров знал, что если посмотреть на полетную доску, то несколько фамилий, которые были написаны на ней в прошлый раз, будут уже стерты, а цифры напротив других изменены.
Должно пройти какое-то время, возможно всего лишь один день или, скорее ночь, прежде чем он свыкнется с мыслью, что все позади. Примерно неделя для того, чтобы кровь вымыла накопившуюся в венах усталость, и тогда он снова станет на что-то способен, а пока капитан радовался хотя бы тому, что может держать чашку чая в руке. Правда, при этом она немного дрожала. Ему приходилось быть осторожным, чтобы не расплескать содержимое чашки. Когда он отпил половину, делать это стало гораздо легче.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Этой ночью никто из них не спал. Они сидели в окопах, тесно прижавшись друг к другу, смотрели на звезды и слушали тишину. Они могли бы раствориться в темноте, потому что их форма была черной, их выдавали бледные спокойные лица да еще фосфоресцирующие нашивки на левых предплечьях: череп, а под ним две перекрещенные берцовые кости. Немцы прозвали их «Черной смертью» не только за экипировку. Они всегда наступали молча, не подбадривая себя криками. Они даже не стреляли, когда волна за волной их черные силуэты перекатывались с холма на холм, приближаясь к немцам. Только смерть сияла алым на кончиках штыков, которые они сжимали в руках. Они шли медленно, размеренно, не сбиваясь на бег, словно никуда не спешили, зажимая между зубами ленточки бескозырок, чтобы ветер не унес их. Стоило заработать пулемету противника, как его тут же обкладывали взрывы, как волка — ленточки с красными флажками. Единственное, что он успевал сделать, это раскрыть свое убежище. Пальцы пулеметчиков в эти секунды должны были дрожать точно так же, как у боцмана, который теребит свою дудку, застывшую на полпути к губам, и ждет, когда командир отдаст приказ идти в атаку. Там, за спинами наступающих русских, стояло несколько орудий. Канониры учились стрелять при штормовой качке, когда волны играют кораблем, как щепкой, поэтому, когда под их ногами была твердая поверхность, покачнуть которую может разве что мощное землетрясение, они считали позором для себя, если на поражение цели уходило больше двух снарядов. Один пристрелочный, второй — на поражение. Тот, кто тратил на это больше боеприпасов, должен был угощать остальных шампанским. У немцев было только одно средство пережить их атаку — воткнуть штык в землю и поднять руки вверх, в этом случае смерть могла обойти их стороной.
Они ждали, когда тишина расколется. Тогда они начнут действовать. Возможно, придется атаковать. Они находились здесь уже несколько часов, проводили закат и теперь дожидались рассвета. Он мог наступить чуть раньше, чем приходит утро. Ведь все во власти людей. А вспышки далеких разрывов так похожи на восход солнца.
В эти минуты их чувства так обострялись, что они могли услышать любой шорох.
Метрах в пятидесяти от окопов можно было разглядеть обгоревшие останки грузового автомобиля, который накрыло прямым попаданием. Дальше мир тонул в темноте.
Им сказали, что на этом участке фронта ночью должен прорваться отряд разведчиков. Но он мог и не дойти.
Бруствер в окопах сделали из небольших камней. Как оказалось, такого добра здесь было не меньше, чем картофелин на картофельном поле, так что моряки затупили не одну лопату, когда ковырялись в этой земле. На камнях остались зарубки. Переднюю стенку окопов, чтобы земля не осыпалась, укрепили бревнами.
Лейтенант покусывал курительную трубку, успокаивая нервы. В ней был табак, но он ее не зажигал, чтобы не вводить в искушение немецких снайперов. На дереве остались глубокие вмятины — следы от зубов. Лейтенант любил курить трубку, когда вел в атаку своих подчиненных. Сделав небольшую затяжку, он вынимал трубку изо рта, выпускал дым, махал рукой, подбадривая моряков. При этом он шагал небрежно, словно гулял по проспекту и размышлял, идти ли дальше пешком или все-таки стоит поймать пролетку.
Он принадлежал к определенной касте и, даже оказавшись на суше, старался выполнять все правила, поэтому перед каждым боем его мундир был безупречно чист и отглажен, словно накануне побывал в прачечной, а лицо выбрито. Не было даже порезов, которые свидетельствовали бы о том, что лейтенант нервничает или спешит. На щеки он брызнул немного одеколона. Он предпочитал носить белые перчатки, но сегодня был вынужден сменить их на черные. Лейтенант мечтал, что когда-нибудь вновь сумеет попасть на море. Это мертвому все безразлично. Но пока в теле еще теплится жизнь, все же лучше знать, что ты не будешь гнить в земле, а в худшем случае пойдешь на корм рыбам. Соленая вода над головой — могила более привычная для моряка, чем земля.
Его крейсер вот уже три месяца лежал на дне неподалеку от Гельголанда, куда его отправила торпеда немецкой субмарины, вместе с третью экипажа. Еще одна треть лежали теперь под могильными крестами. Остальные пока оставались с ним.
В руке лейтенант держал бинокль, который выиграл на спор у англичан два года назад в Капе. Они выли от зависти, когда видели, как он причаливает. С тех пор он таскал бинокль постоянно с собой, держа его на груди. Сегодня от него не было никакого проку, поскольку никакая оптика не смогла бы справиться с окружившей его темнотой. Лейтенант не делал даже попыток что-либо рассмотреть.
Вдруг он насторожился. Его по-прежнему окружала звенящая тишина, которая давила на барабанные перепонки не хуже, чем сотни тонн воды, но лейтенанту показалось, что помимо собственного дыхания он услышал шаги.
Оставляя змеистый зеленоватый след, в небо взвилась осветительная ракета. Она шипела, как гадюка. Звезды потускнели. Добравшись до небес, ракета зависла на миг, а потом ринулась вниз, прямо к силуэтам четырех всадников, которых она отыскала в темноте. Они походили на караван, добравшийся только до середины пустыни. Но запасы воды подошли к концу, а силы уже иссякли, так что другую половину пути никак не осилить. Всадники это понимали, но смерть еще не пришла за ними, где-то задержавшись. Наверное, у нее нашлись какие-то более неотложные дела. Всадники двигались друг за другом, держа небольшую дистанцию. Окажись они на минном поле, погиб бы только первый.
Ракета показала им цель в темноте. Они бросились вперед, пока она не исчезла. Ракета погасла, когда до всадников ей было еще очень-очень далеко. Их вновь поглотила ночь.
Немцы очнулись от спячки. Заработал пулемет. Он стрелял длинными очередями. Очевидно, стрелок нисколько не экономил патроны. В темноте он был беспомощно слеп, а поэтому водил стволом пулемета из стороны в сторону, пытаясь расстрелять как можно больший сектор. Судьба отпустила пулеметчику еще несколько секунд. Он невольно догадывался об этом и хотел успеть как можно больше.
Лейтенант высунулся из окопа, когда ракета еще не погасла, опрометчивый поступок, но этой ночью немецкие снайперы охотились не за ним. Он толкнул в плечо матроса, который сидел в окопе рядом с ним, процедив сквозь зубы: «Быстро!»
Матрос уперся локтем в бруствер, вскинул ружье, приладил приклад к плечу, заглянул в оптический прицел, поймал в перекрестье темноту и стал ждать.
Немцы совсем не берегли своих стрелков и обычно не ставили на пулеметы стальные щитки, как это делали русские. Зря. Матросу показалось, что он видит отблески на лицах немецких солдат, но, скорее всего, это ему просто показалось. Он затаил дыхание, а потом нажал на курок. Он сделал это дважды, сдвинув во второй раз прицел немного вправо, чтобы достать и помощника пулеметчика.
— Отлично, — сказал лейтенант, когда пулемет замолчал, — пожалуй, сегодня мы обойдемся только этим.
В небо поднялись еще три ракеты. Они не превратили ночь в день, но почти сумели вернуть вечерние сумерки.
— Сюда! — закричал лейтенант всадникам.
Их отделяло от моряков всего метров тридцать. Ракеты погасли. Если бы не они, всадники, наверное, налетели бы на бруствер, покалечили лошадей и свалились в окоп. Поди вытащи их тогда. Обидно расшибиться в самом конце, когда все напасти уже позади. Немцев, которые выпустили эти ракеты, нужно было расцеловать. Впрочем, не возвращаться же для этого назад, а то немцы окажутся такими радушными хозяевами, что на этот раз гостей не отпустят.
Когда всадники перемахнули через окопы, матросы невольно присели, втянув головы в плечи. Казалось, что копыта коней рассекли воздух рядом с бескозырками, но на самом деле, даже вытянув руки, моряки не смогли бы дотянуться до коней. Только осыпалась земля с задней стенки окопа. Вот и все.
Моряки обступили всадников, как призраки. Одна из лошадей испугалась, захрапела, попыталась встать на дыбы и сбросить своего хозяина, но он быстро успокоил ее. Остальные кони вели себя смирно. Всадники быстро спешились.
— Доброй ночи, — сказал лейтенант, — признаться, я думал, что вас будет больше.
— Я тоже так думал, — отозвался старший из кавалеристов.
— С возвращением, — трубку изо рта лейтенант так и не вынул.
Он знал, что вскоре сможет ее закурить, а потом, наверное, даже успеет выспаться.
— Спасибо.
Если их ждали, это означало, что аэроплан с разведчиками долетел. Приятная новость. Она перевешивала несколько плохих и можно было констатировать, что в целом рейд закончился успешно.
— Чем я могу вам помочь?
— Покажите, где можно отдохнуть, — попросил Селиванов.
— С удовольствием.
У поручика осунулось лицо. Он чувствовал, что за эти дни потерял несколько килограммов веса. Он не был толстым, не был тучным. Тем, кто считал вес признаком здоровья, он казался больным человеком, которому надо лечиться в Крыму, а еще лучше — в грязевых ваннах Баден-Бадена. Что бы они сказали, увидев его теперь? Хотя грязевые ванны Селиванов исправно принимал все эти дни. Вот только грязь в них оказалась не целебной. Рейд — хороший способ избавиться от лишнего веса, причем совершенно бесплатно. Не надо насиловать себя хитроумными диетами, можно есть, все что угодно, но вряд ли кто-нибудь из толстяков решится на такой способ похудения.
Поручик закрыл глаза. Лейтенанту показалось, что сейчас драгун упадет. Он даже потянулся к нему, чтобы поддержать, но вовремя остановился, потому что драгун лишь глубоко втянул ноздрями воздух и задержал дыхание, будто наслаждался его вкусом, оттягивая тот момент, когда воздух придется выдохнуть. Потом он открыл глаза. Взор Селиванова был немного затуманен, словно в этом воздухе оказалась примесь благовоний.
— Как же здесь хорошо, — наконец тихо прошептал он.
Лейтенант смотрел на драгуна, добродушно улыбаясь. Он понимал поручика.
Селиванов пошатнулся. Его глаза закатились, он стал заваливаться назад. Лейтенант упустил это мгновение. Он понял, что не успеет, что поручик упадет на землю, но тот упал на руки своих товарищей. Они опустили его на дно окопа, прислонив спиной к стенке. Лицо драгуна стало еще бледнее, словно под кожей не осталось ни капли крови. Это все легенда, что вестник из Марафона, добежав до Афин, умер от усталости. Разве от счастья умирают?
Лейтенант присел рядом с поручиком.
— Что с ним?
— Крови потерял много. Но это нестрашно. Раны неглубокие, — пояснял драгун, расстегивая ворот гимнастерки поручика.
К ним уже пробирался корабельный лекарь. Он нес с собой чемоданчик с лекарствами и инструментами — там хранились даже маленькая пила и молоток, потому что в морском бою редко кто отделывался легкими ранениями зазубренные осколки превращали человека в кусок кровоточащего мяса. Лекарь чувствовал себя мясником, разделывающим человеческие туши. Ему редко удавалось спасать им жизнь. Когда он оказывался в одиночестве, то плакал от сознания собственного бессилия, потому что все его обширные знания и сноровка оказывались почти бесполезными. Пожалуй, он был единственным членом экипажа крейсера, кто радовался тому что, оказался на суше. Здесь все было иначе.
«Скоро оклемается», — с удовлетворением подумал он, осмотрев раны поручика.
Они не замечали прекрасной безоблачной ночи и звезд, видимых отчетливо, как в гимназическом учебнике. Они не знали, что этой ночью в тыл к немцам ушли еще пять конных разъездов, но они станут головной болью моряков только через несколько дней, когда начнут возвращаться…
А пока лейтенант мог отправить своих людей на отдых, оставив в окопах только часовых…
Наступал рассвет. Затишье вскоре закончится. В оставшиеся несколько часов надо немного отдохнуть… Отдохнуть… Сон сковывал мысли не хуже, чем мороз воду…
ЭПИЛОГ
За горизонтом лежала болотная топь. Если увязнуть в ней, то обратно не выбраться, а ночь уже загнала в нее солнце. На поверхности еще оставалось больше половины красного диска, но он неотвратимо погружался, как корабль, набравший слишком много воды в трюмы. Он уже не мог оставаться на плаву. Солнце продырявило брюхо об острые шпили деревьев. Из раны фонтаном била кровь, которая затопила весь горизонт. Теперь там плескались красные волны. До них было далеко, иначе оглохнешь от звуков, которые издает остывающее солнце. Оно, наверное, шипит, точно огромный кусок масла на раскалившейся сковородке. Бедные, бедные солдаты. Солнце тонуло примерно там, где друг напротив друга закопались в землю русские и немцы.
— Ты становишься здесь постоянным клиентом, — проворчал Рандулич. Можно заранее бронировать палату и койку.
На Мазурове опять болталась полосатая вылинявшая пижама. Она немного потеряла форму, пошла пузырями на коленях и локтях, отчего еще больше напоминала тюремную одежду, осталось только добавить нашивку с номером, шапочку и сменить тапочки-шлепанцы на ботинки. Мазурову уже давно полагалось находиться в койке, но Рандулич поговорил с главным врачом госпиталя, и тот позволил им немного прогуляться по саду. Главврач еще не стал таким закостенелым бюрократом, чтобы ради соблюдения распорядка дня запретить повидаться родственникам (он почему-то думал, что Рандулич приходится Мазурову дядей). Обычно такие встречи способствовали выздоровлению гораздо больше, чем всевозможные лекарства и лечебные процедуры.
— М-да… — протянул Мазуров.
Похожим печальным опытом мог поделиться Ремизов. Когда он возвращался из джунглей, обязательно валялся пару недель в кровати, сваленный лихорадкой. Отправляясь в очередное путешествие, он заранее знал, что если вернется, то какое-то время ему придется провести в больничной койке. Лихорадка была довеском, от которого не избавиться.
Они медленно прогуливались по тропинке, проложенной в саду. По ее краям росли кусты сирени, возле госпиталя разбили цветочные клумбы, а чуть в глубине сада возвышались яблони и груши. Их ветви обвисли под тяжестью плодов. Странно, что они еще не сломались. Смотреть на них было очень приятно. Это успокаивало. Днем рядом с ними всегда сидели на лавках несколько выздоравливающих.
На небе проступил тонкий серп луны. Но небеса еще недостаточно потемнели, чтобы на них стали различимы звезды. Воздух медленно остывал. В нем еще сохранилась дневная жара, но ее отфильтровывали листья. В саду было тихо и уютно, птицы устали петь и прислушивались к разговору людей.
На неширокой тропинке с трудом могли разойтись двое, но в этот поздний час сад пустовал. Других раненых загнали в корпус госпиталя. Они поужинали и готовились теперь ко сну. В освещенных окнах мелькали какие-то силуэты, но Рандулич и Мазуров уже достаточно далеко углубились в сад, а тропинка сделала несколько изгибов, так что если бы они и оглянулись, то госпиталь увидеть уже не смогли.
Замок Мариенштад, Тич, они ни словом не коснулись тех событий, будто ничего и не было. Об этом нужно забыть, потому что теперь они не входили в число посвященных. Рандулич рассказывал совсем о другом. Мазуров, как прилежный ученик, шел чуть позади.
Его уже воротило от больничного распорядка, хотя он и находился здесь всего десять дней. Известие о приезде Рандулича он воспринял с нескрываемой радостью, а если бы тот привез с собой еще и немного нормальной еды, то визит генерала превратился бы в настоящий праздник. От одного вида каши, которую в госпитале обычно давали на завтрак, обед и ужин (различие было только в количестве), у Мазурова начинались спазмы. Даже закрыв глаза и зажав нос пальцами, чтобы не чувствовать запаха этого угощения, он не мог загнать в рот ни одной ложки осточертевшей размазни. Знакомые чувства. Значит, он шел на поправку.
— Приятная для тебя новость. Император намеревается приехать к нам с инспекционной поездкой. Заглянет и сюда. Когда, не скажу, но на днях. Вручит медали и ордена. Тебе тоже причитается. Прокалывай дырку в гимнастерке.
Но это известие оставило Мазурова равнодушным. Он сам удивился, что ни один мускул не дрогнул на его лице, сердце учащенно не забилось, а в коленях не появилась дрожь. Он должен был занервничать, броситься в палату, чтобы возле зеркала отрепетировать, как он будет принимать награду от императора, какие слова и каким голосом скажет ему в ответ. Наверное, он просто потерял вкус к жизни. Бросить бы все к чертовой матери, забраться в глухой лес, где людей ищи-свищи — все равно не найдешь, даже если пройдешь не один десяток километров.
Свободного времени появилось у него слишком много. Он почитывал официальные хроники боевых действий, но газеты приходили в госпиталь с опозданием, а «Губернские ведомости» больше внимания уделяли другим темам. Однажды он прочитал статью о Семирадском. Тот сбил двадцатый аэроплан немцев.
В госпитале ходили слухи о каких-то железных чудовищах, которые появились на фронте. От одного их вида разбегались не только немцы, но и русские. Мазуров в это не верил, потому что передовые части и тех, и других вряд ли побегут, даже если треснет земля и из нее, вместе с потоками магмы, повалят полчища чертей, потрясая кочергами и ухватами. Солдаты ощетинятся штыками и попробуют загнать чертей обратно в преисподнюю. А вот железные чудовища, скорее всего, были правдой. Но в газетах они не упоминались.
Мазуров хотел разузнать все у Рандулича, но тот начал издалека:
— Бедный Уэллс… Он то полагал, что эта война будет войной велосипедистов, вооруженных винтовками. Теперь никто не назовет его провидцем. Он дискредитировал себя. Кто теперь поверит его предсказаниям? Наверное, сейчас у него жуткая депрессия.
Мазуров молча кивнул в ответ. Что тут скажешь? А Рандуличу, похоже, захотелось поговорить.
— Менделееву все-таки удалось сделать самоходное орудие на гусеничном ходу. Неделю назад пять таких механизмов поступили к нам. Каждый обшит броней. Пуля ее не пробьет. Этакий миниатюрный сухопутный дредноут. Высоты в нем два с половиной метра, а длины — пять. Внутри очень тесно, не повернешься, чувствуешь себя, как рыба в консервной банке. Но впечатление производит неизгладимое. Когда я их увидел, то рот раскрыл и ничего сказать не мог. Представляю, каково было германцам, когда они увидели, что на них надвигаются эти монстры. Наверное, подумали, что мы нашли в тайге какой-то новый вид животных и смогли их приручить, — он усмехнулся.
Генерал умолчал о том, что одна из этих машин из-за какой-то незначительной поломки двигателя встала прямо напротив немецких орудий и они расстреляли ее, как на учениях. После боя механики так и не смогли установить, что же в танке сломалось, потому что от машины остался только почерневший остов, а экипаж сгорел.
— Мы прошли километров пятьдесят и встали. Сейчас много работы только у авиаторов. Когда тебя выпишут из госпиталя, еще недели две сможешь поправлять здоровье в Крыму, — продолжал Рандулич.
Генерал заложил руки за спину и шел размеренной походкой, немного покачиваясь вперед-назад.
У Мазурова теплилась надежда, что Рандулич приехал забрать его, как и в прошлый раз, но после этих слов она испарилась, а говорить о том, что ему здесь опостылело, не хотелось.
Сумерки сгущались. Темнело. Сестра милосердия, которую приставили к Мазурову, наверное, уже начала беспокоиться, размышляя, а не отправиться ли ей в сад на поиски своего подопечного. Не ровен час сбежит — тогда придется отчитываться перед главврачом.
— Но только две недели, — хитро подмигнул Рандулич. — Больше я тебе позволить не смогу.
Значит, вскоре предстоит еще одно наступление. Очевидно, русское командование намеревалось накопить для него достаточно сил еще до осенней распутицы, когда дороги размокнут настолько, что сделаются такими же непроходимыми, как болота. В них застрянет вся техника, а пройти по топи смогут, пожалуй, только кавалерия да пехота. На горизонте опять, как и год назад, возникли границы Восточной Пруссии, но теперь русские лучше подготовились к наступлению.
Мазурову стало грустно. Он оказался у разбитого корыта, почти как небезызвестные старик со старухой, которые вначале получили царство, а потом его потеряли. Они не сумели распорядиться свалившимся на голову богатством. Мазуров тоже распоряжался им не самым лучшим образом. От его роты осталось только одно отделение. Потребуется много времени, чтобы этот скелет вновь оброс мышцами, жилами и кожей. Сколько?
Он боялся встречи с поручиком Селивановым, но как только выберется из госпиталя, то прежде всего отправится к нему. Тот, пожалуй, проваляется на койке подольше Мазурова. Все-таки раны у него были посерьезнее, чем у штурмовика. Эта встреча не доставит ему радости, потому что он так и не выполнил свое обещание — один из драгун, которые прилетели вместе со штурмовиками, умер во время операции, а другой — через несколько часов после нее. Врачи разводили руками. Не требовалось доказывать, что они сделали все возможное, но им тоже было тяжело. Это читалось в их глазах, хотя они давно научились скрывать свои чувства.
Рингартен поправлялся на редкость быстро. Раны заживали на нем, как на собаке. Он и утверждал, что в прошлой жизни был собакой, так что теперь его не так уж просто убить. Но после удара по голове его телепатические способности резко уменьшились. Все свободное время Рингартен тратил на их восстановление. Почему-то он использовал для этого только один способ. Нельзя сказать, что он выигрывал у всех напропалую, но внакладе Игорь никогда не оставался, а если и проигрывал, то Мазуров подозревал, что он делает это специально, чтобы притупить бдительность своих соперников.
Они дошли до каменных ворот с кованой металлической решеткой. Ее немного тронула ржавчина. Замок висел в одной петле ворот, но его давно никто не использовал, и, наверное, он уже испортился и стал теперь бесполезен.
За оградой виднелся «Руссо-Балт» Рандулича. Увидев его, Мазуров понял, что пришло время прощаться. В высшей мере нетактично было бы, если бы генерал стал провожать его до палаты.
За их спинами послышался шорох. Наверное, кошка пробиралась в кустах. Мазуров обернулся чуть раньше, чем Рандулич, который, как только услышал, этот шум, замолчал на полуслове.
На тропинке появилась сестра милосердия. В сгустившейся темноте различались лишь ее белый фартук да головной убор, все остальное было только тенью.
— Извините, — сказала она. Ее голос немного дрожал. Она просто стеснялась, но должна была выполнить приказание главврача и поэтому продолжила: — Главврач требует, чтобы господин капитан вернулся в палату. Нам не хотелось бы задерживать вечерние процедуры, — в темноте не было видно к кому она обращается, куда направлены ее глаза, но очевидно, что все сказанное предназначалось генералу.
— Хорошо, — сказал Рандулич, — я скоро отпущу его. Мне нужно еще несколько минут.
Медсестра согласно наклонила голову, повернулась и ушла. Ее платье, задевая за ветки кустов, нежно шуршало. Это был такой ласкающий уши звук, что Мазурову захотелось пойти следом за сестрой, как мышке, которая двинулась следом за дудочником из Гаммельна и утонула. Когда звуки шагов сестры милосердия затихли, первым заговорил Мазуров. И так он слишком долго молчал.
— Уже известно, что будет дальше? — в первую очередь он имел в виду своих подчиненных.
— Посмотрим. Командование заинтересовалось развитием штурмовых отрядов. Предстоит организовывать более многочисленное подразделение. Я постараюсь сделать так, чтобы у тебя было на это время.
— Спасибо, генерал. Я благодарен вам за то, что вы приехали сюда.
— Полно. Не стоит благодарности, хотя, конечно, ты прибавил несколько седых волос на моей голове.
Если бы Мазуров стал отдавать честь в больничной пижаме, то это смотрелось бы смешно. Как щелкнешь каблуками, если на ногах не сапоги и даже не ботинки, а тапочки-шлепанцы? Однако на ум ему не пришло ничего лучше, чем все-таки постараться это сделать, но генерал, улыбнувшись, остановил его и похлопал на прощание по плечу.
— Счастливо, капитан. Выздоравливай. Меня дальше не провожай, ведь ты не имеешь права выходить за территорию госпиталя, а то еще сочтут тебя дезертиром. Вот конфуз-то случится, если императору будет некому вручать награду. Он мне этого не простит, а у меня и без того забот предостаточно.
Мазуров оставался на месте все время, пока Рандулич садился в «Руссо-Балт». Он смотрел на то, как водитель завел двигатель, тронулся с места, и лишь, когда автомобиль генерала окончательно скрылся из вида, Мазуров наконец-то побрел обратно.
Идти в тапочках было неудобно. Они все время норовили потеряться, поэтому Мазуров поднимал ноги осторожно, чтобы резкое движение не отправило тапочку в ближайшие кусты сирени. Ему совсем не нравилась перспектива провести какое-то время в поисках. Искать тапочку придется на ощупь. Заросли были колючими, а темнота уже настолько затопила мир, что в радиусе одного метра перед глазами все сливалось в непроглядную пелену, и лишь где-то впереди, сквозь листву, маячили огоньки в окнах госпиталя. Интересно ощущать себя мотыльком, который летит на свет.
Заросли обступали его темной стеной. У капитана появилось ощущение, что он переместился на много лет в прошлое. Он возвращается с речки. Ему уже давно нужно быть дома — там ждут родители. Но он задержался, и теперь ему попадет. Родители скажут, что так делать нельзя, а потом дадут горячего чая и еще теплых пирогов с вишней и яблоками.
На пороге госпиталя с ноги на ногу переминалась сестра милосердия. Она, немного нервничая, всматривалась в заросли. Мазуров мог бы подобраться к ней тихо, так что она не увидела бы даже, как он, оказавшись за ее спиной, прошел в корпус. Но капитан сделал так, чтобы медсестра как можно раньше услышала его шаги. Он зашаркал подошвами тапок по тропинке, стал задевать руками кусты, в общем — превратился в медведя, который только что выбрался из берлоги, но еще не проснулся окончательно и натыкается на все, что ему попадается на пути.
Мазуров вдруг захотел подарить сестре милосердия цветы, но она уже увидела его, и если бы он стал сейчас обрывать клумбу, то это выглядело бы обычным хулиганством. Ему сделалось грустно, и он стал корить себя за то, что не додумался нарвать цветов раньше. Захотелось что-то придумать, чтобы задержаться с ней на этих ступеньках хоть на несколько минут, не входить в госпиталь и поговорить о чем-нибудь: книгах, театральных постановках, погоде наконец, но только не о предстоящих процедурах. Увы, воображение на этот раз его подвело.
Прохладный ветер приятно обдувал лицо. Вот только появились откуда-то полчища комаров. Мазуров решил не вступать с ними в войну. Он знал, что проиграет ее.
— Простите, что задержался, — сказал он.
— Врач ждет вас, господин капитан.
Сестра милосердия уже успокоилась. Выражение на ее лице изменилось, стало немного капризным, словно она не может простить своему поклоннику, что тот опоздал на свидание да еще купил ей совсем не то пирожное, которое она любила, и не те цветы. Но она еще отыграется и устроит ему испытание.
Мазуров чуть не рассмеялся, увидев ее лицо. Он даже отвернулся, чтобы скрыть от девушки свою улыбку.




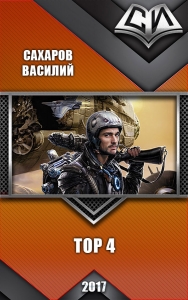

Комментарии к книге «Там, где бродит смерть», Александр (2) Марков
Всего 0 комментариев