Дмитрий Глуховский Метро 2034
Автор благодарит Ларису Смирнову, Елену Фуксину, Сергея Козина, Юрия Тимофеева, а также пресс-службу Московского метрополитена за помощь в создании этой книги.
ПРОЛОГ
2034 год.
Весь мир лежит в руинах. Человечество почти полностью истреблено. Радиация делает полуразрушенные города непригодными для жизни. А за их пределами, по слухам, начинаются бесконечные выжженные пустыни и дебри мутировавших лесов. Но никто не знает наверняка, что там.
Цивилизация угасает. Память о былом величии человека обрастает небылицами и превращается в легенды. Со дня, когда последний самолёт оторвался от земли, минуло больше двадцати лет. Изъеденные ржавчиной железные дороги ведут в никуда. Стройки века, так и не доведенные до конца, превратились в развалины. Радиоэфир пуст, и связисты слышат только унылое завывание, в миллионный раз настраиваясь на частоты, на которых раньше вещали Нью-Йорк, Париж, Токио и Буэнос-Айрес.
Минуло всего двадцать лет с того, как это произошло. Но человек больше не хозяин Земли. Создания, рожденные радиацией, приспособлены к новому миру куда лучше него. Эпоха человека подошла к концу.
Тех, кто отказывается в это верить, совсем немного — всего несколько десятков тысяч. Они не знают, спасся ли кто-то еще, или они — последние люди на планете. Они живут в Московском метро — самом большом из когда-либо построенных противоатомных бомбоубежищ. В последнем убежище человечества.
Все они оказались в метро в тот день, и это спасло им жизнь. Герметические затворы защищают их от радиации и чудовищ с поверхности, изношенные фильтры очищают воду и воздух. Собранные умельцами динамо-машины вырабатывают электричество, на подземных фермах выращивают шампиньоны и свиней.
Центральная система управления распалась уже давно, и станции превратились в карликовые государства. Люди на них сплачиваются вокруг идей, религий или просто фильтров для воды.
Это мир без завтрашнего дня. В нём нет места мечтам, планам, надеждам. Чувства здесь уступают место инстинктам, главный из которых — выжить. Выжить любой ценой.
Предысторию событий, описываемых в этой книге, читайте в романе «Метро 2033».
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ
Они не вернулись ни во вторник, ни в среду, ни даже в четверг, оговоренный как крайний срок. Первый блокпост нес дежурство круглосуточно, и если бы дозорные услышали хоть эхо призывов о помощи, заметили бледный отблеск луча на влажных темных стенах туннеля, вперед, к Нахимовскому проспекту был бы немедленно выслан ударный отряд.
Напряжение нарастало с каждым часом. Лучшие бойцы, превосходно экипированные и специально подготовленные именно для таких заданий, не смыкали глаз ни на секунду. Колода карт, за которой короталось время от тревоги до тревоги, уже вторые сутки пылилась в ящике стола в караулке. Обычная болтовня сменилась тихими встревоженными разговорами, те — тяжелым молчанием: каждый надеялся первым услышать эхо шагов возвращающегося каравана. Слишком уж многое от него зависело.
Севастопольская была превращена ее жителями, любой из которых — от пятилетнего мальчишки до древнего старика — умел обращаться с оружием, в неприступный бастион. Ощетинившаяся пулеметными гнездами, шипами колючей проволоки, даже сваренными из рельсов противотанковыми ежами, эта станция-крепость — казалось бы, совершенно неуязвимая, — могла пасть в любую минуту.
Ее ахиллесовой пятой была постоянная нехватка боеприпасов.
Столкнувшись с тем, что приходилось ежедневно выдерживать обитателям Севастопольской, жители любой другой станции наверняка и не подумали бы ее оборонять, бежав оттуда, как крысы из затапливаемого туннеля. Даже могущественная Ганза — союз станций Кольцевой линии, — подсчитав все расходы, вряд ли решилась бы бросить необходимые силы на защиту Севастопольской. Да, ее стратегическое значение было велико, но все же игра не стоила свеч.
Электроэнергия действительно была очень дорога. Достаточно дорога, чтобы севастопольцы, построившие одну из самых крупных гидроэлектростанций в метро, на доходы от ее поставок Ганзе ящиками заказывали боеприпасы и все-таки оставались в прибыли. Однако многим из них приходилось расплачиваться не только патронами, но и своими искалеченными, оборванными жизнями.
Грунтовые воды, благословение и проклятие Севастопольской, обтекали ее со всех сторон, словно воды Стикса — утлую барку Харона. Они вращали лопасти десятков водяных мельниц, сооруженных местными самоучками в туннелях, гротах, подземных руслах — всюду, куда могли добраться инженерно-разведывательные группы, давая свет и тепло самой станции и еще доброй трети Кольца.
Они же неустанно подтачивали опоры, разъедали цемент спаек, убаюкивающе журчали совсем близко за стенами главного зала, пытаясь усыпить бдительность обитателей. Наконец, не позволяли взорвать лишние, неиспользуемые перегоны, откуда на Севастопольскую непрестанно, словно бесконечная ядовитая многоножка, заползающая в мясорубку, двигались орды кошмарных созданий.
Жители станции, команда этого несущегося по Преисподней призрачного фрегата, были навечно обречены искать и заделывать все новые пробоины, потому что их корабль давно дал течь, но пристани, где он мог бы обрести покой, просто не существовало.
И одновременно они должны были отражать атаку за атакой шедших на абордаж с Чертановской и Нахимовского проспекта чудовищ… Ползущих из вентиляционных шахт, просачивающихся вместе с мутными стремительными ручьями сквозь канализационные стоки, рвущихся из южных туннелей.
Казалось, весь мир ополчился против севастопольцев, не жалея никаких усилий для того, чтобы стереть их пристанище с карты метро. А они до последнего цеплялись за свою станцию, будто, кроме нее, у них ничего во Вселенной не оставалось.
Но какими бы искусными ни были местные инженеры, каких опытных и безжалостных бойцов ни воспитывала бы Севастопольская, они не могли уберечь свое жилище без патронов, без ламп для прожекторов, без антибиотиков и бинтов. Да, станция вырабатывала электричество, и Ганза была готова платить за него хорошую цену, но у Кольца были и другие поставщики, и собственные источники, а севастопольцы без подпитки извне вряд ли продержались бы даже месяц. А страшнее всего было остаться без боеприпасов.
Хорошо охраняемые караваны уходили к Серпуховской каждую неделю, чтобы на открытый у ганзейских купцов кредит закупить все необходимое и, не задерживаясь ни на час, отправиться домой. И пока вращалась Земля, пока текли подземные реки и держались возведенные метростроевцами своды, порядок не должен был меняться.
Но на этот раз караван задерживался. Задерживался непозволительно долго, так что уже становилось ясно: произошло нечто ужасное, непредвиденное, от чего не сумели защитить ни закаленные в боях тяжеловооруженные конвоиры, ни годами налаживавшиеся отношения с руководством Ганзы.
И все бы ничего, если бы действовала связь. Однако с идущим к Кольцу телефонным проводом что-то случилось, сообщение прервалось еще в понедельник, а отправленная на поиски поломки бригада вернулась ни с чем.
* * *
Лампа под широким зеленым абажуром свисала совсем низко над круглым столом, освещая пожелтевшие листы бумаги с нарисованными карандашом графиками и диаграммами. Лампочка была слабая, ватт сорок, но не потому что приходилось экономить электричество, а оттого что хозяин кабинета не любил яркий свет. Пепельница, переполненная окурками дрянных местных самокруток, сочилась едким сизым дымом, собиравшимся под низким потолком комнаты в ленивые вязкие клубы.
Начальник станции потер лоб и, вскинув руку, посмотрел единственным глазом на циферблат — в пятый раз за последние полчаса. Потом хрустнул пальцами и грузно поднялся.
— Надо принимать решение. Оттягивать дальше нет смысла.
Крепкий старик в пятнистом бушлате и истертом голубом берете, сидевший за столом напротив, открыл было рот, но закашлялся и замахал рукой, разгоняя дым. Потом, недовольно морщась, отозвался:
— Ну, давай я тебе еще раз повторю, Владимир Иванович: с южного направления мы никого снять не можем. Блокпосты под таким натиском, что еле держатся. За последнюю неделю там трое раненых, один тяжелый — и это несмотря на укрепления. Ослабить юг я тебе не дам. Туда же еще постоянно нужны и две тройки разведчиков — патрулировать шахты и межлинейники. Ну, а север — кроме тех бойцов из встречающей бригады, свободных нет, извиняйте. Ищи, где хочешь.
— Ты командир периметра, ты и ищи, — огрызнулся начальник. — А я своими делами заниматься буду. Но через час группа уже должна выйти. Ты пойми, мы с тобой разными категориями мыслим. Нельзя же решать только сиюминутные задачи! А если там что-то серьезное?
— А я думаю, Владимир Иванович, ты порешь горячку. Калибра 5.45 в арсенале два цинка невскрытых, на полторы недели точно хватит. И у меня дома под подушкой завалялось еще, — старик усмехнулся, обнажая крепкие желтые зубы, — ящик точно наскребу. Беда не в патронах, а в людях.
— Давай-ка лучше я тебе скажу, в чем беда. Через две недели, если не наладить поставки, придется перекрывать гермозатворы в южных туннелях, потому что без боеприпасов мы их не удержим. Значит, не сможем осматривать и ремонтировать две трети наших мельниц. Еще через неделю они начнут выходить из строя. Перебои с электричеством в Ганзе никого не обрадуют. В лучшем случае они начнут искать других поставщиков. В худшем… Да что там электричество?! Туннели пустые уже пять дней почти, ни человека! А если там обрушение? А если прорыв? Если мы отрезаны теперь?
— Брось! Силовые кабели в норме. Циферки на счетчиках бегут, ток идет, Ганза потребляет. Было бы обрушение, ты бы сразу узнал. Даже если, положим, диверсия — нам бы не телефон обрезали, а провода наши. А насчет туннелей — кто сюда пойдет? К нам и в лучшие времена никто не захаживал. Чего один Нахимовский проспект стоит… Одиночке там не прорваться, а чужие торговцы к нам уже не суются. Ну и бандиты, ясное дело, наслышаны, недаром же мы каждый раз одного живым отпускали. Я говорю, не паникуй.
— Хорошо тебе рассуждать, — проворчал Владимир Иванович, поднимая повязку над пустой глазницей и вытирая со лба выступивший пот.
— Тройку дам. Пока больше нельзя, правда, — уже мягче сказал старик. — И хватит курить. Знаешь же, что и мне этим дышать нельзя, и сам травишься! Давай лучше чаю, что ли…
— Это всегда пожалуйста, — начальник потер руки. — Истомин у аппарата, — буркнул он в телефонную трубку, — чая мне и полковнику.
— И дежурного офицера вызови, — попросил командир периметра, снимая с головы берет. — Я распоряжусь по поводу тройки.
Чай у Истомина был всегда свой, с ВДНХ — особого, отборного сорта. Мало кто мог себе такое позволить — доставленный с другого края метро, трижды обложенный ганзейскими пошлинами, любимый чай начальника станции становился таким дорогим, что он и сам не стал бы потакать своим слабостям, если бы не старые связи на Добрынинской. С кем-то он там когда-то вместе воевал, и с тех пор раз в месяц командир возвращающегося от Ганзы каравана непременно привозил с собой яркий сверток, за которым Истомин всегда приходил сам.
Год назад с чаем этим начались перебои. До Севастопольской долетели тревожные слухи о новой, страшной угрозе, которая нависла над ВДНХ, а может, и надо всей оранжевой веткой: с поверхности туда спускались неизвестные и невиданные раньше мутанты, по слухам, умевшие читать мысли, почти невидимые и к тому же практически неистребимые. Поговаривали, что станция пала, и что Ганза, опасаясь вторжения, подорвала туннели за Проспектом мира. Цены на чай взлетели, потом он совсем было пропал, и Истомин был не на шутку встревожен. Однако через несколько недель страсти сами собой улеглись, и караваны, возвращавшиеся на Севастопольскую с патронами и лампами, снова повезли и знаменитый душистый чай. А что могло быть важнее?
Наливая командиру отвар в фарфоровую чашку со сколотой местами золотой каймой и вдыхая ароматный пар, Истомин от удовольствия даже зажмурил на миг свой глаз. После нацедил и себе, тяжело уселся на стул и зазвенел серебряной ложечкой, размешивая таблетку сахарина.
Оба молчали, и с полминуты это меланхоличное позвякивание было единственным звуком, раздававшимся в затянутом табачным дымом полутемном кабинете. А потом его перекрыл, почти попадая в такт, летящий из туннелей надрывный колокольный набат.
— Тревога!
Командир периметра с невероятной для своих лет стремительностью сорвался с места и выскочил из комнаты. Где-то вдалеке хлопнул одинокий ружейный выстрел, потом его подхватили автоматы — один, другой, третий, по платформе загрохотали подкованные солдатские сапоги, и уже откуда-то издалека донесся зычный полковничий бас, раскидывающий приказы.
Истомин тоже было потянулся к висящему у шкафа лоснящемуся милицейскому автомату, но потом схватился за поясницу, охнул, махнул рукой, вернулся за стол и прихлебнул чая. Напротив него дымилась, остывая, брошенная полковником чашка и валялся забытый впопыхах голубой берет. Начальник станции скорчил ему гримасу и вполголоса заспорил с бежавшим командиром, возвращаясь к прежним темам с новыми аргументами, о которых не догадался вспомнить во время перебранки.
* * *
На Севастопольской ходило немало мрачных шуток о том, почему соседняя Чертановская так называлась. Хотя мельницы электростанций были разбросаны далеко в туннелях между двумя станциями, никто и не помышлял о том, чтобы для удобства занять и освоить пустующую Чертановскую, как была присоединена до этого смежная Каховская. Инженерные группы, под прикрытием подбиравшиеся к ней для установки и осмотра дальних генераторов, не решались приближаться к платформе ближе чем на сто метров. Выходя в такой поход, почти все, кроме самых отъявленных безбожников, украдкой крестились, а некоторые на всякий случай даже прощались с семьями.
Станция была нехорошая, и это чувствовал каждый, кто подходил к ней хотя бы на полкилометра. Тяжелые ударные отряды, которые севастопольцы по незнанию направляли раньше на Чертановскую, еще надеясь расширить свою территорию, возвращались потрепанными, ополовиненными, но чаще не возвращались вовсе. Бывалые бойцы, перепуганные до икоты, до стекающих по подбородку слюней, были не в силах справиться с ознобом, даже сидя так близко к костру, что начинала тлеть одежда. Они с трудом вспоминали то, что пришлось пережить, и никогда их воспоминания не были похожи друг на друга.
Считалось, что где-то за Чертановской боковые ответвления от основных туннелей ныряли вниз, вплетаясь в грандиозный лабиринт природных пещер, по слухам, кишевших всяческой нечистью. Это место на станции условно называли «Вратами» — условно, потому что никто из живых обитателей Севастопольской его никогда не видел. Правда, известен был случай, когда еще на заре освоения линии сами Врата вроде бы обнаружила большая разведгруппа, преодолевшая Чертановскую. Группа несла с собой передатчик — что-то наподобие проводного телефона. По этому телефону связист и сообщил на Севастопольскую, что разведчики стоят на входе в уходящий почти вертикально вниз неширокий коридор. Больше он ничего передать не успел, но еще несколько минут, пока не порвался кабель, сгрудившееся вокруг переговорного устройства командование Севастопольской слушало, как один за другим обрываются истошные, полные ужаса и нечеловеческой боли вопли бойцов разведгруппы. Стрелять никто из них даже не пытался, словно каждому из погибающих было ясно, что обычное оружие не в состоянии защитить их. Последним замолк командир группы, наемник-головорез с Китай-города, собиравший коллекцию мизинцев своих врагов. Он, видимо, находился на некотором расстоянии от уроненной радистом трубки, поэтому разобрать, что он говорил, было непросто; но, вслушавшись в его предсмертные всхлипывания, начальник станции узнал молитву — из простых, наивных, которым верующие родители учат маленьких детей.
После этого случая все попытки пробиться за Чертановскую были оставлены; собирались даже покинуть Севастопольскую и отходить к Ганзе. Однако проклятая станция, похоже, была тем самым пограничным столбом, который отмерял в метро пределы человеческих владений. Проникавшие за него создания порядком досаждали обитателям Севастопольской, но их хотя бы было можно убить, и при грамотно организованной обороне эти нападения отражались относительно легко и почти бескровно — покуда хватало боеприпасов.
Изредка к блокпостам подползали такие чудища, остановить которых удавалось только при помощи разрывных пуль и ловушек с высоковольтными разрядами. Но чаще дозорным все же приходилось иметь дело с тварями не столь пугающими, хотя и крайне опасными. Звали их здесь как-то по-гоголевски домашне: упырями.
— Вон еще один! Сверху, в третьей трубе!
Прожектор, сорвавшийся с потолочного крепления, дерганно, как висельник, болтался на одном проводе, поливая жестким белым светом пространство перед блокпостом, — то выхватывал притаившиеся в тенях скрюченные фигуры крадущихся мутантов, то снова прятал их во мраке, то заглядывал, слепя, в глаза дозорным. Вокруг гуляли, сжимаясь и тут же пружиня, перекашиваясь, кривляясь, неверные тени: люди отбрасывали звериные, чудовища — человеческие.
Блокпост был очень удобно расположен. Туннели в этом месте сходились — незадолго до последней войны Метрострой затеял реконструкцию, которая так и не была доведена до конца. На этом узле севастопольцы соорудили настоящую маленькую крепость: две пулеметные точки, полутораметровой толщины укрытия из мешков с песком, ежи и шлагбаумы на рельсах, электрические ловушки на ближних подходах и тщательно продуманная система сигнализации. Но когда мутанты шли такой волной, как в тот день, казалось — еще немного, и оборона рухнет.
Пулеметчик что-то нудно бубнил, пуская носом кровавые пузыри и удивленно разглядывая свои мокрые багровые ладони. Воздух вокруг его заклинившего «Печенега» подрагивал от жара. Потом, всхрапнув, стрелок доверчиво уткнулся лицом в плечо своего соседа, могучего бойца в закрытом титановом шлеме, и притих. Через секунду впереди раздался душераздирающий визг: упырь атаковал.
Боец в шлеме приподнялся над бруствером, отодвинув навалившегося на него окровавленного пулеметчика, вскинул автомат и дал долгую очередь. Мерзкая жилистая бестия, обтянутая матово-серой кожей, уже метнулась вперед, расправив узловатые передние лапы и планируя сверху вниз на натянувшихся кожных складках. Двигались упыри с совершенно невообразимой скоростью, не оставляя замешкавшимся ни малейших шансов, поэтому дежурство в этом дозоре несли только самые ловкие и умелые.
Свинцовый хлыст перебил визг, но по инерции уже мертвый упырь продолжил падение: стокилограммовая туша глухо ударила в бруствер, выбив из мешков с песком облако пыли.
— Вроде все…
Казавшийся бесконечным поток тварей, всего пару минут назад хлеставший из подвешенных под потолком огромных спиленных труб, и в самом деле, иссяк. Дозорные стали осторожно выбираться из-за укреплений.
— Носилки сюда! Доктора! На станцию его срочно!
Убивший последнего упыря здоровяк прикрепил к стволу автомата штык-нож и неторопливо пустился в обход раскиданных по зоне огня убитых и раненых созданий, придавливая зубастую пасть каждой из них сапогом и нанося короткий, выверенный удар штыком в глаз. Потом устало прислонился спиной к мешкам, отвернулся лицом к туннелям, поднял, наконец, забрало шлема и приложился к фляге.
Подкрепление со стороны станции подоспело, когда все уже было решено. Добрался, трудно дыша и проклиная свои болячки, и командир периметра в расстегнутом солдатском бушлате.
— Ну, вот где я ему тройку достану? От сердца оторву?
— О чем вы, Денис Михайлович? — чуть не заглядывая командиру в рот, спросил один из дозорных.
— Истомин требует срочно отправить тройку разведчиков к Серпуховской. Беспокоится за караван. А откуда я ему еще тройку возьму? И вот ведь именно сейчас…
— О караване так ничего и не слышно? — не оборачиваясь, поинтересовался утолявший жажду.
— Ничего, — подтвердил старик. — Но ведь и времени еще не так много прошло. Что опаснее, в конце-то концов? Если мы юг сегодня оголим, через неделю этот караван будет некому встречать!
Боец качнул головой и замолчал. Не отозвался он и когда командир, поворчав еще несколько минут, спросил у оставшихся на посту дозорных, не хочет ли кто добровольцем войти в ту самую тройку, которую все же придется отрядить к Серпуховской, — иначе начальник станции, чтоб ему было неладно, проест старику всю плешь.
Трудностей с набором желающих не возникло — многие дозорные засиделись на месте, а представить себе что-то еще более опасное, чем оборона южных туннелей, им было нелегко.
Из шестерых вызвавшихся в этот поход полковник отобрал тех, в ком, по его мнению, Севастопольская на тот час нуждалась меньше всего. Мысль оказалась удачной, потому что из отправленной на Серпуховскую тройки на станцию больше никто никогда не вернулся.
* * *
Вот уже три дня, с тех самых пор, как разведчики ушли на поиски каравана, полковнику казалось, что за спиной у него шепчутся, и повсюду виделись косые взгляды. Даже самые оживленные беседы стихали, когда он проходил мимо разговаривавших. И в напряженном молчании, воцарявшемся везде, где бы он ни появлялся, ему чудилось невысказанное требование: объяснить и оправдаться.
Он просто делал свою работу: обеспечивал безопасность оборонного периметра Севастопольской. Он тактик, а не стратег. Когда каждый солдат был на счету, полковник просто не имел права разбрасываться ими, рассылая на сомнительные, если не бессмысленные задания.
Три дня назад полковник был в этом искренне убежден. Но теперь, когда всякий испуганный, неодобрительный, сомневающийся взгляд стегал его по спине, его уверенность пошатнулась. Идущей налегке разведгруппе не потребовалось бы и суток, чтобы проделать весь путь к Ганзе и обратно — и это с учетом возможных боев и ожидания на границах независимых полустанков. Значит…
Приказав никого к себе не пускать, полковник заперся в своей комнатушке и забормотал себе под нос, в сотый раз перебирая варианты того, что могло случиться с торговцами и разведкой.
Людей на Севастопольской не страшились, разумеется, за исключением армии Ганзы. Дурная слава о станции, многократно перевранные истории нескольких очевидцев о том, какой ценой ее обитателям дается выживание, подхваченные челноками и любителями послушать их байки, распространялись по метро, делая свое дело. Быстро сообразив, какая от этой репутации польза, начальство станции приложило к ее укреплению свою руку. Информаторы и караванщики, путешественники и дипломаты были официально благословлены врать, да пострашнее, про Севастопольскую, и вообще про весь начинавшийся за Серпуховской отрезок линии.
Разглядеть за этой дымовой завесой привлекательность и истинную значимость станции могли лишь единицы. Всего пару раз за последние годы несведущие бандиты пробовали силой прорваться через блокпосты, но превосходно отлаженная севастопольская военная машина без малейших сложностей перемалывала разрозненные отряды.
Как бы то ни было, ушедшая в разведку тройка была четко проинструктирована в случае выявления угрозы не вступать с противником в столкновение, а как можно скорее возвращаться назад.
Была, конечно, Нагорная — место не такое скверное, как Чертановская, но все же очень опасное, зловещее. И Нахимовский проспект, заклинившие верхние гермозатворы которого не позволяли полностью оградить станцию от проникновений с поверхности. Подрывать выходы севастопольцы не хотели: нахимовским «подъемом» пользовались местные сталкеры. В одиночку через Проспект, как его звали на станции, никто ходить не отваживался, но не бывало еще случая, чтобы тройка не могла дать отпор водившимся там тварям.
Обрушение? Прорыв грунтовых вод? Диверсия? Необъявленная война с Ганзой? Теперь он, а не Истомин, обязан был дать ответ женам пропавших разведчиков, приходящим к полковнику, чтобы тоскливо и ищуще, словно брошенные собаки, заглянуть ему в глаза в надежде увидеть в них обещание, утешение. Он должен был все объяснить не задающим лишних вопросов, пока еще верящим в него солдатам гарнизона. Успокоить всех встревоженных, собирающихся вечерами, после работы, у станционных часов, которые засекли время выхода каравана.
Истомин говорил, что в последние дни у него все чаще спрашивали, отчего на станции приглушили освещение, и требовали включить лампы на прежнюю мощность. А ведь ослаблять напряжение никто и не думал, светильники и так горели в полную силу. Тьма сгущалась не на станции, а в человеческих душах, и даже самые яркие ртутные лампы не могли ее разогнать.
Восстановить телефонное сообщение с Серпуховской так и не удалось, и за ту неделю, которая прошла со дня выхода каравана, полковник, как и многие другие севастопольцы, потеряли очень важное, редкое для обитателей метро чувство близости к людям.
Пока работала связь, пока караваны ходили регулярно и до Ганзы было меньше дня пути, каждый из живущих на Севастопольской был волен уйти или остаться, каждый знал, что всего в пяти перегонах от их станции начиналось настоящее метро, цивилизация… Человечество.
Так, наверное, раньше чувствовали себя заброшенные в Арктику полярники, ради научных изысканий или высоких заработков добровольно обрекавшие себя на долгие месяцы борьбы с холодом и одиночеством. До большой земли — тысячи километров, и все же она где-то рядом, покуда действует радио, а раз в месяц над головами слышится гул моторов самолета, сбрасывающего на парашютах ящики с тушенкой.
Но теперь льдина, на которой стояла их станция, откололась, и ее с каждым часом уносило все дальше — в ледяную пургу, в черный океан, в пустоту и неизвестность.
Ожидание затягивалось, и смутное беспокойство полковника за судьбу посланных к Серпуховской разведчиков постепенно превращалось в мрачную уверенность: этих людей он больше никогда не увидит. Снимать с оборонного периметра трех новых бойцов, чтобы точно так же швырнуть их навстречу неведомой опасности, а вполне возможно — и верной гибели, так и не найдя при этом выхода из положения, он просто не мог себе позволить. Опускать гермоворота, перекрывать южные туннели и собирать большую ударную группу ему все же казалось преждевременным. Если бы только кто-нибудь принял сейчас решение за него… Решение, которое обречено оказаться неверным.
Командир периметра вздохнул, приоткрыл дверь и, воровато оглянувшись, подозвал часового.
— Папироской не угостишь? Но эта — крайняя, больше мне не давай, как бы ни просил! И не говори никому, ладно?
* * *
Надя, кряжистая говорливая тетка в дырявом пуховом платке и измазанном переднике, принесла горячую кастрюлю с мясом и овощами, и дозорные оживились. Картошка и огурцы с помидорами считались здесь самым изысканным деликатесом: кроме Севастопольской, овощами могли попотчевать разве что в паре лучших ресторанов Кольца или Полиса. Дело было не только в сложных гидропонических установках, необходимых для выращивания сбереженных семян, но и в том, что мало кто в метро мог растрачивать киловатты электричества, чтобы разнообразить солдатское меню.
Даже на стол к начальству овощи попадали лишь по праздникам, обычно же ими баловали только детей. Истомину пришлось изрядно поспорить с поварами, чтобы убедить их добавить вареной картошки и по помидору к полагающейся по нечетным числам свинине — для поддержания боевого духа.
Затея сработала: стоило Наде, по-бабски неловко скинув с плеча автомат, приподнять крышку кастрюли, как морщины на лицах дозорных стали разглаживаться. Под такой ужин продолжать набившие оскомину разговоры о сгинувшем караване и задерживающейся разведгруппе не хотелось.
— Сегодня вот целый день почему-то о Комсомольской вспоминаю, — сказал, разминая картошку в своей алюминиевой миске, седой старик в ватнике с метрополитеновскими лычками. — Вот бы попасть, посмотреть… Какая там мозаика! На мой вкус, самая красивая станция в Москве.
— Да брось, Гомер, небось, ты просто жил там, вот и любишь ее до сих пор, — немедленно отозвался небритый толстяк в ушанке. — А на Новослободской витражи? А на Маяковской — колонны такие воздушные и фрески на потолке?
— Мне Площадь революции всегда нравилась, — стеснительно признался снайпер, тихий серьезный мужчина в годах. — Сам знаю, что глупости, но вот все эти суровые матросы и летчики, пограничники с собаками… С детства обожал эту станцию!
— А чего это глупости? Там очень даже симпатичные мужички в бронзе изображены, — поддержала его Надя, соскребая остатки со дна кастрюли. — Эй, бригадир, смотри, без ужина останешься!
Сидевший особняком высокий плечистый боец неторопливо приблизился к костру, забрал свою порцию и вернулся на прежнее место — поближе к туннелю, подальше от людей.
— Он вообще на станции появляется? — шепотом спросил толстяк, кивая на тонущую в полумраке широченную спину.
— Больше недели безвылазно здесь сидит, — так же тихо ответил снайпер. — Ночует в спальнике. Как у него только нервы выдерживают… Хотя, может, ему просто нравится это дело. Три дня назад, когда упыри чуть Рината не загрызли, он потом ходил и добивал их. Вручную, минут пятнадцать. Возвращается — сапоги все в кровище, автомат тоже… Довольный.
— Не человек, а машина… — вставил долговязый пулеметчик.
— Я с ним даже спать рядом побаиваюсь. Видел, что у него с лицом? Я ему и в глаза посмотреть-то не могу.
— А я, наоборот, только с ним себя спокойно и чувствую, — пожал плечами старик, которого называли Гомером. — Да что вы к нему привязались? Он хороший человек, покалеченный только. Это в станциях красота важна. А Новослободская твоя, кстати, полная безвкусица! Такие витражи на трезвую голову смотреть невозможно… Тоже мне, витражи!
— А мозаика на колхозную тему в полпотолка — не безвкусица?!
— И где ты нашел на Комсомольской такие панно?
— Да все это чертово советское искусство либо про колхозную жизнь, либо про летчиков-героев! — разошелся толстяк.
— Сережа, не трогай летчиков, — предупредил снайпер.
— И Комсомольская — дрянь, и Новослободская — дерьмо, — послышался глухой низкий голос.
От неожиданности толстяк поперхнулся заготовленными словами и уставился на бригадира. Остальные тоже сразу затихли, ожидая продолжения: тот почти никогда не принимал участия в их разговорах, даже на прямые вопросы отвечая совсем коротко или не отвечая вовсе.
Он так и сидел к ним спиной, не спуская глаз с жерла туннеля.
— На Комсомольской своды слишком высокие, колонны тонкие, вся платформа с путей простреливается — как на ладони, и переходы перекрывать неудобно. А на Новослободской все стены в трещинах, сколько они их ни замазывают. Одной гранаты хватит, чтобы похоронить всю станцию.
И витражей там уже давно нет. Полопались.
Хрупкая штука.
Возразить никто не осмелился. Помолчав немного, бригадир бросил:
— Я иду на станцию. Гомера беру с собой. Смена будет через час. Артур остается за старшего.
Снайпер зачем-то вскочил и кивнул, хотя бригадир этого видеть не мог. Старик тоже поднялся и стал суетливо собирать разложенные вокруг пожитки в вещмешок, так и не доев свою картошку. К костру боец подошел уже при полном походном снаряжении, в своем непременном шлеме и с объемистым рюкзаком за плечами.
— Удачи.
Глядя на две удаляющиеся по освещенному перегону фигуры — могучую бригадирскую и сухонькую Гомера, снайпер зябко потер руки и поежился.
— Что-то похолодало. Подкиньте угольку, а?
За всю дорогу бригадир не проронил почти ни слова, уточнил только — правда ли, что Гомер раньше был помощником машиниста, а до того — простым обходчиком путей. Старик посмотрел на него подозрительно, но отпираться не стал, хотя на Севастопольской он всем всегда говорил, что дослужился до машиниста, а про свою работу обходчиком вообще предпочитал не распространяться, считая ее того недостойной.
В кабинет начальника станции бригадир вошел без стука, сухо отдав честь расступившимся караульным. Ему навстречу удивленно поднялись из-за стола Истомин и полковник — всклокоченные, усталые, растерянные. Гомер робко замер у входа, переминаясь с ноги на ногу.
Бригадир стащил и поставил прямо на истоминские бумаги свой шлем, провел рукой по выбритой наголо макушке. В свете лампы стало видно, как страшно обезображено его лицо: левая щека перепахана и стянута огромным шрамом, словно от ожога, глаз превратился в узкую щель, к уголку губ от уха ползет, извиваясь, толстый лиловый рубец. Хотя Гомер и считал, что привык уже к этому лицу, сейчас, как и впервые, когда он его увидел, изнутри защекотал противный холодок.
— Я сам пойду к Кольцу, — не здороваясь, выстрелил бригадир.
В комнате повисло тяжелое молчание. Гомер и раньше слышал, что бригадир, будучи незаменимым бойцом, имел особые отношения с начальством станции. Но только теперь он начал понимать, что, в отличие от всех остальных севастопольцев, бригадир дозора, кажется, вообще не подчинялся руководству.
Вот и сейчас он словно не ждал одобрения от этих двух пожилых, утомленных мужчин, а отдавал им приказ, который они обязаны были выполнить. И Гомер, — в который раз — спросил себя: что же это за человек?
Командир периметра переглянулся с начальником, насупился, собираясь возразить, но лишь обреченно махнул рукой.
— Решай сам, Хантер… Тебя все равно не переспоришь.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Жавшийся у входа старик насторожился: этого имени ему раньше на Севастопольской слышать не приходилось. Не имя даже, а кличка — как и у него самого — никакого, разумеется, не Гомера, а самого заурядного Николая Ивановича, нареченного именем греческого мифотворца уже тут, на станции, за свою неуемную любовь ко всяческим историям и слухам.
…«Ваш новый бригадир», — сказал полковник дозорным, с хмурым любопытством оглядывавшим плечистого новичка в кевларе и тяжелом шлеме. Тот, пренебрегая этикетом, равнодушно отвернулся от них: туннель и укрепления, похоже, интересовали его куда больше, чем вверенные ему люди. Подошедшим знакомиться подчиненным протянутые руки сдавил, но сам представляться не стал. Молча кивал, запоминая очередное прозвище, и пыхал в лицо синей папиросной гарью, обозначая дистанцию. В тени приподнятого забрала мертвенно, тускло поблескивал окантованный шрамами глаз-бойница. Настаивать никто из дозорных ни тогда, ни позже не отважился, и вот уже два месяца его называли просто «бригадиром». Решили, что станция раскошелилась на одного из тех дорогостоящих наемников, что вполне обходятся без прошлого и без имени.
Хантер.
Гомер беззвучно пожевал странное слово на губах. Больше подходит для среднеазиатской овчарки, чем для человека. Он тихонько сам себе улыбнулся: надо же, помнит еще, что были такие собаки. Откуда это все в голове берется? Бойцовая порода, с куцым обрубленным хвостом и срезанными под самый череп ушами. Ничего лишнего.
А имя, если повторять его про себя долго, начинало казаться неуловимо знакомым. Где же он мог слышать его раньше? Влекомое бесконечным потоком сплетен и баек, оно некогда зацепило его чем-то и осело на самое дно памяти. А сверху уже нанесло толстый слой ила: названия, факты, слухи, цифры — все эти бесполезные сведения о жизни других людей, которые Гомер с таким любопытством слушал и так усердно старался запомнить.
Хантер… Может быть, рецидивист, за голову которого Ганза объявила награду? Старик бросил пробный камень в омут своего склероза и прислушался. Нет, мимо. Сталкер? Не похоже. Полевой командир? Ближе. И, вроде бы, даже легендарный…
Гомер еще раз исподтишка глянул на бесстрастное, будто парализованное лицо бригадира. Его собачье имя ему все же удивительно шло.
— Мне нужна тройка. Возьму Гомера, он знает здешние туннели, — не оборачиваясь к старику и не спрашивая его согласия, продолжал бригадир. — Еще одного можете дать по своему усмотрению. Ходока, курьера. Пойду сегодня же.
Истомин суетливо дернул головой, одобряя, потом, опомнившись, вопросительно поднял глаза на полковника. Тот, насупленный, тоже буркнул, что не имеет ничего против, хоть все эти дни и сражался так отчаянно с начальником станции за каждого свободного бойца. С Гомером советоваться, похоже, никто не собирался, но он и не думал спорить: несмотря на свой возраст, старик никогда еще не отказывался от подобных заданий. И на это у него были свои причины.
Бригадир оторвал от стола свой пудовый шлем и двинулся к выходу. Задержавшись на миг в дверях, бросил Гомеру:
— С семьей попрощайся. Собирайся надолго. Патронов не бери, я выдам, — и канул в проеме.
Старик подался, было, за ним, надеясь хотя бы в общих словах услышать, к чему предстоит готовиться в этом походе. Но когда он показался на платформе, Хантер был уже в десятке своих широких шагов, и догонять его Гомер не стал, а только покачал головой, провожая взглядом.
Вопреки обычному, бригадир остался с непокрытой головой: забыл, задумавшись о другом, или, может, сейчас ему не хватало воздуха. И когда он миновал стайку бездельничающих в обеденный перерыв молоденьких свинарок, вслед ему брезгливо зашуршало: «Ой, девочки, надо же, какой урод!».
* * *
— Где ты его только выкопал? — облегченно обмякнув на стуле и протягивая пухлую ладонь к пачке нарезанной папиросной бумаги, спросил Истомин.
Говорят, листья, которые с таким удовольствием курили на станции, сталкеры собирали на поверхности где-то чуть ли не в районе Битцевского парка. Как-то раз полковник шутки ради поднес к пачке «табака» дозиметр; тот и вправду принялся нехорошо пощелкивать. Старик бросил курить в одночасье, и кашель, терзавший его по ночам, стращая раком легких, стал понемногу отступать. Истомин же в историю о радиоактивных листьях верить отказался, не без резона напомнив Денису Михайловичу, что в метро в той или иной степени «светится» все, за что ни возьмись.
— Старые знакомства, — нехотя отозвался полковник; помолчав, довесил: — Раньше он таким не был. Что-то произошло с ним.
— Да уж, судя по его физиономии, что-то с ним определенно произошло, — хмыкнул начальник и тут же оглянулся на вход, словно Хантер мог задержаться и случайно его подслушать.
Командиру защитного периметра грех было жаловаться на то, что бригадир нежданно вернулся из холодного тумана прошлого. Едва появившись на станции, он превратился чуть ли не в главную точку опоры этого периметра. Но до конца поверить в его возвращение Денис Михайлович не мог до сих пор.
Известие о гибели Хантера — страшной и странной — туннельным эхом облетело метро еще в прошлом году. И когда два месяца назад он возник на пороге полковничьей каморки, тот поспешно перекрестился, прежде чем отпереть ему дверь. Подозрительная легкость, с которой воскресший преодолел блокпосты — будто пройдя сквозь бойцов, — заставляла сомневаться в том, что чудо это было благое.
В запотевшем дверном глазке виднелся вроде бы знакомый профиль: бычья шея, выскобленный до блеска череп, чуть приплюснутый нос. Но ночной гость отчего-то застыл вполоборота, опустив голову и не делая попыток разредить загустевшую тишину. Укоризненно посмотрев на откупоренную бутыль браги, стоявшую на столе, полковник вдохнул поглубже и отодвинул засов. Кодекс предписывал помогать своим — не проводя различий между живыми и мертвыми.
Хантер оторвал взгляд от пола, только когда дверь распахнулась; стало ясно, отчего он прятал вторую половину своего лица. Боялся, что старик его просто не узнает. Даже навидавшийся всякого полковник, для которого командование гарнизоном Севастопольской было просто почетной пенсией в сравнении с прежними бурными годами, увидев его, поморщился, словно обжегшись, а потом виновато рассмеялся — прости, не сдержался.
Гость в ответ даже не улыбнулся. За прошедшие месяцы жестокие шрамы, обезобразившие его лицо, успели немного поджить, но прежнего Хантера он старику все равно почти ничем не напоминал.
Объяснять свое чудесное спасение и последующее отсутствие он наотрез отказался, и на все вопросы полковника попросту не откликался, будто не слыша их. Хуже того, попросил Дениса Михайловича никому о своем появлении не сообщать — предъявил к оплате старый долг. Тому пришлось придушить здравый смысл, требовавший немедленно известить старших, и оставить Хантера в покое.
Впрочем, справки старик осторожно навел. Гость его ни в чем замешан не был, и никто его, давно оплаканного, уже не разыскивал. Тело, правда, так и не было обнаружено, но, выживи Хантер, он непременно дал бы о себе знать, уверенно сказали полковнику. Действительно, согласился он.
Зато, как это часто случается с бесследно пропавшими, Хантер, а вернее, его размытый и приукрашенный образ, всплыл в добром десятке полуправдивых мифов и сказаний. Похоже, эта роль его вполне устраивала, и разубеждать похоронивших его заживо товарищей он не спешил.
Помня о своих неоплаченных счетах и сделав верные выводы, Денис Михайлович утихомирился и даже стал подыгрывать: при посторонних Хантера по имени не называл, и, не вдаваясь в детали, приобщил к тайне Истомина.
Тому было, в общем, все равно: свою похлебку бригадир отрабатывал с лихвой, днюя и ночуя на передовой, в южных туннелях. На станции его почти не было заметно: приходил раз в неделю, в свой собственный банный день. И пусть даже он забрался в это пекло только ради того, чтобы спрятаться там от неведомых преследователей — Истомина, никогда не брезговавшего услугами легионеров с темной биографией, это не смущало. Лишь бы только дрался; а уж с этим все было в порядке.
После первого же боя роптавшие дозорные, недовольные высокомерием нового командира, примолкли. Единожды увидев, как он методично, расчетливо, с нечеловеческим холодным упоением уничтожает все дозволенное к уничтожению, каждый из них что-то для себя о нем понял. Сдружиться с нелюдимым бригадиром больше никто не пытался, но подчинялись ему беспрекословно, так что свой глухой, надорванный голос он никогда не повышал. Было в этом голосе что-то гипнотическое, и даже начальник станции принимался покорно кивать каждый раз, когда Хантер к нему обращался — даже не дослушав его до конца, просто так, на всякий случай.
Впервые за последние дни воздух в истоминском кабинете стал легче — будто здесь только что разразилась и миновала беззвучная гроза, принеся долгожданную разрядку. Спорить больше было не из-за чего. Лучшего бойца, чем Хантер, не существовало; если и он сгинет в туннелях, севастопольцам останется только одно.
— Я распоряжусь о подготовке операции? — первым предложил полковник, зная, что начальник станции все равно заговорит об этом.
— Трех суток тебе должно хватить, — Истомин чиркнул зажигалкой, прищурил глаз. — Больше мы их ждать не сможем. Сколько народу понадобится, как думаешь?
— Один ударный отряд ждет приказов, займусь другими, там еще человек двадцать. Если послезавтра о них, — полковник мотнул головой в сторону выхода, — ничего не будет слышно, объявляй всеобщую мобилизацию. Будем прорываться.
Истомин приподнял брови, но вместо того, чтобы возразить, глубоко затянулся еле слышно потрескивающей самокруткой. Денис Михайлович загреб несколько валявшихся на столе исчерканных листов и, близоруко склоняясь к бумаге, принялся чертить на них таинственные схемы, вписывая в кружочки фамилии и клички.
Прорываться? Начальник станции смотрел поверх седого стариковского затылка, сквозь плывущую табачную дымку на большую схему метро, висящую у полковника за спиной. Пожелтевшая и засаленная, испещренная чернильными пометками — стрелками марш-бросков и кольцами осад, звездочками блокпостов и восклицательными знаками запретных зон, схема эта была летописью последнего десятилетия. Десяти лет, из которых ни дня не прошло спокойно.
Вниз от Севастопольской пометки обрывались сразу за Южной: на памяти Истомина оттуда не возвращался никто. Долгая, ползущая вниз ветвистым корневищем линия оставалась девственно чистой. Завоевание Серпуховской линии оказалось севастопольцам не по зубам; здесь вряд ли хватило бы и всех натужных сил беззубого от лучевой болезни человечества.
Теперь же белесый туман неизвестности окутывал и тот обрубок их ветки, что упорно тянулся вверх, к Ганзе, к людям. Никто из тех, кому полковник завтра велит готовиться к бою, не откажется. На Севастопольской война на истребление человека, начавшаяся более двух десятилетий назад, не заканчивалась ни на минуту. Когда много лет живешь бок о бок со смертью, страх умереть уступает место равнодушию, фатализму, суевериям-оберегам и звериным инстинктам. Но кто знает, что ждало их впереди, между Нахимовским проспектом и Серпуховской. Кто знает, можно ли было вообще прорвать эту загадочную преграду и было ли там куда рваться.
Он припомнил последнюю свою поездку на Серпуховскую: базарные лотки, лежанки бродяг да ветхие ширмы, за которыми спят и любят друг друга те жители, что посостоятельней. Своего там ничего не выращивали, не было ни теплиц, ни загонов для скота. Вороватые, юркие серпуховчане кормились спекуляцией, перепродавая лежалый товар, за бесценок купленный у опаздывающих караванщиков, и оказывая гражданам Кольцевой услуги, за которые дома тех ждал бы суд. Не станция, а гриб-паразит, нарост на мощном стволе Ганзы.
Союз богатых торговых станций Кольцевой линии, Ганзой метко окрещенный в последнюю память о своем германском прообразе, оставался оплотом цивилизации в погружающемся в трясину варварства и нищеты метро. А Ганза… Ганза — это регулярная армия, электрическое освещение даже на самом бедном полустанке и гарантированный кусок хлеба каждому, у кого в паспорте стоял заветный штемпель о гражданстве. Паспорта такие на черном рынке стоили целое состояние, но если обладателя фальшивки удавалось уличить ганзейским пограничникам, платить ему приходилось головой.
Богатством и силой Ганза была обязана, конечно, своему расположению: Кольцевая линия опоясывала пучок остальных веток, пересадочными станциями открывая доступ к каждой из них и спрягая их воедино. Челноки, везущие чай с ВДНХ, и дрезины, доставляющие патроны из оружейных дворов на Бауманской, предпочитали сгружать свой товар на ближайшем ганзейском таможенном посту и возвращаться домой. Лучше уж дешевле отдать, чем в погоне за выгодой пускаться по всему метро в странствие, которое могло оборваться в любой миг.
Ганза иногда присоединяла смежные станции, но чаще они были предоставлены сами себе и превращались, при ее попустительстве, в серую территорию, где велись те дела, в причастности к которым ганзейские бонзы не хотели быть уличены. Радиальные станции, разумеется, были наводнены ее шпионами и на корню скуплены ее дельцами, но формально оставались независимы. Такова была и Серпуховская.
В одном из ведущих к ней перегонов навеки остановился состав, не успевший добраться до соседней Тульской. Обжитый сектантами и потому отмеченный на истоминской схеме сухим католическим крестиком, поезд превратился в затерянный посреди черной пустоши хутор. Если бы не рыщущие по соседним станциям миссионеры, падкие на заблудшие души, Истомин против сектантов и вовсе ничего бы не имел. Впрочем, до Севастопольской божьи овчарки не добирались, а проходящим мимо путникам они особых препятствий не чинили — разве что чуть задерживали их своими душеспасительными беседами. К тому же, второй туннель от Тульской к Серпуховской был чистым и пустым, им и пользовались местные караванщики.
Истомин снова скользнул взглядом вниз по линии. Тульская? Постепенно дичающий поселок, которому перепадают крохи от марширующих мимо севастопольских конвоев и ушлых серпуховских торгашей. Живут, чем бог пошлет: кто починяет разнообразный механический хлам, кто ходит на заработки к ганзейской границе, сидя целыми днями на корточках в ожидании очередного прораба с рабовладельческими замашками. «Тоже бедно живут, но ведь нет у них в глазах склизкой серпуховской жуликоватости, — подумал Истомин, — и порядка там куда больше. Опасность, наверное, сплачивает».
Следующая станция, Нагатинская, на его схеме была отмечена короткой черточкой — пусто. Полуправда: подолгу на ней никто не задерживался, но, случалось, копошился разномастный сброд, ведущий сумеречное, полуживотное существование. В кромешной тьме сплетались сбежавшие от чужих глаз парочки. Иной раз разгорался меж колонн чахлый костерок, у которого роились тени туннельных душегубов, собравшихся на тайную сходку.
Но на ночевку здесь останавливались только несведущие или самые отчаянные: далеко не все из посетителей станции были людьми. В шепчущем, желеобразном мраке, которым была заполнена Нагатинская, мелькали иногда, если приглядеться, подлинно кошмарные силуэты. И время от времени, ненадолго распугивая бездомных, раздирал спертый воздух истошный вопль бедолаги, которого утаскивали в логово, чтобы там неторопливо сожрать.
За Нагатинскую бродяги ступать не отваживались, и до самых оборонных рубежей Севастопольской простиралась «ничья земля». Название условное: у нее, разумеется, были хозяева, которые блюли свои границы, и даже севастопольские разведгруппы предпочитали избегать встреч с ними.
Но сейчас в туннелях появилось нечто новое. Невиданное. Поглощающее всех, кто пытается пройти давно, казалось бы, изученным маршрутом. И как знать, сможет ли его станция, даже призвав к оружию всех боеспособных своих жителей, выставить достаточное воинство, чтобы побороть его… Истомин тяжело поднялся со стула, прошаркал к карте и отчертил химическим карандашом отрезок, шедший из точки с надписью «Серпуховская» в точку с надписью «Нахимовский проспект». Рядом поставил жирный вопросительный знак. Хотел нарисовать его у Проспекта, а получилось ровно напротив Севастопольской.
* * *
На первый взгляд Севастопольская казалась необитаемой. На платформе не было заметно и следа привычных армейских палаток, в которых обычно жили на других станциях. Здесь, еле очерченные несколькими тусклыми лампами, темнели лишь муравьиные кучи окопов, сложенных из мешков с песком. Но огневые позиции были пусты, а на скупых квадратных колоннах густо лежала пыль. Все было сделано так, что, случись попасть сюда постороннему, он непременно решил бы: станция давно заброшена.
Однако если бы непрошеному гостю взбрела в голову мысль задержаться хоть ненадолго, он рисковал остаться здесь навсегда. Круглосуточно дежурившие на смежной Каховской пулеметные расчеты и снайперы занимали свои места в окопах за считанные секунды. Вместо слабых лампочек под потолком вспыхивали безжалостные ртутные светильники, выжигая глазную сетчатку привыкшим к туннельной тьме людям и чудовищам.
Платформа была последним и самым тщательно продуманным оборонным рубежом севастопольцев. А их жилища размещались в утробе этой станции-обманки, в подплатформенных коллекторах. Под гранитными плитами пола, скрытый от чужих глаз, находился еще один этаж, площадью не уступавший основному залу, но разбитый на множество ячеек. Хорошо освещенные, сухие и теплые комнаты, мерно гудящие аппараты для очистки воздуха и воды, гидропонические теплицы… Ощущение безопасности и уюта приходило к обитателям станции, только когда они забивались еще глубже под землю.
Гомер знал, что решающее сражение ждет его не в северных туннелях, а дома. Пробираясь по узкому коридору мимо приоткрытых дверей чужих квартир, он плелся все медленнее и медленнее по мере того, как приближалась его собственная. Надо было еще раз обдумать тактику и отрепетировать свои реплики; времени оставалось все меньше.
— Что поделать? Приказ… Сама знаешь, какая ситуация. Меня даже не спросили. Ну что ты как девочка? Просто смешно! Да не напрашивался я! Не могу. Что ты! Не могу, конечно. Уклоняться? Это же дезертирство! — бормотал он себе под нос, то примеряя возмущенную, решительную интонацию, то уходя в минор и пытаясь ласково уговорить кого-то.
Добравшись до порога своей комнаты, забубнил все заново. Нет, слез было не миновать, но отступать он не собирался. Нахохлившись и приготовившись к бою, старик потянул дверную ручку вниз.
Из девяти с половиной квадратных метров — великой роскоши, которой он в свое время прождал в очереди пять лет, мыкаясь по общежитиям — два занимала солдатская двухъярусная кровать, метр — обеденный стол, застеленный нарядной скатеркой, а еще три — огромная, до потолка кипа ветхих газет. Живи он бобылем, в один прекрасный день эта гора непременно обрушилась бы на него и погребла под собой. Но пятнадцать лет назад он встретил женщину, которая готова была не только терпеть присутствие такого количества пыльной макулатуры в своем крохотном домике, но и бережно подравнивать ее, не позволяя превратить свой очаг в бумажные Помпеи.
Она вообще была готова терпеть многое. Бесконечные газетные вырезки с тревожными заголовками вроде «Гонка вооружений набирает обороты», «Американцы испытали новую противоракету», «Наш ядерный щит крепнет», «ПРОвокации ПРОдолжаются» и «Терпение лопнуло», которыми словно обоями были сверху донизу обклеены стены комнатушки. Его ночные бдения с изгрызенной шариковой ручкой над кипой школьных тетрадей при электрическом свете — о свечах с таким ворохом бумаги в их доме и речи не могло идти. Его полушутливое-полушутовское прозвище, которое он сам носил с гордостью, а остальные выговаривали со снисходительной улыбочкой.
Многое, но не все. Не его мальчишеское стремление всякий раз забираться в самый эпицентр урагана, чтобы посмотреть, как там оно все на самом деле, — это почти в шестьдесят лет! И не легкомыслие, с которым он соглашался на любые поручения начальства, забывая о том, что после одного из недавних походов еле выкарабкался с того света.
Не мысль, что она может потерять его и снова остаться совсем одна.
Проводив Гомера в дозор — его черед дежурить выпадал раз в неделю, — она никогда не сидела дома. Скрываясь от тревожных мыслей, шла к соседям, на работу не в свою смену. Мужское равнодушие к смерти казалось ей глупым, эгоистичным, преступным.
Дома он застал ее по случайности — забежала переодеться после работы. Продела руки в рукава заплатанной шерстяной фуфайки, и так и осталась — волосы, темные с уже хорошо заметной проседью, хоть ей не было еще и пятидесяти, встрепаны, в бледных карих глазах — испуг.
— Коля, что-то случилось? У тебя же дежурство допоздна?
И Гомеру вдруг расхотелось сейчас говорить ей о принятом решении. Он заколебался: может, успокоив ее пока, сообщить между делом за ужином?
— Только врать не вздумай, — перехватив его блуждающий взгляд, предупредила она.
— Понимаешь, Лен… Тут такое дело, — начал он.
— Никто не?.. — она спросила сразу о главном, о страшном, не желая даже произносить вслух слово «умер», словно веря, что ее дурные мысли могут материализоваться.
— Нет! Нет, — Гомер замотал головой. — С дежурства меня просто сняли. К Серпуховской посылают, — буднично добавил он.
— Но ведь, — Елена запнулась. — Ведь там… Разве они уже вернулись? Там же…
— Да брось, ерунда какая. Ничего там нет, — заспешил он.
Елена отвернулась, подошла к столу, переставила зачем-то с места на место солонку, расправила складку на скатерти.
— Я сон видела, — она кашлянула, счищая хрипотцу.
— Ты все время их…
— Нехороший, — упрямо продолжила она и вдруг жалко всхлипнула.
— Ну что ты? Что я могу… Это же приказ, — сбиваясь, понимая, что все его подготовленное выступление гроша ломаного не стоят, мямлил он, поглаживая ее пальцы.
— Вот пусть одноглазый сам и идет туда! — зло, уже сквозь слезы, бросила она, отдергивая руку. — Пусть черт этот полосатый туда идет, со своей береткой! А то они только приказывать… Ему-то что? Он всю жизнь с автоматом под боком проспал вместо бабы! Что он понимает?
Доведя женщину до слез, утешить ее, не перешагнув через себя, нельзя. И стыдно было Гомеру, и по-настоящему жаль ее, но так просто было сломаться сейчас, пообещав отказаться от задания, успокоить, высушить слезы — чтобы потом раскаиваться, жалея об упущенном шансе? Последнем, может быть, шансе, который выпадал ему в жизни, по нынешним меркам и так уже порядком затянувшейся.
И он промолчал.
* * *
Пора уже было идти, собирать и инструктировать офицеров, но полковник все сидел в истоминском кабинете, не обращая внимания на обычно так раздражавший и соблазнявший его сигаретный дым.
Пока начальник станции задумчиво шептал что-то, водя пальцем по своей видавшей виды карте метро, Денис Михайлович все пытался понять: зачем все это нужно Хантеру? За его загадочным появлением на Севастопольской, за желанием поселиться здесь, наконец, за осторожностью, с которой бригадир появлялся на станции — почти всегда в шлеме, скрывающем лицо, — могло стоять только одно: Истомин был прав, Хантер все же от кого-то бежал. Зарабатывая дополнительные очки, обосновался на южном блокпосту: заменял собой целую бригаду и сам постепенно становился незаменимым. Кто бы ни потребовал теперь выдать его, какую награду ни посулили бы за его голову, ни Истомин, ни сам полковник и не подумали бы уступать.
Укрытие было безупречным. На Севастопольской не бывало чужаков, а местные караванщики, в отличие от болтливых челноков с других станций, выбираясь в большое метро, никогда не распускали язык. В этой маленькой Спарте, уцепившейся за свой клочок земли на самом краю света, выше всего ценились надежность и свирепость в бою. А тайны здесь уважать умели.
Но зачем тогда Хантеру было бросать все, самому вызываться в поход, поручить который ему у Истомина не хватило бы духу, и, рискуя быть узнанным, отправляться к Ганзе? Полковнику отчего-то не верилось, что бригадира действительно тревожила судьба пропавших разведчиков. Да и за Севастопольскую он сражался не из любви к станции, а по своим, одному ему известным причинам.
Быть может, он на задании? Это многое бы разъяснило: его внезапное прибытие, его скрытность, упорство, с которым он ночевал в спальном мешке в туннелях, наконец, его решение немедленно двигаться к Серпуховской. Почему же он тогда просил не ставить в известность остальных? Кем, как не ими, он мог быть послан? Кем?
Полковник с трудом поборол желание угоститься истоминской самокруткой. Нет, невозможно. Хантер — один из столпов Ордена? Тот человек, которому были обязаны жизнью десятки, может быть, сотни, среди них — и сам Денис Михайлович?
«Тот человек — не мог, — осторожно возразил он сам себе. — Но был ли Хантер, вернувшийся из небытия, тем человеком?»
И если он выполнял чьи-то поручения… Мог ли он сейчас получить некий сигнал? Значило ли это, что исчезновение оружейных караванов и троек разведки было не случайностью, а частью тщательно спланированной операции? Но в чем тогда была роль самого бригадира?
Полковник резко тряхнул головой, словно пытаясь сбросить налипших и быстро набухающих пиявок подозрений. Как он может так думать о человеке, который его спас? К тому же до сих пор Хантер служил станции безупречно и никаких поводов сомневаться в себе не давал. И Денис Михайлович, запретив себе даже в мыслях называть того «шпионом» и «диверсантом», принял решение.
— Давай по чайку, и пойду я к ребятам, — преувеличенно бодро произнес он, хрустнув пальцами.
Истомин оторвался от карты и устало улыбнулся. Потянулся было к своему старинному дисковому телефону, чтобы вызвать ординарца, но тут аппарат натужно задребезжал сам, заставив обоих вздрогнуть и переглянуться. Этого звука они не слышали уже неделю: дежурный, если хотел что-то доложить, всегда стучался в дверь, а больше никто на станции начальнику напрямую звонить не мог.
— Истомин слушает, — осторожно сказал он.
— Владимир Иванович… Там Тульская на проводе, — в трубке гундосо заспешил телефонист. — Только слышно очень плохо… Кажется, наши… Но вот связь…
— Да соединяй уже! — взревел начальник, обрушивая на стол кулак с такой силой, что телефон жалобно тренькнул.
Телефонист испуганно стих, потом в динамике щелкнуло, зашуршало, и послышался бесконечно далекий, искаженный до неузнаваемости голос.
* * *
Елена отвернулась к стене, пряча слезы. Что она могла сделать еще, чтобы удержать его? Почему он был так рад ухватиться за первую возможность удрать со станции, прикрываясь этой сто раз перештопанной историей о приказах начальства и наказании за дезертирство? Чего только она ни дала ему, ни сделала за эти пятнадцать лет, чтобы его приручить! А его снова тянет в туннели, будто он надеется найти там что-то еще, кроме тьмы, пустоты и погибели. Чего ему не хватает?
Гомер слышал в своей голове ее укоры так же ясно, как если бы она сейчас говорила вслух. Чувствовал себя препогано, но отступать уже было поздно. Открывал было рот, чтобы извиниться, согреть ее словом, но давился, понимая, что каждое из этих слов только подбросит хвороста в огонь.
А над головой Елены плакала Москва — заботливо забранная в рамочку, на стене висела цветная фотография Тверской под прозрачным летним дождем, вырезанная из старого глянцевого альманаха. Когда-то давно, во времена его прежних скитаний по метро, все Гомерово имущество сводилось к одежде и этому вот снимку. У других в карманах были помятые страницы с обнаженными красотками, выдранные из мужских журналов, но Гомеру они не могли заменить живую женщину даже на несколько коротких, постыдных минут. А эта вот фотография напоминала ему о чем-то безгранично важном, невыразимо прекрасном… И потерянном навсегда.
Шепнув неуклюжее «прости», он выбрался в коридор, аккуратно притворил за собой дверь и обессиленно опустился на корточки. У соседей было открыто, на пороге играли тщедушные бесцветные ребятишки — мальчик и девочка. Завидев старика, они замерли; кое-как сшитый и набитый тряпьем медведь, которого они только что не могли поделить, сиротливо шлепнулся на землю.
— Дядя Коля! Расскажи сказку! Ты обещал, что расскажешь, когда вернешься! — бросились они к Гомеру.
— Какую вам? — тот не мог отказать.
— Про безголовых мытантов! — радостно завопил мальчуган.
— Нет! Я не хочу про мытантов! — скуксилась девочка. — Они страшные, я боюсь!
— А какую ты хочешь, Танюша? — вздохнул старик.
— Тогда про фашистов! И партизан! — вставил мальчик.
— Нет… Мне про Изумрудный Город нравится… — щербато улыбаясь, сказала Таня.
— Но я же ее вам рассказывал вчера только. Может, про то, как Ганза с Красными воевала?
— Про Изумрудный Город, про Изумрудный Город! — загалдели оба.
— Ну хорошо, — согласился старик. — Где-то далеко-далеко на Сокольнической линии, за семью пустыми станциями, за тремя обрушенными метромостами, за тысячей тысяч шпал лежит волшебный подземный город. Город этот заколдован, и войти в него обычные люди не могут. В нем живут чародеи, и только они способны выходить за городские ворота и возвращаться обратно. А на поверхности земли над ним стоит огромный могучий замок с башнями, в котором раньше жили эти мудрые чародеи. Замок этот называется…
— Вирситет! — выкрикнул мальчишка и победно посмотрел на свою сестру.
— Университет, — подтвердил Гомер. — Когда случилась большая война и на землю стали падать ядерные ракеты, чародеи сошли в свой город и заколдовали вход, чтобы к ним не попали злые люди, которые затеяли войну. И живут они… — он поперхнулся и замолк.
Елена стояла, прислонившись к дверному косяку и слушала его; Гомер и не заметил, как она вышла в коридор.
— Я соберу вещмешок, — хрипло выговорила она.
Старик подошел к Елене и взял ее за руку. Она неловко, стесняясь чужих детей, обняла его и спросила:
— Ты скоро вернешься? С тобой все будет в порядке?
И Гомер, в тысячный раз за свою долгую жизнь удивляясь необоримой женской любви к обещаниям — не важно, возможно их выполнить или нет, — сказал:
— Все будет в порядке.
— Вы такие старенькие уже, а целуетесь как будто жених и невеста, — девочка скорчила неприязненную гримаску.
— А папа сказал, это неправда, нету никакого Изумрудного Города, — вредным голосом сообщил мальчик напоследок.
— Может, и нету, — пожал плечами Гомер. — Это же сказка. Но как нам тут без сказок?
* * *
Слышно действительно было чудовищно плохо. Голос, пробивавшийся сквозь треск и шорох, казался Истомину смутно знакомым — вроде бы один из разведчиков посланной к Серпуховской тройки.
— На Тульской… Не можем… Тульской… — силился передать что-то он.
— Вас понял, вы на Тульской! — прокричал в трубку Истомин. — Что случилось? Почему не возвращаетесь?
— Тульской! Здесь… Не надо… Главное, не надо… — Конец фразы сожрали проклятые помехи.
— Что не надо? Повторите, что не надо?!
— Нельзя штурмовать! Ни в коем случае не штурмуйте! — неожиданно ясно выговорила трубка.
— Почему? Какого дьявола у вас там творится? Что происходит?! — перебил начальник.
Однако голос больше не был слышен; плотной волной накатил шум, а потом трубка умерла. Но Истомин не хотел в это верить и никак не мог выпустить ее из рук.
— Что происходит?!..
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПОСЛЕ ЖИЗНИ
Гомеру показалось, что он на всю жизнь запомнит взгляд дозорного, который прощался с ними на крайнем северном посту. Так смотрят на тело павшего героя, когда почетный караул залпом отдает ему последнюю честь: с восхищением и тоской. Прощаясь навсегда.
Живым такие взгляды не предназначались; Гомер почувствовал себя так, словно он забирался по шаткой приставной лесенке в кабину крохотного, не умеющего приземляться самолета, превращенного коварными японскими конструкторами в адскую машину. Соленый ветер трепал лучистое имперское знамя, на летном поле суетились механики, гудели, оживая, моторы и прижимал пальцы к козырьку пузатый генерал, в заплывших глазах которого искрилась самурайская зависть…
— Чего такой радостный? — хмуро спросил замечтавшегося старика Ахмед.
Он, в отличие от Гомера, не стремился первым разузнать, что же творится на Серпуховской. На платформе осталась его молчаливая жена, левой державшая за руку старшего, а в правой — мяукающий сверток, который она осторожно примостила к груди.
— Это как встать в рост — и в психическую атаку, на пулеметы. Такой отчаянный задор. Нас ждет огонь смертельный… — попробовал объяснить Гомер.
— Эти атаки твои неслучайно так назвали, — пробурчал Ахмед, оглядываясь назад, на маленький светлый пятачок в конце туннеля. — Как раз для таких психов, как ты. Нормальный человек добровольно на пулемет не полезет. Никому такие подвиги не нужны.
— Понимаешь, какое дело, — не сразу откликнулся старик. — Когда чувствуешь, что время подходит, задумываешься: успел я что-то сделать? Запомнят меня?
— Насчет тебя — не уверен. А у меня дети. Они уж точно не забудут… Старший, по крайней мере, — помолчав, тяжело добавил тот.
Гомер, ужаленный, хотел огрызнуться, но последние Ахмедовы слова сбили его с воинственного лада. И правда — это ему, старому, бездетному, легко рисковать своей побитой молью шкурой, а у парня впереди — слишком долгая жизнь, чтобы печься о бессмертии.
Позади остался последний фонарь — стеклянная банка с лампочкой внутри, забранная в решетку из арматуры и переполненная обгоревшими мухами и крылатыми тараканами. Хитиновая масса чуть заметно кишела: некоторые насекомые еще были живы и пробовали выползти, будто недобитые смертники, сваленные в общий ров вместе с остальными расстрелянными.
Гомер невольно на миг задержался в дрожащем, умирающем пятне слабого желтого света, который выжимала из себя эта лампа-могильник. Набрал воздуха и вслед за остальными погрузился в чернильную тьму, разлившуюся от границ Севастопольской и до самых до подступов к Тульской; если, конечно, такая станция все еще существовала.
* * *
Вросшая в гранитные плиты пола угрюмая женщина с двумя маленькими детьми была не одна на опустевшей платформе. Чуть поодаль, провожая взглядом ушедших, замер одноглазый толстяк с борцовскими плечами, а в шаге за его спиной тихо переговаривался с ординарцем поджарый старик в солдатском бушлате.
— Остается только ждать, — рассеянно гоняя потухший окурок из одного угла рта в другой, резюмировал Истомин.
— Ты жди, а я своими делами займусь, — упрямо отозвался полковник.
— Говорю тебе, это Андрей был. Старший последней тройки, которую мы отправили, — Владимир Иванович еще раз прислушался к голосу из телефонной трубки, назойливо продолжающему звучать в его голове.
— И что теперь? Может, они его под пытками заставили это сказать. Специалистам известны разные способы, — приподнял бровь старик.
— Не похоже, — задумчиво покачал головой начальник. — Ты бы слышал, как он это говорил. Там что-то другое происходит, необъяснимое. Кавалерийским наскоком тут не возьмешь…
— Я тебе дам объяснение в два счета, — заверил его Денис Михайлович. — Тульская захвачена бандитами. Устроили засаду, наших — кого убили, кого взяли в заложники. Электричество не обрезают, потому что и сами им пользуются, и Ганзу нервировать не хотят. А вот телефон отключили. Что за история с телефоном, который то работает, то не работает?
— У него голос такой был… — словно и не слушая его, гнул свое Истомин.
— Да какой голос?! — взорвался полковник, заставив ординарца деликатно отступить на несколько шагов. — Загони тебе булавки под ногти, у тебя еще не такой будет! А при помощи слесарных клещей вообще можно бас на фальцет на всю жизнь переделать!
Ему уже было все ясно, он сделал свой выбор. Разрешившись от сомнений, он снова почувствовал себя на коне, и шашка сама просилась в руку, что бы там ни канючил Истомин.
Тот не спешил с ответом, давая вскипевшему полковнику выпустить пар.
— Подождем, — примирительно, но твердо наконец сказал он.
— Два дня, — старик скрестил руки на груди.
— Два дня, — кивнул Истомин.
Полковник крутанулся на месте и затопал в казарму: он-то не был намерен терять драгоценные часы. Командиры ударных отрядов уже битый час ждали его в штабе, расположившись с двух флангов долгого дощатого стола. Пустовали только стулья в двух противоположных концах: его и истоминский. Но на сей раз начинать придется без руководства.
На уход Дениса Михайловича начальник станции внимания не обратил.
— Забавно, как у нас роли поменялись, да? — то ли к нему, то ли к самому себе обратился Истомин.
Не дождавшись ответа, обернулся, натолкнулся на сконфуженный взгляд ординарца, махнув рукой, отпустил его. «Полковника, который наотрез отказывался выделить хотя бы одного лишнего бойца, не узнать, — думал начальник. — Что-то чувствует, старый волчара. Но вот не подводит ли его нюх?»
Самому Истомину его собственный подсказывал совсем другое: затаиться. Ждать. Странный звонок только усилил нехорошее предчувствие: на Тульской их тяжелой пехоте предстояло лицом к лицу встретиться с таинственным, непобедимым противником.
Владимир Иванович пошарил по карманам, отыскал зажигалку, высек искру. И пока над его головой поднимались рваные кольца дыма, он не двигался с места и не сводил глаз с темного провала туннеля, зачарованно уставившись в него, словно кролик в манящую удавью пасть.
Докурив, снова покачал головой и побрел к себе. Вынырнув из тени, на почтительном расстоянии за ним последовал ординарец.
* * *
Глухой щелчок — и ребристые туннельные своды озарились на добрые пятьдесят метров вперед. Фонарь Хантера размерами и мощностью больше напоминал прожектор. Гомер неслышно выдохнул — в последние минуты он не мог избавиться от глупой мысли, что бригадир не станет зажигать свет, потому что его глаза вполне cмогут без него обходиться.
Вступив в темный перегон, тот еще меньше стал напоминать обычного человека, да и, пожалуй, человека вообще. Его движения обрели звериную грацию и порывистость. Фонарь он, похоже, включил только для своих спутников, сам же больше полагался на другие чувства. Сняв шлем и повернувшись ухом к туннелю, он часто прислушивался и даже, укрепляя Гомеровы подозрения, время от времени замирал, чтобы втянуть носом ржавый воздух.
Беззвучно скользя в нескольких шагах впереди, к остальным он не оборачивался, будто забыв об их существовании. Ахмед, редко дежуривший на южной заставе и не привыкший к чудачествам бригадира, недоуменно ткнул старика в бок — что это с ним? Тот только развел руками: разве тут в двух словах объяснишь…
Зачем они вообще ему понадобились? Хантер, казалось, ощущал себя в здешних туннелях куда уверенней Гомера, для которого он сам же и уготовил роль туземца-проводника. А ведь старик, спроси его, мог бы многое рассказать о здешних местах — и небылиц, и правды, иной раз куда более страшной и причудливой, чем самые невероятные байки скучающих у одинокого костра дозорных.
В голове у него была своя карта метро — не чета истоминской. Там, где на схеме станционного начальника зияли пустоты, Гомер мог бы покрыть своими пометками и пояснениями все свободное пространство. Вертикальные шахты, открытые или законсервированные служебные помещения, паутинки межлинейных соединений. На его схеме между Чертановской и Южной — через одну вниз от Севастопольской — от линии отпочковывалось ответвление, врастающее в гигантский бурдюк метродепо «Варшавское», оплетенный прожилками десятков тупиков-отстойников. Депо для Гомера, с его священным трепетом перед поездами, было местом мрачным и мистическим, вроде кладбища слонов. Про него старик мог говорить часами — лишь бы нашлись слушатели, готовые ему поверить.
Участок Севастопольская-Нахимовский Гомер считал весьма непростым. Правила безопасности и просто здравый смысл требовали держаться вместе, продвигаться медленно и осторожно, тщательно обследуя стены и пол впереди себя. И даже в этом перегоне, где все люки и щели были трижды замурованы и опломбированы севастопольскими инженерными бригадами, ни в коем случае нельзя было оставлять неприкрытым тыл.
Вспоротый фонарным лучом мрак срастался сразу же за их спинами, дробилось эхо шагов, отражаясь от перегородок бесчисленных тюбингов, и где-то вдалеке тоскливо подвывал пойманный в вентиляционные колодцы ветер. Неторопливо собираясь в потолочных щелях, падали вниз крупные тягучие капли — может быть, просто вода, но Гомер старался от них уворачиваться. Так, на всякий случай.
* * *
В стародавние времена, еще когда раздувшийся на поверхности город-монстр был жив своей горячечной жизнью, а метро еще казалось беспокойным горожанам просто бездушной транспортной системой — уже тогда совсем еще юный Гомер, которого все звали просто Колей, с фонарем и железным ящиком инструментов бродил по его перегонам.
Простым смертным путь туда был заказан, им отводились только полторы сотни начищенных до блеска мраморных залов и обклеенные цветастой рекламой тесные вагоны. Ежедневно проводя по два-три часа в гудящих и покачивающихся составах, миллионы людей не сознавали, что им дозволяется увидеть лишь десятую часть неимоверно огромного подземного царства, раскинувшегося под землей. И чтобы они не задумывались об истинных его размерах, о том, куда ведут неприметные дверцы и железные заслоны, темные боковые ответвления туннелей и закрытые на вечный ремонт переходы, их отвлекали блестящими до рези в глазах картинками, вызывающе глупыми слоганами и деревянными голосами рекламных объявлений, не дающих расслабиться даже на эскалаторах. Так, во всяком случае, казалось самому Коле, после того, как он начал проникать в секреты этого государства в государстве.
Легкомысленная радужная схема метро, висящая в вагонах, была призвана убеждать любопытных, что перед ними — исключительно гражданский объект. Но на деле ее весело раскрашенные линии были обвиты невидимыми ветвями секретных туннелей, на которых тяжелыми гроздьями висели военные и правительственные бункеры, а перегоны соединялись с клубком катакомб, вырытых под городом еще язычниками.
Во времена ранней Колиной юности, когда его страна была слишком бедна, чтобы состязаться с другими в силе и амбициях, а Судный день казался так далек, бункеры и убежища, сооруженные в его ожидании, копили пыль. Но с деньгами вернулся и былой гонор, а вместе с ним — недоброжелатели. Уже подернувшиеся ржавчиной многотонные чугунные двери были со скрежетом открыты, запасы продовольствия и медикаментов обновлены, воздушные и водные фильтры — приведены в готовность. И очень кстати.
Прием на работу в метро был для него, иногороднего и нищего, сродни вступлению в масонскую ложу. Из отверженного безработного он превращался в члена могущественной организации, щедро оплачивающей те скромные услуги, которые он умел ей оказать, и обещающей причастить его сокровенных тайн мироустройства. Заработок, который сулила афишка о найме, показался Коле весьма соблазнительным, а требований к будущим обходчикам путей не выдвигалось почти никаких.
Далеко не сразу он из неохотных объяснений своих новых сослуживцев начал понимать, отчего метрополитен вынужден заманивать сотрудников высокими окладами и надбавками за вредность. Дело было не в напряженном графике и не в добровольном отказе от дневного света. Нет, речь шла об опасностях совсем иного рода.
Неистребимым мрачным слухам о чертовщине он, как человек скептического склада ума, не верил. Но однажды из обхода короткого слепого перегона не вернулся его приятель. Искать его отчего-то не стали — начальник смены обреченно махнул рукой, — а вслед за приятелем так же бесследно исчезли и все документы, подтверждавшие, что он когда-либо работал в метро. Коле — единственному, кто по молодости и наивности никак не мог смириться с его пропажей, кто-то из старших шепотом, озираясь по сторонам, сообщил наконец, что его друга «забрали». Поэтому кому, как не Гомеру, было знать, что нехорошие события происходили в московских подземельях задолго до того, как мегаполис вымер, опаленный дыханием Армагеддона…
Лишившись друга и коснувшись запретных знаний, Коля мог бы испугаться и бежать, бросить эту работу и найти другую. Однако получилось так, что со временем его брак по расчету с метро перерос в страстный роман. Пресытившись пешими странствиями по туннелям, он прошел обряд инициации в помощники машиниста, заняв более прочное место в сложной иерархии метрополитена.
И чем ближе он знакомился с этим неучтенным чудом света, с этим ностальгирующим по античности лабиринтом, выморочным циклопическим городом, перевернутым вверх тормашками и отраженным от своего прообраза в бурой московской земле, тем глубже и беззаветней влюблялся в него. Этот рукотворный Тартар был безоговорочно достоин поэзии настоящего Гомера, на худой конец, летучего пера Свифта, который бы увидел в нем штуку посильнее Лапуты… Но его тайным воздыхателем и неумелым певцом стал всего лишь Коля. Николаев Николай Иванович. Смешно.
Казалось бы, можно еще любить Хозяйку Медной горы, но любить саму Медную гору? Однако эта любовь, оказавшись взаимной до ревности, в свой час отняла у Коли семью, но спасла ему жизнь.
* * *
Хантер застыл на месте так внезапно, что Гомер, зарывшийся в перину воспоминаний, не успел выбраться обратно и на полном ходу влетел бригадиру в спину. Тот, не издав ни звука, отшвырнул от себя старика и снова замер, опустив голову и обратив к туннелю свое изуродованное ухо. Словно летучая мышь, вслепую рисующая себе пространство, он перехватывал одному ему слышимые волны.
Гомер же почувствовал иное: запах Нахимовского проспекта, запах, который невозможно было спутать ни с чем. Быстро же они добрались… Как бы не пришлось заплатить за то, с какой легкостью их сюда пропустили. Словно слыша его мысли, Ахмед сдернул с плеча автомат и щелкнул предохранителем.
— Кто там? — обернувшись к старику, вдруг прогудел Хантер.
Гомер усмехнулся про себя: кто же знает, кого там дьявол принес? В распахнутые ворота Нахимовского сверху как в воронку затягивало самых невообразимых тварей. Но были у этой станции и свои постояльцы. Хотя они и считались неопасными, старик к ним питал особое чувство — липкую смесь страха и гадливости.
— Небольшие… Безволосые, — попробовал описать их бригадир, и Гомеру этого хватило: они.
— Трупоеды, — негромко сказал он.
От Севастопольской до Тульской, а может, и в других краях метро это шаблонное ругательство теперь имело другое, новое значение. Буквальное.
— Хищники? — спросил Хантер.
— Падальщики, — неуверенно отозвался старик.
Эти отвратительные создания, похожие одновременно на пауков и на приматов, не рисковали в открытую нападать на людей и кормились мертвечиной, которую стаскивали на облюбованную ими станцию с поверхности. На Нахимовском гнездилась большая стая, и все окрестные туннели были напитаны тошнотворно-сладким смрадом разложения. На самом же Проспекте под его тяжестью начинала кружиться голова, и многие, не выдерживая, надевали противогазы уже на подходах.
Гомер, превосходно помнивший об этой особенности Нахимовского, торопливо извлек из походной сумки намордник респиратора и натянул его на себя. Ахмед, собиравшийся наспех, завистливо глянул на него и прикрыл лицо рукавом: расползавшиеся со станции миазмы постепенно окутывали их, подстегивая, сгоняя с места.
Хантер же будто ничего не ощущал.
— Что-то ядовитое? Споры? — уточнил он у Гомера.
— Запах, — промычал тот сквозь маску и поморщился.
Бригадир испытующе оглядел старика, будто пытаясь определить, не смеется ли тот над ним, потом пожал своими широченными плечами.
— Обычный, — и отвернулся.
Он перехватил поудобнее свой короткий автомат, поманил их за собой и, мягко ступая, двинулся дальше первым. Еще через полсотни шагов к чудовищной вони присоединился летучий, неразборчивый шепоток. Гомер вытер со лба обильно выступившую испарину и попытался осадить свое галопирующее сердце. Совсем близко.
Наконец луч нащупал что-то… Стер мрак с разбитых фар, слепо вперившихся в никуда, с пыльных лобовых стекол под сетью трещин, с упрямо не желающей ржаветь синей обшивки… Впереди виднелся первый вагон поезда, гигантской пробкой заткнувшего горловину туннеля.
Поезд был давно и безнадежно мертв, но каждый раз при его виде Гомеру как мальчишке хотелось забраться в разоренную кабину машиниста, приласкать клавиши приборной доски и, закрыв глаза, представить, что он снова мчится на полной скорости по туннелям, увлекая за собой гирлянду ярко освещенных вагонов, наполненных людьми — читающими, дремлющими, глазеющими на рекламу или силящимися переговариваться сквозь гул двигателей…
«В случае подачи сигнала тревоги „Атом“ двигаться к ближайшей станции, там встать и открыть двери. Содействовать силам гражданской обороны и армии в эвакуации пострадавших и герметизации станций метрополитена…»
Инструкция о том, что в Судный день делать машинистам, была четкой и несложной. Везде, где это оказалось возможным, она была выполнена. Большинство составов, застыв у платформ станций, забылись летаргическим сном и постепенно были растащены на запчасти жителями метро, которым вместо обещанных нескольких недель пришлось задержаться в этом убежище на вечность.
Кое-где их сохранили и обжили, но Гомеру, которому в поездах всегда виделась некая одушевленная сущность, это казалось кощунственным — все равно, что набивать чучело из любимой кошки. В местах, непригодных для обитания, таких, как Нахимовский проспект, составы стояли обглоданные временем и вандалами, но все же еще целые.
Гомер никак не мог оторвать взгляд от вагона, а в его ушах, перекрывая шорохи и шипенье, все громче доносящиеся со станции, выла призрачная сирена тревоги и басил гудок, выводя никогда не слышанный до того дня сигнал: один длинный — два коротких: «Атом»!
…Протяжный лязг тормозов и растерянное объявление по вагонам: «Уважаемые пассажиры, по техническим причинам поезд дальше не пойдет…» Ни бубнящий в микрофон машинист, ни сам Гомер, его помощник, не могут еще осознать, какой безысходностью веет от этих казенных слов.
Натужный скрежет гермозатворов, навсегда разделяющих мир живых и мир мертвых. По инструкции ворота должны были окончательно запереться не позже чем через шесть минут после подачи тревожного сигнала, невзирая на то, сколько людей оставалось по другую сторону жизни. В тех, кто пытался препятствовать закрытию, рекомендовалось стрелять.
Сможет ли сержантик, охранявший станцию от бездомных и пьяных, выстрелить в живот мужчине, который пытается задержать огромную железную махину, чтобы успела добежать его сломавшая каблук жена? Сумеет ли нахрапистая турникетная тетка в форменном кепи, весь свой тридцатилетний стаж в метро совершенствовавшаяся в двух искусствах — не пускать и свистеть, — не пропустить задыхающегося старика с жалобной орденской планкой? Инструкция отводила всего шесть минут на то, чтобы превратиться из человека — в механизм. Или в чудовище.
…Визг женщин и возмущенные крики мужчин, самозабвенные детские рыдания. Пистолетные хлопки и грохот автоматных очередей. Ретранслируемые каждым динамиком металлическим бесстрастным голосом зачитанные призывы сохранять спокойствие — зачитанные, потому что ни один человек, знающий, что происходит, не смог бы совладать с собой и просто сказать это так… Равнодушно. «Не поддавайтесь панике…» Плач, мольбы…
Снова стрельба.
И ровно через шесть минут после тревоги, за минуту до Армагеддона — гулкий, похоронный набат смыкающихся секций гермоворот. Смачные щелчки запоров. Тишина.
Как в склепе.
Вагон пришлось обходить по стенке — машинист затормозил слишком поздно. Может быть, отвлекся на происходившее в тот миг на платформе… По чугунной лесенке они забрались наверх и через мгновенье стояли уже в удивительном просторном зале. Никаких колонн, единый полукруглый свод с яйцевидными углублениями под светильники. Свод огромный, обнимающий и платформу, и оба пути вместе со стоящими на них составами. Невероятное изящество конструкции — простой, небесно легкой, лаконичной… Только не смотреть вниз, не под ноги, не впереди себя.
Не видеть того, во что превращена станция теперь. Этот гротескный погост, где нельзя обрести покой, эти жуткие мясные ряды, заваленные обгрызенными скелетами, гниющими тушами, оторванными частями чьих-то туловищ. Мерзкие создания жадно тащили сюда все, до чего могли дотянуться в пределах своих обширных владений, больше, чем могли сожрать сразу, про запас. Запасы эти тухли и разлагались, но их все равно копили, копили бесконечно.
Кучи мертвого мяса против всех законов шевелились, будто дышали, и отовсюду вокруг раздавался противный скребущий звук. Луч поймал одну из странных фигур: долгие узловатые конечности, дряблая, висящая складками, безволосая серая кожа, перекошенная спина… Мутные глаза подслеповато лупают, огромные ушные раковины движутся, живут своей жизнью.
Существо издало сиплый крик и неторопливо затрусило к распахнутым вагонным дверям, перебирая всеми четырьмя ногами-руками. С остальных куч так же лениво стали слезать другие трупоеды, недовольно сипя и всхлипывая, щерясь и огрызаясь на путников.
Выпрямившись, они едва ли доходили до груди даже невысокому Гомеру, к тому же он прекрасно знал, что трусливые твари не должны нападать на сильного, здорового человека. Но иррациональный ужас, который Гомер испытывал перед этими созданиями, рос из его ночных кошмаров: он, ослабевший, покинутый, лежал один на заброшенной станции, а бестии подбирались все ближе. Как акулы в океане за километры слышат запах капли крови, так эти существа чувствовали чужую приближающуюся смерть и спешили освидетельствовать ее.
Старческие страхи, презрительно говорил себе Гомер, в свое время начитавшийся учебников по прикладной психологии. Если бы только это помогало.
Трупоеды же людей не боялись: тратить патроны на отталкивающих, но вроде бы безвредных пожирателей падали на Севастопольской посчитали бы преступным расточительством. Проходящие мимо караваны старались не обращать на них внимание, хотя порой трупоеды вели себя вызывающе.
Здесь их расплодилось великое множество, и по мере того, как тройка продвигалась все глубже, с противным хрустом давя сапогами чьи-то мелкие косточки, разбросанные по полу, все новые и новые твари нехотя отрывались от пиршества и разбредались по укрытиям. Гнездовища у них располагались в поездах, и за это Гомер ненавидел их еще больше.
Гермозатворы на Нахимовском проспекте были открыты. Считалось, что если двигаться через Проспект быстро, доза облучения была небольшой и здоровью не угрожала, но останавливаться тут запрещалось. Так и получилось, что оба состава относительно хорошо сохранились: стекла целы, сквозь проемы дверей видны загаженные сиденья, синяя краска и не думала облезать с железных боков.
Посреди зала высился настоящий курган, сложенный из перекрученных остовов неведомых созданий. Поравнявшись с ним, Хантер вдруг остановился. Ахмед и Гомер тревожно переглянулись, пытаясь определить, откуда может исходить опасность. Но причина задержки оказалась иной.
У подножия, смачно хрупая и урча, два небольших трупоеда обдирали собачий скелет. Спрятаться они не успели: то ли, слишком увлекшись трапезой, не вняли сигналам своих сородичей, то ли не смогли перебороть свою жадность.
Щурясь в режущем свете бригадирского фонаря, они, продолжая жевать, начали медленно отступать к ближайшему вагону, но вдруг один за другим кувырнулись и глухо, как два мешка с требухой, шлепнулись на пол.
Гомер удивленно смотрел на Хантера, который убирал в подплечную кобуру тяжелый армейский пистолет, удлиненный цилиндром глушителя.
Лицо его оставалось таким же непроницаемым, неживым, как и обычно.
— Голодные, наверное, очень были, — пробормотал себе под нос Ахмед, с брезгливым интересом разглядывая темные лужи, растекавшиеся от размозженных черепов убитых тварей.
— Я тоже, — вдруг невнятно отозвался бригадир, заставив Гомера вздрогнуть.
Не оборачиваясь на остальных, Хантер двинулся вперед, а старику почудилось, что он снова слышит стихшее было жадное урчание. С каким трудом каждый раз он сам одолевал соблазн выпустить в этих гадин пулю! Уговаривал себя, успокаивал и в конце концов одерживал верх, доказывал себе, что он зрелый человек, умеющий обуздать свои кошмары, не дать им свести себя с ума. Хантер же, видимо, и не собирался бороться со своими желаниями.
Но что это были за желания?
Неслышная гибель двух членов стаи подхлестнула остальных трупоедов: почуяв свежую смерть, даже самые храбрые и ленивые из них убрались с платформы, еле слышно хрипя и поскуливая. Набившись в оба поезда, они облепили окна и, столпившись в дверях вагонов, притихли.
Злобы или желания отомстить, отразить нападение эти создания не проявляли. Стоит отряду покинуть станцию, они немедленно сожрут своих убитых сородичей. «Агрессия свойственна охотникам, — подумал Гомер. — Тем, кто питается падалью, в ней нет нужды, как нет необходимости убивать. Все живое рано или поздно умирает само. Умерев, оно все равно станет их пищей. Нужно просто подождать».
В свете фонаря сквозь грязные зеленоватые стекла были видны приставшие к ним с обратной стороны мерзкие морды, криво скроенные тела, когтистые руки, беспокойно ощупывающие изнутри этот сатанинский аквариум. В полном безмолвии сотни пар тусклых глаз неотступно следили за проходившим мимо отрядом, и головы созданий поворачивались с поразительной синхронностью, провожая его долгим внимательным взглядом. Так смотрели бы на посетителей кунсткамеры запертые в формалиновых колбах уродцы, если бы им предусмотрительно не зашили веки.
Несмотря на приближающийся час расплаты за безбожие, Гомер так и не смог заставить себя поверить ни в Господа, ни в дьявола. Но если бы Чистилище существовало, для старика оно приняло бы именно такую форму. Сизиф был обречен на борьбу с тяготением, Тантал приговорен к пытке неутолимой жаждой. Гомера же на станции его смерти ожидал мятый китель машиниста и этот чудовищный призрачный поезд с отвратительными пассажирами-горгульями, насмешка мстительных богов. И после отправления состава с платформы туннель, как в одной из старинных легенд метро, сомкнется в ленту Мебиуса, в дракона, пожирающего свой хвост.
Хантера эта станция и ее обитатели больше не интересовали. Остаток зала отряд преодолел скорым шагом: Ахмед и Гомер еле поспевали за сорвавшимся с места бригадиром.
Старика подмывало обернуться, закричать, выстрелить — спугнуть это обнаглевшее отродье, отогнать тяжелые мысли. Но вместо этого он семенил, опустив голову и сосредоточившись на том, чтобы не наступить на чьи-нибудь догнивающие останки. Понурился и Ахмед, занятый своими думами. И в этом их безоглядном бегстве с Нахимовского проспекта никто уже не думал осматриваться вокруг.
Пятно света от фонаря Хантера суетливо летало из стороны в сторону, словно следуя за неким невидимым гимнастом под куполом этого зловещего цирка, но и бригадир уже не обращал внимания на то, что оно цепляло.
В луче мелькнули на долю секунды и тут же сгинули во мраке никем не замеченные, свежие кости и не до конца еще обглоданный череп — явно человеческий. Рядом бесполезной скорлупой валялись стальная солдатская каска и бронежилет.
На облезлом зеленом шлеме по трафарету было белой краской выведено: «Севастопольская».
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. СПЛЕТЕНИЯ
— Папа… Папа, это я, Саша!
Она осторожно ослабила брезентовый ремешок, перетягивающий страшно распухший подбородок, и сняла с отца каску. Запустила пальцы в его взопревшие волосы, поддела резину, стянула и отбросила противогаз, похожий на скукожившийся, мертвенно-серый скальп. Его грудь тяжело вздымалась, пальцы скребли гранит, водянистые глаза не мигая уставились на нее. Он не отвечал.
Подложив ему под голову ранец, Саша бросилась к воротам. Уперлась худеньким плечом в огромную створку, вдохнула глубоко-глубоко и скрипнула зубами. Многотонная железная глыба нехотя поддалась, поплыла и с кряхтеньем встала на место. Саша лязгнула засовом и сползла на пол. Только минуту, всего одну минуту — перевести дух, и она тут же вернется к нему.
Каждый новый поход обходился ее отцу все дороже, и скудная добыча, с которой он возвращался, не могла окупить потерянных сил. Из-за этих вылазок он расходовал остатки своей жизни не днями, а неделями, месяцами. Вынужденное мотовство: если у них не будет ничего на продажу, им останется сожрать только свою ручную крысу — единственную на этой гиблой станции, а потом застрелиться.
Саша хотела сменить отца. Она столько раз просила у него респиратор, чтобы самой подняться наверх, но он был непреклонен. Знал, наверное, что толку от прохудившегося противогаза с давно забитыми фильтрами не больше, чем от любого другого талисмана. Но ей никогда в этом не признавался. Лгал, что умеет чистить фильтры, лгал, что хорошо себя чувствует даже после часовой «прогулки», лгал, что просто хочет побыть один, когда боялся, что она увидит, как его рвет кровью.
Не в Сашиных силах было что-то изменить. Их с отцом загнали в этот угол и не стали добивать скорее из издевательского любопытства, чем из жалости. Думали, они не продержатся и неделю, но отцовской воли и закалки хватило на годы. Их ненавидели и презирали, но регулярно подкармливали — разумеется, не бесплатно.
В перерывах между походами, в те редкие минуты, когда они вдвоем сидели у чахлого, чадящего костерка, отец любил говорить о том, что было раньше. Вот уже несколько лет, как он понял, — нет смысла врать хотя бы себе: будущего у него нет. Зато уж прошлого у него не мог отнять никто.
«Раньше у меня были глаза такого же цвета, как твои, — говорил ей отец. — Цвета неба». И Саше казалось, что она помнит эти дни — дни, когда опухоль еще не вздулась у него на шее огромным зобом, когда глаза его еще не выцвели и были такие же яркие, как у нее сейчас.
Когда отец говорил «цвета неба», он, конечно, имел в виду лазурное небо, еще жившее в его памяти, а не то багровое, клубящееся, под которым он оказывался, по ночам поднимаясь наверх. Дневного света он не видел уже добрых двадцать лет. Саша не видела его никогда. Только в снах, но разве можно точно сказать, правильно ли она себе его воображала? Похож ли на наш тот мир, что видят во сне слепые от рождения люди? И видят ли они хотя бы во сне?
* * *
Маленькие дети, зажмуриваясь, думают, что тьма накрыла весь мир. Думают, что все остальные вокруг в этот миг слепы так же, как они. «Человек в туннелях беспомощен и наивен, как те дети», — думал Гомер. Он сколько угодно может считать себя повелителем света и тьмы, щелкая своим фонариком, но даже самая непроницаемая темнота вокруг способна оказаться полной зрячих глаз.
И сейчас, после встречи с падальщиками, эта мысль не отпускала его. Отвлечься, надо отвлечься.
«Как странно, что Хантер не знал, чего ему ждать на Нахимовском», — подумал Гомер. Когда бригадир впервые появился на Севастопольской два месяца назад, никто из дозорных не смог объяснить, каким образом человек такого могучего сложения сумел незамеченным преодолеть все посты, выставленные в северных туннелях. Хорошо, что командир периметра так и не потребовал от дежурных этих объяснений.
Но если не через Нахимовский проспект, то как же Хантер попал на Севастопольскую? Остальные пути в большое метро были давно отрезаны. Заброшенная Каховская линия, в туннелях которой по известным причинам вот уже долгие годы не наблюдалось ни единой живой твари, исключалась. Чертановская? Смешно и предполагать, что даже столь умелый, беспощадный боец мог бы в одиночку пробиться через проклятую станцию, да и попасть туда, не объявившись прежде на Севастопольской, было невозможно.
Исключив север, юг и запад, Гомеру оставалось только допустить, что таинственный визитер прибыл на их станцию сверху. Разумеется, все известные входы и выходы на поверхность были тщательно задраены и держались под присмотром, но… Мог же он, к примеру, вскрыть запертую вентиляционную шахту. Севастопольцы не ждали, что среди выжженных руин панельных многоэтажек все еще может объявиться кто-то достаточно разумный, чтобы отключить их систему сигнализации.
Бескрайняя шахматная доска микрорайонов, прореженных обломками падавших на город боеголовок, давным-давно опустела, брошенная последними игроками десятилетия назад. Те уродливые, пугающие фигуры, что сами сползались теперь на нее, разыгрывали новую партию уже по своим правилам. Человеку нечего было и мечтать о матче-реванше.
Короткие вылазки в поисках всего ценного, что не успело истлеть за двадцать с лишним лет, эти поспешные и стыдливые попытки мародерства в собственных домах — единственное, на что людям хватало сил. Закованные в латы радиационной защиты, сталкеры поднимались наверх, чтобы в сотый раз обшарить скелеты близлежащих хрущевок, но никто из них не решался дать решительный бой их нынешним хозяевам. Можно было разве что огрызнуться автоматной очередью, пересидеть в загаженных крысами квартирах, а как только опасность минует — стремглав броситься к спасительному спуску в подземелье.
Старые карты столицы давно утратили какое-либо отношение к действительности. Там, где прежде пролегали забитые километровыми пробками проспекты, теперь могли зиять пропасти или чернеть непроходимые заросли. Жилые кварталы сменились трясинами или опаленными проплешинами. Самые отчаянные из сталкеров отваживались исследовать поверхность в километровом радиусе от родных нор, прочие довольствовались куда меньшим.
Лежащие за Нахимовским проспектом станции Нагорная, Нагатинская и Тульская не имели своих выходов, да и люди, жившие на двух из них, были слишком робки, чтобы подниматься наверх. Откуда среди этой глуши мог взяться живой человек, для Гомера было совершенной загадкой. И все же он хотел думать, что Хантер явился на их станцию именно с поверхности.
Потому что был еще один, последний вариант, откуда мог пожаловать их бригадир. Вариант этот пришел в голову старому безбожнику против его воли, пока он старался унять одышку и поспеть за стремительно летящим вперед, будто вообще не касаясь земли, темным силуэтом.
Снизу?
— Плохое предчувствие у меня, — протянул Ахмед негромко — ровно так, чтобы Гомер его услышал, а чуть оторвавшийся от них бригадир — нет. — Не вовремя мы пошли. Уж можешь мне поверить, сколько раз тут с караванами был. На Нагорной нехорошо сегодня…
Мелкие шайки грабителей, отдыхавших от разбоя на темных полустанках подальше от Кольца, давно уже не осмеливались приближаться к севастопольским караванам. Заслышав слаженное громыхание подкованных сапог, возвещавшее о приближении тяжелой пехоты, они могли мечтать только об одном: как можно быстрее убраться с дороги.
Нет, не из-за них и не из-за четырехруких стервятников с Нахимовского проспекта эти караваны всегда так хорошо охранялись. Железная выучка и бесстрашие, способность в считанные секунды сомкнуться в стальной кулак и изничтожить любую осязаемую угрозу шквальным огнем делали бы севастопольские конвои безраздельными властителями туннелей от собственных блокпостов до самой Серпуховской… Если бы не Нагорная.
Нахимовский с его страхами оставался позади, но ни Гомер, ни Ахмед ни на миг не почувствовали облегчения. Станция Нагорная, непритязательная и невзрачная, стала конечной для многих путников, отнесшихся к ней без должного внимания. Бедолаги, оказавшиеся случайно на соседней Нагатинской, жались подальше от жадного зева туннеля, уходящего на юг, к Нагорной. Словно это могло их уберечь… Словно то, что выходило на жатву из южного туннеля, поленилось бы прокрасться чуть дальше, чтобы выбрать добычу себе по вкусу.
Пробираясь через Нагорную, приходилось полагаться только на везение, потому что никаких закономерностей эта станция не признавала. Иной раз молчаливо позволяла пройти мимо, припугивая только кровавыми отпечатками на стенах и рифленых железных колоннах, будто кто-то отчаянно пытался залезть по ним повыше в надежде спастись. И через считанные минуты после этого могла оказать следующей группе такой прием, что потеря половины товарищей казалась тем, кто выжил, победой.
Она не могла насытиться. У нее не было любимчиков. Она не поддавалась изучению. Нагорная представлялась жителям всех окрестных станций воплощением произвола судьбы. И она была главным испытанием для тех, кто решался отправиться от Кольца к Севастопольской — и обратно.
— Вряд ли одна Нагорная могла это сделать, — суеверный, как и многие другие севастопольцы, Ахмед предпочитал говорить об этой станции как о живом существе.
Гомеру не было нужды переспрашивать, уточнять — он и сам сейчас думал о том, могла ли Нагорная поглотить исчезнувшие караваны и всех разведчиков, посланных на их поиски.
— Всякое случалось, но чтобы столько народу сразу пропало… — поддакнул он. — Подавилась бы…
— Зачем так говоришь? — Ахмед зло цыкнул на него, то ли всплеснув в расстройстве рукой, то ли еле сдержав подзатыльник, на который болтливый старик явно напросился. — Тобой-то уж точно не подавится!
Гомер смолчал, придержав обиду. Он-то не верил в то, что Нагорная могла услышать их и затаить злобу. По крайней мере, не на таком расстоянии… Предрассудки, все предрассудки! Почитать всех идолов подземелья — дело обреченное, кому-нибудь да отдавишь мозоль. По этому поводу Гомер уже давно не переживал, но у Ахмеда были свои соображения.
Поддев в кармане бушлата четки, сделанные из тупых пистолетных пуль, он завертел в грязной ладони карусель из свинцовых болванчиков и зашлепал губами, замаливая перед Нагорной Гомеровы грехи на своем языке. Но, похоже, станция его не понимала, или приносить извинения уже было поздно.
Хантер, уловив что-то своим сверхъестественным чутьем, махнул затянутой в перчатку ладонью, гася скорость, и мягко опустился на землю.
— Там туман, — обронил он, втягивая ноздрями воздух. — Что это?
Гомер переглянулся с Ахмедом. Оба понимали, что это означало: охота открыта, и достичь живыми северных рубежей Нагорной будет для них теперь необыкновенной удачей.
— Как тебе сказать, — откликнулся нехотя Ахмед. — Это она дышит…
— Кто? — сухо поинтересовался у него бригадир и стряхнул с плеча рюкзак, видимо, рассчитывая подобрать в своем арсенале подходящий калибр.
— Станция Нагорная, — перешел на шепот тот.
— Посмотрим, — презрительно скривился Хантер.
Но нет, Гомеру только почудилось, что обезображенное лицо бригадира ожило; на самом же деле оно оставалось недвижимым, как и всегда, — просто свет так упал.
Через сотню метров остальные тоже увидели это: ползущую им навстречу по грунту тяжелую белесую дымку, сначала пробующую на вкус их сапоги, потом обвивающую их колени, заливающую туннель по пояс… Они словно медленно входили в призрачное море, холодное и неласковое, с каждым шагом спускаясь все глубже по обманчиво-пологому дну, пока не погрузились в его мутные воды с головой.
Видно было скверно. Лучи фонарей вязли в этом странном тумане, словно мухи в паутине: прорвавшись всего на несколько шагов вперед, выбивались из сил, обмякали и повисали в пустоте — пойманные, вялые, покорные. Звуки долетали трудно, как сквозь перину, и даже движения давались сложнее, будто отряд действительно ступал не по шпалам, а по донному илу.
Дышать тоже становилось тяжелее — но не из-за влажности, а из-за непривычного терпкого привкуса, который появился здесь у воздуха. Впускать его в легкие не хотелось: не оставляло ощущение, что действительно вбираешь в себя дыхание кого-то огромного, чужого, вытянувшего из воздуха весь кислород и напитавшего его своими ядовитыми испарениями.
Гомер на всякий случай снова уткнулся в респиратор. Хантер, скользнув по нему взглядом, запустил пятерню в холщовую подплечную сумку, оттянул жгут и прилепил поверх своей обычной маски новую, резиновую. Без противогаза оставался только Ахмед, который то ли не успел взять его с собой, то ли пренебрег им…
Бригадир вновь застыл, наведя свое рваное ухо на Нагорную, но сгустившаяся белая мгла мешала ему разобрать доносящиеся со станции обрывки звуков, составить из них целую картину. Вроде бы повалилось неподалеку что-то грузное, ухнул протяжно кто-то на слишком низкой для человека, да и для любого животного ноте. Истерически заскрежетало железо, как если бы чья-то рука сворачивала узлом одну из толстых труб, стелющихся вдоль стен.
Хантер тряхнул головой, будто очищаясь от приставшей грязи, и место короткого пистолета-пулемета в его руках занял армейский «калашников» со сдвоенным рожком и подствольным гранатометом.
— Наконец-то, — пробормотал он себе под нос.
Они даже не сразу сообразили, что вступили на саму станцию. Нагорная была затоплена туманом, густым как свиное молоко, и Гомеру, глядевшему на нее сквозь запотевшие стеклышки противогаза, казалось, что он — аквалангист, проникший на борт погибшего океанского лайнера.
Сходство дополняли украшавшие стены чеканные панно: морские чайки, выдавленные в металле суровым и бесхитростным советским штампом. Более всего они походили на отпечатки ископаемых организмов, обнаруженные в сколотой породе. «Окаменелость — вот удел и человека, и его творчества, — мелькнула у Гомера мысль. — Только вот кто откопает?»
…Стоявшее вокруг марево жило — перетекало, подрагивало. Иногда в нем проступали темные сгустки — вначале виделось: искореженный вагон или ржавая будка дежурного, потом — чешуйчатое туловище или голова мифического чудища. И Гомеру страшно было даже вообразить, кто мог захватить кубрики и облюбовать каюты первого класса за десятилетия, прошедшие со дня крушения. Он многое слышал о том, что происходило на Нагорной, но никогда не сталкивался лицом к лицу с…
— Вон оно! Там, справа! — заорал Ахмед, дергая старика за рукав.
Хлопнул придушенный самодельным глушителем выстрел.
Гомер крутанулся с непозволительной для своего ревматизма резвостью, но отупевший фонарь высветил лишь кусок обшитой металлом ребристой колонны.
— Сзади! Вон, сзади! — Ахмед дал короткую очередь.
Однако его пули только крошили остатки мраморных плит, которыми были когда-то облицованы стены станции. Чьи бы очертания Ахмед ни углядел в зыбком мороке, оно растворилось в нем невредимым.
«Надышался», — подумал Гомер.
И тут самым краешком глаза уловил что-то… Гигантское, сгибающееся под слишком низким четырехметровым потолком станции, невообразимо проворное для своего исполинского роста, вынырнувшее из тумана на самой границе видимости и канувшее обратно, прежде чем старик успел навести на него автомат.
Гомер беспомощно оглянулся на бригадира…
Того нигде не было.
* * *
— Ничего. Ничего. Не бойся, — останавливаясь и отдыхая между словами, утешал ее отец. — Знаешь… Где-то в метро есть люди, которым сейчас куда страшнее…
Он попробовал улыбнуться — вышло жутко, будто у черепа отвалилась челюсть. Саша улыбнулась в ответ, но по острой скуле, измазанной в копоти, попозла соленая росинка. По крайней мере, отец пришел в себя — после нескольких долгих часов, за которые она успела уже все передумать.
— На этот раз совсем неудачно, ты уж прости, — говорил он. — Решил все-таки дойти до гаражей. Далековато оказалось. Нашел один нетронутый. Замок из нержавеющей стали, в масле. Сломать не получилось, привязал заряд, последний. Надеялся, машина будет, запчасти. Рванул, открываю — пусто. Вообще ничего. Зачем запирали, сволочи? А грохоту сколько… Молился, чтобы никто не услышал. Выхожу из гаража — вокруг псы. Думал, все… Думал, все.
Отец смежил веки и умолк. Встревоженная, Саша схватила его за руку, но он, не открывая глаз, еле заметно покачал головой — не волнуйся, все в порядке. Сил не хватало даже говорить, а он хотел отчитаться, ему нужно было объяснить, почему он вернулся с пустыми руками, почему ближайшую неделю, пока он не встанет на ноги, им придется туго. Не успел, забылся сном.
Саша проверила наложенную на его разорванную голень повязку, уже размокшую от черной крови, сменила нагревшийся компресс. Распрямилась, подошла к крысиному домику, приоткрыла дверцу. Зверек недоверчиво выглянул наружу, спрятался было, но потом, делая Саше одолжение, все же выбрался на платформу размяться. Крысу чутье никогда не подводило: в туннелях все было тихо. Успокоенная, девушка вернулась к лежанке.
— Ты обязательно встанешь, ты будешь ходить снова, — шептала она отцу. — И ты найдешь гараж, в котором будет целая машина. И мы поднимемся вместе, сядем в нее и уедем далеко отсюда. За десять, за пятнадцать станций. Туда, где нас не знают, где мы будем чужаками. Где нас никто не будет ненавидеть. Если такое место где-нибудь есть…
Она пересказывала ему волшебную сказку, которую столько раз слышала от него. Повторяла слово в слово, и сейчас, сама произнося эту старую отцовскую мантру, верила в нее стократ сильнее. Она выходит его, она его вылечит. В этом мире есть место, где всем на них будет наплевать.
Место, где они смогут быть счастливы.
* * *
— Вот же оно! Вот! На меня смотрит!
Ахмед визжал так, будто его уже схватили и волокут; так, как никогда не позволял себе кричать. Снова зашелся и захлебнулся автомат; Ахмед, окончательно изменивший своему обычному спокойствию, трясся, пытаясь вставить в паз полный рожок.
— Оно меня выбрало… Меня…
Где-то неподалеку деловито фыркнул другой автомат, утих на секунду и опять еле слышно застрекотал рубленными по три выстрела очередями.
Хантер все еще был жив, значит, и у них оставалась надежда. Хлопки то отдалялись, то приближались, но невозможно было сказать, находили ли пули свои цели. Гомер, ожидавший услышать разъяренный рев раненого монстра, зря напрягал слух. Станция была погружена в тягостное молчание; ее загадочные хозяева казались либо бесплотными, либо неуязвимыми.
Бригадир теперь вел свой странный бой на другом краю платформы — там вспыхивал и гас огненный пунктир трассирующих пуль. Упоенный схваткой с призраками, он обрекал своих подопечных.
Гомер перевел дух и задрал голову. Желание сделать это не отступало уже несколько долгих мгновений, и он наконец осторожно поддался ему. Кожей, макушкой, волосками на шее он слишком ясно ощущал на себе взгляд — холодный, давящий — и больше не мог противиться своим предчувствиям.
…Под самым потолком, высоко над их головами, во мгле парила еще одна голова. Настолько огромная, что Гомер не сразу осознал даже, что именно он перед собой видит. Тело исполина оставалось скрытым во мраке станции, и только его чудовищная морда, покачиваясь, нависала над крохотными людишками, ощетинившимися своим никчемным оружием, не торопясь с нападением, зачем-то давая им небольшую отсрочку.
Онемевший от ужаса старик покорно опустился на колени; жалко звякнул о рельс вывалившийся из рук автомат. Завопил, раздирая глотку, Ахмед. Создание неспешно подалось вперед, и все видимое пространство перед ними заполнило темное, огромное как утес тело. Гомер закрыл глаза, готовясь, прощаясь… И думал, и жалел он только об одном. Буравила, ела сознание горькая мысль: «Не успел!»
Но тут харкнул пламенем подствольник, по ушам хлестнула взрывная волна, оглушая и оставляя после себя бесконечный тонкий свист, посыпались ошметки горелого мяса. Ахмед, первым справившийся с собой, дернул старика за шиворот, поставил его на ноги и потащил за собой.
Они бежали вперед, спотыкаясь о шпалы и поднимаясь снова, не чувствуя боли. Держались друг за друга, потому что сквозь белесое марево нельзя было ничего разглядеть и на расстоянии вытянутой руки. Мчались так, как если бы им грозила не просто смерть, а нечто неизмеримо более страшное — окончательное, бесповоротное развоплощение, уничтожение и тел, и душ.
Невидимые и почти неслышные, но отстающие всего на шаг, демоны следовали за ними, сопровождая, но не атакуя, словно играя, давая иллюзию спасения.
Потом колотый мрамор стен сменился туннельными тюбингами: им удалось выбраться с Нагорной! И стражи станции, будто до предела натянув цепи, на которые были посажены, остались позади. Но останавливаться было рано… Ахмед шагал первым, касаясь настенных труб, нашаривая путь вперед, и понукал запинающегося, то и дело норовившего присесть старика.
— А что с бригадиром? — прохрипел Гомер, на ходу срывая душащий его противогаз.
— Туман кончится — встанем, подождем. Скоро уже должно быть, совсем скоро! Метров двести осталось… Выйти из тумана. Главное — выйти из тумана, — твердил Ахмед свое заклинание. — Буду шаги считать…
Ни через двести, ни через триста шагов окутывающее их марево не стало реже. «Что, если оно расползлось до самой Нагатинской, — думал Гомер. — Что, если оно уже пожрало и Тульскую, и Нахимовский?»
— Не может быть… Должен… Немного осталось… — в сотый раз пробубнил Ахмед и вдруг застыл на месте.
Гомер с ходу налетел на него, и оба повалились наземь.
— Стена кончилась, — Ахмед ошарашенно гладил шпалы, рельсы, сырой и шершавый бетон пола, словно опасаясь, что земля вот-вот так же предательски исчезнет у него из-под ног, как только что в никуда провалилась другая опора.
— Да вот же она, что с тобой? — Гомер нащупал уклон тюбинга, ухватился за него и осторожно поднялся.
— Прости… — Ахмед помолчал, собираясь с мыслями. — Знаешь, там на станции… Я думал, никогда уже с нее не уйду. Оно так смотрело на меня… На меня смотрело, понимаешь. Оно решило меня взять. Я думал, навеки там останусь. И не похоронят.
Слова давались ему трудно, он долго не хотел выпускать их, стыдился своих бабьих воплей — и пытался их оправдать, и знал, что оправдания им быть не может. Гомер покачал головой.
— Брось. Я-то штаны вообще намочил, и что мне теперь? Пошли, сейчас уже и в самом деле близко должны быть.
Погоня отозвана, можно отдышаться. Да они и не могли больше бежать и теперь брели, так же подслеповато цепляясь за стены, шаг за шагом приближаясь к избавлению. Самое жуткое было позади, и пусть морок пока отказывался отступать, но рано или поздно хищные туннельные сквозняки покусают его, разорвут и уволокут по клочьям в вентиляционные колодцы. Рано или поздно они выйдут к людям и дождутся там своего задержавшегося командира.
Это случилось даже раньше, чем они могли надеяться, — может быть, потому, что в тумане и время, и пространство искажались? Попозла вдоль стены чугунная лесенка — подъем на платформу, круглое сечение туннеля сменилось прямоугольным, между рельсами появилась ложбинка-укрытие для упавших на пути пассажиров.
— Смотри-ка… — прошептал Гомер. — Кажется, станция! Станция!
— Эй! Есть тут кто? — что было сил заорал Ахмед. — Братки! Есть кто? — его разбирал бессмысленный, торжествующий смех.
Пожелтевший, изможденный свет фонарей проявлял в мглистой тьме обгрызенные временем и людьми настенные мраморные плиты; ни одна из цветных мозаик, гордости Нагатинской, не уцелела. И что случилось с облицованными камнем колоннами? Неужели…
Хоть Ахмеду никто не отвечал, он не отчаивался и продолжал взывать, веселиться: ясное дело, испугались тумана и сбежали подальше; но его-то этим уже не возьмешь. А Гомер все искал что-то беспокойно на стенах, облизывал их тускнеющим лучом, холодея от подозрений.
И вот наконец нашел — железные буквы, вкрученные в треснувший мрамор.
«НАГОРНАЯ».
* * *
Ее отец верил: возвращения никогда не бывают случайны. Возвращаются, чтобы изменить что-то, чтобы что-то исправить. Иногда сам Господь ловит нас за шкирку и возвращает в то место, где мы случайно ускользнули из-под его ока, чтобы исполнить свой приговор — или дать нам второй шанс.
Поэтому, объяснял отец, он никогда не сможет вернуться из изгнания на их родную станцию. У него не было больше сил, чтобы мстить, бороться, доказывать. Ему давно не нужно ничье раскаяние. В той старой истории, что стоила ему всей прежней жизни и чуть не стоила жизни вообще, каждый получил по заслугам, говорил он. Так получалось, что они обречены на вечную ссылку — исправлять Сашин отец ничего не хотел, а Господь на эту станцию не заглядывал.
План спасения — найти на поверхности не сгнившую за десятилетия машину, починить ее, заправить и вырваться из очерченного судьбой запретного круга — давно превратился в сказку на ночь.
Для Саши был еще один путь назад, в большое метро. Когда она в условленные дни выходила к мосту, чтобы выменять починенные кое-как приборы, потемневшие украшения, заплесневелые книги на еду и несколько патронов, случалось, ей предлагали куда большее.
Высвечивая прожектором с дрезины ее чуть угловатую, мальчишескую фигурку, челноки перемигивались и причмокивали, подзывали и обещали. Девчонка казалась дикой — молча глядела на них исподлобья, напружиненная, спрятав за спину длинный клинок. Просторный мужской комбинезон не мог смазать ее дерзко вычерченные линии. Грязь и машинное масло на лице заставляли ее голубые глаза сиять ярче, так ярко, что некоторые отводили взгляд. Белые волосы, безыскусно обрезанные тем самым ножом, который был всегда зажат в ее правой руке, еле прикрывали уши, прикушенные губы никогда не улыбались.
Быстро сообразив, что подачками волка прикормить невозможно, люди с дрезины пытались подкупить ее свободой, но она ни разу не ответила им. Они посчитали, что девчонка безъязыка. Так было даже проще. Саша прекрасно понимала: на что бы она ни согласилась, ей не купить два места на дрезине. К ее отцу у других слишком много счетов, и оплатить их невозможно.
Безликие и гундосые в своих черных военных противогазах, они не были для нее просто врагами — она не находила в них ничего человеческого, ничего, что могло бы заставить ее замечтаться хотя бы ночью, хотя бы во сне.
Поэтому она просто клала на шпалы телефоны, утюги, чайники, отходила на десять шагов назад и ждала, пока челноки заберут товар и швырнут на пути свертки с вяленой свининой и назло рассыплют пригоршню патронов — поглядеть, как она будет, ползая, собирать их.
Потом дрезина медленно отчаливала и уходила в настоящий мир, а Саша разворачивалась и шла домой, где ее ждала гора поломанных приборов, отвертка, паяльник и превращенный в динамо-машину старый велосипед. Она седлала его, закрывала глаза и мчалась далеко-далеко, почти не думая о том, что никогда не тронется с места. И то, что она сама приняла решение отказаться от помилования, придавало ей сил.
* * *
Какого дьявола?! Каким образом их снова занесло сюда? Гомер лихорадочно пытался найти объяснения случившемуся. Ахмед вдруг заткнулся — увидел, куда светит Гомер своим фонарем.
— Она не отпускает меня… — севшим, почти неслышным голосом протянул он.
Обступившая их мгла сгустилась настолько, что они еле видели друг друга. Задремавшая в отсутствие людей, теперь Нагорная очнулась: тяжелый воздух отзывался на их слова неуловимыми колебаниями, и неясные тени пробуждались в ее глубине. И никаких следов Хантера… Существу из плоти и крови нельзя победить в сражении с фантомами. Как только станции надоело играть с ним, она обволокла его своим едким дыханием и переварила заживо.
— Ты уходи, — обреченно выдавил Ахмед. — Это я нужен. Ты не знаешь, ты здесь редко бываешь.
— Хватит чушь молоть! — неожиданно для самого себя громко рявкнул на него старик. — Просто в тумане заплутали. Пошли обратно!
— Мы не сможем уйти. Как ни беги, обратно вернешься, если со мной будешь. Один прорвешься. Уходи, прошу.
— Все, довольно! — Гомер схватил Ахмеда за кисть и потянул за собой, к туннелю. — Через час меня благодарить будешь!
— Передай моей Гуле… — начал тот.
И невероятная, чудовищная сила вырвала его руку из руки Гомера — резко вверх, в туман, в небытие. Он не успел вскрикнуть — просто исчез, будто в миг распался на атомы, будто никогда и не существовал. За него истошно завопил старик — словно обезумев, кружась вокруг своей оси, растрачивая драгоценные патроны рожок за рожком. Потом на его затылок обрушился сокрушительный удар, какой мог нанести только один из здешних демонов, и Вселенная схлопнулась.
ГЛАВА ПЯТАЯ. ПАМЯТЬ
Саша подбежала к окну и распахнула ставни, впуская внутрь свежий воздух и робкий свет. Дощатый подоконник нависал прямо над бездонной пропастью, заполненной нежным утренним туманом. С первыми лучами солнца он рассеется, и из окна станет видно не только ущелье, но и поросшие соснами дальние горные отроги, и расстилающиеся меж ними зеленые луга, спичечные коробки рассыпанных в долине деревенских домов и гильзы колоколен.
Раннее утро было ее временем. Она предчувствовала восход и опережала солнце, просыпаясь за полчаса, чтобы успеть подняться на гору. За их хибаркой, небольшой, но вылизанной до блеска, теплой и уютной, вверх по склону змеилась каменистая тропа, окаймленная ярко-желтыми цветами. Крошка под ногами сползала вниз, и за несколько минут до вершины горы Саша иногда успевала упасть несколько раз, ссаживая колени.
Задумавшись, Саша вытерла рукавом подоконник, влажный от дыхания ночи. Ей снилось что-то мрачное, нехорошее, перечеркивающее всю ее беззаботную нынешнюю жизнь, но остатки беспокойных видений испарились с первым же прикосновением к ее коже легкого прохладного ветра. И сейчас ей было лень вспоминать, что так огорчило ее во сне. Нужно было торопиться на вершину, поприветствовать солнце, а после, скользя вниз по тропе, спешить домой — готовить завтрак и будить отца, собирать узелок ему в дорогу.
А потом целый день, пока он будет охотиться, Саша окажется предоставлена сама себе — и до ужина сможет гонять неповоротливых стрекоз и летающих тараканов среди луговых цветов, желтых как линкруст в вагонах.
Она прокралась на цыпочках по скрипучим половицам, приоткрыла дверь и тихонько засмеялась.
Вот уже несколько лет, как Сашин отец не видел на ее лице такой счастливой улыбки, и ему ужасно не хотелось ее будить. Нога затекла и онемела, кровь никак не останавливалась. Говорят, раны от укусов бродячих псов не заживают…
Позвать ее? Но его не было дома больше суток — прежде чем отправиться к гаражам, он решил забраться в панельный термитник в двух кварталах от станции, вскарабкался на шестнадцатый этаж и там потерял сознание. Все это время Саша не сомкнула глаз — дочь никогда не засыпала, пока он не возвращался с «прогулки». «Пусть отдохнет, — думал он. — Врут все. Ничего с ним не случится».
Хотелось бы ему знать, что именно она сейчас видит. У него самого почему-то не получалось забыться даже во сне. Лишь изредка подсознание отпускало его на пару часов на побывку в безмятежную юность. Обычно же ему приходилось скитаться среди знакомых мертвых домов с выскобленными внутренностями, и хорошим сном считался тот, в котором ему вдруг удавалось найти нетронутую квартиру, полную чудом уцелевшей техники и книг.
Засыпая, он просился в прошлое. Мечтал попасть хотя бы в ту пору, когда только встретился с Сашиной матерью, когда ему было всего двадцать, а он уже командовал гарнизоном станции. Станции, которая тогда казалась всем ее жителям лишь временным пристанищем, а не общим бараком на каторжных рудниках, где они отбывают пожизненное заключение.
Но вместо этого его швыряло в прошлое недалекое. В гущу событий пятилетней давности. В день, определивший его судьбу, — и, что еще страшнее, судьбу его дочери. Разумом он смирился и со своим поражением, и со ссылкой, но стоило тому задремать, как сердце принималось требовать реванша.
…Он снова стоял перед шеренгой своих бойцов с «калашниковым» наперевес, — в той ситуации из положенного ему по чину офицерского «макарова» можно было бы разве что застрелиться. Кроме двух десятков автоматчиков за его спиной, на станции больше не оставалось верных ему людей.
Толпа бурлила, прибывала, десятками рук раскачивала заграждения; нестройное многоголосье, повинуясь взмахам невидимой ему дирижерской палочки, перерастало в слаженный хор. Пока они требовали всего лишь его отставки, но спустя минуты им будет нужна уже его голова.
Это была не стихийная демонстрация, тут действовали засланные извне провокаторы. Пытаться вычислить и ликвидировать их по одному уже не имело смысла. Единственное, что он мог сейчас сделать, чтобы остановить мятеж, чтобы удержать власть, — приказать открыть огонь по толпе. Было еще не поздно.
Его пальцы сжались вокруг незримой рукояти, зрачки беспокойно бегали под припухшими веками, губы шевелились, отдавая неслышные приказы. Черная лужа, в которой он лежал, разрасталась с каждой минутой, будто подпитывалась его уходящей жизнью.
* * *
— Где они?!
Выдернутый из темного озера забвения, Гомер затрепыхался, словно пойманный на блесну окунь, судорожно вдыхая и вперив в бригадира ополоумевший взгляд. Мутные громады сумеречных циклопов, стражей Нагорной, все еще толпились перед ним, тянули к нему долгие, многосуставчатые пальцы, способные без труда вырвать ногу или продавить ребра. Они окружали старика каждый раз, когда он закрывал глаза, и неспешно, нехотя рассеивались, когда открывал вновь.
Гомер попытался вскочить, но чужая рука, чуть сжимавшая его плечо, снова превратилась в тот стальной крюк, который вытянул его из кошмара. Постепенно умерив дыхание, он сфокусировался на иссеченном лице, на темных, масляным машинным блеском отсвечивающих глазах… Хантер! Живой? Старик осторожно повел головой влево, потом вправо, боясь снова обнаружить себя на заколдованной станции.
Нет, они находились посреди пустого, чистого туннеля — туман, застивший подступы к Нагорной, тут был почти невидим. Должно быть, Хантер тащил его на себе не меньше полукилометра, озадаченно прикинул Гомер. Успокоенный, он обмяк и повторил на всякий случай:
— Где они?
— Здесь никого нет. Ты в безопасности.
— Эти создания… Они напали на меня? Оглушили? — старик поморщился, потирая саднящий бугор на макушке.
— Я тебя ударил. Пришлось, чтобы прекратить истерику. Ты мог меня задеть.
Хантер наконец разжал тиски, туго распрямился и скользнул рукой по широкому офицерскому ремню. По другую сторону от кобуры со «стечкиным» на нем висел кожаный футляр неизвестного назначения. Бригадир щелкнул кнопкой и извлек из него плоскую медную фляжку. Взболтнул, открыл и, не предложив Гомеру, сделал большой глоток. Зажмурился на секунду, словно от удовольствия… Старик ощутил легкий холодок, видя, что левый глаз у бригадира даже не может толком закрыться.
— А где Ахмед? Что с Ахмедом? — вспомнил Гомер и его снова затрясло.
— Умер, — равнодушно сказал бригадир.
— Умер, — послушно повторил за ним старик.
Когда чудище вырвало руку товарища из его руки, он понял: из этих когтей не сможет вывернуться ни одна живая душа. Гомеру просто повезло, что выбор Нагорной пал не на него. Старик огляделся еще раз — поверить, что Ахмед исчез навсегда, сразу не выходило. Гомер уставился на свою ладонь — ободранную и кровоточащую. Не удержал. Ему не хватало воздуха.
— А ведь Ахмед знал, что обречен, — тихонько произнес он. — Почему именно его забрали, не меня?
— В нем много жизни было, — отозвался бригадир. — Они человечьими жизнями питаются.
— Несправедливо, — помотал головой старик. — У него дети маленькие, его столько тут держит! Держало… А я — перекати-поле.
— А ты бы стал мох жрать? — обрубил разговор Хантер, рывком поднимая Гомера на ноги. — Все, пойдем. Можем не успеть.
Семеня вслед за перешедшим на рысь Хантером, старик ломал себе голову: как же могло получиться, что они вернулись на Нагорную? Будто хищная орхидея, станция одурманила их своими миазмами и заманила обратно в себя. Назад они ни разу не поворачивали — за это Гомер мог ручаться. Он был уже готов поверить в искривления пространства, о которых сам так любил рассказывать легковерным товарищам по дозору, но все оказалось куда проще. Остановившись, старик хлопнул себя по лбу: пошерстный съезд! В нескольких сотнях метров за Нагорной между стволами правого и левого туннеля прорастала одноколейная ветка для разворота составов. Она уходила вбок под малым углом, и, идя вслепую по стенке, они просто сперва выбрались на параллельный путь, а потом — когда стена пропала — по ошибке снова свернули к станции. «Никакой мистики», — неуверенно подумал Гомер. Но нужно было прояснить еще кое-что.
— Эй! — окликнул он Хантера. — Постой!
Однако тот, будто глухой, продолжал маршировать вперед, и старику пришлось, борясь с одышкой, самому прибавить шагу. Поравнявшись, пытаясь заглянуть бригадиру в глаза, Гомер выпалил:
— Почему ты нас бросил?
— Я — вас? В бесстрастном, металлическом голосе старику послышалась усмешка, и он прикусил язык. Действительно, ведь это они с Ахмедом бежали со станции, оставив бригадира наедине с демонами…
Вспоминая, как яростно и как бесплодно Хантер сражался на Нагорной, Гомер никак не мог освободиться от впечатления, что обитатели станции просто не приняли боя, который он старался им навязать. Побоялись? Или почувствовали в нем родственную душу… Старик набрался храбрости: оставался еще один вопрос, самый непростой.
— Скажи, Хантер, там, на Нагорной… Тебя-то они почему не тронули?
Прошло несколько тягостных минут, — настаивать Гомер не отваживался, — прежде чем тот еле слышно дал ему короткий, угрюмый ответ.
— Побрезговали.
* * *
Красота спасет мир, шутил ее отец.
Саша краснела и прятала разрисованный пакетик из-под чайной крошки в нагрудный карман своего комбинезона. Пластиковый квадратик, вопреки всему хранивший далекий отголосок аромата зеленого чая, был ее главным сокровищем. А еще он был напоминанием о том, что Вселенная не ограничивалась безглавым туловищем их станции с четырьмя обрубками туннелей, закопанным на глубине двадцати метров в городе-кладбище Москве. И магическим порталом, способным переносить Сашу сквозь десятки лет и тысячи километров. И чем-то еще неизмеримо важным.
В здешнем сыром климате любая бумага, как чахоточная, стремительно увядала. Тлен и плесень изъедали не просто книги и журналы — они уничтожали само прошлое. Без изображений и хроник, как без костылей, хромая человеческая память спотыкалась и путалась.
Но пакетик был сделан из пластика, плесени и времени неподвластного. Отец как-то говорил Саше, что пройдет несколько тысячелетий, прежде чем он начнет разлагаться. Значит, ее потомки смогут передавать его по наследству, думала она.
Это была самая настоящая картина, пусть и миниатюрная. В золотой рамке, такой же яркой, как и в тот день, когда пакетик сошел с конвейера, был заключен вид, от которого у Саши перехватывало дыхание. Отвесные скалы, утопленные в мечтательной дымке, раскидистые сосны, цепляющиеся за почти вертикальные склоны, бурлящие водопады, обрушивающиеся с высоты в пропасть, алое зарево от вот-вот взойдущего солнца… Ничего прекраснее Саша в своей жизни не видела.
Она могла подолгу сидеть, расправив пакетик на ладони, любуясь им, и взор ее затягивался той же предрассветной дымкой, что окутывала далекие горы. И хоть она проглатывала все добытые отцом книги, прежде чем продать их за патроны, ей не хватало вычитанных там слов, чтобы описать ему, что именно она чувствует, когда смотрит на сантиметровые скалы и дышит хвоей рисованных сосен. Несбыточность этого воображаемого мира — и потому его невероятную притягательность… Сладкую тоску и вечное предвкушение того, что впервые увидит солнце… Нескончаемое перебирание — что же может скрываться за дурацкой табличкой с названием чайной марки? Необычное дерево? Орлиное гнездо? Лепящийся к склону домишко, в котором она могла бы жить вместе с отцом?
Именно он однажды, когда Саше не было и пяти, принес ей этот пакетик, тогда еще полный — большая редкость! Хотел удивить дочку настоящим чаем, но она выпила его мужественно, как лекарство, а вот пластиковая упаковка ее почему-то действительно поразила. Ему же тогда пришлось и объяснять ей, что изображено на незатейливом лубке. Условный пейзаж китайской горной провинции, пригодный как раз для печати на чайных пачках. Но Саша и десять лет спустя разглядывала его так же зачарованно, как в тот день, когда только получила подарок.
А отец считал, что пакетик был для Саши жалким эрзацем целого мира.
И когда она впадала в блаженный транс, созерцая кое-как намалеванную фантазию неудавшегося художника, отцу казалось: дочь корит его за свою куцую, бескровную жизнь. Он всегда пытался унять зуд, но сдерживаться долго не мог. Плохо скрывая раздражение, он в сотый раз спрашивал Сашу, что такого она нашла в обрывке упаковки из-под грамма чайной трухи.
А та, поспешно пряча маленький шедевр в карман комбинезона, неловко отвечала: «Папа… Мне так красиво!».
* * *
Если бы не Хантер, ни на секунду не остановившийся больше до самой Нагатинской, Гомер потратил бы на этот путь втрое больше. Он-то никогда не рискнул бы так самоуверенно нестись сквозь эти туннели.
Их отряду пришлось уплатить страшную пошлину за транзит через Нагорную — но двое из троих спаслись. Выжили бы и все трое, не заблудись они в тумане. Плата была не выше обычной; ни на Нахимовском проспекте, ни на Нагорной при них не происходило ничего, что не случалось бы там прежде.
Значит, дело в перегонах, которые вели к Тульской? Сейчас они притихли, но тишина была нехорошая, напряженная. Да, Хантер чуял опасность за сотни метров, знал, чего ждать на станциях, где никогда не бывал, но не предаст ли в этих местах его интуиция, как она подвела до того десяток опытнейших бойцов?
Возможно, именно Нагатинская, к которой они приближались с каждым шагом, скрывала разгадку тайны? Насилу удерживая мысли, сбивавшиеся от слишком быстрого шага, Гомер пытался представить себе, что могло ждать их на станции, которую он раньше так любил. Старик, баловавший себя коллекционированием мифов, запросто мог вообразить и то, что на Нагатинской развернулось легендарное Сатанинское посольство, и что ее сгрызли крысы, мигрирующие в поисках пищи по собственным, недоступным для людей туннелям.
Да, окажись старик в этих перегонах один, он двигался бы куда медленнее, но вот назад он не повернул бы ни за что. За годы, проведенные на Севастопольской, он разучился бояться смерти.
Гомер отправился в это путешествие, хорошо зная, что оно может стать последним его приключением, и был вполне готов отдать за него все остававшееся ему время.
Всего через полчаса после встречи с чудовищами на Нагорной он уже не помнил своего ужаса. Больше того, прислушиваясь к себе сейчас, он начинал улавливать на дне своей души неясное, несмелое шевеление: где-то там зарождалось — или просыпалось — то, чего он так ждал и о чем просил. То, что он искал в самых опасных походах, не находя этого дома.
Теперь у него была очень веская причина изо всех сил оттягивать смерть. Он мог позволить себе ее только после того, как завершит свою работу.
Последняя война была яростней любой из предыдущих и потому закончилась в считанные дни. Со времени Второй мировой сменились три поколения, ее последние ветераны уснули навек, и в памяти живущих не осталось подлинного страха перед войной. Из массового помешательства, лишающего миллионы людей всего человеческого, она вновь превратилась в стандартный политический инструмент. Ставки росли слишком быстро, на принятие верных решений просто не хватило времени. Табу на применение ядерных боеголовок оказалось преодолено между делом, в запале: просто ружье, повешенное на стену в первом акте драмы, все-таки выстрелило в предпоследнем. И уже неважно было, кто нажал сакральную кнопку первым.
Единовременно все крупные города Земли обратились в руины и пепел. Те немногие, что были прикрыты противоракетным щитом, тоже испустили дух, хоть с виду и оставались почти нетронутыми: жесткое излучение, боевые отравляющие вещества и бактериологическое оружие истребило их население. Хрупкая радиосвязь, установившаяся было между горстками выживших, окончательно прервалась всего через несколько лет, и для обитателей метро мир отныне заканчивался пограничными станциями на обжитых линиях.
Земля, прежде казавшаяся изученной и тесноватой, вновь стала тем безбрежным океаном хаоса и забвения, каким она была в древности.
Крошечные островки цивилизации один за другим уходили в его пучину: лишенный нефти и электричества, человек стремительно дичал.
Наступала эпоха безвременья.
Ученые столетиями бережно восстанавливали ткань истории из лоскутков найденных папирусов и пергаментов, обрывков кодексов и фолиантов. С изобретением печати, с появлением газет это полотно продолжили ткать из газетных хроник типографские станки. В летописях последних двух веков не было прорех: каждый жест и каждое междометие тех, кто вершил судьбы мира, тщательно документировались. И вдруг в одночасье типографии по всему миру были разрушены или брошены навсегда.
Ткацкие станки истории встали. В мире без будущего мало кому было до нее дело. Материя оборвалась, оставив целой лишь одну тонкую нить.
В первые несколько лет после катастрофы Николай Иванович рыскал по переполненным станциям, отчаянно надеясь найти на одной из них свою семью. Надежда ушла, но он, осиротевший и потерянный, продолжал блуждать в потемках метрополитена, не зная, чем занять себя в загробной жизни. Ариаднин клубок смысла существования, который мог бы указать ему верную дорогу в нескончаемом лабиринте туннелей, выпал из его рук.
Тоскуя по прежним временам, он стал собирать журналы, которые позволяли ему повспоминать, замечтаться. Размышляя, можно ли было предотвратить Апокалипсис, он увлекся хрониками и газетной аналитикой. Потом и сам стал пописывать, подражая новостным сводкам и рассказывая о событиях на тех станциях, где бывал.
И так случилось, что вместо своей утраченной путеводной нити Николай Иванович подобрал другую, ту самую: он решил сделаться летописцем. Автором новейшей истории — от Конца света и до собственного конца. Беспорядочное и бесцельное собирательство обрело смысл: теперь он должен был кропотливо реставрировать поврежденное полотно времени и вручную продолжать его.
Остальные к увлечению Николая Ивановича относились как к безобидному чудачеству. Он с готовностью отдавал продовольственный паек за старые газеты и переоборудовал свой угол на каждой станции, куда его заносила судьба, в настоящий архив. Он ходил в дозоры, потому что именно у костра на трехсотом метре суровые мужчины принимались как мальчишки травить байки, из которых Николай Иванович мог выудить крупицы достоверной информации о том, что происходило в других концах метро. Сличал десятки сплетен, чтобы вычленить из них факты, которые аккуратно подшивал в ученические тетради.
Работа позволяла ему отвлечься, но Николая Ивановича никак не покидало чувство, что делает он ее втуне. После его смерти сухие новостные сводки, бережно собранные им в гербарии тетрадок, просто рассыплются в прах без надлежащего ухода. Если он не вернется однажды с дежурства, его газетами и летописями примутся разжигать огонь, и их не хватит надолго.
От потемневшей с годами бумаги останутся дым и сажа, атомы образуют новые соединения, обретут иную форму. Материя почти неуничтожима. А вот то, что он хотел сберечь для потомков, то неуловимое, эфемерное, что ютилось на бумажных листах, сгинет навеки, окончательно.
Так уж устроен человек: содержание школьных учебников живет в его памяти ровно до выпускных экзаменов. И забывая зазубренное, он испытывает неподдельное облегчение. «Память человеческая подобна песку в пустыне, — думал Николай Иванович. — Цифры, даты и имена второстепенных государственных деятелей остаются в ней не дольше, чем запись, сделанная деревянной палкой на бархане. Заносит без следа».
Чудесным образом сохраняется только то, что способно завладеть людской фантазией, заставить сердце биться чаще, побуждая додумывать, переживать. Захватывающая история великого героя и его любви может пережить историю целой цивилизации, вирусом внедрясь в человеческий мозг и передаваясь от отцов к детям через сотни поколений.
Когда старик наконец понял это, из самозваного ученого он стал сознательно превращаться в алхимика, из Николая Ивановича — в Гомера. И свои ночи он посвящал теперь не составлению хроник, а поискам формулы бессмертия. Сюжета, который оказался бы живучим, как Одиссея, героя, который долголетием сравнялся бы с Гильгамешем. На этот сюжет Гомер постарался бы нанизать накопленные им знания… И в мире, где вся бумага была переведена на тепло, где прошлым с легкостью жертвовали ради единственного мгновения в настоящем, легенда о таком герое могла бы заразить людей и спасти их от повальной амнезии.
Однако заветная формула не давалась ему. Герой никак не хотел появляться на свет. Переписывание газетных статей не могло научить старика слагать мифы, вдыхать жизнь в големов, делать выдумку увлекательнее реальности. Вырванные и скомканные листы с незавершенными первыми главами будущей саги, с неубедительными и нежизнеспособными персонажами делали его рабочий стол похожим на абортарий. Единственным итогом ночных бдений были темные круги под глазами и искусанные губы.
И все же Гомер не хотел отказываться от своего нового предназначения. Он старался не думать, что просто не рожден для этого, что для созидания вселенных нужен талант, которым его обделили.
Просто нет вдохновения, убеждал он себя.
И откуда бы ему взяться на душной станции, среди рутины семейных чаепитий, сельхозработ и даже дозоров, куда его по возрасту брали все реже? Нужна была встряска, приключение, накал страстей. Быть может, тогда закупоренные протоки в его сознании прорвет, и он сможет творить?
Даже в самые трудные времена люди никогда не покидали Нагатинскую совсем. Она была мало пригодна к обитанию: здесь ничего не росло, и выходы наверх были перекрыты. Но многим станция пригодилась, чтобы на время скрыться с глаз долой, пересидеть опалу, уединиться с любимой.
Сейчас она была пуста.
Хантер беззвучно взлетел по неисправимо скрипучей лестнице на платформу и остановился. Гомер, пыхтя, последовал за ним, опасливо озираясь по сторонам. Зал был темен, а в воздухе висела пыль, серебристо переливаясь в лучах фонарей. Редкие кучи тряпья и картона, на которых обычно располагались гости Нагатинской, были разметаны по полу.
Старик прислонился спиной к колонне и медленно съехал вниз. Когда-то Нагатинская с ее изящными цветными панно, набранными из мрамора разных сортов, была одной из его любимых станций. Но, темная и неживая, она походила на себя прежнюю не больше, чем керамическое фото на надгробии — на того человека, что снимался сто лет назад на паспорт, не предполагая, что глядит не в объектив, а в вечность.
— Ни души, — растерянно протянул Гомер.
— Одна есть, — возразил бригадир, кивая на него.
— Я имею в виду… — начал старик, но Хантер остановил его жестом.
В другом конце зала, там, где заканчивалась колоннада и куда еле добивал даже прожектор бригадира, на платформу неспешно выползало что-то…
Гомер завалился набок и, упершись руками в пол, тяжело поднялся. Фонарь Хантера погас, а сам бригадир словно испарился. Потея от страха, старик нашарил предохранитель и вдавил в плечо бьющийся в припадке приклад автомата. Вдалеке хлопнули еле слышно два выстрела. Гомер, осмелев, высунулся из-за колонны, а потом заторопился вперед.
Посреди платформы, распрямившись, стоял Хантер, а у него в ногах корчилась смутная фигура, сникшая, жалкая. Будто сложенная из коробок и лохмотьев, она мало чем напоминала человека, но все же им являлась. Безвозрастный и бесполый, такой грязный, что на его лице были хорошо различимы только глаза, он нечленораздельно скулил и пытался отползти от возвышающегося над ним бригадира. Судя по всему, обе ноги у него были прострелены.
— Где люди? Почему здесь никого нет? — Хантер поставил сапог на шлейф вонючих рваных тряпок, волочившийся за бродягой.
— Все ушли… Меня бросили. Один остался, — просипел тот, гребя ладонями по скользкому граниту, но не сдвигаясь с места.
— Куда ушли?
— На Тульскую…
— Что там творится? — встрял подоспевший Гомер.
— Откуда мне знать? — скривился бездомный. — Кто туда ушел, там и сгинул. У них и спрашивай. А у меня нет сил по туннелям шататься. Я тут помру.
— Почему уходили? — не отступал бригадир.
— Страшно им было, начальник. Станция пустеет. Решили прорываться. Никто не вернулся.
— Совсем? — Хантер поднял ствол.
— Совсем. Один только, — поправился бродяга, замечая наведенное дуло и съеживаясь, как муравей под линзой. — На Нагорную шел. Я спал. Может, показалось.
— Когда?
— У меня часов нет, — тот замотал головой. — Может, вчера, а может, неделю назад.
Вопросы иссякли, но пистолетный ствол по-прежнему глядел допрошенному в глаза. Хантер молчал, словно у него внезапно кончился завод. И странно тяжело дышал, как если бы разговор с бродягой отнял у него слишком много сил.
— Можно мне… — начал бездомный.
— На, жри! — прорычал бригадир и, прежде чем Гомер успел сообразить, что происходит, дважды спустил курок.
Черная кровь из простреленного лба залила распахнутые глаза несчастного, и, прибитый пулями к земле, он вновь превратился в груду тряпья и картона. Не поднимая глаз, Хантер пополнил обойму «стечкина» четырьмя патронами и спрыгнул на пути.
— Скоро все сами узнаем, — крикнул он старику.
Гомер наклонился над телом, забыв о брезгливости, взял кусок ткани и прикрыл им расколотую голову бомжа. Его руки все еще дрожали.
— Почему ты его убил? — слабо выговорил он.
— Спроси себя, — глухо ответил Хантер.
* * *
Теперь, даже собрав всю волю в кулак, он мог только опустить и поднять веки. Странно, что он вообще очнулся… За тот час, пока он находился в забытьи, онемение ледяной коркой покрыло все его тело. Но его язык присох к нёбу, а грудь будто придавила пудовая гиря. Он даже не мог попрощаться с дочерью, а ведь это было единственным, для чего стоило приходить в себя, так и не доведя до конца тот давний бой.
Саша больше не улыбалась. Теперь ей снилось что-то тревожное, она свернулась клубком на своей лежанке, обняв себя руками, нахмурившись. С детских лет отец будил ее, если видел, что дочь мучают кошмары, но сейчас его сил хватало только на то, чтобы медленно моргать.
Потом и это стало слишком утомительно.
Чтобы дождаться, пока Саша проснется, ему нужно было продолжать бороться. Он не прекращал борьбу все двадцать с лишним лет, каждый день, каждую минуту, и чертовски от нее устал. Устал сражаться, устал прятаться, устал охотиться. Доказывать, надеяться, врать.
В его смеркающемся сознании оставалось всего два желания: он хотел еще хоть раз взглянуть Саше в глаза и жаждал обрести покой. Но не получалось… Перемежаясь с действительностью, перед его взором вновь мелькали образы из прошлого. Нужно было принять окончательное решение. Сломить или сломиться. Покарать или покаяться.
…Гвардейцы сомкнули ряды. Каждый из них был ему лично предан. Любой был готов сейчас и умереть, растерзанный толпой, и стрелять в безоружных. Он — комендант последней непобежденной станции, президент уже несуществующей конфедерации. Для них его авторитет непререкаем, а сам он непогрешим, и любой его приказ будет исполнен немедленно, без размышлений. Он примет на себя ответственность за все, как делал всегда.
Отступи он сейчас, станцию поглотит анархия, а потом ее присоединят к раздувающейся на глазах красной империи, выкипающей за свои изначальные границы, подминающей под себя все новые территории. Прикажи он открыть огонь по демонстрантам, власть останется в его руках — на время. А может быть, если он не остановится перед массовыми казнями, перед пытками, и навсегда.
Он вскинул автомат, и спустя миг строй синхронно повторил его движенье. В ложбинке прицела бесновалась толпа, не сотни собравшихся вместе людей, а безликое человеческое месиво. Оскаленные зубы, вытаращенные глаза, сжатые кулаки.
Он клацнул затвором, и строй откликнулся тем же.
Пора было наконец взять судьбу за шиворот.
Подняв ствол вверх, он нажал крючок, и с потолка посыпалась известь. Толпа на мгновенье стихла, и, дав бойцам сигнал опустить оружие, он сделал шаг вперед. Это был его окончательный выбор.
И память наконец отпустила его.
Саша все еще спала. Он сделал последний вдох, хотел взглянуть на нее в последний раз, да так и не сумел поднять веки. Однако вместо вечной, непреходящей тьмы он увидел перед собой немыслимо голубое небо — ясное и яркое, как глаза его дочери.
* * *
— Стоять!
От неожиданности Гомер чуть не подскочил на месте и поднял руки вверх, но тут же одернул себя. Гнусавый мегафонный окрик, долетевший из глубины туннеля, застал врасплох его одного. Бригадир же ничуть не удивился: сжавшись, как кобра перед броском, он еле заметно тащил из-за спины тяжелый автомат.
Хантер не только не дал ответа на его вопрос, но и вообще перестал говорить со стариком. Полтора километра от Нагатинской до Тульской показались Гомеру нескончаемыми как путь на Голгофу. Он знал, что этот перегон почти наверняка приведет его к гибели, и принудить себя шагать быстрее было непросто. По крайней мере, сейчас было время приготовиться, и Гомер занял себя воспоминаниями. Думал о Елене, стегал себя за эгоизм, просил у нее прощения. Со светлой грустью возвращался тот волшебный день на Тверской под легким летним дождем. Жалел, что перед уходом не распорядился своими газетами.
Он приготовился умереть — быть разорванным чудовищами, сожранным огромными крысами, отравленным выбросами… Какие еще объяснения он мог дать тому, что Тульская преобразилась в черную дыру, всасывающую в себя все извне и ничего не выпускающую обратно?
И теперь, когда на подступах к таинственной Тульской он слышал обычный человеческий голос, он больше не знал, что думать. Простой захват станции? Но кто мог в пыль перемолоть несколько севастопольских штурмовых групп, кто стал бы поголовно уничтожать всех бродяг, которые тянулись на станцию из туннелей, не позволяя уйти ни женщинам, ни старикам?
— Тридцать шагов вперед! — послышался далекий голос.
Он был поразительно знакомым, и, дай Гомеру время, он смог бы определить, кому он принадлежал. Кому-то из севастопольских?!
Хантер, убаюкивая на руках свой «калашников», принялся покорно отсчитывать шаги: на тридцать бригадирских старик сделал все пятьдесят. Впереди смутно виднелась баррикада, словно нагроможденная из случайных предметов. Светом ее защитники почему-то не пользовались…
— Погасить фонари! — скомандовал кто-то из-за завала. — Один из вас двоих — еще двадцать шагов сюда.
Хантер щелкнул выключателем и двинулся дальше. Гомер, снова оставшийся один, не посмел ослушаться. В наступившей темноте он от греха подальше присел на шпалу, осторожно нащупал стену и прижался к ней.
Шаги бригадира стихли на отмеренном расстоянии. Раздались голоса: кто-то неразборчиво допрашивал его, он отрывисто лаял в ответ. Обстановка накалялась: сдержанные, хотя и напряженные тона сменились бранью и угрозами. Кажется, Хантер чего-то требовал от невидимых стражников, а те отказывались подчиняться.
Они теперь уже чуть ли не в голос орали друг на друга, и Гомеру показалось, что он вот-вот начнет различать слова… Однако услышать он сумел лишь одно, последнее:
— Кара!
Но тут, перебивая людей, застучал автомат, а ему навстречу тяжело громыхнула очередь из армейского «Печенега». Старик бросился наземь, передергивая затвор, не зная, стрелять ли ему, и если да, то в кого. Но все было кончено раньше, чем он успел прицелиться.
Заполняя краткие паузы в пулеметной морзянке, чрево туннеля издало протяжный скрежет, который Гомер не перепутал бы ни с чем.
Звук закрывающихся гермоворот! И, в подтверждение его догадки, впереди гулко ухнули, становясь в паз, тонны стали, разом наглухо отсекая крики и грохот выстрелов.
Перекрывая единственный выход в большое метро.
Лишая Севастопольскую последней надежды.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
Через миг Гомер уже был готов поверить, что все это ему почудилось: и нечеткий абрис баррикад в конце туннеля, и вроде бы знакомый голос, искаженный старым мегафоном. Вслед за светом погасли все звуки, и теперь он чувствовал себя приговоренным, которому перед казнью надели на голову мешок. В непроглядной тьме и внезапно обрушившейся тишине мир будто исчез. Гомер на всякий случай притронулся к своему лицу, убеждаясь, что сам он еще не растворился в этой космической черноте.
Потом, спохватившись, нашарил фонарик и пустил дрожащий луч впереди себя — туда, где минутами раньше разыгралось невидимое сражение. Метрах в тридцати от места, где он пережидал бой, туннель заканчивался тупиком. Перекрывая проход во всю его ширину и высоту, словно упавший нож гильотины, перегон перерезала огромная стальная створка.
Он не ослышался: кто-то действительно привел в действие гермозатвор. Гомер знал о нем, но не думал, что его все еще можно использовать. Оказалось, вполне.
Его ослабшие от бумажной работы глаза не сразу обнаружили человеческую фигуру, припавшую к железной стене. Гомер выставил вперед автомат и попятился, решив, что это один из людей с той стороны в неразберихе остался за бортом, но потом узнал в человеке Хантера.
Он не двигался. Покрываясь испариной, старик заковылял к бригадиру, ожидая увидеть кровавые подтеки на ржавеющем металле… Но нет. Хоть его и расстреливали в упор из пулемета посреди голого туннеля, Хантер был невредим. Приникнув своим оплавленным ухом к металлу, он впитывал одному ему слышные шумы.
— Что произошло? — осторожно спросил Гомер, приближаясь.
Бригадир не замечал его. Он что-то нашептывал — но шептал сам себе, повторяя слова за теми, кто остался за закрывшимися воротами. Прошло несколько минут, пока он оторвался от стены и обернулся к Гомеру.
— Мы возвращаемся.
— Что случилось? — повторил тот.
— Там бандиты. Необходимо подкрепление.
— Бандиты? — растерянно переспросил старик. — Мне показалось, я слышал…
— Тульская занята врагом. Надо брать. Нужны огнеметчики.
— Почему огнеметчики? — Гомер вконец запутался.
— Для надежности. Мы возвращаемся. — Хантер развернулся и зашагал прочь.
Прежде чем последовать за ним, старик внимательно осмотрел гермоворота и прильнул к холодной стали, надеясь тоже подслушать обрывок разговора. Тишина…
Гомер поймал себя на том, что не верит бригадиру. Кем бы ни был тот враг, что захватил станцию, вел он себя совершенно необъяснимо. Кому пришло бы в голову использовать гермозатворы, только чтобы уберечься от двух человек? Какие бандиты стали бы вступать в долгие переговоры с вооруженными людьми на пограничном посту, вместо того, чтобы просто изрешетить их еще на подходах?
В конце концов, что могло означать зловещее слово «кара», оброненное загадочными стражниками?
* * *
Ничего нет ценнее человеческой жизни, говорил Сашин отец. Для него это были не пустые слова и не азбучная истина. Когда-то отец так совсем не думал, недаром ведь он стал самым молодым боевым командиром на линии.
Когда тебе двадцать, и к убийству, и к смерти относишься куда легкомысленнее, да и вся жизнь кажется игрой, которую, если что, можно начать заново. Неслучайно все армии мира укомплектовывались вчерашними школьниками. А вот распоряжался играющими в войну юнцами тот, кто умел видеть в тысячах дерущихся и гибнущих людей — синие и красные стрелочки на картах. Тот, кто умел забывать об оторванных ногах, о вывороченных кишках и разваливающихся черепных коробках, принимая решение пожертвовать ротой или полком.
Когда-то ее отец с пренебрежением относился и к своим врагам, и к себе самому, и с поражавшей всех легкостью брался за задания, которые должны были бы стоить ему головы. Он не был безрассуден, и во всех его действиях всегда присутствовал строгий расчет. Умный, старательный и притом равнодушный к жизни, он не ощущал ее реальности, не думал о последствиях и не тяготился совестью. Нет, он никогда не стрелял в женщин и детей, но собственноручно казнил дезертиров и первым шел на ДОТы. К боли он тоже был почти нечувствителен. По большому счету, ему было вообще все равно.
Пока он не встретил Сашину мать.
Она зацепила его, привыкшего к победам, своим безразличием. Его единственная слабость, честолюбие, которое до того бросало его на пулеметы, теперь повело его на новый отчаянный штурм, неожиданно обернувшийся долговременной осадой.
Раньше в любви ему не приходилось прилагать особенных усилий: женщины сами складывали свои знамена к его ногам. Растленный их сговорчивостью, насытиться очередной подругой он всегда успевал, прежде чем влюбиться в нее, и после первой же ночи утрачивал к соблазненной всякий интерес. Его натиск и его слава застили девушкам глаза, и мало кто из них даже пытался применить старую добрую стратегию — заставить мужчину ждать, чтобы успеть с ним познакомиться.
Но ей он был скучен. Ее не впечатляли награды, звания, боевые и любовные триумфы. Она не отзывалась на его взгляды, качала головой в ответ на его шутки. И завоевать эту девушку стало ему казаться настоящим вызовом. Более серьезным, чем покорение соседних станций.
Скоро он понял, что близость с ней, которая должна была стать просто свежей засечкой на его прикладе, отодвигается все дальше — и во времени, и по важности. Она поставила себя так, что возможность проводить вместе в день хотя бы один час уже казалась ему достижением. И даже на это шла, только чтобы немножко его помучить. Она сомневалась в его заслугах и высмеивала его принципы. Ругала за бездушие. Расшатывала его уверенность в своих силах и целях.
Он все терпел. Даже нет — ему нравилось. С ней он начал задумываться. Колебаться. А потом и чувствовать: беспомощность — оттого что не знал, как подступиться к этой девушке, сожаление — о тех минутах, которые не провел с ней, и даже страх — потерять ее, так и не обретя. Любовь. И она наградила его знаком: серебряным кольцом.
Наконец, когда он совсем разучился обходиться без нее, она ему уступила.
Через год родилась Саша. Так получилось, что уже двумя жизнями он больше не мог пренебречь, да и сам теперь не имел права погибнуть.
Когда тебе всего двадцать пять, а ты командуешь сильнейшей армией в обозримой части света, трудно отделаться от ощущения, что твои приказы могут заставить хоть землю перестать вращаться. Но чтобы отнимать у людей жизнь, не надо большого могущества. А вот дарить ее умершим не дано никому.
У него был шанс в этом убедиться: его жену убил туберкулез, и он был бессилен ее спасти. С тех пор в нем что-то надломилось.
Саше тогда только исполнилось четыре, но она хорошо запомнила мать. Помнила и страшную, туннельную пустоту, которая осталась после ее ухода. Близость смерти бездонной пропастью разверзлась в ее мирке, и она часто заглядывала вниз. Края пропасти срастались очень медленно. Прошло два или три года, прежде чем она перестала звать маму во сне.
Отец, случалось, звал ее до сих пор.
* * *
Может быть, Гомер брался за дело не с того конца? Если герой его эпоса не желал сам являться к нему, может быть, нужно было начать с его будущей возлюбленной? Выманить его ее красотой и свежестью?
Сначала осторожно выписать ее линии, и тогда он сам выступит из небытия ей навстречу? Чтобы их любовь была совершенна, он будет обязан идеально дополнять ее собой, а значит, в поэме он должен появиться уже готовым, оконченным.
Своими изгибами, своими мыслями они будут подходить друг к другу точно, как осколки разбитых витражей на Новослободской. Ведь они так же когда-то представляли собой одно целое, и потому были обречены воссоединиться вновь… Гомер не видел ничего плохого в том, чтобы своровать эту удачную канву у давно почивших классиков.
Но решение только выглядело простым: вылепить из чернил и бумаги живую девушку оказалось задачей, для Гомера непосильной. Да и о чувствах он вряд ли уже смог бы рассказывать убедительно.
Его нынешний союз с Еленой был полон старческой нежности, но они встретились слишком поздно, чтобы любить без оглядки на прошлое. В этом возрасте стремятся утолить не страсть, а одиночество.
Настоящая и единственная любовь Николая Ивановича была погребена наверху. За минувшие десятилетия все ее детали, кроме одной, выцвели и стерлись, и он уже не смог бы писать роман с натуры. Да и потом, в тех отношениях все равно не было никакой героики.
В день, когда Москву накрыл ядерный ливень, Николаю предложили стать машинистом поезда вместо отправленного на пенсию Серова. Зарплата должна была чуть ли не удвоиться, а перед повышением ему давали несколько выходных. Он позвонил жене, та объявила, что испечет шарлотку, и вышла за шампанским, заодно взяв детей на прогулку.
Однако смену нужно было доработать.
Николай Иванович вступил в кабину поезда его будущим капитаном, счастливо женатым и находящимся в самом начале туннеля, уходящего в дивную, сияющую перспективу. За следующие полчаса он постарел сразу на двадцать лет. На конечную Николай приехал раздавленным, нищим бобылем. Может, поэтому каждый раз, когда он видел перед собой чудом сохранившийся поезд, его одолевало желание занять законное место машиниста, по-хозяйски огладить приборную панель, посмотреть на паутину тюбингов сквозь лобовое стекло. Вообразить, что состав еще можно привести в годность.
Что можно дать задний ход.
…Не иначе, бригадир создавал вокруг себя особое поле, которое отводило от него любые опасности. И он, кажется, об этом знал. Дорога до Нагорной не заняла у них и часа. Линия не оказывала ему никакого сопротивления.
Гомер всегда чувствовал: разведчики и челноки с Севастопольской, так же как и любые другие обыкновенные люди, отваживавшиеся забираться в туннели, были для метро чуждыми организмами. Микробами, попавшими в его кровеносную систему. Стоило им ступить за границы станций, как воздух вокруг них воспалялся, действительность давала трещину, и будто из ниоткуда появлялись невообразимые создания, которых метро выставляло против человека.
Но Хантер не был чужеродным телом в темных перегонах, он не вызывал возмущения Левиафана, по сосудам которого они путешествовали. Иногда он выключал фонарь и сам превращался в сгусток тьмы, наполнявшей туннели. Тогда его словно подхватывало незримыми потоками и несло вперед вдвое быстрее. Гомер, спешивший за бригадиром изо всех сил, отбивался, кричал ему вдогонку, и тот, словно опомнившись, останавливался и дожидался старика.
На обратном пути им было даже дозволено спокойно миновать Нагорную. Морок рассеялся, станция спала. Сейчас она просматривалась вся насквозь, и невозможно было представить, где она сумела укрыть призрачных гигантов. Обычный заброшенный полустанок: соляные наросты на сыром потолке, мягкая перина из пыли, расстеленная на платформе, выведенная углем брань на закопченных стенах. И только потом глаз задерживался на странных разводах на полу, оставшихся от чьей-то лихорадочной пляски, на заскорузлых бурых пятнах на колоннах, на потолочных плафонах, задетых и сбитых, будто о них кто-то терся.
Нагорная промелькнула и осталась позади: они летели дальше. Пока Гомер поспевал за бригадиром, он словно тоже был заключен в магический пузырь, делавший того неприкасаемым. Старик удивлялся сам себе: откуда берутся силы на такой долгий марш-бросок…
Но вот на разговоры дыхания уже не хватало. Да Хантер больше и не удостаивал его своими ответами. В который раз за этот долгий день Гомер спросил себя, зачем он вообще сдался безмолвному и безжалостному бригадиру, который все время норовил про него забыть.
Подкралось и оглушило зловоние Нахимовского проспекта. Эту станцию Гомер и сам бы проскочил, забыв об осторожности, как можно быстрее, но бригадир, напротив, сбавил шаг. Старик в своем противогазе еле держался, а Хантер еще и принюхивался, будто в тяжком, удушливом смраде Нахимовского можно было различить какие-то отдельные нотки.
На сей раз трупоеды почтительно разбредались перед ними, бросая недоглоданные кости, роняя из пасти клочья мяса. Хантер дошел ровно до середины зала, поднялся на невысокий холм, по щиколотку утопая в плоти, и обвел станцию долгим взглядом. Потом, неудовлетворенный, отмахнулся от подозрений и двинулся дальше, так и не обнаружив того, что искал.
Зато это нашел Гомер.
Поскользнувшись и повалившись на четвереньки, он спугнул молодого трупоеда, который потрошил намокший бронежилет. Увидел откатившуюся в сторону форменную севастопольскую каску и ослеп от испарины, которая мгновенно затянула изнутри стекла противогаза.
Обуздывая рвотные позывы, Гомер подобрался к костям и поворошил их, рассчитывая подобрать солдатский жетон. Но вместо этого заметил маленький блокнот, перемазанный багровым. Он открылся сразу на последней странице, на словах «ни в коем случае не штурмовать».
* * *
Отец отучил ее плакать еще маленькой, но сейчас ей больше нечем было ответить судьбе. Слезы сами текли по лицу, из груди рвался тонкий, тоскливый вой. Она сразу поняла, что случилось, но вот уже несколько часов не могла заставить себя с этим смириться.
Звал ли он ее на помощь? Хотел ли сказать ей что-то важное перед смертью? Она не помнила того момента, когда провалилась в сон, и не была до конца уверена, проснулась ли теперь. Ведь мог существовать и мир, где ее отец не умирал. Где она не убивала его своим забытьем, своей слабостью и эгоизмом.
Саша держала в ладонях остывшую, но еще мягкую отцовскую руку, словно пытаясь еще отогреть его, и уговаривала — и его, и себя:
— Ты найдешь машину. Мы поднимемся наверх, сядем в нее и уедем. Ты будешь смеяться, как в тот день, когда принес приемник с музыкальными дисками…
Вначале отец сидел, прислонясь спиной к колонне и упершись в грудь подбородком, так что его можно было принять за дремлющего. Но потом тело начало медленно сползать вниз, в лужу загустевшей крови, словно он и сам устал притворяться живым, и Сашу обманывать больше не хотел.
Морщины, вечно бороздившие отцовское лицо, почти совсем разгладились.
Она выпустила его руку и помогла улечься поудобнее, с головой накрыла рваным одеялом. У нее не было другого способа похоронить его. Да, она хотела бы поднять отца на поверхность и оставить его там, чтобы он лежал, глядя в небо, которое однажды все равно снова очистится. Но гораздо раньше его тело станет добычей рыскающих наверху вечно голодных тварей.
А на их станции к нему никто не притронется. Из гиблых южных туннелей опасности ждать не приходилось — в них выживали разве что летучие тараканы. На севере перегон обрывался, выходя к заржавевшему и полуобвалившемуся метромосту с единственной уцелевшей колеей.
Там, за мостом, есть люди, но никому из них не придет в голову мысль пересечь его просто из любопытства. Все знают, что по другую сторону начинается выжженная пустошь, на краю которой стоит станция-сторожка с двумя обреченными ссыльными.
Отец не позволил бы ей остаться здесь одной, да в этом больше и не было никакого смысла. И потом, Саша знала: как бы далеко она ни бежала, как бы отчаянно ни старалась вырваться из заговоренного застенка, теперь ей уже не удастся освободиться из него по-настоящему.
— Папа… Прости меня, пожалуйста, — всхлипнула она, сознавая, что не сможет заслужить прощения.
Сняла с его пальца серебряное кольцо и опустила в карман комбинезона. Подобрала клетку с притихшей крысой и побрела на север, оставляя за собой на пыльном граните цепь кровавых следов.
Когда Саша спустилась на пути и ступила в перегон, на пустой станции, превратившейся в погребальную ладью, случилось необычайное знамение. Из противоположного туннельного жерла вырвался долгий язык пламени, силящийся дотянуться до тела ее отца. Не достал и отступил обратно в темные глубины, неохотно признавая право Сашиного отца на покой.
***
— Возвращаются! Они возвращаются!
Истомин отнял телефонную трубку от уха и недоверчиво поглядел на нее, как будто она была одушевленным существом и только что рассказала ему дурацкую байку.
— Кто — они?!
Денис Михайлович вскочил со стула, расплескав чай, который лег на его штаны конфузным темным пятном. Чай он предал проклятию и повторил вопрос.
— Кто они? — механически переспросил Истомин у аппарата.
— Бригадир и Гомер, — прошуршала трубка. — Ахмеда убили.
Владимир Иванович промокнул носовым платком залысины, потер висок под черной резинкой своей пиратской повязки. Объявлять родным о гибели бойцов входило в его обязанности.
Не дожидаясь переключения коммутатора, он выглянул за дверь и крикнул адъютанту:
— Ко мне обоих! И скажи, чтобы стол накрыли!
Прошелся по кабинету, зачем-то поправил висящие на стене фотографии, пошептал что-то у карты, обернулся на Дениса Михайловича. Тот, скрестив руки на груди, откровенно скалился.
— Володь, ты как девка перед свиданием, — хмыкнул полковник.
— Ты, я вижу, тоже волнуешься, — огрызнулся начальник станции, кивая на обмоченные командирские штаны.
— Мне-то что? У меня все готово. Два ударных отряда собраны, сутки до мобилизации, — Денис Михайлович ласково погладил лежащий на столе голубой берет, поднялся и нахлобучил его на голову, придавая себе официальный вид.
В приемной началась беготня, зазвенели приборы, ординарец, вопросительно глядя, показал в дверную щель запотевшую склянку со спиртным. Истомин отмахнулся — потом, все потом! Вот наконец послышался и знакомый глухой голос, дверь отлетела, и проем загородила широченная фигура. За спиной бригадира мялся старый враль, которого тот зачем-то потащил с собой.
— Приветствую! — Истомин сел в свое кресло, встал и снова сел.
— Что там?! — резанул полковник.
Бригадир перевел тяжелый взгляд с одного на другого и обратился к начальнику.
— Тульская захвачена кочевниками. Всех вырезали.
— И наших всех? — вскинул лохматые брови Денис Михайлович.
— Насколько мне известно. Мы дошли до ворот станции, был бой, и они закрыли затвор.
— Заперли гермоворота? — Истомин приподнялся, вцепившись пальцами в кромку стола. — И что теперь делать?
— Штурмовать, — синхронно лязгнули бригадир и полковник.
— Штурмовать нельзя! — неожиданно подал из приемной голос Гомер.
***
Надо было просто дождаться условленного часа. Если она не спутала день, дрезина должна была появиться из влажного ночного мрака совсем скоро. Каждая лишняя минута, проведенная здесь, на обрыве, где туннель вскрытой веной показывался из земной толщи, стоила ей дня жизни. Но выход оставался лишь один: ждать. По ту сторону нескончаемо длинного моста она уперлась бы в запечатанные гермоворота, отпиравшиеся только изнутри — раз в неделю, в базарный день.
Сегодня Саше было нечем торговать, а купить нужно было больше, чем когда-либо. Но ей сейчас было все равно, что попросят у нее люди с дрезины в обмен на пропуск обратно в мир живых. Могильный холод и посмертное равнодушие отца передались и ей.
Сколько Саша раньше мечтала о том, как они однажды все-таки переберутся на другую станцию, где будут окружены людьми, где она сможет подружиться с кем-то, встретить кого-нибудь особенного… Расспрашивала отца о его юности, не только потому, что хотела снова побывать в своем светлом детстве, но и потому, что украдкой подставляла на место своей матери — себя нынешнюю, а на место отца — туманного красавца с изменчивыми чертами, и неуклюже воображала себе любовь. Переживала, что не сможет найти общий язык с другими, вернись они в большое метро на самом деле. О чем им с ней говорить?
И вот до прибытия парома оставались считанные часы, может быть, минуты, а ей было плевать на других — и на мужчин, и на женщин, и даже помыслы о возвращении к человеческому существованию казались ей предательством по отношению к отцу. Не колеблясь ни секунды, она согласилась бы сейчас провести остаток дней на их станции, если бы это помогло спасти его.
Свечной огарок в стеклянной банке затрепыхался в агонии, и она пересадила пламя на новый фитиль. В один из походов наверх отец добыл целый ящик восковых свечей, и несколько всегда валялись в просторных карманах ее комбинезона. Саше хотелось думать, что их тела были такими вот свечами, и какая-то частичка ее отца перешла к ней после того, как он угас.
Увидят ли люди с дрезины ее сигнал в тумане?
До сих пор она подгадывала так, чтобы ни на миг не задерживаться снаружи зря. Отец запрещал, да и его распухший зоб сам по себе был достаточным предостережением. На обрыве Саша обычно чувствовала себя неуютно, как изловленная землеройка, беспокойно озиралась и лишь изредка отваживалась подобраться к первому пролету метромоста, чтобы взглянуть с него на протекавшую внизу черную реку.
Но времени у нее было слишком много. Сутулясь и ежась на промозглом осеннем ветру, Саша сделала несколько шагов вперед, и за отступившими костлявыми деревьями в сумраке проявились осыпающиеся хребты многоэтажек. В маслянистой вязкой реке тяжело плескалось что-то огромное, а вдалеке стонали почти человеческими голосами неведомые чудовища.
И вдруг к их плачу присоединилось жалобное, заунывное поскрипывание…
Саша вскочила на ноги, высоко поднимая светильник, и с моста ответили — скользким, вороватым лучом. Ей навстречу катилась дряхлая старая дрезина, еле продираясь через ватную мглу, клинышком слабого фонаря втискиваясь в ночь и раздвигая ее. Девушка попятилась: дрезина была не та, что обычно. Она шла натужно, будто каждый оборот ее колес давался работавшим на рычагах людям с великим трудом.
Наконец она замерла шагах в десяти от Саши. С рамы грузно спрыгнул на щебень затянутый в брезент высокий толстяк. В стеклах противогаза плясали, отражаясь, дьявольские огоньки, пряча от Саши его глаза. В руке человек сжимал древний армейский «калашников» с деревянным прикладом.
— Я хочу отсюда уехать, — вскинув подбородок, заявила Саша.
— Уехать, — эхом отозвалось брезентовое чучело, удивленно или издевательски растягивая гласные. — А что у тебя есть на продажу?
— У меня ничего не осталось, — она вперила взгляд в его полыхающие глазницы, окованные железом.
— У любого можно что-то забрать, особенно у женщины, — паромщик захрюкал, потом спохватился. — Бросишь папашу?
— У меня ничего не осталось, — повторила Саша, опуская глаза.
— Подох все-таки, — с облегчением, но разочарованно протянула маска. — И ладно. Он бы сейчас расстроился, — ствол автомата поддел лямку Сашиного комбинезона и неспешно потащил ее вниз.
— Не смей! — она хрипло вскрикнула, рванулась назад.
Банка со свечой упала на рельс, брызнула осколками, и тьма мигом слизнула пламя.
— Отсюда не возвращаются, как ты этого не понимаешь? — Чучело равнодушно глядело на нее потухшими, мертвыми стеклами. — Твоего тела не хватит даже, чтобы окупить мою дорогу в одну сторону. Считай, что я принимаю его в оплату отцовского долга.
Автомат кувырнулся в его руках, разворачиваясь прикладом вперед, и, милосердно гася сознание, ударил ее в висок.
* * *
После Нахимовского Хантер почему-то больше не отпускал Гомера от себя, и у того не было шанса толком изучить блокнот. Бригадир вдруг стал упредителен и чуток, старался не только не оставлять старика далеко позади, но и вообще шагал с ним в ногу, хоть для этого ему и приходилось себя осаживать. Пару раз он останавливался, якобы проверить, не идет ли кто за ними по пятам. Но резак его прожектора, обращаясь назад, неизменно прохаживался по лицу Гомера, заставляя старика почувствовать себя как в пыточной. Он чертыхался, моргал, пытаясь прийти в себя, и ощущал, как цепкие глаза бригадира проползают по всему его телу, ощупывая его в поисках того, что он подобрал на Нахимовском.
Чепуха! Конечно же, Хантер не мог ничего видеть, в тот момент он находился слишком далеко. Скорее, он просто уловил перемену настроения Гомера и заподозрил его в чем-то. Но всякий раз, когда их взгляды встречались, старика прошибал пот. Того немногого, что он успел подсмотреть в найденном блокноте, с излишком хватало, чтобы усомниться в бригадире.
Это был дневник.
Часть страниц слиплась от засохшей крови, их Гомер не тронул: побоялся порвать негнущимися от напряжения пальцами. Записи на первых листках были сбивчивы, их автор не мог удержать в узде даже буквы, а мысли его галопировали так, что за ними было вовсе не угнаться.
«Нагорную прошли без потерь», — сообщал блокнот, и сразу перепрыгивал: «На Тульской хаос. Выхода в метро нет, Ганза блокирует. Домой нельзя».
Гомер листнул вперед, боковым зрением замечая, как бригадир спускается с кургана и направляется к нему. Дневник не должен попасть к нему в руки, понял старик. Но прежде чем блокнот нырнул в его вещмешок, Гомер успел прочесть: «Взяли ситуацию под контроль, станцию оцепили, назначили коменданта», и тут же: «Кто подохнет следующим?»
И еще: обведенная в рамочку, над повисшим вопросом стояла дата. Хоть пожухшие листы блокнота и понуждали думать, что события в дневнике разворачивались чуть не в минувшем десятилетии, судя по цифрам, запись была сделана всего несколько дней назад.
Костенеющие стариковские мозги с забытой прыткостью составили воедино разрозненные кусочки мозаики: загадочного странника, привидевшегося несчастному бездомному на Нагатинской, вроде бы знакомый голос у стражи на гермоворотах, слова «Домой возвращаться нельзя»… Перед ним начинала выстраиваться целостная картина. Не могли ли каракули на склеившихся страницах наполнить смыслом все прочие странные происшествия?
Совершенно точно, никакого захвата Тульской бандитами не было; там творилось нечто куда более сложное и таинственное. И Хантер, четверть часа допрашивавший дозорных у ворот на станцию, знал это ничуть не хуже Гомера.
Именно поэтому нельзя было показывать ему блокнот.
Именно поэтому Гомер осмелился открыто возразить ему на собрании в кабинете Истомина.
— Нельзя, — сказал он еще раз.
Хантер медленно, как линкор, наводящий главное орудие, повернул к нему голову. Истомин отодвинулся вместе с креслом назад и все-таки решился вылезти из-за стола. Полковник устало скривился.
— Взорвать гермозатвор не выйдет, там же грунтовые воды вокруг, мигом зальет линию. И вся Тульская на честном слове держится, молятся, чтобы не прорвало. Параллельный туннель — сами знаете, вот уже лет десять как… — продолжил Гомер.
— Что же нам стучаться и ждать, пока они откроют? — поинтересовался Денис Михайлович.
— Ну, всегда есть обходной путь, — напомнил Истомин.
От неожиданности полковник закашлялся, потом яростно заспорил с начальником, обвиняя того в намерении перекалечить и угробить его лучших людей. И тут бригадир дал залп.
— Тульская должна быть зачищена… Положение таково, что необходимо поголовное уничтожение всех, кто находится на станции. Там уже не осталось ни одного из ваших людей. С ними кончено. Если вы не хотите еще больших потерь, это единственное решение. Я знаю, о чем говорю. У меня информация.
Последние слова явно предназначались Гомеру. Старик ощутил себя расшалившимся котенком, которого встряхивают за шкирку, чтобы привести в чувство.
— Учитывая, что туннель с нашей стороны перекрыт, — Истомин одернул китель, — есть только один способ проникнуть на Тульскую. С другой стороны, через Ганзу. Но мы не сможем провести туда вооруженных людей, это исключено.
— Я найду людей, — отмахнулся Хантер, и полковник встрепенулся.
— Даже просто чтобы попасть к Ганзе, надо пройти два перегона по Каховской линии до Каширской… — начальник многозначительно умолк.
— И что? — бригадир скрестил руки на груди.
— В районе Каширской в перегоне фон зашкаливает, — пояснил полковник. — Там недалеко упал фрагмент боеголовки. Не разорвалось, но и так хватает. Каждый второй, получивший дозу, умирает в течение месяца. До сих пор.
Повисла недобрая тишина. Гомер, воспользовавшись заминкой, незаметно начал отступление — разумеется, тактическое — из истоминского кабинета. В конце концов Владимир Иванович, видимо, опасаясь, что неуправляемый бригадир все же отправится сносить гермозатвор на Тульской, признался:
— Есть защитные скафандры. Всего два. Можешь взять с собой самого здорового бойца, любого. Мы будем ждать, — он оглянулся на Дениса Михайловича. — Что нам еще остается?
— Пойдем к ребятам, — полковник вздохнул. — Поговорим, отберешь себе напарника.
— Нет необходимости, — Хантер качнул головой. — Мне нужен Гомер.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ПЕРЕХОД
Дрезина миновала широкую полосу, выведенную ярко-желтой краской на полу и стенах туннеля. Рулевой больше не мог делать вид, что не слышит все ускоряющиеся щелчки дозиметра. Взявшись за тормоз, он извиняющимся тоном пробормотал:
— Товарищ полковник… Дальше нельзя без защиты…
— Давай еще хоть метров сто, — мягко попросил Денис Михайлович, оборачиваясь к нему. — На неделю потом тебя от дежурств освобожу, за вредность. Нам что — две минуты проехать, а им в этих скафандрах полчаса брести.
— Так крайний рубеж ведь, товарищ полковник, — ныл рулевой, не решаясь сбавить скорость.
— Останавливай, — приказал Хантер. — Сами дальше пойдем. И правда, высокий фон начинается.
Заскрипели колодки, качнулся подвешенный на раме фонарь, и дрезина встала. Бригадир и старик, сидевшие на ее краю, свесив ноги вниз, слезли на пути. Тяжелые защитные костюмы, изготовленные из просвинцованной ткани, действительно выглядели как настоящие скафандры. Невообразимо дорогие и редкие — на все метро таких вряд ли нашлось бы больше пары десятков — на Севастопольской они почти никогда не использовались, дожидаясь своего часа. Эти доспехи были способны поглотить жесточайшее излучение, но в них даже обычная ходьба превращалась в трудновыполнимую задачу — по крайней мере, для Гомера.
Денис Михайлович оставил дрезину позади и еще несколько минут шагал вместе с ними, перебрасываясь с Хантером фразами — нарочно оборванными и скомканными так, чтобы Гомер не смог развернуть и разобрать их.
— Где ты их возьмешь? — буркнул он бригадиру.
— Дадут. Никуда не денутся, — глядя прямо перед собой, прогудел тот.
— Тебя давно никто не ждет. Ты для них мертв. Мертв, понимаешь?
Хантер остановился на миг и негромко, словно обращаясь не к командиру, а сам к себе, произнес:
— Если бы все было так просто.
— А дезертировать из Ордена — еще страшнее смерти! — воскликнул Денис Михайлович.
Бригадир, не отвечая, взмахнул рукой, отдавая полковнику честь и одновременно обрубая невидимый якорный канат. Денис Михайлович, подчиняясь, остался на пирсе, а бригадир со стариком медленно, будто преодолевая встречное течение, отошли от берега и отправились в свое большое плавание по морям тьмы.
Отняв руку от виска, полковник дал рулевому сигнал заводить мотор. Он чувствовал себя опустошенным: ему больше некому было выдвигать ультиматумы, не было против кого сражаться. Военный комендант острова, затерянного в одном из этих морей, он мог теперь надеяться лишь на то, что маленькая экспедиция не сгинет в нем, а однажды вернется домой — с обратной стороны, по-своему доказав, что Земля круглая.
Последний блокпост располагался в перегоне сразу за Каховской и был почти безлюден. Сколько старик себя помнил, с востока на севастопольцев не нападали ни разу.
Желтая черта словно не разбивала на условные отрезки бесконечную бетонную кишку, а космическим лифтом соединяла две планеты, удаленные друг от друга на сотни световых лет. За ней обитаемое земное пространство незаметно сменялось мертвым лунным ландшафтом, и любое их сходство было обманчивым. Сосредоточенно переставляя ноги в пудовых башмаках, слушая свое натужное дыхание, загнанное в сложную систему гофров и фильтров, Гомер представлял себя именно астронавтом, высадившимся на спутнике дальней звезды. Это мальчишество он себе извинял: ему так проще было свыкнуться с тяжестью скафандра — ее можно было объяснять высокой гравитацией, — и с тем, что на километры вперед они будут единственными живыми существами.
Ни ученые, ни фантасты никогда не умели как следует предсказывать будущее, думал старик. К две тысячи тридцать четвертому году человек давно бы уже должен был стать властителем если и не половины галактики, то хотя бы Солнечной системы. Гомеру это обещали еще в детстве. Но и фантасты, и ученые исходили из того, что человечество рационально и последовательно. Как будто оно не состояло из нескольких миллиардов ленивых, легкомысленных, увлекающихся личностей, а было неким ульем, наделенным коллективным разумом и единой волей. Как будто бы, принимаясь за освоение космоса, оно собиралось заниматься им всерьез, а не бросить на полпути, наигравшись и переключившись на электронику, а с электроники — на биотехнологии, ни в чем так и не достигнув сколь-нибудь впечатляющих результатов. Кроме, пожалуй, ядерной физики.
И вот он, бескрылый астронавт, нежизнеспособный без своего громоздкого скафандра, чужой на собственной планете, исследует и покоряет перегоны от Каховской до Каширской. А о большем и ему и другим выжившим лучше просто забыть. Звезд отсюда все равно не видно.
Странно: здесь, за желтой чертой, его тело стонало от полуторакратной силы тяжести, но душа пребывала в невесомости. Сутки назад, прощаясь с Еленой перед походом к Тульской, он еще рассчитывал вернуться. Но когда Хантер назвал его имя, во второй раз подряд выбирая Гомера себе в напарники, тот понял: смалодушничать не удастся. Он столько просил об испытании, о просветлении, что наконец был услышан, и теперь пробовать отвертеться было бы глупо и недостойно.
Он понял: делом всей жизни нельзя заниматься на полставки. Нечего кокетничать с судьбой, обещая ей непременно всецело отдаться ему чуть позже, в следующий раз… Другого раза может не случиться, и если он не решится сейчас, ради чего ему потом быть? Окончить свои дни безвестным Николаем Ивановичем, городским сумасшедшим, слюнявым старым сказочником с блуждающей улыбкой?
Но чтобы превратиться из карикатурного Гомера в настоящего, из мифомана — в мифотворца, чтобы восстать из пепла обновленным, нужно было вначале сжечь себя прежнего. Ему казалось: если он продолжит сомневаться, станет потакать себе в тоске по дому, по женщине, беспрестанно озираться назад, то обязательно проглядит что-то очень важное впереди. Нужно было резать.
Из нового похода ему трудно будет возвратиться целым, да и возвратиться вообще. И как ни жаль ему было Елену, которая сначала не верила, что Гомер появился на станции всего через день живым и здоровым, а потом плакала, вновь провожая его в никуда, так и не сумев отговорить, на сей раз он ничего не обещал ей. Он прижимал Елену к себе и через ее плечо смотрел на часы. Ему нужно было идти. Гомер знал: десять лет жизни непросто ампутировать, они наверняка будут напоминать о себе фантомными болями.
Он думал, что его все время будет подмывать оглянуться, но, перешагнув толстую желтую черту, он будто и вправду умер, и его душа воспарила, вырвавшись из обеих грузных, неповоротливых оболочек. Он освободился.
Хантера защитный костюм, похоже, ничуть не тяготил. Просторные одежды раздули его мускулистую волчью фигуру, превратив в бесформенную громаду, но не убавив у него проворства. Он шел вровень с запыхавшимся стариком, но только потому, что с Нахимовского стал внимательно за ним следить.
После увиденного на Нагатинской, на Нагорной и на Тульской, Гомеру было непросто дать согласие и продолжить странствие с Хантером. Но он нашел способ убедить себя: именно в присутствии бригадира с ним начались долгожданные метаморфозы, сулящие перерождение. И неважно, почему Хантер потащил его за собой дальше — чтобы наставить старика на верный путь или в качестве запаса продовольствия. Главное для Гомера теперь было не упустить это состояние, успеть воспользоваться им, успеть придумать, записать…
И вот еще. Когда Хантер позвал его за собой, Гомеру почудилось, что тот и сам точно так же нуждается в нем. Нет, не для того, чтобы указывать дорогу в туннелях и чтобы предупреждать об опасностях. Может, подпитывая старика, бригадир сам брал у него что-то без спроса? Но чего ему могло не хватать?
Внешняя бесстрастность Хантера больше не могла обмануть старика. Под коркой его парализованного лица бурлила магма, изредка выплескиваясь через кратеры незакрывающихся, дымящихся глаз. Он был неспокоен. Он тоже что-то искал.
Хантер вроде бы подходил на роль эпического героя для будущей книги. Гомер, поколебавшись, принял его после первых проб. Но многое в фигуре бригадира, в его страсти к умерщвлению живого, в недосказанных словах и скупых жестах настораживало старика. Хантер походил на тех убийц, что намеками дразнят следствие, желая быть разоблаченными. Старик не знал, видит ли Хантер в нем исповедника, биографа или донора, но чувствовал, что эта странная зависимость становится взаимной. Становится сильнее, чем страх.
Гомера не отпускало ощущение, что Хантер оттягивает какой-то очень важный разговор. Иногда бригадир поворачивался к нему, будто собираясь что-то спросить, но так ничего и не произносил. Хотя старик мог в очередной раз выдавать желаемое за действительное, и Хантер просто уводил его за собой подальше в туннели, чтобы там свернуть ненужному свидетелю шею.
Его взгляд все чаще просвечивал вещмешок старика, на дне которого лежал злосчастный дневник. Он не мог его видеть, но словно догадывался, что в рюкзаке спрятан некий предмет, который притягивает мысли Гомера, выслеживал их и постепенно сам подтягивался все ближе и ближе к блокноту. Старик пытался не думать о дневнике, но тщетно.
Времени на сборы почти не было, и Гомеру удалось уединиться с дневником всего лишь на несколько минут. Их не хватило, чтобы отмочить и расклеить сплавленные кровью листки, но Гомер сумел мельком пробежаться по другим страницам, вкривь и вкось испещренным поспешными, отрывочными записями. Их хронология была нарушена, будто писавший с большим усилием ловил ускользающие слова и укладывал их на бумагу, где придется. Теперь, чтобы они обрели смысл, старик должен был выстроить их в правильном порядке.
«Связи нет. Телефон молчит. Возможно, диверсия. Кто-то из изгнанных, чтобы отомстить? Еще до нас».
«Положение безвыходное. Помощи ждать неоткуда. Запросив Севастопольскую, приговорим своих же. Остается терпеть… Сколько?».
«Не отпускают… Сошли с ума. Если не я, то кто? Бежать!»
Было и еще кое-что. Сразу за последними словами, призывающими отказаться от штурма Тульской, стояла подпись — нечеткая, припечатанная бурым сургучом окровавленного пальца. Это имя Гомер не только слышал раньше, но и сам нередко произносил. Дневник принадлежал связисту из каравана, отправленного к Тульской неделю назад.
Они прошли съезд к электродепо, которое непременно было бы разграблено, если бы не зашкаливающий тут фон. Черная отсохшая ветка, уводящая в него, была почему-то отгорожена сваренными кусками арматуры, причем не очень умело и явно впопыхах. На жестяной табличке, прикрученной проволокой к прутьям, скалился череп и виднелись следы предупреждения, выведенного красной краской, но то ли стершегося от времени, то ли кем-то соскобленного.
Провалившись взглядом в этот зарешеченный колодец и еле выбравшись из него обратно, Гомер подумал, что линия, вероятно, не всегда была так безжизненна, как считали на Севастопольской.
Миновали Варшавскую — жуткую, ржаво-заплесневелую, похожую на выловленного утопленника. Стены, поделенные на кафельные клетки, сочились мутной водицей. Сквозь приоткрытые губы гермозатворов внутрь проникал холодный ветер с поверхности, словно кто-то огромный, приникнув к ним снаружи, делал давно гниющей станции искусственное дыхание. Дозиметры бились в истерике, требуя немедленно уносить отсюда ноги.
Ближе к Каширской один прибор вышел из строя, цифры на другом уперлись в самый край табло. Гомер почувствовал, как горчит на языке.
— Где эпицентр?
Голос бригадира было слышно скверно, будто Гомер опустил голову в наполненную ванну. Он приостановился — воспользоваться хоть этой короткой передышкой — и махнул перчаткой на юго-восток.
— У Кантемировской. Думаем, пробило крышу павильона или вентиляционную шахту. Точно никто не знает.
— Так что, Кантемировская брошена?
— И всегда была. За Коломенской вся линия пустая.
— А мне говорили… — начал было Хантер, но умолк, давая знак утихнуть и Гомеру и настраиваясь на какие-то тонкие волны. — Известно, что с Каширской? — наконец спросил он.
— Откуда бы? — старик не был уверен, что сумел вложить ироничную нотку в гнусавое тромбонное гудение, исходящее из его дыхательных фильтров.
— Я тебе скажу. Там такое излучение, что за минуту на станции оба изжаримся до углей. Ничто не поможет. Туда нельзя. Поворачиваем.
— Обратно? На Севастопольскую?
— Да. Поднимусь там наверх, попробую добраться по земле, — задумчиво, уже прикидывая маршрут, отозвался Хантер.
— В одиночку собираешься? — насторожился Гомер.
— Я не смогу тебя вечно спасать. Буду занят собственной шкурой. Да вдвоем там и не пройти. Даже мне самому без гарантий.
— Ты не понимаешь, мне нужно с тобой, я должен… — Гомер судорожно искал повод, зацепку.
— Должен подохнуть со смыслом? — равнодушно закончил за него бригадир.
Хотя Гомер прекрасно знал: на самом деле, это фильтры противогаза отсеивают любые примеси, пропуская внутрь только безвкусный, стерильный воздух, а наружу — механические и бездушные голоса.
Старик на миг зажмурился, вспоминая все, что знал о куцей Каховской линии, о пораженной радиацией нижней оконечности Замоскворецкой ветки, о дороге от Севастопольской до Серпуховской… Все, что угодно, лишь бы не поворачивать назад, лишь бы не возвращаться в свою скудную жизнь, к ложной беременности великими романами и бессмертными легендами.
— Иди за мной! — вдруг прохрипел он и с неожиданным даже для самого себя проворством заковылял на восток — к Каширской, в самое пекло.
* * *
Ей снилось, как она водила напильником по браслету стальных кандалов, которыми была прикована к стене. Напильник визжал и соскальзывал, и даже когда ей начинало казаться, что его полотно на полмиллиметра вгрызлось в сталь, стоило оторваться от работы, как неглубокая, еле наметившаяся бороздка затягивалась на глазах.
Но Саша не отчаивалась: снова бралась за инструмент и, стесывая ладони, принималась пилить неподатливый металл, соблюдая установленный строгий ритм. Главное — не сбиваться с него, не давать слабину, не прекращать работу ни на миг. Схваченные оковами лодыжки опухли и затекли. Саша поняла, что даже если ей удастся победить железо, она все равно не сумеет убежать, потому что ноги откажутся ее слушаться.
Она очнулась, с трудом приподняла веки.
Кандалы не приснились ей: Сашины запястья были стиснуты наручниками. Она лежала в грязном кузове старой карьерной дрезины, монотонно поскуливающей и мучительно медленно тащащейся вперед. Ее рот был забит засаленной тряпицей, висок ныл и кровоточил.
«Не убил, — подумала Саша. — Почему?»
Из кузова был виден только кусочек потолка. В неровном обрывке светового пятна мельтешили спайки тюбингов: дрезина катилась по перегону. Пока Саша пыталась вывести скованные руки из-за спины, тюбинги сменились облупившейся белой краской. Саша насторожилась: что за станция?
Здесь было нехорошо: не просто тихо, а глухо, не безлюдно, а безжизненно, и совершенно темно. Она почему-то всегда думала что там, за мостом, каждая станция заполнена народом и везде стоит гвалт. Выходило, что она ошибалась?
Потолок над Сашей застыл. Ее похититель, кряхтя и бранясь, взобрался на платформу, заскрежетал подкованными каблуками, прохаживаясь вокруг, как будто изучая окрестности. Потом, видимо уже сняв противогаз, утробным голосом проурчал благожелательно:
— Вот мы где. Сколько лет, сколько зим!
И, смачно спустив воздух из легких, тяжело ударил — нет, пнул сапогом — что-то неживое, объемистое — мешок, набитый?..
Догадка заставила Сашу вцепиться зубами в вонючую тряпку и замычать, выгнула ее тело столбнячной дугой. Она поняла, и куда ее привез брезентовый толстяк, и с кем он так разговаривал.
* * *
Смешно было бы даже надеяться уйти от Хантера. Тот нагнал старика в несколько львиных скачков, вцепился в его плечо и больно тряхнул.
— Что с тобой?!
— Еще немного пройти… — прохрипел Гомер. — Я вспомнил! Тут ходок есть прямо на Замоскворецкую, еще перед Каширской. Мы через него — и сразу в туннель, не надо будет на станцию заходить. Обогнем, выберемся прямо к Коломенской. Недалеко должно быть. Пожалуйста…
Улучив момент, он попробовал вырваться, но запутался в раструбах штанин, повалился на рельсы, тут же поднялся и снова дернулся вперед. Хантер, с легкостью, словно крысу на веревке, удерживавшей старика на месте, развернул его к себе лицом. Нагнулся к нему так, чтобы иллюминаторы их противогазов поравнялись. Заглянул в Гомера и спустя несколько секунд ослабил хватку.
— Хорошо.
Теперь уже бригадир тащил его сам, не останавливаясь больше ни на миг. Стук крови в ушах заглушал исступленное стрекотание счетчиков, ноги задеревенели и почти не слушались, легкие, казалось, от напряжения потрескались и страшно саднили.
Они чуть не пропустили чернильное пятно узкого лаза. Протиснулись в него и еще несколько долгих минут бежали, пока не вывалились в новый туннель. Наспех оглядевшись вокруг себя, бригадир нырнул обратно в ходок и бросил старику:
— Ты куда меня привел?! Ты тут хоть бывал когда-нибудь?
Метрах в тридцати по левую сторону от лаза, именно там, куда им предстояло двигаться, туннель был от пола до потолка густо затянут чем-то напоминающим паутину.
Гомер, жалея дыхания на разговоры, только помотал головой. Истинная правда, раньше его сюда никогда не заносило. А те вещи, которые он слышал об этих местах, сейчас вряд ли стоило рассказывать Хантеру.
Перекинув автомат в левую руку, бригадир извлек из своего рюкзака длинный прямоугольный тесак, напоминающий самодельный мачете, и вспорол липкое белесое кружево. Иссушенные остовы летающих тараканов, увязших в сетях, затряслись и зашелестели осипшими бубенцами. Нанесенная рана тут же сомкнула края, будто зарастая. Отвернув полупрозрачный холст паутины и просунув внутрь фонарь, бригадир осветил боковой туннель. На его расчистку понадобились бы часы: клейкие нити многослойным плетением заполняли межлинейник всюду, сколько хватало луча.
Хантер сверился с дозиметром, издал странный гортанный звук и принялся остервенело кромсать растянутую между стенами пряжу. Паутина поддавалась медленно, отнимая больше времени, чем у них оставалось. За десять минут они смогли продвинуться вперед всего метров на тридцать, а нити сплетались все плотнее, ватной пробкой забивая проход.
Наконец у заросшей вентиляционной шахты, под которой на шпалах валялся уродливый двухголовый скелет, бригадир швырнул тесак на пол. Они застряли в паутине точно как тараканы, и даже если существо, которое выткало эти сети, давно подохло само и не придет за ними, они все равно очень скоро погибнут — от излучения.
В те считанные мгновенья, пока Хантер принимал решение, старик вспомнил еще кое-что, некогда слышанное об этом туннеле. Опустившись на одно колено, он выбил из запасного рожка несколько патронов, выкрутил пули, помогая себе перочинным ножом, и вытряхнул порох в ладонь.
Хантеру объяснения не требовались. Через несколько минут, вернувшись в начало межлинейника, они насыпали на ватном настиле серую крупяную горку и поднесли к ней зажигалку.
Порох фыркнул, задымил, и вдруг произошло невероятное: пламя от него разлилось сразу во все стороны, забираясь на стены, доставая до далекого потолка, захватывая все пространство туннеля. Выжирая паутину, оно рванулось вглубь. Ревущее, полыхающее кольцо, озаряя закопченные тюбинги и оставляя после себя лишь свисающие с потолка редкие горелые лохмотья, неукротимо двигалось вперед. Быстро сжимаясь, огненный обруч уходил к Коломенской, гигантским поршнем засасывая воздух. Потом туннель вильнул, и пламя скрылось за поворотом, волоча за собой мантию багряных сполохов.
И уже совсем далеко сквозь ровное гудение огня вроде бы прорезался нечеловеческий, отчаянный вопль пополам с хриплым шипением… Хотя загипнотизированному этим зрелищем Гомеру он вполне мог и причудиться.
Хантер кинул тесак обратно в свой рюкзак, взамен нашарив в нем новые, нераспечатанные банки для противогаза.
— На обратную дорогу берег, — он сменил свой фильтр и передал вторую банку старику. — Из-за пожара тут грязно, как после бомбежки.
Старик кивнул. Пламя взметнуло вверх, взбаламутило радиоактивные частицы, годами оседавшие на паутине, въедавшиеся в ее нити. Черный вакуум туннеля сейчас был на самом деле весь наполнен смертоносными молекулами. Повиснув в пустоте миллиардами крошечных подводных мин, они перекрыли им фарватер. Миновать их было невозможно.
Пришлось идти напролом.
* * *
— Видел бы тебя сейчас твой папа, — глумливо пожурил ее толстяк.
Саша сидела точно напротив отцовского тела, опрокинутого ничком, лицом в кровь. Обе бретельки комбинезона уже были сдернуты с ее плеч, открывая застиранную майку с изображением какого-то веселого зверька. Похититель не позволял ей видеть своего лица, опаляя ее глаза ярким лучом каждый раз, когда она пробовала поднять их. Тряпку из ее рта он вытащил, но Саша все равно не собиралась просить его ни о чем.
— На мать не похожа, к сожалению. А я так надеялся…
Слоновьи ноги в высоких резиновых ботфортах, уже изгвазданных в красном, снова пустились в обход колонны, у которой сидела Саша. Теперь его голос раздавался у нее из-за спины.
— Твой папаша, наверное, думал, что со временем все забудется. Но у некоторых преступлений не бывает срока давности… У клеветы. У измены.
Его тучный силуэт выплыл из мрака с другой стороны. Он застыл над телом Сашиного отца, попирая его сапогом, обильно харкнул.
— Жаль, что старик откинулся без моей помощи, — толстяк пробежался лучом по унылой, безликой станции, заваленной грудами никчемного барахла, остановился на бесколесом велосипеде. — А у вас тут уютненько. Думаю, если бы не ты, папаша предпочел бы повеситься.
Пока фонарь отвлекся от нее, Саша попыталась отползти в сторону, но уже через секунду луч вновь выловил ее из темноты.
— И я его понимаю, — в один прыжок похититель оказался рядом. — Девочка получилась что надо. Жаль только, что не похожа на маму. Он, думаю, тоже расстраивался. Ну, да ничего, — мыском ботфорта он завалил ее на бок. — Не зря же я сюда добирался через все метро.
Саша дернулась и замотала головой.
— Видишь, как все непредсказуемо, Петя, — он опять обратился к Сашиному отцу. — Было время, когда ты отдавал любовных конкурентов под трибунал. И спасибо, что не казнил, а просто изгонял пожизненно. А жизнь длинная, и обстоятельства меняются. Причем не всегда в твою пользу. Я вернулся, пусть у меня и ушло на это на десять лет больше, чем я планировал.
— Возвращения никогда не бывают случайными, — шепотом повторила Саша за отцом.
— Золотые слова, — издевательски оценил толстяк. — Эй, кто там?!
В противоположном конце платформы зашуршало и упало что-то увесистое, потом будто бы послышалось шипение, крадущиеся шаги крупного зверя… Вновь воцарившаяся тишина была фальшивой, рваной, и Саша, точно так же, как и ее похититель, чувствовала: из туннеля на них надвигается нечто…
Толстяк клацнул затвором, опустился на одно колено рядом с девушкой, прижал к плечу приклад и обвел трясущимся пятном света близлежащие колонны. Слышать, как оживают десятилетиями пустовавшие южные перегоны, было не менее жутко, чем застать пробуждение мраморных статуй на какой-нибудь из центральных станций.
…В уже уходящем в сторону луче мелькнула смазанная тень, точно не человеческая — ни по очертаниям, ни по проворству… Но когда свет опять упал на место, где только что находилось загадочное создание, того уже и след простыл. Минуту спустя панически мечущийся луч затралил его снова — всего шагах в двадцати от них.
— Медведь?! — недоверчиво прошептал толстяк, спуская курок.
Пули накинулись на колонны, стали клевать стены, но зверь будто развоплотился, и ни один выстрел не достиг цели. А потом толстяк вдруг прекратил бессмысленную пальбу, выронил из рук автомат и прижал их к животу. Его фонарь откатился в сторону, отбрасывая пластающийся по полу световой конус и снизу озаряя его грузную сгорбленную фигуру.
Из сумрака неспешно выступил человек — на удивление мягко, почти бесшумно ступая тяжелыми башмаками. В слишком свободном даже для такого великана защитном костюме его действительно можно было принять за медведя. Противогаза на нем не было; исполосованная шрамами обритая голова напоминала выжженный пустырь. Часть его лица — мужественного, грубовато и резковато очерченного — была скорее красива, но казалась омертвевшей, и при взгляде на нее Саша не смогла перебороть озноб. Другая же половина была откровенно чудовищной: сложное сплетение шрамов превращало его в полумаску сказочного урода, совершенного в своей безобразности. Но все же, если бы не глаза, его внешность была скорее отталкивающей, чем пугающей. Рыскающий, полубезумный взгляд оживлял обездвиженное лицо. Оживлял, но не одушевлял его.
Толстяк попытался подняться на ноги, но тут же рухнул на пол, крича от боли, с простреленными коленями. Потом человек присел на корточки рядом с ним, приставил долгий, увенчанный глушителем пистолетный ствол к его затылку и нажал крючок. Вопль оборвался мгновенно, но эхо еще несколько секунд блуждало под сводами станции, словно лишенная тела потерявшаяся сущность.
Выстрел запрокинул ему подбородок, и теперь Сашин похититель лежал, обернувшись к ней… Вместо его лица зияла влажная алая воронка. Саша вжала голову в плечи и тихонько завыла от ужаса. Страшный человек медленно, задумчиво перевел дуло на нее.
Потом оглянулся и передумал: пистолет исчез в подплечной кобуре, а сам он отступил назад, будто открещиваясь от содеянного. Открыл плоскую фляжку и приложился к ней.
На маленькой сцене, освещенной подыхающим фонариком убитого толстяка, появилось новое действующее лицо: тяжело переводящий дыхание, держащийся за ребра старик.
Одетый в такой же защитный костюм, как и убийца, он смотрелся в нем донельзя нелепо. Нагнав своего спутника, старик сразу же изможденно свалился на пол, не заметив даже, что все вокруг залито кровью. Только потом, придя в себя и открыв глаза, увидел два изуродованных тела и зажатую между ними немую, перепуганную девушку.
* * *
Притихшее было сердце скакнуло вновь. Гомер еще не умел выразить это словами, но уже знал наверняка: он ее нашел. После стольких ночей, проведенных в бесплодных попытках вообразить свою будущую героиню, придумать ей губы и кисти рук, наряд и аромат, движения и мысли, он вдруг встретил живого человека, который в точности соответствовал его желаниям. Нет, раньше он представлял ее себе совсем не так… Более изящной, более плавной и уж точно более взрослой. Она оказалась куда жестче, в ней было слишком много острых углов, и, заглядывая ей в глаза, вместо теплой томной поволоки старик натыкался на два ледяных осколка. Она была другой, но Гомер знал: это он заблуждался, это он не смог правильно угадать, какой она должна быть.
Ее загнанный взгляд, искаженные страхом черты, скованные руки интриговали старика. Пусть он был мастером пересказывать байки, но писать трагедии как та, что должна была произойти с этой девушкой, ему было не дано. Ее беспомощность, обреченность, чудесное спасение и то, как ее судьба вплелась в их историю, означали: он на верном пути.
И пусть она еще не произнесла ни слова, он был готов поверить ей авансом. Ведь, кроме всего прочего, девчонка — со своими белыми, встрепанными, кое-как обкорнанными волосами и острыми ушками, с вымазанными в копоти скулами и обнаженными резными ключицами — неожиданно белыми, уязвимыми, со своей по-детски пухлой, прикушенной нижней губой — была по-особенному красива.
К его любопытству примешались и жалость, и внезапная нежность.
Старик приблизился и присел рядом с ней на корточки. Она съежилась и зажмурила глаза. «Дикарка», — подумал он. Потрепал ее по плечу, не зная, что сказать…
— Пора уходить, — вторгся Хантер.
— А что с… — Гомер вопросительно кивнул на девчонку.
— Ничего. Не наше дело.
— Нельзя ее здесь бросить одну!
— Проще пристрелить, — отрезал бригадир.
— Я не хочу с вами идти, — неожиданно собравшись, произнесла девушка. — Только снимите наручники. Ключи должны быть у него, — она указала на безликий сломанный манекен.
Хантер в три движения обыскал труп и выудил из внутреннего кармана связку жестяных ключиков. Швырнул их девчонке, оглянулся на старика:
— Все?
Гомер, все еще пытаясь отсрочить расставание, спросил у нее:
— Что этот нелюдь с тобой сделал?
— Ничего, — отозвалась она, ковыряясь в замке. — Не успел. Он не нелюдь. Обычный человек. Жестокий, глупый, злопамятный. Как все.
— Не все такие, — возразил старик без особой убежденности.
— Все, — упрямо сказала девчонка, морщась, но вставая на затекшие ноги. — Это ничего. Оставаться человеком — тоже непросто.
Быстро же она забыла о своем испуге! Глаз она больше не опускала, глядела на мужчин насупленно, вызывающе. Подошла к одному из трупов, осторожно перевернула его вверх лицом, уложила заломленные руки и поцеловала в лоб.
Потом повернулась к Хантеру, прищурилась, и уголок ее рта дрогнул.
— Спасибо.
Вещей и оружия она с собой не взяла. Слезла на пути и зашагала, прихрамывая, к туннелю. Бригадир смотрел ей вслед набычившись, его рука нерешительно бродила по ремню между ножом и флягой. Наконец определившись, он выпрямился и окликнул ее:
— Погоди!
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. МАСКИ
Клетка валялась там же, где толстяк выбил ее из Сашиных рук. Дверца ее была приоткрыта; крыса сбежала… «Пусть», подумала девушка. Крыса тоже заслуживала свободу.
Выбора не было, и Саше пришлось надеть противогаз своего похитителя. Он, казалось, еще сохранил остатки его затхлого дыхания, но Саша могла только радоваться, что толстяк успел снять маску, прежде чем его пристрелили.
Ближе к середине моста радиационный фон снова скакнул.
Огромный брезентовый костюм, в котором она барахталась, как тараканья личинка в коконе, держался на ней чудом. Но противогаз, хоть и был растянут по широкой, с отвисшими брылами морде толстяка, прочно прилип к ее лицу. Саша старалась дуть как можно сильнее, чтобы прогнать по шлангам и фильтрам воздух, предназначавшийся еще для убитого. Но, глядя вокруг себя сквозь запревшие круглые стекла, она не могла отделаться от ощущения, что влезла не просто в чей-то защитный костюм, а в чужое тело. Всего час назад внутри был пришедший за ней бездушный демон. Теперь же, чтобы все же перейти через мост, ей как будто приходилось самой стать им, взглянуть на мир его глазами.
И глазами тех людей, которые изгнали их с отцом на Коломенскую, которые держали их там все эти годы живыми только потому, что их алчность была сильнее их ненависти. Интересно, чтобы затеряться среди таких людей, Саше тоже придется носить черную резиновую маску, притворяясь кем-то другим, кем-то без лица и без чувств? Если бы только это помогло ей измениться и изнутри, обнулить воспоминания… Искренне поверить в то, что с ней не случилось ничего необратимого, что все еще можно начать заново.
Саше хотелось думать, что эти двое подобрали ее не случайно, что они были посланы на станцию именно за ней, но она знала, что это не так. Ей трудно было определить, зачем они взяли ее с собой — для развлечения, из жалости или чтобы что-то друг другу доказать. В немногих словах, как кость брошенных ей стариком, вроде бы сквозило сочувствие, но он все делал с оглядкой на своего спутника, придерживал язык и будто боялся, что его уличат в человечности.
Второй же после того, как разрешил девушке идти с ними до ближайшей обитаемой станции, больше вообще не смотрел в ее сторону. Нарочно замешкавшись, Саша пропустила его чуть вперед, чтобы беспрепятственно изучить хотя бы со спины. Он явно ощутил ее взгляд — сразу же напрягся, дернул головой — но не обернулся, то ли снисходя к девичьему любопытству, то ли не желая показывать, что обращает на нее внимание.
Могучее сложение и звериные повадки обритого, которые заставили толстяка спутать его с медведем, выдавали в нем воина и одиночку. Дело было не только в его росте или в аршинных плечах. От него исходила сила, и она была бы столь же осязаема, будь он худым и невысоким. Такой человек сумеет заставить подчиниться почти любого, а ослушавшегося уничтожит без колебаний.
И задолго до того, как Саша окончательно совладала со своим страхом перед этим человеком, до того, как стала пытаться разобраться в нем и в себе, незнакомый еще голос только просыпающейся в ней женщины уверенно сказал Саше: она тоже ему подчинится.
* * *
Дрезина шла вперед на удивление споро. Сопротивления рычагов Гомер почти не ощущал: весь вес брал на себя бригадир. Старик, стоявший по их другую сторону, для порядка тоже поднимал и опускал руки, но сил у него эта работа совсем не отнимала.
Приземистый метромост многоножкой переползал вброд темную густую реку. Бетонное мясо слезало с его железных костей, лапы подкашивались, один из двух хребтов просел и обвалился. Утилитарный, типовой и недолговечный, как и окружавшие его новостройки, как вся штампованная окраинная Москва, он был начисто лишен какого бы то ни было изящества. Но, катясь по нему и восхищенно озираясь по сторонам, Гомер вспоминал о расходящихся волшебных мостах Петербурга, об ажурном черненом Крымском мосте.
За двадцать с лишним лет, прожитых в метро, старик лишь трижды поднимался на поверхность, и каждый раз старался углядеть больше, чем мог увидеть за свою короткую увольнительную. Оживить воспоминания, навести на город мутнеющие с годами объективы глаз и пощелкать ржавеющим затвором зрительной памяти, набраться впечатлений на будущее. Вдруг ему больше не посчастливится очутиться наверху — на Коломенской, Речном вокзале или в Теплом Стане. В этих чудесно красивых местах, к которым он, как и многие москвичи, раньше относился с некоторой — несправедливой — брезгливостью.
Год от года его Москва старела, рассыпалась, выветривалась. Гомеру хотелось погладить разлагающийся метромост так же, как девочка на Коломенской в последний раз приласкала истекшего кровью мужчину. И мост, и серые мысы заводских зданий, и осиротевшие ульи жилых домов. Налюбоваться на них. Прикоснуться к ним, чтобы почувствовать, что он действительно находится среди них, а не видит все это во сне. И чтобы на всякий случай попрощаться с ними.
Видимость была скверная, серебристый лунный свет не мог пробиться сквозь фильтр плотных облаков, и старику приходилось больше угадывать, чем замечать. Ничего, ему было не привыкать подменять фантазиями реальность.
Полностью отдавшись созерцанию, Гомер сейчас не думал ни о чем другом, позабыв и о легендах, которые ему предстояло сложить, и о таинственном дневнике, безотрывно тревожившем его воображение все последние часы. Он вел себя точно ребенок на экскурсии: засматриваясь на размытые силуэты высоток, вертел головой, что-то говорил себе вслух.
Другим проезд по мосту не доставлял никакого удовольствия. Бригадир, занявший место лицом вперед, лишь изредка замирал и озирался на долетавшие снизу шумы. В остальном все его внимание было приковано к той далекой, не видной никому другому точке, где пути снова зарывались в землю. Девчонка сидела за спиной у Хантера, зачем-то обеими руками вцепившись в трофейный противогаз.
Было хорошо заметно: наверху ей не по себе. Пока отряд двигался по туннелю, девушка казалась довольно высокой, но стоило им выйти наружу, как она вся сжалась, словно втянулась в невидимую раковину, и даже снятый с трупа брезентовый балахон, который был ей чудовищно велик, не делал ее крупнее. К открывавшимся с моста красотам она была безразлична и смотрела все больше в пол прямо перед собой.
Проехали сквозь развалины станции Технопарк, строившейся уже перед самой войной — наспех, и распавшейся даже не от ударов, а просто от времени, и наконец приблизились к туннелю.
В бледной ночной тьме вход в него чернел тьмой абсолютной. Теперь скафандр был для Гомера настоящими латами, а сам он — средневековым рыцарем, въезжающим в сказочную пещеру, в обиталище дракона. Шум ночного города остался у порога его логова, там же, где Хантер приказал бросить дрезину. Теперь слышен был только робкий шорох шагов троих путников и их скупые слова, раздробленные запинающимся о тюбинги эхом. Но в звучании этого туннеля было что-то непривычное. Даже Гомер ясно ощущал замкнутость пространства, будто они через горлышко вошли в стеклянную бутылку.
— Там закрыто, — подтвердил его опасения Хантер.
Луч его фонаря первым нащупал дно: впереди глухой стеной маячил запертый гермозатвор. Обрывающиеся у ворот рельсы чуть поблескивали, из массивных петель бурыми клочьями торчала смазка. Тут же были свалены старые доски, наломанные сухие ветки, головешки, будто кто-то недавно жег здесь костер. Ворота явно использовались, но, видимо, только на выход — ни звонков, ни каких-либо других устройств оповещения по эту их сторону не было.
Бригадир оглянулся на девчонку.
— Тут всегда так?
— Они иногда выходят. Приезжают к нам на тот берег. Торговать. Я думала, сегодня…
Она словно пыталась оправдаться. Знала, что доступа нет, но скрывала?
Хантер замолотил в ворота рукоятью своего мачете, будто в огромный железный гонг. Но сталь была слишком толста, и вместо звонкого гула отзывалась лишь вялым позвякиванием. Вряд ли оно было различимо за стеной, даже окажись там кто живой.
Чуда не произошло. Ответа не последовало.
* * *
Саша вопреки здравому смыслу надеялась, что эти люди смогут отпереть ворота. Боялась предупредить их, что вход в большое метро закрыт — вдруг они решат идти другим путем, а ее бросят там же, где нашли?
Но в большом метро их никто не ждал, а взломать гермозатвор было не под силу ни одному человеку. Обритый обследовал створку, пытаясь найти слабое место или секретный замок, но Саша знала: с этой стороны никаких замков нет. Дверь открывается только наружу.
— Будете здесь. Я на разведку. Проверю затворы во втором туннеле, поищу вентиляционные шахты, — пролаял он; помолчал и зачем-то добавил: — Я вернусь.
Сказал и исчез. Старик подобрал валявшиеся вокруг ветки и доски, запалил тщедушный костерок. Уселся прямо на шпалы, запустил руки в заплечный мешок и принялся перерывать свое имущество. Саша опустилась рядом с ним, притаившись, наблюдая. Старик разыгрывал странный спектакль — то ли для нее, то ли для себя самого. Выудив из рюкзака потрепанную и перепачканную тетрадку, он бросил опасливый взгляд на Сашу, бочком отодвинулся от нее подальше и сгорбился над бумагой. Тут же вскочил с подозрительной для своих лет прытью — проверить, действительно ли обритый ушел. Неуклюже прокрался с десяток шагов к выходу из туннеля, никого там не обнаружил и решил, что этих мер предосторожности будет довольно. Прислонился спиной к воротам, загородился от Саши мешком и с головой погрузился в чтение.
Читал он беспокойно: что-то невнятно гундосил, потом снял перчатки, достал флягу с водой и стал зачем-то сбрызгивать свою тетрадь водой. Почитал еще немного и вдруг принялся тереть руки о штанины, досадливо хлопнул себя по лбу ладонью, зачем-то потрогал противогаз и снова кинулся читать. Заразившись его волнением, Саша отвлеклась от своих раздумий и подобралась поближе; старик был слишком захвачен, чтобы заметить ее маневры.
Его блеклые зеленые глаза, наливаясь светом костра, лихорадочно блестели даже сквозь стекла противогаза. Время от времени он с видимым трудом выныривал обратно — за глотком воздуха. Оторвавшись, опасливо всматривался в далекий пятак ночного неба в конце туннеля, но тот был чист: обритый человек пропал с концами. И тогда тетрадь опять поглощала его целиком.
Теперь она поняла, зачем он поливал бумагу водой: пытался расклеить слипшиеся страницы. Видимо, поддавались они плохо, один раз он вскрикнул так, словно порезался: случайно порвал один из листов. Чертыхнулся, обругал себя и тут увидел, как пытливо она его разглядывает. Смутился, снова поправил противогаз, но заговаривать с ней не стал, пока не дочитал все до конца.
Потом подскочил к костру и швырнул в него тетрадь. На Сашу он не смотрел, и она почувствовала: сейчас дознаваться не стоит, соврет или смолчит. Да и были вещи, которые ее тревожили сейчас куда больше. Прошел, наверное, целый час с тех пор, как ушел обритый. Не бросил ли он их как ненужную обузу? Саша подсела поближе к старику.
— Второй туннель тоже закрыт, — произнесла она тихо. — И все ближние шахты замурованы. Есть только этот вход.
Тот рассеянно посмотрел на нее, с заметным усилием сосредоточиваясь на услышанном.
— Он найдет способ попасть внутрь. У него чутье, — он замолк, и спустя минуту, будто не желая быть невежливым, спросил: — Как тебя зовут?
— Александра, — серьезно представилась она. — А тебя?
— Николай… — начал было он, протягивая ей руку, и вдруг, словно передумав, судорожно отдернул ее, прежде чем Саша успела к нему притронуться. — Гомер. Меня зовут Гомер.
— Странная кличка, — повторив за стариком, протянула Саша.
— Это имя, — твердо сказал Гомер.
Объяснить ему, что пока они с ней, двери не откроются? Ворота вполне могли оказаться распахнуты настежь, приди эти двое сюда одни. Это Коломенская отказывается отпустить Сашу, наказывает ее за то, как она поступила с отцом. Девушка сбежала, натягивая цепь, но разорвать ее не смогла. Станция вернула ее к себе один раз, вернет и другой…
Эти мысли и образы, сколько бы она их ни отгоняла, как кровососущий гнус, отлетали от нее на расстояние вытянутой руки, а потом возвращались и кружили, кружили, лезли в уши, в глаза.
Старик еще спрашивал Сашу о чем-то, но она не откликалась: пелена слез застила ей глаза, а в ушах звучал отцовский голос, повторяющий: «Нет ничего ценнее человеческой жизни». Настала минута, когда она по-настоящему поняла его.
* * *
То, что творилось на Тульской, больше не было для Гомера загадкой. Все объяснилось проще и страшнее, чем он воображал. Но история еще более страшная начиналась только теперь вместе с расшифровкой найденного блокнота. Дневник оказался для Гомера черной меткой, билетом в один конец, и, получив его на руки, старик уже не мог от него избавиться, сколько бы он ни старался его сжечь.
Кроме того, его подозрения, касающиеся Хантера, теперь подкреплялись весомыми, однозначными уликами, хотя Гомер не имел ни малейшего представления, что ему с ними делать. Все, что он прочел в дневнике, полностью противоречило утверждениям бригадира. Тот попросту лгал, и лгал осознанно. Старик должен был разобраться, во имя чего была эта ложь, да и был ли в ней какой-то смысл. От этого зависело и то, решится ли он следовать за Хантером дальше, и то, обернется ли его приключение героическим эпосом или кошмарной безоглядной бойней, у которой не останется живых свидетелей.
Первые пометки в блокноте были датированы днем, когда караван без потерь миновал Нагорную и вошел на Тульскую, не встретив никакого сопротивления…
«Почти до самой Тульской туннели тихие и пустые. Двигаемся быстро, хороший знак. Командир рассчитывает вернуться не позже завтрашнего дня», — докладывал погибший связист. «Вход на Тульскую не охраняется. Отправили разведчика. Пропал», — беспокоился он несколько часов спустя. «Командир принял решение двигаться к станции всем вместе. Готовимся к штурму». И еще через некоторое время: «Не можем понять, в чем дело… Разговариваем с местными. Плохо дело. Какая-то болезнь». И вскоре он разъяснял: «Несколько людей на станции поражены чем-то… Неизвестное заболевание…». Очевидно, караванщики пытались оказать больным помощь: «Фельдшер не смог найти лекарство. Говорит, похоже на бешенство… Испытывают чудовищную боль, невменяемы… Бросаются на других». И тут же: «Ослаблены болезнью, не могут причинить серьезного вреда. Беда в другом…», — тут страницы, как назло, ссохлись, и Гомеру пришлось разливать их водой из своей фляжки. «Светобоязнь. Тошнота. Кровь во рту. Кашель. Потом распухают… Превращаются в…», — слово было старательно зачеркнуто. «Как передается, неясно. Воздух? Контакт?», — это уже на следующий день. Отряд задерживался.
«Почему не доложили», — спросил себя старик и сразу вспомнил, что где-то уже видел ответ. Перелистнул… «Связи нет. Телефон молчит. Возможно, диверсия. Кто-то из изгнанных, чтобы отомстить? Еще до нас обнаружили, сначала вышвыривали больных в туннели. Один из таких? Перерезал кабель?»
В этом месте Гомер оторвал взгляд от букв и невидяще уставился в пространство. Кабель перерезан, допустим. Почему же тогда не возвратились на Севастопольскую?
«Хуже. Пока проявится — проходит неделя. А вдруг больше? Потом до смерти — еще неделя-две. Неизвестно, кто болен, кто здоров. Ничего не помогает. Лекарства нет. Смертность сто процентов». День спустя связист сделал еще одну запись, уже знакомую Гомеру: «На Тульской хаос. Выхода в метро нет, Ганза блокирует. Домой нельзя», а через страницу продолжил: «Здоровые стреляли в больных, особенно агрессивных. Сделали загон для зараженных… Сопротивляются, просятся наружу», и после коротко, страшно: «Грызут друг друга…».
Связист тоже был перепуган, но железная дисциплина в отряде мешала страху перерасти в панику. Даже в очаге эпидемии смертельной лихорадки севастопольская бригада оставалась севастопольской бригадой… «Взяли ситуацию под контроль, станцию оцепили, назначили коменданта», — читал Гомер. «Наши все в порядке, но слишком мало времени прошло».
Поисковый отряд, отправленный с Севастопольской, благополучно достиг Тульской — и, конечно, тоже застрял на ней. «Приняли решение задержаться здесь, пока не пройдет инкубационный период, чтобы не подвергать опасности… Или навсегда», — обреченно писал связист. «Положение безвыходное. Помощи ждать неоткуда. Запросив Севастопольскую, приговорим своих же. Остается терпеть… Сколько?»
Значит, таинственный дозор у гермоворот на Тульской был выставлен севастопольцами? Их голоса неслучайно показались Гомеру знакомыми: дежурство несли люди, с которыми за несколько дней до того он оборонял от упырей чертановское направление! Добровольно отказавшись от возвращения, они надеялись уберечь от заражения родную станцию…
«Чаще всего от человека к человеку, но, видно, есть и в воздухе. У кого-то вроде бы иммунитет.
Началось пару недель назад, многие не заболели… Но мертвых все больше. Живем в морге», — строчил связист. «Кто подохнет следующим?» — вдруг срывался он в истерический визг. Брал себя в руки и продолжал ровно: «Надо что-то делать. Предупредить. Хочу пойти добровольцем. Не до Севастопольской — найти место, где поврежден кабель. Дозвониться, надо дозвониться».
Прошли еще сутки, заполненные невидимой борьбой с командиром каравана, неслышными спорами с другими бойцами и растущим отчаянием. Все то, что связист старался донести до них, он, собравшись, излагал в своем дневнике. «Не понимают, как это выглядит с Севастопольской! Уже неделю как в блокаде. Вышлют новую тройку, которая тоже не сможет вернуться. Потом отправят большую штурмовую бригаду. Объявят мобилизацию. Все, кто придет на Тульскую, в зоне риска. Кто-то заразится, сбежит домой. Все, конец. Надо предотвратить штурм! Не понимают…»
Еще одна попытка достучаться до начальства — бесплодная, как и все предыдущие…«Не отпускают… Сошли с ума. Если не я, то кто? Надо бежать».
«Сделал вид, что успокоился, что согласен ждать, — телеграфировал он через день. — Вышел на дежурство к гермозатворам. Крикнул, что найду обрыв кабеля, побежал. Выстрелили мне в спину. Застряла пуля».
Гомер перелистнул.
«Не для себя. Для Наташи, для Сережки. Сам и не думал спастись. Пусть они живут. Сережка чтобы…», — тут перо прыгало в ослабшей руке; может быть, он добавил это уже позднее, потому что кончилось место или потому что уже было все равно, куда писать. Потом нарушенная хронология восстанавливалась: «Через Нагорную пропустили, спасибо. Сил больше нет. Иду, иду. Обморок. Сколько проспал? Не знаю. В легком кровь? От пули или заболел? Не…», — кривая букв распрямлялась в скользящую линию как энцефалограмма умирающего. Но потом он все-таки приходил в себя и заканчивал: «…не могу найти повреждение».
«Нахимовский. Дошел. Знаю, где телефон. Буду предупредить… что нельзя! Спасти… Жена скучаю», — все более бессвязно вместе с алыми сгустками выплескивал он на бумагу. «Дозвонился. Услышали? Скоро умру. Странно. Усну. Патронов нет. Хочу уснуть раньше, чем эти… Стоят вокруг, ждут. Я еще живой, уйди».
Финал дневника был, кажется, заготовлен заранее, вписан торжественным прямым почерком: призыв не штурмовать Тульскую и имя того, кто отдал свою жизнь, чтобы этого не произошло.
Но Гомер чувствовал: последним, что успел вывести связист перед тем, как его сигнал угас навсегда, было: «Я еще живой, уйди».
* * *
Двух жмущихся к огню людей облепила тяжелая тишина. Гомер больше не пытался растормошить девчонку. Молча ворошил палкой золу в костре, где трудно, как еретик, умирал промокший блокнот, и пережидал бурю, бушевавшую у него внутри.
Судьба насмехалась над ним. Как он стремился разгадать тайну Тульской! Как гордился, обнаружив дневник, и кичился тем, что в одиночку приблизился к тому, чтобы распутать все узлы в этой истории… И что же? Теперь, когда ответ на все вопросы был у него в руках, он проклинал себя за свое любопытство.
Да, он дышал через респиратор, когда подобрал дневник на Нахимовском, и сейчас он тоже был в костюме полной защиты. Но ведь никто не знал, как именно передается болезнь!
Каким он был дураком, когда стращал себя тем, что ему осталось не так уж много! Да, это его подгоняло, помогало побороть лень и преодолеть страх. Но смерть своевольна и не любит тех, кто пытается ей помыкать. И вот дневник назначал ему уже определенный срок: несколько недель от дня заражения до гибели. Пусть даже целый месяц! Как много ему нужно было успеть за эти жалкие тридцать дней…
Что делать? Признаться своим спутникам, что болен, и уйти подыхать на Коломенскую — не от хвори, так от голода и облучения? Но если страшную болезнь уже вынашивает он, то и Хантер, и девушка, с которыми он делил воздух, наверняка уже заражены. Особенно бригадир — у Тульской он говорил с дозорными из оцепления, подойдя к ним совсем близко.
Или понадеяться на то, что болезнь минует его, затаиться и выжидать? Разумеется, не просто так, а чтобы продолжить путешествие с Хантером. Чтобы подхвативший старика вихрь событий не отпускал его, и он мог продолжать черпать в них вдохновение.
Ведь если, распечатав проклятый дневник, Николай Иванович, престарелый, бесполезный и бездарный житель Севастопольской, бывший помощник машиниста, придавленная притяжением к земле гусеница, умирал, то Гомер, летописец и мифотворец, яркой бабочкой-однодневкой только появлялся на свет. Быть может, ему была ниспослана трагедия, достойная пера великих, и теперь лишь от него зависело, сможет ли он воплотить ее на бумаге в те тридцать дней, которые были ему на это отведены.
Имел ли он право пренебречь этим шансом? Имел ли право превратиться в отшельника, забыть о своей легенде, добровольно отказаться от подлинного бессмертия и лишить его всех своих современников? Что будет большим преступлением, большей глупостью — пронести чумной факел через половину метро или сжечь свои рукописи и себя вместе с ними?
Как человек тщеславный и малодушный, Гомер уже сделал выбор, и теперь только искал аргументы в свою пользу. Что с того, что он заживо мумифицирует себя в склепе на Коломенской в компании двух других трупов? Он не создан для подвигов. И если севастопольские бойцы на Коломенской готовы на всякий случай записать себя в мертвецы, это их выбор и их право. По крайней мере, им не приходится умирать в одиночестве…
Да и что толку, если Гомер пожертвует собой? Хантера ему в любом случае не остановить. Старик-то разносил заразу, не ведая, что творит, а вот Хантеру все было прекрасно известно с той встречи у Тульской. Недаром он так настаивал на полном уничтожении всех ее обитателей, включая даже севастопольских караванщиков. Недаром упоминал об огнеметах…
А если они оба уже были больны, эпидемия неизбежно затронет Севастопольскую. И прежде всего, людей, с которыми они находились рядом. Елену… Начальника станции. Командира периметра. Их адъютантов. Это означает, что через три недели станция сначала будет обезглавлена, ее охватит хаос, а потом мор выкосит и всех остальных.
Но как сам Хантер рассчитывал избежать заражения? Почему отправился обратно на Севастопольскую, хотя уже понимал, что болезнь могла передаться и ему? Гомеру становилось очевидно, что бригадир действовал не по наитию, а шаг за шагом осуществлял некий план. Пока старик не спутал ему все карты.
Итак, Севастопольская обречена в любом случае, и вся экспедиция теряет смысл? Но даже чтобы вернуться домой и тихо умереть рядом с Еленой, Гомеру потребовалось бы довести свое кругосветное путешествие до конца. Одного перехода от Каховской до Каширской хватило, чтобы противогазы вышли из строя, а от скафандров, впитавших десятки, если не сотни, рентген, необходимо было избавиться как можно скорее. Возвратиться прежней дорогой он уже не сможет. Что делать?
Девушка спала, сжавшись в комок. Костер наконец доглодал зачумленный дневник, проглотил последние ветки и свернулся. Жалея батареи своего фонаря, старик попробовал пересидеть, сколько получится, в темноте.
Нет, он вынужден идти за бригадиром дальше. Он будет избегать других людей, чтобы снизить риск заражения, оставит здесь рюкзак со всеми пожитками, уничтожит одежду… Будет уповать на помилование и все же вести обратный отсчет тридцати дням. Станет работать над своей книгой каждый день, не давая себе отдыха. «Как-нибудь все разрешится, — твердил себе старик. — Главное, следовать за Хантером, не отставать от него».
Если тот еще появится…
Шел уже второй час, как он сгинул в мутном просвете в конце туннеля. Утешая девушку, сам Гомер вовсе не был так уверен, что бригадир непременно к ним возвратится.
Чем больше старик узнавал о нем, тем меньше его понимал. Сомневаться в бригадире было невозможно, так же невозможно, как и верить в него. Он не поддавался изучению, не раскладывался на обычные человеческие эмоции. Довериться ему было все равно, что отдаться стихии. Гомер уже сделал это; раскаиваться было и бессмысленно, и поздно.
В кромешном мраке тишина уже не казалась такой плотной. Сквозь ее гладкую скорлупу проклевывались странные шепотки, чей-то далекий вой, шуршание… В одних старику чудилась пьяная поступь трупоедов, в других — скольжение призрачных гигантов с Нагорной, в третьих — крики умирающих. Не прошло и десяти минут, как он сдался.
Щелкнул выключателем и вздрогнул.
В двух шагах от него стоял Хантер, скрестив руки на груди и уставившись на спящую девчонку. Заслонившись ладонью от слепящего с непривычки света, он спокойно произнес:
— Сейчас откроют.
* * *
Саше снилось: она снова одна на Коломенской, встречает отца «с прогулки». Он запаздывает, но ей обязательно нужно дождаться его, помочь снять верхнюю одежду, стащить противогаз, накормить. К обеду уже все давно накрыто, она не знает, чем себя занять. Ей хочется отойти от ворот, ведущих на поверхность, но вдруг он вернется именно в то мгновенье, пока ее не будет рядом? Кто ему откроет? И вот она сидит на холодном полу у выхода, бегут часы, уходят дни, его все нет, но она не уйдет со своего места, пока ворота не…
Разбудил ее гулкий стук отпирающихся засовов — точно таких, как в гермозатворе на Коломенской. Она проснулась с улыбкой: отец вернулся. Огляделась и все вспомнила.
Настоящим из всего стремительно улетучивающегося видения было только уханье тяжелых задвижек на железных воротах. Через минуту гигантская створка завибрировала и медленно сдвинулась с места. В ширящуюся щель бил сноп света и просачивалась дизельная гарь. Вход в большое метро…
Затвор мягко отошел в сторону и встал в паз, обнажая утробу туннеля, уводящего к Автозаводской и дальше к Кольцу. На рельсах под парами стояла, рыча двигателем, большая мотодрезина с головным прожектором и несколькими седоками. В перекрестье пулеметного прицела люди с дрезины видели двух жмурящихся, прикрывающих глаза путников.
— Руки! — раздался приказ.
Вслед за стариком Саша послушно подняла руки. На сей раз мотодрезина была та самая, что выезжала за мост по торговым дням. Ее экипажу была прекрасно знакома Сашина история. А вот старик со странным именем сейчас пожалеет, что взял с собой связанную девчонку с пустой станции, не поинтересовавшись, как она там оказалась…
— Снять противогазы, предъявить документы! — скомандовали с дрезины.
Открывая лицо, она корила себя за глупость. Никто не способен был освободить ее. И приговора, вынесенного отцу — и Саше с ним заодно, — никто не отменял. Почему она поверила в то, что эти двое смогут вывести ее в метро? Думала, что на границе ее не заметят?
— Эй, ты! Тебе сюда нельзя! — ее опознали мгновенно. — У тебя десять секунд, чтобы исчезнуть. А это кто? Это твой?..
— Что происходит? — растерянно спросил старик.
— Не смейте! Оставьте его! Это не он! — закричала Саша.
— Проваливайте! — ледяным тоном резюмировал автоматчик. — Или мы сейчас… На поражение…
— По девчонке? — послышался неуверенный второй голос.
— Я сказал!.. — предвкушающе чавкнул автоматный затвор.
Саша попятилась и зажмурилась, в третий раз за несколько часов готовясь увидеть смерть. Что-то тихонько чирикнуло и стихло. Последний приказ никак не звучал; ждать становилось невмоготу, и девушка приоткрыла один глаз.
Мотор все так же дымил, сизые клубы плыли сквозь белый поток, исходящий из прожектора и отчего-то направленный в потолок. Сейчас, когда луч больше не забивал Саше зрачки, она видела тех, кто находился на дрезине.
Все они распотрошенными куклами валялись на машине или на рельсах рядом с ней. Безвольно свисающие руки, неестественно вывернутые шеи, переломленные тела.
Саша обернулась назад. За спиной у нее стоял обритый, опустив пистолет и внимательно изучая мотодрезину, превращенную в разделочную доску. Вскинул ствол и спустил курок еще раз.
— Теперь все, — удовлетворенно прогудел он. — Снимайте с них форму и противогазы.
— Зачем? — старика перекосило.
— Переодеваемся. Поедем через Автозаводскую на их дрезине.
Саша застыла, ошеломленно глядя на убийцу; испуг боролся в ней с восхищением, омерзение мешалось с благодарностью. Он только что с легкостью умертвил сразу троих, нарушая главную из отцовских заповедей. Но сделал это, чтобы сохранить жизнь ей — ну и старику. Случайно ли он спасает ее второй раз подряд? Не путает ли она суровость с жестокостью?
Одно она знала точно: бесстрашие этого человека заставляет забыть о его уродстве.
Обритый первым подошел к дрезине и принялся сдирать резиновые скальпы с поверженных врагов. И вдруг с глухим ревом отшатнулся от мотодрезины, попятился назад, словно увидел самого дьявола, выставив перед собой обе руки, повторяя одно и то же…
— Черный!
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ВОЗДУХ
Страх и ужас — совсем не одно и то же. Страх подхлестывает, заставляет действовать, изобретать. Ужас парализует тело, останавливает мысли, лишает людей человеческого. Гомер достаточно повидал на своем веку, чтобы знать разницу между ними.
Его бригадир, не наделенный способностью испытывать страх, неожиданно оказался подвластным ужасу. Но то, что привело Хантера в такое состояние, удивило старика еще сильнее.
Труп, с которого тот успел снять противогаз, выглядел необычно. Под черной резиной обнаружилась темная, лоснящаяся кожа, вывернутые губы, приплюснутый широкий нос. Негров Гомер не видел с тех пор, как перестал работать телевизор с музыкальными каналами — двадцать с лишним лет назад, но узнать в убитом человека другой расы не составляло труда. Курьез, определенно. Но что тут пугающего?
Впрочем, бригадир уже взял себя в руки, странный приступ не продолжался и минуты. Он осветил плосконосое лицо, прорычал что-то невнятно и принялся грубо раздевать непослушное тело, причем Гомер отдал бы голову на отсечение, что слышит хруст ломающихся пальцев.
— Издеваются… Еще раз напомнить, да?.. А это — по-человечески?.. Такая кара… — хрипел он еле слышно.
Перепутал с кем-нибудь? Калечит мертвого в отместку за минутное унижение или все же сводит давние и куда более серьезные счеты? Старик украдкой поглядывал на бригадира, сквозь отвращение обдирая другой труп — совершенно обыкновенный.
Девчонка в мародерстве не участвовала, а Хантер ее не принуждал. Она отошла, присела на рельсы и скрыла лицо в ладонях. Гомеру почудилось, что она плачет.
Трупы Хантер выволок за ворота и свалил в кучу. Не пройдет и суток, как от них ничего не останется. Днем власть над городом переходит к таким созданиям, что грозные ночные хищники забиваются глубоко в норы, безропотно дожидаясь своего часа.
На темной униформе чужая кровь была не видна, но высохла она не сразу. Холодно липла к животу, к груди, будто хотела вернуться в живое тело, причиняя мерзкий зуд и коже, и рассудку. Гомер спрашивал себя, так ли уж необходим был этот маскарад, и утешался только тем, что он поможет им избежать новых жертв на Автозаводской. Если расчет Хантера окажется верен, их беспрепятственно пропустят мимо, приняв за своих… Но если нет? Да и стремится ли он к тому, чтобы сократить число лишних смертей на своем пути?
Кровожадность бригадира не только отталкивала, но и интриговала Гомера. Самооборона не оправдывала и трети всех совершенных им убийств, но дело тут было в чем-то большем, чем заурядный садизм. Главное же, чем терзался старик — не для того ли, чтобы просто удовлетворить свою тягу, Хантер направлялся на Тульскую?
Пусть несчастные, попавшие в западню на этой станции, не могли найти средства против загадочной лихорадки. Это ведь не значило, что его не существует в принципе! В подземном мире оставались еще места, где продолжала тлеть научная мысль, где проводились исследования, разрабатывались новые лекарства, изготавливались сыворотки. К примеру, Полис — слияние четырех артерий, сердце метро, последнее подобие настоящего города, раскинувшийся в переходах между Арбатской, Боровицкой, Александровским садом и Библиотекой имени Ленина, где обосновались выжившие врачи и ученые. Или огромный бункер близ Таганской, тайный наукоград в собственности Ганзы…
Кроме того, Тульская могла быть не первой станцией, где разразилась эпидемия. Вдруг кому-то уже удавалось победить ее? «Разве можно с такой легкостью отказываться от надежды на спасение», — спрашивал себя Гомер. Конечно, у старика, теперь носящего часовую мину болезни в собственном теле, был свой корыстный интерес. Разумом Гомер почти смирился со скорой смертью, но его инстинкты бунтовали и требовали искать выход. Если он найдет способ спасти Тульскую — убережет родную станцию и спасется сам…
Но Хантер просто не верил в лекарство от болезни. Лишь единожды перебросившись парой слов с дозором на Тульской, он приговорил всех ее обитателей к смерти и сам тут же взялся привести приговор в исполнение. Ввел в заблуждение командование Севастопольской байками о кочевниках, навязал ему свое решение и сейчас неумолимо приближался к тому, чтобы воплотить его, предав Тульскую огню.
Или он знал о происходящем на станции нечто такое, что вновь переворачивало все с ног на голову? Нечто неизвестное ни Гомеру, ни тому, кто оставил на Нахимовском свой дневник…
Покончив с трупами, бригадир сорвал с ремня флягу и высосал остатки содержимого. Что же в ней было? Спирт? Использовал ли он свое пойло как приправу или хотел отбить послевкусие? Смаковал момент или пытался забыться, а может, надеялся заглушить спиртом что-то в себе?
Чадящая старая дрезина для Саши стала машиной времени из сказок, которыми ее иногда развлекал отец. Она уносила девушку не от Коломенской к Автозаводской, а возвращала из настоящего в прошлое. Хотя назвать настоящим каменный мешок, где она провела последние годы, этот слепой отросток в пространстве и во времени, могло прийти в голову только ей.
Она хорошо помнила свой путь в ту сторону: отец, связанный, с вязаной шапкой на глазах и кляпом во рту, сидел рядом с ней, еще совсем девочкой. Она все время плакала, и один из солдат расстрельной команды, складывая пальцы, показывал ей разных зверей, тенями плясавших на маленькой желтой арене, которая бежала по потолку туннеля наперегонки с дрезиной.
Отцу зачитали приговор, когда они уже пересекли мост: революционный трибунал помиловал его, казнь заменена на пожизненную ссылку. Столкнули на рельсы, кинули нож, автомат с одним рожком и старый противогаз, помогли спуститься Саше. Солдат, показывавший ей лошадь и собаку, помахал девочке рукой.
Не было ли его среди застреленных сегодня?
Ощущение, что она дышит чужим воздухом, стало сильнее, когда она влезала в черный противогаз, снятый обритым с одного из тел. Каждый крошечный отрезок ее дороги стоил кому-то жизни. Наверное, обритый все равно застрелил бы их, но сейчас, когда Саша была рядом, она становилась соучастницей.
Ее отец не хотел возвращаться домой не только потому, что устал бороться. Он говорил, что все его унижения и лишения весят не больше, чем хотя бы одна чужая жизнь. Страдал сам, чтобы не доставлять страданий другим. Саша знала, что чаша, на которую были сложены все забранные им жизни, и так уже находится далеко внизу, и отец просто пытался восстановить равновесие.
А ведь обритый мог вмешаться раньше, мог просто напугать людей на дрезине одним своим появлением, обезоружить их без единого выстрела, Саша была в этом совершенно уверена. Никто из убитых не был ему достойным противником.
Зачем он так?
Станция ее детства оказалась ближе, чем она думала: не прошло и десяти минут, как впереди замерещили ее огни. Подъезды к Автозаводской никем не охранялись. Видимо, ее жители слишком полагались на запертые гермозатворы. За полсотни метров до платформы обритый перевел двигатель на малые обороты и, приказав Гомеру встать у руля, сам подобрался поближе к пулемету.
Дрезина вкатилась на станцию почти неслышно и медленно-медленно. Или это время застыло для Саши, чтобы она успела за несколько коротких мгновений все увидеть и все вспомнить?
В тот день отец оставил ее на своего ординарца, велев спрятать, пока все не разрешится. Тот увел ее глубоко в станционное подбрюшье, в одно из служебных помещений. Но даже оттуда было слышно, как одновременно взревела сотня глоток, и он бросился обратно, чтобы быть рядом со своим командиром. Саша метнулась по пустым коридорам следом за ним, выскочила в зал…
Они плыли вдоль платформы, и Саша смотрела на просторные семейные палатки и оборудованные под конторы вагоны, гоняющих в салки ребятишек и судачащих стариков, угрюмых мужчин, чистящих оружие…
А видела своего отца, стоящего во главе тонкой цепочки злых и напуганных мужчин, пытающейся охватить и удержать необъятную, выкипающую толпу. Она подбежала к отцу, прижалась к его спине. Он ошалело обернулся, стряхнул ее и влепил затрещину подоспевшему адъютанту. Но что-то уже успело с ним произойти. Строй, замерший со вскинутыми автоматами в ожидании команды открыть огонь, получил отбой. Единственным выстрелом стал выстрел в воздух: ее отец начинал переговоры о мирной передаче станции революционерам.
Ее отец верил: человеку даются знаки.
Надо только уметь видеть и правильно читать их.
Нет, время замедлилось не только для того, чтобы позволить ей еще раз побывать в последнем дне детства. Вооруженных людей, поднимающихся навстречу дрезине, она заметила раньше всех остальных. Видела, как обритый неуловимым перетекающим движением оказался за гашеткой, как начал поворачиваться в сторону удивленных дозорных толстый вороненый ствол.
Раньше старика услышала шипящий приказ остановить дрезину. И поняла: здесь сейчас погибнет столько народа, что ей до конца жизни будет казаться, будто она дышит чужим воздухом. Но Саша еще могла помешать расправе, уберечь от чего-то невыразимо страшного и их, и себя, и еще одного человека.
Дозорные уже снимали автоматы с предохранителей, но возились с ними слишком долго, отставая от обритого на несколько ходов.
Она сделала первое, что пришло ей в голову.
Вскочила и приникла к его бугристой железной спине, обняв его сзади и сомкнув руки на неподвижной, будто не дышащей, груди. Он вздрогнул, как если бы она ужалила его плеткой, замешкался… Опешили и изготовившиеся к стрельбе автоматчики.
Старик понял ее без слов.
Дрезина рванулась с места, изрыгая черные горькие облака, и станция Автозаводская унеслась прочь. В прошлое.
* * *
До самой Павелецкой никто больше не обмолвился ни словом. Хантер высвободился из нежданных объятий, разжав руки девушки так, будто гнул мешавший ему дышать стальной обруч. Мимо единственного блокпоста проскочили на полной скорости, посланные с него веером пули впились в потолок над их головами. Бригадир успел выхватить свой пистолет и ответил тремя беззвучными вспышками. Одного, кажется, свалил, остальные слились со стенами, вжались в неглубокие выступы тюбингов и так уцелели.
«Однако», — думал Гомер, посматривая на сникшую девчонку. Он предполагал, что любовная линия завяжется вскоре после появления героини, но все развивалось уж слишком стремительно. Быстрее, чем он поспевал не только записывать, но и понимать.
Выехав на Павелецкую, встали.
Старику случалось уже бывать на этой станции, перенесшейся сюда из неких готических легенд. Вместо незамысловатых колонн, которые держали своды на всех окраинных новостройках московского метро, Павелецкая опиралась на вереницу воздушных округлых арок, слишком высоких для обычных людей. Как часто случалось в таких легендах, Павелецкая была поражена необычным проклятием. Ровно в восемь вечера только что бурлившая станция вымирала, преображаясь в собственный призрак. Из всего ее деятельного и пройдошливого населения на платформе оставались лишь несколько смельчаков. Все прочие — вместе со своими детьми, со скарбом, с набитыми товаром баулами, со скамейками и лежанками — исчезали.
Забивались в убежище — чуть не километровой длины переход на Кольцевую линию — и там тряслись всю долгую ночь, пока на поверхности у Павелецкого вокзала рыскали пробудившиеся от сна чудовищные создания. Знающие люди говорили, что вокзал и прилегающие земли были их безраздельной вотчиной, и даже когда они дремали, туда не отваживались забредать никакие другие твари. Жители Павелецкой были перед ними беззащитны: заслоны, отсекавшие на других станциях эскалаторы, тут попросту отсутствовали, и выход на поверхность всегда оставался открытым.
По Гомеру, трудно было найти менее подходящее место для привала и ночлега. Но Хантер считал иначе: достигнув дальнего конца зала, дрезина встала.
— До утра будем здесь. Располагайтесь, — стащив противогаз, он обвел рукой станцию.
И покинул их. Девчонка проводила его взглядом, потом свернулась на жестком полу. Старик устроился поудобнее и прикрыл глаза, пробуя задремать. Тщетно: мысли о чуме, которой он обносит еще здоровые станции, снова обступили его. Девушке тоже не спалось.
— Спасибо тебе. Я думала, ты такой же, как он, — подала она голос.
— Не думаю, что есть еще такие люди, — откликнулся старик.
— Вы с ним друзья?
— Как рыба-прилипала с акулой, — невесело улыбнулся он, думая про себя, что так оно и есть: людей пожирает Хантер, но кровавые шматы человечины перепадают и Гомеру.
— Как это? — Она приподнялась.
— Куда он, туда и я. Я думаю, что без него не обойдусь, а он… Может быть, он думает, что я его очищу. Хотя на самом деле никто не знает, что он думает.
— А почему ты без него не можешь? — девушка подсела поближе к старику.
— Мне кажется, что пока я рядом с ним, вдохновение… меня не оставит… — попытался объяснить Гомер.
— Вдохновение — от слова «вдох», — сказала Александра, и неясно было, спрашивает она или утверждает. — Зачем тебе вдыхать такое? Что это тебе даст?
Гомер пожал плечами.
— Это не то, что вдыхаем мы. Это то, что вдыхают в нас, — ответил он.
— Я думаю, пока ты дышишь смертью, к твоим губам больше никто не прикоснется. Испугаются трупного запаха, — она что-то чертила пальцем на грязном полу.
— Когда видишь смерть, о многом задумываешься, — обронил Гомер.
— Ты не имеешь права вызывать ее каждый раз, когда тебе нужно подумать, — возразила она.
— Я не вызываю ее, я просто стою рядом, и потом, дело совсем не в смерти… Не только в ней, — сопротивлялся старик. — Я хотел, чтобы со мной случилась история, которая все переменит. Хотел, чтобы начался новый виток. Чтобы в моей жизни что-нибудь произошло. Чтобы меня встряхнуло… И в голове прочистилось.
— У тебя была плохая жизнь? — участливо спросила девушка.
— Скучная. Знаешь, когда один день похож на другой, они летят так быстро, что кажется — последний из них уже совсем недалеко, — попытался объяснить Гомер. — Боишься ничего не успеть. И каждый из этих дней наполнен тысячей мелких дел, выполнил одно, передохнул — пора браться за другое. Ни сил, ни времени на что-то действительно важное не остается. Думаешь — ничего, начну завтра. А завтра не наступает, всегда только одно бесконечное сегодня.
— Ты много станций видел? — она, кажется, совсем не следила за тем, что ей рассказывал старик.
— Не знаю, — озадаченно ответил тот. — Наверное, все.
— А я — две, — вздохнула девушка. — Сначала мы с отцом жили на Автозаводской, потом нас выгнали на Коломенскую. Я всегда хотела еще хотя бы одну увидеть. Здесь так странно, — она обвела глазами череду арок. — Как будто тысяча входов, и даже стен между ними нет. И вот все они открыты для меня, а мне уже туда не хочется. И страшно.
— Так это был твой отец? Тот, второй… — Гомер замялся. — Его убили?
Девчонка спряталась обратно в свою раковину и долго молчала, прежде чем отозваться.
— Да.
— Оставайся с нами, — набрался решимости старик. — Я поговорю с Хантером, думаю, он согласится. Скажу ему, что ты нужна мне, чтобы… — он развел руками, не зная, как объяснить девушке, что теперь вдохновлять его должна она.
— Скажи, что я нужна ему, — Саша надавила на последнее слово.
Спрыгнула на платформу и побрела прочь от дрезины, гладя каждую колонну, мимо которой проходила.
В ней совсем не было кокетства, она вообще не играла. Похоже, она пренебрегала не только огнестрельным оружием, но и обычным женским арсеналом трогательных гримасок и милых ужимок, взмахов ресниц, способных поднять ураган, и полуулыбок, ради которых можно пожертвовать собой или убить другого. Или просто еще не умела им пользоваться?
Так или иначе, арсенал этот ей был ни к чему. Одним прямым уколом глаз она заставила Хантера переменить свое решение, одним движением накинула на него сеть и удержала от убийства. Неужели пробила броню, попала в мягкое? Или понадобилась ему для чего-то? Скорее уж второе: даже предполагать, что у бригадира были уязвимые места, что его можно было не то что ранить, а хотя бы задеть, Гомеру было как-то странно.
* * *
Гомеру никак не спалось. Хоть он и сменил душный черный противогаз на легкий походный респиратор, дыхание давалось ему все так же сложно, и тиски, сдавливающие его голову, не ослабли.
Все свои старые вещи Гомер бросил в туннеле. Куском серого мыла он отскоблил руки, смыл грязь зацветающей водой из канистры и добровольно решил всегда теперь носить белый намордник. Что старик еще мог сделать, чтобы обезопасить тех, с кем находился рядом?
Ничего. Теперь уже совсем ничего, даже уйти в туннели и самому превратиться в кучу истлевшего брошенного тряпья не помогло бы. Но нынешняя близость к смерти внезапно вернула его на двадцать с лишним лет назад, во времена, когда он только что потерял всех, кого любил. И это придавало его планам новый, подлинный смысл.
Будь на то воля Гомера, он воздвиг бы им настоящий памятник. Но хотя бы обычного надгробия они точно заслуживали. Рожденные с разрывом в десятилетия, умершие в один день: его жена, его дети, родители.
И еще его одноклассники, и друзья по училищу. Любимые киноактеры и музыканты. И просто все те люди, которые в тот день еще были на работе, или уже доехали домой, или застряли в пробках где-то на полпути.
И те, кто погиб сразу же, и те, кто пытался еще несколько долгих дней выжить в отравленной, полуразрушенной столице, слабо скребясь в закупоренные гермоворота метро. Те, кто в миг распался на атомы, и те, кто размокал и заживо крошился, разъеденный лучевой болезнью.
Бойцы разведки, первыми поднимавшиеся на поверхность, после возвращения с задания сутками не могли уснуть. Гомеру доводилось встречаться с некоторыми из них у костра на станциях пересадок, он смотрел им в глаза и видел там отпечатавшиеся навек улицы, похожие на закоченелые реки, вспухшие от снулой рыбы. Тысячи заглохших машин с мертвыми пассажирами забивали проспекты и шоссе, ведущие из Москвы. Трупы были повсюду. Пока в город не пришли новые хозяева, их было некому убирать.
Жалея себя, разведчики старались обходить стороной школы и детские сады. Но, чтобы потерять рассудок, было достаточно случайно перехватить сквозь пыльное стекло замерзший взгляд с заднего сиденья семейного автомобиля.
Миллиарды жизней оборвались одновременно. Миллиарды мыслей остались невысказанными, мечтаний — невоплощенными, миллиарды обид — непрощенными. Младший сын Николая выпрашивал у него большой набор цветных фломастеров, дочь боялась идти на фигурное катание, жена, перед тем как уснуть, рисовала ему, как они вдвоем проведут короткий отпуск на море.
Когда он осознал, что эти маленькие желания и страсти были последними, они вдруг преисполнились для него необыкновенной важности.
Гомер хотел бы высечь эпитафию каждому из них. Но уж одной эпитафии на своей гигантской братской могиле человечество точно было достойно. И сейчас, когда ему самому оставалось всего ничего, Гомеру казалось, что он сумеет подобрать для нее верные слова.
Он еще не знал, в каком порядке выложит их, чем скрепит, как украсит, но уже чувствовал: в истории, которая расплеталась на его глазах, найдется место и для каждой неупокоенной души, и для каждого из чувств, и для каждой крупицы знаний, которые он собирал так кропотливо, и для него самого. Сюжет подходил для этого как нельзя лучше.
Когда наверху рассветет, а внизу встрепенутся торговые ряды, он обязательно пройдется по ним, раздобудет чистую общую тетрадь и шариковую ручку. И надо спешить: если он не нанесет на бумагу контуры будущего романа, миражом забрезжившего перед ним вдали, тот может растаять, и кто знает, сколько ему еще придется сидеть на вершине бархана, вглядываясь вдаль, надеясь, что из мельчайшего песка и плавящегося воздуха снова начнет складываться его собственная башня слоновой кости?
Времени может и не хватить.
Что бы ни болтала девчонка, взгляд в пустые глазницы вечности заставляет шевелиться, усмехнулся про себя старик. Потом, вспоминая ее изогнутые брови — два белых луча на сумрачном, чумазом лице, ее прикушенную губу, ее взлохмаченные соломенные волосы, он улыбнулся еще раз.
На рынке завтра придется разыскать и еще кое-что, думал Гомер, засыпая.
Ночь на Павелецкой всегда беспокойна. Мечутся отсветы смердящих факелов на закопченных мраморных стенах, неровно дышат туннели и еле слышно переговариваются люди, сидящие у подножья эскалатора. Станция притворяется мертвой, надеясь, что хищные твари с поверхности не польстятся на падаль.
Но иногда самые любопытные из них обнаруживают уходящий далеко вглубь лаз, внюхиваются и различают запах свежего пота, слышат биение сердец, чувствуют струящуюся по сосудам кровь. И начинают спуск вниз.
Гомер наконец задремал, и встревоженные голоса с другого края платформы проникали в его сознание туго, искаженно. Но тут, разом выдергивая его из марева полусна, грянул пулемет. Старик вскочил, вытаращив глаза, обшаривая пол дрезины в поисках своего оружия.
К оглушительным пулеметным раскатам присоединились сразу несколько автоматов, тревога в криках дозорных сменилась подлинным ужасом. По кому бы они ни стреляли сейчас там изо всех орудий, это не причиняло ему ни малейшего вреда. Теперь это был уже не слаженный огонь по движущейся цели, а беспорядочная пальба людей, которые пытаются уберечь хотя бы собственную шкуру.
Автомат нашелся, но Гомер никак не мог решиться выбраться в зал; всей его воли едва хватало на то, чтобы противостоять искушению завести мотор и умчаться со станции — все равно, куда. Не покидая дрезины, он тянул шею, пытаясь высмотреть арену боя сквозь частую решетку колонн.
Ор и брань обороняющихся дозорных рассекло пронзительное верещание — неожиданно близко. Пулемет захлебнулся, кто-то страшно закричал и тут же смолк так внезапно, будто ему оторвали голову. Снова ударила по ушам автоматная трескотня, но уже совсем разрозненная, редкая. Вопль повторился — кажется, чуть дальше… И вдруг испускавшему его существу эхом ответило еще одно — совсем рядом с дрезиной.
Гомер досчитал до десяти и трясущимися руками запустил двигатель: сейчас, сейчас его спутники вернутся, и они смогут тут же сорваться; это все ради них, не ради себя… Дрезина завибрировала, зачадила, прогреваясь, и тут между колоннами с непостижимой скоростью мелькнуло нечто… Смазываясь и выскальзывая из поля зрения быстрее, чем сознание могло усвоить его образ.
Старик вцепился в поручень, поставил ногу на педаль газа и сделал глубокий вдох. Если они не появятся в течение еще десяти секунд, он все бросит и… И, сам не понимая, зачем он это делает, Гомер шагнул на платформу, выставив впереди себя свой никчемный автомат. Просто удостовериться, что никому из своих он уже не поможет.
Вдавив себя в колонну, Гомер выглянул в зал…
Хотел закричать, но не хватило воздуха.
* * *
Саша всегда знала, что земля не ограничивается теми двумя станциями, на которых она жила, но никогда не могла себе представить, что мир за их пределами может быть так прекрасен. Коломенская — плоская и унылая — все же казалась ей уютным и знакомым до мелочей домом. Автозаводская — горделивая, просторная, но холодная — отвернулась от них с отцом, отторгла их, и она не могла ей это забыть.
Отношения с Павелецкой можно было начать с чистого листа, и с каждой проведенной здесь минутой Саше все больше хотелось влюбиться в эту станцию. В ее легкие раскидистые колонны, в огромные зовущие арки, в этот благородный мрамор с милыми прожилками, делающими стены похожими на чью-то нежную кожу… Коломенская — убога, Автозаводская — слишком сурова, а эта станция словно строилась женщиной: игривая и легкомысленная, Павелецкая не желала забывать о своей былой красоте даже десятилетия спустя.
«Люди, которые здесь живут, не могут быть жестоки и злы», — думала Саша. Неужели ей с отцом достаточно было преодолеть всего одну враждебную станцию, чтобы оказаться в этом волшебном краю? Неужели ему было достаточно пережить еще всего один день, чтобы сбежать с каторги и снова стать свободным? Она сумела бы уговорить обритого, чтобы он взял с собой обоих…
Вдалеке подрагивал облепленный дозорными костер, луч прожектора ощупывал высокий потолок, но Саше не хотелось идти туда. Сколько лет ей казалось, что, только вырвавшись с Коломенской и встретив других людей, она сможет быть счастлива! Но сейчас ей был необходим всего один человек — чтобы поделить на двоих Сашин восторг, ее удивление от того, что земля действительно оказалась больше на целую треть, и ее надежду на то, что все еще можно исправить. А сама Саша, наверное, не нужна была и вовсе никому, что бы она ни внушала себе и старику.
И девушка побрела в противоположную сторону, туда, где в правый туннель на полкорпуса погружался обшарпанный состав с выбитыми стеклами и распахнутыми дверьми. Вошла внутрь, перелетая разрывы между вагонами, обследовала первый, второй, третий. В последнем Саша отыскала чудом уцелевший диван и забралась на него с ногами. Осмотрелась вокруг и попыталась вообразить, что поезд вот-вот тронется и повезет ее дальше, к новым станциям — светлым, гудящим от людских голосов. Но ей не хватало ни веры, ни фантазии, чтобы сдвинуть с места тысячи тонн железного лома. С ее велосипедом все было намного проще.
Спрятаться не получилось: перескакивая из вагона в вагон вслед за Сашей, ее наконец настиг шум разворачивающегося на Павелецкой боя.
Опять?!
Она спустила ноги и стремглав бросилась назад на станцию — в то единственное место, где была способна еще хоть что-то сделать.
* * *
Растерзанные тела дозорных валялись и у стеклянной будки с застывшим прожектором, и прямо в потухшем костре, и в самом центре зала. Бойцы уже прекратили сопротивление и бежали, чтобы попросить убежища в переходе, но гибель нагнала их на полпути.
Над одним из трупов скрючилась зловещая, неестественная фигура. С такого расстояния она была плохо различима, но Гомер видел гладкую белую кожу, подергивающийся мощный загривок, нетерпеливо переступающие ноги, изогнутые слишком во многих сочленениях.
Сражение было проиграно. Где же Хантер? Старик высунулся еще раз и обмер… Шагах в десяти, показываясь из-за колонны ровно на столько же, что и Гомер, будто дразня или играя с ним, с высоты двух с лишним метров на старика уставилась кошмарная харя. По отвисшей нижней губе капало красное, тяжелая челюсть непрестанно двигалась, уминая жуткую жвачку, под скошенным лбом было совсем пусто; однако, похоже, отсутствие глаз ничуть не мешало твари перемещаться и атаковать.
Гомер отпрянул, вжимая спусковой крючок; автомат молчал. Химера испустила долгий оглушительный вопль и махнула на середину зала. Старик заелозил заклинившим затвором, понимая, что ничего уже не успеет…
Но внезапно чудовище потеряло к нему всякий интерес; теперь его внимание было приковано к краю платформы. Гомер резко обернулся, отслеживая слепой взор, и его сердце захолонуло.
Там, испуганно озираясь по сторонам, стояла девчонка.
— Беги! — заорал Гомер, вмиг срываясь в дерущий горло хрип.
Белая химера скакнула вперед, разом покрывая несколько метров, и очутилась прямо перед девушкой. Та выхватила нож, годный разве что для готовки, и сделала предупреждающий выпад. Тварь в ответ махнула одной из передних лап, и девушка рухнула наземь; клинок отлетел на несколько шагов.
Старик был уже на дрезине. Но он больше и не помышлял о бегстве. Пыхтя, разворачивал пулемет, стараясь поймать в паутину прицела пляшущий белесый силуэт. Не выходило: чудище жалось к девчонке. Гомеру казалось, что, в считанные минуты разорвав дозорных, представлявших для него хоть какую-то опасность, создание развлекалось, загнав в угол двух немощных и играя с ними, прежде чем прикончить.
Вот оно сгорбилось над Сашей, заслонив ее от старика… Свежуя добычу?..
И тут же дернулось, отшатнулось, заскребло когтями по расползающемуся пятну на своей спине, и с ревом обернулось, готовясь сожрать обидчика.
Нетвердо ступая, вытянув автомат в одной руке, ему навстречу шел Хантер. Вторая рука плетью свисала вдоль тела, и заметно было, с каким трудом и болью давался ему каждый шаг.
Бригадир хлестнул монстра новой очередью, но тот оказался поразительно живучим; лишь покачнувшись, он тут же обрел равновесие и метнулся вперед. Патроны иссякли, и Хантер, чудом извернувшись, принял огромную тушу на лезвие своего мачете. Химера обвалилась на него сверху, подминая под себя, душа весом своего тела, ломая кости.
Убивая последнюю надежду, подлетела вторая тварь. Замерла над конвульсирующим телом своего сородича, ковырнула когтем белую кожу, будто пытаясь разбудить его, потом медленно подняла безглазую морду на старика…
И Гомер не упустил свой шанс. Крупный калибр разодрал химере торс, расколол череп и, уже свалив ее, продолжал еще обращать в крошку и пыль мраморные плиты за ее спиной. Унять сердце и разжать сведенные судорогой пальцы старик сумел не сразу.
Потом он закрыл глаза, снял респиратор и впустил в себя морозный воздух, напитанный ржавым запахом свежей крови. Все герои пали, на поле брани он оставался один.
Его книга завершилась, не успев начаться.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ПОСЛЕ СМЕРТИ
«Что остается после умерших?
Что останется после каждого из нас?
Могильные камни проседают и мшеют, и всего через несколько десятилетий надписи на них делаются неразличимыми.
Даже в прежние времена, когда за могилами было больше некому ухаживать, кладбищенскую землю перераспределяли между свежими мертвецами. Навестить умерших приходили только дети или родители, куда реже внуки, почти никогда — правнуки.
То, что было принято называть вечным покоем, в крупных городах означало лишь полувековую отсрочку перед тем, как кости будут потревожены: может быть, ради дальнейшего уплотнения, может, чтобы перепахать погост и возвести на его месте жилые кварталы. Земля становилась слишком тесной и для живых, и для мертвых.
Полвека — это роскошь, которую могли себе позволить только те, кто умирал до светопреставления. А кому дело до одного покойника, когда гибнет целая планета? Никто из жителей метро не удостаивался чести быть погребенным и не мог надеяться, что его тело не будет уничтожено крысами.
Прежде останки имели право существовать ровно столько, сколько живые помнили о тех, кому они принадлежали. Человек помнит своих родных, однокашников, сослуживцев. Но его памяти хватает только на три поколения. На те самые пять с небольшим десятков лет.
С той же легкостью, с которой каждый из нас отпускает из памяти образ своего деда или школьного друга, кто-то однажды отпустит в абсолютное небытие и нас. Воспоминание о человеке может оказаться долговечнее его скелета, но когда уйдет последний из тех, кто нас еще помнил, вместе с ним растворимся во времени и мы.
Фотокарточки? Кто их сейчас еще делает? И сколько их хранили, когда фотографировал каждый? Раньше в конце любого толстого семейного альбома имелась небольшая резервация для коричневатых старинных снимков, но мало кто из листавших мог с уверенностью определить, на какой из карточек был изображен тот или иной его предок. Так или иначе, фотографии ушедших можно считать посмертной маской, снятой с их тела, но никак не прижизненным слепком с души. И потом, снимки тлеют лишь немногим медленнее тех тел, которые они запечатлели.
Что же останется?
Дети?»
Гомер прикоснулся пальцем к пламени свечи. Ему было просто рассуждать; слова Ахмеда до сих пор бередили его. Обреченный на бездетность, лишенный возможности продолжить свой род, старик теперь мог только отрицать возможность этого пути к бессмертию.
Он снова взялся за ручку.
«Они могут быть похожи на нас. В их чертах мы можем видеть отражение наших собственных черт, чудесным образом сплавленные воедино с чертами тех, кого любили мы. В их жестах, в изгибе бровей, в гримасах с умилением будем узнавать себя. Друзья могут говорить нам, что наши сыновья и дочери будто срисованы с нас, скроены по тем же лекалам. И это якобы обещает нам некое продление нас самих после того, как мы перестанем быть.
Но ведь и каждый из нас — не изначальный образ, по которому лепятся последующие копии, а всего лишь химера, пополам составленная из внешности и внутренностей нашего отца и нашей матери, точно так же, как и те в свою очередь состоят из половин своих родителей. Выходит, что нет в нас никакой уникальности, а есть только бесконечная перетасовка крошечных кусочков мозаики, которые существуют сами по себе, слагаясь в миллиарды случайных, не имеющих особой ценности и рассыпающихся на глазах панно?
Стоит ли тогда так гордиться тем, что у наших детей мы видим горбинку или ямку, которую привыкли считать своей, но которая на самом деле уже полмиллиона лет странствует по тысячам тел?
Останется ли что-то именно после меня?»
Гомеру приходилось тяжелее прочих. Он искренне завидовал тем, кому вера разрешала надеяться на пропуск в загробный мир; сам же, услышав про него в разговоре, старик мысленно сразу переносился на Нахимовский проспект. Возможно, Гомер состоял не только из плоти, которая будет перемолота и переварена трупоедами. Но даже если и было в нем что-то еще, отдельно от мяса и костей это нечто существовать неспособно.
«Что осталось после царей Египта? Что после героев Греции? После художников Возрождения? Осталось ли что-то от них — и они ли в том, что осталось?
Но какое еще бессмертие остается человеку?»
Гомер перечитал написанное, поразмыслил, затем осторожно вырвал листы из тетради, скомкал их, уложил в железную тарелку и спустил на них огонь. Через минуту от работы, которой он посвятил последние три часа, осталась только горстка золы.
* * *
Она умерла.
Саша всегда так и представляла себе смерть: гаснет последний луч света, умолкают все голоса, отнимается тело, и остается лишь извечная темнота. Чернота и безмолвие, из которых люди выходят и куда они неизбежно возвращаются. Саша слышала сказки о рае и об аде, но Преисподняя всегда виделась ей вполне безобидной. Вечность, проводимая в совершенной слепоте, глухоте и полном бездействии, казалась ей стократ страшнее любых котлов с кипящим маслом.
А потом впереди замаячило крохотное дрожащее пламя. Саша потянулась к нему, но достать его было невозможно: танцующий светляк убегал от нее, снова приближался, чтобы поддразнить ее, и тут же бросался наутек, играя и маня за собой. Она знала, что это: туннельный огонек.
Отец говорил, что, когда человек умирает в метро, его душа в растерянности бродит по беспросветным путаным туннелям, любой из которых заканчивается тупиком. Она не понимает, что больше не привязана к телу, что ее земное бытие окончилось. И блуждать ей придется, пока где-то далеко впереди она не увидит огонь призрачного костерка. А увидев, должна спешить к нему, потому что он послан за этой душой и, убегая прочь, выведет ее туда, где ее ждет покой. Однако случалось, что, смилостивившись, огонек приводил душу и назад к потерянному телу. О таких людях шептались, что они вернулись с того света, хотя правильнее было бы говорить, что их отпустила тьма.
Огонек звал ее за собой, он был настойчив, и Саша уступила. Она не чувствовала своих ног, но в них и не было нужды: чтобы поспевать за ускользающим светлячком, достаточно было просто не терять его из виду. Глядеть на него пристально, словно пытаясь уговорить, приручить его.
Саше удалось его поймать, и огонек потащил девушку сквозь непроглядный мрак, по лабиринту туннелей, из которого она одна никогда не нашла бы выход, к последней станции на линии ее жизни. Впереди чуть развиднелось: Саше теперь чудилось, что ее провожатый вычерчивает контуры какого-то далекого помещения, где ее ждут.
— Саша! — окликнул ее голос, удивительно знакомый, хоть она и не могла вспомнить, кому он принадлежит.
— Папа? — недоверчиво спросила она, угадывая родные ласковые нотки в чужом тембре.
Они пришли. Призрачный туннельный огонь остановился и, превращаясь в обычное пламя, вспрыгнул на фитиль оплавленной расползшейся свечи, уютно устраиваясь на ней, будто вернувшаяся с прогулки кошка.
Ее руку накрыла чья-то ладонь, прохладная и заскорузлая. Нерешительно, боясь снова уйти на дно, Саша отцепилась от огонька. Просыпаясь вслед за ней, прорезалась боль в распоротом предплечье, заныл ушибленный висок. Из темноты всплыла и закачалась рядом простая казенная мебель — пара стульев, тумбочка… Сама она лежала на настоящей койке, такой мягкой, что своей спины Саша совсем не ощущала. Будто тело ей возвращали по частям, и не до всех еще дошла очередь.
— Саша? — повторил голос.
Она перевела взгляд на говорившего и отдернула руку. У ее постели сидел старик, с которым она ехала на дрезине. В его прикосновении не было никаких притязаний, оно не жгло и не оскорбляло Сашу. Свою ладонь она забрала, устыдившись того, как могла спутать с отцовским голос чужого человека, и еще от обиды, что туннельный огонек вывел ее не туда.
Старик мягко улыбнулся; кажется, ему было вполне довольно и того, что она очнулась. Присмотревшись, Саша заметила в его глазах теплые блики, какие до тех пор встречала во взгляде только одного человека. Неудивительно, что она обманулась. И ей вдруг стало неловко перед стариком.
— Прости, — сказала она.
И тут же, вспоминая свои последние минуты на Павелецкой, дернулась вверх.
— А что с твоим другом?
* * *
Она, похоже, не умела ни плакать, ни смеяться, а может, у нее не оставалось сил ни для того, ни для другого. По счастью, похожие на лезвия когти миновали девчонку: единственный удар химеры пришелся плашмя. Но и его хватило, чтобы она на сутки лишилась сознания. Сейчас ее жизни ничто больше не угрожало, заверил Гомера врач. О собственных бедах старик с доктором не говорил.
Саша — пока она была в забытьи, старик привык называть ее так — обмякла и откинулась на подушку, а Гомер вернулся к столу, где его ждала, раскинувшись, общая тетрадь на целых девяносто шесть листов. Покрутил в пальцах ручку и продолжил с того места, где бросил заново начатую книгу, чтобы подойти к стонущей в бреду девушке.
«…на этот раз караван задерживался. Задерживался непозволительно долго, так что уже становилось ясно: произошло нечто ужасное, непредвиденное, от чего не сумели защитить ни закаленные в боях тяжеловооруженные конвоиры, ни годами налаживавшиеся отношения с руководством Ганзы.
И все бы ничего, если бы действовала связь. Однако с проведенным к Кольцу телефонным проводом что-то случилось, сообщение прервалось еще в понедельник, а отправленная на поиски поломки бригада вернулась ни с чем».
Гомер поднял глаза и вздрогнул: девчонка стояла за его спиной, через плечо разбирая его каракули. Похоже, на ногах ее держало только любопытство.
Смутившись, старик перевернул тетрадь обложкой кверху.
— Тебе для этого нужно вдохновение? — спросила она его.
— Я еще только в самом начале, — зачем-то пробормотал Гомер.
— А что случилось с караваном?
— Я не знаю. — Он принялся обводить название рамкой. — История еще не окончена. Ложись, тебе нужен отдых.
— Но ведь это от тебя зависит, чем ты закончишь книгу, — возразила она, не двигаясь с места.
— В этой книге от меня ничего не зависит. — Старик положил ручку на стол. — Я не выдумываю ее, просто записываю все, что со мной творится.
— Значит, в ней тем более все зависит от тебя, — задумалась девушка. — А я в ней буду?
— Хотел вот попросить у тебя разрешения, — усмехнулся Гомер.
— Я подумаю, — серьезно ответила она. — А для чего ты ее пишешь?
Старик поднялся на ноги, чтобы не смотреть на нее снизу вверх.
Уже после прошлого их с Сашей разговора ему стало ясно, что ее юность и неопытность создавали обманчивое впечатление; будто на странной станции, где они ее подобрали, год шел за два. У нее была манера отвечать не на те вопросы, которые он произносил вслух, а на те, что оставались незаданными. И спрашивала Саша у Гомера только о том, чего он не знал и сам.
А еще ему казалось: если он хочет рассчитывать на ее искренность — а как иначе она станет его героиней? — то и сам должен быть с нею честен, не сюсюкать, и не отмалчиваться, и говорить ей не меньше, чем сказал бы сам себе.
— Хочу, чтобы люди меня запомнили. И меня, и тех, кто был мне дорог. Чтобы знали, каким был мир, который я любил. Чтобы услышали самое важное из того, что я узнал и понял. Чтобы моя жизнь была не зря. Чтобы что-то после меня осталось.
— Вкладываешь в нее душу? — Она склонила голову набок. — Но это же просто тетрадь. Она может сгореть или потеряться.
— Ненадежное хранилище для души, да? — Гомер вздохнул. — Нет, тетрадка нужна, только чтобы выстроить все в нужном порядке и чтобы я сам не забыл ничего важного, пока история не дописана. А потом достаточно будет рассказать ее нескольким людям. И если у меня все получится, то мне больше не нужны будут ни бумага, ни тело.
— Наверное, ты видел много такого, о чем жалко забыть навсегда. — Девушка пожала плечами. — А мне вот нечего записывать. И мне не надо в тетрадь. Не трать на меня бумагу.
— Ну, тебе еще только предстоит… — начал старик и тут же осекся: его-то рядом уже не будет.
Девчонка не отзывалась, и Гомер испугался, что теперь она совсем замкнется. Он пробовал подобрать правильные слова, чтобы отыграть все назад, но только сам все больше запутывался в собственных сомнениях.
— А что самое красивое из того, что ты помнишь? — вдруг спросила она. — Самое-самое?
Гомер замялся, колеблясь. Делиться сокровенным с человеком, которого он не знал и двух суток, было странно. Этого он не доверял даже Елене — и та думала, что на стене в их каморке висит обычный городской пейзаж. Да и сможет ли девчонка, которая всю свою жизнь провела в подземелье, вообще понять то, что он ей расскажет?
— Летний дождь, — решился он.
— Что тут красивого? — Она забавно поморщилась.
— А ты когда-нибудь видела дождь?
— Нет. — Девчонка мотнула головой. — Отец запрещал выходить наружу. Я все равно вылезала раза два, но мне там было плохо. Страшно, когда вокруг нет стен. Дождь — это когда вода сверху льется, — уточнила она на всякий случай.
Но Гомер уже не слышал ее. Для него вдруг снова настал тот далекий день; словно медиум, одолживший свое тело вызванному духу, он уставился в пустоту и говорил, говорил…
— Весь месяц был сухой и очень жаркий. А у меня жена беременная, ей и так дышать трудно было, а тут такое пекло… В роддоме один вентилятор на всю палату, она все время жаловалась, как ей душно. И я тоже из-за нее еле дышал. Переживал ужасно: как мы ни старались, несколько лет ничего не получалось, потом врачи выкидышем пугали. И вот она там как бы на сохранении, а лучше бы уж дома лежала. Срок уже подошел, и ничего не происходит. Схваток нет, а каждый день у начальства не отпросишься. Да еще мне кто-то сказал, что, если переносить, мертвый может родиться. Я места себе не нахожу, как только с работы — сразу бросаюсь под окна дежурить. В туннелях телефон не ловит, я на каждой станции проверяю, не было ли пропущенных звонков. И вот получаю сообщение от врача: «Срочно перезвоните». Пока выбрался в тихое место, уже и жену, и ребенка похоронить успел, дурак мнительный. Набираю…
Гомер смолк, прислушиваясь к гудкам, дожидаясь ответа. Девушка не перебивала его, приберегая вопросы на потом.
— Мне говорят: поздравляем, у вас родился сын. Это сейчас так просто звучит: родился сын. А тогда мне жену из мертвых вернули, и еще это чудо… Поднимаюсь наверх — а там дождь. Прохладный. И воздух сразу легкий такой стал, прозрачный. Будто город был пыльным целлофаном укутан, и вот его сняли. Листья засияли, небо наконец движется, дома помолодели. Я бегу по Тверской к цветочному киоску, и тоже плачу, и тоже от счастья. Зонт был, но я не стал его раскрывать, хотел вымокнуть, хотел его ощутить, этот дождь. Сейчас мне так не передать… Словно не сын у меня родился, а я сам заново, и смотрю на мир так, словно впервые его вижу. Да и он тоже свежий, будто и ему только что пуповину перерезали и умывают в первый раз. И все теперь будет заново, и все, что шло не так, что было плохо, все можно будет исправить. У меня ведь теперь как бы две жизни. Что я не успею — сын сделает. И все у нас еще впереди. У всех еще все впереди…
Старик затих, глядя на плывущие в розовой вечерней дымке сталинские десятиэтажки, окунаясь в деловитый гул Тверской, вдыхая сладковатый загазованный воздух, и закрыл глаза, подставляя лицо летнему ливню. Когда он пришел в себя, на его щеках и в уголках глаз доказательством путешествия в тот день еще блестели дождевые капли.
Он быстро стер их рукавом.
— Знаешь, — девчонка казалась смущенной не меньше Гомера, — наверное, дождь все-таки может быть красивым. У меня таких воспоминаний нет. Можно, я буду помнить твое? И если хочешь, — она улыбнулась ему, — я буду в твоей книге. Ведь хоть от кого-то должно зависеть, чем все закончится.
* * *
— Сейчас еще слишком рано, — отрезал доктор.
Саша не могла объяснить этому сухарю, как важно ей было то, о чем она его просила. Она набрала воздуха еще для одной атаки, но, так и не израсходовав его, махнула здоровой рукой и отвернулась.
— Ничего, потерпите. А раз вы уже на ногах и так чудесно себя чувствуете, можете потихоньку прогуляться. — Он собрал свои инструменты в вытертый полиэтиленовый пакет и пожал руку старику. — Зайду через пару часиков. Начальство велело бдить. Сами понимаете, мы у вас в долгу.
Старик накинул Саше на плечи пятнистый солдатский бушлат, и она выбралась наружу, следуя за доктором мимо остальных палат лазарета, сквозь череду комнат и комнатушек, заставленных столами и койками, на два лестничных пролета вверх и через неприметную приземистую дверку — в необъятный продолговатый зал. Замерев на пороге, Саша долго не осмеливалась ступить в него. Никогда раньше она не встречала столько людей сразу; даже вообразить себе, что на свете есть столько живых людей, она прежде не могла.
Тысячи лиц — без масок! Таких непохожих друг на друга… Здесь были и совсем дряхлые старики, и младенцы. Великое множество мужчин — бородатых, выбритых, рослых и карликов, изможденных и выжатых, полнокровных и мускулистых. Изуродованных в боях или уродливых от рождения, чрезмерно красивых или притягивающих, вопреки скупой внешности, чем-то неуловимым. И столько же женщин — и широкозадых, красномордых торговок в косынках и ватниках, и точеных бледных девушек в невероятных ярких одеждах и замысловатых бусах.
Увидят ли они, что Саша — другая? Сумеет ли она спрятаться в толпе, притвориться одной из них, или они сейчас набросятся и загрызут ее, как крысиная стая — чужака-альбиноса? Вначале ей чудилось, что все глаза устремлены только на нее, и от каждого случайно перехваченного взгляда ее бросало в жар. Но прошла четверть часа, и она пообвыклась: среди смотревших на нее людей попадались и враждебные, и любопытные, и чересчур настойчивые, но большинство было к ней безразлично. Легонько задев ее глазами, они протискивались дальше, не уделяя Саше никакого внимания.
Ей подумалось, что эти рассеянные, лишенные резкости взоры как машинное масло смазывают шестеренки суетящихся людей. Если бы они интересовались друг другом, трение было бы слишком высоким и весь механизм оказался бы парализован.
Чтобы ввинтиться в толпу, не было необходимости переодеваться или иначе стричь волосы. Довольно было вместо того, чтобы нырять в чужие зрачки, зябко подбирать свой взгляд обратно, едва обмакнувшись в них. Обмазавшись напускным равнодушием, Саша могла скользить меж движущихся, сцепляющихся обитателей этой станции, больше не застревая здесь на каждом шагу.
В первые минуты ей ошпарило нос бурлящее варево человеческих запахов, но скоро обоняние стало притупляться, учась вылавливать в нем важные составляющие и пропускать все прочие. Сквозь кислый смрад несвежих тел пробивались тонкие дразнящие ароматы молодости; изредка толпу омывали волны благовоний, расходившиеся от ухоженных женщин. Сюда же примешивался и мясной дым от жаровен, и миазмы выгребных ям. Словом, для Саши переход между двумя Павелецкими пах жизнью, и чем дольше она прислушивалась к этому оглушительному запаху, тем слаще он ей казался.
На полное исследование бескрайнего перехода, ей, наверное, потребовался бы целый месяц. Здесь все было поразительно…
Прилавки с украшениями, сплетенными из десятков желтых металлических кружочков с чеканкой, которые хотелось рассматривать часами, и огромные книжные развалы, вмещавшие больше тайных знаний, чем она сможет когда-либо постичь.
Зазывала у стенда с надписью «Цветы» и богатым собранием поздравительных открыток. На карточках — поблекшие фотографии всевозможных нарядных букетов. В детстве Саше дарили одну такую, но сколько их было тут!
Младенцы, прилепившиеся к материнской груди, и ребятишки постарше, играющие с настоящими кошками. Пары, касающиеся друг друга пока только глазами, и пары, уже касающиеся друг друга пальцами.
И еще мужчины, которые пробовали притронуться к ней.
Она могла бы принять их внимание и интерес за гостеприимство или желание что-нибудь ей продать, но от их слов, увощенных особым придыханием, ей делалось неловко и чуть гадливо. На что она им сдалась? Неужели им мало здешних женщин? Среди них встречались и подлинно красивые; цветастые ткани, в которые они были обернуты, делали их похожими на распускающиеся бутоны с открыток. Наверное, над ней просто смеются…
Да и способна ли она вообще пробудить мужское любопытство? Ее вдруг кольнуло незнакомое сомнение. Может быть, она не так все понимала? Но зачем же иначе? У нее тоскливо потянуло внутри — там, где под треугольной аркой ее смыкающихся ребер только начиналась нежная впадинка… Только глубже. В том самом месте, существование которого она открыла для себя всего сутки назад.
Пытаясь отогнать тревогу, она брела вдоль прилавков, забитых всевозможными товарами — броней и безделушками, одеждой и приборами, — но они больше не занимали ее так сильно. Оказалось, ее внутренний разговор может быть громче галдящей толпы, а человеческие образы, которые рисует память, бывают ярче живых людей.
Стоила ли она его жизни? Могла ли осуждать его после того, что случилось? И, главное, какой смысл был в ее глупых размышлениях теперь? Когда она уже ничего не могла для него сделать…
И тут, еще прежде, чем Саша поняла, от чего это с ней творится, сомнения отступили и сердце успокоилось. Она прислушалась к себе и уловила отзвуки какой-то далекой мелодии, просачивающейся в нее снаружи, струящейся рядом с мутным потоком людского многоголосья, не смешиваясь с ним.
Музыка для Саши, как и для любого человека, началась с материнских колыбельных. Но ими же и закончилась: отец был лишен слуха и петь не любил, бродячих музыкантов и прочих фигляров на Автозаводской не приветствовал. Дозорные, сипевшие у костра заунывно-бравурные солдатские песни, не могли толком заставить звучать ни обвисшие струны фанерных гитар, ни натянутые Сашины струны.
Но сейчас она слышала не унылое гитарное треньканье… Скорее, переливы нежного, живого голоса девушки, даже девочки — но недостижимо высокого для человеческой гортани и при этом неестественно сильного для нее. А с чем еще Саше было сравнить это чудо?
Пение неизвестного инструмента завораживало, подхватывало зазевавшихся и уносило их куда-то бесконечно далеко, в миры, которые родившиеся в метро не могли знать и о возможности которых не должны были даже догадываться. Оно заставляло мечтать и внушало, что любые мечты осуществимы. Будило неясное томление и тут же обещало утолить его. От него делалось хорошо, будто заплутав на заброшенной станции, Саша вдруг нашла фонарь, а следом, в его луче обнаружился и выход.
Она стояла у палатки оружейника, а прямо перед ней возвышался лист фанеры с прикрученными к нему разнообразными ножами — от складных перочинных малюток до хищных охотничьих клинков. Саша застыла, зачарованно глядя на лезвия.
Две ее половины схлестнулись в нешуточной схватке. Мысль, пришедшая ей в голову, была проста и соблазнительна. Старик выдал ей с собой пригоршню патронов, и их как раз хватало на зазубренный черненый нож — широкий, отточенный, как нельзя лучше подходящий для задуманного.
Через минуту Саша все же решилась и переступила через себя. Покупку она спрятала в нагрудный карман своего комбинезона — поближе к тому месту, которое хотела обезболить. В лазарет она возвращалась, не ощущая тяжести бушлата и позабыв о ноющих висках.
Толпа была выше девушки на целую голову, и далекий музыкант, выдыхавший удивительные ноты, так и остался для нее невидим. Но мелодия еще пыталась догнать ее, развернуть, отговорить. Тщетно.
* * *
В дверь снова постучали.
Гомер с кряхтеньем поднялся с колен и вытер губы рукавом, дернул за цепь сливного бачка. На грязно-зеленой ткани ватника осталась короткая бурая полоса. За сутки его рвало уже пятый раз, хотя он толком ничего не ел.
Недуг мог иметь несколько объяснений, убеждал себя старик. Почему обязательно ускоренное течение болезни? Дело могло быть и в…
— Скоро там?! — нетерпеливо взвизгнул женский фальцет.
Господи! Неужели он так спешил, что перепутал буквы на двери? Гомер промокнул грязным рукавом вспотевшее лицо, напустил на себя невозмутимый вид и щелкнул шпингалетом.
— Пьянь! — Расфуфыренная бабенка оттолкнула его и хлопнула дверью.
Что же, подумал старик. Пусть уж лучше считают его пропойцей… Он шагнул к зеркалу над мойкой и уперся в него лбом. Еле отдышался и, только наблюдая, как запотевает стекло, спохватился: респиратор сполз вниз и болтался у него под подбородком. Поскорее натянув намордник обратно, Гомер снова закрыл глаза. Нет, думать о том, что он передает смерть каждому человеку, которого встречает на своем пути, невозможно. Поворачивать назад уже поздно: если он заразен, если не путает симптомы, вся станция так или иначе уже обречена. Начиная прямо с этой женщины, виноватой только в том, что ей приспичило в неурочную минуту. Что бы она сделала, скажи он ей сейчас, что она умрет самое позднее через месяц?
Глупо, думал Гомер, до чего глупо и до чего бездарно. Он-то мечтал увековечить всех, с кем его сталкивала судьба, а вместо этого был назначен ангелом смерти — нелепым, плешивым, немощным. Ему подрезали крылья и окольцевали, определив срок в тридцать дней и тем самым подтолкнув его к действию.
Наказали за самонадеянность, за гордыню?
Нет, молчать об этом старик больше не мог. Но на свете был только один человек, которому он мог бы исповедаться. Его Гомер все равно не сумеет долго обманывать, да и играть с раскрытыми картами обоим будет куда проще.
Нетвердой походкой он двинулся к больничным покоям.
Нужная палата находилась в самом конце коридора, и обычно у ее дверей дежурила сиделка, но сейчас пост был покинут, а сквозь щель изнутри долетал отрывистый хрип. Кое-как он складывался в слова, но вот соорудить из них осмысленные фразы было делом непосильным даже для притаившегося Гомера.
— Сильнее… Бороться… Должен… Еще есть смысл… Сопротивляться… Помнить… Еще можно… Ошиблись… Осудили… Но еще…
Слова превратились в рычание, словно боль стала нестерпимой и уже не позволяла говорившему арканить мечущиеся мысли. Гомер шагнул внутрь.
Хантер лежал без сознания, разметавшись на скомканных влажных простынях. Бинты, стискивающие череп бригадира, наползали ему на самые глаза, заострившиеся скулы были покрыты испариной, обросшая нижняя челюсть бессильно отвалилась. Его широкая грудь натужно, как кузнечный мех, ходила вверх и вниз, с трудом поддерживая огонь в слишком большом теле.
У изголовья постели затылком к Гомеру стояла девчонка, сцепив за спиной худые руки. Не сразу, только вглядевшись, старик заметил почти сливающийся с тканью ее комбинезона черный нож, рукоять которого она крепко обнимала пальцами.
* * *
Гудок.
Еще гудок. И еще.
Тысяча двести тридцать пятый. Тысяча двести тридцать шестой. Тысяча двести тридцать седьмой.
Артем считал их не для того, чтобы оправдываться перед командиром. Это было необходимо, чтобы чувствовать: он куда-то движется. И если он удаляется от точки, в которой начал считать, значит, с каждым гудком он все же становится ближе к той точке, где это безумие закончится.
Самообман? Да, пусть так. Но слушать их, думая, что они не прервутся никогда, было невыносимо. Хотя вначале, в самое первое его дежурство, ему это даже нравилось: гудки как метроном упорядочивали какофонию мыслей, опустошали голову, подчиняли своему неспешному ритму скачущий пульс.
Но порезанные ими минуты становились в точности похожи одна на другую, и Артему начинало казаться: так и есть, он застрял в каком-то временном капкане и не сможет из него выбраться, пока гудки не прекратятся. Была такая пытка в Средневековье: провинившегося обривали наголо и усаживали под бочкой, из которой на его макушку по капле падала вода, постепенно сводя несчастного с ума. Там, где была бессильна дыба, обычная вода давала превосходные результаты.
Привязанный проводом, Артем не имел права отлучиться ни на секунду. Все дежурство он старался не пить, чтобы нужда не отвлекала его от гудков. Накануне он не выдержал, вышмыгнул из комнаты, домчался до уборной — и сразу назад. Еще с порога прислушался и похолодел: темп был не тот, сигнал частил, сорвавшись с обычного размеренного шага. Могло произойти только одно, и он это прекрасно понимал. Миг, которого он так ждал, наступил, когда его не оказалось рядом. Испуганно обернувшись на дверь — не заметил ли кто? — Артем поскорее перенабрал и приник к трубке.
Аппарат щелкнул, и гудки, обнуляя счет, пошли в привычном ритме. С тех пор «занято» больше не было ни разу, и к телефону никто тоже не подходил. Но бросить трубку Артем все равно не смел, только перекладывал ее от вспотевшего уха к замерзшему, стараясь не сбиться.
Начальству об этом случае он сразу не доложил, а теперь ему уже как-то не верилось, что гудки могли звучать и иначе. Ему был дан приказ: дозвониться, и вот уже неделя, как он существовал только для этого. За нарушение приказа он попадет под трибунал, для которого оплошность ничем не отличается от саботажа.
И еще телефон подсказывал ему, сколько оставалось до конца дежурства. Своих часов у Артема не было, но во время обхода он засек по командирским: сигнал повторяется раз в пять секунд. Двенадцать гудков — минута. Семьсот двадцать — час. Тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят — смена. Песчинками они пересыпались из некой безразмерной стеклянной колбы — в другую, бездонную. А в узкой горловине между двумя этими невидимыми сосудами сидел Артем и слушал время.
Бросить трубку он не решался только потому, что командир мог нагрянуть с проверкой в любой момент. А так… В том, что он делал, не было никакого смысла. По другую сторону провода наверняка больше не оставалось ни единой живой души. Когда Артем закрывал глаза, перед ним снова вставала эта картина…
Он видел забаррикадированный изнутри кабинет начальника станции и его хозяина, уткнувшегося лицом в стол, сжимающего в руке «макаров». Разумеется, с простреленными навылет ушами ему не слышно надрывающийся телефон. Те, снаружи, так и не сумели взломать дверь, но замочные скважины и щели остаются открыты. И отчаянное дребезжание старого аппарата проникает сквозь них, ползет над платформой, заваленной распухшими трупами… Когда-то телефонные звонки было не расслышать из-за неумолчного гомона толпы, шороха шагов, детского плача, но сейчас, кроме них, мертвых не тревожит больше ни один звук. Мигает багровое зарево от агонизирующих аварийных аккумуляторов.
Звонок.
Еще звонок.
Тысяча пятьсот шестьдесят третий. Тысяча пятьсот шестьдесят четвертый.
Никто не отвечает.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ДАРЫ
— Докладывай!
Что-что, а застать врасплох он умел превосходно. В гарнизоне о командире ходили легенды: бывший наемник славился искусством обращения с холодным оружием и своей способностью растворяться в темноте. Когда-то, еще до того, как осесть на Севастопольской, он в одиночку вырезал целые вражеские блокпосты, стоило дозорным проявить малейшее легкомыслие.
Артем подскочил, прижимая трубку к уху плечом, отдал честь и с некоторым сожалением прекратил отсчет. Командир подошел к листку дежурств, сверился с часами, напротив даты — третье ноября — поставил отметку: девять двадцать две, расписался и обернулся к Артему.
— Тишина. В смысле, никого нет.
— Молчат?.. — Командир пожевал; разминая мышцы, хрустнул шеей. — Не поверю.
— Во что не поверите? — опасливо уточнил Артем.
— В то, что так быстро Добрынинскую накрыло. Что же, эпидемия уже в Ганзе? Ты представляешь себе, что должно было начаться, если Кольцо поражено?
— Но мы ведь не знаем, — неуверенно отозвался Артем, — может, уже и началось. Связи ведь нет.
— А если провода повреждены? — Командир нагнулся, побарабанил пальцами по столу.
— Было бы, как с базой. — Артем мотнул головой в сторону туннеля, уходящего к Севастопольской. — Набираю — вообще все глухо. А тут хотя бы гудки идут. Техника работает.
— А базе мы, видимо, не нужны, раз к воротам больше никто не приходит. Или нет просто уже никакой базы. И Добрынинской тоже нет, — ровно произнес командир. — Слушай, Попов… А если там никого не осталось, то и мы все скоро передохнем. Никто нам на помощь не придет. И карантин наш тогда ни к чему. Может, ну его к черту, как считаешь? — он пожевал снова.
— Никак нет, карантин необходим, — испуганно открестился от такой ереси Артем, вспоминая манеру командира сначала стрелять дезертирам в живот, а потом зачитывать им приговор.
— Необходим, — задумчиво повторил тот. — Сегодня еще трое заболели. Двое местных и наш один. Акопов. А Аксенов умер.
— Аксенов? — Артем трудно сглотнул, зажмурился.
— Расшиб себе голову о рельс. Говорил, что очень болела, — так же ровно продолжил командир. — И он не первый. Чертовски сильно должна болеть голова, чтобы полчаса стараться расколотить ее себе, стоя на коленях, а?
— Так точно, — Артема замутило.
— Не тошнит? Слабости нет? — заботливо спросил командир, направляя фонарик ему в лицо. — Рот открой. Скажи «Аааа». Молодец. Ты вот что, Попов, лучше дозвонись. Дозвонись, Попов, до Добрынинской, и пусть они тебе скажут, что у Ганзы есть вакцина и что их санитарные бригады скоро будут здесь. И что они нас, здоровых, спасут. А больных вылечат. И что мы не останемся в этом аду на веки вечные. И вернемся домой к же нам. Ты к Гале своей вернешься. А я к Алене и к Вере. Понял, Попов?
— Так точно, — судорожно кивнул Артем.
— Вольно.
* * *
Его тесак надломился у самой рукояти, не выдержав веса рухнувшего на него создания. Лезвие вошло так глубоко в тушу, что его даже не пытались оттуда извлечь. Сам обритый, весь исполосованный когтями, уже почти трое суток не приходил в себя.
Саша ничем не могла ему помочь, но ей все равно было необходимо его увидеть. Хотя бы для того, чтобы сказать ему спасибо… Пусть он ее и не услышал бы. Но врачи не пускали девушку к нему в палату, говоря, что раненому не нужно ничего, кроме покоя.
Она не знала наверняка, ради чего обритый убил тех людей с дрезины. Но если он стрелял, чтобы спасти ее, Саша смогла бы его оправдать. Она честно пыталась в это поверить, а у нее не получалось. Правдоподобнее было другое объяснение: убивать ему проще, чем просить.
Однако на Павелецкой все было совсем иначе. Никаких сомнений: он шел именно за Сашей и был даже готов погибнуть за нее. Значит, она все же не ошиблась — между ними и вправду начинала образовываться связь?
Когда он окликнул ее там, на Коломенской, она ждала пули, а не приглашения идти дальше вместе. А когда послушно обернулась, сразу заметила произошедшую в нем перемену, хоть его пугающее лицо и оставалось таким же бесстрастным. Дело было в глазах: словно в смотровую щель неподвижных черных зрачков вдруг выглянул кто-то другой. Кто-то, кому она была любопытна.
Кто-то, кому она теперь была обязана жизнью.
Думала — не передать ли ему серебряное кольцо, намеком, как сделала когда-то ее мать? Но побоялась, что обритый не поймет знак. А как ей еще его отблагодарить? Подарить ему нож взамен того, который он сломал, защищая ее, — самое малое, что Саша могла сделать. Когда она застыла, осененная этой простой мыслью, перед лавкой оружейника, представляя себе, как вручит обритому его новый клинок, как он посмотрит на нее, что скажет… Она даже забыла на миг, что собирается купить убийце орудие, которым тот будет резать глотки и распарывать животы.
В ту минуту он был для нее не бандитом, а героем, не душегубом, а воином; а прежде всего — мужчиной. И еще, невысказанное и даже толком не додуманное, у нее в голове вертелось: его клинок сломан, а сам он, раненый, не может очнуться. Может, если у него будет целый нож… Это как амулет…
Все-таки купила.
И вот, стоя у его постели, спрятав подарок за спину, Саша ждала, пока он ощутит ее или хотя бы почувствует близость лезвия. Обритый дернулся, захрипел, стал харкать словами, но так и не очнулся: тьма слишком крепко его держала.
До сих пор Саша никогда не произносила его имени не только вслух, но и про себя. Прежде чем громко позвать его, она прошептала это имя, как бы испытывая его, и наконец решилась:
— Хантер!
Обритый затих, прислушиваясь, словно она находилась где-то невообразимо далеко и ее голос долетал до него едва уловимым эхом, но так и не откликнулся. Саша повторила еще раз — громче, настойчивей. Она не собиралась отступать, пока он не откроет глаза. Ей хотелось стать его туннельным огоньком.
В коридоре кто-то удивленно вскрикнул, зашаркали сапоги, и Саша, чтобы не терять время, присела на корточки и положила нож на тумбочку у изголовья койки.
— Это тебе, — сказала она.
Стальные пальцы сомкнулись вокруг Сашиной кисти в хватке, способной искрошить ей кости. Раненый сумел приподнять веки, но его взгляд неосмысленно бродил вокруг, ни на чем не задерживаясь.
— Спасибо тебе… — Девушка не делала попыток высвободить зажатую капканом руку.
— Что вы здесь делаете?!
К ней подскочил рослый детина в засаленном белом халате, ужалил обритого шприцом, и тот сразу обмяк. Рывком поднимая Сашу на ноги, санитар сквозь стиснутые зубы шипел:
— Ты что, не понимаешь? Он в таком состоянии… Доктор запретил…
— Это ты не понимаешь! Он должен за что-то держаться, а от ваших уколов у него руки разжимаются…
Он подтолкнул Сашу к выходу, но та, пролетев несколько шагов, развернулась и упрямо зыркнула на него исподлобья.
— Чтобы я тебя здесь больше не видел! А это еще что такое? — Он заметил нож.
— Это его… Я ему принесла, — замялась Саша. — Если бы не он… меня бы эти твари на части разорвали.
— А меня доктор разорвет, если узнает, — буркнул санитар. — Все, проваливай!
Но Саша задержалась еще на мгновенье и, снова обращаясь к утопшему в лекарственном дурмане Хантеру, договорила-таки:
— Спасибо. Ты меня спас.
Шагнула вон из палаты и вдруг услышала тихое, надсадное:
— Я только хотел убить его… Чудовище…
Дверь хлопнула ей в лицо, и в замке лязгнул ключ.
* * *
Нож предназначался для чего-то другого, Гомер сразу понял это. Довольно было раз услышать, как девчонка зовет барахтающегося в топком бреду бригадира — и требовательно, и нежно, и жалобно. Уже готовый вмешаться, старик смутился и отступил: здесь ему не надо было никого спасать. Помочь он мог только одним: побыстрее убраться вон, чтобы не спугнуть Сашу.
Как знать, вдруг она была права? Ведь на Нагатинской Хантер напрочь позабыл о своих спутниках, бросив их на растерзание призрачным циклопам. А в этом бою… Неужели для бригадира девчонка могла что-то значить?
Задумавшись, Гомер побрел по коридору в свою палату. Навстречу ему протопал санитар, толкнул старика плечом, но тот даже не обратил на него внимания. Пора отдать Саше вещицу, которую он для нее купил на рынке, сказал себе Гомер. Похоже, та ей скоро пригодится.
Он достал из ящика стола пакет, покрутил его в руках. Девчонка ворвалась в комнату через несколько минут — напряженная, растерянная и злая. С ногами забралась на свою кровать, уставилась в угол. Гомер ждал — разразится гроза или минует? Саша молчала, только принялась обгрызать ногти. Наставало время для решительных действий.
— У меня для тебя подарок. — Старик вылез из-за стола и положил сверток на покрывало рядом с девушкой.
— Зачем? — клацнула она клешней, не показываясь из раковины.
— А зачем вообще люди дарят друг другу что-то?
— Чтобы заплатить за добро, — уверенно ответила Саша. — Которое им уже сделали или о котором они потом попросят.
— Тогда будем считать, я плачу тебе за добро, которое ты мне уже сделала, — улыбнулся Гомер. — Больше мне тебя просить не о чем.
— Я тебе ничего не сделала, — возразила девушка.
— А как же моя книга? Я тебя в ней уже поселил. Надо рассчитаться, не хочу быть в долгу. Все, давай, разворачивай. — Он подпустил в тон шутливого раздражения.
— Я тоже не люблю быть должна, — сказала Саша, разрывая обертку. — Что это? Ой!
Она держала в руках красный пластмассовый диск, плоскую коробочку, раскрывающуюся пополам. Когда-то это была дешевенькая походная пудреница, но оба лотка — для пудры и румян — давно опустели. Зато зеркальце, вставленное во внутреннюю часть крышки, сохранилось отлично.
— Тут видно лучше, чем в луже. — Саша забавно выпучила глаза, изучая свое отражение. — Зачем ты мне это дал?
— Иногда полезно увидеть себя со стороны, — усмехнулся Гомер. — Помогает многое о себе понять.
— И что я должна о себе понять? — насторожилась она.
— Есть люди, которые никогда не видели своего отражения и поэтому всю жизнь принимают себя за кого-то другого. Изнутри часто бывает плохо видно, а подсказать некому… И пока они случайно не натолкнутся на зеркало, будут продолжать заблуждаться. И даже когда посмотрят на отражение, часто не могут поверить, что видят самих себя.
— И кого я в нем вижу? — настаивала она.
— Ты скажи мне. — Он сложил руки на груди.
— Себя. Ну… девчонку. — Чтобы удостовериться, она повернулась к зеркальцу одной щекой, потом другой.
— Девушку, — поправил ее Гомер. — И довольно неряшливую.
Она покрутилась еще немного, потом стрельнула в Гомера глазами, собираясь что-то спросить, передумала, помолчала, все же набралась духу и выпалила, заставив старика поперхнуться:
— Я урод?
— Трудно сказать. — Он еле удерживал в узде расползающиеся уголки губ. — Под грязью не видно.
— Так в этом дело? — Саша вскинула брови. — Мужчины что, не чувствуют женскую красоту? Вам надо все показывать и объяснять?
— Пожалуй, что так. И пользуясь этим, нас часто обманывают, — рассмеялся Гомер. — Краски способны творить с женским лицом настоящие чудеса. Но в твоем случае речь идет не о реставрации портрета, а скорее о раскопках. По торчащей из земли пятке античной статуи сложно судить о ее красоте. Хотя почти наверняка она прекрасна, — снисходительно добавил он.
— Что такое «античная»? — Саша искала подвох.
— Древняя, — продолжал забавляться Гомер.
— Мне только семнадцать! — запротестовала она.
— Это выяснят уже позже. Когда раскопают. — Старик с невозмутимым видом уселся обратно за стол, раскрыл тетрадь на последней заполненной странице и принялся перечитывать записи, постепенно мрачнея.
Если раскопают. И девочку, и его самого, и всех остальных. Когда-то он развлекал себя такими размышлениями: что, если через тысячелетия археологи, изучая развалины старой Москвы, от которой тогда уже и имени не останется, найдут один из входов в подземные лабиринты? Решат, наверное, что наткнулись на гигантское массовое захоронение, — вряд ли ведь кому-то придет на ум, что люди могли жить в этих темных катакомбах. Некогда высокоразвитая культура на закате своего существования явно деградировала, определят они: вождей погребали в склепах вместе со всем скарбом, оружием, прислугой и наложницами.
В его тетради оставалось еще восемьдесят с лишним чистых листов. Хватит ли, чтобы вместить оба мира — и тот, что лежал на поверхности, и тот, что находился в метро?
— Ты меня не слышишь? — Девчонка потрясла его за руку.
— Что? Прости, задумался. — Он потер лоб.
— А древние статуи правда красивые? Ну, то, что казалось людям красивым раньше, еще остается красивым сегодня?
— Да. — Старик пожал плечами.
— И завтра останется? — продолжала допытываться она.
— Наверное. Если будет кому оценить.
Саша задумалась и смолкла; Гомер, опять съезжая в колею своих невеселых раздумий, не торопил беседу.
— То есть, красота без человека не существует? — наконец озадаченно спросила Саша.
— Нет, наверное, — рассеянно ответил он. — Если некому ее видеть… Ведь животные неспособны…
— А если звери отличаются от людей тем, что не видят разницы между прекрасным и уродливым, — задумалась Саша, — значит, без красоты человек тоже не может существовать?
— Может вполне, — покачал головой старик. — Многие в ней совсем не нуждаются.
Девчонка запустила руку в карман и вытащила из него непонятный предмет: разрисованный квадратик то ли из полиэтилена, то ли из пластика. Робко и вместе с тем гордо, будто открывала великое сокровище, Саша протянула его Гомеру.
— Что это? — спросил тот.
— Ты скажи мне, — хитро улыбнулась она.
— Ну, — он осторожно взял квадратик в руки, прочитал надписи, вернул его девушке, — упаковка от чайного пакетика. С картинкой.
— С картиной, — поправила она его. — С красивой картиной, — добавила она с вызовом. — Если бы не она, я бы… озверела.
Гомер глядел на нее, ощущая, как набухают глаза, как приближаются слезы и становится труднее дышать. Сентиментальный дурак, хлестнул он себя. Прокашлялся, вздохнул.
— Ты никогда не поднималась наверх, в город? Кроме этого раза?
— А что? — Саша спрятала пакетик обратно. — Хочешь сказать мне, что там все не так, как на картине? Что такого вообще не бывает? Я сама все это знаю. Знаю, как выглядит город — дома, мост, река. Страшно и пусто.
— Наоборот, — откликнулся старик. — Прекраснее этого города я ничего не видел. А ты… судишь о целом метро по одной шпале. Я, наверное, тебе описать это даже не сумею. Здания выше любых скал. Проспекты, бурлящие, как горные потоки. Негаснущее небо, светящийся туман… Город тщеславный, сиюминутный — как любой из миллионов его жителей. Безумный, хаотический. Весь состоящий из сочетаний несочетаемого, построенный безо всяких планов. Не вечный, потому что вечность слишком холодна и неподвижна. Но такой живой! — Он сжал кулаки, потом махнул рукой. — Тебе не понять. Это надо самой видеть…
В тот миг он уже и сам верил, что, поднимись Саша на поверхность, ей тоже явится призрак того города; верил, совершенно позабыв, что для этого нужно было знать его при жизни.
* * *
Старик смог как-то договориться, и ее пропустили за кордон Ганзы — под конвоем, будто на расстрел, отвели через всю станцию в служебные помещения, где находилась местная баня.
Общее у двух Павелецких было только название, будто двух сестер разлучили при рождении и одна попала в богатую семью, а другая росла на голодном полустанке или вовсе в туннелях. Радиальная получилась грязноватой, бесшабашной, но легкой и просторной. Кольцевая — низкая, коренастая, прилично освещенная и начищенная до блеска, с первого взгляда выдавала свой характер — хозяйственный и прижимистый. В эти часы здесь было немноголюдно — наверное, все, кто не работал на станции, предпочитал балаган Радиальной чинной строгости Кольцевой.
В раздевалке она была одна. Стены, выложенные аккуратным желтым кафелем, пол в колотой многогранной плитке, крашеные железные шкафчики для обуви и одежды, электрическая лампочка на лохматом проводе, две обитых резаным дерматином скамьи… Внутри у нее все замерло от восторга.
Тощая усатая банщица выдала ей полотенце невероятно белого цвета и твердый кирпичик серого мыла, разрешила запереть душевую на засов.
И клеточки полотенца, и тошнотворный мыльный запах — все это принадлежало далекому-далекому прошлому, когда Саша была любимой и оберегаемой комендантской дочкой. Она и забыла, что где-то все эти вещи еще существуют.
Саша расстегнула задубевший от грязи комбинезон, выбралась из него поскорее. Стянула футболку, сбросила шорты и вприпрыжку понеслась к обметанной ржавчиной трубе с самодельной лейкой. Через силу, скользя пальцами по обжигающему железному вентилю, высвободила горячую воду… Кипяток! Прижимаясь к стенке, чтобы уберечься от шпарящих брызг, крутанула другой. Наконец смешала холод и жар в нужном соотношении, прекратила свою пляску и вся растворилась в воде.
А в зарешеченный слив вместе с пузырчатой водой стекали пыль, сажа, машинное масло, кровь — и Сашина, и других людей, усталость и отчаяние, вина, тревога. Прошло немало времени, прежде чем вода посветлела.
Хватит ли этого, чтобы старик перестал ее подначивать, думала Саша, будто чужие разглядывая свои розовые распаренные ступни, изучая непривычно белые ладони. Хватит ли, чтобы ее мужчины могли углядеть ее красоту? Может, Гомер был прав и ей глупо было приходить к раненому, не приведя себя в порядок? Наверное, таким вещам еще придется учиться.
Заметит ли он, как Саша переменилась? Она завернула вентили, прошлепала в раздевалку, раскрыла подаренное зеркало… Нет, не обратить на это внимание было невозможно.
Горячая вода помогла ей разжаться, побороть сомнения. Своими странными словами о чудовище обритый не хотел ее оттолкнуть. Он просто не успел еще очнуться и обращался не к ней, а лишь продолжал ожесточенный спор, который вел с кем-то в своем кошмаре. Ей нужно только дождаться, когда он придет в себя, и в эту минуты оказаться с ним рядом, чтобы… Чтобы Хантер сразу увидел ее и чтобы сразу понял. А что после? Незачем ей об этом думать. Он достаточно опытен, чтобы она могла во всем ему довериться.
Вспоминая, как обритый мечется в бреду, Саша чувствовала, пусть и не могла объяснить, как Хантер искал ее, потому что она была способна успокоить его, принести облегчение от жара, помочь ему обрести равновесие. И чем больше она об этом думала, тем жарче становилось ей самой.
Засаленный комбинезон у нее отняли, обещав выстирать, взамен вручили истончившиеся светло-синие брюки и дырявый свитер с горлом. В новой одежде ей было тесновато и неуютно. К тому же, пока ее вели обратно через пограничные посты в лазарет, к брюкам и свитеру липли почти все мужские взгляды, и, когда Саша добралась до своей кровати, ей уже снова хотелось в душ.
Старика в комнате не оказалось, но скучать в одиночестве ей не пришлось. Через несколько минут дверь скрипнула, и внутрь заглянул доктор.
— Ну что, поздравляю. Можете навестить. Очнулся.
* * *
— Какое сегодня число?
Бригадир приподнялся на локте, тяжело поводя головой, и впился глазами в Гомера. Тот зачем-то схватился за запястье, хотя часов давно уже не носил, развел руками.
— Второе. Второе ноября, — подсказал санитар.
— Трое суток — Хантер сполз на подушку. — Трое суток провалялся. Опаздываем. Надо идти.
— Далеко не уйдешь, — попытался урезонить его санитар. — В тебе и крови-то почти не осталось.
— Надо идти, — не обращая на него внимания, повторил бригадир. — Времени мало… Бандиты… — и вдруг осекся. — Зачем тебе респиратор?
Старик готовился к этому вопросу; у него было целых три дня, чтобы выстроить линии обороны и спланировать контрнаступление. Беспамятство Хантера избавляло его от ненужных признаний: теперь их можно было заменить продуманной ложью.
— Нет никаких бандитов, — прошептал он, склонившись над постелью раненого. — Пока ты был в бреду… Все время разговаривал. Я все знаю.
— Что знаешь?! — Хантер сгреб его за ворот, рванул к себе.
— Про эпидемию на Тульской… Все в порядке. — Старик умоляюще замахал рукой, удерживая санитара, который бросился было оттаскивать его от бригадира. — Я справлюсь. Нам нужно поговорить, могу я вас попросить…
Санитар нехотя уступил, накрыл иглу шприца колпачком и вышел из палаты, оставив их наедине.
— Про Тульскую… — Хантер еще не спускал со старика бешеного, воспаленного взгляда, но мало-помалу зажим ослабевал. — Ничего больше?
— Только это. Что на станции очаг неизвестной инфекции. Что передается по воздуху… Что наши установили карантин, ждут помощи.
— Так. Так… — бригадир отпустил его. — Да. Эпидемия. Боишься заразиться?
— Береженого бог бережет, — осторожно ответил Гомер.
— Ну да. Ничего… Я близко не подходил, сквозняк был в их сторону… Не должен.
— Зачем эта история про бандитов? Что собираешься делать? — расхрабрился старик.
— Сначала на Добрынинскую, договориться. Потом зачистить Тульскую. Нужны огнеметы. Иначе никак…
— Заживо сжечь всех на станции? А наших? — Старик еще продолжал надеяться, что слова об огнеметчиках, брошенные бригадиром, были таким же обманным маневром, как и все прочее, что тот говорил начальству Севастопольской.
— Почему заживо… Трупы. Нет выхода. Всех зараженных, всех контактеров. Весь воздух. Я слышал об этой болезни… — Хантер закрыл глаза, облизнул растрескавшиеся губы. — Лекарства нет. Пару лет назад была вспышка… Две тысячи трупов.
— Но ведь она остановилась?..
— Блокада. Огнеметы. — Бригадир повернул к старику свое обезображенное лицо. — Нет другого средства. Если вырвется… Хоть один человек. Всем конец. Да, врал про бандитов. Иначе Истомин не разрешил бы перебить всех. Слишком мягкий. А я приведу тех, кто не задает вопросов.
— А вдруг есть люди, у которых иммунитет? — робко начал Гомер. — Вдруг там есть здоровые? Я… Ты говорил… Вдруг их еще можно спасти?
— Не бывает иммунитета. Все контактеры заражаются. Там нет здоровых людей, есть только более живучие, — отрезал бригадир. — Для них же хуже. Дольше будут мучиться. Поверь… Это им нужно, чтобы я их… чтобы их прикончили.
— А вот тебе это зачем? — На всякий случай старик отодвинулся подальше от койки.
Хантер устало смежил веки — и опять Гомер заметил, что тот его глаз, что находился на изуродованной половине лица, не может полностью закрыться. Ответа бригадир не давал так долго, что старик собрался уже бежать за доктором.
Но потом, медленно и раздельно, словно отправленный гипнотизером в бесконечно далекое прошлое за утерянными воспоминаниями, сквозь стиснутые зубы тот произнес:
— Я должен. Защищать людей. Устранять любую опасность. Я только для этого.
* * *
Нашел ли он нож? Понял ли, что это от нее? Вдруг не разгадает или не увидит ли в нем обещание? Она летела по коридору, отгоняя досаждавшие ей мысли, не зная еще, что она сейчас ему скажет… Как жаль, что он пришел в сознание раньше, чем она оказалась у его постели!
Саша застала почти весь разговор — замерев на пороге и отпрянув, когда речь зашла об убийствах. Конечно, расшифровать все она не могла, но ей это было и ни к чему. Самое важное она уже услышала. Больше ждать было незачем, и Саша громко постучалась.
У старика, поднимавшегося ей навстречу, лицо было сведено отчаянием. Гомер еле двигался, будто ему тоже достался обессиливающий укол и фитиль в его зрачках кто-то вывернул. Саше он ответил безвольным кивком — словно висельника дернули кверху за веревку.
Девушка присела на краешек нагретого табурета, прикусила губу и задержала дыхание, прежде чем ступить в новый неизведанный туннель.
— Тебе понравился мой нож?
— Нож? — Обритый осмотрелся, наткнулся на черный клинок и, не прикасаясь к нему, настороженно уставился на Сашу. — Это еще что такое?
— Это тебе. — Ей будто в лицо поддали паром. — Твой сломался. Когда ты… Спасибо…
— Странный подарок. Ни от кого не принял бы такой, — после тяжелого молчания промолвил он.
В его словах ей почудился полунамек, многозначительная недоговоренность, и она, принимая игру, но не зная всех ее правил, стала подбирать слова на ощупь. Выходило неуклюже, неверно, но ее язык вообще плохо подходил для того, чтобы описывать то, что творилось у Саши внутри.
— Ты тоже чувствуешь, что у меня есть кусок тебя? Тот кусок, который из тебя вырвали… Который ты искал? Что я могу тебе его отдать?
— Что ты несешь? — Он плеснул в нее ледяной водой.
— Нет, ты чувствуешь это, — ежась, настаивала Саша. — Что со мной ты станешь целым. Что я могу быть с тобой и что я должна. Иначе зачем ты взял меня с собой?
— Уступил напарнику. — Его голос был бесцветен и пуст.
— Почему защитил от людей на дрезине?
— Я убил бы их в любом случае.
— Зачем тогда ты спас меня от той твари на станции?!
— Надо было уничтожить их всех.
— Лучше бы она меня сожрала!
— Ты недовольна, что осталась в живых? — непонимающе переспросил он. — Так поднимись наверх по эскалатору, там таких еще много.
— Я… Ты хочешь, чтобы я…
— Я ничего от тебя не хочу.
— Я помогу тебе остановиться!
— Ты цепляешься за меня.
— Ты не чувствуешь, что.
— Я ничего не чувствую. — На вкус его слова отдавали ржавой водой.
Даже страшная клешня белесого чудовища не смогла достать ее так глубоко. Саша вскочила, раненая, метнулась вон из палаты. По счастью, ее комната была пуста. Она забилась в угол, свернулась в клубок. Поискала в кармане зеркало — хотела вышвырнуть его прочь, — но не нашла; кажется, выронила у постели обритого.
Когда слезы подсохли, она уже знала, что ей делать. Сборы не заняли у нее много времени. Старик простит ей, что она украла его автомат, — он, наверное, простит ей что угодно. Брезентовый защитный костюм, отчищенный и обеззараженный, ждал ее в подсобке, безвольно свисая с крюка. Словно какой-то колдун выпотрошил и проклял убитого толстяка, заставив его и после смерти везде следовать за Сашей и исполнять ее волю.
Она влезла в него, вывалилась в коридор, прокатилась по переходу и поднялась на платформу. Где-то по пути ее лизнул ручеек волшебной музыки, источник которой она так и не обнаружила в прошлый раз. Не нашлось на поиски лишних минут и сейчас. Приостановившись лишь на мгновенье, Саша преодолела искушение и двинулась дальше к цели своего похода.
Днем на посту у эскалатора дежурил только один дозорный: в светлое время суток создания с поверхности никогда не тревожили станцию.
На объяснения у нее не ушло и пяти минут: путь наверх здесь был открыт всегда, невозможно по эскалатору было только спуститься. Оставив сговорчивому дозорному полупустой автоматный рожок, Саша поставила ногу на первую из ступеней лестницы, ведущей прямо к небу.
Подтянула сползающие штаны и вознеслась.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. ЗНАКИ
Дома, на Коломенской, до поверхности было совсем недалеко — ровно пятьдесят шесть плоских ступеней. Но Павелецкая забралась под землю куда глубже. Карабкаясь по скрипучему, истерзанному пулеметными очередями эскалатору, Саша не видела этому подъему конца. У ее фонаря доставало сил только на то, чтобы вырвать у темноты битые стаканы эскалаторных светильников да ржавые покосившиеся щиты с изображениями чьих-то тусклых лиц и крупными буквами, которые складывались в бессмысленные слова.
Зачем ей наверх? Зачем умирать?
Но кому она нужна внизу? Действительно нужна как человек, а не как действующее лицо ненаписанной книжки?
Стоило ли и дальше обманывать себя?
Когда Саша уходила с опустевшей Коломенской, оставляя там тело своего отца, ей казалось, что она осуществляет их давний план бегства. Уносит его частичку в себе, хотя бы так помогая ему освободиться. Но с тех пор он ни разу ей не приснился, а когда она пыталась вызвать его образ в своем воображении, чтобы поделиться увиденным и пережитым, тот выходил зыбким и безгласным. Отец не мог простить ее и не хотел такого спасения.
Среди добытых им книг, которые Саша успела пролистать, прежде чем обменять их на еду и патроны, ей особенно запомнился старый ботанический справочник. Иллюстрации в нем были условными: помутневшие от времени черно-белые фотографии и карандашные чертежи. Но в прочих книгах, которые ей доставались, картинок не встречалось вовсе, и эта у Саши была любимая. А больше всех остальных растений в справочнике ей нравился вьюнок. Даже нет, не нравился — она сочувствовала вьюнку, узнавая в нем себя. Ведь она точно так же нуждалась в опоре. Чтобы расти ввысь. Чтобы добраться до лучей света.
И сейчас инстинкт требовал от нее найти могучий ствол, к которому она могла бы прильнуть, обнять и обвить его. Не для того, чтобы жить соками чужого тела, не для того, чтобы отнимать у него свет и тепло. Просто потому, что без него она была слишком мягка, слишком гибка, бесхребетна, чтобы выстоять, и в одиночку была бы вынуждена всегда стлаться по земле.
Отец говорил Саше, что она не должна ни от кого зависеть и ни на кого полагаться. Ведь, кроме него, на их забытом полустанке полагаться ей было не на кого, а он знал, что не вечен. Отец хотел, чтобы она выросла не плющом, а корабельной сосной, забывая, что это противоречит женской природе.
Саша выжила бы без него. Выжила бы она и без Хантера. Но слияние с другим человеком казалось ей единственной причиной думать о будущем. Когда на мчавшейся дрезине она обвила его руками, ей почудилось, что ее жизнь обрела новый стержень. Она помнила, что доверяться другим опасно, а зависеть от них — недостойно, и, пытаясь признаться обритому, переступала через себя.
Саша хотела приникнуть к нему, а он считал, что она цепляется за его сапоги. Оставленная без опоры и втоптанная в землю, она не собиралась униженно продолжать поиски. Он прогнал ее наверх — что ж, так тому и быть. Если с ней что-нибудь случится на поверхности, вина будет на нем; лишь в его силах и помешать этому.
Наконец ступени закончились. Саша оказалась на краю просторного мраморного зала, рифленый железный потолок которого местами обвалился. Сквозь далекие пробоины хлестали ярчайшие лучи удивительного серовато-белого окраса, и их брызги долетали даже до того закутка, где она находилась. Потушив фонарь и затаив дыхание, Саша крадучись двинулась вперед.
Выбоины от пуль и осколков на стенах у устья эскалатора свидетельствовали, что человек когда-то бывал в этих местах. Но уже в нескольких десятках шагов начинались владения других существ. Кучки засохшего помета, разбросанные всюду обглоданные кости и клочья шкур указывали на то, что Саша оказалась в сердце звериного логова.
Пряча глаза, чтобы не опалить их, она шла к выходу. И чем ближе Саша подбиралась к его источнику, тем гуще становилась тьма в укромных углах залов, через которые она ступала. Учась смотреть на свет, Саша теряла способность чувствовать темноту.
Остовы перевернутых будок, груды невообразимого хлама и каркасы расклеванной техники переполняли следующие залы. Теперь ей становилось ясно, что люди превратили наружные павильоны Павелецкой в перевалочный пункт, куда стаскивали все добро из окрестностей, пока более сильные создания не вытеснили их отсюда.
Иногда в темных углах Саше чудилось еле заметное шевеление, но она все списывала на свою растущую слепоту. Гнездящийся там мрак был уже слишком густым, чтобы она могла различить в нем сливающиеся с мусорными горами уродливые силуэты дремлющих чудовищ.
Монотонно ноющий сквозняк заслонял их тяжелое сопение, и Саша различила его, лишь проходя в нескольких шагах от колышущейся громады. Прислушалась настороженно, потом, замерев, всмотрелась в очертания опрокинутого киоска, обнаруживая в его изломах странный горб… И обомлела.
Холм, в котором была погребена будка, дышал. Дышали и почти все остальные груды, в окружении которых она находилась. Чтобы удостовериться, Саша щелкнула кнопкой и направила фонарь на одну из них. Бледный лучик уперся в жирные складки белой кожи, побежал дальше по необъятному телу и распался, так и не дотянувшись до его края. Это был один из собратьев химеры, которая чуть не убила Сашу на Павелецкой, и куда более крупный, чем та тварь.
Создания находились в странном оцепенении и, кажется, не замечали ее. Но вот ближайшее к ней внезапно взрыкнуло, шумно всосало воздух через косые прорези ноздрей, заворочалось… Спохватившись, Саша спрятала фонарик и заторопилась прочь. Каждый следующий шаг по этому жуткому лежбищу давался ей все сложнее: чем дальше от спуска в метро она продвигалась, тем плотнее прибивались друг к другу химеры и тем труднее было найти тропку между их телами.
Поворачивать назад было поздно. Сашу сейчас совсем не беспокоило, как она сумеет вернуться в метро. Пройти бы неслышно, не потревожив ни одно из этих существ, выбраться наружу, оглядеться по сторонам, попробовать… Лишь бы они не очнулись от спячки, лишь бы выпустили ее отсюда; а обратного пути ей искать не придется.
Не осмеливаясь глубоко дышать, пытаясь даже не думать — вдруг они услышат, — она медленно приближалась к выходу. Предательски хрустнула под сапогами разбитая плитка. Еще один неверный шаг, случайный шорох — они проснутся и вмиг разорвут ее на части.
А Саша не могла освободиться от мысли, что совсем недавно — еще вчера или даже сегодня — она брела уже вот так меж спящих чудовищ… По крайней мере, это странное чувство ей отчего-то было знакомо.
Она застыла на месте.
Саша знала, что чужой взгляд иногда можно ощутить затылком. Но у этих созданий не было глаз, и то, чем они ощупывали пространство вокруг себя, было намного материальней и настойчивей любого взгляда.
Ни к чему было оборачиваться назад, чтобы понять: ей в спину тяжело уставилось создание, пробудившееся несмотря на всю ее осторожность. Но она обернулась.
* * *
Девчонка куда-то запропастилась, однако у Гомера в ту минуту не было ни малейшего желания бросаться на ее поиски, как не было и никаких других желаний.
Если дневник связиста еще оставлял старику толику надежды, что болезнь обойдет его стороной, то Хантер оказался безжалостен. Заводя с очнувшимся бригадиром тщательно подготовленную беседу, старик будто подавал апелляцию на свой смертный приговор. Но тот не хотел его пощадить — да и не мог. Гомер был один виноват в том, что с ним неизбежно произойдет.
Всего пара недель или еще меньше. Всего десять заполненных страниц. И все то, что надо успеть ужать и втиснуть в оставшиеся чистые листы в тетради с клеенчатой обложкой. Помимо желаний у Гомера имелся и долг, а вынужденный привал, похоже, подходил к концу.
Он расправил бумагу, намереваясь подцепить повествование с того места, где в прошлый раз отвлекся на крики врачей. Но вместо этого рука сама вывела прежнее: «Что останется после меня?»
А что после несчастных, запертых на Тульской, думал он, возможно — отчаявшихся, возможно — еще ждущих подмоги, но так или иначе обреченных на жестокую расправу? Память? Но так мало было людей, о которых до сих пор нашлось бы кому помнить.
Да и воспоминания — непрочный мавзолей. Скоро старика не станет, и вместе с ним сгинут все те, кого он знал. Канет в ничто и его Москва.
Где он сейчас, на Павелецкой? Садовое теперь лысо и мертво — в последние часы его расчистила и оцепила военная техника, чтобы дать возможность работать службам спасения и двигаться эскортам с мигалками. Гнилыми, наполовину выпавшими зубами особняков скалятся проезды и переулки… Старик без труда мог представить себе здешний пейзаж, хоть он никогда и не поднимался из метро на этой станции.
А вот до войны ему частенько случалось тут бывать — назначал будущей жене свидания в кафе рядом с метро, потом шли в кино на вечерний сеанс. И здесь же неподалеку он проходил платную, сугубо небрежную медкомиссию, когда собирался получать водительские права. А еще на этом вокзале садился на электричку, договорившись ехать с сослуживцами на шашлыки в летний лес…
Он смотрел в расчерченную на клетки бумагу и видел в ней привокзальную площадь, купающуюся в осеннем тумане, две тающих в дымке башни: претенциозный офисный новодел на Кольце — там работал один его приятель, и, чуть поодаль, закрученный шпиль дорогой гостиницы, пришитой к дорогому концертному залу. Когда-то он приценивался к билетам: они стоили чуть больше, чем Николай зарабатывал за две недели.
Он видел и даже слышал тренькающие угловатые бело-голубые трамваи, переполненные недовольными пассажирами, такими трогательными в своем раздражении этой безобидной давкой. И само Садовое кольцо, празднично мигающее десятками тысяч фар и поворотников, объединенных в одну замкнутую гирлянду. И несмелый, неуместный снег, тающий прежде, чем лечь на черный асфальт. И толпу — мириады наэлектризованных частиц, возбужденных, сталкивающихся, вроде бы хаотически мечущихся, а на деле — движущихся каждая по своему осмысленному маршруту.
Видел ущелье сталинских монолитов, из которого на площадь лениво вытекала великая река Садового. Сотни и сотни зажигающихся окон-аквариумов по обе стороны от него. И еще неоновые сполохи вывесок и титанические рекламные щиты, стыдливо прикрывающие развороченную рану, куда скоро имплантируют новый многоэтажный протез…
Который так никогда и не достроят.
Смотрел и понимал, что словами ему все равно не передать этой великолепной картины. Неужели от всего этого останутся только замшелые, просевшие надгробия делового центра и фешенебельной гостиницы?
Она не объявилась ни через час, ни через три. Обеспокоенный, Гомер обошел весь переход, допросил торговцев и музыкантов, переговорил со звеньевым ганзейского караула. Ничего. Как сквозь землю…
Не находя себе места, старик опять прибился к дверям комнаты, где лежал бригадир. Последний человек, с которым можно было бы советоваться по поводу пропажи девчонки. Но кто у Гомера сейчас еще оставался? Он кашлянул и заглянул внутрь.
Хантер лежал, тяжело дыша, уперев взгляд в потолок. Его правая рука — целая — была выпростана из-под покрывала, а крепко сжатый кулак совсем недавно ссажен. Неглубокие царапины сочились сукровицей, пачкая постель, но бригадир этого не замечал.
— Когда готов выходить? — спросил он у Гомера, не поворачиваясь к нему.
— Я-то хоть сейчас, — замялся старик. — Тут такое дело… Девочку найти не могу. Да и как ты пойдешь? Ты же весь…
— Не умру, — ответил бригадир. — А смерть — не самое страшное. Собирайся. Я буду на ногах через полтора часа. Двинемся к Добрынинской.
— И часа хватит, но мне надо ее найти, я хочу, чтобы она и дальше с нами… Мне очень надо, понимаешь? — заспешил Гомер.
— Через час я уйду, — отрезал Хантер. — С тобой или без тебя… И без нее.
— Ума не приложу, куда она могла запропаститься! — Старик расстроенно вздохнул. — Знать бы…
— Я знаю, — ровно произнес бригадир. — Но тебе ее оттуда точно не достать. Собирайся.
Гомер попятился, заморгал. Он привык полагаться на сверхъестественное чутье своего спутника, но сейчас отказывался ему верить. Вдруг Хантер опять лжет — на сей раз, чтобы избавиться от лишней обузы?
— Она мне сказала, что нужна тебе…
— Мне нужен ты. — Хантер чуть наклонил к нему голову. — А тебе — я.
— Зачем? — прошелестел Гомер, но бригадир услышал его.
— От тебя многое зависит. — Он медленно моргнул, но старику вдруг показалось, что бездушный бригадир ему подмигивает, и его бросило в холодный пот.
Кровать протяжно скрипнула: Хантер, стиснув зубы, сел.
— Выйди, — попросил он старика. — И собирайся, если хочешь успеть.
Но прежде, чем убраться, Гомер задержался еще на секунду — подобрать сиротливо валявшуюся в углу красную пластмассовую пудреницу. По ее крышке бежали трещины, петли выгнулись и разошлись.
Зеркало было вдребезги разбито.
Старик резко обернулся к бригадиру.
— Я не смогу без нее уйти.
* * *
Она была почти вдвое выше Саши; ее голова упиралась в потолок, а когтистые лапы свисали до пола. Саша видела, как молниеносно перемещаются эти твари, с какой непостижимой скоростью нападают. Чтобы достать девушку, чтобы одним движением прикончить ее, такому существу было достаточно выбросить вперед одну из конечностей. Но оно почему-то медлило.
Стрелять не было смысла, да у Саши и не хватило бы времени на то, чтобы поднять автомат. Тогда она сделала нерешительный шаг назад, к проходу. Химера издала негромкий стон, качнулась в сторону девушки… Однако ничего не произошло. Чудовище оставалось на своем месте, не спуская с Саши пристального слепого взора.
Она отважилась шагнуть еще раз. И еще. Не оборачиваясь к твари спиной, не показывая ей своего страха, она постепенно приближалась к выходу. Создание как заговоренное плелось за Сашей, лишь немного от нее отставая, будто провожая ее до дверей.
И только когда девушка, оказавшись всего в десятке метров от нестерпимо сияющего проема, не выдержала и кинулась бежать, тварь взревела и тоже метнулась вперед. Саша вылетела наружу, зажмурилась и, ничего не видя вокруг себя, неслась вперед, пока не споткнулась и не покатилась кубарем по шершавой твердой земле…
Она ждала, что химера настигнет и в клочья раздерет ее, но преследователь отчего-то позволил ей уйти. Прошла тягучая минута, еще одна… Вокруг стояла тишина.
Саша не открывала глаз, пока не нашарила в сумке купленные у дозорного самодельные очки — два бутылочных донышка из темного стекла, схваченные жестяными кольцами и посаженные на полоску жгута. Очки натягивались сверху на противогаз так, что прозрачные зеленые кругляшки садились точно на смотровые отверстия резиновой маски.
Теперь она могла смотреть. И, медленно размыкая веки, сначала подозрительно, исподлобья, а потом все смелее, Саша оглядывала странное место, в котором очутилась.
Над ее головой было небо. Небо настоящее, яркое, огромное. Дающее больше света, чем любой прожектор, все равномерно озаренное зеленым, кое-где забитое низкими облаками, а где-то распахивающееся в подлинную бездну.
Солнце! Она увидела его сквозь истонченную облачную ткань: кружок с капсюль размером, начищенный добела, такой яркий — того и гляди проплавит дыру в Сашиных очках. Она испуганно отвела глаза. Подождала чуть и все-таки снова взглянула на него украдкой. Было в нем будто бы что-то разочаровывающее: в конце концов, просто слепящая дыра на небе, к чему его боготворить; но нет, оно завораживало, притягивало, волновало. Проем выхода из звериного логова для привыкших к темноте сиял почти так же сильно; а что, если, мелькнула у Саши мысль, солнце — это точно такой же выход, ведущий в место, где вообще никогда не бывает темно… И если до него долететь, можно вырваться с земли точно так же, как она только что выбралась из-под нее? А еще от солнца исходило слабое, еле ощутимое тепло, словно оно было живым.
Саша стояла посреди каменного пустыря, окруженного полуобвалившимися старинными постройками; черные провалы окон громоздились чуть ли не в десять рядов, такими высокими были эти дома. Строений было бесконечно много, они толкались, заслоняя друг друга от Саши, напирали, чтобы рассмотреть ее получше. Из-за высоких выглядывали здания еще выше, за теми вырисовывались очертания домов совсем уже громадных.
Поразительно, но Саша могла видеть их все! И пусть они отдавали придурковатой зеленью — как и земля под ногами, как и воздух, как и сумасшедшее, светящееся, бездонное небо, — зато сейчас ей открывались невообразимые дали.
Сколько бы Саша ни приучала свои глаза к темноте, они не были для нее предназначены. В ночное время с обрыва у метромоста ей были видны только уродливые постройки, отстоявшие на нескольких сотен метров от гермоворот. Дальше тьма наслаивалась слишком плотно, и даже рожденная под землей Саша не могла проскрести ее взглядом.
Девушка прежде не спрашивала себя всерьез, насколько велик мир, в котором она живет. Но, думая о нем, Саша всегда представляла себе небольшой сумеречный кокон: несколько сотен метров в каждую сторону, за которыми — обрыв уже окончательный, край вселенной, начало совершенной тьмы.
И хотя она знала, что на самом деле земля куда больше, но вообразить себе, как она выглядит, Саша не умела. А теперь она понимала, что ей бы это все равно не удалось, — просто потому, что, никогда не видев такого, представить это себе невозможно.
И вот странно: отчего-то ей совсем не было страшно стоять посреди этой безграничной пустоши. Раньше, вылезая из туннеля на обрыв, она чувствовала себя так, словно ее вытащили из панциря; теперь же он казался ей скорлупой, из которой она наконец вылупилась. При дневном свете любая опасность становилась заметна на большом расстоянии, и Саше с излишком хватило бы времени, чтобы спрятаться или приготовиться к обороне. Было и еще одно робкое, неизвестное ей до того чувство: будто она вернулась домой.
Сквозняк гонял по пустырю клубки, сплетенные из колючих веток, уныло дудел в расщелины между зданий, толкал Сашу в спину, требуя от нее быть храбрее, приказывая отправляться на исследование этого нового мира.
Выбора у нее, по сути, не было: чтобы спуститься в метро, ей пришлось бы снова войти в здание, кишащее жуткими существами; только вот они больше не спали. Иногда в колодцах проходов всплывали на миг белесые тела и тут же исчезали — видимо, свет дня был им неприятен. Но что будет, когда наступит ночь? До тех пор, если она рассчитывает увидеть хоть что-то из того, что живописал старик, раньше чем умрет, ей нужно убраться отсюда как можно дальше.
И Саша двинулась вперед.
Она никогда еще не ощущала себя такой маленькой. Ей не верилось, что эти гигантские здания могли строить люди с нее ростом: зачем им это? Наверное, последние предвоенные поколения выродились и измельчали… Природа готовила их к суровому существованию в тесноте туннелей и станций. А эти строения возводились гордыми предками нынешних низкорослых людей — могучими, высокими и статными, как дома, в которых они жили.
Она достигла широкой прогалины: здания здесь расступались, а земля была покрыта похожей на камень треснувшей серой коркой. Единым скачком мир стал еще огромней: отсюда открывался вид на такие дали, что у Саши защемило сердце и закружилась голова.
Присев у тронутых плесенью и мхом стен замка с тупоконечной часовой башней, подпирающей облака, она пробовала представить себе, как же должен был выглядеть этот город до того, как его покинула жизнь…
По дороге — а это, без сомнений, была дорога — шагали высокие, красивые люди в цветастых одеяниях, рядом с которыми самые нарядные платья жителей Павелецкой показались бы убогими и глупыми. В яркой толпе сновали машины, точь-в-точь похожие на вагоны метропоездов, только совсем крохотные, вмещающие всего четырех пассажиров.
Дома не были такими мрачными. Проемы окон не зияли черными дырами, а блестели чисто вымытым стеклом. И почему-то Саше виделись легкие мостки, наведенные тут и там между противоположными домами на самой разной высоте.
А небо не было таким пустым — в нем неспешно проплывали неописуемой величины самолеты, чуть не задевая брюхом крыши… Отец объяснял ей как-то, что для полета им вовсе не нужно было ничем махать, но Саше они рисовались ленивыми громадами со стрекозиными крыльями — мельтешащими, почти невидимыми и лишь чуть отливающими в зеленоватых солнечных лучах.
И еще шел дождь.
Вроде бы просто вода падала с неба, но ощущение было совершенно необыкновенное. Она смывала не только грязь и усталость — на это были способны и горячие струи из ржавой душевой лейки; небесная вода очищала людей изнутри, дарила им прощение за совершенные ошибки. Волшебное омовение стирало горечь с сердца, обновляло и омолаживало, давало и желание продолжать жить, и силы на это. Все, как говорил старик…
Саша так сильно поверила в этот мир, что под действием ее детских заклинаний он стал и вправду проступать вокруг нее. Вот она уже слышала и легкий стрекот прозрачных крыльев в вышине, и веселое щебетание толпы, и мерное постукивание колес, и гул теплого дождя. Сама собой ей вспомнилась и вплелась в эту перекличку услышанная накануне в переходе мелодия… Что-то больно кольнуло в груди.
Она вскочила и побежала по самой середине дороги наперекор людскому потоку, огибая увязшие в толчее милые вагончики машин, подставляя лицо тяжелым каплям. Старик оказался прав: здесь действительно было сказочно хорошо, поразительно красиво. Надо было только поскоблить патину и плесень времен, и прошлое начинало сиять — как цветная мозаика и бронзовые панно на брошенных станциях.
Остановилась она на набережной зеленой реки; перекинутый через нее некогда мост обрывался, едва начавшись; ей было никак не попасть на другой берег. Волшебство иссякло. Картина, казавшаяся такой настоящей, такой красочной всего мгновенье назад, поблекла и погасла. Усохшие и зачерствевшие от старости пустые дома, растрескавшаяся кожа дорог, охваченных с обочин двухметровым бурьяном, и дикая непроглядная чаща, поглотившая остатки набережной покуда хватало глаз, — вот все, что спустя секунду осталось от прекрасного призрачного мира.
И Саше вдруг стало так обидно, что ей никогда не увидеть его воочию, что выбирать ей придется между гибелью и возвращением в метро и что нигде на земле не осталось ни одного статного гиганта в ярких одеждах… Что, кроме нее, на широченной дороге, уходящей в далекую точку, где небо наползало на брошенный город, больше не было ни единой живой души.
Погода установилась отличная. Недождливая.
Саше не хотелось даже плакать. Сейчас было бы здорово просто умереть.
И, будто услышав ее пожелание, высоко над ее головой распростерла крылья огромная черная тень.
* * *
Что делать, если ему придется выбирать? Отпустить бригадира и бросить свою книгу, остаться на станции, пока он не разыщет пропавшую девчонку? Или забыть о ней навсегда и следовать за Хантером, вымарать Сашу из своего романа и по-паучьи затаиться в ожидании новых героинь?
Рассудок запрещал старику отлучаться от бригадира. Ради чего иначе весь его поход, ради чего смертельная опасность, которой он подверг себя и все метро? Он просто не имеет права рисковать своим трудом — единственным, что оправдывало все жертвы, — и уже принесенные, и будущие.
Но в ту минуту, когда он подобрал с пола разбитое зеркальце, Гомер понял, что уйти с Павелецкой, не узнав судьбу девчонки, будет настоящим предательством. А предательство рано или поздно неизбежно отравит и самого старика, и его роман. Из своей памяти Сашу он уже не вымарает никогда.
Что бы ни говорил ему Хантер, Гомер должен сделать все, чтобы найти девчонку, или хотя бы убедиться, что ее больше нет в живых. И старик с удвоенными усилиями приступил к поискам, то и дело справляясь у прохожих, который час.
Кольцевая исключена — без документов ей самой не пробраться в Ганзу. Галерея комнат и палат под переходом? Старик обследовал ее от начала до конца, дознаваясь у каждого встречного, не видел ли тот девчонку. В конце концов кто-то неуверенно ответил, что вроде бы столкнулся с ней, одетой в брезентовую защиту… Оттуда Гомер, не веря ушам и глазам, прочертил Сашин путь до огневой точки у подножья эскалатора.
— А мне-то что? Хочет — пусть идет. Очки ей хорошие спихнул, — вяло отозвался дозорный в будке. — Тебя не пущу. И так уже получил от разводящего. Там гнездо Приезжих наверху. Никто тут не ходит. Мне даже смешно стало, когда она попросилась. — Его зрачки, широкие как пистолетные стволы, тыкались в пространство, никак не попадая в старика. — Ты бы шел в переход, дед. Стемнеет скоро.
Хантер знал! Но что он имел в виду, когда говорил, что старику не под силу будет вернуть девчонку? Может, она все еще жива?..
Спотыкаясь от волнения, Гомер заторопился обратно в бригадирскую палату. Нырнул под низкую притолоку тайной дверки, проковылял по узкой лестнице, без стука распахнул дверь…
Комната была пуста: ни Хантера, ни его оружия, только раскиданы по полу ленты побуревших от высохшей крови бинтов, да валяется сиротливо пустая фляжка. Исчез из подсобки и с грехом пополам отчищенный скафандр.
Бригадир просто бросил старика, как надоевшего пса, наказав за упрямство.
***
Ее отец всегда был убежден: человеку даются знаки. Надо только уметь замечать и читать их.
Саша взглянула вверх и замерла, пораженная. Если кто-то хотел сейчас послать ей знамение, нельзя было придумать ничего более красноречивого.
Невдалеке от обрушившегося моста из темных зарослей выступала круглая древняя башня с замысловатым наконечником — самое высокое из всех окрестных зданий. Годы не пошли ему на пользу: по стенам змеились глубокие трещины, а сама башня опасно накренилась. Она давно бы уже обрушилась, если бы не чудо. Как же она раньше не обратила на это внимания?
Здание опоясывал циклопических размеров вьюнок. Его ствол был, конечно, в разы тоньше башни, но его толщины и силы с избытком хватало, чтобы удерживать разваливающееся на куски строение. Удивительное растение спиралью обвивало башню; от основного ствола отходили веточки потоньше, от тех — еще более тонкие, и все вместе они образовывали сеть, которая не позволяла зданию рассыпаться.
Верно, когда-то вьюнок весь был таким же слабым и гибким, как самые нежные и молодые из его побегов теперь. Когда-то ему приходилось цепляться за выступы и балконы башни, казавшейся вечной и нерушимой. Не будь она столь высокой, и он не вырос бы таким.
Саша зачарованно глядела на него, на спасенное им здание. Все для нее заново обретало смысл, к ней возвращалось желание бороться. Странно, ведь в ее жизни совсем ничего не переменилось. Просто вдруг снова, вопреки всему, сквозь серую корку отчаяния крошечным отростком этого вьюнка в ее душу пробилась и зазеленела надежда.
Пусть были вещи, которые ей никогда не исправить, поступки, которые невозможно отменить, и слова, которые не отозвать обратно. Но в нынешней истории оставалось еще многое, что она могла изменить, пусть пока и не знала, как. Главное, что у нее снова появились силы.
Теперь Саше казалось, что она разгадала и причину, по которой беспощадная химера позволила ей уйти невредимой: кто-то незримый удерживал чудовище на цепи, чтобы дать девушке еще один шанс.
И она была благодарна за это. Была готова простить, готова снова доказывать и сражаться; а от Хантера ей требовался лишь легчайший намек. Еще один знак.
Садящееся солнце вдруг погасло, но тут же вспыхнуло вновь. Саша задрала подбородок и краем глаза успела уловить черный стремительный силуэт, промелькнувший у нее над головой, на мгновенье заслонив собой светило, и тут же скрывшийся из виду.
Воздух взрезал свист и пронзительный вопль — промахнувшись всего чуть-чуть, на Сашу с неба скалой рухнула огромная махина. В последний миг инстинкт заставил девушку броситься наземь, и лишь это уберегло ее. Скользнув вдоль самой земли на распахнутых кожистых крыльях, невиданное чудище мощным гребком набрало высоту и принялось выписывать полукруг, заходя для новой атаки.
Саша схватилась за автомат, но тут же отказалась от бесполезной затеи. Даже выпущенная в упор очередь не смогла бы сбить с курса такую тушу; нечего было уж и думать о том, чтобы сразить ее. В нее ведь еще нужно было попасть! И девушка кинулась обратно к пустырю, с которого отправилась в свое короткое странствие, не думая о том, как спустится в метро.
Летучее чудище испустило охотничий клич и вновь ринулось к ней. Заплетаясь в чужих штанах, Саша ничком повалилась на дорогу, но извернулась и огрызнулась короткой очередью. Пули обескуражили тварь, хоть и не причинили ей никакого вреда. За выигранные секунды девушка сумела подняться на ноги и метнулась к ближайшим домам, слишком поздно сообразив, как укрыться от хищника.
В небе теперь кружили уже две тени, поддерживая себя в воздухе тяжелыми взмахами широких перепончатых крыльев. Сашин расчет был прост: прижаться к стене любого здания. Летающие чудища были слишком велики и неповоротливы, чтобы достать ее там; а дальше… Ей все равно некуда бежать.
Успела! Она приникла к стене, надеясь, что твари отступятся от нее. Но нет: им случалось загонять и более изобретательную дичь. Кошмарные создания — сперва одно, а потом и второе — опустились на землю в двух десятках шагов от девушки и, волоча за собой сложенные крылья, не спеша направились к ней.
Автоматная очередь не испугала, а лишь разгневала их; пули словно вязли в свалявшейся густой шерсти, не достигая плоти. Ближняя к Саше тварь злобно ощерилась: под вывороченным рылом и вздернутой черной губой обнажились кривые, острые как гвозди, зубы.
— Ложись!..
Саша даже не стала задумываться, откуда она слышит этот далекий голос, просто бросилась наземь ничком. Совсем близко от нее раздался взрыв; ее тряхнуло и обожгло воздушной волной. Сразу же последовал второй, за ним — взбешенный звериный визг и удаляющиеся хлопки крыльев.
Она несмело подняла голову, закашлялась, выбивая из легких пыль, осмотрелась. Неподалеку от нее дорога была выщерблена свежей воронкой и сбрызнута темной маслянистой кровью. Вырванное с мясом, валялось рядом опаленное кожистое крыло, и тут же еще несколько обугленных бесформенных кусков.
Через каменный пустырь к Саше размеренно, не пригибаясь, шагал могучего сложения человек в тяжелом защитном костюме.
Хантер!
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. ОДНА ИСТОРИЯ
Он взял ее за руку, помогая подняться, и потянул за собой. Потом, словно опомнившись, отпустил. Его глаза, скрытые особым дымчатым стеклом, Саше были не видны.
— Не отставай! Темнеет быстро, надо успеть убраться отсюда, — прогундосил он в фильтры.
И, так и не взглянув на нее больше, стремительно двинулся вперед.
— Хантер! — окликнула его девушка, сквозь запотевшие окошки своего противогаза силясь узнать своего спасителя.
Тот притворился, будто не слышит ее, и Саше больше ничего не оставалось, как со всех ног бежать вслед за ним. Конечно, он на нее зол: в третий раз подряд выручать глупую девчонку. Но он поднялся сюда, поднялся ради Саши, какие у нее теперь могли быть сомнения…
Обритый даже не собирался приближаться к логову, послужившему Саше выходом из метро, он знал другие тропы. Свернув с главной дороги направо, он нырнул в арку, миновал ржавые железные скелеты плоских коробок, похожих на киоски для карликов, выстрелом спугнул неясную тень и остановился у небольшой кирпичной будки с плотно зарешеченными окнами. Провернул ключ в массивном висячем замке. Укрытие? Нет, будка оказалась обманкой: за дверью зигзагами уходила на глубину бетонная лестница.
Навесив тот же замок изнутри, он зажег фонарь и затопал вниз. Стены, выкрашенные в белый и зеленый, облупившиеся от времени, были испещрены именами и датами: вход-выход, вход-выход… Неразборчиво черкнул что-то и Сашин спаситель. Наверное, каждый, кто пользовался тайным подъемом, чтобы выбираться на поверхность, должен был записать здесь, когда он ушел и когда вернулся. Вот только под многими именами даты возвращения не было.
Спуск прервался быстрее, чем ожидала Саша: хотя ступени бежали дальше вниз, обритый задержался у неприметной чугунной двери, грохнул по ней кулаком, и через несколько секунд с обратной стороны заскрежетал запор. Открыл всклокоченный человек с жидкой бороденкой, в синих штанах с оттянутыми коленями.
— Это еще кто? — озадаченно спросил он.
— Подобрал на Кольце, — прогудел Хантер. — Чуть птицы не сожрали, еле успел из подствольника. Эй, пацан, ты как туда попал?
Он скинул капюшон, потащил противогаз…
Перед Сашей стоял незнакомый мужчина: ежик русых волос, бледно-серые глаза, сплюснутый, будто сломанный нос. А она еще отговаривала, переубеждала себя, когда ей показалось, что он чересчур подвижен для раненого, что походка у него не та, не звериная, что костюм вроде чуть другой…
Ей стало душно, и она тоже сорвала маску.
Через четверть часа Саша уже была за чертой ганзейской границы.
— Ты прости, без документов не могу тебя тут оставить. — В голосе ее спасителя сквозило искреннее сожаление. — Может, вечером сегодня, это самое… Ну, в переходе?
Она молча покачала головой и улыбнулась.
Куда теперь?
К нему? Успеется!
Саша не могла подавить обиду на Хантера за то, что не он спас ее на сей раз… Имелось у нее и еще одно дело, которое она больше не хотела откладывать на потом.
Нежные и манящие, отзвуки чудесной музыки нашли к ней дорогу через людской гвалт, через шорох обуви и выкрики торговцев. Кажется, это была та самая мелодия, что околдовала ее накануне. Ступая ей навстречу, Саша как будто опять пробиралась к проему, излучающему неземное сияние… Только куда он вел сейчас?
Музыкант был взят в плотное кольцо десятками слушателей. Саше пришлось потолкаться, прежде чем толпа выплюнула ее в пустой круг. Мелодия и притягивала этих людей, и держала их на расстоянии, будто они тоже летели на свет, но боялись обжечься.
Саша не боялась.
Он был молод, строен и удивительно хорош собой. Пожалуй, немного хрупок, но его ухоженное лицо не было нежным, а его зеленые глаза не казались наивными. Темные волосы, хоть и нестриженые, лежали ровно. Неброская одежда выделяла его в людском вареве Павелецкой нездешней чистотой.
Инструмент его отчасти походил на детскую дудочку, какие делают из пластмассовых изоляционных трубок, но большую, черную, с медными клавишами, торжественную и, видимо, очень дорогую. Те звуки, которые музыкант из него извлекал, точно принадлежали какому-то другому миру, другому времени. Как и сам инструмент… Как и его хозяин.
Он поймал Сашин взгляд в первое же мгновенье, отпустил и сразу снова подобрал. Та смутилась: хоть его внимание и не было ей неприятно, она пришла сюда за его музыкой.
— Слава богу! Я тебя нашел…
К ней протиснулся Гомер — запыхавшийся, вспотевший.
— Как он? — тут же спросила Саша.
— Разве… — начал тот, осадил себя и закончил по-другому: — Он пропал.
— Как?.. Куда?! — Словно кто-то сдавил в кулаке Сашино сердце.
— Ушел. Забрал все свои вещи и ушел. Надо думать, на Добрынинскую…
— Ничего не оставил? — робко уточнила она, про себя загадывая ответ, который ей сейчас даст Гомер.
— Подчистую, — кивнул старик.
На них гневно зашикали, и Гомер притих, вслушиваясь в мелодию и заодно подозрительно посматривая то на музыканта, то на девушку. Зря: та думала совсем о другом.
Пусть Хантер прогнал ее и поспешил сбежать. Но Саша уже начала постигать те странные правила, которым он следовал. Если обритый и вправду забрал все свои вещи, вообще все… Значит, он просто хочет, чтобы она была настойчивее, чтобы она не сворачивала с пути, хочет, чтобы она его разыскала. И она сделает это, все равно сделает. Если только…
— А нож? — шепнула она старику. — Он взял с собой мой нож? Черный?
— В палате его нет, — пожал плечами тот.
— Значит, взял!
Саше было вполне достаточно и этого скупого знака.
* * *
Флейтист был безусловно талантлив и к тому же великолепно владел своим искусством, словно только вчера он играл в консерватории. В футляре его инструмента, распахнутом для подаяний, хватило бы патронов, чтобы прокормить небольшую станцию — или чтобы поголовно вырезать ее население. Вот оно, признание, с грустной ухмылкой подумал Гомер.
Мелодия казалась старику смутно знакомой, но сколько бы он ни пытался вспомнить, где мог ее слышать — в старом кино? в радиоконцертах? — ничего не выходило. В мелодии было что-то необычное — случайно настроившись на ее волну, отвлечься больше не получалось; хотелось непременно дослушать до конца, а потом рукоплескать музыканту, пока тот не примется за игру вновь.
Прокофьев? Шостакович? Познания Гомера в музыке все равно были слишком скудны, чтобы всерьез стараться угадать композитора. Но кто бы ни написал эти ноты, флейтист не просто исполнял их, он насыщал их новым звучанием и новым смыслом, оживлял. Талант. Талант, и за него Гомер готов был простить парню дразнящие взгляды, которые тот между делом подбрасывал Саше, как бумажный бантик котенку.
Однако пора было уводить от него девочку.
Дождавшись, пока музыка отцветет, а флейтист отдастся аплодирующей публике, старик ухватил Сашу за влажный, еще пахнущий хлоркой костюм и вытащил ее наружу.
— Вещи собраны. Я иду за ним. — Он выдержал паузу.
— Я тоже, — быстро сказала девчонка.
— Ты понимаешь, во что ввязываешься? — негромко спросил Гомер.
— Я все знаю. Я подслушала. — Она вызывающе глянула на него. — Эпидемия, да? И он собирается всех сжечь. И мертвых, и живых. Всю станцию. — Саша не отводила глаз.
— И зачем тебе к такому человеку? — Старику это было действительно интересно.
Саша не отвечала, и какое-то время они шагали рядом молча, пока не забрались в совсем безлюдный уголок зала.
— У меня отец умер. Из-за меня, я виновата. И я уже ничего не могу сделать, чтобы он снова был живой. А там есть люди, которые еще живые. Которых еще можно спасти. И я должна попытаться. Ему должна, — медленно и неловко выговорила она наконец.
— Спасти от кого? От чего? Болезнь неизлечима, ты слышала, — горько отозвался старик.
— От твоего друга. Он страшнее любой болезни. Смертельнее. — Девчонка вздохнула. — Болезни хотя бы оставляют надежду. Кто-то всегда выздоравливает. Один на тысячу.
— Каким образом? Почему ты думаешь, что сможешь? — внимательно посмотрел на нее Гомер.
— У меня уже получалось, — неуверенно ответила она.
Не переоценивает ли девчонка свои силы? Не обманывает ли себя, приписывая черствому и безжалостному бригадиру взаимность? Гомеру не хотелось обескураживать Сашу, но лучше было предупредить ее сейчас.
— Знаешь, что я нашел в его палате? — Старик осторожно достал из кармана искалеченную пудреницу и передал ее Саше. — Это ты ее так?
— Нет. — Та покачала головой.
— Значит, это Хантер…
Девушка медленно раскрыла коробочку, нашла свое отражение в одном из стекольных осколков. Задумалась, вспомнила свой последний разговор с обритым и слова, произнесенные им в полумраке, когда она пришла дарить ему нож. Вспомнила и лицо Хантера, когда он тяжело шагал к ней, весь окровавленный, чтобы занесшая свои лезвия химера бросила Сашу и убила его самого…
— Это он не из-за меня. Это из-за зеркала, — решительно сказала она.
— Оно здесь при чем? — приподнял брови старик.
— Ты сам говорил. — Саша захлопнула крышку. — Иногда полезно увидеть себя со стороны. Помогает много о себе понять. — она передразнила менторский стариковский тон.
— Считаешь, что Хантер не знает, кто он есть? Или что до сих пор переживает из-за своего вида? Потому и разбил? — Гомер снисходительно хмыкнул.
— Дело не во внешности. — Девчонка прислонилась спиной к колонне.
— Хантер прекрасно знает, кто он такой. И, видимо, просто не любит, когда ему об этом напоминают, — ответил сам себе старик.
— А может, он сам об этом забыл? — возразила она. — Мне иногда кажется, что он все время старается что-то вспомнить. Или… что он прикован цепью к тяжелой вагонетке, которая катится под уклон, в темноту, и никто не поможет ему ее остановить. Я это объяснить не могу. Просто смотрю на него и чувствую. — Саша нахмурилась. — Никто этого не видит, а я вижу. Я поэтому тогда тебе сказала, что нужна ему.
— То-то он тебя бросил, — жестоко ткнул ее Гомер.
— Это я его бросила. — Девчонка упрямо насупилась. — А теперь должна догнать, пока не поздно. Они все еще живые. Их можно еще спасти, — как заведенная, повторила она. — И его тоже еще можно спасти.
— Его-то тебе от кого спасать? — вскинул подбородок Гомер.
Она посмотрела на него недоверчиво — неужели старик так ничего и не понял, несмотря на все ее усилия? И невероятно серьезно ответила ему:
— От человека в зеркале.
* * *
— Занято?
Саша, рассеянно ковырявшая вилкой грибное жаркое, вздрогнула. Рядом с ней с подносом в руках стоял зеленоглазый музыкант. Старик куда-то отошел, и его место сейчас пустовало.
— Да.
— Всегда можно найти решение! — Он поставил свой поднос и, резво подхватив за соседним столом свободный табурет, уселся слева от Саши прежде, чем та успела запротестовать.
— Если что, я тебя не приглашала, — предупредила она его.
— Дедушка наругает? — с понимающим видом подмигнул музыкант. — Позвольте представиться. Леонид.
— Он мне не дедушка. — Саша почувствовала, как к щекам приливает кровь.
— Даже так?.. — Леонид набил рот до отказа и восхищенно выгнул бровь.
— Ты наглый, — отметила она.
— Я напористый. — Он назидательно воздел вилку кверху.
— Слишком уверен в себе. — Саша улыбнулась.
— Я вообще верю в людей, ну и в себя в частности, — невнятно пробормотал он, жуя.
Вернулся старик, постоял за спиной у самозванца, скорчил недовольную гримасу, но все же уселся на свой табурет.
— Саша, тебе не тесно? — сварливо поинтересовался он, глядя мимо музыканта.
— Саша! — торжествующе повторил тот, отрываясь от миски. — Очень приятно. Меня, напомню, зовут Леонид.
— Николай Иванович, — покосившись на него, хмуро сказал Гомер. — А что вы за мелодию сегодня исполняли? Кажется знакомой…
— Ничего удивительного, я уже третий день ее тут исполняю, — нажимая на последнее слово, отозвался тот. — А вообще собственного сочинения.
— Твоего? — Саша отложила приборы. — А как называется?
— Никак не называется. — Леонид пожал плечами. — Над названием я как-то не думал. А потом, как это в буквы переложить? Да и зачем?
— Красиво очень, — призналась девушка. — Просто необыкновенно красиво.
— Тогда могу назвать в твою честь, — не растерялся музыкант. — Ты заслуживаешь.
— Не надо. — Она покачала головой. — Пусть лучше без названия будет. В этом есть смысл.
— В том, чтобы посвятить ее тебе, тоже есть определенный смысл. — Он засмеялся было, но подавился и закашлялся.
— Ну, готова? — Старик взял Сашин поднос и поднялся. — Пора. Вы уж извините нас, молодой человек…
— Ничего! Я уже доел. Разрешите немного проводить девушку?
— Мы уезжаем, — резко произнес Гомер.
— Здорово! Я тоже. На Добрынинскую. — Музыкант напустил на себя невинный вид. — Нам не по пути?
— По пути, — неожиданно для самой себя ответила Саша, стараясь не глядеть в сторону Гомера и все соскакивая глазом на Леонида.
В нем была какая-то легкость, незлобивая смешливость. Будто мальчишка, фехтующий прутиком, он наносил легкие небольные уколы, на которые не получалось толком злиться, кажется, даже у старика. А свои намеки он преподносил Саше так деланно, так забавно, что она и не думала принимать их всерьез… А что плохого в том, что она ему нравится?
И потом, в его музыку она влюбилась задолго до того, как познакомилась с ним самим. А соблазн взять с собой в дорогу это волшебство был слишком велик.
* * *
Все дело в музыке, не иначе. Чертов юнец словно гаммельнский крысолов подманивал невинные души своей холеной флейтой и использовал свой дар, чтобы портить всех девок, до которых мог дотянуться. Вот он пробовал добраться и до Александры, а Гомер даже не знал, что с этим делать!
Проглатывать его дерзкие шутки старику стоило большого труда, и очень скоро они встали ему поперек горла. Раздражало Гомера и то, как быстро Леонид сумел договориться с непреклонным ганзейским начальством, чтобы всей троице позволили пройти по Кольцу перегон до Добрынинской — и это без документов! В хоромы к начальнику станции, лысому пожилому щеголю с тараканьими усами, музыкант входил с футляром, полным патронов, а вышел улыбаясь и налегке.
Гомер был вынужден признать, что его дипломатические способности им оказались кстати: мотодрезина, на которой они прибыли на Павелецкую, пропала из отстойника одновременно с исчезновением Хантера, а путь в обход мог занять и неделю.
Но больше всего старика насторожила та легкость, с которой фигляр сорвался с хлебной станции и распрощался со всеми сбережениями, только чтобы отправиться в туннели за его Сашей.
В ином случае такая легкость говорила бы о влюбленности, но здесь старику виделась сплошная несерьезность намерений и привычка к скорым победам.
Да, мало-помалу Гомер превращался в ворчливую дуэнью… Но у него были основания для бдительности и повод для ревности. Единственное, чего ему сейчас не хватало, — чтобы его чудом обретенная вновь муза сбежала с бродячим музыкантом! С совершенно лишним, надо сказать, героем, для которого в его романе не было заготовлено места, а он приволок собственный табурет и по-хамски уселся ровно посередине.
— Неужели на всей Земле совсем никого не осталось?
Их троица уже шагала к Добрынинской в сопровождении трех караульных: правильно распорядившись патронами, можно было сделать явью самые смелые грезы.
Девчонка, только что взахлеб рассказывавшая о своем походе на поверхность, осеклась и погрустнела. Гомер переглянулся с музыкантом: кто первым бросится ее утешать?
— Есть ли жизнь за МКАДом? — хмыкнул старик. — Новое поколение тоже задается этим вопросом?
— Конечно, есть, — уверенно заявил Леонид. — Дело не в том, что больше никто не выжил, просто связи нет!
— Ну я вот, например, слышал, что где-то за Таганской есть тайный ход, который выводит в один любопытный туннель, — начал старик. — Обычный вроде бы туннель, шесть метров в диаметре, только без рельсов. Залегает глубоко, метрах на сорока или даже пятидесяти. Уходит далеко на восток…
— Это не тот ли туннель, который ведет к уральским бункерам? — перебил его Леонид. — И это история про человека, который случайно забрел в него, потом вернулся с запасом еды и…
— Шел неделю с короткими привалами, потом у него стала заканчиваться провизия, и ему пришлось повернуть обратно. Туннелю не было еще видно ни конца, ни края, — скомканно, сбившись с былинной интонации, закончил Гомер. — Да, по слухам, к уральским бункерам. Где еще может оставаться кто-то живой.
— Это вряд ли, — зевнул музыкант.
— Еще знакомый в Полисе рассказывал как-то о том, что один из местных радистов наладил связь с экипажем танка, который успели задраить и уйти в такую глушь, что никому даже и в голову не пришло ее бомбить… — демонстративно обращаясь к Саше, продолжил старик.
— Ну да, — покивал Леонид. — Тоже известная история. Когда у них кончилась соляра, они вкопали танк в землю на холме, а вокруг него выстроили целый хутор. И еще несколько лет по вечерам разговаривали по радио с Полисом.
— Пока приемник не сломался, — раздраженно досказал Гомер.
— Ну, а про подводную лодку? — потянулся его соперник. — Про атомную лодку, которая была в дальнем походе и, когда начался обмен ударами, просто не успела выйти на боевые позиции. А когда всплыла, все уже давно было кончено. И тогда экипаж поставил ее на вечный прикол неподалеку от Владивостока…
— И от ее реактора до сих пор питается целый поселок, — встрял старик. — Полгода назад я встречал человека, который утверждал, что он — первый помощник капитана этой лодки. Говорил, что всю страну пересек на велосипеде и добрался-таки до Москвы. Три года ехал.
— Прямо лично с ним разговаривали? — вежливо удивился Леонид.
— Лично, — огрызнулся Гомер.
Легенды всегда были его коньком, и он просто не мог позволить молодому нахалу заткнуть себя за пояс. Оставалась у него в запасе и еще одна история, сокровенная. Он-то намеревался рассказать ее совсем по другому случаю, а не тратить попусту в никчемном споре… Но, глядя, как Саша смеется очередной шутке этого пройдохи, решился-таки.
— А про Полярные Зори не слышали?
— Какие зори? — обернулся к нему музыкант.
— Ну как же? — сдержанно улыбнулся старик. — Крайний Север, Кольский полуостров, город Полярные Зори. Богом забытое место. До Москвы тысячи полторы километров, до Петербурга — не меньше тысячи. Поблизости разве что Мурманск с его морскими базами, но и до него прилично.
— Словом, глухомань, — подбодрил его Леонид.
— Вдалеке от крупных городов, от секретных заводов и военных баз. Вдалеке от всех основных целей. Те города, которые наша противоракетная оборона защитить не могла, были стерты в пыль и пепел. Те, над которыми был щит, где успели сработать перехватчики, — старик посмотрел вверх, — сами знаете. Но были ведь и места, по которым никто не целился… Потому что угрозы они никакой собой не представляли. Полярные Зори, например.
— До них и сейчас-то дела никому нет, — отозвался музыкант.
— И зря, — отрезал старик. — Потому что рядом с городом Полярные Зори находилась Кольская атомная электростанция. Была одной из мощнейших в стране. Чуть ли не весь Север энергией обеспечивала. Миллионы людей. Сотни предприятий. Я ведь сам из тех мест, архангельский. Знаю, что говорю. И на станции этой школьником еще бывал, на экскурсии. Настоящая крепость, государство в государстве. Своя маленькая армия, собственные угодья, хозяйство подсобное. Могли существовать в автономном режиме. Случись хоть ядерная война — ничего в их жизни не переменится, — невесело усмехнулся он.
— И что вы хотите сказать…
— Петербурга не стало, Мурманска не стало, Архангельска. Миллионы людей сгинули, предприятия — вместе с городами… В пыль и пепел.
А город Полярные Зори остался. И Кольская АЭС не пострадала. Вокруг на тысячи километров — только снег, снег и ледяные поля, волки да белые медведи. Связи с центром нет. А у них достаточно топлива, чтобы большой город снабжать не год и не два. А самим, наверное, вместе даже с Полярными Зорями, лет на сто хватит. Перезимуют легко.
— Это же настоящий ковчег… — прошептал Леонид. — И когда потоп закончится, и воды схлынут, с вершины горы Арарат…
— Именно, — кивнул ему старик.
— Откуда вам об этом известно? — В голосе музыканта не оставалось больше ни иронии, ни скуки.
— Пришлось как-то и мне радистом работать, — уклончиво ответил Гомер. — Очень уж хотелось найти хоть одного живого человека в родных местах.
— Долго ли они там протянут, на севере?
— Уверен. В последний раз я, правда, на связь года два назад выходил. Но вы представляете, что это значит — еще целый век с электричеством? В тепле? С медицинским оборудованием, с компьютерами, с электронными библиотеками на дисках? Вам-то уже неоткуда знать… На все метро компьютеров две штуки, и те как игрушки только. И это столица, — горько усмехнулся старик. — А если где-то еще и остались люди — не одиночки, я имею в виду, а хотя бы поселки… У них ведь уже давно семнадцатый век снова наступил, и это в лучшем случае, а то уже и вовсе — каменный. Лучины, скотина, колдовство, каждый третий при родах умирает. Счеты и берестяные грамоты. И, кроме ближайших двух хуторов, в мире больше ничего нет. Глушь, безлюдье. Волки, медведи, мутанты. Да вся современная цивилизация, — старик кашлянул, озираясь вокруг, — на электричестве строится. Иссякнет энергия, сгниют станции, и все. Веками миллиарды человек это здание по кирпичику возводили, и все прахом. Начинай сначала. Да и получится ли? А тут отсрочка в целое столетие! Правильно вы сказали, Ноев ковчег. Почти неограниченный запас энергии! Нефть ведь еще надо добывать и перерабатывать, газ — бурить и по трубам на тысячи километров гнать! Что же, назад — к паровым двигателям? Или еще дальше? Я тебе вот что скажу, — взял он Сашу за руку. — Людям-то ничего не грозит. Люди живучи как тараканы. А вот цивилизация… Ее бы сохранить.
— А у них прямо-таки цивилизация?
— Будьте спокойны. Инженеры-атомщики, техническая интеллигенция. А уж условия у них точно лучше наших с вами. За два десятка лет Полярные Зори выросли прилично. Они поставили радио на вечный повтор: «Всем выжившим…» и координаты. Говорят, и до сих пор люди сползаются…
— Почему я об этом никогда не слышал? — пробормотал музыкант.
— Мало кто слышал. Отсюда их волну трудно поймать. Но вы попробуйте как-нибудь, если у вас найдется пара свободных лет, — старик ухмыльнулся. — Позывной «Последняя гавань».
— Я бы знал, — серьезно покачал головой тот. — Я собираю такие случаи… А что, неужели все мирно было?
— Как сказать… Вокруг глушь, если и были еще села и городки какие-то рядом, быстро одичали. Случалось, нападали варвары. Ну и звери, конечно, если их так можно назвать. Но им арсеналов хватало. Круговая оборона, защищенный периметр. Колючая проволока под напряжением, сторожевые вышки. Настоящая крепость, говорю же. А за первое десятилетие, самое лихое, они еще одну стену успели возвести, частокол из бревен. Вокруг все обследовали… До Мурманска доходили, двести километров. Воронка там оплавленная вместо Мурманска. Собирались даже экспедицию организовывать на юг, к Москве… Я их отговаривал. К чему пуповину перерезать? Вот спадет фон, можно будет новые земли осваивать — тогда… А пока тут делать нечего. Кладбище и кладбище, — вздохнул Гомер.
— Забавно будет, — сказал вдруг Леонид, — если человечество, которое уничтожило себя атомом, им же и спасется.
— Мало забавного, — сурово взглянул на него старик.
— Это как огонь, похищенный Прометеем, — пояснил тот. — Боги запретили ему передавать огонь людям. Он-то хотел вытащить человека из грязи, темноты и прозябания…
— Я читал, — язвительно оборвал его Гомер. — «Мифы и легенды Древней Греции».
— Пророческий миф, — заметил Леонид. — Не случайно боги были против. Знали, чем все кончится.
— Но именно огонь сделал человека человеком, — возразил старик.
— Считаете, без электричества он снова превратится в животное? — спросил музыкант.
— Считаю, что без него мы на двести лет назад откатимся. А учитывая, что выжил один из тысячи и что все заново надо отстраивать, покорять, изучать, — на все пятьсот. А может, никогда уже не наверстаем. Что, не согласны?
— Согласен, — ответил Леонид. — Но разве все дело только в электричестве?
— А как по-вашему? — в запале всплеснул руками Гомер.
Музыкант смерил его странным долгим взглядом и пожал плечами.
Молчание затянулось. Такой исход разговора Гомер мог вполне засчитать за свою победу: девчонка наконец перестала пожирать наглеца глазами и задумалась о чем-то своем. Но, когда до станции оставалось уже совсем немного, Леонид неожиданно произнес:
— Ну что же. Давайте тогда и я вам расскажу одну историю.
Старик как мог изобразил утомление, но ответил милостивым кивком.
— Говорят, где-то за станцией Спортивной и перед разрушенным Сокольническим мостом от основного туннеля резко вниз уходит тупиковая ветка. Заканчивается она решеткой, за которой — закрытые наглухо гермоворота. Ворота не раз пытались открыть, но это никогда ни к чему не приводило. И если к ним отправлялись одинокие путники, назад они почти никогда не возвращались, а их тела находили совсем в других концах метро.
— Изумрудный город? — скривился Гомер.
— Всем известно, — не обращая на него внимания, продолжал Леонид, — что Сокольнический метромост рухнул в первый же день и все станции за ним оказались отрезаны от метро. Принято считать, что никто из оставшихся по ту сторону моста не спасся, хотя и этому доказательств нет никаких.
— Изумрудный город, — нетерпеливо махнул рукой Гомер.
— Всем также известно, что Московский университет был построен на зыбком грунте. Держалось огромное здание на нем только благодаря тому, что в его подвалах работали мощные холодогенераторы, которые замораживали болотистую почву. Без них оно давно должно было сползти в реку.
— Избитый аргумент, — понимая, к чему тот ведет, успел вставить старик.
— Прошло уже двадцать с лишним лет, однако заброшенное здание почему-то стоит на месте…
— Байка это, вот почему!
— Ходят слухи, что под Университетом — не какой-нибудь подвал, а большое стратегическое бомбоубежище на десять этажей вниз, в которых не только холодогенераторы, но и собственный атомный реактор, и жилые помещения, и соединения с ближайшими станциями метро, и даже с Метро-2. — Леонид сделал Саше страшные глаза, заставив ее улыбнуться.
— Ничего нового я пока не услышал, — презрительно отвесил ему Гомер.
— Говорят, там настоящий подземный город, — мечтательно продолжал музыкант. — Город, жители которого — а они, разумеется, вовсе не погибли — посвятили себя собиранию по крупицам утерянных знаний и служению прекрасному. Не скупясь на средства, они посылают экспедиции в уцелевшие картинные галереи, в музеи и в библиотеки. А детей своих воспитывают так, чтобы те не утратили чувства красоты. Там царит мир и гармония, там нет других идеологий, кроме просвещения, и других религий, кроме искусства. Там нет убогих стен, крашенных в два кондовых цвета масляной краской, — они все расписаны чудесными фресками. Из динамиков вместо собачьего лая команд и сирен тревоги доносятся Берлиоз, Гайдн и Чайковский. И любой, представьте, способен цитировать Данте по памяти. И вот именно этим-то людям и удалось остаться такими, как раньше. Даже нет, не такими, как в двадцать первом веке, а как в античные времена… Ну, вы читали ведь в «Мифах и легендах»… — Музыкант улыбнулся старику как слабоумному. — Свободными, смелыми, мудрыми и красивыми. Справедливыми. Благородными.
— Ничего подобного никогда не слышал! — Гомер надеялся только, что хитрый дьявол не подкупит этим девочку.
— В метро, — Леонид внимательно посмотрел на старика, — это место называют Изумрудным городом. Но его жители, по слухам, предпочитают другое именование.
— И какое?! — распалился Гомер.
— Ковчег.
— Чушь! Полная чушь! — Старик фыркнул и отвернулся.
— Разумеется, чушь, — флегматично откликнулся музыкант. — Это же сказка…
* * *
Добрынинская была погружена в хаос.
Гомер озадаченно и напуганно оглядывался по сторонам: не ошибается ли он? Может ли такое твориться на одной из спокойных кольцевых станций? У него складывалось впечатление, что за последний час Ганзе кто-то успел объявить войну.
Из параллельного туннеля выглядывала грузовая дрезина, на которую были как придется навалены трупы. Военные санитары в фартуках перетаскивали тела на платформу, укладывали их на брезент: у одного голова отдельно, у другого на лице живого места не осталось, у третьего выпущены кишки…
Гомер закрыл Саше глаза. Леонид набрал воздуха в грудь и отвернулся.
— Что случилось? — перепуганно спросил у санитаров один из приданных троице караульных.
— Наш дозор с большой развязки, с главной ССП. Весь тут, до единого. Никто не ушел. И неясно, кто сделал. — Санитар вытер ладони о фартук. — Братишка, прикури мне, а? А то руки трясутся…
Главная ССП. Ветка-паук, отходящая за Павелецкой-радиальной и объединяющая четыре сразу линии — Кольцо, серую, оранжевую и зеленую. Гомер предполагал, что Хантер выберет именно этот путь, кратчайший, но охраняемый усиленными нарядами Ганзы.
Ради чего такое кровопролитие?! Первыми ли они открыли по нему огонь или даже не успели разглядеть его в туннельной тьме? И где он сейчас? О боже, еще одна голова… Как он мог такое сотворить?..
Гомер вспомнил о расколотом зеркале и о Сашиных словах. Неужели она права? Возможно, бригадир противостоял сам себе, стараясь удержаться от лишних убийств, но не умея обуздать себя? И, разбивая зеркало, он действительно хотел ударить того уродливого, страшного человека, в которого постепенно превращался…
Нет. Хантер увидел в нем не человека, а настоящее чудовище. Его он и пытался поразить. Но только раздробил стекло, превратив одно отражение — в десятки.
А может… Старик проследил взглядом путь санитаров от дрезины к платформе… Восьмой, последний. Может быть, как раз из зеркала все еще тоскливо смотрел человек? Прежний Хантер?
А тот… Другой… уже был снаружи?
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. ЧТО ЕЩЕ?
«И действительно, что делает человека человеком?
Он бродит по земле уже больше миллиона лет, но магическая трансформация, превратившая хитроумное стайное животное в нечто совершенно иное, невиданное, произошла с ним каких-то десять тысяч лет назад. Подумать только, девяносто девять сотых всей своей истории он ютился по пещерам и глодал сырое мясо, не умея согреться, создать инструменты и настоящее оружие, не умея даже толком говорить! Да и чувствами, которые он был способен испытывать, человек не отличался от обезьян или волков: голод, страх, привязанность, забота, удовлетворение…
Как он смог вдруг за считанные века научиться строить, мыслить и записывать свои мысли, изменять окружающую материю и изобретать, зачем понадобилось ему рисовать и как он открыл музыку? Как смог покорить весь мир и переустроить его по своей потребности? Что именно десять тысяч лет назад прибавили к этому зверю?
Огонь? Дали человеку возможность приручить свет и тепло, унести их с собой в необитаемые холодные земли, жарить добычу на кострах, ублажая желудок? Но что это изменило? Разве что позволило ему расширить свои владения. Но крысы и без огня сумели заполонить всю планету, так и оставшись тем, чем были изначально — сообразительными стайными млекопитающими.
Нет, все-таки не огонь; во всяком случае, не только огонь, — прав был музыкант. Что-то еще… Что?
Язык? Вот несомненное отличие от прочих животных. Огранка неочищенных мыслей в бриллианты слов, которые могут стать всеобщей монетой, получить повсеместное хождение. Умение даже не столько выражать творящееся в голове, сколько упорядочивать это; литье неустойчивых, перетекающих как расплавленный металл образов в жесткие формы. Ясность и трезвость ума, возможность четко и однозначно передавать из уст в уста приказы и знания. Отсюда и способность организовываться и подчинять, созывать армии и строить государства.
Но муравьи обходятся без слов, на своем, незаметном для человека уровне создавая настоящие мегаполисы, находя свое место в сложнейших иерархиях, с точностью сообщая друг другу сведения и команды, призывая тысячи тысяч в неустрашимые легионы с железной дисциплиной, которые схлестываются в неслышных, но беспощадных войнах их игрушечных империй.
Может, буквы?
Буквы, без которых не было бы возможности копить знания? Те самые кирпичи, из которых складывалась устремленная к небесам Вавилонская башня всемирной цивилизации? Без которых необожженная глина мудрости, усвоенной одним поколением, расползалась и растрескивалась бы, проседала и рассыпалась в пыль, не вынеся собственного веса? Без них каждое следующее поколение начинало бы строительство великой башни с прежнего уровня, возилось бы всю жизнь на развалинах предыдущей мазанки и околевало бы в свою очередь, так и не возведя нового этажа.
Буквы, письменность позволили человеку, вынеся накопленные знания за пределы своего тесного черепа, сохранять их неискаженными для потомков, избавляя тех от необходимости заново открывать давно открытое, позволяя им надстраивать свое, собственное на твердый фундамент, доставшийся от предков.
Но ведь не только же буквы?..
Умей волки писать, была бы их цивилизация похожа на человечью? Была бы у них цивилизация?
Когда волк сыт, он впадает в блаженную прострацию, посвящая время ласкам и играм, покуда резь в животе не погонит его дальше. Когда сыт человек, в нем просыпается тоска иного свойства. Неуловимая, необъяснимая — та самая, что заставляет его часами смотреть на звезды, царапать охрой стены своей пещеры, украшать резными фигурами нос боевой ладьи, веками горбатиться, воздвигая каменных колоссов, вместо того чтобы усиливать крепостные стены, и тратить жизнь на оттачивание словесного мастерства, вместо того чтобы совершенствоваться в искусстве владения мечом. Та самая, что заставляет бывшего помощника машиниста посвящать остатки лет чтению и поискам, поискам и попыткам написать что-то… Что-то такое… Тоска, пытаясь утолить которую грязная и нищая толпа внемлет бродячим скрипачам, короли привечают трубадуров и покровительствуют живописцам, а рожденная в подземелье девчонка подолгу разглядывает размалеванную кое-как упаковку из-под чая. Неясный, но могучий зов, который способен заглушить даже зов голода — только у человека.
Не он ли раздвигает доступную прочим животным гамму чувств, давая человеку еще и умение мечтать, и дерзость надеяться, и смелость щадить? Любовь и сострадание, которые человек часто считает своим отличительным свойством, открыты не им. Собака способна и любить, и сострадать: когда болен ее хозяин, она не отходит от него и скулит. Собака может даже скучать и видеть смысл своей жизни в другом существе: если ее хозяин умирает, она иногда готова издохнуть, только чтобы остаться с ним. Но вот мечтать она не может.
Выходит, тоска по прекрасному и умение ценить его? Удивительная способность наслаждаться сочетаниями цветов, рядами звуков, изломами линий и изяществом словесных построений? Извлекать из них сладкий и щемящий душевный звон? Будящий любую душу — и заплывшую жиром, и покрытую мозолями, и изрубцованную, и помогающий им очиститься от наростов?
Может быть. Но не только это.
Чтобы перекрыть автоматные очереди и отчаянные вопли связанных голых людей, другим людям случалось ставить в полную громкость величественные вагнеровские симфонии. Противоречия не возникало: одно лишь подчеркивало другое.
Так что же еще?
И, даже выживи человек в нынешнем аду как биологический вид, сохранит ли он эту хрупкую, почти неосязаемую, но несомненно реальную частицу своей сущности? Ту искру, которая десять тысяч лет назад превратила полуголодного зверя с мутным взглядом в создание иного порядка? В существо, терзаемое душевным голодом больше голода телесного? Существо мятущееся, вечно мечущееся между духовным величием и низостью, между необъяснимым милосердием, неприемлемым для хищников, и неоправдываемой жестокостью, равной которой нет даже в бездушном мире насекомых? Возводящее великолепные дворцы и пишущее невероятные полотна, соревнуясь с Создателем в умении синтезировать чистую красоту — и изобретающее газовые камеры и водородные бомбы, чтобы аннигилировать все им сотворенное и экономно истреблять себе подобных? Старательно выстраивающее на пляже песочные замки и азартно разрушающее их? Превратила его в существо, не знающее предела ни в чем, тревожное и неуемное, не умеющее утолить свой странный голод, но посвящающее всю свою жизнь попыткам сделать это? В человека?
Останется ли это в нем? Останется ли это от него?
Или кратким всплеском на диаграмме истории сгинет в его прошлом, от странного однопроцентного отклонения вернув человека назад, в его извечное отупение, в привычное безвременье, где бесчисленные поколения, не отрывая глаз от земли жующие жвачку, сменяют друг друга и где десять, сто, пятьсот тысяч лет проходят одинаково незаметно?
Что еще?..»
— Это правда?
— Что именно? — улыбнулся ей Леонид.
— Про Изумрудный город? Про Ковчег? Что есть такое место в метро? — задумчиво спросила Саша, глядя себе под ноги.
— Ходят слухи, — уклончиво отозвался тот.
— Было бы здорово туда однажды попасть, — протянула она. — Знаешь, когда я гуляла там, наверху, мне было так обидно за людей. За то, что они один раз ошиблись… И больше уже никогда не смогут вернуть все, как было. А там было так хорошо… Наверное.
— Ошибка? Нет, это тягчайшее из преступлений, — серьезно ответил ей музыкант. — Разрушить весь мир, умертвить шесть миллиардов человек — ошибка?
— Все равно… Разве мы с тобой не заслуживаем прощения? И каждый заслуживает. Каждому надо дать шанс переделать себя и все переделать, попробовать заново, еще один раз, пусть хоть последний, — она помолчала. — Я бы так хотела увидеть, как там все на самом деле… Раньше мне не было интересно. Раньше я просто боялась, и мне все там казалось уродливым. А оказывается, я просто поднималась в неправильном месте. Так глупо… Этот город наверху — он как моя жизнь раньше. В нем нет будущего. Только воспоминания — и то чужие… Только привидения. И я что-то очень важное поняла, пока там была, знаешь… — Саша замялась. — Надежда — это как кровь. Пока она течет по твоим жилам, ты жив. Я хочу надеяться.
— А зачем тебе в Изумрудный город? — спросил музыкант.
— Хочу увидеть, почувствовать, как было жить раньше… Ты ведь сам говорил… Там, наверное, люди и вправду должны быть совсем другие. Люди, которые не забыли вчерашний день и у которых точно настанет завтрашний, должны быть совсем-совсем другие…
Они не спеша брели по залу Добрынинской под бдительным присмотром караульных. Гомер оставил их вдвоем с явным нежеланием, отправляясь на прием к начальнику станции, а сейчас отчего-то задерживался. Хантер же так до сих пор и не объявлялся.
В чертах мраморного зала Добрынинской Саше виделись намеки: здесь облицованные большие арки, ведущие к путям, чередовались с арками маленькими, декоративными, глухими. Большая, малая, снова большая, опять малая. Будто держащиеся за руки мужчина и женщина, мужчина и женщина… И ей тоже внезапно захотелось вложить свою руку в широкую и сильную мужскую ладонь. Укрыться в ней хоть ненадолго.
— Здесь тоже можно строить новую жизнь, — сказал Леонид, подмигивая девушке. — Необязательно куда-то идти, что-то искать… Достаточно бывает осмотреться по сторонам.
— И что я увижу?
— Меня, — он потупился с деланной скромностью.
— Я тебя уже видела. И слышала. — Саша наконец ответила на его улыбку. — Мне очень нравится, как и всем остальным… Тебе совсем не нужны твои патроны? Ты их столько отдал, чтобы нас сюда пропустили.
— Нужны только, чтобы на еду хватало. А мне всегда хватает. Глупо играть ради денег.
— А ради чего ты тогда играешь?
— Ради музыки. — Он рассмеялся. — Ради людей. Даже нет, не так. Ради того, что музыка делает с людьми.
— А что она с ними делает?
— Вообще говоря — все, что угодно. — Леонид снова посерьезнел. — У меня есть и такая, что заставляет любить, и такая, что заставляет рыдать.
— А та, которую ты играл в прошлый раз. — Саша посмотрела на него подозрительно. — Та, которая без названия. Она что заставляет делать?
— Эта вот? — Он насвистел вступление. — Ничего не заставляет. Она просто снимает боль.
* * *
— Эй, мужик!
Гомер закрыл тетрадь и поерзал на неудобной деревянной скамье. Дежурный восседал за маленькой конторкой, почти всю площадь которой занимали три старых черных телефона без кнопок и дисков. Один из аппаратов уютно мигал красной лампочкой.
— Андрей Андреевич освободился. У него на тебя две минуты, как зайдешь — не мямли, а сразу по делу давай, — строго наставлял старика дежурный.
— Двух минут не хватит, — вздохнул Гомер.
— Я тебя предупредил, — пожал плечами тот.
Не хватило и пяти: старик толком не знал, ни с чего начать, ни чем закончить, ни что спрашивать, ни о чем просить, а кроме начальника Добрынинской, ему обращаться сейчас было не к кому.
Однако Андрей Андреевич, взмокший со злости жирный здоровяк в несходящемся форменном кителе, долго слушать старика не стал.
— Ты что, не понимаешь?! У меня тут форс-мажор, восемь человек полегло, а ты мне про какие-то эпидемии! Нет здесь ничего! Все, хорош отнимать мое время! Или ты убираешься отсюда сам… Словно выпрыгивающий из воды кашалот, начальник взметнул свою тушу вверх, чуть не опрокинув стол, за которым сидел. В кабинет вопросительно заглянул дежурный. Гомер тоже растерянно привстал с жесткого и низкого гостевого стула.
— Сам. Но зачем вы тогда ввели войска на Серпуховскую?
— Какое твое дело?!
— На станции говорят…
— Что говорят? Что говорят?! Знаешь, что…
Чтобы ты мне тут панику не наводил… Паш, давай-ка его в обезьянник!
В мгновение ока Гомер был вышвырнут в приемную. Чередуя уговоры с зуботычинами, охранник потащил упиравшегося старика в узкий боковой коридор.
Между двумя оплеухами с Гомера соскочил респиратор; он попытался было задержать дыхание, но тут же получил под дых и натужно заперхал. Кашалот вынырнул на пороге своего кабинета, заполнив собой весь дверной проем.
— Пускай там пока, потом разберемся… А ты кто? По записи? — рявкнул он на следующего посетителя.
Гомер еще успел обернуться к тому.
В трех шагах от него, скрестив на груди руки, неподвижно застыл Хантер. Одетый в тесную форму с чужого плеча, прячущий лицо в тени поднятого забрала своего шлема, он, казалось, не узнавал старика и не собирался вмешиваться. Гомер ожидал, что он будет как мясник изгваздан в крови, но единственным багровым пятном на одежде бригадира был подтек на его собственной ране. Перекатив каменный взгляд на начальника станции, Хантер вдруг медленно пошел на него, словно намереваясь пройти в кабинет прямо сквозь его тело.
Тот опешил, забормотал, попятился, освобождая проход. Охранник с Гомером в охапке выжидающе замер. Хантер протиснулся внутрь вслед за ретировавшимся толстяком, одним львиным рыком сбил с того спесь и заставил умолкнуть. Потом перешел на повелительный шепот.
Бросив старика, дежурный подобрался к двери и шагнул за порог. Через миг его вынесло оттуда потоком грязной брани; голос начальника станции срывался в визг.
— И отпусти этого провокатора! — будто под гипнозом повторяя чужой приказ, выкрикнул тот под конец.
Ошпаренный, красный, дежурный притворил за собой дверь, поплелся к своему месту при входе и уткнулся в новостную листовку, отпечатанную на оберточной бумаге. Когда Гомер решительно двинулся мимо его стола к начальничьему кабинету, тот лишь вжался еще сильнее в свою газетенку, показывая, что отныне происходящее его никак не касается.
И только теперь, победно посматривая на охранника, прикрывшего свой срам газетным листком, Гомер успел как следует разглядеть и его телефоны. На том, что все время подмаргивал, был налеплен кусок грязно-белого пластыря, поверх которого синей шариковой ручкой кто-то неразборчиво вывел единственное слово… «Тульская».
— Мы поддерживаем контакты с Орденом. — Потный, начальник Добрынинской хрустел кулаками, но глаз на бригадира поднимать не отваживался. — И об этой операции нас никто не предупреждал. Сам такое решение я принять не могу.
— Тогда звоните на Центральную, — сказал тот. — У вас есть время на согласование. Но мало.
— Они не дадут одобрения. Это поставит под угрозу стабильность Ганзы… Вы что, не знаете, что для Ганзы это превыше всего? А у нас все под контролем.
— Какая еще к черту стабильность?! Если не принять меры…
— Ситуация стабильна, не понимаю, что вас не устраивает, — упрямо помотал тяжелой головой Андрей Андреевич. — Все выходы под прицелом. Мышь не проскочит. Давайте подождем, пока все разрешится само.
— Ничто само не разрешится! — взревел Хантер. — Дождетесь только того, что кто-нибудь выберется и перебежит поверху или найдет обходной путь. Станцию нужно зачистить! По всем инструкциям! Я не понимаю, почему вы сами до сих пор этого не сделали!
— Но там ведь могут быть здоровые люди. Как вы себе представляете? Чтобы я приказал своим парням расстрелять и сжечь всю Тульскую? И поезд с сектантами? Может, и Серпуховскую заодно? Да у половины там шлюхи прикормлены и дети незаконнорожденные… Нет, знаете что! Мы тут не фашисты. Война войной, а это… Больных резать… Даже когда ящур был на Белорусской, и то свиней по одной разносили в разные углы — чтобы какая заражена, та сдохла, а какая здоровая — та чтобы жила, а не всех подряд забивать.
— Так то свиньи, а то люди, — бесцветно произнес бригадир.
— Нет, нет. — Начальник снова затряс головой, брызгая потом. — Я не могу так. Это бесчеловечно… Это на моей совести потом будет. А я… Зачем мне такое? Чтобы снилось потом?
— А вам самому и не придется. Для этого есть люди, которым не снятся сны. Вы только пропустите нас через свои станции. И все.
— Я отправил ходоков в Полис, узнать насчет вакцины. — Андрей Андреевич вытер рукавом испарину. — Есть надежда, что…
— Нет никакой вакцины. Нет никакой надежды! Хватит прятать голову в песок! Почему я не вижу здесь санитарных частей с Центральной?! Почему вы отказываетесь позвонить туда и попросить зеленый свет для прохода когорты Ордена?
Начальник упорно молчал; попробовал зачем-то застегнуть пуговицы на своем кителе, поковырялся в них скользкими пальцами и бросил. Подошел к облезлому буфету, плеснул себе в рюмку пахучей настойки, залпом проглотил.
— Так вы им не сообщили… — догадался Хантер. — Они до сих пор ни о чем не знают. У вас на соседней станции эпидемия, а им ничего не известно…
— Я за такое головой отвечаю, — хрипло выговорил тот. — Эпидемия на смежной станции означает отставку. Допустил… Не предотвратил… Создал угрозу стабильности Ганзы.
— На смежной? На Серпуховской?!
— Пока там все спокойно, но я слишком поздно спохватился… Не отреагировал вовремя. Как знать…
— И как же вы всем это объяснили? Войска на независимой станции? Оцепление туннелей?
— Бандиты… Бунтовщики. Это везде бывает. Ничего особенного.
— А сейчас признаваться уже поздно… — кивнул бригадир.
— Сейчас это уже не отставка. — Андрей Андреевич налил и тут же опрокинул вторую рюмку. — Это уже высшая мера.
— И что теперь?
— Жду. — Начальник опустился задом на свой стол. — Жду. Вдруг?
— Что же вы на их звонки не отвечаете? — встрял Гомер. — У вас телефон надрывается — с Тульской звонят. Вдруг?..
— Не надрывается, — потухшим голосом отозвался тот. — Я звук отключил. Только лампочка горит. Пока горит — еще живы.
— Почему не отвечаете?! — зло повторил старик.
— А что мне им сказать? Чтобы потерпели? Чтобы поскорее выздоравливали? Что помощь близка?! Чтобы пустили пулю себе в лоб?! Мне одного разговора с беженцами хватило! — взбеленился начальник.
— Заткнись немедленно, — негромко приказал ему Хантер. — И слушай. Я вернусь с отрядом через сутки. Меня должны беспрепятственно пропустить на всех постах. Серпуховскую будешь держать закрытой. Мы пройдем на Тульскую и очистим ее. Если потребуется, очистим и Серпуховскую. Изобразим небольшую войну. Центральную можешь не извещать. Тебе вообще ничего не придется делать. Я сам… Восстановлю стабильность.
Начальник, обессиленный, обмякший как продырявленная велосипедная камера, вяло кивнул. Нацедил себе еще настойки, понюхал и, прежде чем выпить, тихо спросил:
— У тебя же руки по локоть в крови будут. Не страшно?
— Кровь легко отмывается холодной водой, — сообщил ему бригадир.
Когда они уходили из кабинета, Андрей Андреевич, набрав воздуха побольше, зычно вызвал к себе дежурного. Тот кинулся внутрь, и дверь с грохотом захлопнулась за ним. Приотстав от Хантера, старик наклонился над конторкой, сорвал черную трубку с заветного аппарата, прижался к ней ухом.
— Алло! Алло! Слушаю вас! — громко прошептал он в решето микрофона.
Тишина. Не глухая, как если бы был обрезан провод, а гулкая, словно по ту сторону трубка была снята, но просто некому было ответить Гомеру. Будто там кто-то очень долго ждал, пока он подойдет к телефону, но так и не дождался. Будто вторая трубка сейчас кряхтела перевранным стариковским голосом в ухо мертвецу.
Хантер недобро глянул на Гомера от порога, и тот, осторожно вернув все на свои места, послушно последовал за ним.
* * *
— Попов! Попов! Подъем! Быстро вставай!
Пробивая веки и сквозь зрачки заливая огнем мозг, ударил мощный командирский фонарь. Сильная рука тряхнула его за плечо, потом наотмашь ладонью прошлась по небритой Артемовой щеке. Еле продирая глаза, потирая обожженную щеку, Артем скатился с койки на пол и распрямился, отдавая честь.
— Где оружие? Бери автомат, живо за мной!
Дремали, конечно, прямо в портках и вообще во всем обмундировании. Размотав ветошь, в которую на ночь был укутан служивший подушкой «калашников», Артем, все еще пошатываясь, затопал вслед за командиром. Сколько ему удалось проспать? Час? Два? В голове гудело, гортань пересохла.
— Начинается… — через плечо дохнул ему в лицо перегаром командир.
— Что начинается? — испуганно спросил он.
— Увидишь сейчас… Держи вот еще рожок. Тебе понадобится.
Тульская — просторная, лишенная колонн и кажущаяся просто верхушкой одного невообразимо толстого туннеля, была почти вся погружена во тьму. В нескольких местах конвульсивно метались слабые лучи света; в их перемещениях не было никакой системы, никакого смысла, словно фонари оказались в руках совсем малых детей или обезьян. Только откуда тут взяться обезьянам…
Разом просыпаясь, судорожно проверяя автомат, Артем вдруг понял, что случилось. Не удержали! Или еще не поздно?
Выскочив из караулки, к ним присоединились еще двое бойцов — опухшие, хриплые спросонья. Командир по пути соскребал все остатки, всех, кто мог стоять на ногах и держать оружие. Даже тех, кто уже покашливал.
В тяжелом, выдышанном воздухе несся странный, зловещий клич. Не крик, не вопль, не команда… Слитый из сотен глоток стон — надорванный, полный отчаяния, ужаса. Стон, обрамленный скупым железным позвякиванием и скрежетанием, доносящимся одновременно из двух, трех, десяти мест.
Платформа была загромождена прорванными и обвисшими палатками, перевернутыми жилыми будками, собранными из металлических листов, из кусков вагонной обшивки, фанерными прилавками, чьим-то брошенным скарбом… Командир, раздвигая груды хлама, словно ледокол — торосы, шагал впереди, а в его кильватере семенили Артем и другие двое.
Выступил из тьмы стоящий на правом пути обрубленный состав: свет в обоих вагонах погашен, раскрытые двери кое-как зарешечены кусками переносного заграждения, а внутри… За темными стеклами бурлила, варилась страшная человеческая масса. Десятки рук, схватившись за прутья хлипких заборов, качали, шатали, гремели. Расставленные у каждого из проходов автоматчики в противогазах время от времени подскакивали к чернеющим распахнутыми ртами провалам дверей, заносили приклад, но ни бить, ни тем более стрелять не отваживались. В других местах караульные, напротив, пытались уговорить, умиротворить бушующее человеческое море, втиснутое в железные коробки.
Но понимали ли еще что-нибудь люди в вагонах?
В состав их загнали потому, что из специальных отсеков в туннеле они начали разбегаться, и потому, что их становилось уже слишком много, больше, чем здоровых.
Командир пронесся мимо первого, второго вагона, и тут Артем наконец увидел, куда они так спешили. Последняя дверь, вот где прорвало нарыв. Из вагона вытекли наружу странные создания — с трудом держащиеся на ногах, до неузнаваемости изуродованные отеками на лицах, со вздувшимися, нехорошо растолстевшими руками и ногами. Бежать никто пока не успел: к двери стягивались все свободные автоматчики.
Вспоров оцепление, командир вышел вперед.
— Приказываю всем пациентам немедленно вернуться на свои места! — Он выдернул из офицерской поясной кобуры «стечкин».
Ближайший к нему зараженный трудно, в несколько приемов поднял распухшую пудовую голову, облизал треснувшие губы.
— Почему вы так с нами поступаете?
— Вы знаете, что поражены неизвестным вирусом. Мы ищем лекарство… Вам надо только дождаться.
— Вы ищете лекарство, — повторил за ним больной. — Смешно.
— Вернитесь в вагон немедленно. — Командир смачно щелкнул предохранителем. — Я считаю до десяти, потом открываю огонь на поражение. Один…
— Вы просто не хотите отнимать у нас надежду, чтобы хоть как-то нами управлять. Пока мы все сами не околеем…
— Два.
— Нам уже сутки не приносили воду. Зачем поить смертников…
— Караульные боятся подходить к решеткам. Двое так заразились. Три.
— В вагонах уже полно трупов. Мы топчемся по человеческим лицам. Знаешь, как хрустит нос? Если детский, то…
— Их некуда девать! Мы не можем их жечь. Четыре.
— А в соседнем так тесно, что мертвые продолжают стоять рядом с живыми. Плечом к плечу.
— Пять.
— Господи, да застрелите меня! Я-то знаю, что лекарства нет. Я умру быстро. Я больше не буду чувствовать, что все мои внутренности растирают на крупном наждаке, а потом поливают спиртом…
— Шесть.
— И поджигают. Будто в моей голове черви, которые жрут изнутри по кусочку не просто мой мозг, а душу… Ам, ам, хруп, хруп, хруп…
— Семь!
— Идиот! Выпусти нас отсюда! Дай нам умереть по-человечески! Почему ты считаешь, что у тебя есть право так нас мучить? Ты же знаешь, что и сам наверное уже…
— Восемь! Это все ради безопасности. Чтобы другие выжили. Сам я готов подохнуть, но из вас, суки чумные, никто отсюда не уйдет. Готовьсь!
Артем вскинул автомат, поймал на мушку ближайшего из больных… Боже, кажется, женщина… Под майкой, ссохшейся в бурую коросту, топорщились раздутые груди. Он заморгал и перевел ствол на шатающегося старика. Толпа уродов зароптала, подалась сначала назад, пробуя ужаться обратно в дверь, но уже не могла — из вагона свежим гноем напирали новые и новые зараженные, стонущие, плачущие.
— Садист… Что ты делаешь?! Ты же по живым людям сейчас… Мы тебе не зомби!
— Девять! — Голос командира сел и помертвел.
— Просто освободи нас! — заорал натужно больной и протянул к тому руки, словно дирижер, заставляя всю толпу всколыхнуться, податься вперед вслед за мановением своих пальцев. — Пли!..
* * *
Люди начинали стекаться к нему сразу, стоило лишь Леониду припасть губами к своему инструменту. Первых же звуков, еще пробных, неочищенных, исторгавшихся из дула его флейты, было довольно, чтобы собравшиеся начинали одобрительно улыбаться, ободряюще хлопать, а когда ее голос крепнул, лица слушавших преображались. С них будто сходила грязь.
Саше на сей раз полагалось особое место — рядом с музыкантом. Десятки глаз теперь были устремлены не только на Леонида, часть восхищенных взглядов перепадала и ей. Поначалу девушка чувствовала себя неловко — ведь она не заслужила их внимания и их благодарности, но потом мелодия подобрала ее с гранитного пола и понесла с собой, отвлекая от окружающего, как может увлечь и заставить позабыть обо всем хорошая книга или рассказанная кем-то история.
Вновь плыла та самая мелодия — его собственная, без названия; Леонид начинал и завершал ею каждое свое выступление. Она умела разгладить морщины, смахнуть пыль с остекленевших глаз и запалить маленькие лампадки по другую их сторону. Хоть она и была уже знакома Саше, но Леонид открывал в ней тайные дверцы, находя новые гармонии, и музыка обретала другое звучание… Словно она долго-долго смотрела на небо, и вдруг в прогалинах белых облаков на миг приоткрывалась бесконечная нежно-зеленая даль.
Тут ее кольнуло. Опешив, раньше срока возвращаясь под землю, Саша испуганно завертелась. Вот оно… На голову возвышаясь над толпой, чуть позади остальных слушателей стоял, вскинув подбородок, Хантер. Его взгляд — острый, зазубренный — был воткнут в нее, и если он ненадолго ослаблял хватку, то только чтобы пырнуть еще и музыканта. Тот на обритого внимания не обращал, по крайней мере, не подавал вида, что его игре кто-то мешает.
Как ни странно, Хантер не уходил, не делал и попыток забрать ее или оборвать выступление. И только дотерпев до последних аккордов, он подался назад и сгинул. Сразу бросив Леонида, Саша вклинилась в толпу, чтобы не отставать от обритого.
Тот остановился неподалеку, у скамьи, на которой сидел поникший Гомер.
— Ты все слышал, — просипел он. — Я ухожу. Пойдешь со мной?
— Куда? — Старик слабо улыбнулся подошедшей девушке. — Она все знает, — пояснил он обритому.
Хантер ткнул Сашу еще раз, потом кивнул, так и не сказав ей ни слова.
— Здесь недалеко, — повел он головой, обращаясь к старику. — Но я… Я не хочу оставаться один.
— Возьми с собой меня, — решилась Саша.
Обритый шумно вдохнул, сжал и разжал пальцы.
— Спасибо за нож, — произнес он наконец. — Он мне очень пригодился.
Девушка отпрянула, раненая, но тут же снова собралась с духом.
— Это ты решаешь, что делать с ножом, — возразила она.
— У меня не было выбора.
— Сейчас он у тебя есть. — Она прикусила нижнюю губу, нахмурилась.
— И сейчас нет. Если ты знаешь, то должна понимать. Если ты действительно…
— Понимать что?!
— Как важно попасть на Тульскую. Как мне важно… Побыстрее…
Саша видела, как мелко трясутся его пальцы, как разливается темное пятно на плече; ей становилось страшно и этого человека, и еще больше — страшно за него.
— Тебе нужно остановиться, — попросила она его мягко.
— Исключено, — отрезал он. — Неважно, кто это сделает. Почему не я?
— Потому что ты себя погубишь. — Девушка осторожно притронулась к его руке — тот дернулся, как от укуса.
— Я должен. Здесь и так все решают трусы. Если промедлить еще — погублю все метро.
— А что, если бы была другая возможность? Если бы было лекарство? Если бы тебе больше не пришлось?..
— Сколько можно повторять… Нет никаких средств от этой лихорадки! Неужели я бы стал…
Стал бы…
— Что бы ты выбрал? — Саша не отпускала его.
— Не из чего выбирать! — Обритый стряхнул ее ладонь. — Уходим! — гаркнул он старику.
— Почему ты не хочешь взять меня с собой?! — выкрикнула она.
— Боюсь. — Он выговорил это совсем негромко, почти прошептал так, чтобы, кроме Саши, никто его не услышал.
Он развернулся и зашагал прочь, буркнув лишь старику напоследок, что у того до выхода десять минут.
— Я ошибаюсь или тут кого-то лихорадит? — раздалось у Саши за спиной.
— Что?! — Она крутанулась и столкнулась с Леонидом.
— Мне послышалось, что вы говорили о лихорадке, — невинно улыбнулся он.
— Тебе послышалось. — Она не собиралась сейчас с ним ничего обсуждать.
— А я думал, сплетни все-таки подтверждаются, — задумчиво, словно сам себе, сказал музыкант.
— Какие? — Саша нахмурилась.
— Про карантин на Серпуховской. Про якобы неизлечимую болезнь. Про эпидемию… — Он внимательно смотрел на нее, ловя каждое движение ее губ, бровей.
— И долго ты подслушивал?! — Она зарделась.
— Никогда не делаю этого специально. Просто музыкальный слух. — Он развел руками.
— Это мой друг, — зачем-то объяснила она Леониду, кивая вслед Хантеру.
— Шикарный, — невнятно отозвался он.
— Почему ты говоришь «якобы» неизлечима?
— Саша! — Гомер поднялся со скамьи, не спуская подозрительного взгляда с музыканта. — Можно тебя? Нам нужно обсудить, как дальше…
— Позволите еще секунду? — Тот отмахнулся от старика вежливой улыбкой, отпрыгнул в сторону и поманил девушку за собой.
Саша неуверенно шагнула к нему; ее не оставляло ощущение, что схватка с обритым еще не проиграна, что, если не сдастся сейчас, у Хантера не хватит духа прогнать ее снова. Что она еще сможет помочь ему, пусть у нее и нет ни малейшего представления, как это сделать.
— Может быть, я слыхал об эпидемии куда раньше тебя? — прошептал ей Леонид. — Может быть, это не первая вспышка такой болезни? И вдруг от нее помогают какие-нибудь волшебные таблетки? — Музыкант заглянул ей в глаза.
— Но он говорит, что средства нет… Что придется всех… — пролепетала Саша.
— Ликвидировать? — закончил за нее Леонид. — Он… Это твой чудесный друг? Вот уж не удивлюсь. Слова не мальчика, но дипломированного врача.
— Ты хочешь сказать…
— Я хочу сказать, — музыкант положил руку на Сашино плечо, наклонился к ней и легонько дохнул ей в ушко, — что болезнь лечится. Есть средство.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. ДВОЕ
Старик сначала раздраженно кашлянул, потом сделал большой шаг к ним.
— Саша! Мне нужно с тобой поговорить!
Леонид, подмигнув девушке, отстранился от нее, с показной покорностью передавая Сашу в руки Гомера, и отошел в сторону. Но та уже не могла думать ни о чем другом. И пока старик ей что-то объяснял, убеждал, что Хантера еще можно уломать, что-то предлагал и о чем-то упрашивал, девушка смотрела через его плечо на музыканта. Тот на взгляд не отвечал, но летучая усмешка, блуждавшая по его губам, говорила Саше: он все видит, все понимает. Она кивала Гомеру, готовая согласиться со всем, лишь бы оказаться наедине с музыкантом еще на минуту, дослушать его до конца. Лишь бы самой поверить, что лекарство существует.
— Я сейчас вернусь, — так и не утерпев, обрубила она старика на полуслове, выскользнула и подбежала к Леониду.
— За добавкой? — встретил он ее.
— Ты должен мне сказать! — Она больше не хотела с ним играть. — Как?!
— С этим сложнее. Я знаю, что болезнь излечима. Знаю людей, которые с ней справлялись. И могу тебя к ним отвести.
— Но ты говорил, что умеешь бороться с ней…
— Ты меня неверно поняла. — Он пожал плечами. — Откуда мне? Я просто флейтист. Бродячий музыкант.
— Что это за люди?
— Если тебе интересно, я тебя с ними познакомлю. Правда, придется немного прогуляться.
— На какой они станции?
— Здесь не очень далеко. Сама все узнаешь. Если захочешь.
— Я тебе не верю.
— Но ведь хочешь верить, — заметил он. — Я тоже пока тебе не верю, поэтому и не могу всего рассказать.
— Зачем тебе нужно, чтобы я с тобой пошла? — прищурилась Саша.
— Мне?.. — Он покачал головой. — Мне все равно. Это тебе надо. Я не должен и не умею никого спасать. Во всяком случае, не так.
— Ты обещаешь, что приведешь меня к этим людям? Обещаешь, что они сумеют помочь? — поколебавшись, спросила она.
— Приведу, — твердо ответил Леонид.
— Что ты решила? — вновь прервал их неугомонный старик.
— Я не пойду с вами. — Саша теребила лямку своего комбинезона. — Он говорит, есть средство от лихорадки. — Она обернулась к музыканту.
— Он лжет, — неуверенно сказал Гомер.
— Вижу, вы разбираетесь в вирусах куда лучше моего, — почтительно произнес Леонид. — Изучали? Или на собственном опыте? Что, вы тоже считаете, что поголовное истребление — лучший способ борьбы с инфекцией?
— Откуда?.. — опешил старик. — Это ты ему?.. — Он оглянулся на Сашу.
— А вот и ваш дипломированный друг идет. — Завидев приближающегося Хантера, музыкант предусмотрительно сделал шаг назад. — Ну что же, вся бригада скорой помощи в сборе, я начинаю чувствовать себя лишним.
— Подожди, — попросила девушка.
— Он лжет! Он просто хочет с тобой… Но даже если это правда, — горячо зашептал ей Гомер, — вы все равно ничего не успеете. Хантер вернется сюда с подкреплением самое позднее через сутки. Если ты останешься с нами, может быть, сумеешь уговорить… А этот…
— Я ничего не смогу, — угрюмо отозвалась Саша. — Его сейчас никто не остановит, я чувствую. Ему надо дать выбор. Чтобы расколоть его…
— Расколоть? — Гомер вздыбил брови.
— Я буду здесь раньше чем через сутки, — отступая, пообещала она.
* * *
Зачем он отпустил ее?
Почему дал слабину, позволил шальному бродяге похитить свою героиню, свою музу, свою дочь? Ведь чем пристальнее старик изучал Леонида, тем меньше тот ему нравился. Его большие зеленые глаза были способны отпускать неожиданно алчные взгляды, а по ангельскому лицу, когда парень думал, что на него никто не смотрит, скользили смутные тени…
К чему она музыканту? В лучшем случае, ценитель прекрасного наколет ее невинность на булавку и засушит в своей памяти — примятую, с осыпавшейся пыльцой всего очарования юности, которое невозможно ни запомнить, ни даже сфотографировать. Девчонка, обманутая, использованная, отряхнется, улетит, но очиститься и забыть ей удастся нескоро, тем более что чертов скоморох хочет заполучить ее обманом.
Тогда почему отпустил?
А из трусости. Потому что Гомер не осмеливался не только спорить с Хантером, но и даже задавать ему те вопросы, которые действительно тревожили старика. Потому что Саше, как влюбленной, прощались и ее отвага, и ее безрассудство. Проявил ли бы к нему бригадир то же снисхождение?
Гомер продолжал про себя называть его бригадиром — отчасти по привычке, но отчасти и потому, что это его успокаивало: ничего страшного, ничего особенного, это все тот же командир северного дозора с Севастопольской… Но нет. Плечом к плечу с Гомером сейчас шагал уже не прежний нелюдимый солдат удачи. Старик начинал понимать: его спутник перерождался на глазах… С ним творилось что-то страшное, и глупо было пытаться отрицать это, незачем было себя уговаривать…
Хантер вновь взял его с собой — на сей раз, чтобы показать ему кровавую развязку всей драмы? Сейчас он был готов уничтожить уже не только Тульскую, но и ютящихся в туннелях сектантов, а заодно и Серпуховскую вместе со всеми ее жителями и с солдатами введенного туда ганзейского гарнизона — по одному лишь подозрению, что кто-то из них мог заразиться. То же может ждать и Севастопольскую.
Чтобы убивать, ему уже не нужны были причины, он искал только поводы.
Гомер находил в себе силы лишь плестись за ним, завороженно, словно кошмарный сон, созерцая и документируя все его преступления. Оправдывая себя тем, что совершаются они во спасение, убеждая себя, что это меньшее зло. Безжалостный бригадир казался ему воплощением Молоха, а Гомер никогда не пытался перебороть судьбу.
Но девчонка ее, похоже, не признавала. И если старик в глубине души уже смирился с тем, что Тульская и Серпуховская будут обращены в Содом и Гоморру, Саша продолжала хвататься за малейшую надежду. Гомер перестал уговаривать себя, что еще могут обнаружиться пилюли, вакцина, сыворотка до того, как Хантер остановит эпидемию пламенем и свинцом. Саша была готова искать лекарство до последнего.
Гомер не был ни воином, ни врачом, а главное, он был слишком стар, чтобы верить в чудеса. Но частица его души все равно страстно желала чуда, мечтала о спасении. Он вырвал и отпустил от себя эту частицу — вместе с Сашей.
Просто свалил на девчонку то, что не осмелился бы сделать сам.
И в обреченности открыл для себя спокойствие.
Через сутки все будет кончено. А после старик дезертирует со службы, найдет себе келью и допишет свою книгу. Сейчас он уже знал, о чем она будет.
О том, как смышленый зверь нашел волшебную упавшую звезду, небесную искру, проглотил ее и стал человеком. О том, как, своровав у богов огонь, человек не управился с ним и дотла выжег мир. И о том, как в наказание спустя ровно сто веков у него была отнята та самая искра человеческого; но, лишенный ее, он не стал снова зверем, а обратился во что-то куда более страшное, чему нет даже имени.
***
Звеньевой ссыпал горсть патронов в карман и скрепил сделку с музыкантом крепким рукопожатием.
— За символическую доплату могу посадить вас на трамвай, — сообщил он.
— Предпочитаю романтические прогулки, — откликнулся Леонид.
— Ну, гляди. Вдвоем вас отпустить по нашим туннелям не могу, — попытался урезонить его звеньевой. — Все равно ведь с охраной пойдете. Документов у твоей нет… А так бы ты р-р-раз — экспрессом куда надо, а там уж наедине с ней остался, — громко зашептал он.
— А нам не надо наедине! — решительно заявила Саша.
— Будем считать, что это почетный эскорт. Как будто мы принц и принцесса Монако на променаде. — Музыкант отвесил девушке поклон.
— Какая принцесса? — не выдержала Саша.
— Монако. Было когда-то такое княжество. Прямо на Лазурном берегу…
— Слышь, — оборвал его звеньевой. — Если ты пешком хочешь, давай-ка собирайся. Рожок рожком, но ребятам к вечеру на базу надо. Эй, Костыль! — подозвал он к себе солдата. — Проводите этих двоих до Киевской, патрулям говорите, мол, депортация. Высадите их на радиальную и обратно. Все правильно? — обернулся он к Леониду.
— Так точно, — шутливо козырнул тот.
— Заходите еще! — подмигнул ему звеньевой.
И все же, до чего земли Ганзы отличались от всего остального метро! За весь перегон от Павелецкой до Октябрьской Саша не видела ни единого места, где было бы совершенно темно. Через каждые пятьдесят шагов на провод, ползущий по стене, были насажены электрические лампочки. Света любой из них как раз доставало, чтобы дотянуться до соседней. Даже рукава запасных и тайных туннелей, уходящих в сторону от главного, были хорошо освещены, и в них не оставалось ничего пугающего.
Была бы Сашина воля, она бросилась бы бежать вперед, лишь бы сберечь драгоценные минуты, но Леонид убедил ее, что спешить некуда. Куда они двинутся после Киевской, он объяснять наотрез отказался. Шагал не спеша со скучающим видом: наверное, даже в запретных для обычных жителей метро перегонах Кольца музыкант бывал нередко.
— Я рад, что у твоего друга свой подход ко всему, — заговорил он.
— О чем ты? — Саша нахмурилась.
— Если бы он так же сильно, как и ты, мечтал спасти гражданское население, пришлось бы брать его с собой. А так — разбились по парам, и каждый будет заниматься тем, чем ему хочется. Он — убивать, ты — лечить…
— Он не хочет никого убивать! — резко и чересчур громко сказала она.
— Ну да, просто такая работа… — Он вздохнул. — Да и кто я такой, чтобы его осуждать?
— А чем ты будешь заниматься? — не скрывая издевки, спросила Саша. — Играть?
— А я просто буду рядом с тобой, — улыбнулся Леонид. — Что еще надо для счастья?
— Ты это просто так говоришь. — покачала головой Саша. — Ты меня не знаешь совсем. Как я могу тебя сделать счастливым?
— Есть способы. На красивую девушку посмотреть достаточно — настроение поднимается. А уж…
— Ты считаешь, что разбираешься в красоте? — Она покосилась на него.
— Это единственное, в чем я разбираюсь. — Он важно кивнул.
— И что же во мне такого? — Морщинки наконец разгладились.
— Ты вся светишься!
Его голос вроде бы звучал серьезно; но спустя миг музыкант приотстал на шаг и скользнул по ней глазами.
— Жаль только, что ты любишь такую грубую одежду, — добавил он.
— А что в ней не так? — Она тоже замедлилась, чтобы отлепить от спины его щекочущий взгляд.
— Свет не пропускает. А я как мотылек… Всегда лечу к огню. — Он с нарочито дурацким видом помахал кистями рук.
— Темноты боишься? — слабо улыбнулась она, принимая игру.
— Одиночества! — Надев печальную маску, Леонид сложил лапки на груди.
И зря. Настраивая струны, он не рассчитал сопротивления, и самая тонкая, самая нежная, которая могла бы вот-вот запеть, звякнула и лопнула.
Легкий туннельный сквозняк, сдувший серьезные мысли и заставивший Сашу жонглировать игривыми намеками с музыкантом, разом стих. Она протрезвела и теперь корила себя за то, что поддалась ему. Неужели ради этого она бросила Хантера, оставила старика?
— Как будто ты знаешь, что это такое, — отрезала Саша и отвернулась.
* * *
Серпуховская, вся бледно-серая от страха, растаяла во мраке.
Бойцы в армейских противогазах отрезали ее от туннелей с обеих сторон, блокировали переход на Кольцо, и станция, предчувствуя беду, жужжала растревоженным ульем. Хантера с Гомером вели через зал с охраной, как большое начальство, и каждый обитатель Серпуховской старался заглянуть им в глаза — не знают ли они, что происходит на самом деле, не решена ли уже его судьба? Гомер уткнулся взглядом в пол — он не хотел запоминать эти лица.
Бригадир не отчитывался перед ним, куда собирается идти дальше, но старик и сам догадался. Впереди был Полис. Четыре станции метро, объединенные переходами, настоящий город с тысячами жителей. Негласная столица метрополитена, раздробленного на десятки враждующих феодальных княжеств. Оплот науки и прибежище культуры. Святыня, на которую не смел покушаться никто.
Никто, кроме старого Гомера, полоумного чумного гонца?
Но в последние сутки ему полегчало. Тошнота отступила, и чахоточный кашель, заставлявший его застирывать окровавленный респиратор, чуть ослаб. Может, организм сам справился с недугом? А может, и не было вообще никакого заражения? А? Просто он слишком мнителен; всегда знал это за собой, и все равно так перепугался…
Перегон за Серпуховской — темный, глухой — пользовался дурной славой. Насколько было известно Гомеру, до самого Полиса они не должны были встретить ни одной души, но вот промежуточный полустанок между обитаемой Серпуховской и жилой Боровицкой мог удивить странников. О Полянке в метро ходило немало легенд; если им верить, эта станция редко покушалась на жизни проходящих мимо, зато могла повредить их рассудок.
Старику случалось бывать здесь несколько раз, но ни с чем особенным он не сталкивался. Легенды давали объяснения и этому, Гомер знал их все. И теперь он изо всех сил надеялся, что станция и на сей раз останется такой же мертвой и заброшенной, как в лучшие времена.
Метров за сто до Полянки ему стало не по себе. С первыми же далекими отблесками белого электрического света на мраморе стен, с первыми же эхом переломленными звуками, долетавшими сюда со станции, старик заподозрил неладное. Он отчетливо слышал человеческие голоса… А этого никак не могло быть. Хуже того — Хантер, за сотни шагов неведомо как ощущавший присутствие любых живых существ, сейчас оставался совершенно глух и равнодушен.
На обеспокоенные взгляды он старику не отвечал, полностью погрузившись в себя, будто не видел того, что открывалось сейчас Гомеру… Станция была обжита! Когда успели? Гомер прежде частенько задумывался, почему, несмотря на всю тесноту, жители Полиса никогда не пытались освоить и присоединить пустующую Полянку. Помешать этому могли только суеверия. Но похоже, они одни уже были достаточно веской причиной, чтобы оставить странный полустанок в покое.
Пока кто-то не сумел преодолеть страх перед ней и развернуть здесь палаточный городок, провести освещение… Боже, до чего же расточительно тут обращались с электричеством! Еще даже до того, как выбраться из туннеля на платформу, старику пришлось прикрыть глаза ладонью, чтобы не ослепнуть: под потолком станции сияли ярчайшие ртутные светильники.
Поразительно… Даже Полис не выглядел так чисто и торжественно. На стенах не осталось ни следа пыли или копоти, и мраморные плиты сверкали, а потолок казался выбеленным лишь вчера. Сквозь проемы арок Гомеру не удалось углядеть ни единой палатки — еще не успели разместить? А может, сделают здесь музей? С чудаков, которые правят Полисом, станется…
Платформа постепенно заполнялась людьми. Им не было никакого дела ни до обвешанного оружием головореза в титановом шлеме, ни до ковылявшего рядом с ним чумазого старика. Приглядевшись к ним, Гомер понял, что не в силах больше сделать ни шага: у него отнялись ноги…
Каждый из подходивших к краю платформы был разряжен так, будто на Полянке снимался фильм о двухтысячных. Пальто и плащи с иголочки, пестрые дутые куртки, лазурно-синие джинсы… Где же ватники, где драная свиная кожа, где неизбывный бурый цвет метро, могила всех цветов? Откуда такое богатство?!
А лица… Это были лица людей, которым не пришлось в один миг потерять всю свою семью. Лица тех, кто еще сегодня видел солнце и кто, в конце концов, просто начал день горячим душем. Старик был готов ручаться за это головой. И еще… Многие из них казались Гомеру неуловимо знакомыми.
Удивительных людей становилось все больше и больше, они теснились у края платформы, но на пути не спускались. Скоро уже вся станция от туннеля до туннеля была заполнена нарядной толпой. На Гомера по-прежнему никто не смотрел. Куда угодно — в стену, в газеты, украдкой — друг на друга, масляно или любопытно, брезгливо или участливо, но только не на старика, словно тот был призраком.
Зачем же они здесь собрались? Чего ждут?
Гомер наконец пришел в себя. Где же бригадир? Как он объяснит необъяснимое? Почему ничего не сказал до сих пор?
Хантер остановился чуть поодаль. Его совсем не интересовала станция, запруженная людьми, сошедшими с фотографий четвертьвековой давности. Он тяжело уставился в пространство прямо перед собой, будто упершись в некую преграду, будто в нескольких шагах перед ним на уровне глаз в воздухе повисло нечто… Старик подобрался поближе к бригадиру, опасливо заглянул под забрало…
И тут Хантер нанес удар.
Сжатый кулак вспорол воздух, ушел слева направо по странной траектории, как если бы бригадир хотел полоснуть несуществующим клинком кого-то невидимого. Гомер, которого тот едва не задел, отскочил в сторону, а Хантер продолжил схватку. Он бил, отступал, обороняясь, пытался удержать кого-то стальным зажимом, а через секунду сам хрипел в удушье, еле высвобождался и бросался в атаку. Бой давался ему все труднее, незримый противник одолевал. Хантеру все тяжелее было подниматься на ноги после неслышных, но сокрушительных ударов; все медленнее и неувереннее становились его движения.
Старика не покидало ощущение, что он уже видел что-то подобное, и совсем недавно. Где и когда? И что, черт возьми, творилось с бригадиром? Гомер пытался звать его, но докричаться до одержимого было невозможно.
А люди на платформе не обращали на Хантера ни малейшего внимания; он не существовал для них точно так же, как они не существовали для него. Их явно заботило другое: они все тревожнее посматривали на наручные часы, недовольно надували щеки, переговаривались с соседями и сверялись с красными цифрами электронных часов над жерлом туннеля.
Гомер прищурился, глядя на них вслед за остальными… Это был счетчик, замеряющий время с момента прохода предыдущего поезда. Но его табло казалось неестественно вытянутым, десятизначным: восемь цифр до мигающего двоеточия и еще две — секундомер — после. Змеились красные точки, отсчитывая убегающие секунды, менялась последняя цифра в невероятно длинном числе: двенадцать с чем-то миллионов.
Раздался крик… Всхлип.
Старик отстал от загадочных часов. Хантер, неподвижный, ничком лежал на рельсах. Гомер бросился к нему, еле перевернул тяжкое неживое тело лицом кверху. Нет, бригадир дышал, хоть и рвано, а ран на нем не было видно, хоть глаза и закатились, как у мертвеца. Правая рука не разжималась; и только тут старик обнаружил, что Хантер все же не был безоружен в этом странном поединке. Из кулака выглядывала рукоять черного ножа.
Гомер отхлестал бригадира по щекам, и тот, стеная как похмельный, заморгал, приподнялся на локтях, обшарил старика мутным взором. Потом одним махом вскочил на ноги и отряхнулся.
Морок рассеялся: без следа сгинули люди в плащах и ярких куртках, погас слепящий свет, и пыль десятилетий снова осела на стенах. Станция была черной, пустой и безжизненной — именно такой, как Гомер помнил ее по своим предыдущим походам.
* * *
До самой Октябрьской никто больше не промолвил ни слова, только слышно было, как перешептываются и пыхтят, запинаясь кирзой о шпалы, приставленные к ним караульные. Саша злилась даже не на музыканта — на саму себя. Он… А что он? Вел себя так, как и должен был вести. В конце концов ей стало даже неловко перед Леонидом — не слишком ли она была резка с ним?
И вот на Октябрьской ветер переменился.
Совершенно естественно. Просто, увидев эту станцию, Саша позабыла обо всем на свете. За последние дни ей пришлось побывать в местах, в существование которых она раньше даже не поверила бы. Но Октябрьская затмевала своим убранством любую из них. Гранитные полы были устланы коврами — изрядно оплешивевшими, но все еще хранящими изначальные узоры. Светильники, отлитые в форме факелов, начищенные до блеска, заливали зал ровным молочным свечением. За расставленными тут и там столами сидели люди с лоснящимися лицами, занятые тем, что лениво перебрасывались между собой словами и бумагами.
— Здесь так… богато, — смущенно сказала Саша, чуть не свернув себе шею.
— Мне кольцевые станции напоминают куски свиного шашлыка, нанизанные на шампур, — шепнул ей Леонид. — Так и сочатся жиром… Кстати! Может, перекусим?
— Времени нет. — Она замотала головой, надеясь, что он не услышит приветственное урчание в ее животе.
— Да брось. — Музыкант потянул ее за руку. — Тут есть одно местечко… Все, что ты ела раньше, не идет ни в какое сравнение… Ребята, пообедать не против? — подключил он стражников. — Ты не волнуйся, через пару часов будем на месте. Про свиной шашлык я не случайно заговорил. Здесь такое делают…
Он чуть ли не в стихах повел рассказ о мясе, и Саша дрогнула, сдалась. Если до цели всего два часа, получасовой обед ничего не изменит… В запасе еще почти целые сутки, а кто знает, когда удастся перекусить в следующий раз?
И шашлык оказался достоен стихов. Но им дело не кончилось: Леонид попросил бутыль браги. Саша не удержалась, проглотила рюмку из любопытства, остальное музыкант распил с охранниками. Потом она опомнилась, вскочила на размякшие ноги и строго приказала вставать Леониду.
Тем строже, что, пока обедали, разморенная жаркой брагой, она замешкалась и чуть запоздала стряхнуть со своей коленки его пальцы. Легкие, чуткие. Нахальные. Тот сразу поднял руки — «Сдаюсь!» — но кожа запомнила его прикосновение. Зачем прогнала так быстро, спросила себя Саша, путаясь, и сама себя наказала щипком.
Надо было теперь стереть эту кисло-сладкую обеденную сцену из памяти, заболтать ее чем-нибудь бессмысленным, припорошить сверху словами.
— Здесь странные люди, — сказала она Леониду.
— Чем? — Он махом осушил стакан и наконец вылез из-за стола.
— У них в глазах чего-то не хватает…
— Голода, — определил музыкант.
— Нет, не только… Им как будто больше ничего не надо.
— Это потому что им больше ничего не надо, — хмыкнул Леонид. — Они сыты. Ганза-царица кормит. А что глаза? Нормальные осоловелые глаза…
— Когда мы с отцом жили, — Саша посерьезнела, — нам столько на три дня хватило бы, сколько мы сегодня недоели… Может, надо было забрать, отдать кому-нибудь?
— Ничего, собакам скормят, — ответил музыкант. — Нищих тут не держат.
— Но ведь можно было бы отдать на соседние станции! Где голод…
— Ганза благотворительностью не занимается, — встрял в разговор один из караульных, тот, которого назвали Костылем. — Пусть сами крутятся. Еще не хватало бездельников на себе тянуть!
— А ты сам коренной, с Кольца? — поинтересовался Леонид.
— Всегда тут жил! Сколько себя помню!
— Тогда ты, наверное, не поверишь, но те, кто родился не на Кольцевой, тоже иногда должны жрать, — сообщил ему музыкант.
— Пусть жрут друг друга! Или, может быть, лучше у нас все отнять и поделить, как красные говорят?! — напирал солдат.
— Ну, если все будет продолжаться в том же духе… — начал Леонид.
— То что? Ты помолчи-ка, шпендель, потому что ты уже тут наговорил на депортацию!
— На депортацию я наговорил еще раньше, — флегматично отозвался музыкант. — Мы сейчас этим и занимаемся.
— А могу тебя и сдать куда надо! Как красного шпиона! — загорячился караульный.
— А я тебя за пьянку на дежурстве…
— Ах ты… Да ты же сам нам… Да ты…
— Нет! Простите нас… Он ничего такого не хотел сказать, — вмешалась Саша, вцепилась музыканту в рукав, оттащила его от тяжело задышавшего Костыля.
Она чуть не силой выволокла Леонида к путям, посмотрела на станционные часы и ахнула. За обедом и спорами на станции прошло почти два часа. Хантер, с которым она взялась соревноваться в скорости, наверняка не остановился ни на секунду…
Музыкант за ее спиной пьяно засмеялся.
Весь путь до Парка Культуры караульные не переставали недобро шипеть. Леонид то и дело порывался ответить им, и Саше приходилось то осаживать музыканта, то смирять его уговорами. Хмель никак не выветривался из его головы, добавляя ему и храбрости, и наглости; девушка еле изворачивалась, чтобы оставаться вне досягаемости его разгулявшихся рук.
— Я тебе совсем не нравлюсь? — обижался он. — Не твой тип, да? Ты же не таких любишь, тебе мышцы подавай… Шраааамы… Что же ты пошла со мной?
— Потому что ты мне пообещал! — Она оттолкнула Леонида от себя. — Я не за тем…
— Я не та-ка-я! — Он грустно вздохнул. — Вечная тема. Знал бы я, что ты такая недотрога…
— Как ты можешь?! Там же люди… Живые… Они все умрут, если мы не успеем!
— А что я сделаю? Я еле ноги передвигаю. Знаешь, какие они тяжелые? На вот, попробуй… А люди… Все равно умрут. Завтра или через десять лет. И я, и ты. И что?
— Так ты врал? Ты врал! Гомер говорил мне… Предупреждал… Куда мы идем?
— Нет, не врал! Хочешь, поклянусь, что не врал? Сама увидишь! Еще извиняться будешь! И пусть тебе потом будет стыдно, и ты мне скажешь: Леонид! Мне так со-вест-но… — Он наморщил нос.
— Куда мы идем?!
— Идем дорогой тру-у-удной… Мы в Город Изумру-у-удный. Что-то там трам-пам-пам… Дорогой непростой, — дирижируя указательным пальцем, запел музыкант; потом выронил из рук футляр с флейтой, выругался, нагнулся подобрать и чуть сам не свалился.
— Вы, пьянь! До Киевской сами дойдете вообще? — окликнул их один из стражников.
— Вашими молитвами! — поклонился ему музыкант. — И Элли возвратится… — продолжил он песню, — и Элли возвратится… С Тотошкою… Гав! Гав! Домой…
***
Гомер никогда не верил в легенду Полянки, и вот она решила его проучить.
Некоторые называли ее Станцией судьбы и чтили как оракула.
Некоторые верили, что паломничество сюда в переломный момент жизни может приоткрыть завесу над будущим, намекнуть и дать ключ, предсказать и предопределить остаток пути.
Некоторые… Но все здравомыслящие люди знали, что на станции случаются выбросы ядовитых земляных газов, воспаляющих воображение и вызывающих галлюцинации.
К дьяволу скептиков!
Что же могло означать его видение? Старику казалось, что он в шаге от разгадки, но потом мысли сбивались, путались. И перед глазами снова вставал Хантер, рубящий воздух черным лезвием. Дорого бы Гомер отдал, чтобы узнать, что предстало бригадиру, с кем он боролся, что за поединок окончился его поражением, если не гибелью…
— О чем думаешь?
От неожиданности старику спазмом скрутило внутренности. Ни разу прежде Хантер не заговаривал с ним без веской причины. Лай приказов, недовольное рычание скупых ответов… Как ждать разговора по душам с тем, у кого нет души?
— Так… Ни о чем, — запнулся Гомер.
— Думаешь. Я слышу, — ровно произнес Хантер. — Обо мне. Боишься?
— Сейчас нет, — соврал старик.
— Не бойся. Тебя не трону. Ты мне… напоминаешь.
— Кого? — осторожно спросил Гомер после полуминутного молчания.
— Что-то обо мне. Я забыл, что во мне такое есть, а ты мне напоминаешь. — Вытаскивая из себя и выкладывая одно за другим тяжелые слова, тот смотрел вперед, в черноту.
— Так ты для этого меня с собой взял? — Гомер был одновременно и разочарован, и озадачен; он-то ожидал чего-то…
— Для меня важно держать это в голове. Очень важно, — отозвался бригадир. — И для остальных тоже важно, чтобы я… Иначе может быть… Как уже было.
— У тебя что-то с памятью? — Старик словно крался по минному полю. — С тобой что-то случилось?
— Я все отлично помню! — резко ответил тот. — Только себя самого вот забываю. И боюсь совсем забыть. Будешь мне напоминать, хорошо?
— Хорошо. — Гомер кивнул ему, хоть Хантер его сейчас и не видел.
— Раньше во всем был смысл, — трудно выговаривал бригадир. — Во всем, что я делал. Защищал метро, людей. Людей. Была четкая задача — устранять любую угрозу. Уничтожать. В этом был смысл, был!
— Но и сейчас…
— Сейчас? Я не знаю, что сейчас. Я хочу, чтобы снова все было так же ясно. Я же не просто так, я не бандит. Не убийца! Это ради людей. Я пробовал без людей жить, чтобы их уберечь… Но страшно стало. Очень быстро забывал себя… Нужно было к людям. Защищать их, помогать… Помнить. И вот Севастопольская… Там меня приняли. Там моя конура. Станцию надо спасти, надо помочь им. Какую цену ни пришлось бы заплатить. Мне кажется, если я это сделаю… Когда устраню угрозу… Это большое дело, настоящее. Может быть, тогда вспомню. Должен. Мне поэтому надо скорее, а то… Оно теперь все быстрее и быстрее катится. За сутки мне обязательно надо успеть. Все успеть — и в Полис, отряд собрать, и обратно… А пока ты напоминай мне, ладно?
Гомер скованно кивнул. Ему было страшно просто представить себе, что начнет твориться, когда бригадир окончательно позабудет себя. Кто останется в его теле, когда прежний Хантер уснет навек? Не тот ли… Не то ли, чему он проиграл сегодня иллюзорный бой?
Полянка осталась далеко позади: Хантер рвался к Полису, как спущенный с цепи, учуявший добычу волкодав. Или как спасающийся от преследователей волк?
В конце туннеля показался свет.
* * *
Кое-как выплыли на Парке Культуры. Леонид пробовал еще помириться с охраной, зазывал всех в «один прекрасный ресторан», но теперь стражники были настороже. Даже в отхожее место ему удалось отпроситься с великим трудом. Один из сопровождающих взялся их караулить, другой, пошептавшись с ним, скрылся.
— Деньги еще остались? — в лоб спросил у музыканта тот, что дежурил под дверью.
— Чуть-чуть. — Тот выложил на растопыренной ладони пяток патронов.
— Давай сюда. Костыль вас заложить решил. Считает, что ты провокатор красных. Если он угадал — здесь переход на вашу линию, ну ты должен знать. Если нет, можешь тут подождать, пока за тобой контрразведка придет, а с ними уж сам добазаривайся.
— Разоблачили, да? — Леонид пытался сдержать икоту. — Ладно! Пускай… Мы еще вернемся! Благодарю за службу! — Он вскинул руку в незнакомом приветствии. — Слушай… Ну его, этот переход! До туннеля доведи лучше, а?
Схватив Сашу, музыкант с удивительным проворством, хоть и спотыкаясь, заковылял первым.
— Добрый какой! — бурчал он себе под нос. — Здесь переход на вашу линию… Сам не хочешь подняться? Сорок метров глубины. Будто не знает, что там все закупорено давно…
— Куда мы? — Саша уже ничего не понимала.
— Как куда… На Красную линию! Ты же слышала — провокатор, поймали, разоблачили… — бормотал Леонид.
— Ты красный?!
— Де-во-чка моя! Не спрашивай меня сейчас ни о чем! Я или думать могу, или бежать. Бежать нам нужнее… Сейчас наш друг тревогу поднимет… Еще и пристрелит при задержании… Денег ведь нам мало, нам нужно еще медаль…
Они нырнули в туннель, оставив караульного снаружи. Прижимаясь к стене, побежали вперед, к Киевской. До станции добраться все равно не успеют, поняла Саша. Если музыкант прав, и второй охранник сейчас сам указывает, куда ушли беглецы…
И вдруг Леонид свернул налево, в светлый боковой туннель — так уверенно, словно шел к себе домой. Еще несколько минут — и вдалеке показались флаги, решетки, наваленные из мешков пулеметные гнезда, послышался лай собак. Пограничная застава? Предупредили ли их уже о побеге? Как он собирается вырваться отсюда? И чья земля начинается по другую сторону баррикад?
— Я от Альберта Михайловича. — Музыкант ткнул подбежавшему постовому в нос странного вида документ. — Мне бы на тот берег.
— По обычному тарифу, — заглянув в корочку, определил тот. — Где на барышню бумаги?
— Давайте по двойному. — Леонид вывернул карманы, выпотрашивая последние патроны. — А барышню вы не видели, ладно?
— Давайте-ка без «давайте», — посуровел пограничник. — Вы что, на базаре? Здесь правовое государство!
— Что вы! — деланно испугался музыкант. — Я просто решил, раз рыночная экономика, можно поторговаться… Не знал, что есть разница…
Через пять минут и Сашу, и Леонида, растрепанного и помятого, со ссаженной скулой и кровоточащим носом, швырнули в крохотную комнатку с кафельными стенами.
Лязгнула железная дверь.
Наступила тьма.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. В КЛЕТКЕ
В кромешной темноте оставшиеся человеку чувства обостряются. Запахи становятся ярче, звуки громче и объемнее. В карцере было слышно только, как кто-то скребется в пол, и нестерпимо воняло прелой мочой.
Но музыкант из-за выпитого, кажется, не слышал даже боли. Недолгое время он еще что-то бубнил себе под нос, потом перестал отзываться и засопел. Его не тревожило, что теперь их точно настигнет погоня. Не беспокоило, что станет с Сашей, без бумаг и оправданий пытавшейся пересечь границу Ганзы. И уж конечно, его оставляла совершенно равнодушным судьба Тульской.
— Ненавижу, — тихо сказала Саша.
Ему и это было все равно.
Вскоре во мраке, которым была затянута камера, обнаружилась дырка — стеклянный глазок в двери. Все прочее оставалось невидимым, но и этой прорехи Саше хватило: осторожно ощупывая черноту вокруг себя, она подползла к двери и обрушила на нее свои легкие кулаки. Та отозвалась, загремела, но, как только Саша оставила ее в покое, тишина вернулась. Охрана не хотела слышать ни грохота, ни Сашиных криков.
Время вязко текло вперед.
Сколько их продержат в плену? А может, Леонид нарочно привел ее сюда? Хотел отделить ее от старика, от Хантера? Вырвать из связки, заманить в ловушку? И все это только для того, чтобы…
Саша заплакала, уткнувшись в рукав: он впитывал и влагу, и звуки.
— Ты когда-нибудь видела звезды? — послышался голос, все еще нетрезвый.
Она не отвечала.
— Я тоже только на фотографиях, — сказал ей музыкант. — Солнце-то еле пробивается сквозь пыль и облака, а им на это не хватает сил. А сейчас проснулся вот от твоего плача и подумал, что вдруг увидел настоящую звезду.
— Это смотровой глазок. — Она проглотила слезы, прежде чем ответить.
— Знаю. Но вот что интересно… — Леонид кашлянул. — Кто же тогда на нас раньше смотрел с неба целой тысячей глаз? И почему отвернулся?
— Никого там никогда не было. — Саша тряхнула головой.
— А мне вот всегда хотелось верить, что кто-то за нами приглядывает, — раздумчиво произнес музыкант.
— Даже в этой камере до нас никому нет дела! — Ее глаза снова набухли. — Ты это подстроил, да? Чтобы мы не успели? — Она снова забарабанила в дверь.
— Если ты считаешь, что там никого нет, зачем стучать? — спросил Леонид.
— Тебе плевать, если все больные погибнут!
— Вот такое от меня впечатление, да? Обидно, — вздохнул он. — Но ты тоже, по-моему, не к больным рвешься. Боишься, что если твой возлюбленный отправится их резать, сам заразится, а лекарства-то нет…
— Неправда! — Саша еле держалась, чтобы не ударить его.
— Правда, правда… — Леонид пискляво ее передразнил. — И что в нем такого?
Саше не хотелось ничего ему объяснять, вообще с ним говорить не хотелось. Но она не смогла удержаться.
— Я ему нужна! Действительно нужна, без меня он пропадет. А тебе нет. Тебе просто играть не с кем!
— Ну, положим, ты ему нужна. Не то, чтобы сильно, но не отказываться же… А тебе-то он зачем, этот санитар леса? Злодеи привлекают? Или хочешь спасти пропащую душу?
Саша умолкла. Ее задело то, с какой легкостью музыкант читает ее чувства. Может, в них не было ничего особенного? Или это потому, что она не могла их скрыть? То тонкое, неосязаемое, что у нее не получалось и облечь в слова, из его уст звучало обыденно и даже пошловато.
— Ненавижу, — наконец выговорила она.
— Это ничего, я себя тоже не особо, — усмехнулся Леонид.
Саша села на пол. У нее снова потекли слезы — сначала от злости, потом от бессилия. Пока от нее что-то зависело, она не собиралась сдаваться. Но сейчас, в глухом карцере и с глухим спутником, у нее не оставалось шансов быть услышанной. Кричать не имело смысла. Стучаться не имело смысла. Уговаривать было некого. Ничто не имело смысла.
А потом на миг перед ней вдруг встала картина: высокие дома, зеленое небо, летучие облака, смеющиеся люди. И горячие капли на ее щеках показались ей каплями того самого летнего дождя, о котором ей рассказывал старик. Еще секунда — и наваждение исчезло, оставив после себя только легкое, волшебное настроение.
— Хочу чуда, — упрямо, с закушенной губой, сама себе сказала Саша.
И тут же в коридоре громко щелкнул тумблер, а камеру затопило нестерпимо ярким светом.
***
На десятки метров от входа в священную столицу метро, мраморную усыпальницу цивилизации, вместе с белыми лучами ртутных ламп распространялась благостная аура спокойствия и процветания. В Полисе не берегли свет, потому что верили в его магию. Обилие света напоминало людям об их прежней жизни, о тех далеких временах, когда человек еще не был ночным животным, не был хищником. И даже варвары с периферии тут вели себя сдержанно.
Блокпост на границе Полиса больше был похож не на укрепление, а на проходную в советском министерстве: стол, стул, два офицера в чистой штабной форме и при фуражках. Проверка документов, досмотр личных вещей. Старик нашарил в кармане паспорт. Визы вроде бы отменили, трудностей возникнуть не должно. Протянув офицеру зеленую книжечку, он покосился на бригадира.
Погруженный в себя, тот, кажется, не расслышал вопроса пограничника. Да был ли у него вообще паспорт, засомневался Гомер. Но если нет, на что он рассчитывал, так спеша сюда?
— Повторяю в последний раз, — офицер положил руку на лоснящуюся кобуру, — предъявите документы или немедленно покиньте территорию Полиса!
Гомер был уверен: бригадир так и не понял, чего от него хотят, и отозвался только на движение пальцев, ползущих к кнопке на кобуре. В одно мгновенье выйдя из своей странной спячки, Хантер молниеносно швырнул вперед раскрытую ладонь и вмял постовому кадык. Тот, синея, хрипя, рухнул навзничь вместе со стулом; второй бросился бежать, но старик знал — не успеет. В руке Хантера, будто туз из рукава шулера, возник вороненый палаческий пистолет, и…
— Подожди!
Бригадир замешкался на секунду, и сбежавшему бойцу хватило ее, чтобы взобраться на платформу, перекатиться и спрятаться от пуль.
— Оставь их! Нам надо на Тульскую! Ты должен… Ты просил напоминать тебе… Подожди! — Старик задыхался, не зная, что сказать.
— На Тульскую… — тупо повторил Хантер. — Да. Лучше потерпеть до Тульской. Ты прав.
Он грузно опустился на стол, положил рядом свой тяжелый пистолет, понурился. Улучив момент, Гомер поднял руки, побежал вперед, навстречу выскакивающим из арок стражникам.
— Не стреляйте! Он сдается! Не стреляйте! Ради всего святого…
Но его все равно скрутили, сорвали впопыхах респиратор, и потом только дали объясниться. Бригадир, снова впавший в свое странное оцепенение, не вмешивался. Он позволил им разоружить себя и покорно прошел в обезьянник. Уселся на нары, поднял голову, нашел старика и выдохнул:
— Тебе надо разыскать тут одного человека. Его зовут Мельник. Приведи его сюда. Я подожду…
Тот закивал, засобирался суетливо, начал протискиваться между столпившихся на входе караульных и любопытных, и тут его настиг оклик.
— Гомер!
Старик застыл, пораженный: никогда прежде Хантер не обращался к нему по имени. Он вернулся к прутьям арматуры, спаянным в неубедительную решетку, вопросительно посмотрел на Хантера, словно в ознобе обнявшего себя своими громадными ручищами. И тот неживым, глухим голосом подстегнул его:
— Недолго.
***
Дверь отворилась, и внутрь робко заглянул солдат — тот самый, что несколько часов назад отхлестал музыканта по лицу. Пинок — и он пролетел в камеру, чуть не повалившись на пол, разогнулся и неуверенно оглянулся назад.
В проходе стоял сухопарый военный в очках. Погоны на его френче были усыпаны звездами, жидкие русые волосы зализаны назад.
— Давай, тварь, — процедил он.
— Я… Мне… — заблеял пограничник.
— Не стесняйся, — подбодрил его офицер.
— Я извиняюсь за то, что сделал. И… ты… вы… я не могу.
— Плюс десять суток.
— Ударь меня, — сказал солдат Леониду, не зная, куда деть глаза.
— А, Альберт Михалыч! — Щурясь, музыкант улыбнулся офицеру. — А я вас уже заждался.
— Добрый вечер. — Тот тоже подтянул уголок губы. — Вот, пришел восстановить справедливость. Мстить будем?
— Мне руки беречь надо. — Музыкант поднялся, размял поясницу. — Думаю, вы сами накажете.
— По всей строгости, — кивнул Альберт Михайлович. — Месяц гауптвахты. И я, разумеется, присоединяюсь к извинениям этого болвана.
— Ну, вы же это не со зла. — Леонид потер ушибленную скулу.
— Это ведь останется между нами? — Металлический голос офицера предательски скрипнул.
— Я тут, видите, контрабанду вывожу. — Музыкант качнул головой в Сашину сторону. — Сделаете послабление?
— Оформим, — пообещал Альберт Михайлович.
Провинившегося пограничника бросили прямо в камере; задвинув засов, офицер повел их по узкому коридору.
— Я с тобой дальше не пойду, — громко сказала Саша музыканту.
— А если я тебе скажу, что мы и вправду идем в тот самый Изумрудный Город? — помявшись, чуть слышно спросил у нее Леонид. — Если скажу, что я неслучайно знаю о нем больше твоего деда? Что видел его сам, и не только видел? Что бывал там, и не просто бывал…
— Врешь.
— И что неспроста он, — невозмутимо продолжал музыкант, кивая на шагавшего впереди офицера, — так передо мной лебезит: знает, откуда я, знает и боится. И что в Изумрудном Городе уж наверняка найдется твое лекарство. И что идти до его ворот осталось всего-то три станции…
— Врешь!
— Знаешь, что? — рассерженно сказал ей Леонид. — Когда просишь чуда, надо быть готовым в него поверить. А то проглядишь.
— Надо еще и уметь отличать чудеса от фокусов, — огрызнулась Саша. — И ты меня этому научил.
— Я с самого начала знал, что нас выпустят, — ответил он. — Просто… Не хотел торопить события.
— Просто хотел потянуть время!
— Но я тебя не обманывал! Средство от болезни существует!
Они подошли к заставе. Офицер, изредка с любопытством оглядывавшийся на них, вручил музыканту его пожитки, вернул патроны, документы.
— Ну так что, Леонид Николаевич, — козырнул он, — контрабанду с собой забираем или на таможне оставим?
— С собой, — съежилась Саша.
— Ну, тогда совет да любовь, — напутствовал их Альберт Михайлович, провожая мимо тройных рядов брустверов, мимо вскакивающих со своих мест пулеметных расчетов, мимо решеток и сваренных из рельсов ежей. — С импортом, думаю, проблем не возникнет?
— Прорвемся, — улыбнулся ему Леонид. — Я не должен вам этого говорить, но честных чиновников нигде не бывает, и чем суровее режим, тем меньше сумма. Надо только знать, кому заносить.
— Вам, думаю, хватит и волшебного слова, — хмыкнул офицер.
— Пока действует не на всех. — Леонид опять потрогал скулу. — Что называется, я не волшебник, я только учусь.
— С вами будет приятно иметь дело… Когда выучитесь. — Альберт Михайлович склонил голову, развернулся и зашагал обратно.
Последний солдат открыл перед ними калитку, проделанную в толстой решетке, которая сверху донизу перегораживала туннель. За ней начинался пустой, прекрасно освещенный перегон, стены которого были местами опалены, местами выщерблены, словно от долгих перестрелок, а в самом конце виднелись новые полосы укреплений и растянутые от пола до потолка полотнища знамен.
При одном их виде у Саши заколотилось сердце.
— Чья это застава? — резко останавливаясь, спросила она у музыканта.
— Как чья? — Тот удивленно посмотрел на нее. — Красной Линии, естественно.
* * *
Ах, как давно мечтал Гомер снова попасть сюда, как давно не был в этих чудных местах…
На интеллигентской Боровицкой, сладко пахнущей креозотом, с ее уютными квартирками, устроенными прямо в арках, и читальней для монахов-браминов посреди зала — заваленные книгами долгие дощатые столы, низко свисающие лампы с тканевыми абажурами; с ее поразительно точно воссозданным духом дискуссионных кухонь кризисных и предвоенных лет…
На царственной Арбатской, выряженной в белое и бронзовое, почти под кремлевские палаты, с ее строгими порядками, с деловитыми военными, которые продолжали надувать щеки так, будто были непричастны к Апокалипсису…
На старой-престарой Библиотеке имени Ленина, которую опоздали переименовать, пока в этом еще оставался хоть какой-то смысл, которая уже была стара как мир, когда Коля только пришел в метро мальчишкой, на Библиотеке с ее романтическим капитанским мостиком перехода ровно посередине платформы, с ее усердно, но неумело восстановленной лепниной на протекающем потолке…
И на Александровском Саде, вечно полутемном, долговязом и угловатом, напоминающем слепнущего подагрического пенсионера, который все вспоминает свою комсомольскую юность.
Гомеру всегда было интересно, похожи ли станции на своих пигмалионов. Можно ли их считать автопортретами тех, кто их чертил? Впитали ли они в себя частицы тех, кто их строил? Одно он знал наверняка: на своих обитателей станции накладывали отпечаток, делясь с ними характером, заражая собственным настроением и болезнями.
Но вот сам Гомер со своим складом ума, со своими вечными раздумьями, со своей неизлечимой ностальгией, принадлежал, конечно, не суровой Севастопольской, а светлому, как само прошлое, Полису.
Жизнь распорядилась иначе.
И даже теперь, когда он наконец попал сюда, ему не оставляли лишних минут, чтобы пройтись по этим гулким залам, полюбоваться лепниной и литьем, пофантазировать… Он должен был бежать.
Хантеру с трудом удалось обуздать и усадить в клетку кого-то внутри себя, то самое страшное существо, которое он время от времени подкармливал человечиной. Но как только оно разогнет прутья этой внутренней клети, через миг ничего не останется и от хлипкой решетки, которая была снаружи. Надо спешить.
Он просил найти Мельника… Что это — имя, кличка? Или, может быть, пароль? Произнесенное вслух, оно возымело на караульных необъяснимое действие: разговоры о трибунале над схваченным бригадиром поутихли, а наручники, которые чуть было не защелкнулись на запястьях Гомера, вернулись в ящик стола. Пузатый начальник стражи лично взялся отвести старика.
Гомер с провожатым поднялись по лестнице, прошли по переходу, достигли Арбатской. Остановились у дверцы, охраняемой двумя в штатском, лица которых выдавали в них профессиональных убийц. За их спинами открывалась вереница служебных каморок. Пузатый попросил Гомера подождать, а сам затопал вперед по коридору. Не прошло и трех минут, как он выбрался обратно, удивленно оглядел старика и пригласил его пройти внутрь.
Тесный коридор привел их в неожиданно просторную комнату, стены которой все были задрапированы картами, схемами, обросли записками и шифровками, фотографиями и рисунками. За широким дубовым столом восседал немолодой костлявый человек с плечами такими широкими, словно он был одет в бурку. Из-под наброшенного кителя была выпростана только одна левая рука, и, приглядевшись, Гомер понял, в чем дело: правая была отнята почти целиком. Роста хозяин кабинета был богатырского — его глаза оказались почти вровень с глазами стоявшего старика.
— Спасибо. — Он отпустил пузатого, и тот с заметным сожалением притворил дверь с другой стороны. — Кто вы такой?
— Николаев Николай Иванович, — растерялся старик.
— Прекратите цирк. Если вы приходите ко мне, говоря, что с вами вместе мой ближайший товарищ, которого я похоронил год назад, у вас должна быть причина. Кто вы?
— Никто… — Гомер не кривил душой. — Но дело не во мне. Он жив, правда. Вам просто нужно пойти со мной, и скорее.
— Вот сейчас я думаю, ловушка это, идиотский розыгрыш или просто ошибка. — Мельник прикурил папиросу, пустил дым старику в лицо. — Если вы знаете его имя и пришли с этим именно ко мне, вы должны знать и его историю. Должны знать, что мы искали его каждый день больше года. Что потеряли из-за этого несколько человек. Должны знать, черт вас дери, как много он для нас значил. Может быть даже и то, что он был моей правой рукой. — Он криво усмехнулся.
— Нет, ничего такого… Он ничего не рассказывает. — Старик вжал голову в плечи. — Пожалуйста, давайте просто пойдем на Боровицкую. Времени мало…
— Нет, я никуда не побегу. И у меня есть уважительная причина.
Мельник опустил руку под стол, сделал ею странное движение и удивительным образом переместился назад, не вставая с места. Только через несколько секунд Гомер сообразил, что тот сидит в инвалидном кресле.
— Так что давайте-ка поговорим спокойно. Я хочу понять, в чем смысл вашего появления.
— Господи, — старик отчаялся уже донести что-либо до этого истукана, — просто поверьте мне. Он жив. И сидит в обезьяннике на Боровицкой. Во всяком случае, надеюсь, что он до сих пор там…
— Хотел бы я вам поверить. — Мельник замолчал, глубоко затянулся, и старик услышал, как потрескивает, сворачиваясь и сгорая, папиросная бумага. — Только чудес не бывает. Разбередили… Ладно. У меня есть свои версии того, чей это розыгрыш. Но проверять их будут специально обученные люди… — Он потянулся к телефону.
— Почему он так боится черных? — неожиданно для самого себя спросил Гомер.
Мельник осторожно положил трубку, так и не промолвив в нее ни слова. Втянул в себя всю папиросу до конца, сплюнул короткий окурок в пепельницу.
— Черт с тобой, прокачусь до Боровицкой, — сказал он.
* * *
— Я туда не пойду! Отпусти меня! Лучше тут останусь…
Саша не шутила, не кокетничала. Трудно сказать, кого ее отец ненавидел больше, чем красных. Они отняли у него власть, они перебили ему хребет, и вместо того, чтобы просто прикончить его, из жалости или из чистоплюйства обрекли его еще на долгие годы унижений и мук. Отец не мог простить людей, которые взбунтовались против него. Не мог простить тех, кто вдохновлял и подначивал предателей, тех, кто снабжал их оружием и листовками. Сам красный цвет вызывал у него приступы бешенства. И хотя под конец жизни он говорил, что не держит ни на кого зла и не хочет мстить, Саше казалось, что он просто оправдывает собственное бессилие.
— Это единственный путь, — растерянно сказал Леонид.
— Мы шли к Киевской! Ты не туда меня вел!
— Ганза десятилетиями воюет с Красной Линией, не мог же я признаваться первому встречному, что мы идем к коммунистам… Пришлось приврать.
— Ты без этого вообще не можешь!
— Ворота находятся за Спортивной, как я и говорил. Спортивная — последняя станция Красной Линии перед рухнувшим метромостом, тут уж ничего не поделать.
— Как мы туда попадем? У меня нет паспорта. — Она не спускала с музыканта настороженного взгляда.
— Доверься мне. — Он улыбнулся. — Один человек всегда сумеет договориться с другим. Слава коррупции!
Не слушая ее возражений, он схватил Сашу за запястье и потянул за собой. Прожектора второй линии обороны заставляли полыхать огромные кумачовые знамена, свисающие с потолка, туннельный сквозняк волновал их, и девушке казалось: она видит перед собой два мерцающих красных водопада. Знак?
Судя по тому, что она слышала о Линии, их должны были изрешетить на подступах… Однако Леонид спокойно шагал вперед, а уверенная улыбка не покидала его губ. Метров за тридцать до блокпоста ему в грудь уперся жирный луч прожектора. Музыкант только поставил футляр с инструментом на пол и смиренно поднял вверх руки. Саша сделала то же.
Подошли проверяющие — заспанные, удивленные. Было непохоже, что им вообще случалось встречать хоть кого-нибудь с другой стороны границы. На сей раз музыкант успел отозвать старшего в сторону прежде, чем тот спросил Сашины документы. Пошептал ему ласково на ухо, еле слышно звякнул латунью, и тот вернулся околдованный, умиротворенный. Звеньевой лично проводил их сквозь все посты и даже усадил на ждавшую ручную дрезину, приказав солдатам ехать к Фрунзенской.
Те взялись за рычаги и запыхтели, сдвигая дрезину с места. Саша, насупившись, разглядывала одежду, лица тех, кого отец приучил называть врагами… Ничего особенного. Ватники, застиранные пятнистые кепки с наколотыми звездами, выступающие скулы, впалые щеки… Да, они не лоснились, как дозорные Ганзы, но человеческого в них точно было ничуть не меньше. И в их глазах мелькало совсем мальчишеское любопытство, которое тем, кто жил на Кольце, видимо, было вообще незнакомо. Эти двое вряд ли даже слыхали о том, что случилось на Автозаводской почти десять лет назад. Враги ли они Саше? Можно ли вообще не формально, а искренне ненавидеть незнакомых людей?
Заговаривать с пассажирами солдаты не решались, только покряхтывали размеренно, наваливаясь на рычаги.
— Как тебе это удалось? — спросила Саша.
— Гипноз, — подмигнул ей Леонид.
— А что за документы ты им показываешь? — подозрительно посмотрела она на музыканта. — Как может быть, что тебя с ними повсюду пропускают?
— Разные паспорта на разные случаи, — уклончиво ответил он.
— Кто ты такой? — Чтобы больше никто ее не услышал, Саша была вынуждена подсесть к Леониду вплотную.
— Наблюдатель, — одними губами сказал он.
Если бы Саша не зажала себе рот, вопросы просто хлынули бы из нее; но солдаты слишком уж заметно пытались поймать смысл их разговора, даже скрипеть рычагами стараясь потише.
Пришлось дождаться станции Фрунзенской — усохшей, выцветшей, побледневшей и нарумяненной красными флагами. Щербатая мозаика на стенах, поглоданные временем колонны… Темные омуты сводов — хилые лампы свисали с протянутых между колонн проводов чуть выше голов невысоких здешних жителей, чтобы зря не разбрызгать ни лучика драгоценного света. Здесь было поразительно чисто: по платформе сновали сразу несколько беспокойных уборщиц. На станции было людно, но вот странно: в какую сторону Саша ни посмотрела бы, под ее взглядом все начинало шевелиться, суетливо дергаться, а за спиной тут же замирало и принималось шелестеть приглушенными голосами. Но стоило ей обернуться назад, как шепот прекращался, а люди возвращались к своим делам. И никто не желал взглянуть ей в глаза, словно это было чем-то неприличным.
— Тут нечасто бывают чужаки? — Она посмотрела на Леонида.
— Я сам здесь чужой. — Музыкант пожал плечами.
— Где же ты свой?
— В том месте, где люди не так убийственно серьезны… — усмехнулся он. — Где понимают, что одной жратвой человеку не спастись. Где не хотят забывать вчерашний день, хотя воспоминания и доставляют им боль.
— Расскажи мне про Изумрудный Город, — попросила Саша тихонечко. — Почему они… Почему вы прячетесь?
— Правители Города не верят жителям метро.
Леонид прервался, чтобы объясниться с караульными, дежурившими на входе в туннель, а потом, ныряя вместе с Сашей в густую тьму, подсадил огонек с железной зажигалки на фитиль масляной лампы и продолжил.
— Не верят, потому что люди в метро постепенно утрачивают человеческий облик. И потому что среди них до сих пор есть те, кто начинал ту страшную войну, хоть они и боятся в этом признаться даже своим друзьям. Потому что люди в метро неисправимы. Их можно только бояться, только сторониться, наблюдать за ними. Если они узнают об Изумрудном Городе, то сожрут и выблюют его, как жрут все, до чего дотягиваются. Сгорят полотна великих художников. Сгорит бумага и все, что на ней было. Будет истреблено единственное общество, которое достигло справедливости и гармонии. Рухнет обескровленное здание Университета. Затонет великий Ковчег. И ничего больше не останется. Вандалы…
— Почему вы считаете, что мы не сможем измениться? — Саше стало обидно.
— Не все так считают, — Леонид косил на нее глазом. — Некоторые пытаются что-то делать.
— Не очень-то они стараются, — вздохнула Саша, — раз даже мой старик о них не слышал.
— Зато кое-кто слышал их самих, — многозначительно обронил он.
— Ты о… музыке? — догадалась Саша. — Ты — один из тех, кто надеется нас изменить? Но как?
— Принуждением к прекрасному, — пошутил музыкант.
***
Кресло катил адъютант, а старик шагал рядом, еле поспевая, время от времени оглядываясь на приставленного к нему рослого охранника.
— Если вы и вправду не знаете всей истории, — говорил Мельник, — готов вам ее поведать. Будете развлекать ею сокамерников, если на Боровицкой я увижу не того… Хантер был одним из лучших бойцов Ордена, настоящим охотником. Чутье у него было просто звериное, и делу он отдавался без остатка. Он и учуял года полтора назад этих черных… На ВДНХ. Неужели и об этом ничего не слышали?
— На ВДНХ… — рассеянно повторил за ним старик. — Ну да, неуязвимые мутанты, которые читали мысли и умели становиться невидимыми… Я думал, они назывались Темными?
— Неважно, — отрезал Мельник. — Он первым раскопал слухи, забил тревогу, но тогда у нас не было ни сил, ни времени… Я ему отказал. Был занят другими делами. — Он повел культей. — Хантер отправился туда в одиночку. В последний раз, когда он со мной связывался, говорил, что эти твари подавляют волю, наводят ужас на все окрестности. А боец Хантер был просто невероятный, прирожденный, один стоил взвода…
— Знаю, — пробормотал Гомер.
— И никогда ничего не боялся. Отправил к нам мальчонку с запиской, мол, уходит наверх, разбираться с черными. Если пропадет, значит, угроза страшнее, чем он думал. Пропал. Погиб. У нас своя система оповещения. Каждый живой обязан раз в неделю сообщать. Обязан! Он уже больше года молчит.
— А что с черными?
— Мы хорошенько проутюжили всю местность «Смерчами». От черных с тех пор тоже больше ничего не слышно, — усмехнулся Мельник. — Не напишут, не позвонят… Выходы на ВДНХ закрыли, жизнь там наладилась. У мальчонки этого только случилось помешательство, но его, насколько мне известно, выходили. Живет себе нормальной человеческой жизнью, женился. А вот Хантер… На моей совести.
Он скатился по стальному пандусу с лестницы, распугивая собравшихся внизу монахов-книгочеев, развернулся, дождался запыхавшегося старика и добавил:
— О последнем сокамерникам лучше не рассказывай.
Еще через минуту вся процессия добралась наконец-таки до изолятора. Отпирать дверь в обезьянник Мельник не стал; оперся на адъютанта, стиснул зубы и поднялся, приник к глазку. Ему хватило и доли секунды.
Изможденно, будто весь путь с Арбатской он со своим увечьем проделал пешком, Мельник упал в кресло, скользнул по старику погасшим взором и огласил приговор:
— Не он.
* * *
— Я не думаю, что моя музыка принадлежит мне, — сказал Леонид неожиданно серьезно. — Я не понимаю, откуда она берется в моей голове. Мне кажется, что я — просто русло… Просто инструмент. Точно так же, как я подношу к своим губам флейту, когда хочу играть, кто-то другой подносит к своим губам меня — и рождается мелодия…
— Вдохновение, — прошептала Саша.
— Назови это так. — Он развел руками. — Как бы то ни было, это мне не принадлежит, это приходит извне. И я не имею права держать это в себе. Оно… путешествует по людям. Я начинаю играть и вижу, как вокруг меня собираются все эти богатые и нищие, покрытые коростами и сияющие от жира, и злые, и убогие, и великие. Все. И что-то моя музыка с ними делает, от чего они настраиваются на одну тональность. Я как камертон… Я могу привести их к гармонии, хоть ненадолго. И они будут звенеть так чисто… Будут петь. Как это объяснить?
— Ты хорошо объясняешь, — задумчиво сказала Саша. — Я так сама чувствовала.
— Я должен попробовать в них это заронить, — добавил Леонид. — В ком-то погибнет, в ком-то прорастет. Я никого не спасаю. У меня нет полномочий.
— Но почему другие жители Города не хотят нам помочь? Почему даже ты боишься признаться в том, что делаешь это?
Он молчал, и сохранял молчание до тех пор, пока туннель не уткнулся в станцию Спортивную, такую же зачахшую, блеклую, натужно-торжественную и скорбную одновременно, только еще и низкую, тесную, как бинты на голове, тяжеловесную. Здесь пахло дымом и потом, нищетой и гордыней. К Саше с Леонидом был немедленно приставлен шпик, который околачивался ровно в десяти шагах от них, куда бы они ни пошли. Девушка хотела сразу же двинуться дальше, но музыкант осадил ее.
— Сейчас нельзя. Придется подождать. — Он притулился на каменной гостевой скамье, щелкнул замками на футляре.
— Почему?
— Ворота могут открываться только в установленные часы. — Леонид отвел глаза.
— Когда? — Саша отыскала циферблат; если все было верно, оставалось уже меньше половины отмеренного ей времени.
— Я скажу тебе.
— Ты опять тянешь! — Она нахмурилась, отскочила от него. — Ты то обещаешь помочь, то стараешься задержать меня!
— Да, — он собрался с духом и поймал ее взгляд, — я хочу тебя задержать.
— Зачем?! Чего ради?..
— Я не играю с тобой. Поверь, я нашел бы, с кем играть, и мало кто стал бы отказываться. Думаю, я влюбился. Надо же, как коряво звучит…
— Думаешь… Ты этого даже не думаешь! Ты это говоришь, вот и все.
— Есть способ отличить любовь от игры, — серьезно сказал он.
— Когда обманываешь, чтобы заполучить человека, — это любовь?
— Настоящая любовь ломает всю твою жизнь, ей плевать на обстоятельства. А игру можно в них вписать…
— Мне с этим проще. — Саша глядела на него исподлобья. — У меня и не было никакой жизни. Веди меня к воротам.
Леонид тяжело уставился на девушку, прислонился к колонне, отгородился от Саши скрещенными на груди руками. Несколько раз набирал воздуха, словно намереваясь дать ей отповедь, но спускал его, так ничего и не произнеся. Потом сник, потемнел и признался:
— Я не смогу с тобой пойти. Меня не пустят обратно.
— Что это значит? — недоверчиво спросила Саша.
— Я не могу вернуться на Ковчег. Меня изгнали.
— Изгнали? За что?
— За дело. — Он отвернулся и теперь говорил совсем тихо, и, даже стоя в шаге от него, Саша разбирала не все. — Меня… оскорбил один человек. Смотритель библиотеки. Унизил при свидетелях. Той же ночью я напился и сжег библиотеку. Смотритель угорел вместе со всей семьей. Жаль, у нас нет казни… Я ее заслужил. Меня просто изгнали. Пожизненно. Обратного пути нет.
— Зачем тогда ты меня сюда вел?! — Саша сжала кулаки. — Зачем сжег еще и мое время?!
— Ты можешь попробовать достучаться до них, — пробормотал Леонид. — В боковом туннеле, в двадцати метрах от ворот, есть метка белой краской. Точно под ней, на уровне пола, — резиновый кожух, под которым кнопка звонка. Надо нажать три раза коротко, три длинно, три коротко, это условный сигнал для возвращающихся наблюдателей…
Он и вправду остался на станции — помог только Саше выбраться за все три блокпоста и побрел назад. На прощание попытался всучить ей старый автомат, который успел уже где-то раздобыть, но Саша не взяла. Три коротких, три длинных, три коротких… Вот и все, что ей сейчас может пригодиться. И еще фонарь.
Туннели за Спортивной начинались мрачные, глухие. Станция считалась последней обитаемой на всей линии, и каждый блокпост, через который ее проводил музыкант, больше походил на маленькую крепость. Но Саше не было страшно, совсем. Она думала только о том, что через час или полтора окажется на пороге Изумрудного Города.
А если Города не существует, то бояться и вовсе ни к чему.
Боковой туннель оказался точно там, где обещал Леонид. Отгороженный искалеченной решеткой, в которой Саша без труда нашла достаточно широкую щель, через несколько сотен шагов он действительно заканчивался стальной стеной гермоворот — вечной, непоколебимой.
Саша прилежно отсчитала от нее сорок своих шажков и выудила из темноты белую метку на мокрой, словно вспотевшей, стене. Кожух она тоже нашла сразу. Отогнула резину, нащупала звонок, сверилась с часами, которые ей отдал музыкант. Успела! Успела! Еле выждав несколько долгих минут, она закрыла глаза…
Три коротких.
Три длинных.
Три коротких.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. КТО ГОВОРИТ?
Артем опустил кипящий ствол вниз. Тыльной стороной ладони хотел утереть пот и слезы, но рука не могла добраться до глаз. Противогаз мешал. Может, снять его к чертям? Какая уже разница, в самом деле…
Казалось, зараженные ревели громче автоматных очередей. Иначе почему все новые и новые больные вырывались из вагона навстречу свинцовому шквалу? Неужели не слышали грохота, неужели не понимали, что их расстреливают в упор? На что надеялись? Или для них тоже уже не было разницы?
На несколько метров вокруг вскрывшегося выхода платформа была завалена разбухшими телами. Некоторые еще подергивались, и из глубины кургана полз чей-то стон. Бубон распахнутых дверей вытек до конца: оставшиеся в вагоне в ужасе ужались плотнее, прячась от пуль.
Артем обвел глазами других автоматчиков: только у него сейчас дрожат руки и трясутся колени? Никто из них не говорил ни слова. Вначале молчал даже командир. Слышно было только, как хрипит, стараясь сдержать кровавый кашель, переполненный поезд и как выплевывает проклятия последний умирающий под грудой мертвых.
— Изверги… Сволочи… Я же еще живой… Тяжело как…
Командир высмотрел-таки его, присел рядом и разрядил в несчастного остатки обоймы: жал курок до порожних щелчков. Поднялся, поглядел на свой пистолет, зачем-то вытер его о штаны.
— Соблюдайте спокойствие! — сипло крикнул он. — Попытки покинуть лазарет без разрешения будут караться и впредь…
— Что с трупами делать? — спросили у него.
— Обратно в поезд. Иваненко, Аксенов, займитесь!
Порядок был восстановлен. Артем мог возвращаться на свое место, пытаться уснуть: до побудки еще оставалось пара часов. Поспать бы хоть час, чтобы не свалиться завтра на дежурстве…
Получилось иначе.
Иваненко шагнул назад, замотал головой, отказываясь браться за гнилостные, разваливающиеся тела. Командир вытянул к нему руку с пистолетом, забыв, что патроны кончились, зло зашипел, а потом сразу клацнул бойком — впустую. Иваненко взвизгнул и бросился бежать.
И тут один из покашливавших бойцов вскинул автомат и неловко, криво ткнул командира в спину штык-ножом. Командир не упал, а остался на ногах и медленно обернулся через плечо к тому, кто ударил.
— Ты что это, сука? — тихо удивился он.
— Ты всех нас так скоро в расход… Тут на станции здоровых нет! Сегодня мы их, а завтра ты нас загонишь в эти вагоны… — заорал на него ударивший, пытаясь выдернуть из командира автомат, но почему-то не стреляя.
Никто не вмешивался. Даже Артем, сделавший было шаг к этим двоим, застыл в ожидании. Наконец штык вышел из спины. Командир, словно пытаясь почесаться, потянулся к ране, потом опустился на колени, уперся ладонями в скользкий пол, затряс головой. Хотел прийти в себя? Или проснуться?
Добивать командира никто не решался. Даже бунтовщик, который его зарезал штыком, испуганно отступил, а потом сорвал с себя противогаз и закричал на всю станцию:
— Братки! Хватит их мучить! Отпустите! Им все равно подыхать! И нам тоже! Что мы, не люди?!
— Не сметь… — неслышно сипел командир, стоя на коленях.
Автоматчики зароптали, совещаясь. В одном месте от дверей вагона отодрали решетки, еще в одном… Потом кто-то выстрелил зачинщику в лицо, и он кувырнулся назад, упал к другим мертвым. Но уже было поздно: зараженные с победным ревом выплескивались из поезда в зал, неуклюже бежали на своих толстых ногах, рвали у оробевших караульных автоматы, разбредались кто куда. И охранники тоже дрогнули: кто-то еще стрелял в больных, а другие смешивались с ними, уходили прочь со станции во все туннели: одни — на север, к Серпуховской, другие — на юг, к Нагатинской.
Артем стоял на месте, тупо глядя на командира. Тот не хотел умирать. Сначала он полз вперед на четвереньках, потом, поскальзываясь, встал и двинулся куда-то.
— А вот сейчас вам сюрприз… Думали, не подготовлюсь… — бормотал он.
Его блуждающий взгляд зацепился за Артема. На миг замерев, командир вдруг обычным своим голосом, не терпящим неповиновения, гаркнул:
— Попов! Отведи меня в радиорубку! Надо приказать северному блокпосту перекрыть ворота…
Артем подставил ему свое плечо, и они тяжело побрели мимо опустевшего поезда, мимо дерущихся людей, мимо гор хлама — в рубку, где стоял и телефон. Рана у командира, видимо, не была смертельной, но крови он терял много. Пока дошли, силы совсем покинули его, и он обмяк в забытьи.
Придвинув к двери стол, Артем схватил микрофон внутреннего коммутатора и вызвал северную заставу. Прибор пощелкивал, хрипел, будто надрывно дыша, и молчал, страшно молчал.
Если этот путь перекрывать поздно, Артем должен предупредить хотя бы Добрынинскую! Он кинулся к телефону, нажал на пульте одну из двух кнопок, подождал несколько секунд… Аппарат еще работал. Сначала в трубке шептало только эхо, потом послышалось стрекотание, и наконец пошли гудки.
Один… Два… Три… Четыре… Пять… Шесть…
Господи, пусть они ответят. Если они все еще живы, если до сих пор не заражены, пусть ответят, пусть дадут ему шанс. Пусть отзовутся прежде, чем больные успеют добраться до рубежей станции. Сейчас Артем был готов заложить душу, лишь бы на другом конце провода кто-нибудь снял трубку!
И тут случилось невозможное. Седьмой гудок оборвался на середине, послышалось кряхтение, далекая перебранка, и сквозь шорохи прорезался чей-то надтреснутый голос, задыхающийся от волнения.
— Добрынинская слушает!
* * *
Клетка была опущена в полумрак. Но Гомеру хватило и этого скупого света, чтобы увидеть: силуэт пленника был слишком тщедушный, слишком неживой, чтобы принадлежать бригадиру. Словно за решеткой сидело чучело — безвольное, поникшее. Кажется, охранник… Мертвый. Но где же Хантер?!
— Спасибо. Думал, не дождусь, — раздался утробный, глухой голос. — Мне там было… тесно.
Мельник крутанулся на своем кресле быстрее, чем успел обернуться Гомер. В проходе, отрезая им путь на станцию, стоял бригадир. Руки его были крепко сцеплены, будто одна не доверяла другой и боялась выпустить ее. К людям он повернулся своей изуродованной половиной.
— Это… ты? — У Мельника дернулась щека.
— Пока да. — Хантер странно кашлянул; не знай Гомер, что тот не умеет смеяться, он мог бы, обманувшись, принять этот звук за смех.
— Что с тобой?.. Что с лицом?..
Мельник наверняка хотел расспросить его совсем о другом; отмашкой он приказал охране выйти вон. Гомера оставили.
— Ты тоже не в лучшей форме. — Бригадир снова кашлянул.
— Ерунда, — скривился Мельник. — Жаль только, не могу тебя обнять. Черт тебя дери… Куда ты… Сколько мы тебя искали!
— Знаю. Мне надо было… побыть одному, — отрывисто выговорил Хантер. — Я… не хотел к людям. Хотел навсегда уйти. Но испугался…
— А что случилось тогда, с черными? Это от них у тебя? — Мельник кивнул на лиловые рубцы.
— Ничего. Мне не удалось их уничтожить. — Бригадир притронулся к шраму. — Я не сумел. Они меня… Переломили.
— Ты ведь оказался прав, — неожиданно горячо заговорил Мельник. — Ты прости меня, я вначале не обратил внимания, не поверил. У нас тогда было… Ты сам помнишь… Но мы их нашли, все выжгли подчистую. Думали, что тебя нет больше. Что они тебя… Я их из-за тебя… За тебя. Всех до единого!
— Я знаю, — хрипло, надрывно произнес Хантер. — И они знали, что так будет — из-за меня. Они все знали. Они людей умели видеть, и судьбу каждого. Ты даже не знаешь, на кого мы подняли руку… Он нам в последний раз улыбнулся… Послал их… Дал еще один шанс. А мы… Я их обрек, а вы исполнили. Потому что мы такие. Потому что чудовища…
— Что…
— Когда я к ним пришел… Они мне меня показали. Я как будто в зеркало смотрелся и видел все, как есть. Я про себя все понял. Про людей понял. Почему с нами все так случилось…
— О чем ты?! — Мельник уставился на своего товарища встревоженно, мельком глянул на дверь — не пожалел ли, что поспешил отослать охрану?
— Говорю тебе. Увидел себя их глазами, как в зеркале. Не внешность, а внутри… За ширмой… Они его выманили на свет, к зеркалу, чтобы мне показать. Людоеда. Чудовище. А человека я не увидел. Сам себя испугался. Проснулось. Я раньше врал себе… Говорил, защищаю, спасаю… Врал. Просто голодный зверь, рвал глотки. Хуже зверя. Зеркало исчезло, а оно… это… осталось. Проснулось и больше не хотело спать. Они думали, я себя убью после этого. Для чего мне жить было… А я не стал. Я должен был бороться. Сначала в одиночку… Чтобы никто не видел. Подальше от людей. Думал, могу сам наказать себя, чтобы они не карали. Думал, болью выгоню его… — Он прикоснулся к шрамам. — Потом понял, без людей оно одолеет. Забывал себя. И вернулся.
— Они же тебе мозги промыли! — тяжело произнес Мельник.
— Ничего. Уже все прошло. — Бригадир отнял руку от рубцов, и его голос переменился: он снова говорил глухо, мертвенно. — Почти все. Та история давно кончена, что сделано, то сделано. Мы теперь тут одни. Надо выкручиваться. Я не с этим пришел. На Тульской эпидемия. Может вырваться и на Севастопольскую, и на Кольцо. Воздушная лихорадка. Та самая, смертельная.
— Мне не докладывали. — Мельник глядел на него подозрительно.
— Никому не докладывали. Трусят. Врут. Скрывают. Не знают, что делать.
— Что ты от меня хочешь? — Тот подобрался в кресле.
— Ты сам знаешь. Опасность должна быть устранена. Дай мне жетон. Дай людей. Огнеметы. Нужно закрыть и очистить Тульскую. По необходимости — Серпуховскую и Севастопольскую. Надеюсь, дальше не ушло.
— Вырезать три станции на всякий случай? — переспросил Мельник.
— Чтобы спасти остальных.
— После такой бойни все возненавидят Орден…
— Никто ничего не узнает. Мы не оставим никого, кто мог бы заразиться… и увидеть.
— Такой ценой?!
— Ты не понимаешь? Если мы промедлим еще немного, спасать уже будет некого. Мы слишком поздно узнали об эпидемии. Другой возможности остановить ее не будет. Через две недели все метро будет сплошным чумным бараком, через месяц — кладбищем.
— Я должен сам убедиться…
— Ты не веришь мне, да? Считаешь, что я помешался? Не верил тогда и сомневаешься сейчас. Плевать. Пойду один. Как обычно. Хоть свою совесть сберегу.
Он развернулся, оттолкнул остолбеневшего Гомера, двинулся к выходу. Но последние слова, брошенные им, гарпуном вгрызлись в Мельника, потащили его следом за бригадиром.
— Стой! Возьми жетон! — Он суетливо зашарил под кителем и протянул застывшему Хантеру ничем не примечательную бляху. — Я… разрешаю.
Бригадир сгреб жетон из его костлявой ладони, сунул в карман, молча кивнул, наведя на Мельника долгий немигающий взгляд.
— Возвращайся, — проговорил тот. — Я устал.
— А я наоборот… полон сил, — кашлянул Хантер.
И сгинул.
* * *
Саша долго не отваживалась позвонить еще раз: незачем досаждать страже Изумрудного Города. Они уже наверняка слышали ее, а может, уже и успели как следует ее разглядеть. И если до сих пор не открыли вросшую в землю дверь, то только потому, что совещаются, не зная, впускать ли чужака, угадавшего пароль.
Что она им скажет, когда ворота все-таки распахнутся?
Будет говорить об эпидемии, которая бушует на Тульской? Захотят ли они вмешаться? Рискнут ли? А вдруг они все, точно как Леонид, умеют видеть человека насквозь? Может быть, сразу рассказать им и о лихорадке, которая поразила саму Сашу? Признаться другим в том, в чем она до сих пор не решалась признаться даже себе…
Да сможет ли Саша вообще их тронуть? Ведь если они уже давно одержали верх над страшной болезнью, почему не вмешаются, почему не отправят на Тульскую гонца с лекарством? Просто из страха перед обычными людьми? Или из надежды, что мор уничтожит их? Не они ли сами направили болезнь в большое метро?
Нет! Как она могла так подумать! Леонид говорил, что жители Изумрудного Города справедливы и человеколюбивы. Что они не казнят и даже не лишают свободы. И что среди той бесконечной красоты, которой они себя окружили, никто не осмеливается даже замыслить преступление.
Почему же тогда они не спасут обреченных? Почему не отопрут ей дверь?!
Саша позвонила еще. И еще.
За стальной стеной было так глухо, будто она была обманкой и ничего, кроме тысяч тонн каменистой земли, не скрывала.
— Они тебе не откроют.
Саша резко обернулась. Шагах в десяти от нее стоял музыкант — скособоченный, растрепанный, печальный.
— Тогда попробуй ты! Может быть, они тебя простили? — непонимающе взглянула на него Саша. — Ты ведь за этим пришел?
— Некому прощать. Там пусто.
— Но ты ведь говорил…
— Я соврал. Это не вход в Изумрудный Город.
— А где же?..
— Не знаю. И никто не знает. — Он развел руками.
— Но как же тебя везде пропускали? Разве ты не наблюдатель… Ты же… И на Кольце, и у красных… Ты меня сейчас обманываешь, да? Проболтался о Городе и теперь жалеешь! — Она жалко, ищуще старалась заглянуть ему в глаза, найти там подтверждение своих догадок.
— Я сам всегда мечтал туда попасть. — Леонид упрямо смотрел в землю. — Искал его много лет. Собирал слухи, читал старые книги. Только на это место приходил раз сто, наверное. Нашел этот звонок… Трезвонил в него сутки напролет. Все зря.
— Зачем ты меня обманул?! — Она пошла прямо на него; ее правая рука, ожив, сама скользнула за ножом. — Что я тебе сделала? За что ты так?!
— Я хотел тебя у них похитить. — Заметив оружие, музыкант отчего-то растерялся и вместо того, чтобы бежать, уселся на рельсы. — Думал, что если останусь с тобой наедине…
— А зачем вернулся?!
— Сложно сказать. — Он покорно глядел на нее снизу вверх. — Наверное, я понял, что переступил какую-то черту. Когда отправил тебя сюда… Остался один и задумался… Душа ведь не бывает черной от рождения. Сначала она прозрачная, а темнеет постепенно, пятнышко за пятнышком, каждый раз, когда ты прощаешь себе зло, находишь ему оправдание, говоришь себе, что это всего лишь игра. Но в какой-то момент черного становится больше. Редко кто умеет почувствовать этот момент, изнутри его не видно. А я вдруг понял, что вот именно здесь и сейчас я и переступаю грань, и потом уже стану другим. Навсегда. И пришел сознаться. Именно потому, что ты не заслужила.
— Но почему тебя тогда все так боятся? Почему заискивают?..
— Не меня, — вздохнул Леонид. — Папашу.
— Что?
— Фамилия «Москвин» тебе ни о чем не говорит?
— Нет. — Саша отрицательно покачала головой.
— Тогда ты, наверное, одна на все метро такая, — невесело усмехнулся музыкант. — В общем, папа — большой начальник. Начальник всей Красной Линии. Паспорт выправил мне дипломатический. Вот и пропускают. Фамилия редкая, связываться никто не рискует. Только если по незнанию.
— И что же ты… — Саша отодвинулась, недобро смотрела на него. — Наблюдаешь? Тебя за этим отправили?
— От меня избавились. Папаша понял, что человека из меня не сделать, и плюнул. Вот, позорю его фамилию потихоньку, — скривился Леонид.
— Ты с ним поссорился? — девушка прищурилась.
— Как можно поссориться с товарищем Москвиным? Он же памятник! Меня отлучили и прокляли. Я, видишь ли, с детства был юродивым. Все к картинкам тянулся красивым, к роялю, к книжкам. Мама испортила, хотела девочку. Отец спохватился, пробовал привить мне любовь к огнестрельному оружию и партийным интригам, а поздно. Мать приучала к флейте, отец отучал от нее ремнем. Профессора, который со мной занимался, сослал, приставил политрука. Все зря. Я уже успел прогнить. Не нравилась мне Красная Линия, казалась слишком серой. Хотел яркой жизни, хотел музыкой заниматься, картины писать. Папаша меня как-то отправил мозаику скалывать, в воспитательных целях. Чтобы я знал, что изящное тленно. И я сколол, чтобы не выпороли. Но пока разбивал ее, всю в деталях запомнил и сейчас сам такую смог бы выложить. А отца с тех пор ненавижу.
— Так нельзя про него говорить! — возмутилась Саша.
— Мне — можно, — улыбнулся музыкант. — Вот остальных за это расстреливают. А с Изумрудным Городом… Мне про него мой профессор рассказывал, шепотом, когда я еще маленьким был. И я решил, что обязательно разыщу вход, когда вырасту. Что должно быть на свете место, где то, ради чего я живу, имеет смысл. Где все живут ради этого. Где я буду не никчемным мелким ублюдком, и не принцем-белоручкой, и не наследным Дракулой, а равным среди равных.
— И не нашел. — Саша спрятала нож; отшелушив незнакомые слова, она сумела понять главное. — Потому что его нет.
Леонид пожал плечами. Поднялся, подошел к звонку, вдавил кнопку.
— Наверное, неважно, слышит меня там кто-то или нет. Наверное, неважно, есть ли вообще такое место на земле. Главное — я думаю, что оно где-то есть. И что меня кто-то слышит. Что я просто еще не заслужил того, чтобы мне открыли.
— Неужели тебе этого хватает? — спросила Саша.
— Всему человечеству всегда хватало, хватит и мне, — пожал плечами музыкант.
* * *
Старик выбежал на платформу вслед за исчезнувшим бригадиром, огляделся растерянно по сторонам — того нигде не было. Выкатился из изолятора и Мельник, посеревший, опустошенный, будто вместе с загадочным жетоном он вынул и отдал бригадиру свою душу.
Почему и куда сбежал Хантер? Почему бросил Гомера? Спрашивать у Мельника не стоило; от этого человека нужно было спрятаться подальше, прежде чем он вспомнит о существовании старика. Сделав вид, что догоняет бригадира, Гомер торопливо зашагал прочь, ожидая окрика в спину. Но Мельнику, похоже, до него больше не было дела.
Хантер сказал старику, что нуждается в нем, чтобы не забывать себя прежнего… Солгал? Может быть, просто не хотел, забывшись, сорваться и ввязаться в схватку в Полисе, которую мог проиграть, так и не добравшись до Тульской? Его инстинкты и умение умерщвлять были сверхъестественны, но даже он не решался в одиночку штурмовать целую станцию. Если так, то, сопроводив его до Полиса, старик уже отыграл свою роль и теперь был вышвырнут со сцены.
Действительно, исход всей истории зависел и от него тоже. И он приложил свою руку к тому, чтобы финал оказался именно таким, как планировал бригадир — или тот, кто говорил за него.
Что это был за жетон? Пропуск? Знак власти? Черная метка? Индульгенция авансом — за все грехи, которые Хантер так стремился взять на свою душу? Как бы то ни было, вырвав у Мельника жетон и согласие, бригадир окончательно развязал себе руки. Он не собирался никому исповедаться. Исповедаться! Да то, что взяло в нем верх, то страшное, что изредка выходило к зеркалу, не могло даже толком говорить…
Что же будет на Тульской, когда Хантер дорвется до нее? Сможет ли он утолить свою жажду, утопив в крови целую станцию, две, три? Или, наоборот, то, что он вынашивает в себе, от такого подношения разрастется бесконечно?
Кто из этих двоих звал Гомера за собой? Тот, что пожирал людей, или тот, кто боролся с чудовищами? Кто из них пал в фантомной схватке на Полянке? И кто после этого говорил со стариком, прося о помощи?
А вдруг… Вдруг Гомер должен был убить его и в этом было его настоящее предназначение? Вдруг остатки прежнего бригадира, почти задавленные и задохшиеся, потащили старика в этот поход, чтобы тот сам увидел все своими глазами, чтобы из ужаса или из милосердия прикончил Хантера предательским выстрелом в затылок где-нибудь в темном туннеле? Бригадир не мог сам лишить себя жизни, поэтому подыскал себе палача. Палача, которого не надо было ни о чем просить, который должен был оказаться достаточно догадливым, чтобы сделать все самому, обманув в Хантере того, второго, раздувающегося с каждым часом и не желающего умирать.
Но, даже наберись Гомер смелости, улучи он подходящий момент и сумей застать Хантера врасплох, что это дало бы? Мор ему в одиночку не сдержать. Значит, все-таки в этом цугцванге старику оставалось только наблюдать и записывать?
Гомер мог предположить, куда направился бригадир. Полумифический Орден, к которому, судя по всему, принадлежали и Мельник, и Хантер, по слухам, укрепился на Смоленской, в подбрюшье Полиса. Его легионеры были призваны защищать метро и его жителей от опасностей, с которыми не справились бы армии обычных станций… Вот и все, что Орден позволял о себе знать.
Старику нечего было и помышлять о том, чтобы попасть на Смоленскую, неприступную, как замок Аламут. Но и смысла в этом не было: чтобы снова встретить бригадира, нужно лишь вернуться на Добрынинскую… И ждать, пока колея, по которой катится Хантер, с неизбежностью выведет бригадира туда же, на место будущего преступления, к конечной станции этой странной истории.
Дать ему расправиться с зачумленными, обеззаразить Тульскую, а потом… Исполнить его невысказанную волю? Старик думал, что его роль в другом: сочинять, а не стрелять, давать бессмертие, а не отнимать жизни. Не судить и не вмешиваться, позволив героям книги действовать самим. Но когда вокруг по колено крови, трудно не замараться. Слава богу, что он отпустил девчонку с этим пройдохой. По крайней мере, уберег Сашу от зрелища страшной бойни, которую ей все равно не предотвратить.
Он сверился со станционными часами: если бригадир шел точно по графику, то у Гомера, пожалуй, оставалось в запасе еще немного времени.
Пара часов, чтобы побыть еще самим собой. И чтобы пригласить Полис на последнее танго.
* * *
— И как же ты собирался заслужить право войти? — спросила Саша.
— Ну… Это глупость, конечно… Своей флейтой. Думал, она может что-то исправить. Понимаешь… Музыка — самое мимолетное, самое эфемерное искусство. Она существует ровно столько, сколько звучит инструмент, а потом в одно мгновение исчезает без следа. Но ничто не заражает людей так быстро, как музыка, ничто не ранит так глубоко и не заживает так медленно. Мелодия, которая тебя тронула, останется с тобой навсегда. Это экстракт красоты. Я думал, им можно лечить уродство души.
— Ты странный, — сказала она.
— А сейчас я вдруг понял, что прокаженный не может лечить прокаженных. Что, если я тебе во всем не признаюсь, мне не откроют уже никогда.
— Думал, я тебя прощу? За твое вранье, за жестокость? — остро глянула на него Саша.
— Дашь мне еще один шанс? — Леонид вдруг улыбнулся ей. — Ты же говоришь, мы все имеем на него право.
Девушка настороженно молчала, не желая снова быть вовлеченной в его странные игры. Только что она почти поверила музыканту, его раскаянию, и вот — опять?
— Во всем, что я тебе рассказывал, была одна правда, — сказал он. — Средство от болезни есть.
— Лекарство? — Саша встрепенулась, готовая обмануться еще раз.
— Это не лекарство. Не таблетки и не сыворотка. Несколько лет назад вспышка такой болезни была у нас на Преображенской.
— Но почему даже Хантер об этом не знает?!
— Эпидемии не было. Сошла на нет сама собой. Эти бактерии очень чувствительны к радиации. От излучения с ними что-то происходит… Кажется, перестают делиться. Болезнь останавливается. Даже от небольших доз. Случайно открыли. Вот и все средство. Решение, так сказать, лежит на поверхности.
— Честно? — Взволнованная, она взяла его за руку.
— Честно. — Он накрыл ее ладонь своей. — Нужно просто связаться с ними, объяснить…
— Почему ты не сказал мне раньше? Ведь это же так просто! Сколько же людей умерли за это время… — Она высвободилась, сверкнула глазами.
— За один день? Вряд ли… Я не хотел, чтобы ты оставалась с этим душегубом, — пробормотал он. — И я с самого начала собирался сказать тебе все. Но хотел выменять эту тайну на тебя.
— А выменял меня на чужие жизни! — зло сказала Саша. — А это… Это ни одной не стоит!
— Я бы свою променял. — Музыкант поиграл бровью.
— Не тебе решать! Вставай! Надо бежать назад… Пока он не добрался до Тульской. — Девушка ткнула пальцем в часы, пошептала, вычисляя время, и ахнула. — Всего три часа осталось!
— Зачем? Я могу воспользоваться связью…
Они дозвонятся до Ганзы, все объяснят. Нам нет нужды самим бежать туда, тем более мы можем не успеть…
— Нет! — Саша замотала головой. — Нет! Он не поверит. Он не захочет поверить. Я должна сама ему сказать. Объяснить ему…
— И что будет потом? — ревниво спросил Леонид. — Отдашься ему на радостях?
— Какое твое дело? — огрызнулась она, но тут же, по наитию постигая искусство управления влюбленным мужчиной, добавила мягче: — Мне ничего от него не нужно. А без тебя мне сейчас не обойтись.
— Учишься у меня врать… — кисло улыбнулся музыкант. — Ладно, — вздохнул он обреченно. — Пойдем.
Спортивной они достигли лишь через полчаса: дозорные сменились, и Леониду пришлось заново втолковывать им, как девушка без паспорта может пересечь границы Красной Линии. Саша напряженно смотрела на часы, музыкант — на нее; было хорошо заметно: он колеблется, спорит с собой.
На платформе щуплые новобранцы навьючивали смрадную старинную дрезину тюками с каким-то добром, похмельные мастеровые сосредоточенно притворялись, что конопатят лопнувшие сосуды труб, ребятишки в форме разучивали недетскую песню. За пять минут у Саши и Леонида дважды пытались проверить документы, и очередная проверка — когда они почти уже вошли в туннель, ведущий к Фрунзенской, — затянулась сверх всякой меры.
Время убегало. Девушка не была даже уверена, что у нее остаются эти жалкие два с небольшим часа: ведь Хантера не мог остановить никто. Даже солдатики уже успели закончить погрузку, и дрезина, пыхтя, стала набирать скорость, приближаясь к ним. И тут Леонид решился.
— Я не хочу тебя отпускать, — сказал он. — Но и удержать не могу. Я думал сделать так, чтобы мы опоздали и тебе там было больше нечего искать. Но понимаю, что от этого ты все равно не станешь моей. Быть честным — худший способ соблазнить девушку. Но я устал врать. С тобой мне все время за себя стыдно. Выбирай сама, с кем хочешь остаться.
Выхватив у неспешного патрульного свой чудо-паспорт, музыкант неожиданно ловко ударил его в челюсть, свалив наземь, сжал Сашину руку, и они вместе шагнули на дрезину, которая именно в тот момент поравнялась с ними. Ошарашенный машинист обернулся и взглянул в револьверный ствол.
— Папа бы мной сейчас гордился! — расхохотался Леонид. — Сколько я от него слышал, что занимаюсь ерундой, что от меня с моей бабской дудкой никогда не будет толку! И вот я наконец веду себя, как настоящий мужчина, а его нет рядом! Какая жалость! Прыгай! — приказал он задравшему руки машинисту.
Тот, несмотря на скорость, послушно шагнул на пути, покатился с воплями, затих и пропал в гнавшейся за ними черноте. Леонид принялся сбрасывать поклажу, и с каждым упавшим на рельсы тюком мотор фырчал все бодрее. Чахнущая фара на носу дрезины глядела вперед неуверенно, подслеповато помаргивая; ее доставало только на ближайшие несколько метров. С визгом, будто царапали стекло, шарахнулся из-под колес крысиный выводок, отпрянул перепуганный обходчик, где-то далеко позади заныла надрывно сирена тревоги. Ребра туннеля мигали мимо все быстрее: музыкант выжимал из машины все, на что та была способна.
Пролетели мимо Фрунзенской; застигнутые врасплох, дозорные бросились врассыпную, словно такие же крысы, и, только когда дрезина уже оказалась в сотнях метров от станции, та раздосадованно взвыла в унисон со Спортивной.
— Сейчас начнется! — прокричал Леонид. — Главное, проскочить съезд на Кольцо! Там большая застава… Попробуют нас перехватить! Поедем прямо по ветке, в центр!
Он знал, чего бояться: из того самого бокового ответвления, что вывело их на Красную Линию, им в глаза хлестнул прожектор несущегося навстречу мотовоза. Их пути сливались через несколько десятков шагов, останавливаться было поздно. Музыкант вжал вытертую до блеска педаль в пол, Саша зажмурилась. Оставалось только надеяться, что стрелка переведена в нужную сторону и не отправит их в лобовое столкновение.
Грянул пулемет, вжикнули пули, пройдя в сантиметрах от ее ушей. Обдало гарью и жарким воздухом, вспыхнул и угас рев чужого двигателя: машины разминулись чудом, мотовоз вылетел на их колею через мгновение после того, как Сашина дрезина миновала развилку. Сейчас она, дрожа, скользила к Парку Культуры, а боевой мотовоз зашвырнуло в обратную сторону.
Они получили небольшую фору; до ближайшей станции хватит, а там? Дрезина замедлилась: туннель под уклоном пошел вверх.
— Парк почти у самой поверхности лежит… — оглядываясь назад, объяснил ей музыкант. — А Фрунзенская на полсотни метров в глубину… Только бы подъем пройти, дальше разгонимся!
К Парку Культуры они успели набрать скорость. Старинный, гордый, с высокими сводами, полуживой, полутемный, он оказался почти необитаем. Заперхала, прочищая заржавевшую глотку, сирена. Из-за кирпичных укреплений показались головы. Опаздывая, бессильно и зло залаяли им вслед автоматы.
— Можем даже остаться в живых! — засмеялся музыкант. — Еще немного везения и…
И тут в темноте за кормой сверкнула маленькая искра, потом полыхнула сильнее, слепя, догоняя… Прожектор мотовоза! Выставив вперед режущий луч, будто пику, стремясь насадить на него их дряхлую дрезину, мотовоз проглатывал расстояние между ними, и с каждым мигом оно становилось все короче. Снова забрехал пулемет, завизжали пули.
— Еще немного! Уже Кропоткинская!
Кропоткинская… Разлинованная на клетки и заставленная одинаковыми палатками, запущенная и неухоженная. Чьи-то приблизительные портреты на стенах, написанные недавно и уже потекшие. Флаги, флаги, так много, что они сливаются в одну сплошную багровую ленту, в стылую струю, бьющую из окаменевшей вены.
Тут уже вслед харкнул подствольный гранатомет, и дрезину накрыл ливень мраморных осколков, один из которых рассек Саше ногу, но неглубоко. Впереди солдатики принялись опускать шлагбаум, но дрезина, разошедшись, сшибла его, сама чуть не слетая с рельсов.
Мотовоз неумолимо приближался: его двигатель был в разы мощнее и без труда толкал обшитую сталью махину. Саше и музыканту пришлось залечь, укрыться за металлическим каркасом кузова…
Но через несколько мгновений борта двух дрезин просто сойдутся, и их возьмут на абордаж. Леонид, будто обезумев, вдруг начал раздеваться.
Впереди возникла застава, брустверы из мешков, стальные ежи: конец пути. Теперь их зажмет между двух прожекторов, между двух пулеметов, между молотом и наковальней.
Через минуту все будет кончено.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. ИЗБАВЛЕНИЕ
Цепочка растянулась на несколько десятков метров. Здесь были только лучшие севастопольские бойцы, каждого из них полковник отбирал лично. Перемигивались в туннельном сумраке маленькие нашлемные фонарики, и все боевое построение вдруг показалось Денису Михайловичу роем светляков, несущимся в ночь. В теплую и душистую крымскую ночь, над кипарисами, к шепчущему морю. Туда, куда полковник хотел бы отправиться после смерти.
Он стряхнул щекочущий озноб, нахмурился, отругал себя. Все же на старости лет стал сдавать… Пропустив мимо последнего бойца, он достал из нержавеющего портсигара единственную самокрутку, понюхал, чиркнул зажигалкой.
Это был хороший день. Удача улыбалась полковнику, и все складывалось так, как он задумал. Нагорную миновали без потерь, и даже единственный пропавший без вести вскоре нагнал колонну. Настроение у всех было превосходное: пойти под пули для них было куда менее страшно, чем увязнуть в нескончаемом ожидании и неизвестности. К тому же перед походом Денис Михайлович дал им наконец как следует выспаться. Только у самого заснуть так и не получилось.
Судьбу полковник всегда считал просто цепью случайностей и не понимал, как ей можно довериться. За все дни, прошедшие с ухода маленькой экспедиции в каховские туннели, от нее не было никаких вестей. Всякое могло случиться, Хантер не бессмертен. А имел ли Денис Михайлович право положиться только на бригадира, в своих нескончаемых войнах, может быть, повредившегося умом, и на старика-сказочника?
Он тоже больше не мог ждать.
План действий: провести основные силы севастопольцев через Нахимовский, Нагорную и Нагатинскую — к закрытым южным гермоворотам Тульской, а по поверхности отправить диверсионную группу на закупоренную станцию. Спустить диверсантов через вентиляционные колодцы в туннель, ликвидировать охрану, если она еще там есть, открыть затворы ударной бригаде… А дальше — дело техники, кто бы там ни захватил эту станцию.
Три дня ушло на поиск и расчистку шахт. Сегодня сталкерам останется только впустить диверсантов внутрь. И произойдет это уже через пару часов.
Через два часа все решится, и Денис Михайлович снова сможет думать о чем-то еще, снова сможет спать и есть.
План был простой, выверенный, безупречный. Но внутри у Дениса Михайловича тянуло, а сердце ухало так, словно ему было восемнадцать и он снова шел в свой первый бой в то горное село. Полковник прижег тревогу папиросным угольком, выбросил крошечный окурок, снова натянул маску и зашагал вперед, нагоняя отряд.
Вскоре бригада уперлась в стальные гермодвери. Теперь до начала штурма можно передохнуть, еще раз повторить с командирами звеньев расписанные и разученные роли.
В одном Гомер оказался прав, усмехнулся про себя полковник. Незачем брать крепость приступом, если можно сделать так, чтобы открыли изнутри. Ход конем; это не Гомер ли, часом, писал о взятии Трои?
Денис Михайлович сверился с дозиметром — фон низкий — и стащил противогаз. За ним то же самое сделали звеньевые, а потом и остальные бойцы. Ничего, пусть пока отдышатся.
* * *
В Полисе всегда было достаточно зевак, еле добравшихся сюда с бедных и темных окраинных станций и теперь блуждающих по его галереям и залам с распахнутыми глазами и отвалившейся от восторга челюстью. Так что Гомер, круживший по Боровицкой, нежно гладящий стройные колонны Александровского Сада, любовно и восхищенно оглядывающий кокетливые, похожие на девичьи сережки, люстры Арбатской, ничем среди них не выделялся.
Его сердце поймало и не выпускало предчувствие: это его последний раз в Полисе. То, что произойдет на Тульской через несколько часов, перечеркнет всю его жизнь, а может, и оборвет ее. Старик решил: он сделает то, что должен. Позволит Хантеру вырезать и сжечь станцию, а потом попробует убить его. Но если бригадир заподозрит предательство, он вмиг свернет Гомеру шею. А может, старик и сам погибнет при штурме Тульской. Если так — скоро ему умирать. А если все удастся, Гомер уйдет в затворники, чтобы заполнить все белые листы между уже готовой завязкой книги и ее финальной точкой, которую он поставит выстрелом Хантеру в затылок.
Сможет ли он? Посмеет ли? При одной мысли об этом у старика начинали подрагивать руки. Ничего, ничего; все это решится само. Сейчас не надо об этом думать, чрезмерные размышления заставляют сомневаться.
И слава богу, что он отослал от себя девчонку! Теперь Гомеру было уже непонятно, зачем он вовлек ее в свою авантюру, как мог позволить ей войти в клетку со львами. Заигрался в писателя, забыл, что она не плод его воображения…
Его роман получится не таким, не о том, как старик думал прежде. Но ведь с самого начала Гомер собирался взвалить на себя неподъемную ношу. Как уместить в одной книге всех людей? Взять даже толпу, сквозь которую старик сейчас шел, — ей будет тесно на книжных страницах. Гомер не хотел превращать роман в братскую могилу, где от столбиков имен рябит в глазах, где за бронзовыми буквами никогда не разглядеть лица и характеры павших.
Нет, ничего не выйдет. Даже его память — рассохшаяся от времени, давно давшая течь — не примет на борт всех этих людей. И изъеденное оспой лицо торговца сладостями, и бледное остроносое личико девочки, протягивающей ему патрон. Улыбку ее матери, светлую, как у Мадонны, и улыбку похотливую, клейкую — проходящего мимо солдата? И резкие морщины побирающихся тут же древних нищих, и смеющиеся морщинки у глаз тридцатилетней женщины?
Кто из них насильник, кто стяжатель, кто вор, кто предатель, кто потаскун, кто пророк, кто праведник, кто просто неравнодушный человек, а кто еще не определился — Гомер не знает этого. От него сокрыто, о чем на самом деле думает торговец сладостями, глядя на маленькую девочку, что означает улыбка ее матери, чужой жены, вспыхнувшая от искры солдатского взгляда, чем промышлял нищий, пока ему не отказали ноги. И поэтому не Гомеру решать, кто заслужил право на вечность, а кто нет.
Шесть миллиардов сгинули без следа; шесть миллиардов! Не случайно же всего лишь десятки тысяч смогли спастись?
Машинист Серов, на место которого Николай должен был заступить через неделю после Апокалипсиса, страстный болельщик, считал всю жизнь футбольным матчем. Все человечество проиграло, говорил он Николаю, а мы с тобой еще бегаем, не задумывался, почему? Потому что у нашей с тобой жизни нет определяющего счета, и судья дал нам дополнительное время. И за это время мы должны разобраться, зачем мы здесь, успеть завершить все дела, все выправить и тогда уже, приняв мяч, лететь к сияющим воротам… Он был мистиком, этот Серов. Гомер никогда не спрашивал у него, удалось ли ему забить гол. Но в том, что самому Коле еще только предстоит исправить личный счет, Серов его убедил. И от него же Гомеру досталась убежденность, что в метро нет случайных людей.
Но обо всех написать невозможно!
Стоит ли продолжать пытаться?
И тут среди тысячи незнакомых лиц старик увидел то, которое меньше всего рассчитывал сейчас увидеть.
* * *
Леонид скинул куртку, стащил свитер, а за ним и относительно белую майку. Флагом взметнул ее над головой и принялся размахивать, не обращая внимания на пули, которые плотной строчкой прошивали воздух вокруг него. И случилось странное: мотовоз начал отставать, а с маячившей впереди заставы по их дрезине огонь все не открывали.
— Вот теперь папа меня убил бы! — сообщил Саше музыкант, когда они с лету с диким скрежетом затормозили у самых ежей.
— Что ты делаешь? Что мы делаем? — Та не могла перевести дух, не могла понять, как они уцелели в этой гонке.
— Сдаемся! — Он засмеялся. — Это въезд на Библиотеку имени Ленина, погранзастава Полиса. А мы с тобой — перебежчики.
Подбежавшие дозорные сняли их с дрезины, переглянулись, проверив паспорт Леонида и, спрятав заготовленные наручники, проводили девушку и музыканта на станцию. Привели в сторожку и, почтительно перешептываясь, вышли за начальством.
Леонид, вальяжно развалившийся в плешивом кресле, тут же подскочил, выглянул за дверь и махнул Саше рукой.
— Здесь даже большие шалопаи, чем у нас на Линии! — фыркнул он. — Охраны нет!
Они выскользнули из комнаты, сначала не спеша, а потом все быстрее зашагали по переходу, наконец пустились бежать, взявшись за руки, чтобы толпа не разделила их. Спины им вскоре засвербило от трелей милицейских свистков, но затеряться на этой огромной станции было проще простого. Народу здесь было в десятки раз больше, чем на Павелецкой. Даже когда Саша воображала жизнь до войны, гуляя по поверхности, она не могла представить себе такое многолюдие! И светло здесь было почти как там, наверху. Саша спряталась в ладони, оглядывая мир вокруг через тоненькую смотровую щель между пальцами.
Ее глаза то и дело запинались о вещи, лица, камни, колонны — одни других удивительнее, и если бы не Леонид, если бы не их сцепленные пальцы, наверняка упала и потерялась бы. Когда-нибудь она обязательно должна сюда вернуться, пообещала себе Саша. Когда-нибудь, когда у нее будет больше времени.
— Саша?!
Девушка обернулась и встретилась взглядами с Гомером — испуганным, рассерженным, удивленным. Саша улыбнулась: оказывается, она успела соскучиться по старику.
— Что ты здесь делаешь? — Тот не мог задать более глупого вопроса двум удирающим молодым людям.
— Мы идем на Добрынинскую! — переводя дыхание, чуть замедляя шаг, чтобы старик поспел за ними, ответила она.
— Что за чушь! Ты не должна… Я тебе запрещаю! — Но его запреты, выдавленные сквозь натужное пыхтение, не могли ее убедить.
До заставы на Боровицкой они добрались еще до того, как пограничников успели предупредить о побеге.
— У меня мандат от Мельника! Срочно пропустите! — сухо приказал Гомер дежурному офицеру.
Тот приоткрыл было рот, но, так и не собравшись с мыслями, отдал старику честь и освободил проход.
— Вы сейчас соврали? — вежливо спросил у Гомера музыкант, когда застава осталась далеко позади и совсем утонула в темноте.
— Какая разница? — сердито буркнул старик.
— Главное — делать это уверенно, — оценил Леонид. — Тогда заметят только профессионалы.
— К черту лекции! — нахмурился Гомер, щелкая садящимся фонарем. — Мы дойдем с вами до Серпуховской, но дальше я вас не пущу!
— Ты просто не знаешь! — сказала Саша. — Средство от болезни нашлось!
— Как… нашлось? — старик сбился с шага, закашлялся, посмотрел на Сашу — робко, странно.
— Ну да! Радиация!
— Бактерии становятся безвредными под действием излучения, — пришел на помощь музыкант.
— Да микробы и вирусы в сотни, тысячи раз лучше человека сопротивляются радиации! А от облучения иммунитет падает! — теряя власть над собой, закричал старик. — Что ты ей наговорил! Зачем ты ее туда тащишь?! Ты хоть понимаешь, что там сейчас будет! Ни мне, ни вам его уже не остановить! Забери ее, спрячь! А ты… — Гомер обернулся к Саше: — Как ты могла поверить… Профессионалу! — презрительно выплюнул он последнее слово.
— Не бойся за меня, — негромко сказала девушка. — Я знаю, что Хантера можно удержать. У него две половины… Я видела обе. Одна хочет крови, но вторая пытается спасти людей!
— Что ты говоришь! — Гомер всплеснул руками. — Там нет уже никаких частей, там одно целое. Чудовище, запертое в человеческом теле! Год назад…
Но пересказанный стариком разговор между обритым и Мельником ни в чем не убедил Сашу. Чем дольше она слушала Гомера, тем больше уверялась в своей правоте.
— Просто тот, внутри, который убивает, обманывает второго. — Она тяжело подбирала слова, пытаясь объяснить все старику. — Говорит ему, что выбора нет. Одного грызет голод, а другого — тоска… Поэтому Хантер так рвется на Тульскую — его тащат туда обе половины! Надо расколоть их. Если у него появится выбор — спасти, не убивая…
— Господи… Да он даже не станет тебя слушать! Что тащит туда тебя?!
— Твоя книга, — тихо улыбнулась ему Саша. — Я знаю, что в ней все еще можно изменить. Конец еще не написан.
— Бред! Ересь! — забормотал Гомер в отчаянии. — Зачем я тебе про нее рассказал… Молодой человек, ну хоть вы. — Он схватил Леонида за руку. — Я вас прошу, я верю, что вы неплохой и что врали вы не со зла. Заберите ее. Вы же этого хотели? Вы оба такие молодые, красивые… Вам жить! Ей не надо туда, понимаете? И вам туда не надо. Там сейчас… Там страшное побоище сейчас будет. И вы со своей маленькой ложью ничему не помешаете…
— Это не ложь, — учтиво сказал музыкант. — Хотите, честное слово дам?
— Хорошо, хорошо, — отмахнулся старик. — Я-то готов вам поверить. Но Хантер… Вы же его только мельком видели?
— Зато наслышан, — хмыкнул Леонид.
— Он же… Как вы его остановите? Флейтой своей? Или думаете, он девчонку слушать станет? Там в нем такое… Оно уже даже не слышит ничего…
— Если честно, — музыкант наклонился к старику, — я с вами в душе согласен. Но девушка просит! А я все-таки джентльмен. — Он подмигнул Саше.
— Как вы не понимаете… Это не игра! — Гомер умоляюще глядел то на девушку, то на Леонида.
— Я понимаю, — твердо произнесла Саша.
— Все — игра, — спокойно сказал музыкант.
* * *
Если музыкант и вправду был сынком Москвина, он вполне мог знать об эпидемии что-то такое, чего не слышал даже Хантер… Не слышал или не хотел говорить? Гомер подозревал в Леониде шарлатана, но вдруг радиация действительно была способна побороть лихорадку? Против воли, против здравого смысла старик принялся подбирать доказательства его правоты. Не об этом ли он просил все последние дни? Тогда кашель, кровоточащий рот, тошнота… Просто симптомы лучевой болезни? Та доза, которую он получил на Каховской линии, наверняка должна была уничтожить заразу…
Дьявол знал, чем соблазнять старика!
Пусть так. Но что же с Тульской, что с Хантером? Саша надеялась, что сумеет отговорить его. И, кажется, она действительно имела над бригадиром странную власть. Но если одному из боровшихся в нем узда, которую на него пыталась накинуть девчонка, казалась шелковой, то второго она жгла каленым железом. Кто из них окажется снаружи в решающий миг?
На сей раз Полянка не желала ничего показывать — ни ему, ни Саше, ни Леониду. Станция предстала им пустой, окоченелой, давно испустившей дух. Считать ли это добрым знамением или дурным? Гомер не знал. Возможно, поднявшийся в туннелях сквозняк — тень ветров, гулявших по поверхности, — просто смыл все дурманные испарения. Или старик в чем-то ошибся, и теперь у него больше не было будущего, о котором Полянка могла бы ему рассказать?
— А что означает «Изумрудный»? — вдруг спросила Саша.
— Изумруд — прозрачный камень зеленого цвета, — рассеянно объяснил Гомер. — «Изумрудный» — это просто «зеленый».
— Забавно, — задумчиво отозвалась девчонка. — Значит, он все-таки есть…
— О чем ты? — встрепенулся музыкант.
— Нет, так просто… Знаешь, — она посмотрела на Леонида, — я его тоже теперь буду искать, твой Город. И обязательно найду когда-нибудь.
Гомер только покачал головой; он так и не убедил себя в том, что раскаяние музыканта, одурачившего Сашу и зря заманившего ее на Спортивную, было искренним.
А девчонка все думала о чем-то своем, шептала что-то, пару раз вздохнула. Потом пытливо взглянула на старика:
— Ты все записал, что со мной случилось?
— Я… пишу.
— Хорошо, — кивнула девушка.
На Серпуховской творилось неладное.
Ганзейский дозор на входе был удвоен. Мрачные, неразговорчивые солдаты наотрез отказывались пропустить Гомера и остальных. Ни патроны, которыми позвякивал музыкант, ни его документы не произвели на них впечатления. Положение спас старик: потребовал соединить его с Андреем Андреевичем. Через долгие полчаса пришел, разматывая толстый провод, заспанный связист, и Гомер грозно сообщил в его аппарат, что они трое — авангард когорты Ордена… Этой полуправды хватило на то, чтобы их провели через зал — душный, будто со станции откачали весь воздух, и бессонный, несмотря на ночное время, — в приемную начальника Добрынинской.
Тот, взмыленный и встрепанный, с запавшими глазами и смрадным похмельным дыханием, сам встретил их на пороге; ординарца в комнате не было. Андрей Андреевич нервно осмотрелся и, не обнаружив Хантера, всхрапнул:
— Скоро они там?!
— Скоро… — уверенно пообещал Гомер.
— Серпуховская вот-вот взбунтуется. — Начальник, утираясь, заходил по приемной. — Кто-то сболтнул про эпидемию. Никто не знает, чего бояться, врут, что противогазы не помогут.
— Не врут, — вставил Леонид.
— Блокпост в одном из южных туннелей, который ведет к Тульской, дезертировал всем составом. Трусливые твари… Во втором, где сектанты, пока стоят… Эти фанатики их осадили, воют про Судный день… Да у меня сейчас на моей собственной станции такое начнется! И где наши спасители?!
Из зала доносилась ругань, чьи-то крики, лающая брань охраны. Так и не получив ответа, Андрей Андреевич протиснулся в свою берлогу и мелко задребезжал там бутылочным горлышком о рюмку. А на конторке его ординарца, словно еле дождавшись, пока начальник выйдет из комнаты, вспыхнул красный глазок телефона. Того самого, с надписью «Тульская» поверх лейкопластырной ленты.
Гомер, поколебавшись секунду, шагнул к столу, облизал сухие губы, сделал глубокий вдох…
— Добрынинская слушает!
— Что говорить? — Артем тупо обернулся на командира.
Тот был без сознания; глаза, мутные, будто задернутые занавеской, беспокойно блуждали, забившись под самый лоб. Иногда его тело трясло нехорошим кашлем. Пробили легкое, подумал Артем.
— Вы живы? — крикнул он в трубку. — Зараженные вырвались!
Потом вспомнил: они ведь не знают, что творится на Тульской. Надо же все рассказать, объяснить. На платформе визжала женщина и работал пулемет. Звуки пролезали сквозь щель под дверью, от них было никуда не деться. По ту сторону провода ему что-то отвечали, спрашивали, но слышно было плохо.
— Надо закрыть им выход! — повторял Артем. — Стреляйте на поражение. Не подпускайте их к себе!
Понял: они же не знают, как выглядят больные. Как их описать? Толстые, растрескавшиеся, зловонные? Но ведь те, кто заразился недавно, с виду — как обычные люди.
— Стреляйте всех подряд, — механически сказал он.
А если он сам попытается выбраться со станции, получается, что его тоже застрелят, что он сам себя приговорил? Нет, ему не выбраться. На станции не осталось здоровых… И Артему вдруг стало невыносимо одиноко. И страшно, что у человека, который слушает его там, на Добрынинской, теперь не останется времени, чтобы говорить с ним.
— Пожалуйста, только не кладите трубку! — попросил он.
Артем не знал, о чем говорить с незнакомым человеком, и начал рассказывать ему о том, как долго пытался дозвониться, о том, как страшно ему было и как он думал, что во всем метро больше не осталось ни одной живой станции. А вдруг он тогда звонил в будущее, в котором никто не уцелел, пришло ему в голову, и он это тоже сказал. Сейчас не надо было бояться выглядеть глупо. Сейчас вообще не надо было больше бояться. Только бы поговорить с кем-нибудь.
— Попов! — прохрипел из-за спины командир. — Ты связался с северной заставой? Гермоворота… Перекрыты?
Артем обернулся, покачал головой.
— Недоносок. — Командир харкнул кровью. — Никчемный… Слушай меня. Станция заминирована. Я нашел трубы… Сверху. Сток для грунтовых вод. Там заложил… Рванем, и всю Тульскую зальет к чертям. Контакты мины у меня здесь, в рубке. Надо закрыть северные ворота… И проверить, держатся ли южные. Запечатать станцию. Чтобы дальше вода не пошла. Закрой их, понял? Когда все будет готово, скажешь… Связь с заставой работает?
— Так точно, — кивнул Артем.
— Только сам не забудь остаться по эту сторону ворот. — Командир растянул губы в улыбке, зашелся кашлем. — А то не по-товарищески будет…
— Но как же вы… Вы тут?
— Ты не дрейфь, Попов, — прищурился командир. — Каждый из нас для своего рожден. Я рожден, чтобы этих сук утопить. Ты — чтобы люки задраить и сдохнуть, как честный человек. Понял?
— Так точно, — повторил Артем.
— Выполняй…
* * *
Трубка заглохла.
По прихоти телефонных богов самому Гомеру было довольно прилично слышно все, что ему говорил дежурный на Тульской. Но вот последние несколько фраз он разобрать так и не смог, а потом связь и вовсе оборвалась.
Старик поднял глаза. Над ним нависала туша Андрея Андреевича; его синий китель под мышками пошел темными пятнами, толстые руки тряслись.
— Что там? — севшим голосом спросил он.
— Все вышло из-под контроля. — Гомер тяжело сглотнул. — Перебрасывайте всех свободных людей на Серпуховскую.
— Не получится. — Андрей Андреевич вытащил из брючного кармана «макаров». — На станции паника. Всех верных людей я расставил на входах в туннели на Кольце, чтобы хотя бы отсюда никто не делся.
— Их можно успокоить! — нерешительно возразил Гомер. — Мы обнаружили… Лихорадку можно лечить. Радиацией. Скажите им…
— Радиацией?! — Начальник скорчил гримасу. — Вы сами-то в это верите? Вперед, благославляю вас! — Он шутовски отдал старику честь и, хлопнув дверью, заперся в своем кабинете.
Что делать? Теперь Гомеру и музыканту с Сашей даже не сбежать отсюда… Да и где они?! Старик выбрался в коридор, прижимая рукой колотящееся сердце, побежал на станцию, выкрикивая ее имя… Их не было нигде. На Добрынинской царил хаос, женщины с детьми, мужчины с тюками осаждали истончившееся оцепление, среди перевернутых палаток шныряли мародеры, но никому до них уже не было дела. Гомеру случалось видеть такое прежде: сейчас начнут топтать упавших, потом стрелять по безоружным.
И тут застонал сам туннель.
Гвалт и вопли стихли, сменились удивленными возгласами. Необычный, могучий звук повторился… Словно ревели походные трубы римского легиона, заблудившегося в тысячелетиях и вступающего сейчас на Добрынинскую…
Солдаты засуетились, сдвигая ограждения, и из жерла показалось что-то огромное… Настоящий бронепоезд! Тяжелая башка кабины, обшитая сталью, простроченная клепками, с щелями бойниц, с двумя крупнокалиберными пулеметами, поджарое долгое тело и вторая рогатая голова, смотрящая в обратную сторону. Такого монстра никогда не встречал даже Гомер.
На броне, черные, как вороны, сидели безликие истуканы. Неотличимые один от другого в костюмах полной защиты, в кевларовых жилетах, в невиданных противогазах и с ранцами за плечами, они будто вообще не принадлежали ни этому времени, ни этому миру.
Поезд встал. Закованные в доспехи пришельцы, не обращая внимания на сбегавшихся ротозеев, слетали на платформу, строились тройной шеренгой. Потом, синхронно развернувшись — как один человек, как машина, в ногу загромыхали к переходу на Серпуховскую, уминая своим топотом благоговейный шепот и детский плач. Старик поспешил за ними, пытаясь вычислить среди десятков бойцов Хантера. Все они были почти одного роста, на всех бесформенные непроницаемые комбинезоны сидели как влитые, натянутые на саженные плечи. Все были вооружены одинаково грозно — ранцевые огнеметы, винторезы с глушителями. Никаких кокард, никаких гербов, никаких знаков отличий.
Наверное, один из троих, шагавших впереди?
Старик обежал колонну, замахал рукой, заглядывая в бойницы противогазов, наталкиваясь на взгляды одинаково бесстрастные, равнодушные. Никто из пришельцев не отзывался, никто не узнавал Гомера. Да был ли среди них Хантер? Должен, должен явиться!
Ни Саши, ни Леонида старик по пути через переход не увидел. Неужели благоразумие все же возобладало и музыкант спрятал девчонку от греха подальше?.. Пусть только переждут где-нибудь эту кровавую баню, а потом уж Гомер договорится как-нибудь с Андреем Андреевичем, если только тот еще не успеет пустить себе пулю в лоб.
Рассекая толпу, построение метательным молотом неслось вперед; никто не смел встать на его пути, и даже ганзейские пограничники молча расступались перед ним. Гомер решил идти вслед за колонной — надо было удостовериться, что Саша не попробует ничего предпринять. Прогонять старика никто не стал, внимания ему было не больше, чем шавке, с лаем бегущей за дрезиной.
Ступив в туннель, трое в голове колонны зажгли фонари на миллионы свечей, выжигая тьму впереди. Никто из них не заговаривал, тишина была давящей, противоестественной. Разумеется, выучка; но старика не оставляло ощущение, что, оттачивая навыки тела, у этих людей подавляли навыки души. И теперь перед ним был совершенный механизм для умерщвления, все элементы которого были безвольны, и только один, внешне неотличимый от прочих, нес программу. И когда он скомандует «огонь», остальные, не раздумывая, предадут огню и Тульскую, и любую другую станцию, и все живое на них.
Слава Богу, они шли не тем перегоном, где застрял поезд с сектантами. Несчастные получили небольшую отсрочку перед Судилищем: сначала расправятся с Тульской, и только потом возьмутся на них.
Повинуясь незаметному для Гомера сигналу, колонна внезапно сбавила шаг. Через минуту и он понял, в чем дело: станция была уже совсем близко. Прозрачную, как стекло, тишину гвоздем проскребали чьи-то истошные вопли…
И еще, еле слышная, абсолютно неуместная, заставляя старика сомневаться в своем рассудке, навстречу пришельцам по капле сочилась удивительная музыка.
* * *
Трубка проглотила старика целиком; ничего, кроме прерывистого голоса, квакающего в ее динамике, он не замечал. И Саша решила, что более удачного момента для побега ей уже не подыскать.
Бочком она выбралась из приемной, дождалась снаружи Леонида и повела его за собой — сначала к переходу на Серпуховскую, потом — в туннель, который отведет ее к тем, кто в ней нуждался. К тем, чьи жизни она могла сохранить.
И еще он должен свести ее с Хантером.
— Тебе не страшно? — спросила Саша у музыканта.
— Страшно, — улыбнулся тот. — Но зато у меня есть подозрение, что я наконец-то делаю что-то стоящее.
— Ты ведь не обязан со мной идти… А вдруг мы умрем? Ведь можно сейчас взять и остаться на станции, не ходить никуда!
— Будущее человека сокрыто от него. — Леонид с ученым видом ткнул пальцем вверх, надул щеки.
— Ты сам решаешь, каким оно будет, — возразила Саша.
— Да брось, — усмехнулся музыкант. — Мы все — просто крысы, которые бегут по лабиринту. В ходах устроены дверцы-задвижки. И те, кто нас изучает, иногда поднимают их, иногда опускают. И если сейчас дверца на Спортивной опущена, тебе туда нипочем не попасть, скребись сколько хочешь. А если за следующей дверцей капкан, ты в него все равно угодишь, даже если будешь чувствовать неладное, потому что другого пути нет. Весь выбор — бежать дальше или подохнуть в знак протеста.
— Неужели тебе не обидно, что у тебя такая жизнь? — нахмурилась Саша.
— Мне обидно, что строение позвоночника не позволяет мне задрать голову вверх и посмотреть на того, кто ставит эксперимент, — отозвался музыкант.
— Нет никакого лабиринта. — Саша прикусила губу. — А крысы могут прогрызть даже цемент.
— Ты бунтарка, — засмеялся Леонид. — А я приспособленец.
— Неправда. — Она покачала головой. — Ты веришь, что можно изменить людей.
— Я хотел бы в это верить, — возразил музыкант.
Они миновали брошенную в спешке заставу: в незатушенном, еще дышащем костре переливались головешки, тут же валялся засаленный, замятый журнал с голыми людьми, и, полусодранный, сиротливо свисал со стены походный ганзейский штандарт.
Еще минут через десять наткнулись на первый труп. В мертвом было трудно узнать человека. Он раскинул свои ноги и руки, такие жирные, что одежда лопалась на нем, широко, как будто очень устал и хотел отлежаться. Лицо его было страшнее морды любого из чудищ, которых Саша успела увидеть за свою жизнь.
— Осторожно! — Леонид схватил ее за руку, не подпуская к мертвецу. — Он заразный!
— Какая разница? — спросила Саша. — Ведь есть же средство! Мы идем туда, где все заразные.
Впереди загремели выстрелы, послышались далекие крики.
— Мы очень вовремя, — отметил музыкант. — Похоже, они даже не стали дожидаться твоего друга…
Саша испуганно посмотрела на него, потом страстно, убежденно сказала:
— Ничего, надо просто сказать им! Они думают, что все приговорены… Надо просто дать им надежду!
У распахнутой створки гермоворот в землю глядел еще один убитый — на сей раз человек. Рядом с ним отчаянно перхал и шипел железный ящик переговорного устройства. Кажется, кто-то пытался добудиться дозорного.
На самом выходе из туннеля, укрываясь за разбросанными мешками, лежали несколько человек. Кажется, среди них был один пулеметчик и пара стрелков с автоматами — вот и вся плотина.
А дальше, впереди, там, где тесные туннельные стены распахивались, где начиналась платформа Тульской, бурлила страшная толпа, наседая на осажденных. В ней были вперемешку и зараженные, и обычные, и люди, и исковерканные болезнью уроды. У кого-то были фонарики, другие уже не нуждались в свете.
Те, что лежали, обороняли туннель. Но патроны у них кончались, выстрелы звучали все реже, и обнаглевшая толпа подбиралась ближе и ближе.
— Подкрепление?! — обернулся к Саше один из осажденных. — Пацаны, они дозвонились до Добрынинской! Подкрепление!
Многоголовое чудище тоже заволновалось, надавило…
— Люди! — закричала Саша. — Есть лекарство! Мы нашли лекарство! Вы не умрете! Потерпите! Пожалуйста, потерпите!
Толпа сожрала ее слова, рыгнула недовольно и снова двинулась на оборонявшихся. Пулеметчик зло стегнул ее очередью, несколько человек со стонами сели наземь, другие огрызнулись автоматными очередями. Бурля, масса неудержимо подалась вперед, готовая затоптать, разорвать и осажденных, и Сашу, и Леонида.
Но что-то случилось.
Сначала вкрадчиво, потом все уверенней, мощнее, подала голос флейта. Не могло бы быть ничего более глупого, ничего менее уместного в этом положении. Оборонявшиеся наградили музыканта очумелыми взглядами, толпа взрыкнула, загоготала, снова нажала… Леониду было все равно. Он играл, наверное, не для них, а для себя — ту самую удивительную мелодию, которая очаровала Сашу, ту самую, которая каждый раз воронкой стягивала к себе десятки слушателей.
Может быть, именно от того, что нельзя было придумать худшего способа сдержать бунт, усмирить зараженных, именно из-за трогательного идиотизма того, кто решил так поступить, а не из-за волшебства флейты, толпа чуть ослабила натиск. А может быть, музыканту удалось-таки напомнить тем, кто его окружал, готовясь перемолоть… Напомнить о чем-то…
Выстрелы смолкли, и Леонид, не отпуская флейту, выступил вперед… Как будто перед ним была обыкновенная публика, которая вот-вот зааплодирует и осыплет его патронами.
На долю секунды девушке показалось, что среди слушавших она видит своего отца — умиротворенного, улыбающегося. Вот где он ее ждал…
Саша вспомнила: Леонид говорил ей, что эта мелодия умеет утолять боль.
* * *
В железной утробе гермоворот заурчало — внезапно, преждевременно.
Десант опережал время? Значит, ситуация на Тульской была не такой уж сложной! Может быть, захватчики давно покинули станцию, оставив затворы запертыми?
Группа рассредоточилась, бойцы укрылись за выступами тюбингов, и только четверо остались подле Дениса Михайловича — у самых ворот, держа оружие наготове.
Вот и все. Сейчас створка медленно поедет в сторону, а через пару минут сорок тяжеловооруженных севастопольских штурмовиков ворвутся на Тульскую. Любое сопротивление будет подавлено, и станция будет взята в мгновение ока.
Это оказалось куда проще, чем думал полковник.
Приказа надеть противогазы Денис Михайлович отдать не успел.
* * *
Колонна перетекла, стала толще — теперь в ряд стояли шесть человек, занимая в ширину весь туннель. Первая шеренга ощетинилась стволами огнеметов, вторая взяла на изготовку винторезы. Черной лавой они поползли вперед — неторопливо, уверенно.
Гомер, выглядывавший из-за широких спин пришельцев, увидел в белых прожекторных лучах всю сцену разом: и кучку солдат, державших оборону, и две худых фигурки — Сашу и Леонида, — и окружающий их сонм кошмарных созданий. И все в старике оборвалось.
Леонид играл. Чудесно, невероятно, вдохновенно, как никогда раньше. И орда уродливых существ слушала его жадно, и залегшие солдаты привставали, чтобы лучше видеть музыканта. А его мелодия прозрачной стеной разделяла враждующих, не позволяя им обрушиться друг на друга в последней гибельной схватке.
— Готовность! — вдруг сказал один из десятков черных людей; который?!
Вся первая шеренга разом опустилась на одно колено, вторая вскинула винторезы.
— Саша! — крикнул Гомер.
Девчонка резко обернулась к нему, зажмурилась от слишком яркого света, выставила вперед ладонь и пошла наперекор хлеставшему из фонарей потоку медленно, будто против шквального ветра.
Толпа, опаленная лучами, забурчала, застонала, поджалась…
Пришельцы выжидали.
Саша вплотную подошла к их строю.
— Где ты? Мне надо с тобой поговорить, пожалуйста!
Ей никто не ответил.
— Мы нашли средство от этой болезни! Ее можно вылечить! Не нужно никого убивать! Есть лекарство!
Фаланга черных каменных статуй молчала.
— Прошу тебя! Я знаю, ты не хочешь… Ты только пытаешься спасти их… И себя…
И тут над боевым построением, словно не исходя ни от кого отдельного, раздалось глухо:
— Отойди. Я не хочу тебя убивать.
— Тебе не надо никого убивать! Есть лекарство! — отчаянно повторила Саша, идя сквозь одинаковых людей в масках, стараясь найти среди них единственного.
— Лекарства не существует.
— Радиация! Радиация помогает!
— Не верю.
— Я прошу тебя! — Саша сорвала голос в крик.
— Станция должна быть очищена.
— Неужели ты не хочешь все изменить?! Почему ты повторяешь то, что уже сделал однажды?.. Тогда, с черными?! Почему не хочешь прощения?
Истуканы больше не откликались; толпа начала подступать ближе.
— Саша! — умоляюще прошептал девчонке Гомер; та не слышала.
— Ничего нельзя изменить. Не у кого просить прощения, — наконец упали слова. — Я поднял руку на… На… И наказан.
— Все внутри тебя! — Саша не отступала. — Ты можешь сам себя отпустить! Можешь доказать! Как ты не видишь, это же зеркало! Это отражение того, что ты сделал тогда, год назад! И сейчас ты можешь поступить иначе… Выслушать. Дать шанс… И сам заслужить шанс!
— Я должен уничтожить чудовище, — хрипло промолвил строй.
— Ты не сможешь! — закричала Саша. — Никто не может! Оно есть и во мне, оно спит в каждом! Это часть тела, часть души… И когда оно просыпается… Его нельзя убить, нельзя вырезать! Его можно только опять убаюкать… Усыпить…
Сквозь уродов проскользнул чумазый солдатик, протиснулся мимо замерших рядов черных, побежал к гермоворотам, к железной коробке передатчика, схватил микрофон, что-то крикнул в него… Но тут коротко чавкнул глушитель, и солдатик сник. Услышав кровь, толпа тут же ожила: вспухла, разгневанно заревела.
Музыкант, приложив к губам флейту, заиграл, но магия рассеялась; кто-то выстрелил в него, он выронил инструмент, взялся обеими руками за живот…
Раструбы огнеметов облизнулись пламенем. Фаланга обросла новыми стволами и сделала шаг вперед.
Саша бросилась к Леониду, готовая разбиться о толпу, которая уже обволокла упавшего, не желая отдавать его девушке.
— Нет, нет! — Она не могла больше сдерживаться.
Потом, одна против сотен кошмарных уродов, одна против легиона убийц, одна против всего мира, она упрямо сказала:
— Хочу чуда!
Грянул далекий гром, своды дрогнули, толпа съежилась и отступила, пришельцы тоже попятились. По земле побежали тонкие ручейки, с потолка стали падать первые капли, зажурчали все шумнее темные струи…
— Прорыв! — завопил кто-то.
Черные люди торопливо двинулись прочь со станции, отступая к гермодверям, старик побежал за ними, оглядываясь на Сашу. Та не трогалась с места. Подставив ладони и лицо хлынувшей на нее сверху воде, девчонка… смеялась.
— Это же дождь! — кричала она. — Он все смоет! Все можно будет начать заново!
Черный отряд выбрался за затворы, и Гомер с ним. Несколько пришельцев навалились на створку гермоворот, пытаясь закрыть Тульскую, сдержать воду. Створка поддалась и тяжело пошла вперед. Старика, который сорвался обратно, к оставшейся на тонущей станции Саше, схватили, отшвырнули прочь.
И только тут один из черных внезапно метнулся к сужающейся щели, протянул руку, крикнул девчонке:
— Сюда! Ты мне нужна!
Воды уже было по пояс; и вдруг белокурая голова нырнула и пропала.
Черный человек отдернул руку, и ворота закрылись.
* * *
Ворота так и не открылись. По туннелю прошла судорога, с другой стороны затвора в стальную плиту ударилось и откатилось эхо взрыва. Денис Михайлович приник к железу, прислушался… Вытер влагу со щеки, удивленно глянул на покрытый испариной потолок.
— Отходим! — приказал он. — Тут все кончено.
ЭПИЛОГ
Гомер вздохнул и перевернул лист. Свободного места в тетради оставалось совсем немного — лишь пара страниц. Что вписать, чем пожертвовать? Он протянул ладони к костру — отогреть замерзшие пальцы, успокоить их.
Старик сам попросился в южный дозор. Здесь, лицом к туннелям, ему работалось лучше, чем дома на Севастопольской, среди вороха мертвых газет, как бы ни оберегала Елена его покой.
Бригадир сидел поодаль от остальных дозорных, на крайнем рубеже света и тьмы. Интересно, почему он выбрал именно Севастопольскую, спросил себя старик. Видимо, было все-таки что-то в этой станции…
Хантер так и не рассказал старику, кто же явился ему тогда, на Полянке, но Гомер теперь знал: увиденное им было не пророчеством, а предостережением.
Вода с затопленной Тульской схлынула через неделю; остатки откачивали огромными помпами, доставленными с Кольца. Гомер добровольцем отправился туда вместе с первыми же разведчиками.
Почти три сотни трупов. Забыв об отвращении, обо всем забыв, сам ворошил страшные тела, искал ее, искал…
Он потом еще долго сидел на том самом месте, где видел Сашу в последний раз. Где не успел, где не решился броситься к ней — и спасти, или погибнуть с ней вместе.
А мимо бесконечной вереницей брели больные и здоровые — к Севастопольской, в целебные туннели Каховской линии. Музыкант не солгал: облучение действительно останавливало болезнь.
Может быть, он вообще не лгал? Может, и был где-то настоящий Изумрудный Город, нужно было только найти ворота… А может, он приходил к тем самым воротам, просто тогда еще не успев заслужить, чтобы они перед ним распахнулись?
«А когда схлынули воды…» оказалось слишком поздно.
Но не Изумрудный Город был ковчегом; настоящим ковчегом было само Метро. Последним приютом, укрывшим от темных бурных вод и Ноя, и Сима, и Хама; и праведника, и равнодушного, и подлеца. Каждой твари по паре. Каждой, чей счет оставался несведенным — или неоплаченным.
Их слишком много, и они точно не поместятся в этом романе. Свободных листов в тетради у старика остается всего ничего. Его книга — не ковчег, а бумажный кораблик, ей не принять на борт всех людей. Но Гомеру казалось, что у него почти выходит осторожными штрихами нанести на страницы что-то очень важное… Не о людях, но о человеке.
Память об ушедших не исчезает, думал Гомер. Весь наш мир соткан из дел и мыслей других людей, точно так же, как каждый из нас составлен из бесчисленных кусочков мозаики, унаследованных от тысяч предков. Они оставили после себя след, оставили для потомков частичку души. Надо только приглядеться.
И его корабль, сложенный из бумаги, из мыслей и воспоминаний, может плыть по океану времени бесконечно долго, пока его не подберет кто-то другой, не разглядит и не поймет, что человек никогда не изменялся, что даже после гибели мира остался верным себе. И что небесный огонь, который однажды был в него заложен, бился на ветру, но не угас.
Теперь его личный счет был исправлен.
Гомер закрыл глаза и очутился на сияющей станции, омытой ярким светом. На платформе собрались тысячи людей в нарядной одежде, принадлежащей тому времени, когда он был еще молод, когда его никто и не подумал бы звать ни Гомером, ни даже по имени-отчеству, и теперь к ним прибавлялись люди уже здешние, пожившие в метро. Одни не удивлялись другим. Их всех что-то объединяло…
Они ждали чего-то, и все тревожно вглядывались в темные своды далекого туннеля. Теперь старик узнавал эти лица. Тут были и его жена с детьми, и сослуживцы, и одноклассники, и соседи, и двое лучших друзей, и Ахмед, и любимые киноактеры. Тут были все, кого он еще помнил.
И вот туннель озарился, и на станцию беззвучно вплыл метропоезд — с живыми, горящими окнами, с начищенными боками, со смазанными колесами. Кабина машиниста была пуста; внутри висели отглаженный китель и белая рубашка.
Это моя форма, подумал старик. И мое место.
Он вошел в кабину и открыл двери в вагонах. Дал гудок. Толпа хлынула внутрь, рассаживаясь по диванам. Места хватило всем; успокоенные, пассажиры теперь улыбались. Улыбался и старик.
Гомер знал: когда он поставит в своей книге последнюю точку, этот сверкающий состав, полный счастливых людей, отчалит с Севастопольской прямо в вечность.
И вдруг, вырывая старика из волшебного видения, совсем рядом послышался глухой, нечеловеческий стон. Гомер вздрогнул, схватился за автомат…
Стонал бригадир. Старик привстал, хотел подойти и проведать Хантера, но тот застонал снова… Чуть выше… И еще… теперь чуть ниже…
Не веря своим ушам, Гомер прислушался, и его зазнобило.
Хрипло, неумело бригадир подбирал мелодию. Ошибался, возвращался и упрямо повторял, выправляя… Выводил ее негромко… как колыбельную.
Мелодия была та самая, которой Леонид так и не дал названия.
Сашиного тела Гомер на Тульской так и не нашел.
Что еще?











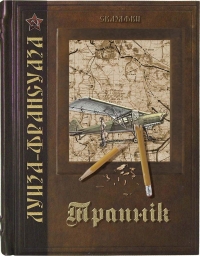
Комментарии к книге «Метро 2034», Дмитрий Глуховский
Всего 0 комментариев