Валерий Елманов От грозы к буре
Памяти моего отца Ивана Дмитриевича посвящается эта книга
Пролог Простодушный дипломат
День за днем поднимая занавес, Как слепые походкою шаткою Мы бредем, забывая заповедь, В бесконечность бросая шапками. О. КозловцеваБудущий владыка Рязанской и Муромской епархии давно истомился в ожидании. Лето на дворе, жарынь такая, что под черной рясой грубого тяжелого сукна все тело зудит неимоверно, хотя он ежедневно себя и окатывает свежей морской водой, а дела никак не двигаются.
Княжеское поручение, к исполнению которого он добросовестно приступил в первые же дни своего приезда в Никею, сказалось самым негативным образом на всем его пребывании здесь, а в первую очередь на посвящении в сан епископа. Патриарх все откладывал и откладывал необходимую церемонию, ссылаясь на разные неотложные дела.
«А как славно все начиналось-то, — мрачно подумалось уже вроде бы не священнику, потому что он был в монашеской рясе, но пока еще и не епископу. — И в Киеве все без сучка и задоринки прошло, и добрались до Царьграда почти без нервотрепки».
Действительно, всю поездку по Черному морю, невзирая на глубокую осень, погода откровенно баловала корабельщиков. Не то что шторма или урагана, но даже и ветер почти все время попутный был, так что гребцы откровенно филонили, день-деньской напролет лениво переругиваясь друг с другом.
Скучали и томились в связи с вынужденным бездельем и пассажиры корабля. Все они бесцельно слонялись по палубе, то и дело переходя с борта на борт, и не знали, чем себя занять. Все, за исключением одного, в монашеской рясе. Во-первых, ему нужно было привыкнуть к своему новому имени, которое он сам себе не без легкого тщеславия выбрал в Киеве. Отныне его уже звали не отцом Николаем, а отцом Мефодием, в честь одного из легендарных братьев — просветителей славян[1]. А кроме того, он в срочном порядке обучался греческому языку, чтобы иметь возможность беседовать с византийцами без переводчика.
Он припомнил события полугодовой давности, и лицо его осветилось мечтательной улыбкой. В вечном городе, как его уже давно называли сами жители, нагло украв этот высокопарный эпитет у Рима, и впрямь было чем полюбоваться. Форум Августина, Одигитрийский монастырь, знаменитый гипподром, храм Святой Ирины, где проходил Второй Вселенский собор, акведук Валента[2], столп Юстиниана[3], где тот восседал верхом на коне с яблоком и жезлом в руках…
Да по одному Августеону[4] можно было бы бродить несколько суток.
За Медными воротами открывалось гигантское здание Большого дворца. В самой резиденции императоров, если идти прямо, — Жемчужный зал. Налево захочешь повернуть — Овальный перед глазами откроется, а направо — Зал Орла. Сумеешь все обойти и не устать, тогда следуй во дворец Магнавра, а коль и его осилишь — дальше иди. Там, почти на берегу моря, гордый красавец Буколеон высится.
Ох, как же волновала воображение отца Мефодия вся эта величественная красота. Пусть ныне перед глазами лишь ее жалкие остатки, и все равно… Конечно, все это сейчас было уже далеко не таким прекрасным, как раньше. Полуразрушенные и бесстыдно ободранные крестоносцами залы, выщербленная мозаика, укоризненно зияющие чернотой пустые проемы окон, закопченные стены — по варварскому обычаю захватчики, привыкшие к убогости своих замков и огромным каминам, жгли костры прямо посреди залов… Тем не менее горделивая мощь Августеона, продолжавшая ощущаться почти физически, по-прежнему потрясала любого вошедшего.
Однако и его красота меркла в сравнении с величием храма Святой Софии.
Вот что, по мнению отца Мефодия, само по себе уже было чудом из чудес. Они начинались, стоило только войти в нартекс[5], где над императорскими дверями возвышалась знаменитая мозаика с Львом Мудрым, припадающим к ногам Христа. Не одни лишь простолюдины склонялись здесь в низких поклонах. Тут по традиции трижды падал ниц каждый император Византии.
Двери, ведущие из нартекса в наос[6], как сказали отцу Мефодию, по преданию, сделаны из древ Ноева ковчега. Пройдя их и перешагнув порог, он ступил под огромный величественный купол пятидесятиметровой высоты.
Сделал шаг и… остолбенел. Яркий свет, льющийся сквозь сорок окон, прорезанных в его основании, струился на богато украшенную мозаикой внутренность храма, создавая впечатление, будто не он освещается солнечными лучами, а сам его излучает.
Довершила же его изумление мозаика. Лучи солнца, окунаясь в нее, сверкая и затухая, приводили в движение фигуры святых и императоров, заставляя их не просто искриться золотом, пурпуром, синевой, а переливаться всеми возможными цветами, создавая иллюзию реальности. Изображения не были неподвижными — они двигались, то приближаясь, то отодвигаясь от человека. Они жили, только в своем — ином, потустороннем мире, паря в нематериальной среде, насквозь пронизываемой светом.
Даже воздух показался ему здесь каким-то особенным.
А ведь внутри величественного храма отца Мефодия, сопровождаемого двумя неизменными спутниками из числа дружинников: улыбчивым Цветом и мрачным, вечно всем недовольным и ворчливым Хрустом, ждали еще и святыни, да какие!
Помимо дверей, сделанных, как упоминалось уже, из Ноева ковчега, тут был и столп, на котором, по преданию, сидел Христос, разговаривая с самаритянкой. А еще имелся железный одр, на котором мучили святых Георгия и Никиту, и Богородичная икона, которая, опять же по преданию, заплакала, когда крестоносцы взяли город.
Искусно вырезанный на камне лик ее, тем не менее, был светел, и лишь глаза, грустные от знания и мудрости, печально взирали на каждого, заглядывая в самую душу человека. Говорят, что тот, у кого она была черна, не мог больше двух-трех мгновений простоять подле нее. Она смотрела туда, куда не дотягивался взгляд самого человека, и видела в нем то, что он сам не хотел бы никому показывать.
В юго-восточной части храма выделялось императорское место, отделанное специальной мраморной кладкой, недалеко от которого была расположена могила Иоанна Златоуста, а чуть поодаль — огромная, метров девять диаметром, мраморная чаша-купель, в которой детей знатных сановников крестил сам патриарх.
К исходу первого дня у отца Мефодия в голове все шумело и кружилось. Шутка ли, в одной лишь Софии насчитывалось восемьдесят четыре престола, семьдесят с лишним дверей, триста шестьдесят каменных столпов — порфирных, мраморных, малахитовых, изукрашенных один другого чуднее.
Бродить там можно было сутками, но была еще и церковь Святых Апостолов, в которой в саркофагах из порфира хранились гробы с телами основателя града Константина и матери его Елены, были еще церкви Святой Ирины и Христа Пантократора, а также Влахерн, монастырь Хора, расположенный близ Андрианопольских ворот, и множество всякой прочей всячины. Отцу Мефодию очень хотелось успеть осмотреть все, но при этом уложиться в тот жесткий недельный срок, который он сам для себя установил.
К тому же нельзя было забывать и об особом княжеском поручении, касающемся рукописей, причем по возможности именно редких, а также относящихся к числу обреченных.
— Под последними я подразумеваю различные философские трактаты языческих времен, а также сочинения, грубо говоря, еретиков, — вспомнились отцу Мефодию слова Константина, который тут же пояснил свою несколько крамольную мысль: — Пойми, отче, и не сердись. Евангелие — оно везде есть. Никто не спорит, если увидишь какое-нибудь редкое, древнее, самых первых веков, тоже покупай. Как-никак раритет. Но сочинения философов и еретиков — статья особая. Те из них, что еще уцелели каким-то чудом, все равно обречены. Отцы церкви найдут их и сожгут. Так что в первую очередь приобретай их.
— А ну как ошибусь, — лукаво заметил в ответ священник. — Я ведь в греческом не силен.
— Не страшно, — улыбнулся Константин. — Главное, чтоб древние были, века до пятого-шестого.
Отец Мефодий покупал. Сперва он не знал, где искать такие лавчонки, но на третий день, увидев озабоченность на лице будущего епископа и узнав, в чем проблема, ему изрядно помог капитан корабля, на котором они приплыли. Он познакомил странного русича в монашеской рясе с шустрым и вертлявым греком Филидором, а тот, казалось, знал все.
Во всяком случае, уже к концу первого дня совместного блуждания по грязным трущобам специальный сундучок отца Николая заполнился на треть. Правда, и казна его тоже порядком опустела, но Хруст умел торговаться, а Филидар славно ему помогал, так что рукописи, по сути дела, доставались за бесценок. Во всяком случае, ни за одну из них в конечном счете не было уплачено больше пяти гривен.
Пока блуждали, отец Мефодий успел вдоволь наглядеться на город. Разорения и запустения хватало везде, а не только в Августеоне. Весь Константинополь состоял из каких-то жалких лачуг, а то и вовсе руин, лишь изредка перемежавшихся более или менее приличными домами.
Заметно обветшали и памятники. Огромная деревянная бочка, поставленная еще лет двести назад императором Львом, сохранилась, но вода из нее уже не стекала, да и статуи медных стражей, стоящие подле нее, тоже были изрядно изуродованы.
И уже не бил фонтан из знаменитой Змеиной колонны, состоящей из трех обвивающихся друг вокруг друга змей.
Разбиты были и мраморные «правосуды», которые, по древним преданиям, запросто могли перекусить своими острыми зубами руку любому обманщику, если он давал ложную клятву, а потом, в подтверждение ее, вкладывал ладонь им в пасть.
С колонны императора Константина VII Багрянородного алчными завоевателями были давно содраны позолоченные бронзовые листы с барельефами и бронзовая же сфера, покрывавшая этот огромный тридцатиметровый памятник.
А знаменитая бронзовая квадрига, стоявшая напротив императорской ложи на гипподроме, и вовсе исчезла[7].
Мрачные взгляды надменных западных рыцарей преследовали небольшую процессию русичей буквально повсюду. Сразу было видно, что именно они, да еще надменные венецианцы и есть нынешние подлинные хозяева великого города.
С обилием воинов в столице некогда великой империи, ныне поменявшей даже свое название, могло сравниться лишь многолюдье нищих. Создавалось впечатление, что все жители города вышли на улицы с протянутой рукой, причем самое большое их количество бродит как раз там, где гуляет отец Николай. Увечные, больные, хромые, безрукие и просто бродяги в лохмотьях кишмя кишели, назойливо дергая за монашескую рясу и выставляя напоказ свое убожество, язвы и другие увечья.
На Руси нищенская братия тоже водилась, но было ее не в пример меньше, а той, что сходилась к церковным папертям, и впрямь грех было не подать. Раз человек протянул руку, значит, все, край, иначе русич просто не вынес бы позора. Да и просили они как-то стыдливо, порою даже отворачивая глаза, потупив их в землю.
Впрочем, и это немноголюдье изрядно поубавилось, когда были выстроены странноприимные дома, сойдя почти на нет. Но это там, на далекой ныне Руси, а здесь…
Поначалу отец Мефодий и впрямь подавал, не в силах отказать, но очень быстро мрачный хранитель казны Хруст решительно заявил, что по повелению князя для раздачи милостыни была отпущена лишь определенная сумма, которая уже закончилась.
— У них вовсе стыда нет, — добавил Хруст. — Вон на том, — ткнул он пальцем в дюжего бродягу, наряженного в живописное рванье, — пахать, как на лошади, можно, а он руку тянет. Стало быть, трудиться не желает. Почто его баловать-то?
В самой же Никее, памятуя наказ Константина, отец Мефодий и вовсе не подавал, дабы никто не подумал, что на Руси богато живут.
— Эти гривны да куны смердам нашим потом и кровью достались, — сказал князь. — Если ты их на какую-нибудь святыню истратишь — одно. За такое любой пахарь сам тебе до земли поклонится. На книги истратишь — я поклонюсь. А нищим, да еще чужим — это явно лишнее. Знаешь, как здорово сказал генерал-адъютант Евдокимов[8], который одно время командовал всеми русскими войсками на Кавказе? — И не дожидаясь ответа священника, закрыв глаза, медленно, но с выражением, процитировал: — «Первая филантропия — своим; горцам же я считаю вправе предоставить лишь то, что останется на их долю после удовлетворения последнего из русских интересов». Вот так вот, отче.
— И ты считаешь, что он прав, рассуждая, как самый последний эгоист? — вздохнул сокрушенно священник.
— На все сто процентов, — без малейшего колебания ответил Константин. — Кстати, он и сам родился на Кавказе, так что знал, что говорил.
— Но это же национализм? — упрекнул Константина отец Николай, который тогда еще не принял постриг, а вместе с ним и новое имя.
— А по-моему, самый что ни на есть здоровый и разумный патриотизм, — не согласился князь. — И я с ним согласен целиком и полностью. Считай, что это и мой принцип, только применительно к нынешнему времени и с тем лишь отличием, что слово «горцы» надо поменять на «все прочие люди, не входящие в состав жителей Рязанского княжества». К тому же я про нации ни слова не сказал, поскольку у меня в нем уже сейчас помимо славянских племен и меря есть, и мещера, и мурома, и мордва. И отличий между ними я делать не собираюсь, потому что они все для меня свои и все родные. А остальные… Пойми, отче, что сейчас не двадцатый век, а тринадцатый. Впрочем, в двадцатом то же самое, разве что больше завуалировано. А уж здесь и вовсе каждый сам за себя, а я, как князь, еще и за народ в ответе, но только за свой народ и больше ничей. Я ведь не собираюсь никого унижать, считать за людей второго сорта и так далее. Господь с ними со всеми. Пусть живут и процветают, особенно наши соседи. Я только рад этому буду.
— А почему особенно соседи? — спросил тогда священник.
— Так ведь если у них все в порядке, то они и на наше добро не позарятся, — простодушно пояснил Константин. — То есть опять-таки выгода именно для моих подданных. Но если случится так, что тот же Батый вдруг изменит свой маршрут и прямым ходом рванет не на Русь, а в Малую Азию и оттуда прямиком в Европу, неужели ты думаешь, что я пошевелю хоть пальцем, чтобы помочь им? Не то что войско, а и одного ратника не дам в помощь тому же папе римскому, королю Франции или императору Священной Римской империи. Пусть как хотят, так и отбиваются, а русскую кровь лить не позволю.
— Но ты же собираешься подсобить аланам или, как их там, ясам? Да и Волжской Булгарии тоже. Это как?
— Совсем другое дело, — усмехнулся князь. — Помогая им, я тем самым помогу Рязани, потому что все друзья, отче, чтоб ты знал, делятся на три категории: это просто друзья, друзья наших друзей и враги наших врагов. На сегодняшний день и булгар, и алан можно смело отнести к последней из них. Как там дальше с ними получится — сам не ведаю. Хочу верить, что еще лучше, но человек предполагает, а судьба располагает, поэтому загадывать ни к чему. Но пока они уже в той категории, которой надо помочь. Если Батый их одолеет, то возьмет в свое войско, так же как и башкир, саксинов, половцев и прочих. Так оно и случилось в той истории, которую мы ныне хотим изменить, а этого допустить нельзя. Так что и в этом случае никакой гуманитарной помощью, пусть даже в самых мизерных размерах, и не пахнет. Только обычный практический интерес и прямая выгода. Потому и говорю тебе про тамошних нищих. Я примерно догадываюсь, сколько там средневековых бомжей бродит, особенно по Константинополю. Имей в виду — всех тебе так и так не накормить. Слухи же о твоем добром сердце и избытке серебра в твоем кошеле живо донесутся до приближенных патриарха, и они тоже в свою очередь будут канючить и попрошайничать похлеще цареградских босяков. Оно тебе надо?
Вот почему в Никее отцу Мефодию во время его прогулок оставалось только разводить руками в ответ на молчаливые или высказанные просьбы дать денег и идти дальше с потупленной головой. Кстати, святынь хватало и в этом старинном городе, где состоялись два Вселенских собора, где был выработан и принят «Символ веры»[9].
Никея видела у себя многих и многих легендарных личностей, включая сонмы святых, как, например, того же Николая, епископа Мир Ликийских, впоследствии ставшего на Западе, начисто лишенном воображения, прототипом Санта-Клауса. Бывали в нем и епископ Аристав, сын Григория Просветителя, епископ Афанасий Александрийский, прозванный Великим, Иоанн Дамаскин и Иоанн Златоуст, Григорий Богослов и прочие, прочие, прочие…
Даже еретики и те принадлежали исключительно к разряду великих, как, например, тот же священник Арий.
Именно здесь, на Втором Никейском и Седьмом по общему счету Вселенском соборе, состоявшемся уже в VIII веке, императрица Ирина, совместно с патриархом Константинополя Тарасием, сражалась с иконоборцами.
Могучие двойные ряды крепостных стен, неправильным пятиугольником раскинувшиеся на шесть километров и поднимающиеся на западе прямо из вод Асканского озера, когда-то холодно взирали на суетящиеся под ними полчища первых мусульманских завоевателей. Высокие башни, числом более двухсот, которыми перемежались эти стены, презрительно следили за их потугами, хотя спустя два века и они покорились более сильным туркам-сельджукам, изгнать которых удалось лишь крестоносцам.
Именно сюда, под защиту серого шершавого камня крепостных стен, прибыл бежавший из Константинополя император Феодор I Ласкарис вместе с патриархом, а также с теми святынями, которые беглецам удалось вывезти из Святой Софии. В их числе были и железная цепь, которую носил апостол Павел, и ларец с мощами сорока мучеников, и покров самой девы Марии, и нетленные останки Иоанна Златоуста, и превеликое множество других, помельче, дающих Феодору гордое право по-прежнему именовать себя императором Византии.
Однако кроме титула ничего уже не напоминало о былом величии. Да и о каком былом можно говорить, если Ласкарис, по сути, не правил в Константинополе ни дня.
Избранный духовенством, возглавляемым патриархом Иоанном Каматиром, Феодор почти сразу же бежал, так и не успев насладиться пышными медлительными церемониями, торжественными выходами, праздничными обедами и сидением на роскошном троне.
Ныне он жил весьма скромно и был легко доступен, так что на прием к нему отец Мефодий попал довольно-таки быстро. Его внимательно выслушали и… отпустили, не сказав ни да, ни нет. Дальше же все застопорилось. Император пребывал в колебаниях, не зная, что именно ответить русскому монаху. Если бы он точно знал, что рязанский князь сумеет взять город, если бы он мог быть уверенным в том, что это предложение не таит в себе какого-то хитрого подвоха, если бы… Их было много, всяких если.
К тому же решения о введении патриаршества на Руси самолично он принять не мог, а в чиновничьем аппарате главы всего константинопольского духовенства мнения по этому поводу имелись совершенно противоречивые. Сам патриарх, в силу своей немощи и преклонных лет, почти ничего не предпринимал, предварительно не посоветовавшись со своим хартофилаксом[10] — энергичным отцом Германом, который на сей раз даже и не знал, что посоветовать. Двое других — великий скевофилакс[11] и великий эконом[12], доподлинно знающие, сколько течет с Руси серебра в казну патриарха, больше склонялись к тому, чтобы отказать отцу Мефодию.
Горой за будущего епископа — опять-таки исключительно из своих меркантильных интересов, стоял один лишь великий сакелларий[13], который в случае принятия предложения русского князя и переезда в Константинополь существенно поднимал престиж собственной должности.
После того как слух о заманчивом предложении отца Мефодия распространился в императорском окружении, у будущего епископа сразу же появились свои горячие сторонники и не менее пламенные враги. Партию первых решительно возглавил молодой зять императора — Иоанн Дука Ватацис[14]. Партию последних — жена Феодора I Ласкариса императрица Мария.
Оно и понятно. Кому придется по душе предложение свергнуть с престола своего родного брата, который, правда, так и не удосужился прибыть в Константинополь, но все же, но все же… Тем более что по слухам, которые изредка доходили в Никею, западная знать сейчас все больше склонялась к тому, чтобы посадить на трон Латинской империи ее другого родного брата Роберта[15].
Зато будь воля Иоанна, и он бы не колебался ни минуты. Но ее не было. Пока не было. Ласкарис безмерно уважал своего зятя, особенно за те качества, которых не имел сам, — неуемную энергию, бешеный напор и такой же темперамент, но вместе с тем боялся вызвать гнев своей капризной и надменной жены, в жилах которой текла королевская кровь[16].
Сам Ласкарис привык решать все дела компромиссами, но здесь необходимо было принимать чью-то сторону и славировать, как он умел, не получалось.
Вот почему единственное, что на данный момент хоть как-то утешало отца Мефодия, так это достаточно ясный и недвусмысленный ответ, полученный им от императорского зятя.
— Если я когда-нибудь стану императором, то мы сумеем договориться с твоим князем. Клобук патриарха — не столь уж высокая плата за обладание «вторым Римом», — открыто заявил ему Иоанн.
— А если к тому времени сменится и патриарх? — уточнил отец Мефодий. — Хватит ли у вашего величества сил, чтобы уговорить нового?
Ватацис чуть задержался с ответом, прикидывая что-то в уме, но затем гордо тряхнул головой.
— Ему придется пойти мне навстречу, кто бы он ни был. Возможно, не сразу, а лишь через месяц-другой, но все равно придется. И никуда он не денется. Так и скажи князю Константину.
— Я непременно передам ему ваши слова, — пообещал отец Мефодий. — Думаю, что он останется доволен.
В принципе, после сказанного Иоанном русскому священнослужителю можно было бы и уезжать. Пусть не от самого императора, а лишь от его будущего преемника, но ответ был получен, причем четкий и ясный, без экивоков и отговорок, если бы не одно «но». Канцелярия патриарха по-прежнему не торопилась утвердить рязанского священника в сане епископа.
Вот почему в этот по-летнему теплый апрельский денек отец Мефодий еще не собирался домой, на Русь, а неспешно прогуливался по тесным и грязным улочкам одного из предместий Никеи. Он хотел зайти в неприметную лавчонку, где его с нетерпением поджидал седой старик еврей с грудой новых рукописей, которые он надеялся с немалой для себя выгодой продать чудному русичу. Правда, только при условии, если тот придет без этого выжиги Филидора, мастерски сбивающего цену вдвое, а то и впятеро на любой предлагаемый товар.
Отец Мефодий уже собрался было повернуть в совсем узенький проулок, как услышал жалобный щенячий скулеж, раздававшийся прямо за поворотом.
«Никак скотинку божью кто-то мучает», — мелькнула догадка, и вместо того чтобы зайти в лавчонку, он продолжил движение вперед и даже ускорил шаг.
В большую и глубокую канаву, вырытую прямо возле серого приземистого домика и заполненную всякой гадостью, кто-то бросил трех щенят. Двое из них почти не подавали признаков жизни, больше по инерции продолжая вяло перебирать лапками и за счет этого еще оставаясь на плаву, а вот третий упорно барахтался. Он-то и скулил, призывая всех прохожих вмешаться и помочь ему в этом неравном сражении.
— Вот же напасть, — сокрушенно пробормотал отец Мефодий. — И какая же зверюга это содеяла?
Даже не думая, что он сам станет делать с этим крошечным черненьким пушистым комочком после его спасения и куда он его денет, будущий епископ решительно задрал подол своей рясы и смело шагнул вперед, тут же по щиколотку погрузившись в зловонную жижу, наполовину состоявшую из нечистот и кухонных отбросов.
— Экий ты чумазый, — сокрушенно вздохнул отец Мефодий, крепко держа малыша за шиворот. — Ну да ничего. Отмоем.
С темной шерсти щенка тонкими струйками безостановочно стекала грязная вода. Выглядел он настолько беспомощно, слабо дрыгая в воздухе всеми четырьмя лапками, что сердце отца Мефодия аж защемило от жалости.
— Ты только потерпи немного, — попросил он. — Тут недалеко. — И зашагал по направлению к пристани, где в одном из домишек, скучившихся в один грязный комок, жили пять его спутников. Работа нашлась всем сразу. Цвет помогал отмывать щенка, который на удивление бодро вынес купание в морской воде, хозяйственный Хруст был незамедлительно отправлен на городской рынок за молоком, а еще двое усердно сколачивали из обрезков разномастных досок просторное и удобное собачье жилье.
Не у дел оставался только пройдоха Филидор, который так прикипел к отцу Мефодию, что ни в какую не захотел с ним расставаться, нанявшись к нему на службу за бесплатный стол, ночлег и гривну в месяц. Плата, по константинопольским меркам, считалась о-го-го, к тому же и кормили его от пуза, что бродягу грека вполне устраивало.
Ближе к ночи чисто вымытый щенок с непомерно раздувшимся животом, так и не добравшись до своей конуры, мирно спал возле нее на заботливо подстеленных тряпках, а отец Мефодий молча сидел рядом и впервые за все время пребывания в этом не очень-то гостеприимном городе был счастлив. В душе у него царило умиротворение.
С тех пор каждая вечерняя прогулка отца Мефодия непременно заканчивалась у собачьего домика. Щенок же, невзирая на то что с ним охотно играли все остальные, своим единоличным хозяином и повелителем избрал именно этого человека в рясе.
Оба относились друг к другу исключительно серьезно и подчеркнуто уважительно, даже радость от каждодневной встречи выказывали сдержанно. Человек улыбался одними глазами, щенок тоже не вилял хвостом, а лишь слегка оттопыривал губы, обнажая розовые младенческие десны и мелкие, но острые белоснежные зубы.
Они почти не играли. Вместо этого отец Мефодий предпочитал разговаривать с юным псом. Упрямец, как он его назвал, в это время сидел напротив и внимательно слушал, что говорит хозяин. В глазах его явственно читалось напряженное внимание и интерес к излагаемому.
Вечерняя кормежка была также исключительной прерогативой отца Мефодия. Он лично наливал в миску молоко, крошил туда хлеб, после чего вежливо обращался к щенку с неизменным предложением:
— Ну и как ты сегодня насчет поесть? Не против?
Тот глубокомысленно задумывался, слегка склонив тяжелую лобастую голову набок и забавно подергивая левым ухом с маленькой белой полоской почти посередине — единственным светлым кусочком на черном фоне всей остальной шерсти. Думал щенок недолго, затем лениво поднимался с места, неторопливо зевал, словно отвечая: «Ну что ж, можно и поесть. Тем более что уже наложено — не пропадать же добру», и приступал к трапезе.
Ел он так же солидно, не торопясь, время от времени поглядывая на отца Мефодия, будто спрашивая: «Ты сам-то как? А то я и поделиться могу. Не хочешь? Ну тогда ладно — придется одному доедать».
Поев и тщательно вылизав дно миски, Упрямец так же степенно подходил к отцу Мефодию и вежливо тыкался в протянутую руку холодным влажным носом, учтиво благодаря за трапезу.
Странное дело — утром и днем он мог поесть, кто бы ни наложил ему еды, зато вечером…
Как-то отец Мефодий не смог прийти, еще днем был вызван в патриаршую канцелярию и пробыл там до закрытия городских ворот. Упрямец же, полностью оправдывая свою кличку, гордо простоял весь вечер у своей миски, до краев наполненной вкусной ароматной кашей, и уныло разглядывал призывно манящие кусочки мяса, но к еде даже не притронулся. Никто не видел, спал ли он вообще в ту ночь. Во всяком случае, те, кто вставал по нужде, все как один утверждали, что щенок по-прежнему сидит у нетронутой миски с кашей.
Не стал он есть и утром, продолжая мрачно сидеть поодаль и чего-то ждать. Отец Мефодий в тот день пришел намного раньше обычного, но щенок не пошел и к нему. Он только с укоризной взглянул на своего хозяина, вздохнул совсем по-человечески и поплелся к себе в конуру, всем своим видом выказывая глубокую обиду за подобное небрежение и невнимание.
Отец Мефодий, которому тут же рассказали о поведении Упрямца, присел рядом на корточки и принялся рассказывать, что он ну никак не мог прийти к нему вчера.
— Я бы и ночью пришел, но ночью из города никого не выпускают, кроме разве что императора, — объяснял он. — Но я-то ведь не император. А по стенам лазить я тоже не умею. К тому же там стража. Если бы я полез, то они просто убили бы меня. Теперь ты понимаешь, почему я не смог прийти?
Щенок встал, неспешно потянулся и внимательно посмотрел на человека в рясе.
«Не врешь?» — спрашивал его настороженный взгляд.
— А вот это нехорошо, — с легкой укоризной в голосе заметил отец Мефодий. — Друзьям надо верить, иначе какие же это друзья.
Упрямец смущенно засопел.
— Ну что — мир? — спросил отец Мефодий.
— Р-р-р-р, — эхом отозвался Упрямец и молча ткнулся холодным влажным носом в протянутую ладонь друга.
Затем он, старательно сдерживая себя, прошел к миске, понюхал содержимое, но есть не стал, вновь принявшись разглядывать отца Мефодия.
— Ну, считай, что еду тебе положил я, — предложил тот.
Упрямец немного подумал, затем с силой тряхнул головой и принялся сосредоточенно чесать за ухом, размышляя, считать или нет.
— Если хочется горяченького, то я могу и заменить, — добавил отец. Мефодий.
Щенок вздохнул, хозяйственно рыкнул, давая понять, что добро выбрасывать негоже, и принялся за трапезу. На этом инцидент был исчерпан.
А вечером неприметный монастырский служка докладывал хартофилаксу Герману, сокрушенно разводя руками:
— Ни с кем, кроме своих, он не говорил.
— Может, ты не заметил? — хмуро уточнил тот.
— Не-ет, — отчаянно затряс головой монашек. — Он из того домика вовсе никуда не отлучался.
— И все время молчал?
— Разговаривал, не без того, но только со щенком своим.
— С кем?!
— Со щенком, — робко повторил служка. — Он с ним каждый вечер разговаривает, а тот сидит и слушает.
— Кто слушает?!
— Щенок, кто же еще. Голову чуток наклонит, а сам и не шелохнется. Вот так и сидит, пока он говорит. — И монашек для вящей убедительности попытался изобразить позу, в которой щенок слушает отца Мефодия.
— Пил!.. — осуждающе уточнил хартофилакс.
— Ни капельки, — торопливо заверил монашек, смущенно шмыгая носом и торопливо крестясь. — Как на духу, владыка.
Отец Герман недоверчиво покосился на него, подойдя поближе, шумно втянул в себя воздух, принюхиваясь, но ничем подозрительным от служки и впрямь не пахло.
— Значит, с собакой разговаривал, — задумчиво протянул он и повелительным жестом отпустил соглядатая из своих покоев.
Оставшись один, он в течение нескольких минут сосредоточенно вышагивал взад-вперед по мягкому хорасанскому ковру, после чего, остановившись в аккурат на его середине, развел руками и воскликнул недоуменно и как-то по-детски обиженно:
— Ну ничего не понимаю. Зачем ему с собакой-то каждый день разговаривать?! — и вновь принялся вышагивать, напряженно размышляя над очередной и, по всей видимости, неразрешимой головоломкой, которую ему подсунул этот загадочный русич в рясе.
Мало того что сам рязанский князь, чьим послом являлся этот странный священник, ставит один неразрешимый вопрос за другим, так тут теперь и его доверенное лицо ухитряется совершать не менее странные поступки. Странные и совершенно необъяснимые. Ну и как в таком случае поступить ему, оку и уху патриаршему?
— Уж больно ты простодушен, посол, — бормотал хартофилакс, продолжая вышагивать по келье. — А послы такими простодушными не бывают. Тогда что же у тебя таится за пазухой и что именно на самом деле задумал твой князь? Что и для чего?
Робкий стук в тяжелую дубовую дверь прервал его размышления.
— Кто еще там? — раздраженно откликнулся отец Герман.
— Это мы, — проблеял тоненький голосок сквозь образовавшуюся щель в дверном проеме, и почти сразу следом за голосом в келью хартофилакса не вошел, а вкатился его обладатель.
Был он не столько велик телом, сколько просто кругл, особенно спереди, в области живота. Полностью лишенный волос череп толстяка масляно поблескивал, отражая свет лампады.
— И снова ничего, — буркнул хартофилакс. В ответ последовал сокрушенный вздох.
— А хорошо ли искали?
— Почитай все перерыли, что только можно. Ни княжеских записей, ни его собственных не нашли ни одной. Да у него в том домике и вещей-то никаких. Так, узелок с исподней одеждой, да в сундучке несколько старых рукописей.
— О чем написано?
— Да разве я ведаю, — удивился круглый толстяк. — Опять же времени было всего ничего. Того и гляди, его люди с рынка возвратятся. Боязно, — протянул он жалобным тоном.
— Но они точно старые? А может, он среди них что-то собственноручно написанное прятал? Я же вам показывал его руку — неужели не запомнили? — раздраженно спросил отец Герман.
— Как не запомнить. Все в лучшем виде. Не его это рука, да и вообще…
Толстяк отошел к двери и, открыв ее пошире, позвал кого-то невидимого из темного монастырского коридора:
— Эй, Арба! Давай заходи. У тебя лучше получится, — и посторонился, пропуская в келью своего напарника.
Тот был полной противоположностью толстяку — худой, смуглый и с обильной растительностью на лице. Не заросли волосами только глаза с большими черными зрачками.
— Скажи отцу Герману, что да как с теми рукописями, — кивнул толстяк в сторону хартофилакса. — Кто их и кому писал.
— Там не было руки русича, — сухо ответил смуглый.
— А может, ему что-то было отписано?
— Нет. Там не было ни одного листа с русскими буквами.
— Ему могли написать и на другом языке, — возразил отец Герман.
— Могли, — не спорил Арба. — Но ты же сам сказал, владыка, что он не знает ни арамейского, ни греческого. К тому же сразу видно — давно писано. Даже буквы кое-где выцвели.
— А что это тогда за рукописи?
— «Таинство» Амвросия Медиоланского там лежало, «О святой Троице» епископа Илария. Еще Евсевий Кесарийский был — «Приготовление к Евангелию», — начал перечислять смуглый.
— Еще что?
— Иоанн Дамаскин тоже имелся. Рядом с ним сочинения патриарха Константинопольского Фотия — «Амфилохия» и «Номоканон».
— Еще, — нетерпеливо потребовал отец Герман. — Из нынешних кто-то был?
— Евфимий Зигабен, Евстафий Солунский, Иоанн Зокара, Феодор Вальсамон и Михаил Пселл.
— Ну, это все… — разочарованно пробормотал хартофилакс и уставился на Арбу, буравя его своим колючим взглядом. — Неужто более там ничего не хранилось из такого?.. — Он сделал в воздухе неопределенный жест.
Арба замялся.
— Прежде чем отвечать, вспомни о своем брате, — предложил отец Герман. — Если ты сейчас не вспомнишь, то ему может стать плохо.
— Ему и так плохо, — глухо откликнулся смуглый.
— А будет совсем худо, — почти ласково произнес хартофилакс. — Ты же меня знаешь, верно?
— Были кое-какие, — нехотя выдавил Арба.
— Какие? — еще ласковее спросил отец Герман.
— На одной сверху написано «Против христиан». Толстая такая, — с трудом выдавил из себя смуглый.
— А еще? — угрожающе вопросил хартофилакс.
— Еще одну я и сам когда-то… гм… листал, перед тем как сжечь, так что могу сказать точно — это Прокл. И рядом лежала. Тоже признал. Ветхая совсем. Сверху написано: «О философии оракулов».
— Это все? — испытующе вперил в него грозный взгляд хартофилакс.
— Еще одна была. Видать, жгли ее когда-то, да кто-то вовремя из костра вынул — только углы опалились. «Правдивое слово» называется.
— Ну что ж, — чуточку, самыми уголками рта, улыбнулся отец Герман. — С сегодняшнего вечера твоему брату будет не очень плохо. Как видишь, я держу свое слово. А теперь идите.
— Там еще сочинение Николая Мефонского было. Как раз в опровержение Прокла! — отчаянно выкрикнул уже перед дверью Арба. — И «Слово против еллинов» Афанасия Александрийского. А еще труд Иринея Лионского лежал — «Против ересей».
— Ну и что, — равнодушно пожал плечами хартофилакс. — Это уже не имеет значения.
Дождавшись, пока за соглядатаями закроется дверь и он останется один, отец Герман довольно потер руки и засмеялся.
— Вот и сошлось у меня все, отец Мефодий. Значит, у нас с вами получается очень любопытная и, я бы даже сказал, загадочная подборка, навевающая на определенные раздумья: Прокл[17], Порфирий[18], Юлиан Отступник[19] и… кто там еще? — задумался он на секунду, нахмурив брови. — Ах, да — Цельс[20]. Интересный подбор для православного монаха, прибывшего на поставление в епископы. Теперь ты мой, хотя и жаль. Человек ты в общем-то вполне достойный, но что тут поделать, если этого настоятельно требует императрица Мария. — Он сокрушенно развел руками. — А ее желания — сам понимаешь — не обсуждаются, ибо что хочет императрица — того хочет…
Он, не договорив, вновь задумался. Было над чем. До сих пор, хотя и прошло уже немало времени с момента их первой встречи, отец Герман так и не мог понять, почему он воспылал такой странной и жгучей неприязнью к этому мягкому, вежливому, немного застенчивому русичу, простодушному в общении и очень доброму, судя по его поступкам. Только за то, что он, хартофилакс, не всегда его понимал? Нет, этого быть не может. Отец Герман никогда не позволял себе такой роскоши, хотя до недавних пор людей, которых он, при всем своем старании, так и не смог понять, не было. Во всяком случае, из числа священнослужителей.
Просто одними руководила в первую очередь неуемная жажда власти, другими — бешеное честолюбие, третьими и самыми многочисленными — самое тривиальное желание сладко есть и мягко спать. При этом все они непременно прикрывались лицемерной маской добродетели. Реже встречались те, которые подчинили всего себя вере, неистовой и слепой, доходящей в своей ярости и неприятии инакомыслящих до слепого фанатизма. Еще реже — такие, кто всем благам мира предпочитал знания.
Русич же не подпадал ни под одну из перечисленных категорий. Он вообще стоял особняком от всех прочих.
«Но это же не повод для враждебного к нему отношения? — спрашивал сам себя хартофилакс и, недоуменно пожимая плечами, отвечал себе же: — Нет. Тогда в чем дело? В чем причина?» — и безмолвствовал, не зная, что ответить.
Но сегодня вечером, именно в эту самую минуту его наконец-то осенило. Оказывается, ответ лежал на поверхности, а начало разгадки таилось уже в том, как отец Герман всегда называл этого человека. Не вслух, конечно, а про себя. Ведь он никогда не именовал его монахом или отцом Мефодием. Ну ни разу. Всегда только русичем. А почему?
Да потому, что тот в первую очередь был именно им, а никаким не монахом и не представителем Христовой церкви, которая, как известно, национальностей не имеет вовсе. И деление среди людей она должна проводить по иному признаку: православный или иной веры, правильно молится, строго соблюдает все предписанные каноны или же допускает ересь, поступает во благо церкви или же во вред ей. Допускалось и еще одно: выгоден этот человек для меня лично или не выгоден. На такое хартофилакс тоже смотрел сквозь пальцы, ибо кто из нас не без греха.
А вот отец Мефодий судил странно: плохой или хороший человек. И все! Иных категорий для него не существовало. Вот почему и был столь загадочен для отца Германа строй его мыслей, хотя на самом деле русич их вовсе не таил. Он просто горячо любил свою родину, и эта любовь к ней и к людям, которые там живут, довлела над всеми его остальными чувствами.
Хартофилакс никогда ранее не сталкивался с подобными людьми. Тем не менее он не имел ничего против подобного чувства, при условии чтобы оно не было равно по своей высоте и мощи храму веры, который надлежало держать превыше всего. У этого же… русича оно не просто тщилось сравниться с ним, оно, страшно вымолвить, как бы возвышалось над этим храмом, подобно далекой заснеженной армянской горе Арарат. Получалось, что любовь к обычному простому человеку была в нем сильнее, чем любовь к создателю этого человека. Так какой же он после всего этого священнослужитель?!
Теперь отцу Герману стало легко и просто, а необходимое решение родилось само собой. Надо препроводить русича в пыточную, которую местные мастера своего дела ласково и метко прозвали разговорчивой кельей.
Там действительно могли разговорить практически любого, кто попадал в нее хотя бы ненадолго. Мысль об этом появилась в голове хартофилакса уже давно, но она только изредка мелькала в ней, всякий раз отгоняемая колебаниями — все-таки перед ним был человек, которому до епископского сана осталось пройти всего одну, по сути дела, почти формальную процедуру.
Теперь же колебания ушли в сторону, будто их и не было вовсе.
«Нынче же, — решил он. — Нет, сейчас уже слишком поздно, а вот завтра пригласить с утра на беседу, протомив весь день до позднего вечера, чтобы устал и душой и телом, и уж потом, ближе к ночи туда, в разговорчивую. Надо бы только вопросник приготовить, чтобы он сразу понял всю серьезность обвинений».
Хартофилакс довольно потер руки. Чего греха таить, хотя он все равно таил, даже от самого себя — уж больно нравилось ему зрелище беспомощного человека, который полностью находился в его, отца Германа, власти.
Причем нравилось настолько, что иной раз он снова и снова вспоминал особо сладостные минуты, представляя, как он восседает за грубым столом, а в дальнем углу тяжко хрипит, задыхаясь от ужаса, очередной еретик, распятый на массивных железных цепях. Тяжелая массивная фигура палача… гм, точнее будет сказать, служителя божьего отца Амвросия подходит к заблуждающемуся и, едва тот замолкает, перестав каяться в своих прегрешениях, отечески увещевает несчастного облегчить свою душу до конца и не таить ничего. Не словесно убеждает — нет. У него более веские аргументы, например раскаленный добела железный прут, которым прижигается тело ради великой цели — спасения грешной души. Есть и другие, еще убедительнее, но до них доходит редко, очень редко. Как правило, хватает прута.
Сладковатый запах горящего человеческого мяса наполняет разговорную келью, отец Амвросий с видом заговорщика оборачивается к отцу Герману, и белки его глаз, которые всегда наливаются кровью во время пыток, то есть увещеваний, выражают полное взаимопонимание, нет, даже слияние с тем, что ощущает отец Герман. В этот великий момент очищения грешной души простой монах и первое, после самого патриарха, духовное лицо во всей константинопольской патриархии чувствуют себя почти братьями. А грешник?.. А что грешник. Разумеется, он обязательно во всем сознается. Может, не именно в этот момент, может, чуточку поупирается еще, но итог один — полное и безоговорочное признание своей собственной вины и столь же искреннее покаяние.
Трудно сказать, будет ли его признание правдиво, да это и не важно. Гораздо ценнее другое — в очередной раз показать всем, что путь от небольших догматических отклонений до великих и смертных грехов неизменен. Стоит на него вступить, как непременно пройдешь до конца. Не сможешь не пройти, ибо, едва вступив на него, ты избираешь себе в поводыри дьявола, который тянет тебя все дальше и дальше, ни на миг не давая остановится или тем паче повернуть назад.
Верить надлежит безусловно!
Итак, завтра он снова почувствует этот сладковатый аромат горящей плоти. Почему-то хартофилаксу казалось, что русич покажет себя стойким и мужественным человеком, хотя и жутким грешником. Значит, придется повозиться. Впрочем, отца Германа никогда не пугала тяжесть трудов, если этого требовали интересы православной церкви. Ноздри хартофилакса начали непроизвольно подрагивать, раздуваясь от предвкушения предстоящей работы, но тут дверь в его келью беззвучно распахнулась.
Отец Герман недовольно обернулся, но успел вовремя сдержать себя и не отчитать наглого вошедшего, который даже не удосужился предварительно постучать в нее. Зять императора Иоанн Дука Ватацис, женатый на его средней дочери Ирине, которого многие прочили в преемники Феодору I Ласкарису, мог позволить себе и не такую вольность. В отличие от всех прочих гостей хартофилакса, на крепком коренастом мужчине лет тридцати была не ряса, а пышная одежда ярких цветов, поверх которой красовалась еще и нарядная хламида[21].
— Грешно являться к бедным монахам с оружием, — сделал мягким тоном замечание отец Герман, указывая глазами на кинжал в богатых ножнах, свисающий с левого бока вельможи.
— Я никогда и нигде не хожу без оружия, — гордо вскинул свой подбородок вошедший. — Разве что в опочивальне, да и там он у меня под подушкой.
— Ты боишься своей супруги Ирины? — деланно удивился хартофилакс.
— Она и я — одно целое, — просто ответил Иоанн. — Однако у меня слишком много показных доброжелателей, которые… Впрочем, речь сейчас не о том. Лучше скажи, ты развеял свои подозрения в отношении того русича или?..
— Или, — коротко ответил отец Герман. — Его нельзя посвящать в епископский сан. Более того, его вообще надлежит предать церковному суду как злостного еретика. Доказательств более чем достаточно.
— Ну и что?.. — возмутился Иоанн. — В конце концов, он живет на Руси, а не у нас. Пусть с этим разбирается его князь.
— Это меня и беспокоит, — вздохнул хартофилакс. — Получается, что мы можем не просто потерять богатейшую митрополию. Тут все гораздо страшнее. Я подозреваю, что если мы дадим согласие, то именно он и будет патриархом. Страшно представить себе — патриарх-еретик. Это же намного хуже, чем латиняне. Те — чужие. Пройдет еще лет десять-пятнадцать, и народ сам выгонит их прочь из Константинополя. Ну, не совсем сам, — поправился он. — С твоей помощью, но выгонит. Уж кому-кому, а тебе это хорошо известно. Ведь ты у нас почти доместик схол[22], — вскользь успел он польстить Ватацису.
— Я не доместик схол, а лишь скромный протовестиарий [23], — не принял лести Дука. — Сила не в должности, как бы красиво и величественно ни звучало ее название. Сила в том, что стоит за этой должностью. Но даже протовестиарию хорошо известно, сколько катафрактариев[24] может выставить сейчас император Феодор. Догадываешься, сколько именно?
— Догадываюсь, что не так много, как тебе хотелось бы, — спокойно ответил отец Герман.
— Не так много, — раздраженно фыркнул Иоанн. — Скорее уж вовсе ничего. С такими силами нам не взять Константинополь ни через двадцать, ни через тридцать лет.
— Пусть через сто возьмем, — не стал спорить хартофилакс. — Зато ересь… Если она завелась, то пиши пропало.
— Насколько я помню, среди константинопольских патриархов тоже было немало еретиков[25]. Пожалуй, побольше десятка, и ничего, все обошлось, — лукаво улыбнулся Ватацис и торжествующе посмотрел на отца Германа.
Во взгляде явно читалось: «Что, съел? Или ты думал, что раз я воин, значит, не знаю больше ничего? А вот тебе!»
— Они осуждены на Вселенских соборах, — строго ответил отец Герман, тут же превратив знание Иоанна в свой дополнительный козырь. — Каждая ересь должна быть осуждена, а еретики строго наказаны. Ты сам видишь, что во имя правильности нашей веры мы не щадим никого, даже патриархов, а тут монах, пока не ставший и епископом. Знает ли его рьяный заступник, какие рукописи он скупает и хранит в своем сундучке?
— Какие бы они ни были, — отрезал Ватацис. — Главное же не в этом, а в том, что он обещает Константинополь. Ты только вслушайся владыка — Кон-стан-ти-но-поль, — произнес Ватацис по слогам, наслаждаясь самим звучанием этого слова.
— Негоже принимать помощь от еретика, — заметил хартофилакс.
— Да я готов принять помощь хоть от… — Дука вовремя осекся, но тут же продолжил, поправившись: — От кого угодно готов ее принять.
— Даже от дьявола? — невинно осведомился отец Герман.
— Нет, — замотал головой Иоанн. — От него не смогу, потому что как раз дьяволы уже сидят в этом городе. Кстати, владыка, посмотри, как здорово получается, — оживился он. — Если этот русский монах предлагает освободить нашу исконную столицу от присутствия в ней сатаны, следовательно, он борется против него, а значит, представляет собой светлые силы. Какой же он еретик после этого, а?
— Ты чрезмерно горячишься, — улыбнулся хартофилакс.
— А ты вместе с патриархом Мануилом чересчур надеешься на унию[26] и потому не хочешь сейчас раздражать чем бы то ни было тех же латинян, — парировал Дука. — Спросил бы лучше меня, и я тебе сразу ответил бы, что грязные латиняне все равно вас обманут.
— Ты так зол на них, что не можешь без оскорблений, — попрекнул Ватациса отец Герман.
— Каких оскорблений? — искренне удивился Иоанн. — Ты о том, что я их грязными назвал? Но это же правда. Она их не красит, но при чем тут я? Мы как-то в стычке захватили одного и предложили помыться — воняет же, так ты знаешь, с какой гордостью он нам ответил, что и без того стал мыться необыкновенно часто, практически ежегодно.
Посмеялись вместе, но недолго. Первым посерьезнело лицо хартофилакса.
— Оставим в покое унию, — небрежно махнул он рукой. — А у тебя самого нет страха, что все это может оказаться обычной ловушкой? Не предполагал ты, сын мой, что в случае согласия императора ему могут прислать ложную весть о том, что Константинополь взят, после чего мы вступим туда, а из укрытий выйдут крестоносцы, и все?
— Ты допускаешь, что возможно и такое? — нахмурился Ватацис.
— Я не допускаю, я опасаюсь, — мягко поправил отец Герман. — Потому и предпочитаю знать все наверняка. Когда мы пригласим его в нашу разговорчивую келью, думаю, что он станет более откровенным. После этого можно будет что-то решать.
— В ней даже я признаюсь, что каждую субботу летаю на шабаш вместе с тремя хорошенькими ведьмами, одна из которых — нагла императрица Мария, — проворчал Иоанн.
— Я этого не слышал, — быстро произнес хартофилакс и упрекнул: — Негоже шутить о таких вещах, тем более будущему императору Византии и обладателю такого чудесного города, как Никея.
— Так ты все-таки еще помнишь, что я будущий, — покровительственно усмехнулся Ватацис. — А я уж было подумал, что ты начал поглядывать в сторону севастократоров Алексея и Исаака[27]. Ну, тогда выслушай меня именно как будущего императора. Я не хочу, слышишь, владыка, не хочу, чтоб твои люди потащили его — давай назовем все своими именами — в вашу пыточную, потому что в этом случае на Русь ты его уже никогда не отпустишь.
— Все будет зависеть от его здоровья, — уклонился от прямого ответа отец Герман.
— Да какое у него будет здоровье после забот твоих умельцев? Значит, русский князь наше молчание сочтет отказом, а своими силами нам Константинополь не взять ни сейчас, ни через пять лет, ни через десять. Да что десять, когда мы ныне еле-еле какую-то злосчастную Атталию раз и навсегда взять у Иконийского султана не можем[28]. И что получается?
— Получается следующее: все, что ни делается, угодно богу, — пожал плечами хартофилакс.
— Может, и так, — задумчиво произнес Иоанн. — Может, наши мечты ему и впрямь не угодны. Ни моя — въехать в великий город полновластным его императором, ни твоя — быть избранным в патриархи.
— Это будет решать синод, — возразил отец Герман.
— Верно, — не стал спорить Ватацис. — Он и решит. Но боюсь, что не в твою пользу, святой отец, потому что мне кажется, что эти две мечты — твоя и моя — очень тесно связаны между собой. Или ты думаешь, что связь твоих надежд с надеждами императрицы Марии намного теснее? — проницательно заметил он.
Хартофилакс вздрогнул.
«Недооценивал я тебя, — подумал он с сожалением. — Ох, недооценивал. Ну что ж, ты сам этого хотел…»
— А кто сказал, что Феодор I непременно уступит место своему зятю, а не своему сыну, буде таковой родится у императрицы, тем более что она вроде бы уже понесла, — заметил он вкрадчиво.
— Ага, — весело хмыкнул Иоанн. — Причем понесла в шестой раз за тот год, что она здесь живет. Если бы у крестьян куры так неслись, то боюсь, что я до конца жизни так и не смог бы отведать яичницы, а я, слава всевышнему, надеюсь не только сам всласть ими полакомиться, но и выгоду поиметь[29]. Ты что же, и впрямь этому веришь? Да ее чрево так же пусто, как бочонок с вином в доме пьяницы. Безнадежно пусто, — подчеркнул он. — Грехи молодости бесследно не проходят. Рано или поздно за все приходится платить. Впрочем, ты ведь, скорее всего, и сам это прекрасно знаешь от ее лекаря. Он же приходит к тебе на исповедь, так?
— Тайна исповеди священна, — возразил отец Герман.
— О чем ты говоришь, отче? Да об этой тайне вот уже полгода как трещит вся Никея. — Ухмылка на лице Ватациса стала еще шире.
«Стало быть, так, — разочарованно подумал хартофилакс. — Ну что ж, эту партию ты выиграл. Нужно идти на попятную, но и перечить императрице тоже не надо бы. Что же делать? Ага! Кажется, есть у меня такая возможность».
— А почему для высокородного Иоанна Ватациса так важна жизнь и здоровье этого русича? — осведомился он, собираясь с мыслями.
— Да плевать я хотел и на его жизнь, и на его здоровье, — досадливо отмахнулся тот. — Но он обещал положить к моим ногам Константинополь — вот что мне важно. И еще одно. Я уже встречался кое с кем из купцов, что бывают в его краях. За последние полгода князь Константин, который послал сюда этого отца Мефодия, увеличил пределы своих владений раз в пять. Выходит, он и впрямь силен, а значит, действительно может помочь.
— У тебя очень старые сведения, сын мой, — снисходительно пояснил отец Герман. — Купец, который вернулся из Руси совсем недавно, сообщил иные новости, более неприятные. У твоего князя Константина скопилось слишком много врагов, и сейчас они готовятся напасть на него. Думаешь, он устоит?
— Хотелось бы верить, — упрямо ответил Ватацис.
— В мирских делах вера не нужна. Порой она даже вредит, — поучительно заметил хартофилакс. — Давай поступим наверняка и зададим этот вопрос… времени. Мне кажется, что в ближайшие полгода или год там все должно разрешиться. Если этот князь и впрямь так силен, то я поступлю по-твоему. Если же нет, то тогда ты не будешь мешать моему общению кое с кем в говорливой келье.
— Ну что ж, — мотнул головой в знак согласия Иоанн. — Почему не подождать.
Они улыбнулись друг другу, как люди, ставшие союзниками, пусть и временно. Ватацис более широко и открыто, зато отец Герман — мягко и вкрадчиво.
А решение дальнейшей судьбы отца Мефодия вновь откладывалось на неопределенное время. И его общение с умелыми подручными хартофилакса в разговорчивой келье тоже.
Глава 1 Сам погибай, а половцу помогай
Как вольность, весел их ночлег И мирный сон под небесами. Между колесами телег, Полузавешенных коврами. Горит огонь; семья кругом Готовит ужин: в чистом поле Пасутся кони… А. С. ПушкинВесна 1219 года выдалась на Руси ранняя. Весь февраль морозы стояли, хотя и не ахти какие, в меру, но зато без слякотных оттепелей. Едва же миновала первая половина марта, как навалилась такая теплынь, что хоть иди и загорать ложись прямо на высокой многоскатной крыше княжеского терема. Одна беда — не принято это в XIII веке на Руси. К тому же и дел у князя слишком много, не очень-то на солнышке понежишься.
Пока затишье вокруг, можно из Рязани и отлучиться на месячишко. Самое времечко, чтобы воспользоваться советом старого волхва и податься в низовья Дона, а там приготовить все необходимое для рязанских французов, как Константин в душе называл переселенцев.
Опять же им не только дома понадобятся, но и времянки. Им ведь и семена для посева нужны, и со скотом подсобить надо. С одной стороны, присутствие самого князя вроде бы не обязательно. С другой же…
Ну, вот кому лучше всего о покупке тех же лошадей договариваться с местными половцами, как не Константину? Благо низовья Дона и вообще все Лукоморье[30] считались территорией половецкой орды его шурина, Данилы Кобяковича, с которым у рязанского князя был не просто мир, но даже что-то типа дружбы. Разумеется, в тех пределах, в каких она вообще возможна между русским князем и половецким ханом, у земледельца с кочевником, у леса со степью.
Во всяком случае, Данила уже дважды помогал Константину — и из неволи князя выручал, когда он попал[31] в полон к родному брату Глебу, и даже своего соседа, хана Юрия Кончаковича, всячески уговаривал прошлым летом не идти на Рязань.
Правда, в среднем течении Дона владычествовали другие орды, но Константин потому и решил отправиться так рано. Расчет его был прост: пока паводок не спадет, ни один степняк к раздувшимся от половодья рекам ни за что не сунется. Да и потом, после того как вода спадет, тоже не сразу пойдут, а выждут немного. Половец без коня — это не воин и даже не совсем человек, а лошадь по непролазной весенней грязи гонять глупо. Вот подсохнет малость, тогда можно будет и поближе подойти.
Так что на обратном пути такой встречи, как ни крути, не избежать. Но рязанский князь с дружинниками — это тебе не гость торговый. На такого и сами половцы лишний раз поостерегутся нападать — себе дороже выйдет. Так что и тут бояться было нечего.
Имелись, конечно, у Константина некоторые опасения относительно недобрых намерений черниговцев и новгород-северцев, чьих князей он зимой за разбой по дубам развесил. Но и тут, по здравому размышлению, лучше времени не придумать, чтобы успеть съездить, все организовать и быстренько обратно метнуться.
Сейчас-то военных действий в любом случае ожидать не приходилось. Пока паводок сойдет, пока реки в свои прежние берега вернутся да земля просохнет как следует — вот тебе и конец апреля. А тут вновь не до битв. Как можно ополчение собирать, когда все смерды в поле с утра до вечера. Сев — дело святое. Сам-то он недолог, зато перед ним столько наломаешься, что о-го-го.
С одной дружиной на Рязань идти? Глупо. Это уже не война, а так, набег какой-то. Его отбить несложно, тем более что на границе с Черниговским княжеством сторожа надежная поставлена, а в условленных местах — если что — гонцов скорых лошадки сменные ждут. Так что никак не успеть соседям шибко много напакостить.
Ну а пока все спокойно, надо народ скликать да в путь собираться. Из дружинников Константин взял только две сотни, причем с таким расчетом, чтобы четвертую часть, не меньше, оставить в тех краях навсегда. Потому и старался подобрать побольше молодых да неженатых. Их дома семья не держит, им себя показать да мир повидать охота. Самое то.
Еще сотня таких же юных холостяков была набрана из числа вчерашних ополченцев. С этими уж как получится. Останутся — хорошо, а нет, так к осени назад вернутся, но не раньше. Уж больно работы там много. Просто непочатый край.
Конечно, сами стены возводить, башни ставить, дома с амбарами и овинами для поселенцев рубить — тут народ мастеровой нужен, который топором побриться может, не говоря уж о прочем. Их чуть побольше трех десятков набралось. Должно хватить. А вот на черных работах, с той же землей, к примеру, да и лес подготовить — тут как раз ополченцы с дружинниками и помогут.
За себя князь, в затылке почесав, решил пока оставить боярина Хвоща. Не было у него в запасе почти никого из старых служак, а Вячеславу сидеть в Рязани никак нельзя. Ему, как воеводе, нынче на границе с Черниговом самое место. Конечно, Константин вроде бы все рассчитал и предусмотрел, но ведь и опаску нужно иметь на всякий непредвиденный случай. Опять же, мало ли что с ним самим произойти может. Обстоятельства разные бывают, в том числе и такие, что уж никак не предусмотреть, а после сева за теми же черниговцами глаз да глаз нужен будет.
И вскоре семь набойных[32] ладей весело взрезали своими высокими носами мутную речную гладь Прони, держа путь по направлению к ее верховьям. Кое-где в воде еще поблескивали не только не успевшие растаять льдинки, но и глыбы посолиднее. Такие осторожно отталкивали веслами, не давая сблизиться с ладьями на опасное расстояние.
В целом же река была почти чистой. Матерый лед прошел, а верховой не страшен. Больше опасений вызывали увесистые бревна, которые у неосторожного хозяина смыло в паводок, да куски плетней, унесенные с собой жадной рекой. Но если быть внимательными, так и их бояться нечего — они для ротозеев страшны, с князем же плыл народ бывалый.
Речные суда могли вместить в себя и намного больше народу, но Константин посчитал, что трех с лишним сотен должно хватить за глаза. Особенно учитывая то, что в их число входили два десятка спецназовцев воеводы Вячеслава. Их князь прихватил, учитывая все то же мудрое, хоть и не совсем определенное выражение: «Мало ли…». Как там все обернется — совершенно неизвестно, и Константин предпочитал перестраховаться.
Кроме того, благодаря невеликому числу людей на каждую ладью удалось захватить немало припаса, чтобы хватило не только на дорогу, но и на первые пару недель пребывания.
Дело в том, что Константин совершенно не помнил, как обстояли дела в устье Дона с древним Азовом. Так, витало в голове что-то смутное про первое славянское поселение, которое вроде бы возникло там после походов князя Святослава на хазар. Что с ним сталось после, как теперь его жители воспримут визит рязанского князя и его желание взять их под свою руку, а главное — славянским ли оно осталось до сих пор, или ныне чье-то иное, было совершенно не понятно.
Для того и плыли воины, которым предстояло выполнять сразу несколько задач — возможный штурм имеющихся укреплений, если все-таки дело дойдет до вооруженного столкновения, охрана и оборона захваченного города, опять же, если он имеется, ну и кропотливый тяжкий труд по возведению стен и прочих крепостных сооружений.
Да и потом бросать город на одних только прибывших переселенцев было негоже. Лихого народа в тех местах всегда хватало и помимо половцев. Те же касоги[33], например, с которыми происходили регулярные вооруженные столкновения у русских князей, правивших в Тмутаракани.
Правда, особой вражды не существовало, временами ссорились, потом мирились. Да и в дружинах княжеских касожских витязей тоже хватало. Но их бедные поселения в основном располагались на левом берегу Кубани, хотя удальцы в поисках легкой поживы могли забрести и к устью Дона.
Плыли хорошо, ходко. Получилось у Константина что-то типа маленького туристического похода. Кругом простор, а воздух такой, что дыши — не надышишься. Хотя с природой, конечно, не очень. Не только листьев на деревьях не было, но и почки лишь набухать стали.
Неприятный осадок на душе у Константина появился лишь тогда, когда их небольшой караван миновал Ранову, прошел по Хупте, минуя Ряжск, и остановился на Рясском волоке — заброшенном и позабытом всеми. Видать, изрядно сумели напакостить половцы в своем неуемном желании отнимать и грабить, коли единственный волок, соединяющий путь, издревле именуемый «из варяг в греки», равно как и тот, второй, что по Днепру, оказался в таком запустении.
А ведь некогда это была самая короткая дорожка, по которой купцы Византии и всего Средиземноморья плыли в русские княжества.
Не виднелось на нем теперь ни одной бригады артельщиков, которая подсобила бы переправить ладьи из реки в реку. Да что там бригады, когда и сами катки для спуска на воду почти сгнили, и все остальное оказалось столь же заброшенным. Но все равно к исходу второго дня все семь ладей уже закачались на Становой Рясе.
Прощай, Ока, здравствуй, Дон-батюшка!
Теперь было и вовсе легко. Даже грести особой нужды не было, все вниз да вниз по течению. Не заметили, как уже и в Воронеж-реку вошли, а та, столь же неприметно, привела к Дону.
Дальше все тоже было легко и просто. Знай плыви себе, пока не покажется на одном из берегов — на каком именно, Константин, правда, тоже не помнил — древний Азов.
Но вначале путешественники чуть не заплутали. Дон, как известно, впадает в Азовское море двумя широкими рукавами. Какой из них к Азову ведет — бог весть. Константин рискнул поставить на правый, действуя по методу тыка, и, конечно же, промахнулся. Пришлось возвращаться назад, и лишь со второй попытки на левом берегу левого рукава обнаружилось то, что искали.
Зато дальше все пошло хорошо. Поселение здесь, как выяснилось, все еще существовало, и проживал в нем преимущественно славянский народ. Это один плюс. То, что хватало пришлых, — второй. При случае, если необходимость появится, намного легче будет с соседями-кавказцами договориться.
Третий заключался в том, что у местных жителей проблем тоже хватало. Генуэзцы, осевшие и укрепившиеся в Крыму, оказались не очень-то добрыми соседями, а потому жители Азова под руку рязанского князя согласились идти не просто безропотно, а даже охотно, почти радостно, будто только об этом и мечтали всю жизнь.
Четвертый и тоже положительный нюанс заключался в том, что основные земляные работы здесь и так уже были сделаны. Имелись в поселении и валы добрые, причем не такие уж низкие — метров пять высотой, и рвы перед этими валами. Частокол, огораживающий небольшие полуземлянки, стоял не ахти какой прочный, но это уже поправимое.
— У нас, конечно, нынче со степняком замирье уже годков пять, а то и более, однако же сторожиться нужно. Чай, не дурни какие, понимаем, — степенно отвечал князю старшина поселения с самым что ни на есть подходящим к месту жительства имечком Лещ.
А уж когда Константин и угощение выставил к вечеру поближе, то тут и вовсе чуть ли не до братания дошло. Причем коренные азовцы не столько по хмельному меду соскучились, сколько по свежему душистому хлебушку — свои-то запасы давно подъедены были, еще в январе кончились.
Да вдобавок ко всему образовался еще один плюс, уж вовсе непредвиденный. У Леща, вишь, баба тяжко рожала. К тому времени, когда Константин приехал, пятый день пошел, как она мучилась. А в этих краях слушок такой ходил, что, мол, стоит князю хотя бы легонько рукой роженицы коснуться, как у нее все хорошо будет.
Откуда такое поверье пошло — Константин не вникал. Зато когда Лещ ему все это рассказал и, замявшись, попросил с ним до баньки пройтись, тут-то оторопь его и взяла. Может, в старину князья какие-то особые слова знали или, скажем, какие-то сверхъестественные способности имели, но он-то точно знал, что не суметь ему подсобить женщине.
Однако делать нечего. Ближе к вечеру, еще перед застольем, заглянул он в баньку и все сделал точно так, как просили. А буквально через несколько минут — за столом едва только одну чашу опрокинули — прибежал сияющий малец и прямо с порога Лещу выпалил:
— Батька, а матка там разродилась. Сестренка у меня ныне, да не одна, а две сразу.
Народ уважительно покосился на князя, причем половина, не меньше, решила, что он не только подсобил с родами. Как знать… Может, на самом-то деле всего одна девка должна была родиться, а не две, но о подозрениях этих дружно умолчали.
Тут-то веселье и началось. Вот только некоторые дружинники, прибывшие с Константином, вновь начали как-то опасливо на князя своего коситься и между собой перешептываться. Уже в конце застолья один из них не утерпел и, улучив удобный момент, когда никто не прислушивался, тихонько шепнул Константину:
— Слышь, княже, ты бы того… малость поостерегся, — и, видя, что тот ничего не понимает, уже прямым текстом и безо всяких намеков влепил: — Сила-то у тебя могутная, тока в ход ее пускать с оглядкой надобно. Не выказывать ее всю-то сразу, — и пояснил, хмурясь: — Не мое енто дело, конечно, тока народ здесь уж больно дикой, могут и не понять.
Константин в ответ лишь молча кивнул и устало вздохнул, не зная, что и сказать-то по такому поводу. Мол, понял он все, а за предупреждение спасибо. Сам же невесело задумался, за кого теперь его дружинники своего князя принимают. Хорошо, если за какого-нибудь ведуна доброго, а если чего похлеще?
Впрочем, много думать да гадать не пришлось. Времени на это не было. Уже на другое утро примерять пошли — где да что ставить. Весь день, почитай, ухлопали, но зато разметку сделали везде и всюду. Теперь можно и в путь собираться, но не обратный, а к главному становищу половецкой орды.
Не побывать в гостях у своего шурина было никак нельзя — обидится смертельно, да и лошадок прикупить необходимо, причем не меньше трех-четырех сотен. Половина для дружинников, им не впервой диких коней объезжать да себе под седло ставить, а еще половину — для будущих поселенцев.
Мысль о том, что ни одна живая душа может вообще не согласиться переехать из благодатных краев южной Франции в неведомую Русь, Константин старательно от себя отгонял.
Это когда-то они благодатными были, лет двадцать-тридцать назад. Но в то время и он сам даже не подумал людей оттуда на новые земли звать. Ныне же там война идет. Когда твою жену с дочкой в любой момент могут изнасиловать, когда залетные молодчики, почему-то именующие себя рыцарями, походя грабят все твое хозяйство, а если свезло и они к тебе не заглянули, то просто поля вытаптывают без жалости — тут поневоле убежишь куда глаза глядят. Крестьянин, конечно, человек по своей натуре весьма терпеливый, но если такое из года в год происходит, то тут уж ни у кого терпения не хватит.
«Хоть сколько-то, хоть десяток-другой человек, а должны приехать», — убеждал он себя. И до тех пор это твердил, пока сам твердо не уверился в том, что да, будут люди. Должны первые ласточки прилететь, а уж за ними и прочие перелетные птички потянутся.
Перед отъездом Константин еще успел побывать на крестинах новорожденных девчонок и даже, чуя невысказанное, пусть уж очень наглое, но весьма горячее желание счастливого отца, самолично одну из них окрестил в местной ветхой и тесной церквушке, заметно покосившейся набок. Вместе со всеми посидел, не чинясь, на застолье, где ему отвели самое почетное место, отведал заветного крестильного блюда, щедро выкупив[34] свою ложку за целую гривну, да и остальных яств гнушаться не стал. Были они преимущественно рыбные, но некоторое однообразие угощения с лихвой восполнялось непревзойденным искусством местных кулинаров.
Данило Кобякович встретил Константина как самого дорогого гостя. Был он поначалу улыбчив, без конца балагурил, а вот к концу третьего дня время от времени стал хмуриться. То все ничего, а то забудется, задумается, и сразу лицо половца покрывается какой-то тенью, а на лбу четко вырисовываются тоненькие морщинки. Затем спохватится и вновь будто весел на какое-то время.
Но на все вопросы князя лишь отмахивался небрежно, мол, ерунда это все, ни к чему дорогому гостю о таких пустяках знать. Лишь на пятый день, когда речь уже зашла о предстоящем отъезде и о лошадях, которые Константин продать попросил, он обмолвился вскользь:
— Гривен не надобно, — сказал, как отрезал. — Дружба с тобой, князь, мне дороже десятка конских табунов. К тому же мне их все равно негде будет пасти.
— Степи мало? — пошутил Константин.
Данило Кобякович вздрогнул, внимательно посмотрел на князя и неожиданно ответил:
— Мало.
— Что так?
— У нас до сей поры все пастбища по справедливости разделены были, — медленно произнес половецкий хан. — Никто в чужие угодья не совался. А тут… — Он, не договорив, замолчал, хмуро глядя на костер.
— Кто? — коротко спросил Константин.
— Кончакович. Мало ему места стало, вот он ко мне и спустился. Добром не уйдет, а воевать с ним — для себя дорого.
— Себе дороже, — машинально поправил князь.
— Вот-вот, — охотно согласился половецкий хан. — Очень дорого. Его орда сейчас посильнее всех прочих будет. Котян еще может с ним потягаться, да и то… Мне же и вовсе такое не по плечу. — Он вздохнул, замолчав, но через несколько минут с тяжким вздохом продолжил: — Мои люди смотрят на меня и ждут. Ждут и молчат. Пока молчат, — уточнил он. — Я хан, я решить должен, как им дальше быть и… как дальше жить, а я не знаю, что сказать. Весной трава в степях хорошая, сочная. Все равно всем хватит. К лету уже не то. Жара начнется — все сохнуть станет. К осени совсем худо придется.
— А если тебе ниже к Кубани спуститься? — предложил Константин.
— Куда? — не понял Данило, но затем догадался. — Это ты о Курбе говоришь. Она по-нашему так называется, — и отрицательно покачал головой. — Нельзя. Там земли касогов начинаются. С ними мне тоже лучше не враждовать. В горах я их не достану, зато они своими набегами столько бед принесут, что сто раз проклянешь тот день, когда пришел к ним.
— Выходит, и тот табун, что я у тебя беру, мне пасти негде будет? — встревожился князь.
— Порожнее говоришь.
— Пустое, — снова не удержался, чтобы не поправить хана, Константин.
Тот в ответ как-то странно покосился на него, но продолжил говорить дальше, а князь мысленно одернул себя. Ну, в самом-то деле, у человека такое горе, а он его учит правильно употреблять русские слова.
— Четыре-пять сотен лошадей — капля в чаше. Для них ты траву всегда найдешь. У меня же их тысячи, много тысяч. Вот для них место сыскать тяжко.
— А переговорить с Кончаковичем пробовал?
— У нас в степи кто сильнее, тот и прав, — уныло пояснил хан. — Сегодня он сильнее. Так он мне и сказал. А еще сказал, чтобы я к тебе ехал. Пусть, говорит, твой родич землями пустыми поделится. У него их все равно много. Они, правда, лесами изрядно поросли, но ты их, говорит, выкорчуешь и степь устроишь. И смеется. У-у-у, собака! — С силой стукнул он кулаком по серому плотному войлоку кошмы, на которой они с Константином сидели.
— У меня к Кончаковичу тоже должок имеется, — медленно произнес Константин.
К неспешности в разговоре подталкивала сама обстановка — бескрайняя степь, мирно пасущиеся вдали кони, старательно выискивающие голые засохшие травинки, чудом уцелевшие от прошлого года, ровное пламя костра в ночной тиши и яркие сочные звезды, безмолвно мерцающие на сильно выгнутой поверхности черной чаши небосвода.
К тому же князь сейчас вступал на очень опасную и скользкую дорожку. Бывший шурин явно ждал от него не просто дружественного сочувствия, а гораздо большего. Не случайно же он подарил ему целый табун. Такое обязывает.
А потому нужно было ступать очень аккуратно, обещать же не просто в меру, а еще меньше, чтоб можно было потом все выполнить. Выполнить железно, вне зависимости от каких бы то ни было непредвиденных обстоятельств, которые запросто могли возникнуть.
Вот потому-то и не торопился Константин с ответом, слова свои не произносил, а цедил неспешно, придавая им увесистость, а сам быстренько прикидывал в уме — что и как. Однако по всем раскладам итог получался для Данилы Кобяковича неутешительным. Хотя если черниговцы промолчат, не рыпнутся, что само по себе маловероятно, если… ох, как много этих самых «если» получалось.
— Я знаю про твой должок, — кивнул хан. — Ты прости, друг, что я не сумел его отговорить. У меня сейчас много воинов, но у него больше. Намного больше. И мои люди это знают. За мной никто бы не пошел. Точнее, пошли бы, но с тяжким сердцем. А воля хана, если она неугодна человеку, это как громоздкий бурдюк на плечах, который пригибает его к земле. Какой тогда с него воин?
— Ты сделал все, что мог, — согласился Константин. — И я тебя ни в чем не виню. К тому же Кончакович не пошел далеко, так что вреда мне сделал немного. Однако долг за ним все равно остался. И я сильно надеюсь, что в это лето я смогу рассчитаться с твоим соседом, но когда именно — сказать трудно. У меня тоже есть свои соседи-князья, и они в большой обиде на меня.
Далее ему пришлось подробно рассказать о январских набегах черниговских и новгород-северских княжичей и о том, как Константин поступил с ними, застукав, можно сказать, на месте преступления.
— Я не хотел убивать их сыновей, но так уж вышло, — счел нужным добавить он. — Вот потому я и не могу сейчас сказать, когда приду в степь по своим долгам платить.
— Тогда и говорить не о чем. Ты же не пойдешь тушить чужой шатер, когда у тебя полыхает собственная изба.
— Главное — приготовить побольше воды, — загадочно улыбнулся Константин, — чтобы ее хватило на оба шатра. Не печалься, друг, — хлопнул он князя по колену. — Ты же сам сказал, что весной трава хорошая, сочная. А до лета еще дожить надо, — подмигнул он ободряюще.
— Только глупец думает о скачках, если у него под седлом одна хромая лошадь. Ты, князь, не похож на глупца, — уклончиво заметил Данило Кобякович.
— Надеюсь. А что касаемо лошади, то до скачек времени много, и я постараюсь, чтобы лошадь выздоровела. Я очень сильно постараюсь. — Константин поднялся на ноги и добавил: — Кто падал сам, тот всегда поможет встать другому. Особенно если этот другой помогал когда-то подняться ему самому.
Больше на эту тему они не разговаривали. Лишь перед самым отъездом, уже прощаясь, Данило Кобякович, неловко отводя в сторону глаза и глядя куда-то в сторону, хмуро спросил:
— Ты хорошо подумал, Константин Володимерович, прежде чем давать мне обещание помочь?
Спросил и застыл в напряженном ожидании ответа. Но в глаза князя так и не смотрел.
«Дикий, а деликатный, — уважительно подумал князь. — Дает шанс отказаться и не хочет смущать при этом».
Вслух же произнес:
— Слово князя — золотое слово. К тому же оно теперь даже не мое, ведь я отдал его тебе. Если я возьму его назад — как потом буду смотреть тебе в глаза? И если я сегодня не помогу тебе, то кто завтра придет на выручку мне?
— Не будет сил ударить — хотя бы замахнись, — быстро произнес хан и наконец посмотрел Константину в глаза. — Только замахнись. Тогда он все равно не сможет обернуться ко мне до конца. Мне хватит. Надеюсь, что хватит, — тут же поправился он.
— Нет, — строго ответил Константин, сознательно отрезая себе все пути к отступлению. — Я постараюсь ударить. От души. Как смогу.
Данило Кобякович молча кивнул и махнул рукой в сторону табуна:
— Его поведут десять моих пастухов. Твоим людям первое время будет тяжело с ними. Мои останутся и научат.
— Это хороший довесок к подарку, — согласился Константин. — Постараюсь ответить тем же.
— Я буду ждать твоего подарка, — негромко произнес хан и шепнул на ухо, обнимая князя на прощание: — К лету.
Больше он ничего не произнес, молча повернул коня обратно к своему становищу.
— Дорогой твоя плата за табун будет, княже, — вздохнул Епифан, когда они двинулись в обратный путь к Азову.
— Не плата, а отдарок ответный, — строго поправил князь. — Или ты забыл, как он меня из тенет[35] брата Глеба выручал вместе с Ратыпей, — и попрекнул строго: — Плоха у тебя память.
— Да помню я, — буркнул Епифан. — А все же… — не договорив, он только вздохнул и махнул рукой.
А ведьмак ничего не говорил. Он уже спал, лежа в телеге и сладко посапывая. Верхом Маньяк почему-то напрочь отказывался ездить, и именно потому пришлось для поездки к половцам позаимствовать у того же Леща небольшой возок. Впрочем, просиживать каждую ночь у княжеского изголовья — это не шутки. И ведь если бы просто просиживать, а то еще и подпитывать его. К утру Маньяк валился как подкошенный и тут же начинал басовито храпеть. Впрочем, свое дело он исполнял на совесть. Тяжелые сны с черными безликими незнакомцами Константину изредка еще снились, но он даже не успевал испугаться как следует, потому что почти моментально картинка кардинально менялась, и он оказывался где-то в очень хорошем месте и с очень хорошими людьми. Правда, что самое интересное, нынешняя Русь в его сновидениях практически отсутствовала.
«Это потому, — пояснял сам себе бывший учитель истории, — что я ею досыта уже наелся».
— Как ты только чувствуешь, когда вмешаться надо? — спросил он как-то раз у ведьмака.
— Ты же знаешь, кто я, — ответил Маньяк. — А объяснить тебе мне не под силу. Нет таких слов, да и не поймешь ты.
Глава 2 Корабли бросают якорь
Будь милостив, доступен к иноземцам, Доверчиво их службу принимай. Со строгостью храни устав церковный… А. С. ПушкинЕдва прибыв в Азов, Константин заторопился с отъездом. Все, что от него зависело, он сделал и даже с лихвой. Помимо табуна с сердито похрапывающими жеребцами и столь же норовистыми кобылами, Данило Кобякович выделил для рязанского князя еще одно стадо.
— Коров не могу, нет их у меня, — сокрушенно развел он руками. — Зато овец самых лучших отдаю. И с приплодом не подведут, и шерсть с них славная. У меня ее генуэзцы втридорога берут, да еще нахваливают.
Мастера, пока князь гостил у половцев, тоже не подкачали и времени зря не теряли. Зная, что вернуться он должен с лошадьми, они первым делом заготовили в стоящем поодаль лесу кучу бревен для перевозки и теперь доводили до ума оставшиеся земляные работы. Трудились споро и деловито. Каждый знал свое место, так что князь им был совершенно не нужен.
Константин уже наметил дату отъезда, но вовремя отправиться домой не получилось. Долгожданные гости прибыли ровно за день до его отплытия.
— Как видишь, княже, на старого Исаака всегда можно положиться, потому что если Исаак сказал, что привезет — таки он их привез. Да еще не кого-нибудь из первых встречных, — ничуть не стесняясь, расхваливал купец сам себя на все лады. — Это же все штучный товар. За такой товар, если судить по справедливости, князь должен Исааку подарить еще два года беспошлинной торговли. Я бы на его месте непременно подарил. Ах, каких славных людей я привез тебе, княже, — поминутно всплескивал он руками.
— А я-то каков молодец! — вполне серьезно откликнулся Константин и точно таким же, как у купца, тоном произнес: — Ах, какие замечательные меха отдал я купцу. Ничего не пожалел. И не какие попало, а что ни мех, то штучный товар. Такие меха, я думаю, принесли ему немало серебра.
Исаак поперхнулся, оторопев на секунду от столь неожиданного поворота в разговоре, но тут же нашелся, скорбно возопив чуть ли не на весь Азов:
— Какое там серебро!.. Старый Исаак еле-еле свел концы с концами. Спроси лучше, княже, как старый еврей ухитрился окончательно не разориться при таких ценах, и он ответит тебе, что это было очень и очень тяжело даже для него. И вообще, Исаак больше не хотел бы брать княжеский товар по таким высоким ценам.
— Вот как? — удивился Константин. — Ну, хорошо. В следующий раз я заплачу тебе серебром, которое выручит мой человек, отправившись туда вместе с тобой.
— Ай-ай, — сокрушенно возопил купец. — Как князь мог подумать, что Исаак доставит князю столько новых хлопот, чтобы он утруждал свою светлую мудрую голову такими пустяками. Только из уважения к тебе, княже, я готов снова взять немного твоего товара по тем же ценам, — пошел на попятную не на шутку перепугавшийся еврей. — Одну, две, ну, от силы три ладьи еще можно загрузить, но сверх пяти — ни-ни. Так и знай, больше семи и просить будешь, и умолять станешь, но Исаак будет непреклонен. Коли он сказал восемь ладей — значит, все, разговор окончен. Разве что округлить еще согласится до десятка или, скажем, до дюжины, но это уже будет в прямой убыток, и лишь из уважения к рязанскому князю Исаак согласен, потому как имеет добрую душу, щедростью которой всякий норовит воспользоваться, — тараторил он.
Поселенцы, в отличие от разговорчивого купца, были немногословны. Поначалу Константин решил, что они просто стесняются, но потом понял, что это от усталости. Шутка ли, столько дней лишь шаткая палуба под ногами да безбрежная морская гладь вокруг. Вон, до сих пор многих покачивает по привычке.
Поэтому, распорядившись накормить всех сытным ужином, князь решил, что все вопросы подождут до утра, а отъезд по такому случаю можно и отложить на денек-другой. В конечном итоге вышло так, что задержаться ему пришлось на целую неделю и даже с хвостиком, да и то один из самых основных моментов он чуть не забыл, вспомнив об этом буквально накануне очередной намеченной к отъезду даты.
Впрочем, может, и хорошо, что забыл, потому что у прибывших было время, чтобы по достоинству оценить всю его заботу по их благоустройству. Вдобавок за неделю общения он успел как-то разговорить и растормошить всех, а главное — расположить их к своей особе, на деле показав, что он вовсе не столь уж страшный, не такой уж грозный, а его люди не едят человеческое мясо, причем непременно в сыром виде, жадно обгладывая кости только что поверженных врагов.
«Ох, и сильна Европа-матушка мою страну клеветой поливать. Что в двадцатом веке изовралась вся до неприличия, что сейчас. У самих содом с гоморрой царит, а все туда же — варвары. Мыться поначалу бы научились. Неужели сами не чувствуют, как от них несет?»[36] — устало думал он, по-прежнему источая улыбки и энергично вытряхивая из голов вновь прибывших несусветную дурь, которой под видом абсолютно точных и достоверных сведений напичкали их доброхоты, отговаривавшие от поездки на край света.
Зато на откровенный вопрос князя, есть ли среди них добрые люди[37], спустя минуту вперед выступили двое мужчин. Оба в черном одеянии, с худыми аскетическими лицами, на которых выделялись горящие фанатическим упрямством необыкновенно большие глаза. Поначалу они сделали только один шаг вперед, затем переглянулись между собой и, как по команде, продолжили движение. Подойдя к князю, оба застыли в молчаливом ожидании. Испуга на их лицах не было заметно, скорее читалась какая-то фатальная покорность грядущей судьбе.
Тот, кто был чуть повыше, что-то медленно произнес.
— Не силен я во французском, Исаак, — повернулся Константин к старому еврею, как всегда, оказавшемуся рядом с князем. — Ты сделай уж милость, переведи, что он говорит.
Купец, вопреки своему обыкновению, тараторить не стал, а произнес нараспев, стараясь соблюсти как можно больше сходства даже в интонациях речи:
— Они говорят, что их зовут брат Якоби и брат Франсуа.
— А кто есть кто?
— Я — брат Франсуа, — внезапно произнес вслед за купцом тот, что был повыше, на русском языке, хотя легкое грассирование все-таки выдавало в нем француза, — А он — брат Якоби, — указал Франсуа на своего спутника и тут же добавил: — Ты обещал нам, княже, через своего человек, что дашь нам воля и нет теснить.
— То, что я обещал, я всегда выполняю, — спокойно подтвердил Константин, и мгновенно по тесно сгрудившейся толпе переселенцев пронесся еле уловимый вздох облегчения. Одно дело, когда право верить так, как твоей душе угодно, тебе обещают от чьего-то имени, и совсем другое — когда этот кто-то самолично подтверждает данное им обещание. К тому же высокому широкоплечему русому здоровяку, кажется, вполне можно доверять — слово свое сдержит.
Однако тут непонятным для князя было совсем иное — сам вздох.
— Они что, все на русском разговаривают? — повернулся он удивленно к купцу. — А какого же рожна я тебя тогда мучил и всюду за собой таскал?
— Они не разговаривать, — пояснил вместо Исаака Франсуа. — Они чувствовать тут, — приложил он руку к сердцу. — Ты есть добрый. Они верят твой.
— К тому же пока они плыли, то все время пытались говорить с твоими воинами, — добавил купец. — Старый Исаак не мешал им. Ведь чем раньше они заговорят по-русски, тем легче будет им здесь освоиться. Или я не прав? — вскинулся он озабоченно.
— Да нет. Прав, конечно. А как же Франсуа?
— Он тратил все свое время на то, чтобы научиться говорить, — медленно произнес Исаак.
— Я хорошо мочь разговаривать, — кивнул тот. — Ошибаться тоже мочь — это есть. Якоби стараться тоже, но хуже мочь.
— Тогда слушай, Франсуа. Я через Исаака передал всем вам, что вашу веру никто никогда не утеснит. Так?
— Это есть так, — подтвердил Франсуа.
— Я сдержу свое слово. Вы будете молиться так, как угодно вам. Вы будете крестить своих детей так, как это принято у вас. Не помню, в чем там у вас отличие, но наплевать[38]. Все равно никто из моих людей не посмеет помешать вам хоть в чем-то.
— Мы благодарность. Нет, благодарить тебя, княже, — поправился Франсуа.
— Но я не обещал вам, что не буду препятствовать, когда ты или кто-нибудь другой станете не только совершать свои обряды и руководить своими людьми, но еще и проповедовать среди моих воинов. Да и среди местных жителей тоже, — добавил князь тут же. — Поэтому мне очень хотелось бы перед отъездом взять с вас обоих такое обещание.
В ответ Франсуа лишь молча отрицательно покачал головой. Якоби тоже.
«Прямо как китайские болванчики», — почему-то подумал Константин.
— Они, — кивнул Франсуа в сторону остальных переселенцев, — мочь дать тебе это слово. Мы — нет, — и пояснил чуточку жалостливо и снисходительно, как несмышленышу: — У нас обет. Мы обязаны это делать. Всегда.
— А обет снять нельзя? — осведомился Константин, напряженно размышляя в поисках выхода из ситуации, казавшейся весьма простой, а на деле очень и очень неоднозначной. — Мне бы очень не хотелось омрачать нашу встречу и первые хорошие приятные впечатления от нее обещанием строгих наказаний.
— Обет дан нам по своя воля, — твердо ответил Франсуа.
— Добровольно, — помог с переводом Исаак.
— Так есть — добровольно, — старательно, почти по складам выговорил следом за купцом проповедник катаров. — Мы нельзя отступить. У нас долг перед наш бог. Лучше убить сразу. Мы не есть бой.
— Они не будут противиться, — пояснил Исаак, почему-то перейдя на шепот.
— Так есть, — подтвердил Франсуа и, высоко вскинув голову, начал что-то торжественно произносить.
— Нами руководит Христос, и мы должны воздать ему хвалу и за зло, и за добро, ниспосылаемые им, и принять их смиренно, ибо он может нас поддержать на том правом основании, что мы хотим жить и умереть в его вере[39], — старательно переводил Исаак.
«Ну, теперь началось», — устало вздохнул Константин.
— Ибо мы верим в бога, предостерегающего нас от заблуждений, сотворившего небо и землю и заставившего ее плодоносить и цвести, создавшего солнце и луну для освещения мира, и мужчину и женщину, и вдохнувшего жизнь в душу, и вошедшего в чрево девы Марии для выполнения закона, и в того, кто претерпел пытку плоти своей, дабы спасти грешников, и отдал свою бесценную кровь, дабы озарить тьму, и явился принести себя в жертву отцу своему и духу святому, — бубнил купец.
«Когда же эта муть закончится?» — окончательно затосковал князь, но Франсуа не унимался, и Исаак продолжал переводить его слова.
— Благодаря принятию и осуществлению святого крещения, благодаря любви и повиновению святой церкви мы вправе завоевать любовь Христа, — произнес купец и уставился на Франсуа, который наконец-то замолчал.
— Теперь ты видеть, что мы никак не мочь, — произнес тот уже на русском языке.
В толпе переселенцев кто-то истерично вскрикнул, но тут же испуганно осекся.
— Я не хочу вас казнить, — покачал головой Константин. — Мне думается, что вместо этого нам надо как следует подумать, и выход обязательно найдется. Я имею в виду такой, который одновременно подошел бы и мне, и вам.
— Выход не есть такой, — вновь снисходительно улыбнулся князю Франсуа. — Либо твой, либо мой. Мы обязаны нести слово про наш бог — ты не хочешь. Как можно найти так, чтоб было хорошо все? Я не есть знать, — сокрушенно развел руками Франсуа.
Было видно, что он искренне сочувствует князю, но…
— Та-ак, — протянул Константин задумчиво. — Ну, ладно. А хотя бы на пару дней воздержаться от своих проповедей вы сможете? — И со вздохом подумал, что очередную дату отъезда, которую он, наивный, считал конечной и железной, придется в очередной раз откладывать.
Впрочем, черт с ней, с датой. Два-три дня все равно ничего не решают, лишь бы найти достойный выход из этой непростой ситуации.
— Пару? — переспросил Франсуа.
— Два дня, — сердито пояснил Константин.
— Два — да, — неуверенно произнес Франсуа. — А после? Ведь все равно быть так же. Лучше сейчас. — И он вновь обреченно замолчал.
«Ишь ты, чего захотел, — зло засопел Константин. — Тоже мне, мученик отыскался. Вон как на тот свет захотелось — аж глазенки заблестели у паршивца. А вот фиг тебе. Перебьешься со смертью».
— Выход можно найти всегда, — произнес он громко, чтобы слышали все переселенцы. — Только кое-кому очень хочется поскорее надеть на голову мученический венец — и совершенно нет желания вместо этого сесть и как следует подумать. Ну и ладно, — убавил он голос. — Я и один чего-нибудь надумаю.
Правда, хорошая идея пришла ему в голову далеко не сразу, а лишь к исходу второго дня, и помогли ему в этом, как ни удивительно, дары Данило Кобяковича. Точнее, даже не сами дары, а живой довесок к ним.
Словом, попался ему на глаза один из половецких пастухов, который обратился к князю за какой-то своей нуждой. Когда Константин выяснял, что же ему все-таки понадобилось от него, обратил внимание на простенький медный крест, болтавшийся у половца на груди.
Дело в том, что хан, желая как можно лучше угодить своему шурину, отрядил в пастухи только тех, кто принял христианство и прошел обряд крещения. В степи это просто — взял и окрестился, если священник под рукой имеется. А вот дальше… Дальше они вели себя точно так же, как и до обряда. Словом, в христианах эти ребята только числились. Тут-то Константина и осенило.
— Слушай, Франсуа, — тут же решил он поделиться соображениями с миссионером, оказавшимся как раз поблизости. — А ведь я придумал выход, который одинаково подойдет для нас обоих.
Тот вежливо склонил голову, давая понять, что готов выслушать любую ахинею, которой сейчас разродится князь, хотя лично он сам не верит в то, что выход действительно найден, к тому же взаимоприемлемый. Впрочем, он все равно готов покориться любому княжескому приговору, как бы ни был тот несправедлив. Все переселенцы, которые в этот момент оказались рядом, тоже навострили уши.
— Ведь ты не давал обета, что будешь нести свет своей веры именно русичам, верно? — начал Константин с небольшой прелюдии.
— Нет. Нам с Якоби все равно. У всех люди равно нужда в вера, только они не всегда знать это, — твердо ответил Франсуа.
— Вот и чудесно, — заулыбался Константин. — Я тебе сейчас покажу несколько человек, у которых, правда, на груди есть христианский крест, но на самом деле они ничегошеньки не знают. Очень темные люди. Даже вашу любимую молитву «Отче наш» они пересказать по памяти не смогут.
— Она не любимая — она единственная, равно как и истинное евангелие есть только одно — от Иоанна[40], — строго поправил князя миссионер.
— Если ты думаешь, что я сейчас вступлю с тобой в богословский диспут, то заблуждаешься, — заметил Константин. — Всякий может верить так, как его душе угодно. Мне все равно. Так вот, у них даже крест на груди далеко не каждый носит.
— Крест не носить — это правильно[41], — горячо поддержал Франсуа неведомых темных людей. — Оно — казнь. — Он замешкался, подыскивая нужное слово. — Они думать верно, — выжал он наконец из себя.
— Я понял тебя. Орудие казни учителя, по-твоему, носить нельзя и кланяться ему негоже, — кивнул Константин.
— Так они язычники, что ли?! — громко возмутился один из дружинников, тоже оказавшийся поблизости.
— А ты помолчи, — сердито одернул его Константин, но потом, смягчившись, пояснил: — Просто вера у них иная, вот и все.
— Латиняне[42], что ли? — не унимался любознательный дружинник.
— Латинян они терпеть не могут.
— Ну, тогда ладно, — благодушно махнул он рукой и побрел дальше, к дому Леща.
— Главное не в этом, — продолжил Константин излагать свою мысль. — Тут другое важно. Никто из них не видел света вашей веры, которую можете принести им вы с Якоби. И я дозволяю вам проповедовать среди них столько, сколько душе вашей угодно. Начните пока с малого. Здесь их у меня примерно с десяток. Вот ими и займитесь, а заодно языку половецкому подучитесь. Как только освоитесь, почувствуете, что окончательно обратили их в свою веру, так они сами вас к себе в орду отвезут.
— Плыть на корабль? — тоскливо вздохнул Франсуа, а Якоби почему-то и вовсе позеленел.
— Зачем плыть?.. Ну, разве что совсем недолго и по реке. На тот берег Дона перемахнете с ними, а дальше сушей. Да тут рядом. Разумеется, вначале вы дадите мне слово, что среди русичей проповедовать не будете.
— Но только до тех пор, пока они все не перейти в истинный вера, — уточнил Франсуа и тут же осведомился: — А потом мы получать это право?
— Потом… — задумчиво протянул Константин, быстренько прикидывая в уме, насколько вероятна возможность обращения всех половецких орд в истинную веру этой тщедушной и тощей французской парочкой. Придя к выводу, что она очень близка к нулю, радостно выпалил:
— Тогда я разрешу нести свет вашей веры дальше.
Еще чуть поразмыслив, Константин все-таки допустил ничтожно малую возможность того, что эти одержимые, благодаря своему фанатизму и невероятно удачному для них стечению обстоятельств, действительно могут управиться со всеми половцами, и внес на всякий случай оговорку:
— Но вначале вы разыскиваете меня, я проверяю результаты титанического труда… или нет, я просто поверю вам на слово, после чего — о! — я тут же нахожу вам еще одно местечко, — вовремя вспомнил он про дикие племена в междуречье Волги и Урала, то есть — тьфу ты! — Яика, или как он там именуется ныне.
— Корабль, плыть? — с тоской спросил снова позеленевший Якоби.
— Да что тебе так поплавать-то приспичило? — с досадой отмахнулся Константин. — Тоже все рядышком. Причем настолько близко, что вас потом эти темные, которые просветлеют, прямиком к другим темным доставят.
— А потом? — не унимался Франсуа.
Константин с уважением посмотрел на неугомонного проповедника «истинного божьего слова» и тихо заметил:
— Ты и с этими за сто лет не управишься. Но если уж вдруг и с ними все так быстро получится, то можете быть спокойны — без работы я вас не оставлю. У нас на Руси этих мест с темными народами столько, что если вы вдвоем будете даже триста лет проповедовать — и то не успеете.
Он произвел в уме немудреные подсчеты. «Значит, потом их к прибалтийским дикарям, всяким там эстам, литам, латам, земгалам, литовцам, пруссам, жмуди, оттуда к северу — пермяки, водь, чудь, весь… Да-а-а…»
— Неправильно я подсчитал, — заметил князь. — Не меньше пятисот лет. Точно-точно, — подтвердил он, заметив легкий скепсис на лице Якоби.
— Ну а потом-то можно и прийти к русичи, — заупрямился Франсуа.
— Через пятьсот лет?
— Нет, сразу, как только мы закончим с ними со всеми, — с уверенностью пояснил миссионер.
— Потом дозволяю, — великодушно разрешил Константин. — А до этого к ним ни ногой. Даете слово?
— Даем, — дружно отозвались оба.
— Ты нам верить? — озабоченно спросил Франсуа. — Мы все равно не мочь давать клятва, и если ты нам не верить, то…
— Конечно же, верю. Вы народ честный, — продолжал улыбаться князь и шутливо погрозил им пальцем. — Только не филонить!.. Уж проповедовать, так проповедовать, без отдыха и перекуров, тьфу ты, словом, чтоб работали по двадцать пять часов в сутки.
— Сутки есть не столько… — снова замялся с подбором слов дотошный Франсуа, но Константин сразу замахал на него руками.
— Знаю я, знаю, — и посоветовал: — А вы вставайте на час раньше, — чем окончательно поставил их в тупик.
Впрочем, размышляли они над загадочной мудростью, высказанной под конец князем, недолго. Глаза их радостно горели тем вдохновенным светом, какой бывает лишь у людей, без остатка поглощенных одной идеей и вдруг узнавших, что теперь им ничто не препятствует попытаться осуществить ее на практике.
«Фанатики, — сделал вывод Константин. — Как есть фанатики. Ну и ладно. Теперь это дело не мое, а половцев и конкретно хана Данилы Кобяковича. Хотя стоп! А за каким шутом мы будем подсылать этих дезорганизаторов боевого духа к нашему многоуважаемому шурину? Нет, мои миленькие. Эти пастухи вас, голубчиков, не куда-нибудь, а прямиком к Юрию Кончаковичу отправят. Вот пускай он теперь с вами и отдувается».
Константин так развеселился, что приподнятое жизнерадостное настроение от столь удачно решенной проблемы не покидало его на протяжении всего обратного пути домой.
Конечно, примешивалось некоторое легкое чувство беспокойства. «Как там без меня? Господи, хоть на сей раз могу я приехать и не окунуться, как в ушат, в очередные беды и горести, которые снова приключились в мое отсутствие», — взмолился он к небесам. Однако небеса молчали, очевидно готовя очередной подвох.
Впрочем, поначалу все шло как нельзя лучше. Уже подплыв к Ряжску и сделав там небольшой передых, князь узнал, что все везде в порядке, а на границах тишина. Конечно, они, находясь на самой южной окраине, почти возле границы, могли и не знать о чем-то таком, что приключилось буквально накануне, однако и в Рязани тоже не произошло ничего из ряда вон выходящего.
Это Константин понял, едва добрался до столицы. При виде родного города и толпы встречающих на пристани князь чуть не прослезился. «Вот поди ж ты — всего-то месяц, ну пусть полтора, отсутствовал, а как соскучился», — удивился он сам себе.
Но самое главное было то, что в первом ряду на старых дощатых мостках стоял воевода Вячеслав собственной персоной, да еще в окружении нескольких тысяцких. «Теперь-то уж точно ясно, что все в порядке, — сделал Константин вполне логичный вывод. — Неужто и впрямь небо молитвы мои услышало?»
И в самом деле получалось, что можно малость и передохнуть, раз даже соседи-черниговцы молчали. Пусть злобно, затаив ярость и ненависть, но ведь молчали же. Правда, именно там за время отсутствия Константина как раз и произошли некоторые неприятные для Рязанского княжества перемены. Княжеский престол умершего Глеба Святославовича занял его брат Мстислав, тот самый, который и был инициатором убийства всего рязанского посольства. Ждать от него можно было лишь гадостей, но каких именно — тут оставалось только гадать и… готовиться к самому неприятному.
После обстоятельного доклада своего воеводы и веселого пиршества по случаю возвращения Константин совсем развеселился. Не смутил его и разговор с Вячеславом, который состоялся уже на следующий день.
* * *
И тако рьяно князь Константин ереси потакаша всякой, что учаша из иных стран еретиков звати, кои в радости великой на Русь текли рекою смрадною.
Из Суздальско-Филаретовской летописи 1236 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1817* * *
И бысть оные людишки числом невелики, аще пользы от их во мнози на Руси сталось.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1760* * *
Откуда пришла волна переселенцев — мы знаем, но вот каким образом они узнали про пустующие земли, — точно неведомо. Историки Ю. А. Потапов и В. Н. Мездрик делают совершенно неверный вывод, будто их позвали на Русь специальные эмиссары князя Константина, ссылаясь при этом на соответствующий отрывок одной из летописи.
При всем моем уважении к рязанскому князю, думается, что тут они перехватили через край. Для этого он должен был бы обладать столь широкими взглядами на религию, кои по меньшей мере свойственны разве что человеку XVIII столетия, а то и нашему современнику из XIX века, уж очень смелым решением это было. Другое дело, что переселенцы-катары, спасаясь от репрессий, просто узнали от купцов-единоверцев про пустующие благодатные земли и, пребывая в отчаянии от бесконечных преследований, решили нанять корабли…
Иное дело, что князь Константин, узнав о том, что кто-то уже поселился на этих землях, впоследствии мастерски использовал это обстоятельство. Желая овладеть низовьем Дона, он взял их, не устрашившись осуждения со стороны православного духовенства, под свое крыло.
Правда, непонятно, каким именно образом они смогли договориться с половцами, чтобы те их не трогали. А ведь факт остается фактом — на протяжении долгого времени это было абсолютно мирное сосуществование двух разных народов с диаметрально противоположным укладом жизни и резко отличными друг от друга верованиями.
О. А. Албул. Наиболее полная история российской государственности. СПб., 1830. Т. 2, с. 155.Глава 3 Змеиный клубок
О, нам явивший кровь, господь, отмсти! Пусть небо громом поразит убийцу, Иль пусть земля разверзнется под ним, Пожрет его, кто, наущенный адом, Безвинной кровью землю напоил. В. Шекспир— Княже! Я так мыслю, что с этим гадюшником надо что-то делать.
Намек Вячеслава на соседей-князей, зачастивших за последние месяцы с визитами к Ярославу Всеволодовичу, был прозрачным, как ключевая вода из родника.
— Он в своем княжестве, — вздохнул Константин. — И властен творить в нем что угодно.
— Которое ты ему по простоте душевной подарил, — уточнил воевода. — Нет, я все понимаю — любовь там у тебя и прочие амуры в кустах свищут, но сердцем чую — в копеечку они тебе обойдутся.
— Амуры не свищут. Амуры стреляют, — буркнул князь.
— Точно! — восхитился Вячеслав. — В самое яблочко ты, княже, угодил. Этот как раз вот-вот стрелять начнет. Причем не один, а со всей толпой. А народу у них там — о-го-го. А у меня всего две дивизии полного состава, из которых полторы — сырье необученное.
— Они что — тупее наших? Ты рязанских столько же по времени учил, даже меньше, а Ярослава все равно раздолбал зимой в первый раз.
— Совершенству нет предела, — туманно заметил воевода и честно сознался: — Уму непостижимо, как мы ту сечу выиграли. Хорошо, что с двумя рвами додумались, в которые Ярослав сотни три ухнул, если не больше. И с полком засадным ты вовремя подсуетился. Но если в целом брать, то наших тоже еще гонять и гонять надо. Сам видишь, что я сейчас согласно твоим ценным указаниям конницу наращиваю, а людей-то в нее откуда брать? Из пехоты. Значит, одно усиливается, а другое ослабляется.
— Ты практические показные занятия делай, — посоветовал Константин. — Самых лучших и смышленых из пехоты подергай, на них отработай все новое, а остальным показывай, к чему стремиться надо.
— Мысль хорошая, — с уважением заметил Вячеслав. — Знаешь, Костя, если бы ты всякой ерундой не занимался типа политики, то из тебя неплохой военный получился бы. Я бы тебя хоть сейчас в дружину сотником поставил.
— А повыше? — усмехнулся князь.
— Ну, для этого ты молодой еще. Тебя предварительно погонять с месячишко надо, а там, глядишь, и повысить в чине можно, — обнадежил Вячеслав.
— Спасибо за радужные перспективы, — вздохнул Константин.
— Да любой каприз за твои гривны, княже, — бодро откликнулся воевода и повторил вопрос: — А с гадюшником-то что делать будем?
— У тебя самого идеи есть?
— Ни одной, — обескураженно развел руками Вячеслав.
— Вот и у меня такое же обилие. Значит, ждать будем.
— Вслепую? — хмыкнул воевода. — Как говорила моя мамочка Клавдия Гавриловна, там, где зрячий даже не запнется, слепец может запросто разбить голову, а оно нам надо?
— Мы не слепые. Там Любомир вовсю трудится, — напомнил Константин.
— Что-то я начинаю разочаровываться в нашем Штирлице, — скептически заметил Вячеслав. — По-моему, папаша Ярослав Мюллерович обыгрывает его вчистую.
— Время терпит, — успокоил его князь. — Ты выгляни в окошко.
— А чего туда заглядывать, — пренебрежительно махнул рукой воевода. — Даже у тебя во дворе, невзирая на дощатый настил, грязь непролазная. Да и окошки мутноватые наш Эдисон состряпал — не больно-то полюбуешься.
— Правильно, грязь. Как и положено в апреле месяце на Руси. Потому и говорю, что время терпит. Наши люди за новостями укатили, а обратно выехать не могут — паводок хоть и закончился, а земля-то до сих пор как кисель. Пусть подъедут, тогда и будем прикидывать, что к чему да почем. Я не думаю, что они раньше лета на что-нибудь решатся. Значит, успеем.
Под словом «они» Константин подразумевал целую коалицию князей, которая начала группироваться вокруг Ярослава — последнего из оставшихся в живых сыновей Всеволода Большое Гнездо.
Казалось бы, всего-то десять лет миновало с тех пор, как всесильный Всеволод командовал чуть ли не всей Русью. Его длинные руки ставили своих князей не только в Рязани. Они дотягивались аж до Галицкого княжества, расположенного на юго-западной окраине страны. Но страшно неумолим бег времени. Чуть остановился, зазевался за пирами да охотами, не понял, что нужно делать, и все. Пиши пропало.
Если бы не было Константина Орешкина и его друзей, то его сын Юрий Всеволодович продержался бы на своем престоле еще почти двадцать лет. Сидел бы и глупо радовался то поражению южнорусских князей под Калкой, то бедам Волжской Булгарии, из сожженных городов которой к нему в Ростов, Владимир, Суздаль шел оставшийся в живых мастеровой люд, то трагедии Рязани — пускай ее Батыйка жжет, а то возгордились не по чину. А уж потом так же глупо погиб бы, утягивая за собой в общую братскую могилу все свои дружины и необученное ополчение. Бездарная жизнь прервалась бы такой же закономерной смертью.
В этой истории погиб он несколько раньше, но вреда от этого для Руси не было, хотя и про пользу тоже говорить вроде бы рановато. Будет она или нет — должно показать время.
В коалицию, во всяком случае, по последним данным, которые были получены еще перед весенней распутицей, входили практически все многочисленные правители Черниговского и Новгород-Северского княжеств, то есть западные соседи Константина, озлившиеся на рязанского князя за гибель своих сыновей и братьев.
Буйное племя Олега Святославовича, внука Ярослава Мудрого, такое прощать не собиралось. От немедленного вторжения Константина уберегло лишь то обстоятельство, что старейший из князей, сидевший на Черниговском столе, Глеб Святославович, правнук Олега Святославовича, потрясенный гибелью сына Мстислава, как его ни дергали, все равно не решался ни на что конкретное, а затем и вовсе скончался этой весной. Его смерть вызвала столько хлопот, связанных с очередным переделом наследства, что окончательно урядились князья лишь совсем недавно. На Черниговском столе уселся брат Глеба, Мстислав Святославович. Его место занял младший брат — Олег. Своему сыну Дмитрию Мстислав, пользуясь правом старшинства, дал в удел небольшой город Козельск с десятком-другим селищ. Второго, Святослава, наделил градом Карачевым, Андрею достался Мценск, который поначалу предполагалось выделить Гавриилу, но тот был зарублен в яростной сшибке близ селища Залесье дружинниками рязанского князя.
Мстислав, невзирая на гибель сразу двух сыновей — любимого старшего и столь же любимого младшего, не горячился. Он один из всей родни погибших на похоронах слезинки не выронил, только желваками на скулах недобро поигрывал.
Он же и стал второй причиной, по которой нападения сразу не произошло, но ничего хорошего для Константина это не сулило. Если в небе малые тучки разразятся дождиком, так то для урожая не беда, а польза. Худо, когда они медлят, в стаю собираясь. А она, свинцовая, почти фиолетовая, тяжело нависая над полями, уже не дождичком — градом страшным грозит обернуться, норовя все побить и изничтожить.
Мстислав именно такую тучу вокруг себя и собирал. Потому он после тризны поминальной и удержал князя Новгород-Северского Изяслава Владимировича от немедленных, но опрометчивых действий. А ведь тот, повинуясь гневным призывам своей матери Свободы Кончаковны, родной сестры самого могучего половецкого хана Юрия Кончаковича, уже порывался дружину свою, соединив с черниговской, вести на Рязань, мстить за Всеволода — брата повешенного.
— Осильнел рязанец не в меру, — сказал Мстислав угрюмо своему троюродному племяннику. — Если бы у него под рукой лишь рязанские да пронские дружины были — одно. Нынче же под его стягом и муромские полки, и со всей Владимирской Руси. Нашими сотнями его не одолеть. А то будет как деду твоему[43].
— Оставлять?! — горячился Изяслав. — Такое оставлять?! Да меня мать проклянет!
— И правильно сделает, — неожиданно согласился Мстислав. — Я не о том сейчас. Вот ты про мать сказывал. Это хорошо. Стало быть, один у нас есть подсобник — брат ее Юрий Кончакович. Он же не только тебе, он и брату твоему уй[44]. Но это же не все. Вот давай прямо сейчас вместе пройдемся по родам нашим и вспомянем — за кого еще дочери наши, тетки да бабки замуж повыходили.
— Изрядно народу наберется, — уважительно глядя на Мстислава, заметил Изяслав.
— А для начала вспомни, на ком твой стрый женат был?[45]
— Ну, на Ярославне Рюриковне. Ты, поди, про Олега хочешь сказать, — догадался Изяслав. — О том и я сам думал. Его-то мы непременно возьмем, только дружина курская невелика[46].
— Оно и так понятно, что Олег за братана[47] оместником пойдет, — отмахнулся нетерпеливо Мстислав. — А я про мать его Ярославу хотел сказать. Нынче в Смоленске ее брат Владимир Рюрикович сидит. Нешто он не подсобит в святом деле? А с ними вместе вяземцы и Давыд Мстиславич Торопецкий тоже пойдут. Главное же — про Ярослава Всеволодовича не забывай, который в Переяславле сидит. Ох и злобен он на Константина Рязанского.
— Он нынче не больно-то силен, — пренебрежительно отмахнулся Изяслав.
— С княжества его и впрямь много полков не собрать, — согласился Мстислав. — Однако и от такой подмоги отказываться не след. К тому же хоть он ныне ратной силой не силен, зато родство его дорогого стоит. Вспомни-ка, чей он зять?
— Удатный! — ахнул новгород-северский князь и даже по лбу себя кулаком стукнул с досады. — Как же это я сам сразу о нем не подумал?!
— Во-от, — поучительно протянул Мстислав. — А у Удатного потомков мужского пола ныне вовсе не осталось[48]. Одна надежда на дочек да на зятьев, чтоб хоть внуков дождаться. Раз он ныне в Галиче, значит, еще одно княжество рать выставит. А другой его зять, Даниил, Владимиро-Волынскими землями владеет. Опять добавка, да не одна. Тут тебе и Бельзский князь Александр, и Холмский князь, и Луцкий, где Ингварь сидит. Сам же Удатный не раз из беды Новгород выручал, когда там княжил. Стоит ему только кликнуть, как те мигом отзовутся. А помимо того, про киевского князя Мстислава Романовича не забудь. Это ведь его дочь Агафья за старшим Всеволодовичем замужем была. Как же он своим внучатам, несправедливо обиженным, не подсобит. Да не он один — старший его сын Святослав как раз сейчас на новгородский стол сел.
— Еще бы полоцких да турово-пинских князей заманить, и вся Русь воедино встанет, — мечтательно произнес Изяслав.
— Непременно подманим, — уверенно заявил Мстислав и недобро улыбнулся. — Им подсобить от литвинов надобно, да от немцев отбиться, что в Риге засели. Если пообещаем, что ныне дружно на рязанца ударим, а там сразу им на выручку придем — все как один откликнутся. И Витебский, и Минский, и Городненский, и Друцкие с Борисовскими — все потянутся. Оно, конечно, брат есть брат, но у меня и вовсе сыновей убили, да каких!.. Такое не прощают. Но и на рожон безрассудно лезть негоже. Так и голову сломить недолго. Я уж пожил, хотя к своим пяти с половиной десяткам еще полтора-два добавил бы. Но все ж не так страшно в ирий уходить. Однако до того очень мне охота самого убийцу на веревку вздеть. Лучше всего прямо на воротах Рязани стольной, да деньков на пять, чтоб провялился на солнышке, а уж опосля собакам кинуть. Но для этого, — он назидательно поднял указательный палец вверх, — всем воедино встать надобно, — и, сжав кулак, сурово погрозил им неведомо кому на небесах. — Всем! — грозно повторил он.
О многом и со многими Мстислав Святославович перемолвился самолично еще до весенней распутицы. Успел он и в Переяславле Южном побывать, и в Киев прокатился, и по всем остальным княжествам гонцов разослал. Не пожалев времени, добрался он и до Мстислава Удалого, который только-только забрал Галич из-под власти венгерского царевича Коломана, разбив его воевод вместе с польскими полками.
— О том, что сталось с зятем Ярославом, мне ведомо, — хмуро ответил новоявленный князь Галича. — Но тут еще Константина понять можно. Уж больно зятек у меня задиристый — сам виноват. А вот о том, что рязанец князей на дубах развешивает, впервой от тебя услыхал.
— А ежели он так со своими, со Святославичами, обошелся, то что от него ждать, когда ему Мономашичи в руки попадут?[49] Их и вовсе собакам кинет, — в тон ему поддакнул черниговский князь.
— Негоже так-то, — продолжая хмуриться, согласился Удатный.
— И опять же Юрьевичей[50] изобидел, — подливал масло в огонь Мстислав Святославович. — Ладно там Ярослав или даже Юрий. А покойный Константин нравом был смирен. Сам на Рязань не хаживал и полки братьям тоже не давал. А ныне как изгои[51] сидят три братца, все мал мала меньше, в южном Переяславле, а в вотчинах их пришлые рязанцы порядки свои наводят. Разве ж такое по правде, по старине?!
Ох, знал черниговский князь любовь Мстислава Удалого к справедливости, к древним дедовским обычаям и установлениям. Знал и играл ныне на этой слабой струнке, норовя добиться окончательного бесповоротного согласия на совместные действия. Честен князь Галицкий. Даст слово и уж тут никуда не денется. Как бы потом обстоятельства ни сложились — все равно его сдержит.
— За твоей дружиной со всей Руси полки пойдут, потому как ведают: где Удатный, там и победа, — польстил Мстислав Святославич собеседнику.
Это была еще одна струнка. И до этого некоторым удавалось сыграть на честолюбии Галицкого князя, но так тонко, как черниговец ныне, пожалуй, навряд ли кто сумел бы это сделать.
Одно только и препятствовало ныне замыслу отца, норовящему отомстить за смерть сына. О том Мстислав Святославович не ведал. Препятствие же это заключалось в грамотке, которую Удатный получил с неделю назад от своей дочери Ростиславы.
Писала она в ней, что ныне они на новом месте обосновались, в Переяславле-Южном, вот только насколько прочно — одному Богу ведомо, потому что нрав буйный Ярослава ее батюшке хорошо известен. Думается ей, что едва он на ноги встанет окончательно, так тут же непременно сызнова против рязанского князя Константина козни учнет строить, да и черниговцев с новгород-север-цами подбивать на это же.
Хотя сам Константин поступил достойно. Ярослава еле живого с битвы под Коломной он вывез во Владимир и дальше взаперти его не держал, отпустил с миром. Притом не посмотрел и на то, что муж ее перед отъездом крест целовать напрочь отказался, и не обещал, что он под ним, Константином, земли своей искать не будет. Прочих княжичей малолетних тоже ничем не обижал. Пока они во Владимире были, никак не утеснял, а ежели бы не заболел тяжко, то непременно сам приехал бы проводить. Но и без него людишки рязанские не озоровали и никаких обид не чинили, а, напротив, помогали всяко и в сборах, и по дороге до черниговских земель.
И вот теперь очень уж не согласовывались все слова этой грамотки с поведением Константина, который, по словам Мстислава Святославича, только за то, что князья приехали подсобить черниговскому попу окрестить закоренелых язычников, приказал всех четверых повесить. Ну никак одно с другим не сходилось. Вот и медлил Удатный, пообещав твердо только одно: что он сразу после весенней распутицы непременно приедет в Киев на княжеский совет, где надо будет все окончательно обговорить, потому что так сразу решать негоже.
«Опять же поглядим, может, и миром все уладим», — хотел было он добавить, однако, приглядевшись к бледно-восковому, будто из домовины только что вынули, лицу своего собеседника, говорить этого не стал.
Одни только глаза жили на этом лице, а в них неукротимый огонь полыхал. Галицкий князь в людях разбирался плохо, хуже некуда. Ловкий враг, который бойко языком владел, при личной встрече его запросто улестить мог, но тут даже Удатный понял, что никакие слова о замирении не помогут. Нет таких слов на свете, не придумали их люди. А те, что имеются, даже не бесполезными окажутся, а и вовсе вредными.
Пока сердце человека ненавистью кипит, торопиться нельзя. Это как раскаленный котел с глухой крышкой ключевой водой остужать. В лучшем случае крышку паром вышибет, в худшем — посудину разорвет. Тут одна надежда на время. Только оно в состоянии сердечную боль пригасить, а ненависть кипящую осторожно остудить. Но и то не всегда этот лекарь выручает, так что уж тут про человека-то говорить. Так что при расставании Мстислав Удатный иное сказал, уклончиво примирительное:
— У меня, ты и сам поди ведаешь, такая же беда по осени приключилась. К тому же Василий и вовсе единственным был. Потому понимаю я тебя не умом, а сердцем, и все силы приложу, чтобы боль твою утишить.
— Вот только винить в его смерти тебе некого. Василия господь прибрал. Моих же по злой воле рязанца казнили, будто татей каких, — непримиримо, почти враждебно возразил Мстислав Святославович.
— Зато твои за веру святую пострадали. Стало быть, непременно в раю ныне пребывают, — попробовал было утешить Удатный.
— На небесах всевышнему видней, кому и за что по справедливости воздать. Мы же на земле живем и убийцу подлого здесь судить должны, — сурово ответил черниговский князь, сжигаемый ненавистью.
А лекарю-времени и впрямь оставалось только руками развести. Ничуть не притушили прошедшие месяцы боли утраты. Столь же гневным был Мстислав Святославович и на княжеском совете в Киеве.
Именно благодаря ему пребывающие в колебаниях князья стали склоняться в сторону совместного всеобщего похода на Рязань. Окончательно же утвердились они в своем мнении, послушав беглого попика, которого рязанским дружинам так и не удалось поймать. Зело хитер был тот, повествуя о своих мытарствах и скитаниях. По сути не сказал он ни одного слова лжи. А к чему обман, когда в иных случаях можно правду так вывернуть наизнанку, что она больше зла натворит, чем ложь явная. Даже еще лучше получится, ведь уличить во вранье никто не сможет. Шли они зачем — во святую веру народец темный окрестить. Почему черниговцы с новгород-северцами? Так ведь епархия-то черниговская. Выходит, кого рязанец защищал? Верно, язычников поганых.
От таких слов чуть ли не каждому из князей, сидящих на совете, не по себе стало. Озноб по коже пробежал, хотя на самом деле в гриднице даже не тепло — жарко было. Уж очень хозяин палат, Мстислав Романович Киевский, к старости холод возненавидел, вот и велел холопам постараться на славу, дорогих гостей уважить.
Но как тут плечами не передернуть, не поежиться, когда не было на Руси такого, чтобы сам князь в ереси обвинялся прилюдно. Иные, вроде того же Святополка Окаянного[52], и вовсе до братоубийства докатились, да не до одного. Однако каждый два перста к голове прикладывал усердно, молился истово и уж в чем-чем, но в язычестве поганом никого из сидящих князей до этой поры не обвиняли.
Потому и загудела тревожно гридница обилием голосов, среди которых было и изрядное количество сомневающихся в истинности сказанного. Не то чтобы ложь изрекли уста отца Варфоломея, а просто погорячился поп. Скорее всего, князь за своих людей вступился, как ему и должно было поступить. А разве в такие минуты думаешь, кто они там по вере. Так что нет в этом ничего предосудительного.
Но тут как раз поднялся владыка Владимирский и Суздальский Симон. Ага, вот он-то сейчас и скажет, что со зла попик такое и ляпнул. Уж кому-кому, а епископу Владимирскому должно быть видно, что не повинен Константин в столь тяжком грехе. Вновь тихо стало в гриднице, все в слух обратились.
Симон же не спешил. Медленно снял с груди золотой тяжелый крест, неторопливо поднес к губам, поцеловал и, высоко вздымая над головой, провозгласил зычно:
— Подтверждаю сие…
Глава 4 Каинова печать
Известно, какова в русской земле война, поднятая за веру: нет силы сильнее веры. Непреоборима и грозна она, как нерукотворная скала среди бурного, вечно изменчивого моря.
Н. В. ГогольПоначалу владимирский епископ, представ перед митрополитом Матфеем, ограничился только жалобами на князя Константина. Но старик был здоровьем слаб и мечтал лишь об одном — прожить остаток лет в мире и покое.
К тому же что он мог сделать, если каждый новый князь вправе подтвердить прежние жалованные грамотки или отказаться это сделать. Действительно, до этого времени никто не отказывался и все только подтверждали. Но право-то они имели, хотя им и не пользовались.
Матфей не спорил с тем, что это был прецедент, да еще весьма опасный своей соблазнительностью для прочих князей. А с другой стороны — как с таким бороться? Грамоту отписать, в которой пожурить его, на жадность попенять?
А есть ли у него жадность-то? Коль была бы — не выкупал бы он частицы креста господнего за многие тысячи гривен, а выкупив — святыни в Киев ни за что бы не прислал, лишь одну у себя в Рязани оставив. Так что и тут вопрос спорный. Получалось, что и вовсе попрекнуть его нечем.
От церкви самого отлучить, как епископ настаивал? Это и вовсе перебор. Только из-за одних селищ монастырских с рязанцем свару начинать не просто глупо, а даже как-то непристойно. Получится, что тем самым они не княжескую — свою жадность выкажут. Хорошо ли это? Достойно ли?
Раздосадованный Симон, так ничего и не добившись, поехал назад через Переяславль-Южный. Как раз несколькими днями ранее туда привезли детей Константина и Юрия, а также еще болящего Ярослава.
О чем с ним епископ говорил — никто не знает. Тайной их беседа была. Известно только одно — оживился после нее князь, даже повеселел малость. В ту пору он как раз и принялся подзуживать черниговских и новгород-северских князей, чтобы они набеги устраивали на окраины рязанские. А тут прямо одно к одному — князьям этим попик изгнанный повстречался. В точности по пословице — на ловца и зверь бежит. Вот тебе и причина богоугодная отыскалась, а стало быть, уважительная.
Епископ же, вернувшись наконец к рождеству к себе во Владимир, узнал о том, как князь не только самовольно залез в монастырские тюрьмы, но и в его личной, епископской, двери для всех настежь распахнул.
Чего же далее от такого ждать? Чтобы он самого Симона куда спровадил?!
Шалишь, княже, мы еще повоюем. Тут тебе не Рязань, а епископ Владимирский не Арсений Рязанский, который последний год почитай полутрупом был.
И снова выехал Симон в Киев. На сей раз жалобы у него посерьезнее были. Одно дело, когда имущество монастырское отнимают, смердов забирают. Это все дела хозяйские. Ныне другое. Тут князь уже не в своем праве — на духовное посягнул, еретиков принялся из оков освобождать.
Право же это, что весьма немаловажно, не церковью — пращуром князя Константина утверждено, и грамота на это соответствующая имеется. В ней же черным по белому сказано, что помимо наследственных дел, семейных, блудодейных и прочего разврата церковному суду подлежат и еретики.
Все это он поначалу изложил князю Константину, выехав к нему в Переяславль-Залесский, где тот пока находился. Беседу с ним Симон закончил строго:
— На нас, служителей божьих, возложено тягостное сие дело. И в грамотке самого Владимира Красное Солнышко опять же указано, что ведовство, чародеяние, волхование, зеленничество, тако же кто неподобно церковь содеет, или кто под овином молится, или во ржи, или под рощением, или у воды, надлежит нам разбирать, а князьям, боярам и судьям в то вступаться нельзя. Ты же, князь, вступился. Я тебя не виню — не слыхал ты про изреченное пращуром твоим или забыл про оное. Понимаю, дел много. Теперь же о сем ведай. — И окинул суровым взглядом сидящего перед ним слабого от болезни князя, прикидывая, что бы такое с него содрать подороже, когда он каяться начнет.
Совесть у епископа была чиста. Не для себя он — для церкви Христовой старался. Сейчас, как он прикидывал, князя додавить легче всего будет — вон какой бледный и пальцы дрожат. Если не от испуга сдастся, то от немощи. Когда тело не в порядке, человек и духом слаб. Тут уж одно к одному цепляется, ибо тело и душа в единстве обретаются. Но князь неожиданно оказался стоек.
— А кому решать, владыка, еретик человек или нет? — кротко спросил он у Симона.
Епископ даже растерялся поначалу.
— То есть как кому, — возмутился он. — Церкви.
— О том в грамоте ничего не сказано, — нахально заявил князь. — Подлежат суду церковному те, кто не словом, а делом что-либо против церкви сотворил. Хотя и это, как я полагаю, не церковь судить должна, а тот, против которого само деяние направлено.
— И кто же это, по-твоему, княже?
— Бог, — коротко ответил Константин.
— Но нашими руками, — внес поправку Симон.
— Только не вашими, — усмехнулся князь. — В писании как сказано: «Не судите, да не судимы будете». Это ведь ко всем христианам относится, но к вам — в первую очередь. Почто ж вы заветы господа нашего не выполняете?
— По-твоему выходит, что и вовсе все суды отменить надо или язычников поганых в судьи поставить, — отрезал епископ, со злорадством наблюдая, как его собеседник вытирает платком испарину, выступившую у него на лице.
«Дожму, — подумал он уверенно. — С кем решил в богословии тягаться. Нет уж, княже, шалишь».
— Мы — власть светская. Нас не на небесах в князья саживали. Да и сами мы на земле живем. Приходится от заповедей отступать. И судим, и убиваем иногда. Что делать, грешны, — сокрушенно развел Константин руками. — С вас же иной спрос. Вы прямые служители Христа. Вам и от буковки малой отступать не положено, а уж от слов, где яснее ясного заповедано, тем паче негоже.
— Надо ли это понимать так, что ты, князь, и впредь еретикам, волхвам и прочим язычникам будешь заступу свою давать? — спросил со всей откровенностью епископ.
Так спросил, что положительного ответа дать нельзя было. Значит, князь сейчас согласится с ним. Вот тебе ниточка и потянется. Один раз отшатнулся, отступил, тут его лишь додавить останется. Главное — навалившись, передыху ему не дать. Но князь хитер оказался. Ответил совсем не так, как ожидал Симон.
— Я обязан по долгу своему княжескому всем справедливый суд дать. Всем, владыка, без исключения. Потому вначале мои люди твердо знать должны, что перед ними злобный еретик, кой не только умышляет пакость какую-нибудь учинить, но уже и сотворил ее. За умысел, делом не подкрепленный, карать негоже, зато волхву, который зло сотворил, не может быть никакой заступы.
«Ой лукав ты, князь, — подумал епископ с невольным уважением. — Ну, погоди. Я ж тебя все едино в бараний рог согну».
— Волхв уже тогда зло творит, когда кровь людскую своим идолищам поганым в жертву приносит, — произнес Симон веско.
— Ты зрил где такое? Тогда скажи, — предложил Константин. — Нынче же мои люди его в железа закуют. Прямо сейчас их отправлю имать злодея.
— Ну а если он просто своим богам молится, то разве не подлежит суду за это?
— Так ведь бог един, — простодушно произнес князь. — Раз волхв богу молится, значит, какому — да нашему же, христианскому. Пусть он даже сам того не знает, но ведь нам-то с тобой, владыка, это хорошо ведомо, верно?
— Должен ли я так тебя понимать, что ты от деяний своих не отступишься ныне и повелений своих не отменишь? — решил одним ударом поставить все точки над «i» епископ.
— Правильно понимаешь, — кивнул князь. — Вначале я или мои люди решат, еретик ли он, а уж потом… — Он, не договорив, снова вытер платком мокрый лоб и, указывая на печь, которая выходила своей задней стороной в его небольшую светелку, пожаловался: — Душновато здесь, владыка, и жарко очень.
«По сравнению с огнем адским, кой тебя ждет, здесь холодно совсем», — чуть не сорвалось с языка епископа, но он сдержался, напомнил только:
— Проклят будет пращуром твоим князем Володимером в сей век и в будущий всяк, кто обидит суд церковный или отнимет что у него. Это тебе тоже ведомо?
— Ведомо, — вздохнул сокрушенно Константин. — Только при чем тут я? Суд церковный я ничем не обижал.
— Ты еретиков отнял у нас. Значит, постигнет тебя проклятье пращура. Болезнь же твоя — начало проклятия оного. Остановись, княже, пока не поздно!
— Не было, владыка, еретиков в тенетах твоих, — вздохнул устало Константин. — А тон свой повелительный для прихожан оставь. Там он уместнее. И все-то вы, отцы-святоши, норовите приказать, потребовать, казнью тяжкой пугануть или муками адскими. Повсюду догмы свои наставили, как охотник умелый в лесу ловушки на зверя с птицей. Только люди не звери. В них тоже, как и в тебе, искра божья тлеет, и у каждого она своя. Ты же, епископ, норовишь всех под одно причесать. Даже молитва и та непременно чтоб одна у всех была, а ведь ее слова из сердца должны идти. Оно же у каждого свое. Христос, насколько я помню, добру учил, заповедал пояснять людям и до семижды семи грехов прощать, а ты… Вспомни-ка лучше про Давида, которому бог так и не позволил храм построить. А почему? Слишком много крови на нем было. Не захотел господь, чтобы его храм кровавыми руками возводили. Опасался, наверное, что запачкают. Я ведь все до мелочей узнал у служителей, что к темницам этим приставлены были. Только за это лето они из твоих келий трех мертвяков вынесли да в прошлом лете с десяток, а в позапрошлом не упомнили число, но тоже не меньше пяти человек. Ты это судом именуешь?! Я же казнью мучительской называю и учение Христово такими деяниями пачкать не позволю ни тебе, ни кому иному. Понял ли ты меня, владыка?
Видно было, что держался князь из последних сил. Вон как за стол уцепился, чтобы сил не лишиться, аж костяшки пальцев побелели от напряжения.
Будто почуяв неладное, лекарка вбежала и нет чтобы позволения у епископа испросить — мигом к Константину кинулась, раскудахтавшись тревожно. Тут же принялась, не обращая на Симона ни малейшего внимания, князю какие-то снадобья в кубках подносить, но он их в сторону отвел, глаз с епископа не спуская, и снова вопросил сурово:
— Так как, владыка? — И досадливо поморщился, снова отстраняя от себя кубок, предлагаемый лекаркой. — Погоди малость, Доброгнева.
— Жаль мне тебя, княже, — многозначительно произнес Симон.
Иного он говорить не стал, боялся, что сорваться может, лишнее произнесет. Так молча к выходу и направился, даже не благословил на прощание болящего. Об этом он вспомнил уже на обратном пути во Владимир, сидя в своем возке.
«Хотя кого там благословлять? — подумалось ему. — Это для христиан, а Константин даже не язычник. С ними попроще разговор был бы. Намного хуже сей князь, ибо пакостей учинить может столько, что за века потом не расхлебать деяния его богомерзкие. Ну, погоди же! Не окончен наш разговор! Мыслишь, что победил меня, осилил? Брешешь, собака! Церковь святую так просто не одолеть, не свалить! И этот день у меня надолго запомнишь! Какой он у нас, кстати! Ах да, богоявление господа нашего[53]. Ты у меня еще локти кусать будешь, день этот вспоминая!» — пообещал он зло.
Слово свое Симон сдержал. Едва прибыл во Владимир, как уже через несколько дней в Успенском соборе закатил гневную проповедь. Пришлась она на день поминания святых отцов, убиенных на Синайской горе[54] за христианскую веру. Про древние гонения на церковь епископ говорил вкратце, лишь бы оттолкнуться было от чего, основной же упор делал на трудности современные. Голосом, дрожащим от волнения не напускного, а вполне подлинного, пообещал он своим прихожанам, что совсем скоро грядет час страшного суда. Ибо велико терпение всевышнего, но и оно заканчивается, потому как нестоек народ в вере, к тому же не только у низших чад такое наблюдается, но и у высших.
Ни про кого конкретно он не сказал, но намеки сделал самые недвусмысленные:
— Ныне ересям в народе даже потакать стали, от справедливого возмездия оберегая и от суда церковного заступу даруя. В писании же сказано, что именно так и будет перед страшным судом в последние часы, что людям отпущены. А я, ничтожный раб божий, — чуть не заплакал он, но удержал слезы, пусть в глазах стоят, так оно убедительнее будет, — и рад бы вас, чада мои, от деяний мерзостных и от дыхания тошнотворного еретиков поганых и язычников защитить, но не в силах ныне. Воспрещено мне сие настрого, — сокрушенно закончил он.
Народ расходился из храма пасмурный, задумчивый. Кто не понял, дорогой соседей посмышленнее расспросил, которые намеки эти уразумели и в чью сторону они направлены. Хорошо поняли. Трактовали же гнев владыки по-разному. Иные, догадываясь об истинной причине, откровенно говорили:
— Князь темницы епископские растворил и без своего дозволения воспретил в узилища этих людей ввергать, потому и злобствует епископ наш. Не по нутру ему вишь, что в дела его встревают.
Другие только головами наивными сокрушенно качали.
— Князь заступ ереси дает. Когда такое видывали? Ох, ох, беда будет. Видать, за грехи великие нам рязанца этого на шею посадили.
На малолетнего княжича поглядывать в городе стали косо, привечать и вовсе перестали. На торгу слово ласковое теперь Святослав редко слышал. Охладел к нему народ.
Через день Симон еще одну проповедь прочел. Очень уж удачно все совпало — как раз поклонение честных вериг святого апостола Петра было. Про них-то он и начал, дальше же отметил, что ныне дела еще хуже — сразу несколько епархий теперь в эти вериги облачены, но не доброй своей волей, а по принуждению свыше.
— Вериги же эти суть узы, коими длани у служителей божьих стянуты, — вещал он с амвона. — Ни удержать еретика мы не можем, ни отстранить его от честных прихожан, ибо запрет на нас наложен.
Однако буквально через пару дней к нему в покои без стука зашел воевода Вячеслав. Не говоря ни слова, он прошел к столу, за которым епископ трудился, делая выписки из библии для очередной проповеди, и так же молча выложил на него черную рясу грубого сукна.
— Сдается мне, отче, что не туда ты слово свое направил. Это тебе напоминанием будет. — И пояснил: — Еще одна твоя проповедь, и тебе придется сан свой оставить, а самому в монастырь уходить.
— Я из монастыря уже вышел, сын мой, — произнес коротко епископ, хотя душа его кипела от ярости.
Он уже давно забыть успел, когда с ним так надменно и властно говорили. Кажется, в Киеве это последний раз с ним произошло, если память не изменяет, но, бог мой, как давно оно было. Потом он успел некоторое время в игуменах Рождественского монастыря, что во Владимире стольном, походить, а уж затем возлюбивший его без меры Юрий Всеволодович специально для Симона и чтоб от Ростова не зависеть отдельную епархию учредил. А уж когда он три года назад епископом Суздальским, Владимирским, Юрьевским и Тарусским стал, то тут и вовсе кто бы ему слово худое сказать осмелился. Да что слово — тона непочтительного ни разу не слыхал. И вот на тебе, дожился…
Однако умом хорошо понимал, что не пришло время свое неудовольствие и возмущение выказывать. Уж больно решительно настроен воевода княжий, а власти у него — хоть отбавляй. Получится, что епископ своим праведным гневом только хуже сделает для самого себя, потому и сдержался.
— Вчера вышел, а после проповедей своих обратно вернешься, если дальше станешь народ мутить, — предупредил Вячеслав. — И помни, я один раз предупреждаю. Второго не будет. Если умный человек — поймешь, а дураку хоть сто раз повторяй — все равно бесполезно. Тебя я за умного считаю. Даже чересчур, — хмыкнул он и к выходу пошел.
Такой вот наглец оказался.
Симон размышлял недолго, трех дней ему вполне хватило. Проповедь неизреченную в сторону отложил вместе с выписками-цитатами. Не время сейчас для нее, ибо сказано: «Не искушай всуе». Решил иными путями идти.
Поначалу съездил к соседу, епископу Ростовскому, владыке Кириллу. Хотел его в кампанию, против князя затеянную, пригласить. Совместная жалоба двух епископов куда как весомее будет смотреться. Но владыка Ростовский хитер оказался и скользок — не ухватишь.
— У меня князь тоже еретиков освободил, — развел он сокрушенно руками. — Но я не ропщу. Сказано в писании, владыко Симон, что всякая власть нам от бога дана. Выходит, прогневали мы чем-то отца своего небесного, вот и вышло нам сверху такое наказание. Его же замаливать надобно смиренно да ждать, пока господь не смилостивится над нами, грешными.
— Пока ждать будем, он нас самих в кельи эти посадит на хлеб да воду, — возразил Симон.
— На все воля божья, — смиренно осенил себя двумя перстами ростовский епископ. — Яко он повелит, тако и случится.
Словом, не удалось ничего добиться Симону. Однако от задуманного он все равно отказываться не стал. Едва вернулся во Владимир, как тут же принялся готовиться к новой поездке — на этот раз в Киев. Недели не прошло, как выехал.
По пути он вновь в Переяславское княжество заглянул, а уж там от Ярослава и узнал про сбор всех князей в Киеве — только-только гонец от Мстислава Святославовича уехал. Заодно выяснил и все подробности недавних событий под Залесьем, после чего, аккурат под весеннюю распутицу, времени не пожалев, направился в гости к черниговскому епископу.
Еле успел он до начала половодья бурного, но не пожалел ни разу. Очень внимательно Симон отца Варфоломея слушал, да не раз и не два, после чего предложил все это на совете княжеском повторить.
Заодно душевно пообщался и с князем черниговским. Та холодная ненависть, что пылала в сердце Мстислава Святославовича, епископу тоже по душе пришлась. Для виду отговаривать его принялся, но с лукавостью. Тут ведь смотря какие слова подбирать. Можно, человека успокаивая, одной лишь неосторожной фразой так рану сердечную разбередить, что лишь хуже сделаешь. А можно — при желании и умении — то же самое и сознательно сотворить, со злым умыслом.
У Симона не от неумения так вышло. Епископ именно с умыслом говорил и сейчас, уже перед всеми князьями выступая, он тоже на славу потрудился. Ничего Константину не забыл, все припомнил, начав свои обвинения еще со странной дружбы князя со Всеведом — самым главным из волхвов идолища поганого, коего они богом Перуном называют.
И о том, что, по слухам, и Глеба, своего брата, одолеть Константину именно Всевед подсобил, он тоже не забыл упомянуть. Да и вообще рязанский князь с нечистью очень тесно связан. Негоже, конечно, недостойному служителю божьему чьи-то сплетни передавать, однако купцы града Переяславля-Залесского, будучи во Владимире, сказывали промеж собой с опаской, будто бы один из дружинников клялся и божился, что самолично слыхал, как князь Константин с водяным разговоры вел. Но ведь всем известно, что нет на самом деле ни леших, ни болотняников, ни русалок, ни водяных. Все это суть зловредные бесы, присланные отцом своим диаволом для того, чтобы чинить пакости добрым христианам.
Выходит, о чем мог договариваться с водяными бесами рязанский князь? Да о том, чтобы те удачу ему в ратном деле дали, а взамен надлежит Константину защищать всех поганых язычников, а люд православный, особливо служителей божьих, всяко ущемлять. Нет-нет, сам епископ об этом договоре не слыхал, но ведь вот что выходит — едва князь во Владимир въехал, как в новых жалованных грамотах на храмы и монастыри церковь очень сильно обидел. Ну ладно, одно-два селища бы отнял с угодьями, лугами, лесами и озерами. Так ведь все подчистую забрал, ничегошеньки не оставил, ни одного смерда.
Уловив гул сдержанного одобрения такой решительности со стороны князей, Симон сразу понял, что несколько погорячился.
— Ведомо мне, что во многих княжествах монастыри и землями, и людьми, и скотом владеют, — решил он иначе подойти к этой щекотливой теме. — Ведомо и то, что князья, сознавая важность дела монашеского, даже испытывая нужду в гривнах, на добро церковное жадную длань не налагают. Более того, еще и сами дают щедро.
— Попробуй не дать, — шепнул на ухо Мстиславу Романовичу Киевскому его двоюродный брат Владимир Рюрикович Смоленский. — Из глотки сами вырвут.
— Тебе-то еще ничего, — вздохнул Мстислав Романович. — А у меня, сам ведаешь, сколь селищ дань не мне, а монастырям несут. Ежели все посчитать — несколько сотен наберется.
— То-то монахи у нас все как на подбор, сытые да румяные, — шептал в углу просторной гридницы желчный князь Александр Вельский Ингварю Луцкому.
— Это они с голоду пухнут, — усмехнулся Ингварь. — А румяные от счастья. Господь их благословил на служение себе, вот они и радуются.
— А окромя того, — возвысил голос Симон, вспомнив, как хитро надул его Константин с жалованной грамотой, — ни один из вас, прочим пагубный пример подавая, обманывать священнослужителя и в мыслях не осмелится. Князь же сей и обманывал, и, — тут у него в памяти всплыли саркастичные строки грамотки, — еще и изгалялся всяко. К тому же он, помимо язычников, и еретикам потакает. Люд крамольный, который я от греха и соблазна прочих по кельям рассадил, дабы они, в уединении находясь, сами грехи свои осознали, на улицу повыгонял безжалостно. Некие выходить не хотели, молили слезно оставить, так его вои силком их выносили!
— Ну, это он уж и впрямь того, — буркнул Владимир Рюрикович.
— А не врет ли епископ? — усомнился в словах Симона Мстислав Романович. — Уж больно много грехов на рязанца навалил.
Владыка же, будто услышав это, немедленно пояснил:
— Помстилось мне, может, напрасно я так на него напустился. Но потом вспомнил то, с чего он начал. Все, кто тут сидят, и сами, поди, не раз слыхали, какое черное дело под Исадами сотворилось. Всяко разно о том говорили, в том числе и о Константине. Известно, о любом наговорить что угодно можно, и пересудам этим черным я веры не давал. Однако я долго молился, всевышнего вопрошая, после чего пригляделся к челу князя сего, и страшно мне стало, ибо господь наш в своем нескончаемом милосердии откровение мне послал великое и самый край тайной завесы предо мной, недостойным, открыл.
В гриднице воцарилась тишина. Была она до того пронзительная, что слышалось, как жужжит шальная муха, бестолково мечущаяся вдоль оконного стекла в тщетных попытках выбраться наружу. Симон в точности выдержал театральную паузу в своей речи — чуть больше или меньше и эффект был бы совсем не тот — и произнес громогласно:
— Каинову печать на челе князя Константина я узрел, братья мои во Христе.
Тишина звонко лопнула, разродившись шумным взволнованным говором князей. Голоса были разные, от негодующих, искренне возмущающихся до осторожно недоверчивых, скептических.
— И каждый отныне узреть ее может, — перекрикивая всех, внес существенное дополнение епископ. — Поведал мне глас с небес, что переполнилась чаша терпения господнего и отныне округлый край печати этой каждому истинно православному человеку будет явственно виден, а тому, кто полностью безгрешен, ее вседержитель и вовсе всю целиком покажет.
Это уже было доказательство. Одно дело, когда некую печать видит лишь епископ — а «видит» ли, а не померещилось ли, не ошибся ли часом, — и совсем другое, когда предлагают проверить тебе самому. Не веришь, так пойди да полюбуйся, коли не страшно.
Симон, сказав такое, ничем не рисковал. Действительно, был на лбу Константина легкий полукруглый шрам. Еще в ранней молодости взял его с собой старший брат Олег Владимирович в поход на мордву, которая что-то пошаливать стала. Горяч был Константин, но неопытен, залез в самую гущу, сцепившись сразу с тремя воями мордовскими, вот один ему, изловчившись, рогатиной прямо в лоб и угодил.
Если бы на одно мгновение верный Ратьша замешкался, то эта битва последней бы для юного княжича оказалась. Но старый вояка успел своим мечом снизу вверх отбить рогатину, и та лишь едва чиркнула по лбу юноши, оставив на нем округлую отметину — память о самом первом княжеском сражении.
Когда епископ Симон во время их последней встречи в Переяславле-Залесском с ненавистью князя разглядывал, он его лицо до мельчайшей черточки запомнить успел. Память у владыки Владимирской и Суздальскои епархии хорошая была. Не раз это выручало его в жизни. Вот и ныне она ему сызнова услугу добрую оказала, не подвела владельца.
А еще то хорошо было, что обратное доказывать да про бой тот вспоминать уже некому. Давным-давно истлели кости мордовского воина, который Константину на лоб клеймо поставил, да и погиб в том же бою. Больше десяти лет назад отпели вечную память князю Олегу, похоронив его в Ижеславце восточном. В прошлом году и у Ратьши старого душа в светлый славянский ирий упорхнула. Из ныне живущих один Константин, пожалуй, и остался. Жаль, Симон не знал о том, что и сам князь понятия не имеет — когда, где, кто и как ему эту отметину припечатал. Это его голосу еще больше уверенности бы придало.
Впрочем, он и без того звучал убедительно. Все поставил на кон епископ: пан или пропал. Ждать долго не пришлось. В его пользу невидимые кости выпали, судя по голосам князей. Никто из них не вспомнил, что совсем не так все было. Значит, нет в гриднице свидетелей, так что теперь уж рязанцу вовек не отмыться.
Что там шрамик еле видный — пустяк, да и только. Он и двенадцать лет назад не больно-то приметен был, после того как зажила ранка, короста облетела, да кожица молодая наросла. А уже сейчас он и вовсе еле видимый, и то если хорошо приглядеться.
Ныне не то. Ныне каждый приглядеться захочет, именно этот шрам первым делом станет выискивать взглядом, а приметив — ужаснется, говоря в душе: «А ведь и впрямь владыка Симон говорил. Вот она, печать каинова красуется».
Эх, погорячился Константин малость. Ему бы поделикатнее как-то поступить с самолюбивым епископом, а не сгоряча рубить. В конце концов, от сотни селищ не обеднел бы сильно, а там, глядишь, мало-помалу и стерпелся бы епископ с норовом рязанского князя. Теперь поздно.
Еще полчаса назад, десять минут отступя, пять, три — все совершенно иначе было. Да, союз княжеский все равно создался бы, круто замешанный в первую очередь на холодной негасимой ненависти Мстислава Святославовича да на клокочущем гневе Ярослава Всеволодовича. Да, опасен он был бы для Константина. Но тут еще страшней получилось, тут впервые княжескую усобицу освятила сама церковь.
И никакой роли не играло то, что не сам митрополит всея Руси сказал эти роковые слова. Епископ — это вам тоже не кот начхал. Это, если из княжеской терминологии исходить, ближний боярин или тысяцкий стольного града, одним словом, фигура весомая. С кресла любого епископа до митрополичьих палат — шаг один шагнуть.
Не случайно именно после его выступления все последующие речи совсем иначе зазвучали: намного живее стали, а тон куда более злой и решительный. Те же, кто мог бы по складу характера предложить еще раз все взвесить да обдумать, слова уже не брали. Да их и слушать сейчас никто бы не захотел. Князья крови возжаждали. Да и о каком мире можно говорить с человеком, если его сам вседержитель своей несмываемой печатью отметил.
Потому договорились быстро. По настоянию князя Ярослава порешили, что сразу после весеннего сева соберутся князья с дружинами да ополчением верстах в двухстах северо-восточнее Козельска, там, где река Угра в Оку впадает. Очень уж близко было и смолянам добираться — недалеко от их границы, и черниговцам сподручно подняться до волока на Угру верховьями Десны, да и прочим тоже удобно. Киевлянам с новгород-северцами, считай, как и черниговцам, только в верховья Десны подняться, а там волок старинный до Угры. А хочешь, иди по Днепру вверх и у Дорогобужа опять же в Угру попадешь. И даже обитателям таких отдаленных мест, как Владимирско-Волынское княжество, Туровская земля, Минская или Полоцкая, особо думать о дороге не приходилось. Либо Припятью, либо Березиной, но все едино — в Днепр попадешь. Даже надрываться на веслах не надо — течение само под Киев принесет.
Да и на волоках тоже проблем никаких. У каждого из них на месте причала установлены бревна. Издали смотреть — рельсы желтые из воды на берег выглядывают, только почему-то деревянные. Каждое из них гладко выстругано, отшлифовано до блеска самими ладьями, а чтобы уж совсем легко дело шло, еще и салом густо промазано, от души. По ним ладья идет, будто по воде, разве что против течения. Тянуть же ее руками недолго — только до специальной телеги, а там закрепляй посудину получше да кати до другой реки. Обычно поутру ты к одной стороне волока подплываешь, а к вечеру течение тебя уже по другой реке вовсю несет. Это если без очереди, хотя они тоже случаются, когда несколько караванов купеческих одновременно подкатывают.
Половина всех ратей должна была в Киеве сойтись. И Мстислав Удатный, и Ярослав Всеволодович, и зять Мстислава Даниил, да и прочие князьки помельче.
Соединяясь там, у них всех вверх по Десне путь дальнейший лежал, навстречу остальным: черниговцам, новгород-северцам, смолянам да полкам новгородским. Даже дни встречи князья точно обговорили — кто подходит, когда и как.
А волок с Десны на Угру местом сбора всех пешцев определен, потому как последний он из тех, что ведут на саму Оку, а сам на чужих землях расположен, еще не рязанских — смоленских. Конным же дружинам ждать ополченцев предстояло у устья Угры, там, где она в Оку впадает. Далее же по тропе-матушке до самой Рязани путь чист.
Но главное тут — скрытность обеспечить. Об этом тоже подумали. Чтобы Константин ничего не заподозрил да не спохватился раньше времени, решено было своим дружинникам, и не только рядовым, но и тысяцким, вообще ничего не сообщать. Сказать лишь то, что задуман поход совместный. Спросят если — обмолвиться нехотя, что на Литву на немцев орденских. Больно уж те осмелели за последние годы. Про Константина же рязанского, ежели кто вопрошать учнет, отвечать, что надобно бы и с ним разобраться, но попозже, к осени ближе, когда смерды хлеб с полей уберут, чтоб было чем самим кормиться.
Когда же ладьи поплывут к месту сбора, утайка, конечно, наружу выйдет — с Оки на Литву идти так же сподручно, как на половцев через море Варяжское[55], но уже поздно будет. Лазутчики если и проведают, то в Рязань к Константину разве что на день-два раньше чужих дружин поспеют, а то и вовсе одновременно с ними. Очень рассчитывал Ярослав на эту хитрость с обманными сроками. И еще мысль у него тайная была, но о ней он и вовсе ни одной живой душе не сказал. Тут ему союзники были не нужны — один надеялся все провернуть…
У Любомира и его хозяина-купца друзей в самых разных землях хватало. Торговому люду без общения нельзя. Ты хорошему человеку выложил как на духу, на что в Киеве спрос хорош, а он тебе про Смоленск все поведал, куда ты сам плывешь. Прочие новости попутно проговариваются, как бесплатное приложение к торговым. Вот это приложение Любомир старательно запоминал, а потом и писал нехитрым шифром.
Уже через неделю после княжеского съезда грамотка в обычном деревянном ларце вместе с купцами рязанскими катила из Киева к Рязани. Никто ее особо не скрывал, потому что выглядела она обычным купеческим посланием, предназначенным для Тимофея Малого. Сообщалось в нем то, что и положено сообщать — куда какие товары лучше везти.
В грамоте рекомендовано было железа да мехов прихватить побольше, ибо спрос на них нынче по всей Руси велик, цена твердая и будет таковой до самой осени. То же самое у немцев орденских. Но у тех интерес только до лета продлится, а после весеннего сева везти туда эти товары нет никакого резона. Зато в Киеве на них устойчивый спрос до самой осени ожидается, пока урожай с полей не соберут. Далее гости иноземные непременно цену собьют, ибо зима была холодная, недород ожидается и на Угорщине, и у ляхов, и у тех же орденских немцев, и у свеев[56].
Везти же указанный товар можно любым волоком, как душе угодно, потому что в этом году вода хорошая, высокая, так что хлопот лишних не будет, какой путь ни избирай. В конце письма речь шла о всяких мелочах, совсем уж пустяшных. Так, например, сообщалось, что попробовал на днях автор письма молока кобыльего, прозываемого кумысом. Угостил его купчина, из краев половецких прибывший, а какими путями — про то не сказывал. Невзирая на то что первый раз такое испить довелось, всего две чаши осилил, а вот третью не смог, уж больно шипучее оно и в нос шибает, так что даже слова не сказать.
Ну а в самом конце шли непременные приветы. Прежде всего Любомудру с непременным обещанием, что обещанные ему седла, отделанные серебром, несмотря на дороговизну, из Угорщины привезут непременно. Тем более что гости торговые из тех краев уже в пути. Плат же особого пуха, которыми орденские немцы в том году торговали, ныне нигде отыскать не удалось, но есть надежда, что ближе к лету за ними удастся съездить. А потом шли поклоны старой тетушке Акулине…
Про тетушку Акулину и про то, чем лучше лечить ее больную спину, Константин, получивший послание, читать не стал. Это все для отвода любопытных глаз было написано, как и начало письма.
Настоящий текст начинался со слов: «Спрос же в этом году особый на…», а заканчивался, как и положено, подписью, причем имя на всякий случай было изменено, а то зачем же сам Любомир себе привет передавать будет.
Словом, не было в этом шифре ни тайных письмен, ни закорючек загадочных, ни прочих затей замысловатых. Весь он как на ладошке лежал… но для понимающего. И прочел рязанский князь следующее.
«Ополчилась на тебя вся Русь. В походе будет и Мстислав Удатный — это в его соседях Угорское королевство числится, которое Любомир иначе не назвал бы. С ним пойдет и зять его Даниил — Владимиро-Волынское княжество с ляхами граничит, которые тоже в письме прозвучали; и полоцкие князья, раз про немцев орденских упомянуто, а коль свеи названы, значит, к войску этому Новгород с Псковом и Смоленском присоединятся.
Летом они все поначалу собираются на орденских немцев сходить, да на Литву заодно. На Рязань же пойдут осенью, сразу после уборки хлебов. Где собираться будут — неизвестно пока. Но князья приведут с собой не только дружины, раз помимо мечей шубы указаны, но и пешие полки.
Задумано привлечь и половцев — это кумыс, причем сразу две орды — Котяна и Юрия Кобяковича, раз две чаши помянуты. Про волоки любые указано, без различия — значит, куда и как все это воинство подет, пока неизвестно.
Нужный человек, как уговорено, уже выехал следом за Мстиславом Удатным в Галич. Как только будут новости, он сразу известит».
И одно только оставалось непонятным Константину. То ли печалиться, что вся Русь на него поднялась и это уже твердо решено, то ли радоваться, что время тяжелой неопределенности закончилось. Уже лучше такое известие, чем совсем никакого. Опять же главное стало известно — примерное количество врагов и сроки нападения.
Сведения полученные, что и говорить, дорогого стоили. Даже очень дорогого. Такого, что никакими гривнами не оценить, потому что серебро — дело наживное, а вот жизни человеческие…
Теперь предстояло все окончательно продумать, составить какой-нибудь хитроумный план, распределить все силы и действовать. Совещание было устроено в малом составе — князь, воевода Вячеслав и Минька, который за техническое оснащение армии отвечал. Дебаты длились недолго.
— Без тщательной рекогносцировки местности говорить о чем-то конкретном бесполезно, — авторитетно заявил Вячеслав. — А с ней определиться тоже никак не получится, потому что маршрут неизвестен.
Увы, но он был прав на сто процентов, а посему решено было сделать так. Минька быстренько выезжает налаживать конвейерный метод изготовления кирпича, чтобы до осени хотя бы частично, метра на три в высоту и только со стороны суши, но одеть в каменную рубашку Коломну, Ожск и саму Рязань, а на юге — Пронск и Ряжск.
На остальные города людей уже не хватало. Откуда их взять, если по предварительным подсчетам только для стен одной Рязани требовалось примерно сорок миллионов кирпичей. Это если исходить из высоты метров в десять, примерной толщины метра в два — а тоньше никак нельзя, и по длине периметра где-то километра полтора на полтора, то есть всего шесть. А их все не только вылепить, но и просушить надо, на что дня три-четыре при хорошей погоде уйдет, да потом еще и обжечь качественно. Вот и считай.
Если же ставить хотя бы метровые стенки и высотой вполовину ниже, то тут и десяти миллионов хватит. Тоже задача тяжкая, но до осени выполнимая, если правильно организовать весь процесс. При такой толщине и высоте, да еще за счет существенного уменьшения периметра, где-то метров по пятьсот в длину и ширину, на прочие города вполне хватит по четыре миллиона кирпичей.
Пронску же легче всего. Город на скалистой подушке стоит, так что вполне можно натуральным камнем обойтись, каменоломню устроив. Там же на месте прикинуть, сколько потребуется камня. Надежда была, что останется и для Ряжска, по которому самый первый, а значит, самый тяжкий удар половцев придется. Тут же решено было ввести оплату лишь для мастеров-каменщиков, а вот на остальные грубые работы обязать поднапрячься самих жителей. В конце концов, на свою же собственную безопасность будут работать. Учебу воинскую пока проводить по плану, который еще зимой был разработан, но полки собирать не по осени, а загодя, иначе можно не успеть.
Пришлось отменить поездку Миньки на Урал с мастеровым людом и дружинниками. Не до того стало. Слишком много дел и забот. Одну Рязань, считай беззащитную совсем, подготовить к обороне — уже на месяцы задача. Ведь это хорошо, если половцы побоятся Пронск с Ряжском невзятыми оставить и будут штурмовать их до последнего, а если нет? Если они на города эти плюнут и сразу на Рязань двинутся — тогда что? Да, земляные высокие валы у нее оставались, равно как и ров, но хорошей защитой города, если нет стен, все это не назовешь.
Как ни ломал Константин голову, но без применения секретного оружия иного ответа на этот вопрос не находил. Пришлось ему, скрепя сердце, разрешить Миньке, но только тайно, под покровом ночи, и так, чтоб ни одна живая душа не видела, весь первый десяток отлитых и уже испытанных пушек из Ожска перевезти для защиты столицы. Держать их он распорядился в отдельном помещении до тех пор, пока крайняя необходимость использовать их не заставит, а вот места для их установки выбрать и подготовить надо заранее, никому ничего не говоря. Картечь тоже всю заранее заготовить и так же, как и порох, на порции отмерить, по зарядам, да за два-три дня до нападения не забыть их в мертвую кровь окунуть, чтобы любая царапина заражение вызвала смертельное.
Вот за такими мелочами весь день и прошел. Это они ведь только на первый взгляд пустяшными кажутся, а если призадуматься, то на их решение куда как больше времени уходит, чем на что-то глобальное. Да и нет в таких делах мелочей. Кажется только, что вот это — главное, а то и то — пустяк ерундовый. На деле же иная ерундовинка, вовремя не сделанная, таких бед наворотить может, что держись.
Разошлись друзья уже затемно. Но едва Константин их отпустил, как новое соображение в голову пришло. Подумал, поколебался малость, но, вздохнув, все-таки послал Епифана за воеводой. Тот еле догнал Вячеслава, который уже на коне сидел.
— И чего еще ты удумал, что так срочно с седла меня сорвал? — начал было возмущаться Вячеслав, зайдя в малую гридницу.
— С коня — не с бабы, — хмуро буркнул Константин. — Как слез, так и обратно вскарабкаешься. Да ты сядь, сядь, — махнул он ему рукой и огорошил: — А если все это — деза?
Воевода от таких слов не сел, а плюхнулся на лавку.
— Какая деза? — не понял он.
— Дезинформация, — пояснил князь.
— Костя, ты чего, перегрелся в своем тереме?! Это же тринадцатый век, а не суровые будни Великой Отечественной! Если бы Любомира вычислили, то его просто в петлю сунули бы, и всего делов. Ну, может, попытали бы малость, а потом все равно бы удавили. Никто про эту перевербовку и думать бы не стал, поверь мне.
— Я, кстати, о перевербовке и не думал, — вздохнул Константин. — Я о другом. Что если князья решили об истинных целях похода помалкивать, а всем своим пока говорить, что так, мол, и так — идем Литву бить и орденских немцев. А на самом деле они сразу на нас нацелились.
— Слушай, старик, я в географии, конечно, не силен. Знаю, что есть, там юг с севером и запад с востоком, вот и все. Нам, воякам тупым, много знаний ни к чему, а то голова опухнет и фуражка не налезет, но даже этих знаний вполне хватает, чтобы понять — где мы, а где эти дикие литвины с немцами. Мы же с ними в противоположных сторонах. По-твоему, ратники такие дубовые у них, что проглотят эту липу и не засмеются. Или будут брать Рязань и удивляться, что город этот почему-то совсем на Ригу не похож, так, что ли?
— Им под самый конец можно сказать. Не горит.
— Под какой такой конец? Когда все княжество наше, виноват, твое завоюют?
— Нет, чуть раньше, когда на Угре соберутся.
— То есть ты предлагаешь из-за своей идеи, которая на девяносто пять процентов является обычным плодом чрезмерной подозрительности, плавно переходящей в надвигающуюся шизофрению, все маневры и учения отменить. Я правильно понял? — возмущенно осведомился Вячеслав.
— Я предлагаю еще раз все взвесить и обсудить.
— Хорошо, — покладисто согласился воевода. — Давай вспомним, что посланец на словах сказал.
— Ну, что литвины совсем обнаглели и орденские немцы тоже. Какой раз уже на Полоцкую землю ходят, да и на Смоленск со Псковом, и никакого сладу с ними нет.
— Эти данные достоверны?
Константин пожал плечами:
— Вообще-то, да. Там действительно война затяжная — то эти паразиты на нас прутся, то мы на них. Короче, с переменным успехом. А в этом году еще и датский король Вальдемар II[57] должен высадиться в Прибалтике.
— Ему-то какого черта там понадобилось? — удивился Вячеслав. — Где Дания, а где Прибалтика?! Или у него, как у меня, большие проблемы с географией?
— Он идет по просьбе рижского епископа Альберта, — пояснил князь. — Помочь окрестить язычников — дело богоугодное. Хотя, конечно, это так, для отмазки. На самом деле у него задумка — все поморские земли под свою руку взять.
— И как долго он этим богоугодным делом будет заниматься? — деловито осведомился Вячеслав.
— Возьмет Ревель у эстов, то есть нынешних эстонцев, заложит там замок каменный и домой двинет. Когда точно — не знаю. Потом он еще будет грызться с Альбрехтом из-за Эстонии. Там у них спорные моменты возникнут насчет…
— Это уже детали, — прервал воевода. — Ну, хорошо. С врагами все ясно. А теперь освети мне действия русских князей в эти годы. Что там говорят твои историки?
Вячеслав важно заложил ногу за ногу, изобразив внимание на лице. Видя, как Константин растерянно чешет в затылке, поинтересовался невинно:
— Знания наружу выскребаешь?
— Я тебе компьютер, что ли? — проворчал Константин. — Погоди немного, может, что и всплывет на поверхность.
— Всплывает знаешь что? — не утерпел подпустить шпильку воевода, но, заметив, что друг начал злиться, сам же ответил: — Мед, конечно. А ты о чем подумал?
— О чем и ты… вначале, — буркнул князь, но тут же его лицо осветилось улыбкой. — Кажется, вспомнил. По-моему, у Соловьева говорилось, что новгородцы в эти годы несколько раз ходили в Ливонию. Вроде бы в этом году тоже. Кажется, под Венден, — неуверенно произнес он.
— Вроде или точно? — спросил Вячеслав.
— Вроде бы… Точно!.. — твердо ответил Константин. — Какой-то там успех имели, но Венден не взяли. Их полки простояли под городом и ушли обратно.
— А про полки из других княжеств ничего не говорилось у Соловьева? — продолжал выпытывать исторические данные воевода.
— Кажется, нет… — заколебался с ответом его друг.
— Кажется, — передразнил его Вячеслав, заметив назидательным тоном: — История, брат, она наука точная. Тут, сам видишь, всякие «может» да «кажется», «скорее всего» и «вроде бы» не подходят. Я, конечно, понимаю, что ты не компьютер, но я же про самое элементарное тебя спрашиваю, а ты и здесь ни в зуб ногой. У тебя чего по истории в зачетке стояло?
— Пятерка, — гордо ответил Константин.
— У меня тоже, — вздохнул Вячеслав и тут же вынес нелицеприятный приговор: — Раз оценки одинаковы, значит, и знания на одном уровне. Чего, спрашивается, я у тебя выпытать хочу, когда с тобой все ясно. Впрочем, с Прибалтикой тоже.
— И чего тебе с нею ясно?
— Все. Обстановка там сложная. Борьба идет с переменными успехами. Следовательно, какой вывод напрашивается?
— Какой?
— А такой, что, прежде чем на Рязань идти, народ решил свои тылы обезопасить, причем надежно, чтоб ни одна собака не тявкнула.
— Не складывается у тебя, — поморщился Константин. — При чем тут Мстислав Удатный со своим зятем, киевляне, а особенно черниговцы и новгород-северцы? У них-то тылы в порядке. А наш старый знакомый Ярослав и вовсе никаким боком тут не вписывается.
— Погоди, сейчас и это объясню, — задумался ненадолго Вячеслав. — Ага, значит, все это происходило примерно так. Все эти княжества просто согласились помочь. Вынужденная мера. Сам посуди, разве полоцкие князья оставят свои земли без прикрытия? Ни за что. То же самое остальные, чьи уделы с прибалтами граничат. Вот они и поставили условие — вначале давайте наши владения обезопасим, а уж потом мы с вами хоть на край света. Как тебе?
— Ну, вообще-то, все вписывается, — нехотя признал князь. — Во всяком случае, логика есть, — и честно сознался: — Но все равно какой-то червь сомнения гложет — вдруг не так все это?
— Это не червь, а самый обычный глист, — серьезным тоном заметил Вячеслав. — Его не почесыванием в затылке уничтожают, а иными, вполне доступными народными средствами. Ты, кстати, голодный, поди, сидишь?
— Ну, вообще-то да.
— Вот он тебя и гложет, — всплеснул руками воевода. — Иди отсель и немедля замори червячка, как говорят в народе. А народу, дорогой друг, надо доверять, и если он сказал…
— А мы поступим не по-твоему и не по-моему, — перебил его Константин. — Проводи свои учения, черт с тобой. Только на самом опасном направлении и из Рязанских земель никого не трогай. Вот ты где собирался с людьми заниматься?
— На необъятных волжских просторах, — пожал плечами Вячеслав. — Ориентировочно где-то возле Ярославля и Костромы, только чуть южнее. Мы ж только что сегодня эту тему обговаривали: чтоб рядом река была и в случае чего мигом по ней в любую сторону…
— Волга — это хорошо, — кивнул князь. — Но ты лучше к западу пододвинься.
— Да там леса сплошные, — возмутился Вячеслав.
— Ничего страшного. Зато граница под боком. И еще раз напоминаю — из рязанских земель людей не бери, потому что Волгу ты перекрываешь, если что, а Ока совсем без защиты остается.
— А наглядная демонстрация и показные занятия? — бурно запротестовал Вячеслав. — Пойми, это же действительно отлично выйдет, когда народу все не просто расскажут, а еще и посмотреть дадут, как оно должно быть.
— Боюсь я чего-то, — пожаловался Константин. — Вот боюсь, и все тут.
— Комплекс Сталина, Пол Пота и Мао Цзэдуна, — поставил князю уверенный диагноз воевода. — Ладно, аллах с тобой. Щоб тэбэ нэ журылось, хлопче, оставлю я в это лето рязанские города в покое. Неправильно это, конечно, но что для друга не сделаешь. Ущипну лишь кусочек маленький: спецназ с дружиной твоей ополовиню и по полсотни — по сотне, но не больше, дерну с каждого полка. Сделаю один сводный. Для показухи этого вполне хватит.
— Лучших, поди, возьмешь? — не то спросил, не то констатировал князь.
— Естественно, — пожал плечами Вячеслав. — Все-таки показуху делаю, а не шухры-мухры. Тем более что их друг к другу еще подгонять сколько времени придется. Я и так тебе почти во всем уступил! Совесть-то есть у тебя?
— Ладно, забирай, — кивнул Константин.
— Вот теперь тебя люблю я, — замурлыкал довольный воевода и порекомендовал, стоя у двери: — А червячка сомнения ты прямо сейчас замори. Твоим поварихам только свистнуть, так они его вмиг жареным поросенком прихлопнут.
Насчет поросенка воевода, конечно, шутил, но, как ни странно, Константин и впрямь после ужина почувствовал себя намного увереннее и спокойнее. Он уже не сомневался в логичности мыслей и выводов своего друга, а целиком встал на его сторону. Действительно, все сходилось. Вначале южане помогают северянам, а потом те, успокоенные за свои тылы, идут на Рязань.
Следующие дни прошли и впрямь на удивление спокойно. Уехал Вячеслав, скорый на сборы и торопившийся убыть из Рязани, пока Константин не отнял у него и те жалкие сотни, которые воевода выклянчил для проведения показных учений.
Сам князь навестил Всеведа, успел побывать и в Ожске, где полюбовался станками по чеканке монет, действующими полным ходом, пусть с виду и неуклюжими, допотопными.
Прибыв из семидневного вояжа обратно в Рязань с сознанием честно выполненного долга, он сытно поужинал, сладко потянулся, собираясь пойти спать под бдительным присмотром Маньяка, и наметил себе на пару-тройку дней устроить выходной, но не из лени, а скорее из необходимости, то есть для дела.
Когда делом каким-то занимаешься, то после него желательно не сразу за новую работу хвататься, а малость побездельничать. Ну, хотя бы денек один. Вот тут-то обязательно в памяти что-то существенное всплывет, о чем напрочь забыл. Способ этот им уже давно и успешно был проверен на практике, так что отказываться от него смысла не имело. Вон даже господь и тот, после того как за шесть дней мир состряпал, перекур устроил. А для чего, спрашивается? Что, и впрямь устал? Не-е-ет, он побездельничать решил — вдруг что-то важное упущенным из виду оказалось. А Костя не бог — человек обычный, так что ему уж это тем более необходимо.
А потом, чего греха таить, еще и просто передохнуть захотелось, пока повсюду затишье образовалось. Когда-то еще такое спокойное времечко выпадет.
«А почему бы и нет. Я свой отдых честно заслужил. Если уж мне за вредность даже молока бесплатного не положено, — вспомнил он фразу из известной кинокомедии, — то право несколько деньков дурака повалять я железно заработал, и даже неоднократно», — размышлял князь, расхаживая по своей малой гриднице и предвкушая сладостное безделье.
Но тут дверь отворилась и вошел хмурый Маньяк. Едва Константин его увидел, как сразу понял — выходных не будет. Даже одного. Уж очень тот мрачен был и сосредоточен.
* * *
Первым узриша оную печать по милости господа нашего вседержителя некий муж, в святости пребывающий. За труды великие и праведные небеса даровали оному мужу зреть невидимое для прочих. И возрыдаша он, узреша метину каинову на челе князя, но не поведал никому.
Тогда явися пред очес его некто светлый с крылами на спине и повелеша всем прочим о том поведать.
Но прахом словеса оные обернулись, ибо рек он им, но не слышали его, взывал он, но смеялись над им, взывал, но отвергали они глагол пламеный.
Из Суздальско-Филаретовской летописи 1236 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1817Глава 5 Хлопотное хозяйство
…русский народ, живущий в непосредственной близости с природой, сохранил и поддерживает связь с ее разумными силами и вовсе не вследствие некультурности, а по ежедневно наблюдаемым им фактам, так как в силу своей сметливости давно бы забросил так называемые предрассудки, если бы они не имели фактического основания.
А. В. ТрояновскийОкинув критическим взором князя, ведьмак буркнул:
— Хорошо тебе. Сиди и все дела верши. А у меня хозяйство в запустении, покамест я тут тебя караулю. Ежели бы не должок Всеведу — ни в жисть бы не согласился близ тебя как на привязи сидеть.
— Мы же с тобой катаемся постоянно, — резонно возразил Константин и красноречиво развел руками.
Мол, от меня ничего не зависит, и вообще я тебя не держу.
— Ну да, — понял Маньяк. — Я не я, и хатка не моя.
— Правильно понял, — подтвердил Константин. — Я тебя хоть сейчас отпущу. И вообще, по-моему, Всевед не прав. Ну, чем ты мне поможешь, ежели что случится.
— Всевед знает. Коль повелел — значится, могу подсобить. И потом, ты ведь спишь себе да спишь, а я в это время близ тебя сижу и все чую. Хлад в тебе каждую ночь возится. Ежели тебе не пособлять, ему только слабину дай на одну-две ночи, и невесть что может приключиться, — вздохнул ведьмак.
Константин спорить не стал. Ни к чему обижать человека, гм, пускай даже не совсем человека, который, тем не менее, честно соблюдает данное им слово и выполняет причуду волхва, неотступно сопровождая князя всюду, куда бы тот ни ездил. На него и так вся дворня непонимающе косится, а Епифан из ревности так и вовсе живьем готов проглотить.
— А хозяйство в разор приходит, — упрямо повторил Маньяк и хитро покосился на князя. — Ведьмы мои без присмотру поди и вовсе всякий стыд потеряли. Уже и до меня вести докатились, будто всякая нечисть голову подняла.
— А и вправду слыхал я что-то такое. Про Кривули, кажется, говорили.
— Во-во, самое логово и есть в Кривулях. Сразу две там живут. Площица постарше, да поспокойнее — с ней хлопот мало было, даром, что ее так прозвали[58]. А вот Васка окаянная…
— Васка — это кто? — деликатно уточнил князь.
— Как это кто? — даже удивился ведьмак столь наивному вопросу. — Она самая ведьма и есть. Это я ее так прозываю, а сама она себя Вассой кличет.
— А-а-а, — вежливо кивнул Константин, с трудом сдерживая зевоту.
Года два назад он непременно с пеной у рта принялся бы доказывать, что ведьм вообще не существует, стал бы объяснять, что есть лишь больные женщины, которые впадают в транс, считая, что верхом на метле улетают на шабаш, где творят что хотят — каждая в меру своей фантазии.
Вот только раньше не было в его жизни страшного и загадочного Хлада, не общался он с водяным, выпрашивая у него Ростиславу. Хотя был ли то водяной? Может, это начинающаяся болезнь спровоцировала галлюцинацию? А что — запросто. Тело же княгини просто случайно всплыло, и так уж совпало — принесло его к тому месту, где находился князь. Или даже не случайно оно всплыло. Ведь в старину частенько при поисках утопленников применяли пушки, и от громкого звука тела всплывали на поверхность. Их что, тоже водяной отдавал, чтоб его не будили?! А он, Константин, палкой лупил по воде что есть мочи. Это же физика обыкновенная, и ничего больше.
С другой стороны, даже если откинуть водяного в сторону, непочтительно обозвав его глюком, все равно оставался Хлад. Его-то уж никакой физикой точно объяснить не удастся.
А если как следует подумать, то и не он один. Те же подарки мертвых волхвов — это как? Над ним и впрямь в Ряжске, за секунды до того, как стрела отравленная прилетела, белый ворон кружился. Это какая же биология такой феномен разъяснить сумеет? А перстень с камнем, который цвет свой от соприкосновения с ядами меняет, — его какой химией объяснить получится?
Опять же к водяному ему кто посоветовал обратиться — берегиня. А с ней что — ботаника? И если все это в кучу собрать, то под ее тяжестью и физика, и химия, и прочие науки попросту задохнутся, а все равно ничего поделать не смогут.
Да и вообще, как очень мудро еще Шекспир устами своего Гамлета сказал: «Есть в мире много, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам».
И все-таки существование ведьм нынешний Константин хоть и не отвергал решительно, но все равно оставлял под вопросом. Ну как-то не укладывалось у него в голове, что при помощи обычных слов, соединенных в строго определенном порядке в предложения, можно наложить на человека порчу, наслать болезнь, присушить к нелюбимой или, наоборот, оттолкнуть от ненаглядной, да мало ли что еще.
То есть теперь он больше склонялся к компромиссу, полагая, что, скорее всего, имеются люди, которых называют колдунами и ведьмами за то, что они могут такое, что не под силу обычному человеку. Однако слухи и рассказы об их способностях весьма и весьма раздуты.
Он и в могуществе ведьмака изрядно сомневался. Да, без сомнения, Маньяк и впрямь обладал какими-то свойствами гипнотизера, и достаточно сильного. Сумел же он как-то подсобить той девке со сломанной ногой, когда они зимой возвращались из новгородских лесов — прямо маг и волшебник. А во всем остальном, особенно в его способностях быть при необходимости оборотнем, в умении управлять пчелами, разгонять в небе тучи… гм… извините. Хотя нет, про тучи он убедиться как-то раз успел — была возможность. Да и про пчел тоже — сам просил его показать. А вот в оборотня ведьмак оборачиваться не стал, сославшись на то, что у него тогда на самого князя силенок не останется, чтоб подсобить в случае нужды.
То есть полной веры у него еще не было, но и бодрого отрицания уже не получалось — факты, увиденные собственными глазами, знаете ли, вещь упрямая. Словом, теперь в нем преобладал здоровый скептицизм с определенным допуском веры во все, что он видел воочию. Но не говорить же Маньяку обо всем этом — еще обидится. Тем более что от клятвы своей тот все равно не отступится и свой срок до осени отсидит возле Константина честно, но будет ходить и дуться. А обиженный ведьмак — зрелище еще то.
Это Константин хорошо понял, причем уже давно — имел такую возможность во время своих поездок. Вот, помнится, как-то раз, спустя день с тех пор, как он впервые повстречал Ростиславу… Или это произошло через два дня? Нет, точно через день. Он тогда ляпнул что-то, не подумав, поскольку вообще ни о чем не думал и ничего не соображал. Ох, что было, что было…
Но тут Константин неожиданно поймал себя на мысли, что давным-давно, едва только начав вспоминать любой эпизод той поездки, он четко делит их на два этапа — до и после встречи с Ростиславой. Тверь миновали на следующий день после встречи с нею, Торжок — за день до свидания и так далее.
Вся война с владимиро-суздальскими князьями тоже практически не помнилась, разве что Коломна. А потом сразу его шатер возле Переяславля-Залесского, а в нем неожиданная, но такая долгожданная гостья — ОНА.
И тут же мрачной черной тенью вода Плещеева озера, его отчаяние и его радость. А еще последующее утро. Это было, пожалуй, его самое любимое воспоминание. Да еще ее поцелуй перед отъездом — нежный, страстный и в то же время такой целомудренный.
И вновь в памяти возникали нежные черты лица переяславской княгини, ее тонкий носик, ее изогнутые ресницы, настолько длинные, что таких Константин ни разу в жизни не встречал. А еще глаза. Глаза вообще вспоминались в первую очередь. Впрочем, во вторую тоже. И в третью. И в…
«Да что же это такое, — рассердился он. — Ну когда ж она улетучится из памяти?! Сколько можно терпеть?! Пора бы запомнить, что она жена моего заклятого врага — и точка! Неужели непонятно, что все воспоминания о ней надо собрать в один большой узел и… Ну, пусть даже не выкинуть — все равно ничего не получится, но спрятать подальше. Так сказать, приберечь до лучших времен».
И он грустно вздохнул.
Печальный княжеский вздох Маньяк явно отнес на свой счет и, приободрившись, перешел к изложению сути своего дела.
— Ай и впрямь подсобить бы согласился? — осторожно осведомился он.
«Наверное, денег хочет», — мелькнуло в голове, и Константин бездумно ляпнул:
— Ну конечно.
— Тогда, стало быть, так, — заторопился ведьмак. — Дабы роту, коя мною Всеведу дана, не порушить и мне со всем управиться, я вот чего удумал. Надобно нам с тобой вдвоем пойти в Кривули. Я бы мигом управился. А всем, кто спрашивать будет, скажу, будто ты братан мой двухродный и пришел задницу[59] поделить по-честному. Ну, там, скажем, гривенок пять. Все поверят, не сумлевайся. Так ты, княже, как — согласный?
— Гривны? — очнулся Константин.
Добрую половину речи ведьмака он еще витал в грезах и потому не услышал, но не сознаваться же ему в этом. Обиженный Маньяк — это… Впрочем, он уже говорил.
— А что гривны? — и князь пренебрежительно махнул рукой. — Конечно, согласный я. Об чем речь. И вообще, дружище Маньяк, не в гривнах счастье. Уж ты мне поверь.
— Вот и ладно, вот и славно, — засуетился ведьмак. — Стало быть, завтра поутру и выйдем вместях. Там, правда, Веселый лес на пути встретится, ну да мы с тобой его засветло минуем, чтоб, значится, спокойнее было.
— Стоп! Какое завтра? Какой еще веселый лес? Какое вместях? Ты о гривнах говорил — я их тебе дам, а чтоб вместях — не было такого уговора! — завопил Константин, понявший, что его надули.
— Поздно, князюшка, — радостно осклабился Маньяк. — Ты роту мне дал, а теперь хочешь свое слово назад взять?
— Хочу, — простодушно заявил Константин.
— А я не отдам, — издевательски ухмылялся Маньяк. — Ты слово кому дал, мне?
— Ну.
— А раз так, то оно ныне мое стало. Я сам твою речь слыхал у половецкого хана. Там ты именно так сказывал. Так что теперь я что хочу с твоим словом, то и сотворю. Восхочу — назад верну, а коли нет, то…
— А ты не хочешь? — вопрос прозвучал столь жалобно, почти по-детски — уж больно выходной образовавшийся терять не хотелось, что ведьмак, сокрушенно вздохнув, махнул рукой:
— Да забирай, чего там. Сказал бы сразу, что Веселого леса испужался, а то…
— Ничего я не испужался, — передразнил его Константин. — Просто дел много. И что уж тебе так приспичило?
— Именно что приспичило, — буркнул Маньяк. — Я же давно чую — неладно там. А ныне, прямо с утра самого, и вовсе шибко неладно стало, — и, решив, что еще есть шанс уговорить, зачастил: — А ежели ты про Веселый лес чего думаешь, так я же сказываю — засветло мы его пройдем, а днем там завсегда тихо, — но, подумав, честно уточнил: — Почти завсегда.
— Да не боюсь я твоей нечисти, тем более что не очень-то верю в нее. Может, и есть там, конечно, что-то загадочное, — тут же поправился он. — Но не до такой уж степени, как ты мне тут расписываешь. И вообще, мне что днем, что ночью — все едино. Только дел много. И так не успеваю.
— Так оно все поначалу храбрость свою кажут. Грудь колесом, мол, князь я, не по чину мне страшиться. А как до опушки дойдут, хоть и засветло — глядь, а порты-то мокрые.
— Ну ты и хам, — вынес вердикт Константин.
— Это кто ж такой? — подозрительно уставился на князя ведьмак. — Обозвал ты меня, что ли?
— Ну, это человек… который… который всегда правду в глаза князьям говорит, — нашелся Константин.
— А-а-а, ну это ты верно сказал, я хам, — охотно согласился Маньяк. — А Веселого леса не ты один страшишься — многие пужаются. Я и сам-то его боюсь. Там и тропинки-то почти позарастали — больно мало народу ходит. А еще меньше выходят, — сразу уточнил он. — Так что про пужливость я не в зазор тебе сказал.
— Да ты и мертвого уболтаешь, — не выдержал Константин. — Такие страсти-мордасти напустил, что меня и впрямь интерес разобрал. А сколько тебе дней надо?
— Да три, от силы четыре.
— Три дня, не больше. Согласен, но с условием, что через твой Веселый лес только ночью пойдем.
— И не боишься? — вытаращил глаза Маньяк.
— Сказал же, что нет. Значит, завтра поутру и поедем.
— Токмо до рощицы, — предупредил ведьмак. — А там коней стреножим и чрез лужок аккурат к лесу выйдем. А то ведь в Веселом больно коней не любят. С ими, да еще ночью, чрез Веселый соваться — лучше сразу самому в домовину залезть.
— Хорошо, — согласился Константин и на это условие. — Но гляди, Маньяк. Если ты мне там ни одной ведьмы и ни одного колдуна не покажешь…
— Как это не покажу, — возмутился ведьмак. — Там одна Васса чего стоит. Ох и зловредная баба. Опять же колдун матерый. Я с ним сколь годов ведаюсь. Я с ним бывалоча…
— Я спать пошел, — оборвал его воспоминания Константин. — Завтра рано вставать.
Небольшое сожаление у него, конечно, оставалось. Пропали выходные, как есть пропали. С другой стороны, любопытство разбирало — какими его чудесами Маньяк угостит? И вообще, что это за ведьмы такие и чего они там могут? За всю свою жизнь ему пока что так и не довелось хоть с одной пообщаться. Посмотреть бы — как они выглядят.
Вот про Веселый лес ему почему-то особо не думалось. Ну чего там-то необычного может быть: змеи кишмя кишат, зайцы из кустов на людей прыгают или медведи на деревьях гнезда вьют? Может, и имеются какие-нибудь необъяснимые аномалии, но это такая ерунда, а вот ведьмы — это и впрямь интересно…
* * *
— И ежели что, — на ходу инструктировал ведьмак постоянно зевающего князя, когда они, оставив коней у рощицы, уже вовсю топали по лужку, держа курс на чернеющий неподалеку лес. — Так ты не забудь, что ты братан мой, а ко мне заехал, дабы гривны поделить, что нам с тобой от деда достались. Ты взял с собой гривны-то? — Маньяк даже остановился.
Константин в ответ красноречиво похлопал себя по вместительным карманам, которые в ответ откликнулись чем-то мелодичным.
— И сколько там их звенит? — поинтересовался напарник князя.
— Десяток прихватил. Или больше надо было? — встревожился Константин.
— С ума сошел, — даже замахал руками Маньяк. — За глаза хватит. И того много.
Черная полоса леса постепенно становилась все ближе и ближе, неуклонно продолжая увеличиваться в размерах. Покосившись на нее, а затем — с опаской — на своего притихшего спутника, ведьмак решил слегка приободрить его перед предстоящим испытанием. За себя-то он не боялся — хаживал уже через него и не раз, когда днем, но чаще именно ночью, а вот князь мог по первости и глупостей натворить. А глупость в Веселом лесу особого сорта. От обычной она тем отличается, что первая зачастую может и последней стать. То есть допустить человек ее мог лишь один раз. Вторую попросту некому делать будет.
Откашлявшись, — не мастак он добрыми словами кидаться, ох не мастак, — Маньяк прервал затянувшуюся паузу:
— А ты ничего, сойдешь. Я тебе давно хотел это сказать, да все забывал как-то. Хоть и князь, а не дурак. И щедрый, и на шутку обиды не держишь, и сам за словцом острым в калиту не лезешь. Да и злость у тебя имеется, ежели надо. А что не ведаешь многого, так то никому не дано. На то у тебя я есть. Обучу, ежели что. Годишься в Веселый лес.
— Благодарствую на добром слове, — улыбнулся Константин, не зная, что еще ответить.
— Во-во, — вновь обрадовался Маньяк, — и нос не дерешь, и на правдивое слово обиды не таишь.
— Ты мне зубы не заговаривай, — засмеялся Константин.
— Это как? — даже возмутился Маньяк.
— А так. Проблуждаем в лесу до рассвета, а потом скажешь — ах, — князь комично прижал руки к груди, — опоздали, мол, мы, а посему не могу я тебе всех его чудес показать.
Ведьмак в ответ лишь хмыкнул:
— Все шуткуешь, княже.
Бодрое настроение спутника одновременно и радовало, и настораживало Маньяка. Смелость, конечно, всегда хороша, но только ежели в меру. Излишняя же порой может еще худший вред принести, чем трусость. Значит, надо бы ее пригасить как-то.
— Лучше моли бога, чтобы ты и впрямь всех его чудес не узрел, — проворчал ведьмак. — Лета твои молодые еще, а седина допрежь сроку никого не личила[60]. Это, знамо дело, ежели живот свой убережешь. — И замолчал, ускорив шаг.
Стало совсем темно. Впереди их мрачно ждал лес, сразу за которым должно было открыться селище под названием Кривули. Получило оно такое прозвище за то, что дома там были разбросаны как попало из-за холмистой местности.
Константин знал про это село, даже проезжал мимо него, когда ездил к Пронску осматривать свои южные владения.
«Деревня как деревня», — недоумевал он, постепенно начиная вновь считать всю затею пустой блажью Маньяка.
Константин осторожно покосился в его сторону, опасаясь, что тот умеет читать мысли и сейчас возьмет и обидится за столь явно высказываемое недоверие. Однако Маньяк по-прежнему бодро шествовал по густой траве, сырой от выпавшей росы, и было не похоже, чтобы он хоть что-то уловил из мысленной крамолы князя.
Но молча шагать было скучно, и Константин поинтересовался для затравки беседы, как это Маньяк не боится заплутать в ночи, когда никаких ориентиров кругом не видно, за исключением леса, который чересчур велик, чтобы, выйдя на него в кромешной тьме, попасть на нужную тропку.
— Ты ж у себя в тереме не плутаешь? — вопросом на вопрос ответил Маньяк. — Вот и я так же, токмо тут.
— А почему нам надо к заутрене успеть? — осторожно поинтересовался Константин. — Кто в церковь не пошел, тот и колдун, так, что ли.
— Они тоже не дураки. Опасаются, — пояснил Маньяк. — Так что в церкву на светлую заутреню завсегда идут, вот токмо к алтарю спиной поворачиваются во время службы. На том их сразу и видно.
— Но этого же не утаишь, стало быть, видят все. Для колдуна еще хуже получится.
— Да ничего не получится, — перебил его досадливо Маньяк. — Никто не видит, как он спиной к алтарю стоит, потому как морок напускает.
— Прямо в церкви? — удивился Константин.
— Подумаешь, — насмешливо хмыкнул его собеседник. — Да ежели хочешь знать, то по ночам что церкви, что часовенки всякие — самое любимое место для нечисти. Ты про колокольного мужика[61] слыхал?
Константин повинился, что ни разу не доводилось.
— Ну и напарничка мне Перун послал, — ехидно заметил Маньяк и кратко рассказал про очередную нечисть, заверив под конец, что сам он видел его лишь два раза, после чего тот больше жителей этой деревни не беспокоил.
— А про болотника тебе ведомо? — не унимался Маньяк, явно гордясь своими познаниями.
Константин уныло вздохнул.
— Наверное, он на болоте живет? — робко предположил, ориентируясь по названию.
— Точно, на болоте. А более всего любит не в мужика простого али там в купца какого, а в монаха оборачиваться. Сам седой, а лицо желтое такое и широкое. Кто ему доверится, того он прямо в трясину и заманит. А как ему не поверить — монах ведь.
За разговорами дошли до леса. Темнота сразу сгустилась, став какой-то мрачной и враждебной.
— А обходной дороги нет? — поинтересовался Константин как бы невзначай, не желая показаться трусом и в то же время инстинктивно чувствуя впереди что-то страшное и злобное.
Маньяк вновь забежал вперед, остановился и пристально посмотрел на князя, а потом, как ни странно, похвалил его:
— А ты молодец. Чуешь. Теперь веришь, что я тебе правду сказывал, будто здесь нечисть развелась за последние лета? Ну ладно. Ты сейчас со мной, так что не боись. А что опаску имеешь — в том стыда нету. Это даже хорошо. Сторожиться[62] в любом деле надобно, а кое незнаемо — тем паче. Токмо с умом.
— А с умом это как?
— Воли своей опаске не давать, — пояснил Маньяк. — В руках ее держать. Зажал и держи — пущай попискивает, знак подает, чтоб сторожился, значит. А ежели отпустить страх свой, так он такой вой подымет, что от единого его крику на край света убежишь. Знаешь что, — решил Маньяк, снова прибегнув к излюбленному методу размышления и вволю начесав свой затылок. — Ты меня за руку держи. Тут тропка ровная, да на ней как ночь, так всяких веток да сучьев видимо-невидимо появляется. Лешак балует, — пояснил он буднично.
— Неудобно как-то. Что я, дите малое, — усомнился Константин.
— Зато, ежели один споткнется, другой упасть не даст. А то я жуть какой спотыкучий, — пожаловался Маньяк, проявив несвойственную ему деликатность и великодушно делая себя крайним.
Шита была эта ложь белыми нитками, но зато неудобство и стыд у Константина почти пропали, и он, крепко ухватив за руку своего опытного товарища, устремился было вперед, но ведьмак его вновь притормозил.
— Тут вот еще что, — голос напарника звучал тихо, но отчетливо. — Ежели чуешь, что падаешь, то на тропку старайся брякнуться. А голоса заслышишь — ответа не давай. Надо будет, я сам с ними речь вести стану. И вообще помалкивай. Иное как раз на голос человеческий идет. Да и сам лес не больно-то его любит.
— Понял, — только и ответил Константин, и они вновь двинулись в путь.
Шли не быстро, но и не медленно, спокойным ровным, шагом, почти без остановок. Спотыкаться и впрямь доводилось, но все больше Константину. Правда, до падения дело не доходило. Крепкая рука Маньяка надежно удерживала князя от вспахивания носом лесной травы.
— Дивись, княже, на Белое Пятно, — еле слышным шепотом произнес ведьмак, остановившись и указывая куда-то влево. — Страшное оно. С виду так себе, но все сжирает бесследно и даже костей не выплевывает. Зверь ли, человек ли — ему все едино. Одно хорошо — с места почти что не сдвигается. Тут главное — близко к нему не подходить, и все хорошо будет.
Константин пригляделся повнимательнее и чуть не ахнул. Метрах в двадцати от него белело то самое… веретено, которое почти год назад чуть не утащило его вместе с друзьями обратно в двадцатый век. Ну точно оно — и форма совпадает, и цвет, и вращается немного, причем с такой же скоростью. Словом, абсолютное сходство.
— Господи, как же так-то? — растерянно прошептал он.
— А вот его имечко ты лучше здесь не поминай, — сразу остерег Маньяк. — Очень уж они этого не любят.
— Кто они? — уточнил князь.
— Местные, что здесь живут, — пояснил ведьмак.
— Пугаются? — осведомился Константин.
— Если бы, — недобро ухмыльнулся Маньяк. — Скорее звереют. Злоба у них какая-то появляется, и ненависть тоже.
— К кому?
— Да к тому, кто сказал его.
— А… крест? — спросил князь и тут же опасливо — не забыл ли надеть — нащупал его на груди, под рубахой.
Скепсис его с каждой минутой отползал куда-то вглубь, а свободное место заполнялось уверенностью, что здесь, в этих местах, и впрямь возможно все, и даже еще чуточку сверху. Подумалось также, что лучше, наверное, крест наружу вытащить, тогда и толку с него больше будет. Ведьмак молчал, и Константин переспросил:
— Боятся они креста?
— Ты же не святой, — лаконично ответил Маньяк. — Тут главное, чтобы вера была о-го-го. А так с него проку… — Он, не договорив, пренебрежительно махнул рукой и скомандовал все тем же еле слышным шепотом: — Ну, пошли. Самое страшное пройти осталось, — и предупредил: — И молчи, главное, княже. Чтоб ни узрел — молчи. Тогда спасешься.
Они двинулись дальше. Тропинку, совершенно невидимую в кромешной тьме, Маньяк каким-то чудом угадывал, но об узловатые корневища, которые то и дело попадались Константину под ноги, князь по-прежнему спотыкался столь же часто, каждый раз с трудом удерживая равновесие.
Споткнувшись в очередной раз, Константин взвыл от боли и чертыхнулся вполголоса. Маньяк угрожающе засопел, но ничего не сказал, зато немного впереди тут же послышались голоса. Звучали они неразборчиво, и ни одного слова нельзя было понять. Оба путника застыли на месте. Голоса понемногу приближались. Было в них что-то настолько злобное, что у Константина даже мурашки по коже побежали.
Он послушно стоял рядом с Маньяком, хотя больше всего ему хотелось пуститься бежать куда-нибудь сломя голову, чтобы только их не слышать. Стараясь не то чтобы не шевелиться, а и вовсе не дышать, Константин заметил еле видимые глазу даже не силуэты, а блеклые контуры приближающихся низкорослых фигур. Выглядели они скорее пародией на человека, жуткой и отвратительной. Было их немного — пять или шесть, но шли они как бы врассыпную, занимаясь своего рода прочесыванием местности, чтобы никто из встретившихся не смог уже ускользнуть куда-либо в сторону.
Маньяк зачем-то помахал свободной рукой, чертя в воздухе замысловатые знаки, и две самые ближние и шедшие прямо на путников фигуры неожиданно повернули в стороны, продолжая двигаться в известном только им одним направлении. Текли минуты, каждая из которых казалась вечностью, но Константин продолжал стоять неподвижно, повинуясь удерживающей его на месте руке Маньяка.
Наконец голоса стали стихать, явно удаляясь. Теперь в них, помимо злобы, слышалась еще и легкая примесь разочарования. Вскоре все смолкло. Однако Маньяк не торопился. Лишь выждав зачем-то еще пару минут, он легонько потянул князя за руку, давая понять, что можно двигаться вперед.
Всю оставшуюся дорогу вплоть до выхода из леса напарник Константина только мрачно сопел, давая понять, что княжий промах зафиксирован и взбучки не миновать. Едва они вышли на опушку, где их уже встретил тусклым светом бледный рассвет, Маньяк дал волю столь долго сдерживаемым чувствам.
— Княже, — начал он многозначительно, причем даже это стандартное обращение звучало как неприличное ругательство, столько было вложено в него злости и презрения к некоему неумехе. — Это тебе не по Рязани своей шляться, — последнее слово было произнесено с еще большей злостью и сарказмом: — Это Веселый лес. ВЕ-СЕ-ЛЫЙ, — почти по складам многозначительно повторил ведьмак. — Он тишину любит. А ежели погорланить хочется, так сразу бы и перся туда один. Мне-то почто с тобой вместях пропадать. Тебе и нечисти особливо не надо — дикиньких мужичков[63] за глаза хватило бы. Ну и напарничком Всевед одарил! С таким… А ежели бы меня рядом не было — что тогда?
— Тогда и меня в этом лесу не было бы, — резонно возразил Константин. — Тем более ночью.
Крыть было нечем. Маньяк хотел было все-таки сказать еще кое-что, но, глянув на Константина, лишь довольно расхохотался.
— А что, напужался, княже?
— Да было маленько, — улыбнулся смущенно Константин.
— Маленько, — протянул насмешливо Маньяк. — Ежели бы я тебя за руку не держал, то такого бы деру дал куда глаза глядят…
— Это точно, — подтвердил Константин.
— А знаешь, сколько пробежал бы? Сажен десять, не более. От них не уйти. Тут спасенье одно — на месте стоять. Ну-ну, ничего, — ободрил он под конец и вновь нашел повод для похвалы: — А что честно мне тут о страхе поведал — то славно. Это я люблю. Не забоялся, что на смех подыму.
— Да такое и не скроешь, как бы ни хотел, — пожал плечами Константин.
— Это еще нам с тобой свезло непомерно. Одна только мелочь на пути попадалась, — заметил ведьмак. — Вот если бы Одноглазый Медведь навстречу вышел, то тут молчи — не молчи, бесполезно. Одно лишь спасение — на дерево залезть и рассвета дождаться.
— А он следом не полезет? — хмуро уточнил князь.
— Тю на тебя, — удивился Маньяк. — Это ж медведь, а не белка.
— Но он же одноглазый и из Веселого леса.
— Да нет. Все равно не полезет, — уже с меньшей уверенностью в голосе ответил ведьмак и снова оживился. — Жаль, что Хромое дерево показать не удалось. Дрыхло, видать. Ловкое оно — страсть. А коль нам…
— А зачем ты, зная все это, потащил меня сюда, да еще ночью? — перебил его возмущенный Константин.
— Так ты же сам просил, — несколько растерянно заметил Маньяк. — Вот и поглядел, — и ехидно поинтересовался: — Теперь-то ты совсем веришь или как прежде — не больно-то? А то, если хочешь, вернемся и еще раз прогуляемся?
Усмешка на его лице из ехидной переросла в откровенно издевательскую.
— Нет, — быстро выпалил Константин. — Для первого раза за глаза хватит, — и тут же постарался поменять тему разговора, уж очень щекотливой она была: — Кстати, а почему ты про Веселый лес сразу начал говорить? В те же Кривули, насколько я помню, и со стороны Прони можно попасть. Или на реке тоже что-то такое имеется?
— Это ты верно про реку спросил. По ней до самой деревни и впрямь путь чист. Но я в Кривули завсегда токмо через Веселый лес хаживаю. Так уж повелось. С ведьмами моими сила нужна великая, — пояснил Маньяк. — Они знать должны, что по сравненью со мной — ничто и никто, иначе им и вовсе удержу не будет. А Веселый лес всем плох, но силов тем, кто через него идет, особливо ночью, добавляет щедро, не скупится. Сам-то разве не чуешь?
Константин легонько пошевелил плечами, потряс головой и наконец сознался:
— Да нет. Ничего необычного не ощущаю.
— А легкость в теле, бодрость?.. — продолжал допытываться ведьмак.
— Это есть. Но при чем тут лес?
— Да все при том, княже. У тебя за плечами ночь бессонная, а кажется, что ты готов и еще одну не спать, так?
— Вообще-то да, — неуверенно ответил князь.
— То-то и оно. Это лес тебе дал. Можно было бы и днем идти — хоть и поменьше, но все равно бы силенок подкинули. Только давно я там не был, в Кривулях-то, вот и решил, что лишку прихватить не помешает. Опять же тебе кой-какие чудеса показал, хоть и маловато. Ну да ладно. Отдышались и будя. Чего стоять-то без толку. Пошли, что ли, — предложил Маньяк, и они двинулись дальше.
Хаотично раскинувшиеся деревенские дома, беспорядочно наляпанные тут и там, открылись перед путниками уже за следующим пригорком.
Вовсю посвистывали птицы. Рассвет постепенно наполнился густыми красками грядущего солнечного дня: сочной зеленью листвы, яркой синевой неба, разноцветьем просыпающихся луговых цветов.
Тропинка, все так же причудливо извиваясь, не спеша вела Константина и Маньяка вглубь начинающей постепенно просыпаться деревни. Полусонные хозяйки уже выгоняли своих кормилиц, ловко сбиваемых ударами кнута в послушное стадо вихрастым молодым пастухом. Отчаянно голосили петухи, пытаясь перекричать друг дружку… Словом, ничто не напоминало ужас, только что пережитый ими в лесу.
Константину стало как-то весело и радостно и тоже захотелось заорать во весь голос что-то звонкое и дурашливое, но он усилием воли сдержал себя, а чтобы слегка сбить настроение, принялся глядеть по сторонам, выискивая церковь. Та, невысокая и старенькая, виднелась на одном из самых высоких пригорков. Легкий ветерок, тихонько подтолкнувший их в спину, как бы пригласил обоих на утреннюю молитву, которая должна была начаться с минуты на минуту.
— Самое время водицы испить, — хладнокровно буркнул Маньяк, останавливаясь у придорожного журавля[64] и вовсе не торопясь к цели их путешествия.
Когда он уже вытянул из сруба бревенчатую бадейку, все его движения вдруг почему-то как-то резко замедлились. Руки продолжали работать сноровисто и плавно, но глаза ведьмака не отрываясь следили за одним из домов, стоящим поодаль, почти у самого края деревни и имеющим неряшливый и запущенный вид. Достав наконец воду, он долго прицеливался, с какого края лучше напиться, затем предложил Константину.
Едва тот пригубил, как Маньяк лениво заметил:
— А вот и колдун глаза продрал, — и тут же успокоил князя: — Да ты пей-пей, не спеши. Нам после его в церкву входить надо.
Так и случилось. Когда они с Маньяком зашли вовнутрь тесно набитой народом церквушки, служба уже была в разгаре. Не обращая особого внимания на толпу, Маньяк плавно стал пробираться вглубь, таща за собой князя. Затем напарник Константина резко затормозил свое движение и пристроился сбоку возле какого-то лохматого и нечесаного заспанного мужика весьма преклонных лет.
С минуту оба — и Маньяк, и Константин — усердно изображали прихожан, слушающих священника, а затем ведьмак сунул в руки князю небольшой рябиновый прут. Будучи заранее проинструктирован, Константин незаметно коснулся им стоящего рядом мужика и от неожиданности чуть не отпрянул в сторону. Их сосед, с виду ничем не отличавшийся от прочих молящихся, едва его коснулся рябиновый прут, оказался вдруг стоящим спиной к основному иконостасу. Константин убрал прут, и мужик в ту же секунду вновь перестал чем-либо отличаться от прочих прихожан. Голова его, как и положено, была устремлена в сторону алтаря, губы шевелились, будто повторяли читаемую молитву, а взгляд глубоко посаженных глаз был безбоязненно устремлен прямо на грубо намалеванного Христа.
Константин еще раз прижал прут к рукаву длинного овчинного полушубка и вновь не поверил своим глазам. Все оставалось таким же, но мужик был обращен к Исусу[65] затылком. И снова, после того как князь отнял рябиновую веточку, старик увиделся ему сосредоточенно молящимся, как и все прочие.
— Угомонись, — буркнул ему еле слышно в ухо Маньяк, которому уже наскучила княжеская забава.
— А когда я его касаюсь, почему никто не удивляется? — также шепотом спросил Константин ведьмака.
— Да потому, что морок исчезает токмо у того, кто прут держит, — ответил Маньяк. — К тому же слова заветные знать надобно, так что ты без меня и не пытайся даже — все равно ничего не выйдет.
— Так ты ничего и не заметил, — удивился Константин.
— А на меня морок вовсе силы не имеет, — ухмыльнулся ведьмак.
Они выстояли еще минут десять в душном помещении и вышли, с наслаждением вдыхая утренний воздух, еще не утративший до конца ночной свежести и несущий в себе влажность полноводной реки Прони, так же как и лес, огибающей деревню, только с противоположной стороны.
— Ежели ты мыслишь, что про этого колдуна одни мы с тобой ведаем, то зазря, — буднично проинформировал князя ведьмак. — Его все в деревне знают.
— И терпят? — удивился Константин. — Он же им гадости творит каждый день, а они все сносят?
— Не токмо гадости, — пожал плечами Маньяк. — И не каждый день. А ежели и творит, то лишь тому, кто этого и впрямь заслуживает.
Выдержав паузу, ведьмак предложил:
— Ежели гривны не жаль — можем на свадьбу зайти. Пора ноне неурочная[66], но здешнему тиуну наплевать. Рад радешенек, что нашел дурака и дочку-перестарку с рук сбывает…
— А перестарке этой сколько годков-то? — поинтересовался Константин.
— Да без двух лет три десятка, — усмехнулся ведьмак. — Ну что, пойдем?
— А нас ведь не приглашали? — усомнился князь.
— Тю на тебя. Я же сам тиун в Приозерье. Мы со здешним добре знаемся. Он и за меня ее сосватать пытался, да токмо мне лучше сразу камень на шею да в омут головой.
— Что так?
— А выгоднее, — простодушно пояснил Маньяк. — В воде я ведь недолго промучаюсь. Нахлебался, да и дело с концами. А тут всю жизнь тебя пилить будут. Ну так что, идем? Я ему, правда, не обещался, но коль такое дело…
— Идем, — согласился Константин.
— Ну и ладно. Там и заночуем. Да гляди, ныне ночью снова спать не придется.
— Потерплю, — коротко отозвался князь.
— Тогда допреж тиуна нам еще кое-куда заскочить надобно, — засуетился ведьмак.
— Тоже к знакомым?
— Ну да, к ним, окаянным, — кивнул головой Маньяк, не став пояснять, что это за знакомые.
Они прошли полдеревни, пока не дошли до места. Знакомые ведьмака жили в относительно приличном домике, радующем глаз свежим частоколом забора и задиристым коньком на гребне соломенной крыши.
Стучаться Маньяк не стал — просто толкнул входную дверь, и она сразу открылась, пропуская путников в узкие сенцы и обдавая удушливым ароматом подсыхающих трав, увязанных в ладные пучочки и заботливо развешанных на конопляной веревке на уровне верхнего венца. Потолка сени не имели, как, впрочем, и само жилое помещение, в которое они зашли чуть погодя.
Едва Константин, шедший вторым, перешагнул через низенький порог, как услышал беспрерывные жалобные стоны, раздавшиеся из-под кучи тряпья, хаотично наваленного на лавку в дальнем углу.
Свет, еле пробившийся сквозь мутные слюдяные оконца, позволял только разглядеть, что под этой кучей кто-то шевелился, но кто именно…
Маньяк, встав рядом с лавкой, недовольно морщился, глядя на это копошение.
— И давно ты так валяешься, Васса? — грубоватым тоном осведомился он.
Константин подошел поближе и увидел лежащую под кучей тряпья молодую темноволосую женщину, болезненно охавшую и держащуюся правой рукой за свой бок.
— Дай-ка подивлюсь, что там такое. — Ведьмак убрал ее руку и, осторожно заголив юбку, аж присвистнул, увидев страшный ожог, сплошной широкой полосой идущий почти от колена и заканчивающийся у самой талии.
— И кто ж так тебя?
— Не ведаю я. Подперли баню поленом да подожгли, — плачущим голосом отозвалась женщина.
— А за что? — не унимался Маньяк.
— Тоже не ведаю.
— И молока не выдаивала у коров?
— Чай я еще в своем уме-то.
— А порчу наводила? Напуск[67], относ[68] делала? — продолжал свой суровый допрос ведьмак.
— Ей помочь надо, а ты тут разговоры ведешь, — не выдержав, вмешался Константин.
— Погоди, — буркнул недовольно Маньяк. — Ты со стороны груди не видал, — и поинтересовался у женщины: — На вилы-то ты где ухитрилась напороться?
— Подставили мне их, когда я земляным ходом из бани уходила. Прямо на выходе. Да так ловко, что непременно угодишь. Вот я и…
— До дыхалки дошли, — мрачно заметил ведьмак князю. — Вона как у нее руда на губах пузырями идет. — И мрачно констатировал: — Ничем уже не пособить.
— Хоть бы водицы дал испить в мой смертельный час, — пожаловалась женщина, не переставая все время стонать и охать.
— Водицы можно, — кивнул ведьмак и степенно пошел в сени.
Едва он ушел, как женщина зашептала жалобно, обращаясь к Константину:
— А прими-ка у меня, добрый человек, куны да снеси их на помин моей грешной души в церкву.
Она вяло пошарила рукой под своим тряпьем и протянула князю сжатые в кулаке деньги. Константин подставил ладонь, но в это же самое мгновение невесть откуда взявшийся Маньяк с силой ударил по протянутой руке, и три медные монетки, сиротливо звякнув, раскатились по земляному полу жилища.
— Ты что? — возмутился Константин. — Она просила их церкви отдать на помин своей души.
— Ну и змея же ты, Васса, — укоризненно заметил ведьмак, никак не отреагировав на княжеское негодование. — Одной ногой уже в могиле стоишь, а все туда же.
— Да ведь я уж второй день тут мучаюсь, — повысила голос женщина. — Первое время криком кричала — хоть бы какая живая душа явилась. Ты — первый. Сам ведаешь, сколь мне еще в муках тут валяться.
— Долго, — подтвердил ведьмак, по-прежнему не обращая на Константина ни малейшего внимания, и неожиданно предложил: — А хошь, подсоблю?
— Неужто и впрямь подсобишь — не побрезгуешь? — Васса с надеждой протянула руку к ведьмаку и вновь тяжело застонала, причинив себе боль этим резким движением.
— Ты меня знаешь. Мое слово крепкое. Но и ты должна мне роту дать.
— Что хошь сделаю, — тут же торопливо заверила женщина.
— Делать-то как раз и ничего не надо, — криво усмехнулся Маньяк. — Тут как раз иное требуется — чтобы ты ничего не делала. Лежи себе тихонько и о мести не помышляй.
— Да как же, — возмутилась Васса, и ее глаза с темными, почти черными зрачками налились слезами. — Они меня в могилу свели, а я, стало быть, как распятый[69], простить им должна.
— Как хошь, — пожал плечами ведьмак. — Тогда мы уходим. — И шагнул в сторону выхода.
— Погоди, погоди, — запричитала женщина. — Ну что ж так сразу-то? Подумать надо. Боюсь я, не удержаться мне от искуса.
— Клятву дашь, так удержишься, — заверил ее Маньяк и поторопил: — Думай скорее. Меня там на свадьбе ждут.
— У Хрипатого? — зло блеснула глазами Васса.
— У него, — подтвердил ведьмак и снова спросил: — Надумала?
— Надумала, — решительно кивнула она головой. — Болит — терпежу нет! А как подумаю, что еще цельную седмицу мучиться, то и вовсе страх берет. Надумала. — Она возвысила голос. — Коли судьба моя такая, стало быть… помучаюсь напоследок. Зато после отыграюсь сполна. А ты иди, иди отсель. Не мешай тут подыхать, как собаке, коя тебе сроду поперек дороги не вставала.
— А ты меня не жалоби, — хмуро усмехнулся ведьмак. — Ишь овечка божья выискалась. Кто над Куброй прошлым летом шутку пошутил, когда из парня оборотня сотворил?! А я тогда еще рек — угомонись, Васса. Он же так и поныне по лесу бродит, бедолага. И дорожку назад в селище отыскать не может. Да и отыскал бы ежели, так мужики бы дрекольем забили.
— А за что? — поинтересовался Константин.
Повернувшись к нему, ведьмак кратко пояснил:
— Сказано, в оборотня она его превратила. Волкодлак он теперь. Не зверь, не человек. От одного обличья она его оттолкнула, а ко второму тот сам не пришел. Зимой я его встречал разок, хлебца кинул. А он ест, а сам плачет, — голос ведьмака дрогнул. — Первый раз я видел, как у волка человечьи слезы из глаз льются.
— Кубра она кубра[70] и есть. Охальник. А ведомо ли тебе, Маньяк, как он меня ссильничать хотел?! А как бил, когда я не далась?! Насилу жива осталась. Почто он так со мной?
— Гм, — кашлянул ведьмак раздумчиво. — Ну, проучила молодца, а к зиме-то уж можно было и снять заклятье. Ныне-то хоть не балуй. Уйдешь в могилу, и он навечно в лесу останется. Ему ентого урока до конца жизни хватит. Отпусти душу бедолаги.
— А стреху разберешь, коль отпущу? — хрипло выдохнула Васса и закашлялась.
На губах ее вновь зарозовела пузырчатая пена.
— Разберу, — согласился Маньяк.
— Ну, тогда ладно, — выдохнула ведьма. — Без стрехи-то я более трех дней не должна промучиться.
Она закрыла глаза и тихо, еле слышно, начала творить заклятие.
Какие именно слова бормотала Васса, Константин так и не понял. Были они тягучие и нудные, как осенний дождь, веяло от них вечной ночью и нечеловеческим духом, звучали они глухо и влажно, как шаги в еловом омшанике. Не по себе от них стало не только князю. Константин заметил, как зябко передернул плечами Маньяк.
— Все, — закончила наконец говорить женщина и потребовала: — Теперь твоя очередь.
— Хорошо, — согласно кивнул головой ведьмак и предупредил ее: — Пока меня не будет, не вздумай ему хоть что-то дать, а то сызнова заколочу, да еще крепче, чем было, чтобы ты две седмицы здесь провалялась.
— Что ж я, не понимаю, что ли, — обиженно протянула женщина, но недоверчивый Маньяк, не обращая внимания на обещание Вассы, коротко предупредил князя:
— Давать будет хоть чего — не бери. Даже если пустую руку протянет.
— А если воды попросит? — уточнил Константин.
— То ты ей принесешь и подашь — это можно. Ей что хошь давай.
— А ты сам-то куда?..
— Сейчас вернусь. Она и впрямь долго мучиться будет, ежели крышу не разобрать хоть чуток. Топор-то у тебя где? — обратился он к Вассе.
— Тут был. У печки, — обрадованно залепетала-залебезила женщина.
Едва Ведьмак вышел, как Васса пожаловалась князю, сокрушенно охая и стеная громче прежнего:
— Оборотня ослобонил, а мне даже водицы вдугорядь не принес. Нутро все как огнем печет. Мил человек, принеси, а?
Константин нерешительно помялся, но, вспомнив, что Маньяк разрешил давать ей что угодно, встал и отправился за водой. Берестяной вместительный ковшик, в который даже на глазок влезало не менее литра, бедная Васса опростала чуть ли не в один глоток и уставилась благодарными глазами на Константина.
— Теперь и помирать можно, — она тяжело вздохнула, вновь закашлявшись, и спросила, отдышавшись: — А Маньяк-то в шутку тебя князем величал, али как?
— Нет, не в шутку, — кратко ответил Константин, поглядывая на бревенчатую крышу, которая тряслась под могучими ударами ведьмака.
— Многих я целовала в жизни, — слабо улыбнулась женщина. — И дружинники среди них бывали, один боярин даже. А вот князя не было. Дозволь, а?
Константин даже не сразу понял, что именно хочет от него умирающая.
— Что дозволить-то? — переспросил он.
— Поцелуй. Один-разъединый разок. Тогда уж мне помирать вовсе сладко будет. И на том свете в пекле вспоминать стану, как с князем целовалась.
Константин колебался. Женщина, конечно, умирает, возможно, это ее последнее желание, которое, как известно, закон, но уж больно неприятный запах источала ее уже гниющая кожа.
— Да ты не бойся, княже, — услышал он ее вкрадчивый шепот. — Ты только губы подставь, а я сама тебе поцелуй дам.
Решившись и стараясь не дышать, Константин встал с грубо сколоченной лавки, подошел к Вассе и склонился к ее лицу. После небольшой паузы женщина, потянувшаяся было к князю, вдруг с силой толкнула его рукой в грудь и, откинувшись на груду тряпья, застонала от боли.
— Вот тебе и поцелуйчик, — пробормотал Константин, отлетевший от увесистого толчка почти на середину тесной избы и с маху припечатавшийся об земляной пол. Приземление было не очень болезненным, поэтому он почти сразу же поднялся и недоуменно уставился на Вассу, которая через несколько секунд открыла помутневшие от боли глаза и зашептала:
— Что ж ты делаешь-то со мной? Я же тебе зубы заговаривала, княже. У меня и в мыслях не было, что ты поцеловать себя дозволишь. И чем ты только слушал, дурачок. — Она слабо улыбнулась и вытерла с губ розовую пену. — Я же ясно рекла — поцелуй тебе дам. Вместе с поцелуем ты все и забрал бы с меня.
— А что ж не дала?
— Дала бы, — взмахнула рукой женщина. — Непременно дала. Токмо после отказа твоего. Сказала бы, коль целовать не хошь, то дай еще водицы испить, и ковшик бы протянула. На, мол. И ты бы его взял у меня.
Константин представил себе, как бы это выглядело и как бы он поступил. Да, по всему выходило, что ковшик он у нее из рук обязательно бы взял.
— А ты на поцелуй согласился. А ведь я страшная стала. И вонь, поди, от мяса гниющего на всю избу стоит. Я-то притерпелась — не чую, а тебе, небось, муторно. А ты согласился. Выходит, ты своей добротой себя спас, — сделала краткий вывод Васса. — Прямо как распятый. Звать-то тебя как, княже?
— Константином, — вздохнул он.
— Погоди-ка. Это не тот ли уж ты князь, который, как нам тиун прошлым летом сказывал, убивцем братьев своих стал?
«Ну вот и сюда твоя слава долетела», — подумал Константин, но врать не стал.
— Тот самый, — подтвердил он.
— Тогда нам обоим в пекле жариться, — сделала вывод Васса, но тут же засомневалась: — Одначе, зрю я, уж больно ты добр. Может, заслужили они казнь такую?
— Может, и заслужили, — пожал плечами Константин. — Только я их не убивал. Не знаю, поверишь ли.
— А чего ж не поверить, — сразу же откликнулась женщина. — Я и по глазам вижу, что чист ты. Ведьму не обманешь.
— А ты и впрямь… ведьма?
— Не веришь? — Васса слабо улыбнулась и вкрадчиво предложила: — А ты возьми у меня из рук корец[71] и сам узнаешь.
Она протянула его князю, но тот даже не шелохнулся, чтобы его принять.
— Вот видишь. — Женщина вновь откинула голову на тряпье и продолжала говорить с закрытыми глазами: — Это потому, что у тебя разум с сердцем в разладе пребывают. Ум тебе взять не дает, а в сердце веры еще нету. Ну и ладно.
Вдруг раздался оглушительный треск, и сразу чуть ли не половина крыши дома обнажилась, щедро запуская вовнутрь яркий дневной свет и тепло жаркого летнего солнца. Часть изрядно сопревшей соломы и земли посыпалось прямо в хату. Через мгновение ведьмак и сам уже был в избе, ловко спрыгнув вниз через образовавшийся огромный проем.
— Ведьмак, милый, ведь мне еще не менее двух дней мучиться, — оживилась женщина, и глаза ее, полные смертной тоски, с надеждой уставились на Маньяка. — Подсоби, а? Ты же можешь, я знаю.
— А роту? — неуступчиво осведомился ведьмак.
— О том не проси, — упрямо качнула головой Васса. — Зато я оборотня отпустила. Нешто не заслужила?
— Не хитри, милая. Оборотня ты в обмен на крышу ослобонила, — погрозил ей пальцем Маньяк. — Я и так тебе на цельных три дня, не меньше, муки сократил, уход облегчив. Думаю, хватит с тебя. За остальные грехи придется муки принимать.
— Да какие там у меня грехи? — простонала Васса.
— Будто и не ведаешь. Вторяку порчу на волос в прошлом годе сделала?[72] А женкё его, Неждане, на след? А на яйцо? А самому тиуну на скотину его?
— Яйца я потом сама же и сжигала, так что нет на мне смертей, — возразила ведьма. — Да и к чему теперь старое вспоминать. Что было, то быльем поросло.
— Какое же это старое, когда я у тебя в сенях целых два пучка совсем свежей прикрыш-травы[73] видел. Выходит, и ты к тиуновской свадебке готовилась, а? И не боязно тебе было? А ну как она через порог бы перескочила? Думаешь, коль не живу я здесь, так и не знаю ничегошеньки? Так что все мне ведомо, красавица.
— Была красавица, да вся вышла, — горько усмехнулась Васса. — Это, поди, Тимофей Грибыч на меня ковы возвел. А не рассказывал он о своих-то делах? Может, я и пакостная, но на ветер порчу никогда не делала, а он… — и, не договорив, вновь жалобно попросила: — Подсоби, а? — Она закашлялась, и кровавая алая пена вновь выступила на ее губах.
Взгляд ее, наполненный нечеловеческой мукой, на одно мгновение задержался на князе, и Константин не выдержал:
— Ты бы и впрямь помог ей, Маньяк. Почто ей страдать так.
— Вот-вот, — оживилась женщина. — Я же и добрых дел невесть сколько в жизни сотворила.
— Это верно, — утвердительно качнул головой ведьмак. — Так ты всю жизнь и мечешься. День тебе шибко ярок, а ночь больно темна.
— Не я мечусь — люди меня сызмальства отшвыривали. Уж тебе-то ведомо. Вот я и озлобилась. А про ночь с днем ты верно сказал. Не по мне они. Я дочь сумерек, — прохрипела женщина, улыбаясь окровавленным ртом. — В сумерках лучшей всего. Они хоть и радостей настоящих не дают, зато у бед все цвета размывают.
— Кого обмануть хочешь? — хмыкнул ведьмак. — За сумерками завсегда ночь следует.
— Не всегда, — вмешался Константин, с жалостью глядя на умирающую. — Перед рассветом тоже поначалу сумерки бывают.
— Вот. — Глаза Вассы с невыразимой нежностью скользнули по лицу князя. — Даже полегчало малость от таких словов добрых. Надежой повеяло.
— Надежа будет, коли роту дашь, — неуступчиво поджал губы Маньяк.
Васса в ответ поджала губы и закрыла глаза.
— Не мучь ее, — тихо произнес Константин. — Чего уж тут. Помоги, чем можешь.
— Ну ладно, — согласился ведьмак. — Так и быть, подсоблю. Токмо ты сам не ведаешь, о чем просишь, княже. Она ведь, поди, и в свой остатний час ковы тут строила? Не пыталась тебе дать чего-нибудь, а, княже? — обернулся он к Константину. — А то я ее так оставлю лежать.
Глаза Вассы широко распахнулись, просительно потянувшись к князю, и жалобно впились в его лицо, умоляя не выдавать.
— Нет-нет, — забормотал Константин и, не желая врать, уточнил: — И я у нее ничего не брал, и она взять не просила. Только воды ей принес, и все.
— Это можно было, — снисходительно кивнул головой Маньяк и уточнил еще раз: — Стало быть, думаешь, надо ей подсобить?
— Если это в твоих силах, то надо, — твердо ответил Константин.
— Ну, пусть так и будет, — и, повернувшись к женщине, он сказал примирительно: — Ну, прощай, Васса. Много зла от тебя люди повидали, много и тебе причинили. Прости их всех в свой смертный час.
— Прощаю, — глухо, сквозь стиснутые зубы ответила женщина. — Но не всех.
— Не от души прощение твое, да и не полное оно, но уж ладно, — вздохнул ведьмак снисходительно. — И я тебя от имени их всех прощаю. Спи, бедолага. Эвон как умаялась. — И он ласково провел рукой по ее волосам. Дыхание Вассы тут же стало ровным и спокойным. Ковшик выпал из обмякшей руки на пол, а сама она даже расслабленно засопела.
— И усни навеки, — жестко произнес Маньяк, продолжая неотрывно глядеть на женщину.
Посидев еще несколько секунд, он устало поднялся с лавки и сказал Константину:
— Все. Более нам тут делать нечего. К вечеру соседи ее придут — закопают.
— Так она что же, умерла? — не понял Константин, глядя на неподвижно лежащую ведьму.
— А то ты сам не видишь.
— Так быстро?
— С моей помощью даже здоровый может очень быстро помереть, — пояснил Маньяк и тут же удивился: — А ты чего застыл как вкопанный? Мы же на свадьбу опаздываем.
— Так ты ее убил? — прошептал Константин.
— Сам же просил, — не понял ведьмак князя.
— Я помочь… — одними губами произнес Константин.
— А это единственная помощь, которую я в силах сотворить. О ней она меня и просила.
— О… смерти? — никак не укладывалось в голове у Константина.
— А выжить с такими ожогами да после вил ей бы только господь бог мог подсобить. Я же простой ведьмак. Убить взглядом могу, а вот вылечить… — Маньяк сокрушенно взмахнул руками и, хлопнув по плечу ошарашенного князя, прошел мимо него на выход.
Глава 6 Поцелуй ведьмы
Все кладбища, сей порой, Из зияющих гробов, В сумрак месяца сырой Высылают мертвецов!.. Ф. И. ТютчевПока они шли к дому тиуна, ведьмак рассказал Константину всю историю Вассы. Ведьмой та была, как и сам Маньяк, урожденной, но обычно они быстро не прогрессируют, становясь настоящими лишь в солидных годах, на излете недолгого бабьего века. А вот Васса, уже в молодые годы обозленная на неприязненное отношение сельчан к ней и к ее матери, будучи в девках, недолго думая, могла наслать на человека болезнь или иную порчу.
Начала она с обычного выдаивания чужих коров, причем занималась этим не со зла, а с голоду, и проделывала все аккуратно, не выжимая из вымени бедной животинушки максимум возможного. Но как-то раз босоногую девчонку застукали на месте преступления, мигом вспомнили, что мать ее родила, не выходя замуж, а старожилы тут же посчитали на пальцах и сошлось у них на том, что дите — ведьма, да еще урожденная. С тех пор и понеслась кривая судьба Вассы под гору, да все быстрее и быстрее.
К тому ж оказалась деваха строптивой и непокорной. Ее били злым словом, она отвечала тем же, но язык Вассы не только наносил оскорбления, но и причинял физические страдания. Когда ей покалечили ногу, она в отместку умудрилась за месяц «расплатиться» с двумя наиболее рьяными обидчиками. Так и продолжалось отчаянное противостояние до недавних пор, пока кто-то не решил совсем извести ведьму, изжарив бесовское отродье в бане.
— Потому она и роту не дала. Уж больно мстить баба любит. Так что придется нам с тобой, княже, из-за жалости твоей ночь не поспать, пока петухи не пропоют, — подытожил Маньяк хмуро. — Тебя не тронула — это она молодец. Есть надежда, что еще и ночка спокойно пройдет, а там мало ли как и чем все это обернется… — заключил он свою речь и неожиданно толкнул князя в бок. — Вот и подивись, как колдун справляется.
Дивиться и впрямь было чему. Свадебный поезд внезапно остановился у ворот тиунова двора. Судя по всему, остановка была явно не запланированная. Нарядно одетый возница в ярко-алой рубахе, сидящий в первом возке, отчаянно стегал лошадей, те храпели, испуганно ржали, но под арку ворот упрямо не шли.
Наконец с облучка этого же возка слез старый мужик в овчинном полушубке, степенно прошел мимо лошадей, провел рукой по воротам, привстав на цыпочки, легонько огладил арку, после чего важно махнул рукой. Возница вновь хлестнул лошадей кнутом, и они на сей раз послушались. Пошли, правда, медленно, опасливо всхрапывая, но пошли. Сам мужик подался куда-то в обход двора, скрывшись вскоре из поля зрения.
— Неужто Васса успела напакостить? — задумчиво произнес ведьмак. — Ладно, проверим.
Они с князем тоже миновали ворота, возле которых Маньяк слегка задержался, после чего, нагнав Константина, тихо шепнул ему на ухо:
— Проказничает наш колдун. Сам страсти на людей нагоняет.
— То есть как? — не понял князь. — Лошади же и впрямь не шли, а он возле ворот походил, руками поводил, и все хорошо стало.
— А ведомо тебе, чего они испугались?
— Колдовства, наверное, — неуверенно предположил Константин.
Недавнее событие в церкви произвело на него сильное впечатление. После такого поверишь во многое, на что и обратил внимание ведьмак, попрекнув Константина:
— Ну и напарничка мне Всевед послал. То ни во что не верит, даже в Веселый лес, а то сразу в веру слепую ударился. Промежду прочим, это колдовство ты и сам мог бы запросто совершить.
— Я?!
— Да любой. Важность свою колдуну показать вздумалось да нужность, вот он и пакостит втихомолку, да сам же за собой и подчищает. А и всего-то надо столбы ворот слегка салом медвежьим промазать. У лошади-то нюх славный, с человечьим не сравнить. Они медведя вмиг почуяли, вот и заупрямились, не пошли.
— А потом почему успокоились?
— У него в руках головка чеснока была. Он когда по местам с медвежьим салом ладонью своей водил, так этим чесноком все там изгваздал. Запах-то у чеснока сильный, вот он и забил медвежью вонь. Потому кони сразу и угомонились. У меня, княже, нюх, пожалуй, поострее лошадиного, вот я и разобрал сразу как да что.
Свадьба еще не началась, когда они с Константином появились во дворе тиуна. Прочие гости терпеливо сидели за длинным, наспех сколоченным столом, не прикасаясь к выставленным яствам.
Усевшись на опасно гнущуюся лавку и поерзав на ней несколько минут, Константин шепнул на ухо ведьмаку:
— А кого ждем?
Тот насмешливо хмыкнул и шепнул иронично:
— Дорогого гостя, Тимофей свет Грибича.
— А это кто ж такой важный?
— У-у, — протянул ведьмак. — Важнее некуда. Да ты его видел сегодня в церкви.
— Я? — удивился Константин.
— Ну а кто ж. Ты еще в него прутом рябиновым всю заутреню тыкал.
— Так это?!.
— Тс-с, — прижал палец к губам Маньяк и кивнул в сторону распахнутых настежь ворот, возле которых стоял хорошо знакомый Константину старый мужик в овчинном полушубке.
Судя по всему, обход усадьбы тиуна завершился благополучно. Возле Тимофея свет Грибича вовсю суетился хозяин дома, держа в руке объемистую чару.
Молодые встали. Едва колдун приблизился к свадебному столу, как они тут же чинно поклонились подошедшему. Тот, не обращая на них никакого внимания, не говоря ни слова, повелительным жестом протянул свою опустевшую посуду хозяину.
Все так же угодливо улыбаясь, тиун щедро, до самых краев, наполнил его чару, выпив которую, Тимофей свет Грибич одобрительно крякнул, милостиво кивнул и сгреб с деревянного подноса, который держала хозяйка дома, хлебный каравай и деревянную солонку. Закусывать хлебом-солью он не стал. Вместо того колдун, зажав каравай под мышкой, отламывал от него маленькие кусочки, обмакивал их в соль и раскидывал в разные стороны.
Затем он, плюнув трижды в сторону леса, степенно зашел в терем тиуна.
— Посмотреть-то можно, что он там делает? — тихо спросил Константин у ведьмака.
— Да нет там ничего интересного, — зевнул тот. — По углам поглядит, дунет-плюнет в каждый, потом в одном ржи сыпанет, в другом — травки своей, а в прочих — золу.
— Зачем? — не понял Константин.
— Рожь от порчи, — пояснил Маньяк. — Траву во здравие молодых. Золу от пожара. Ну, там еще пол осмотрит, чтоб не сыпанул лиходей чужой своего порошка, в печку заглянет, хотя свадьба на дворе.
— И все?
— А тебе мало? — удивился ведьмак. — Погоди, сейчас спустится и молодых рожью обсыпать учнет, да через зипун переступать заставит, чтоб все порчи с невесты и жениха снять.
— А кто их напустил? Васса? — не унимался Константин.
— Да никто, угомонись, — буркнул Маньяк. — Надоел ты мне со своими расспросами, будто я видок какой. Я же вижу — чистые они. И он видит. Тимоха — колдун знатный. Но раз положено, так он честно все соблюдет. Мы с тобой у Вассы гостили, а он сразу после заутрени у тиуна на конюшне под хомуты заглядывал да лошадей по три раза обходил. И на венчание первым ехал. Невеста с женихом сзади.
— А почему?
— Тоже от порчи, — устало буркнул Маньяк. — На каждом перекрестке дорог он слово свое тайное сказать должен, чтобы без опаски до церкви доехать можно было.
— Так она совсем рядом, — продолжал недоумевать Константин. — Какие перекрестья-то?
Ведьмак засопел и укоризненно посмотрел на князя:
— Ты у меня прямо как дите малое. Должен же тиун перед всей деревней богатство показать, гордыню потешить. А назад путь иной надлежит выбрать, и тут сызнова все в руках Тимофея свет Грибича. Озлобится ежели, то так довезет, что… — Маньяк прервался на полуслове, махнув рукой и подытожил: — Куны свои колдун отрабатывает.
— Так ему еще и платят за это? — удивился Константин.
— А ты как думал? — воззрился на него с еще большим удивлением Маньяк — Само собой. Тиун ему еще и холста даст, и парой рушников шитых[74] одарит, да не простых, а с узором.
Тем временем колдун вышел из дома тиуна и все так же молча, грозно насупившись и не поднимая глубоко посаженных глаз, сопровождаемый почтительным молчанием остальных гостей, пошел к своему месту неподалеку от молодых.
Проходя мимо князя с ведьмаком, Тимофей, однако, нарушил молчание. Склонившись к уху Маньяка, он еле слышно спросил:
— Васса-то как там?
— Упокоилась с миром, — кивнул ведьмак и тут же с недоброй ухмылкой поинтересовался:
— Уж не ты ли ее в бане-то?..
Колдун мрачно засопел и буркнул:
— Дерзка была больно.
Больше он ничего говорить не стал, молча прошел на место и тяжело уселся на лавку. Заново наполненная чара уже нетерпеливо ожидала, когда ей воздадут должное.
Дальше поведение Тимофея свет Грибича ничем не отличалось от обычного. Разве что пил он намного чаще других да чавкал, закусывая, чересчур демонстративно. Ни одного слова от него Константин так и не услышал, а потом тот и вовсе свалился пьяный.
Впрочем, упасть на землю ему не дали. Соседи заботливо поддержали колдуна и, взяв под руки, довели его до повозки. Туда же тиун сложил все подарки, предназначенные за работу, и маленькую калиту с побрякивающим содержимым.
После отъезда опасного гостя свадебное веселье разгорелось еще пуще. Опасаться было уже нечего, и чары с хмельной медовухой опоражнивались одна за другой гостями, разошедшимися не на шутку, но тут ведьмак, отходивший куда-то ненадолго, потащил Константина отдыхать на сеновал.
— Его енто работа — чую, — бубнил он на ходу. — И Вассе оно ведомо. Стало быть, жди беды, — и пожаловался Константину: — Сколь уж времени не сплю толком. К тому ж всем, чем Веселый лес одарил, — все на Вассу ушло без остатка. Это ведь мечом человека срубить недолго. Махнул разок, ежели умеючи, и нет твоего ворога. А так, как я, покой принести вечный — тут силов много надобно. В глаза будто кто пыли сыпанул, терпежу никакого нет, особливо опосля медовухи. А впереди еще ночка бессонная… Ну да ладно, ныне поранее ляжем, чтоб к полуночи подняться, — и окликнул торопившегося куда-то тиуна, суетливо проходившего мимо них: — Слышь-ко, Хрипатый. Так ты не забудь, что я тебе казал. Нынче же Вассу схоронить надо.
— Ага, ага, — закивал тиун и заверил Маньяка: — Да ты не бойся. Мне Тимофей свет Грибич все в точности обсказал, как да что с телом ведьмы этой сотворить надобно.
— И о том, как выносить из избы, тоже говорил? — недоверчиво уставился на него ведьмак.
— А как же, как же — головой вперед. Токмо головой, никак не ногами. Ну и об остальном тоже говорил разное, — и взмолился: — Побегу я. Делов-то страсть. Свадьба, чай. Да жених какой красавец. — Он угодливо склонился в низком поклоне. — За гостинец богатый благодарствуем и тебя, Маньяк Илларионыч, и тебя, Кулиман Оборкович.
— Это он кого так назвал? — не понял Константин.
— Да тебя, кого же еще. Не величать же тебя княжьим имечком. Вот я и перекрестил[75], — невозмутимым шепотом ответил ведьмак.
— Коль обождете малость, так вам и невеста с женихом поклонятся наособицу, не как всем прочим.
— Лишь бы счастье у молодых было, — отмахнулся ведьмак. — А подарок что — тьфу.
— А с чего счастью не быть, коли бретяницы[76] с житницами[77] полным-полнехоньки, да и скотница[78] тоже не пустует, — крикнул Хрипатый на ходу, торопясь к гостям.
— С Вассы и не быть, — вполголоса мрачно произнес Маньяк и усмехнулся иронично. — А ему лишь бы все кладовые добром набиты были. Хотя и жених такой же. Польстился на приданое, а то, что на роже у невесты черти горох молотили, — это пустяк. Да если бы только на одной роже…
— Ты что, раздевал ее? — поддел Константин, но ведьмак на подколку не отреагировал, ответив серьезно:
— Я-то в том давно не нуждаюсь. Просто вижу, и все. Я тебе и еще больше поведаю. Мнится мне, что это она отца своего с колдуном вместе на Вассу натравила. Нрав у девицы такой, что сам Хворст[79] позавидует, — он махнул рукой, считая тему исчерпанной, и вновь перевел разговор на отца невесты: — А ты примечай, примечай, княже, — лукаво улыбнувшись, заметил он Константину. — Ведь это твой тиун. Что тебе положено, он честно на погост[80] свезет, но и себя не обидит. Три шкуры со всей деревни спустит, а одну из них непременно себе оставит. Уж больно жаден.
Они поднялись по скрипучей лестнице на сеновал, и ведьмак первым с маху ринулся на пахучее сено. Было оно прошлогоднее, уже не такое душистое, как свежее, но мягкое, и оставалось его еще изрядно.
— А вот этот колдун… Если он такой пакостник и в смерти Вассы повинен, то ведь… — И тут Константин замялся.
— Я его уже наказал, — заявил ведьмак. — Под стрехой в сучок нож ему вогнал. Пускай теперь поищет, с чего это у него сила пропала. До-о-олго искать будет, — протянул он с наслаждением. — Я тиуну наказал, чтоб к вечеру нас подняли, — пробормотал он, уже засыпая, и почти сразу же басовито захрапел.
Константин с минуту полежал, слушая ровный заливистый храп урожденного специалиста по ведьмам, но усталость после бессонной ночи и всего пережитого вкупе с тремя чарами крепкого меда вскоре дали о себе знать, усталые веки его сомкнулись, и он тоже провалился в тяжелый сон.
Разбудил его встревоженный голос Маньяка:
— Подымайся, княже. Хрипатый-то, черт дурной, забыл нас разбудить. Полночь на дворе, а нам еще до буевища[81] бежать надо — сердцем беду чую.
Вставать Константину уж очень не хотелось, настолько сладким был сон, но делать было нечего. Пришлось подниматься и бежать следом за своим беспокойным спутником.
К счастью, небольшое сельское кладбище было расположено не так далеко от деревни, но оба бегуна все равно успели изрядно запыхаться.
— Ну и где ее положили? — вертел головой во все стороны ведьмак, пытаясь отыскать последнее пристанище ведьмы.
Однако найти его не удавалось. Все могилы были одинаковы. Скорбно стояли на них убогие кресты, и только призрачный лунный свет неторопливо прогуливался по этому неуютному месту.
— Где же она? Куда делась? — повторял, как заведенный, Маньяк и вдруг взвыл, ухватив себя за голову: — Ушла, как есть ушла. Потому она и роту давать не хотела. Бежим!
Они снова устремились назад в деревню.
— Или я вовсе из ума выжил, или она у дома Хрипатого. Надо было пошарить там везде, прежде чем сюда бежать, а я на буевище сразу подался, — сокрушался на бегу ведьмак.
Константин молчал. Ему было не до разговоров — старая рана на ноге снова дала о себе знать. С каждым его шагом она ныла все сильнее и сильнее, и князь все заметнее хромал, постепенно отставая от своего спутника.
— Ты беги один, — не выдержав наконец, крикнул он ему вслед. — Беги, не жди, а я позже. — И похромал, стараясь наступать на больную ногу как можно аккуратнее.
Когда Константин подошел к распахнутым воротам тиунова двора, Маньяк стоял на верхней ступеньке высокого крыльца, перекрывая вход в терем и вооружившись невесть откуда взявшейся оглоблей.
Внизу прямо перед ним, с угрожающе растопыренными руками, спиной к Константину стояла женщина в белой холщовой рубахе. Черные как смоль распущенные волосы в беспорядке разметались у нее по спине.
— Пусти, Маньяк, — шипела женщина, и только по голосу Константин признал Baccy.
«Она же мертвая, — мелькнуло в голове. — А как тут оказалась? Или ведьмак ошибся с диагнозом?»
Но услужливая рука князя уже сама собой метнулась, чтобы перекреститься, ибо никакой ошибки тут не было — стоящая у крыльца Васса и впрямь была мертвой. Это Константин понял, едва она обернулась на подозрительныи шум за спиной. Живые так не стоят, не говорят и… не смотрят.
— И ты тут? — с какой-то непонятной горечью в голосе спросила ведьма.
Не зная, что ответить, Константин только смущенно пожал плечами. Мол, так уж получилось.
Завидев подмогу, Маньяк тем временем стал медленно спускаться по скрипучим ступенькам с высокого крыльца.
— Уходи, неразумная, — сухо посоветовал он ей. — Тебе ж ведомо, что я посильней тебя буду.
— Посильней живой, — возразила женщина, — но не мертвой, — и упрекнула ведьмака: — Сам же мне говорил, что для убивцев нет твоей защиты, а ныне почто в заступу кинулся? Ведаешь ведь — по ее да тиуна наущению запалил меня колдун. Отдай мне их.
— Ежели так все было, как ты сказала, — вступил в разговор Константин, — то их княжеский суд покарать должен.
— А будет ли он? — насмешливо усмехнулась Васса.
— Коли сама сейчас со двора уйдешь и мысли о мести оставишь — будет. В том я тебе роту дам, — твердо ответил Константин.
— Так-то оно так… — засомневалась женщина и вдруг стремительно метнулась в ноги ведьмаку.
Тот, не успев отбить внезапное нападение, потерял равновесие и кубарем покатился вниз, выронив оглоблю из рук и в кровь разбивая лицо о ступени. На беспомощное распростертое тело разъяренной тигрицей кинулась Васса.
Лихо оседлав неподвижно лежащего Маньяка, она победоносно выкрикнула, зло скаля рот в сардонической улыбке:
— А когда свой суд, а не княжеский, то оно понадежнее будет, — и склонилась над беззащитной шеей.
— Не трожь его, — позабыв про боль в ноге, бросился на выручку товарища князь. — Он же тебя от мук избавил.
Васса подняла взгляд.
— Он же помог тебе, — продолжал Константин. — Честно помог. От души.
— Я за то ему оборотня освободила, — глухо пробормотала она.
— Но роту ведь не дала, — попрекнул Константин.
— Мой грех — мой ответ. Я за чужими спинами, как тиун поганый, николи не пряталась, — и предупредила князя, заметив, что он медленно двинулся вперед: — Стой, где стоишь. Шаг ступишь, я ему вмиг горло раздеру. Веришь?
— Верю, — кивнул Константин, остановившись в десяти шагах от Вассы. — И что доброй была — верю. Иначе и меня бы не пожалела тогда в избе с этим поцелуем. Тебя жизнь озлила.
— Люди, — поправила женщина.
— Пусть так, — махнул рукой Константин. — Пусть люди. Но ты всегда по делам их им и платила. За добро злом никогда не воздавала.
— А я зрила это добро? — вдруг вскрикнула она с надрывом в голосе.
— А поцелуй мой? — понизил голос Константин.
— Коего не было, — изогнулись в горькой усмешке губы ведьмы.
— Хочешь, прямо сейчас поцелую?
— Это ты из-за него, — мотнула Васса головой. — То не от души будет, а в оплату.
— А ты проверь, — предложил Константин. — Отойди от него и подойди ко мне. Тогда у меня нужды не будет платить тебе, но я все едино тебя поцелую, — отчаянно тряхнул головой князь.
— Ну, гляди, коль обманешь, — медленно произнесла Васса и… встала.
Не отрывая взгляда неживых глаз от лица Константина, мертвая ведьма шагнула к князю.
— Не сробеешь? — шепнула покойница.
Ноздри ее хищно подрагивали в такт медленным шагам. Остановившись в метре от князя, она, все так же не отрывая от его лица взгляда своих безумных шалых глаз, взирающих на Константина из страшных глубин иного мира, спросила:
— Неужто ради него и на это пойти готов?
— Нет, — твердо ответил Константин.
Сердце бухало в его груди, как кузнечный молот. Побелевшее лицо покрылось капельками холодного пота, но он продолжал из последних сил стараться выглядеть спокойным и невозмутимым, насколько это вообще было возможно в таком положении.
— Нет, — повторил он сурово. — Не ради него. Ради тебя, Василисушка.
— Как?.. Как ты меня назвал? — растерянно переспросила ведьма.
— Василисушка, — повторил Константин, не понимая, в чем дело.
— Мамка моя меня так величала… А опосля ее… никто… — она глубоко вздохнула и пожаловалась: — Всплакнуть чтой-то восхотелось, ан не можется. Не плачут, вишь, покойники-то.
Князь хотел было сказать ей что-то еще, но тут краем глаза заметил, как воровато выглянул из-за угла Хрипатый, держа в руках толстый кол, заостренный на конце. Мгновенно оценив обстановку, тиун на цыпочках стал подкрадываться к ведьме.
Сколько Константин ни размышлял потом обо всем случившемся, но ответить на один-единственный вопрос — зачем он так поступил — все равно не мог. Может, потому, что выглядело все это как-то уж очень подло — бить в спину. А может, он в те секунды просто забыл, что пред ним не просто несчастная женщина с тяжелой судьбой, а…
Трудно сказать однозначно. Ведь стоило ему всего лишь остаться стоять, как стоял, и все было бы кончено, но он не остался. Когда тиун, отбросив осторожность, кинулся с колом наперевес, Константин, крикнув «Берегись!», подскочил к ведьме и с силой оттолкнул ее в сторону. Разогнавшийся тиун уже не смог изменить направление своего удара, и острие кола с маху вонзилось князю в левый бок. Константин охнул и согнулся от боли.
Васса, в отличие от тиуна, не растерялась. Разъяренной кошкой прыгнула она на Хрипатого и с диким криком сбила его с ног. Правда, почти тут же торжествующая улыбка на ее лице сменилась гримасой разочарования и презрения.
— Сам сдох, — прошептала она расстроено. — Не успела я.
Опираясь на покойника, она тяжело поднялась на ноги и вновь шагнула к стонавшему от боли Константину. Упершись князю в плечо одной рукой, она ухватилась второй за кол, легко и почти безболезненно выдернула его из тела и недоуменно уставилась на Константина.
— Ты спас меня, — размышляла она вслух. — Но зачем?
Ответа она не дождалась. С истошным визгом из-за того же угла вынырнула дочь тиуна и бросилась бежать к воротам.
Угнаться за ведьмой, ринувшейся в погоню за девушкой, нечего было и думать. Все последующие события можно было предсказать заранее. Уже через какой-то пяток метров Васса и впрямь настигла несчастную невесту. С силой толкнув девку в спину, она подскочила к перепуганной беглянке, склонилась над нею и… замерла.
Лежащая девка тоже не шевелилась, пытаясь вжаться в землю, раствориться в ней, лишь бы уйти от ужаса, который вот-вот навалится на нее всей своей омерзительно смердящей тяжестью, вонзит крепкие зубы в ее трепещущую плоть и станет терзать ее, вырывая кровоточащие куски мяса из живого тела. Девушка даже не кричала, только безнадежно выла на однообразной низкой ноте:
— У-у-у, у-у-у…
Но дальше случилось что-то странное. Васса выпрямилась, небрежно пнула беглянку ногой в бок и произнесла устало:
— Вставай, дура, — и еще тише: — Живи.
Затем она развернулась и побрела куда-то в сторону. Маньяк, очнувшись, успел увидеть лишь, как ведьма-упырь простила (!) виновницу (!!) своей гибели (!!!).
Подойдя к стоящей в глуби двора телеге, Васса пошарила рукой по ее днищу и извлекла оттуда кол, очень похожий на тот, что был минутой раньше в руках у Хрипатого.
— Ишь, заготовил, — усмехнулась она и, подойдя к Константину, пояснила: — Помощников у дурня много, но все такие же дурные, пьяные да ленивые. Нарубили в лесу все подряд, лишь бы побольше получилось. Мне в могилу сразу два воткнули, и оба кленовые, а себе он ольховый выбрал сослепу. Если бы ты меня в сторону не откинул, я бы и с колом в спине все едино глотку ему порвала. А этот хороший, осиновый, что надо. Ну, — она кивнула в сторону ворот, — пойдем, что ли? — И сунула оторопевшему Константину кол прямо в руки.
Дойдя до ворот, она остановилась и, обернувшись к князю, растерянно стоящему с колом в руках, печально произнесла:
— Где же ты раньше был, княже? Хоть бы годков на пять пораньше появился. Глядишь, и вовсе по-другому все было бы. А уж я для тебя собакой преданной стала бы, — и вздохнула тяжело. — Видать, не судьба. Ну, пошли, что ли?
Когда старый и беззубый дед Чурок, страдающий по причине своих преклонных лет жуткой бессонницей и слабостью внутренних органов, вышел на крыльцо своей избы, то спустя минуту дальше ему идти было уже не надо. В глубокой задумчивости проводив взглядом шествующую вдоль деревни процессию, он мигом справил нужду, не снимая портов, но еще долго не мог сдвинуться с места.
Когда же Чурок сумел заставить свои ноги идти и заскочил в избу, то первым делом разбудил всех домочадцев и, пользуясь неоспоримой властью большака, заставил их всех, стоя на коленях, читать молитвы, продержав перед иконами аж до вторых петухов. Сам же, направившись спать последним, захватил с собой на теплые полати сразу две иконы из небогатого иконостаса, имеющегося в избе. Одну из них старик сунул себе под подушку, а другую положил на грудь и лишь тогда смог забыться в недолгом, тревожном сне.
А процессия и впрямь была удивительная. По улице, заливаемой ослепительно желтым ярким светом круглой луны, шла знаменитая не только в их деревне, но и далеко окрест ведьма Васса. Та самая, которую не далее как накануне пьяные тиуновы слуги закопали на отшибе кладбища на неосвященной земле и воткнули в могилу аж два кола. Дед Чурок сам все это наблюдал издали, дабы было что потом рассказать своим домашним.
Теперь же треклятая ведьма вновь гордо шествовала по улице и опять в сторону кладбища. Ночная сорочка на ней была вся перепачкана чем-то темным, и Чурок сразу понял — чем именно.
Следом за ней плелся загадочный русобородый здоровяк, который появился у них вместе с тиуном соседней деревни Заозерье. В одной руке здоровяк держал крепкий кол, а вторую прижимал к боку, но было непохоже, чтобы он гнался за Вассой. Скорее уж это она вела его за собой, будто на невидимой глазу веревочке.
Далее, следуя в двух-трех шагах сзади, за здоровяком устало брел сам тиун Заозерья, который также слыл личностью весьма загадочной и весьма темной. Во всяком случае, именно так гласили слухи, ходившие о нем. Кола у него в руке не было, но одну руку он прижимал к затылку, и было заметно, что идет он из последних сил.
Последней, изрядно отстав, шла дочка тиуна Кривулей, которая накануне столь удачно вышла замуж. Ей, судя по всему, тоже почему-то не спалось в теплой постели рядом с обретенным наконец законным мужиком. Та не молчала, все время подвывая на ходу. «О таком и рассказывать не стоит, — подумал, уже засыпая, дед Чурок. — Тут не то что не поверят, а и вовсе на смех поднимут».
Странная процессия тем временем добрела до разрытой могилы, на краю которой стояла деревянная домовина[82], грубо сколоченная из тяжелых дубовых досок.
Васса на ходу еще раз, как бы прощаясь, оглянулась в сторону идущего следом князя и послушно улеглась в свое последнее жилище. Константин подошел к гробу и растерянно уставился на лежащую в нем женщину. Та открыла глаза, покорно сложила руки на груди и тихо попросила:
— Только не медли, княже. Уж больно ждать тяжко. Боюсь передумать.
Ведьмак, нагнавший Константина в самом конце пути, внимательно посмотрел на своего напарника и протянул руку за колом:
— Давай я, княже. Не твое это дело.
— Нет, — шевельнула губами ведьма.
— Нет, — откликнулся князь.
— Тогда бей, — буркнул Маньяк. — Не мучь ее.
— Прощай, княже, — улыбнулась ласково Васса, закрывая глаза.
— Прощай, Василисушка, — вновь эхом отозвался Константин и с силой вонзил кол в грудь лежащей ведьмы.
Удар оказался настолько силен, что слышно было, как, насквозь пропоров тело, острие кола глухо стукнуло о днище гроба.
От боли лицо Вассы несколько исказилось, но почти сразу же разгладилось и как-то успокоилось. Константин глубоко вздохнул, колеблясь. Оставалось еще кое-что из обещанного им, но делать очень уж не хотелось. «Теперь-то он ей все равно ни к чему», — мелькнула спасительная мыслишка.
Но тут ему стало нестерпимо жаль несчастную ведьму, которая, скорее всего, заслуживала намного лучшей участи, чем та, что на самом деле выпала на долю горемычной. Жаль, невзирая на все те пакости, что она причинила людям, включая и то, что совершила прямо на глазах Константина этой ночью.
— Прими ее, господи, — шепнул он еле слышно. — Только не суди строго, а разберись как следует.
Он чуть ли не до крови прикусил губу и, низко склонившись над лежащей в гробу женщиной, бережно поцеловал ее в плотно сомкнутые губы. Крупная слеза покатилась по его щеке и, сорвавшись с подбородка, упала прямиком на губы ведьмы. Почувствовав соленую влагу, они еле-еле шевельнулись, что-то прошептав, и застыли, оставив на лице робкую беззащитную улыбку. Это было… страшно.
Константин отпрянул от гроба как ужаленный.
— Ты… видел? — спросил он испуганно у Маньяка, который сумрачно смотрел на все происходящее, никак не реагируя на сумасбродство князя.
— Не слепой, — проворчал он.
— А… слышал? Она же что-то сказать напоследок хотела? — спросил Константин у ведьмака после того, как они опустили гроб в могилу, заново засыпали его землей и присели передохнуть.
— Что она хотела, то и сказала, — хмуро ответил Маньяк.
— Нет, после прощания. Когда я ее… уже… поцеловал, — с запинкой выговорил Константин. — Я видел, у нее губы шевелились. А что произнесла — не расслышал.
— «Благодарствую», — кашлянул ведьмак.
— Что? — не понял Константин.
— «Благодарствую» она произнесла, — раздраженно повторил Маньяк и завел было свою привычную уже для князя песню, начинающуюся с традиционных слов: — Ну и напарничка мне Всевед сосватал. Даже по губам читать не умеет, — но тут же осекся, виновато посмотрел на Константина и закрутил ту же песню совсем в другую сторону: — Ну и напарничка тебе Всевед подсунул. Даже спасибо сказать не может, будто вовсе разучился, — добавив со вздохом: — Одно слово — свинья неблагодарная, да и только.
— Не спорю, — охотно согласился Константин, и они понимающе улыбнулись друг другу.
Вот только улыбка эта была какая-то невеселая. Грустная — у ведьмака, и скорбная — у Константина.
— Ежели наше шествие ночное хоть одна жива душа узрела, тады все, — хмуро заметил Маньяк. — Вмиг кольями забьют и спрашивать не станут.
— Осиновыми? — поинтересовался Константин.
— А какая нам с тобой разница. Все равно больно. Хребтина — она любого кола не любит. Так что соваться туда не след. Пойдем к бережку, там ладей много. Утянем одну и доплывем на ней аккурат до твоей стольной Рязани.
Ладей и впрямь хватало. Правда, выглядели они не ахти — в основном челны-однодеревки, но дареному коню в зубы, как известно, не смотрят, а уж краденому — тем паче, так что вскоре они уже плыли вниз по ночной Проне. Светало. Разговаривать о том, что произошло, Константину совсем не хотелось. Он думал, точнее, пытался это сделать. Правда, получалось с трудом. Покойница, вампир, осиновые колья, добровольно легла в гроб, — ну не может всего этого быть. Не может, потому что… не может. И тут в какой-то момент его осенило. Раз трупы ходить не могут, значит, они с Маньяком убили и закопали в могилу живого человека. Или не убили? Или ее еще можно спасти?
— А ну-ка, поворачивай назад, — решительно приказал он ведьмаку.
— Пошто назад-то? — поначалу удивился Маньяк, но, внимательно выслушав князя, послушно закивал: — Тогда конечно. Токо здесь течение сильное. Не выгрести. Лучше всего к берегу пристать, а там посуху вмиг добежим, — и предложил: — Ты назад-то покамест обернись, а то что-то чудится мне, будто погоня за нами.
Константин оглянулся, старательно всматриваясь, не плывет ли кто за ними. Глаза его отчаянно слипались, не желали повиноваться. Он на секунду зажмурился, пытаясь прогнать непонятно откуда взявшуюся сонную одурь, а когда открыл их, то на небе уже ярко светило солнце, ощутимо клонясь к своему закату.
— Это я сколько же проспал? — удивился он.
Ведьмак, правивший лодкой, осклабился весело:
— Лучше спроси, как ты храпел, княже.
— А я храпел?
— О-го-го. Это у тебя не иначе как опосля медовухи выпитой. Так-то ты обычно тихонечко спишь.
— А что, я много выпил?
— Изрядно.
— А потом?.. — поинтересовался князь. — Здесь-то я как оказался?! Что-то я совсем ничего не помню.
— Не мудрено, — пожал плечами ведьмак. — Сколько меду выкушал-то. У меня бы и вовсе память отшибло.
— Нет-нет, погоди. Как до сеновала дошли — помню, как потом за ведьмой по селу гонялись — тоже помню, как она на тебя прыгнула…
— Ха-ха-ха, — закатился Маньяк.
Продолжая покатываться от смеха, он даже бросил руль, упав на дно лодки, Константин оторопело посмотрел на ведьмака, а тот, отсмеявшись наконец, заметил:
— Ты уж не серчай, княже, но больно похоже ты сказываешь. У нас в Приозерье смерд один как перепьет, так тоже половину ночи с нечистой силой воюет, а по утру всем сказывает, как он ее ловко одолел. Ну, совсем как ты.
— Так что, совсем ничего не было? — не понял Константин.
— Почему не было? Было. Медовуха была у Хрипатого. Да, видать, он, стервец, совсем молодую нам подсунул. Старую пожалел. А она, пока не выбродит свой срок, не угомонится. Такую выпить, так она в голове бродить начинает да такого там накуролесит. Это еще славно, что токмо во сне, а представь, ежели бы ты наяву какую бабу за ведьму принял и учал по всему селищу с колом за ней бегать.
— Так это что — сон был?
— А ты как сам-то мыслишь?
— Ну, не знаю, — начал сомневаться Константин. — А бок?! — почти радостно вспомнил он. — Мне же тиун бок пропорол своим колом.
— Покажи. — Улыбка с лица Маньяка сползла, и он сразу посерьезнел.
— Вот, — заголил на себе князь рубаху и искренне удивился: — Ничего не понимаю.
Дивиться и впрямь было чему. Кровавое пятно на одежде оставалось, а вот самой раны, про которую еще ночью, после тщательного осмотра, ведьмак сказал, что она лишь чуть серьезнее царапины, потому как ничего не задела внутри, уже не было. Правда, исчезла она не бесследно — небольшой шрам еще красовался на этом месте, но любой лекарь сказал бы, глядя на него, что ему не меньше недели, а то и двух.
— Это ты где-то неосторожно чиркнулся, а той ночью он у тебя малость приболел, — пояснил Маньяк равнодушно. — Вот тебе и приснилось, будто тебя кто в бок пырнул.
— А кровь на рубахе? — не унимался Константин.
В ответ Маньяк молча поднял левую руку, кое-как перебинтованную, и, повертев ею, пояснил:
— Тиун — дубина глупая, на сеновале косу забыл, вот я и порезался. А ты, видать, когда меня за руку брал, то ее же потом и к своему боку прижимал. Такое бывает.
— Ничего не понимаю, — растерянно прошептал Константин. — Уж очень все ясно помнится. Разве во сне так бывает?
— Говорю ж, медовуха поганая у Хрипатого. Она это, больше нечему. А про ясность я так скажу. Ежели тебе щепотку сушеных мухоморов дать, так ты такое учудишь — небо с овчинку покажется.
— Ну, если медовуха, — неуверенно протянул Константин. — Погоди, погоди. А ведьма-то была? Васса-то?
— Точно, — хлопнул себя по ляжкам ведьмак. — Ай да молодец ты, княже. Вот что значит голова ученая. Мы ж к ей перед самой свадебкой заходили. Потому и привиделась она тебе. А я-то мыслю, откуда у тебя в снах ведьма, коль тебе их в яви ни разу зрить не доводилось?
— Так она жива? Разве ты ее не…
— Подсобил уйти — это верно. Вишь как оно — до медовухи ты все запомнил, а дальше началось.
— А она…
— Да что она, — досадливо перебил Маньяк. — В домовину ее положили, снесли, как и всех, на буевище да закопали.
— А кол?
— И кол воткнули в могилу — ведьма ж чай.
— А она что же — не вставала совсем?
Ведьмак жалостливо посмотрел на князя и заметил:
— До Рязани твоей хода еще изрядно. Может, ты еще малость поспишь, а? Тока когда чертей там во сне учнешь гонять, не забудь — первым делом зеленых лупи. Они самые зловредные. А уж проворные — страсть. Это мне мужик тот из Приозерья сказывал.
— Да ну тебя, — обиделся князь, закрыл глаза и… правда уснул, причем проспал до самой Рязани, продрав глаза лишь под утро, да и то не потому, что выспался, а потому, что замерз от утренней речной прохлады. Спал он, правда, без сновидений. Медовуха, наверное, выветрилась.
А едва проснулся, как ему уже стало не до рассуждений о том, что в Кривулях было наяву, а что приснилось. Он даже с пристани сойти не успел.
— Нашелся! Нашелся! А мы-то тебя уже обыскались, княже! — заорал обрадованный донельзя Епифан, тряся своей кудлатой бородой.
— Стряслось что? — недовольно спросил князь.
— Ничегошеньки, — оторопел Епифан. — Слава всевышнему — все в порядке.
— А чего ищете? — не понял Константин.
— Так ведь гонец прибыл еще на рассвете. Сказывал, чтоб тут же его к тебе провели, что, мол, он такое везет, о чем князя незамедлительно упредить надобно.
Глава 7 Доложили точно, хоть и с опозданием
Воеводы не дремали, Но никак не успевали: Ждут, бывало, с юга, глядь, — Ан с востока лезет рать. А. С. ПушкинКогда князь появился на своем подворье, гонец спал мертвецким сном. Понадобилось вылить на него пять ведер холодной воды, чтобы привести его в чувство.
Помотав головой, он ошалело посмотрел вокруг и шагнул к Константину.
— Беда, княже, — произнес он и вновь замолчал, осекшись.
— Так что стряслось-то? — нетерпеливо спросил Константин.
— Велено одному, тебе поведать.
Князь посмотрел по сторонам и быстро пошел к себе в терем, жестом пригласив гонца следовать за ним. Едва они вошли в малую гридницу, как гонец тихо выдохнул:
— Они все с Галича, с Владимиро-Волынского, Турово-Пинского и прочих княжеств в Киев подались. Любомир наказал передать: поход на немцев орденских обманом был. То ему доподлинно известно стало.
— Дружины точно вышли?
— Они из тех земель напрямки подались — знамо, коней в ладьи не посадишь. А вот пеших ратников мне самолично видеть довелось. Они отставших поджидали, но через день после моего ухода оттуда должны были выдвинуться на Десну, а там волоком в Угру. Сказывал Любомир, что дружины пеших своих у устья Угры ждать будут. Как повстречаются, далее по Оке двинут. Конные берегом пойдут, а пешие рати — на ладьях.
— Много ли их? Счесть удалось?
— Любомир так велел передать: числом до двадцати тысяч, ежели не больше. Да чтоб ты, княже, не забыл к ним смолян прибавить, полоцких князей, новгород-северских, черниговских да новгородские и псковские полки.
— Вся Русь, — пробормотал Константин.
— Во-во. Любомир так и сказывал — вся Русь исполчилась, — подтвердил гонец. — А еще он передал, что орды Котяна и Юрия Кончаковича из Шарукани берегом Оскол-реки двинулись. Прямиком через черниговские земли на Пронск с Рязанью придут. И еще одно, — наморщил лоб гонец, припоминая. — В Булгарию Ярослав своих людишек послал, и давно уже. Самых лучших не пожалел, чтоб точно уговорили они тамошнего хана тебе в спину ударить. Им по Волге-матушке до Оки, да по Оке до твоего стольного града добраться — тьфу, пустячное дело. Так что надобно тебе и оттуда гостей недобрых ждать.
— А откуда он все это вызнал?
— О том мне неведомо, а Любомир повелел тебе одно только слово сказать, ежели сумнения будут: княгиня, — и вдруг как-то по-детски взмолился: — С ног валюсь, княже. Дозволь хоть на полу лечь. Последних трое ден вовсе глаз не смыкал, успевал только с коня на коня прыгать.
— Любая лавка твоя, — предложил Константин.
Он задумчиво прошел к двери и, решившись, повернулся к гонцу:
— А ты сам-то княгиню видел?
Раскатистый храп был ему ответом.
Но даже если бы гонец и не спал, то навряд ли он смог бы добавить еще хоть что-то к своему короткому рассказу. Все, что передал ему Любомир на словах, ратник уже поведал. Об остальном же он просто ничегошеньки не знал, тем более о княгине.
Впрочем, сам Любомир знал о ней немногим больше. Разве что имя ему известно было, да еще то, что она жена Ярослава, заклятого врага рязанского князя.
Сама Ростислава приметила бойкого паренька на торгу еще зимой. Издали голос его услыхала, и что-то он ей знакомое напомнил. Глянула мельком и обомлела, сразу признав того самого, который о чем-то с воеводой Вячеславом разговаривал, стоя в полутемных сенцах большущего княжеского терема во Владимире.
Пока Ярослав с постели не вставал и их в Переяславль-Южный не отправили, она в том тереме вовсю хозяйничала, и никто ей ни в чем из слуг не перечил. Полноправной госпожой была. А кому еще? Кроме нее только Агафья Мстиславовна — вдовица безутешная — оставалась, но та и раньше квашня квашней была, а ныне, после утраты мужа, совсем расхворалась. Ей бы за своими детишками углядеть. Ох и шустры малолетние Константиновичи, глаз да глаз за ними нужен. Сама Ростислава общий язык с ними быстро нашла, всегда старалась чем-то сладеньким да вкусненьким угостить.
Вот и ныне решила сладеньким угостить, вспомнив, что в отдельной маленькой клетушке, вход в которую вел прямо из сеней, в одной из корзин сласти иноземные еще остались. Полезла туда, чтоб достать, да как на грех, рукой нечаянно взмахнула и свечу опрокинула, которую на полку поставила. Особой беды не случилось, но огонек погас.
«Ну и ладно, — решила Ростислава. — И так найду, ощупью».
Пока лакомство искала, совсем рядом с клетушкой двое остановились. Воеводу Вячеслава по голосу женщина сразу признала — до того не раз его слышать и видеть доводилось. Второй же незнаком ей был. Сознаваться, что она тут рядом стоит, не стала, да и любопытство бабское свое взяло. Моргала и слушала.
Говорили они как-то намеками, так что Ростислава почти ничего и не поняла. Одному лишь подивилась: разговоры тайные, а голос второго эдакий полудетский — то на басок упрется, а то срыв идет и фальцет ребячий наружу выпирает. Словом, очень странный голос для таких важных бесед. Потому и запомнился он ей. Да еще имя, которое воевода в разговоре назвал, — Любомир.
А когда удаляться от нее эти голоса стали, Ростислава тихонько, про все сласти позабыв, следом выскочила и, на крыльцо выйдя, увидела обоих. Оба к тому времени уже почти внизу были, спускаясь по лестнице крутой вослед друг дружке, да с таким видом вышагивая, будто и не они так задушевно разговаривали только что.
Первым и правда воевода был, а второй — ну, фигурой-то уже мужик в самом соку, только грузен несколько, а повернулся лицом — мать честная — да ведь вовсе малец годами. Но и он, когда голову поднял, Ростиславу приметил, тут же нагнулся, сапог подтянул зачем-то и скорее прочь поспешил.
Ныне же он весело и бойко покупателей в лавку зазывал, прибаутками сыпал направо и налево. И одно успевал показать, и другое, да все товар нахваливал.
— А ты кто ж такой голосистый будешь? — спросила Ростислава, едва лишь подошла к его прилавку.
— Зовут Любомиром, красавица, — ответил тот не глядя и извлек откуда-то снизу очередной тючок с дорогой синей материей.
Бухнув его на прилавок, он, улыбаясь, начал было:
— А вот зендень[83] баская износу не ведает… — и осекся, глянув наконец на княгиню.
— Чего ж замолчал? — спокойно осведомилась Ростислава. — Продолжай.
— В носке легка, зимою тепла и больно дешева, — завопил Любомир, придя в себя, а в голове одна только мысль молоточками легонькими в виски стучала: «Признала или нет?! Признала или нет?!»
Да еще досада крутая на самого себя подмешивалась: «Дернул же черт к воеводе попереться перед самим отъездом, да еще в княжий терем. И ведь сказывал он — не должна нас с тобой вместе ни одна живая душа видеть. Нет, видишь ли, не уразумел, всерьез его предупреждение не воспринял. Теперь вот мучайся, думай, гадай. Хотя чего тут гадать — вон как глядит пытливо. Как тогда на крыльце. Вот-вот вспомянет. И чего тогда делать? Бежать? А успею? И опять же как воеводе и князю потом в глаза смотреть?»
С такими мыслями он всю ночь на своей лавке проворочался. Так и не смог заснуть. Встав же наутро, твердо решил: «Будь что будет, но останусь. Авось не признает».
Ростислава же, судя по ее поведению, вроде бы и впрямь Любомира не опознала. Во всяком случае, сколько раз подходила к его товарам, но никогда и словом не намекнула, что видела его тогда во Владимире.
Да и во всем остальном вела себя как обычная покупательница. Так же дотошно ткани рассматривала, так же придирчиво мяла их в руках, хотя покупала не столь часто — больше разговаривала да шутила. И все бы ничего, только иной раз ее взгляд становился странным. И глядела она в это время не на Любомира, а куда-то вдаль, сквозь молодого купца, словно и не было его. А в глазах синих искорки мерцали, веселенькие такие. То ли вспоминалось ей что-то хорошее, светлое, то ли, наоборот, грустилось о чем-то. А может, о ком-то? Бог весть.
Потом спохватывалась и опять шутила, смеялась.
А однажды, когда совсем уже потеплело и смерды в селищах давно отпахались да отсеялись, пришла и долго-долго молча в тканях рылась. Лишь когда последняя из покупательниц отошла от прилавка, она голос подала:
— Плохой у тебя товар, парень. Думается, муж мой, князь Ярослав, мне золотного аксамиту получше привезет, когда Константина Рязанского повоюет.
— А у нас на торгу сказывали, что ныне переяславцы со всеми прочими князьями в иные земли собрались — немцев орденских воевать. А оттуда нам не аксамит привозят, а суконце ипьское[84], — нашелся Любомир с ответом.
— Пусть себе говорят, — усмехнулась княгиня. — Мне же доподлинно известно, что поход сей супротив Рязани будет.
— Нешто о таком женкам сказывают? — усомнился Любомир.
— А мне никто и не говорил. Только я сама от половцев это слыхала. У нас их ныне на княжьем дворе десятка два проживает. Вот они меж собой и говорили о том, как грады в княжестве рязанском жечь будут да какой их славный прибыток ждет.
— Да они по-нашему и говорить, поди, не могут. Нехристи ведь.
— Они и не говорили, только у меня мать — половчанка крещеная. Сызмальства своему языку обучала. Им-то и невдомек, что княгиня переяславская все, что они бормочут, понимает, потому и не таились.
— Да отобьется, небось, князь рязанский. Он же лихой, — махнул беззаботно рукой Любомир, — куда там двум-трем сотням половецким град русский на копье взять. Кишка у них тонка.
— А если сразу две орды придут? — спросила княгиня строго. — У хана Котяна, как сами половцы сказывали, похваляясь, — тысяч сорок, да у Юрия Кобяковича не меньше. Конечно, в запале чего не скажешь, но даже если вполовину правда — все равно худо рязанцам придется. И Константин не поможет. Ему другое дело сыщется — рати удерживать, кои волоком с Десны на Угру перейдут, а оттуда по Оке до самой Рязани домчат. Хотя даже не одно — два дела. Еще и булгары с Волги двинутся. Не зря же князь мой к ним своих лучших бояр отправил, — пояснила она улыбчиво и гордо вскинула голову. — Так что быть мне к осени в аксамиты да паволоки разодетой. Опять же слыхала я, что и златокузнецы в Рязани тоже знатные. Стало быть, и колтами[85] разживусь.
— А хорошо ли о таких тайнах с гостем торговым болтать? — грубовато заметил Любомир, торопясь опасный разговор закончить. — Мы же ныне тут, а завтра там. Опять же язык за зубами держать не приучены.
О таких важных новостях надлежало в срочном порядке, ни минуты не медля, известить князя, вот парень и ляпнул, чтобы Ростислава обиделась и ушла.
— Да чего тут бояться, — равнодушно передернула она плечиком. — Даже если бы ты и восхотел упредить, так все равно не удастся тебе. Мой князь зело умен — для торгового люда все пути теперь перекрыты напрочь. По Десне, пока рати не пройдут, дозоры никого не пропустят. Ежели только лесами податься, да не вдоль рек, а прямиком на восход, — протянула задумчиво. — Ну, тогда, может, гонец и поспеет. Но нешто кто до такого додумается? — и посмотрела испытующе. — А что касаемо языка за зубами, так мне почему-то мнится, что совсем оно и не так, — медленно, нараспев произнесла княгиня, в упор глядя на Любомира. — Когда надобно, твой язык будто в ларце за семью замками.
— Не боишься, княгиня, что ошиблась? — улыбнулся тот насмешливо.
Из последних сил старался он виду не подать, что теперь торопится, как никогда ранее не торопился.
— Нет. Я иного боюсь — чтоб ты не ошибся, — ответила Ростислава, так же медленно и отчетливо выговаривая слова. — Как тогда зимой, помнишь? Ну, у терема княжеского во Владимире.
— Спутала ты, княгиня, — с трудом выдавилось непослушными губами.
— Вот того я и боюсь, что спутала, — вздохнула она печально и пошла с торга, низко-низко голову склонив.
Ростислава и впрямь боялась лишь того, что Любомир не поверит ее словам. И что тогда? А тогда…
«Бр-р! Лучше не думай об этом, — сердито приказала она самой себе, но тут же пожаловалась: — Да как же не думать, коли сердечко так и болит, так и стонет».
Она вспомнила, как около месяца назад Ярослав взял ее с собой в Киев с отцом повидаться. Был он непривычно ласков, шутил, улыбался, хоть и натужно, сулился и то ей купить, и это. Ростислава сразу поняла, что боится он, будто княгиня худое что отцу про него расскажет, а тот сызнова осерчает. Самому Ярославу о догадке своей она ни словечка не вымолвила, только усмехнулась в душе презрительно — сколько уж лет прожили вместе, а муж так и не понял, что жалобами она отродясь не занималась, да и вообще…
Тот памятный разговор с батюшкой состоялся чуть ли не перед самым отъездом. Да и то сорвалась она попросту, когда Мстислав Мстиславович, округлив глаза, стал рассказывать ей про Константина, да про то, каким зверем рязанец оказался, и даже князей не пощадил — повесил прилюдно.
Хотя нет. Тогда-то она как раз смолчала. Это уж потом, когда отец начал ей рассказывать, что Константин, помимо всего прочего, еще и язычник тайный, да не просто богам старым молится — то полбеды. Он ведь вовсе дьяволу душу продал, с нечистью спознавшись. Печать каинову на нем сам епископ приметил, а дружинники Константиновы сами сказывали, будто он с водяным разговоры разговаривал и все, поди, о колдовстве и прочей мерзости. Вот тут-то Ростислава и не стерпела.
— Эх, батюшка, — молвила печально, а в голосе такая тоска надрывная прозвучала, что Мстислав смолк в изумлении.
Зато Ростислава молчать уже не могла, вс как было рассказала. Лишь об одной стороне умолчать попыталась — о делах сердечных, да и то не сумела до конца утаить — почуял Мстислав. А уж остальное как на духу выложила. И так рассказ этот князя озадачил, что даже когда дочь из светелки вышла, он еще битый час по ней безостановочно из угла в угол вышагивал и все бормотал:
— Нет, ну как же так? Ведь жизни своей не пожалел… А епископ-то иначе все рек. Но и Ростислава солгать не могла. К тому ж такое и не выдумаешь…
И возопил отчаянно, подняв руки к небесам:
— Да кто же ты есть такой, рязанец окаянный?!
Но небеса молчали. То ли не знали они этого, то ли считали, что Мстиславу Удатному лучше самому попытаться понять и ни к чему очевидное подсказывать…
Разумеется, об этом разговоре и вовсе никто ничего не знал, ни Вейка верная, ни супруг Ярослав, ни тем более Любомир.
Куда уж Константину гонца-храпуна расспрашивать. Да хоть пытай — все равно тот ни словечка бы не промолвил.
Махнул князь досадливо рукой и повелел, чтобы все военачальники, кто в Рязани есть, немедля в гриднице собрались. Хотя собираться-то особо и некому было. В стольном граде только тысяцкий Булатко был, который пешим рязанским полком командовал, да еще Изибор Березовый Меч. Этот со своим заместителем Козликом княжеской дружиной заведовал. Ну и еще старший из трех десятков спецназовцев, которых Вячеслав в городе оставил.
Носил старшой звучное и очень гражданское имя Мирослав. Глянув на него, никак нельзя было сказать, что этот не очень поворотливый, даже медлительный несколько мужик может запросто незамеченным прокрасться к стенам любой крепости, как бы ни высматривали его сверху бдительные вражеские часовые. И не только прокрасться, но и бесшумно влезть по ней на самую верхотуру, а там все так же тихо, с одного удара, уложить на землю детину вдвое выше себя ростом — сам Мирослав невысок был — и втрое шире себя в плечах. Константин и сам бы не поверил, если бы лично все его фокусы не наблюдал, когда Вячеслав в присутствии князя экзамены у подопечных принимал. Не все с заданиями справились, а вот Мирослав со своим — с блеском.
Добавилась к присутствующим и пара воевод, которые с юга приехали, — Искрен из Пронска и Юрко Золото, который хоть и в сотниках числился, но имел от Константина все полномочия и трудился самостоятельно, всемерно ускоряя дальнейшие работы в Ряжске по укреплению городских стен. Оба они за мастерами прибыли да за гривнами.
Словом, мало кто из руководства военного в Рязани сейчас находился. В основном они либо по городам своим сидели, либо с верховным воеводой Вячеславом зеленую молодежь обучать укатили.
«Ну и ладно, — вздохнул Константин. — Пока и этих хватит».
Когда собрались и узнали, в чем дело, князь принялся им задачи ставить. Что в первую очередь надлежит сделать, что во вторую, что в третью. Тому же Изибору повелел гонцов готовить в другие города. Самых быстрых и сноровистых нынче же — каждый час дорог становился — к Вячеславу отрядить со строгим повелением собрать все, что только есть у него там из ополчения, и немедленно возвращаться обратно, но не в Рязань, а сразу под Ростиславль. Именно там, на западной границе княжества, близ самых черниговских владений, решил Константин врага встретить. Прочие гонцы пусть пока готовятся к тому, чтоб завтра рано утром выехать.
Сам князь вознамерился еще дальше мчать — под Угру, и налегке, взяв с собой только спецназовцев, но до этого, уже окончив совещание, оставил у себя в гриднице обоих воевод южных городов.
— Дело у меня к вам срочное и тайное. К завтрашнему утру Зворыка для него все необходимое приготовит. Остальное от вас зависит, — и, видя непонимающие взгляды Искрена и Золота, устремленные на князя с невысказанным вопросом, пояснил, хмурясь: — Речь о моей казне пойдет. Ящиков не столь уж и много будет — десятка три-четыре, но тяжелые они непомерно. Надо их из Рязани завтра же поутру и вывезти.
— А если их здесь, в граде спрятать?.. — предложил Искрен. — У нас ведь тоже места не больно-то спокойные. Да что там — намного опаснее, нежели тут.
— Знаю, — кивнул Константин. — Даже очень неспокойные, — и загадочно заметил: — Потому и будет так, как я сказал. Вам же надо сделать следующее…
Сон в эту ночь у князя коротким получился. Лег за полночь, после того как последнюю грамотку продиктовал, а встал на рассвете, чтобы лично проконтролировать пусть и не все, но самое главное, то есть отправку гонцов по городам, да еще вывоз казны.
Едва же все это закончилось и Константин, проводив ящики с казной, подъехал от окской пристани к земляному валу, на который при обороне вся хлипкая надежда возлагалась, как тут же следом его переполошенный дружинник нагнал.
— Княже, сторожевые вон сказывали, ладьи с ратными людьми плывут! — пробасил он, с трудом переводя дыхание.
— Сколько их?! Куда в Ростиславле люди глядели?! Почему в Переяславле-Рязанском упустили?! — вскипел Константин.
— Да они и не могли углядеть. Ладьи со стороны Мурома идут.
— Как?! Неужто, воевода возвращается? — обрадовался было князь.
Но дружинник тут же пригасил ликование Константина:
— Чужие ладьи это. Булгарские.
— А почему дозор решил, что они чужие? — уже на обратной дороге к пристани поинтересовался у него князь.
— Так их вмиг отличить можно, даже издали. У булгар Волга да Ока — им можно и покрупнее ладьи делать, чем нашенские. На одну булгарскую можно столько товару впихнуть, сколь на наших трех еле-еле увезешь. А енти, что ныне плывут, и вовсе велики — в них товару с пяти наших войдет и место еще останется.
— Так, может, они с товарами? — на полном скаку остановил князь своего жеребца.
— Не-е-е, — дружинник отчаянно замотал бородой, в которой седых волос было, пожалуй, побольше, чем русых, — люду оружного больно много.
— Тогда назад в город скачи, — вновь пришпорил коня Константин. — Передай, что князь повелел дружину поднимать и ратников всех, какие только остались в Рязани, — наконец-то спохватился он, хотя и понимал, что уже поздно, что стряслось непоправимое, что…
Да чего уж тут говорить. Поздно, ох как поздно появился гонец из Переяславля-Южного. Зря все его труды были, только лошадей загубил.
«Нет, не зря, — одернул досадливо Константин сам себя. — Сейчас бы я их, как дурак наивный, хлебом-солью на пристани бы встретил — и все: он сам в плену, Рязань взята, дальше дело техники, потому что от таких новостей у всех людей в полках руки опустятся. Одно дело — когда твой князь жив-здоров, и совсем другое — когда его, считай, в живых нет, а княжич-наследник совсем маленький. Хотя все равно погано. Отбиться-то мы, может, и отобьемся, но то, что я прикован к Рязани буду намертво, — это и к гадалке ходить не надо. Так что у тех, кто на Угре сейчас стоит, руки полностью развязаны. Эх, Абдулла, Абдулла, — вздохнул он горько. — А ведь такое открытое лицо было. Да и Любим мне про него только хорошее говорил. Как же это оно так произошло и кто ж тебя переубедил?.. Хотя нет, скорее всего, там Мультек, братишка его, всеми командует, а может, даже и сам эмир. Впрочем, какая разница, — отмахнулся он досадливо. — Все равно бой тяжелый будет, если только вообще успеем его принять».
Но на носу передовой ладьи, действительно огромной, стоял не Мультек и не Ильгам ибн Салим, а Абдулла-бек собственной персоной, и от этого Константину стало еще горше.
Вылетев на полном скаку на пристань, он оглянулся — мало, ох и мало народу. От городских стен только с десяток дружинников и поспешали к князю. Впереди на жеребце вороном Изибор скакал, которого посланный Константином дружинник у ворот встретил.
«Чтоб хотя бы три-четыре сотни собрать — не меньше часа понадобится, — мысленно прикинул Константин. — И все равно. С той армадой, что сейчас по реке надвигается и уже в пятистах метрах от пристани находится, им не совладать. Хотя если за валом укрыться, то, может быть, и получится что-то, но где же взять этот самый час?»
Бек Абдулла тем временем начал что-то выкрикивать, раздавая команды, но какие именно — сказать было трудно, потому что ветер относил слова куда-то назад, да и не понимал рязанский князь булгарского языка.
Зато он прекрасно сознавал, что нужно что-то немедленно предпринять, иначе будет поздно. Что именно, Константин еще не знал. Была одна мысль, почти самоубийственная, но ничего лучше в голову не приходило. Ну и ладно. Семь бед — один ответ.
Константин сглотнул вязкую горькую слюну и обернулся к дружинникам.
— Все за вал!.. — приказал он властно. — Я один к ним пойду.
— Сам на смерть? — подивился стоящий ближе остальных Изибор Березовый Меч.
— Время потяну, — пояснил Константин. — Нам сейчас каждая минута дорога, авось удастся задержать ворогов, пока все, кто в Рязани остался, не соберутся. А ты давай назад в Рязань. Вооружай всех, кто в городе есть, и гони на валы немедля.
— Не дело ты, княже, задумал, — мотнул укоризненно головой Изибор. — Ох, не дело.
— Тут я решаю! Сейчас моя голова может всю Рязань прикрыть, — резко ответил Константин. — А за меня не бойся — выкручусь. Исполняй, — бросил уже на ходу и, не оглядываясь, медленно шагнул на мостки пристани навстречу неизбежному.
«А все-таки прав в том разговоре я оказался, а не Славка, — мелькнуло почему-то в мозгу. — Вот только жаль, что интуиции своей не доверился. Тогда все иначе было бы. А теперь…»
Он вздохнул, сделал второй шаг и приветственно поднял руку.
«Пусть думают, что я ничего не знаю. Тогда и впрямь удастся потянуть время. А сразу стрелять они не начнут. Невыгодно. Им же проще без боя в город войти, как друзьям, так что время у меня есть», — подумалось с надеждой.
Глава 8 Я сделал все, что мог
Скажу ясней. Пред тем как выступать, Я взвесил зло, которое мы терпим, И зло, которое мы причиним, И чаша с первым злом перетянула. Я понял, что бездействовать нельзя. В. ШекспирЯрослав знал, какие полномочия предоставить своим послам, которых он направил в Волжскую Булгарию. Скупиться было нельзя. Соблазн следовало сделать таким огромным, чтобы Ильгам ибн Салим даже не колебался в принятии решения.
Правда, Ярослав не знал точно, на каких условиях заключил рязанец мир с булгарами, но это его особо и не интересовало. Какая, в конце концов, для него разница — сколько именно гривен выторговал у эмира Константин.
Почему-то ему это представлялось именно так: сидит рязанец и охрипшим голосом, поминутно вытирая платком пот с раскрасневшегося лица, бьется смертным боем за каждую гривну, как конский барышник или ушлый новгородский гость. Такой вид ненавистного князя как-то сразу принижал Константина в глазах Ярослава, а его самого, соответственно, возвышал над ним.
Вот почему он просто махнул рукой в ответ на все вопросы боярина Творимира.
— Сули что хочешь, боярин. Можешь даже Устюг им отдать, который они уже взяли. И град, который Константин начал строить в устье Оки, если спрашивать станут, тоже отдавай, не скупись. Да и отберем мы его потом у них.
Творимир в ответ только вздохнул сокрушенно, но промолчал — по опыту знал, что спорить бесполезно.
Старик так и не покинул малолетнего сироту Всеволода, единственного сына погибшего Юрия Всеволодовича, которому он служил верой и правдой. Вместе с ним и тремя Константиновичами перебрался он на жительство в Переяславское княжество.
Рязанский князь, памятуя о том, как Творимир, не желая лить понапрасну кровь, сдался в плен вместе с полутысячей ратников, засевших в обозе, предлагал боярину остаться. Об этом Ярослав знал совершенно точно. Златых гор и кисельных рек с молочными берегами Константин не сулил, и именно потому — опять же по мнению последнего из оставшихся в живых сына великого Всеволода — старый боярин наотрез отказался.
«Рассчитывал, поди, что, оставшись, охапит больше, — злорадно думал Ярослав. — А того не подумал, сколь мне здесь, в Переяславском княжестве, пришлось новых ратников в дружину брать, да каждого при этом удоволить хоть немного».
Потому и терзало князя некоторое беспокойство — как бы Творимир, взвесив все хорошенечко еще раз, не переехал обратно. Ведь дал он ему намного меньше сел, нежели тот имел под Владимиром. Да что там меньше — всего три. И это набольшему боярину единственного, хоть и малолетнего сына своего брата Юрия.
Однако посылать больше было некого. Все видные мужи — и у него, Ярослава, и у Юрия, и у Константина — полегли там, под Коломной, в общей скудельнице, единой для всех погибших из многочисленной рати. Осталось всего несколько десятков, да и из них половина увечных, а остальные тоже по разным причинам не годились: либо возраст несолидный, либо горячи, несдержанны, либо с умишком не все ладно. Не дураки, нет. Но простоваты и прямодушны чересчур. В чистом поле, да с сабелькой вострой такими залюбуешься. Послы же иным умом обладать должны.
У Творимира как раз такой и был — говорит, лишь подумав как следует, обещать не спешит, да и откровенен не излиха. И прочие душевные черты боярина именно для этого дела подходили как нельзя лучше.
А вот с подарками дело худо выходило. Назанимав направо и налево гривен у купцов, Ярослав кое-что приобрел, но маловато. Конечно, лучше уж малые дары, чем совсем с пустыми руками людишек своих к булгарам посылать. Тогда и вовсе беда. Считай, что изначально на корню дело будет загублено, если они в Булгаре, как нищие за подаянием на паперти церковной появятся.
В Булгар шли кружным путем. С Днепра волоком близ Зубцова до Волги дотянули и дальше по ней, матушке, двинулись, чтобы вокруг только бывшие владения владимиро-суздальских князей лежали. По Оке, конечно, быстрее было б, но зато и не в пример опаснее. Тут же бог миловал, доплыли без приключений, личины обычных торговых гостей на себя натянув.
Разговор поначалу плохо получался. Молчал все время Ильгам ибн Салим, хотя слушал внимательно. Из ответных же его слов тоже ничего не прояснилось. Что принято говорить, то и сказано было — ни на золотник больше.
С другой стороны, и сами послы тоже опаску имели, говорить обо всем откровенно боязно было. Уж больно много народу при разговоре этом присутствовало. А ну как доброхот какой-нибудь тайный из Рязани среди ханских приближенных затесался. Тогда, считай, все прахом пойдет. Вот и получилось, как позже научились заковыристо выражаться, что «встреча, на которой присутствующие обменялись приветствиями, прошла в теплой дружеской обстановке и атмосфере взаимопонимания» А на обычный язык если все это перевести, на народный, то в приглядки поиграли.
Да оно и понятно, что по первости о делах не говорят, а уж у булгар, многое с Востока перенявших, тем паче.
А вот на третий день у послов с эмиром Булгарии уже более откровенная беседа состоялась. Да и принимали их иначе — торжественности поменьше, зато радушия побольше. К тому же эмир не один был — с двумя сыновьями пришел. Так вот и трапезничали по-семейному они с Творимиром и еще двумя мужами набольшими из числа послов Ярослава.
О том, что хан все прекрасно понимает, в том числе и необходимость соблюсти тайну, говорило уже одно то, что толмача обычного на беседе этой не было вовсе. Сам Ильгам ибн Салим русским языком плохо владел, потому говорил мало. В основном его старший сын спрашивал, наследник престола Абдулла-бек. Вопрос задаст, ответ выслушает и отцу своему гыр-гыр-гыр по-своему, по-булгарски. Тот ему небрежно что-то кинет, а бек вопрос этот тут же послам переадресовывает, снова на русский его переводя.
Так и общались. Пусть медленно, зато без толмача пришлого. Эмира же, после того как он о подлинной цели приезда узнал, все интересовало — и как пойдут княжеские рати на Константина, и в каком количестве, и надежный ли ряд[86] заключен с половецкими ордами, да не выйдет ли с ними какой заминки.
Не нравились Творимиру все эти вопросы, напоминающие чем-то даже не разговор, а, скорее, допрос, однако деваться было некуда и приходилось отвечать, хотя боярин старался, как мог, от точных цифр уклоняться. Причину же выставил простую — вы прежде всего согласие дайте, что пойдете на Рязань, а уж мы тогда все полностью вам поведаем.
Эмир же, напротив, непременно хотел все вызнать, иначе, как он сказал, не сможет принять никакого решения. Выразился он, правда, более витиевато, в цветастом восточном стиле, что, мол, не по чину ему в темной комнате черного барса вылавливать, но смысл понятен был.
Лишь под самый конец пошли вопросы меркантильного порядка. Тут уж Творимир не поскупился. Хоть и коробило его оттого, что Русь раздавать в чужие руки приходилось, но говорил он, как князь Ярослав и повелел. Пообещал мир заключить на самых что ни на есть выгодных условиях: эмиру дань вернуть, которую рязанский князь с булгар содрал, и еще столько же дать. Кроме того, заверил он Ильгама ибн Салима, что Великий Устюг, который был воинами эмира захвачен, а ныне снова под Константинову руку попал, Ярослав навечно Волжской Булгарии отдаст.
Да и подарки боярин посулил немалые всем, кто в поход этот пойдет, а уж правителю и сыновьям его — особые. Слыхал-де Творимир будто хан — большой любитель книг рукописных. Так он, боярин, голову на плаху кладет, что в подарки эти, едва только они Владимир с Ростовом возьмут, непременно включат половину самых лучших и дорогих книг из личной вифлиотики князя Константина Всеволодовича. И тут же с радостью заметил, каким азартом заблестели глаза старого эмира.
«Ай да Творимир! Ай да молодец! Угодил, кажись», — даже порадовался в душе старый боярин, хотя книг этих, в отличие от Ярослава, коему на премудрость написанную с детства наплевать было, все равно стало немного жаль. Впрочем, не только книг.
— Если великий правитель Волжской Булгарии даст согласие на свое участие в этом совместном походе, то ему хотелось бы знать, чей будет тот малый град, кой люди князя Константина уже начали рубить потихоньку в устье Оки? — задал новый вопрос Абдулла-бек.
Тяжко было на такое отвечать. Не только умом, но и всем сердцем боярин понимал, как прав рязанский князь, ставя этот город. Булгары ведь почему набеги на Русь устраивали? В отместку за ватаги разбойничьи, которые на них часто с верховьев Волги шли. Поставив в таком месте город, Константин не только от булгарских набегов всю Русь закроет, не-ет. Он же еще, если захочет, конечно, сумеет и вниз никого не пустить, чтоб на будущее у соседа торгового никаких претензий не возникло. Опять же вся торговля по Волге через него первого пойдет.
Да и места там знатные. Бывал боярин в тех краях не раз, видел. О том и князю своему покойному Юрию говаривал, да тот все отмахивался.
— Когда сам на великое княжение сяду, тогда и думать будем, — отвечал он.
Может, и впрямь поставил бы, как знать, но у покойника ныне не спросишь.
— Твой он будет, великий эмир, — вздохнул с тоской Творимир. — Его не Юрий и не Ярослав строить начали, а их ворог Константин. Посему наш князь и слова не скажет супротив того, чтоб ты град сей, захватив его, под свою длань взял.
— Опять же на мордву ваши князья ходят каждое лето. Они же суть данники наши, — бесстрастным голосом переводил Абдулла-бек.
— Ныне волости их оставим в покое и более ходить на них не станем, но до тех пор, пока они нам обиду не учинят, — ответил Творимир и насторожился.
Ему еще в самом начале беседы почудилось, будто не совсем так сын эмира его ответы отцу переводит. Похоже очень, но смысл не такой получается. Старый боярин ведь не один раз к булгарам хаживал. С посольством — да, впервые. Но будучи еще гриднем безусым, доводилось ему с полками Всеволода Большое Гнездо в лето 6691-е[87] от сотворения мира и Биляр ихний в осаде держать. Недолго, правда, они Великий город[88] тревожили — любимый племянник Всеволода Изяслав Глебович в свару с булгарами полез без спроса и был ранен тяжко. Пришлось спешно мириться и назад уходить.
Второй раз они на эти земли спустя три года пришли. Тоже знатно почудили, вернувшись с пленниками и добычей. Третий — когда Творимир только свой пятый десяток разменял. С судовой ратью ходили и тоже успешно. Говорить по-булгарски он научился совсем немного — лучше и не пытаться. Понимал же почти все, особенно если речь лилась не спеша, размеренно, а слова произносились четко. Абдулла-бек именно так отцу и переводил.
Первую фразу, которая Творимира насторожила, сам боярин, вручая подарки, произнес так:
— Мы ныне люди небогатые, но уважение имеем.
В устах Абдуллы при переводе она звучала чуть иначе:
— Мы люди бедные, потому и уважение имеем.
«Может, нет у них различий таких. Что небогатый, что бедный — все одним словом обозначается», — успокоил он сам себя.
Второй раз Творимир сказал, что когда они земли повоюют, то подарки тоже иными будут. Бек отцу своему перевел, что когда булгары земли им повоюют…
«Ну, не понял малость Абдулла, что я изрек», — вновь урезонил себя посол.
Сейчас же третий раз бек перевел сказанное по-иному.
— Пока волости их мы в покое оставим… — так звучало у него начало фразы.
Творимир отхлебнул из пиалы душистого шербета и, как бы между прочим, заметил своему соседу:
— Гоже ли, когда наследник престола ханского своему отцу нашу речь вкривь и вкось толмачит?
Оп-па! Так и есть! Засмущался бек, лицом зарделся, эмиру же совсем иное сказал:
— Об угощении посол русичей говорит. Хвалит стол твой. Говорит, богатый.
— Про угощение ты верно сказал, Абдулла, — подтвердил невозмутимо Творимир. — Хотя я такого и не говорил. Однако с этим соглашусь без спору.
Лицо Абдуллы еще больше раскраснелось. Он беспомощно посмотрел на отца, а тот вдруг, ломая слова вкривь и вкось, сам вступил в разговор:
— Я твой дума хорошо понял, боярин Творимир. Мой сын не так много речь твой знает, посему прости отрока.
«Хорош отрок, — крякнул мысленно боярин. — У иного княжича в его возрасте уже внуки имеются». Вслух, однако, он иное произнес. Заверил, что пустяки все это, тем более что великий эмир и сам, поди, хорошо понял все, что сказал Творимир, так что большой беды тут нет.
Остаток беседы все же скомкался. Прощаясь, Ильгам ибн Салим сказал сам по-русски, не доверив сыну:
— Теперь мы думать будем. Крепко думать надо — время много нужно. Плохо думать нельзя. Промах делать — всем худо станет.
С тех пор не один день прошел. Чувствовал боярин, что все на волоске висит. Видать, есть у них и сторонники, и враги. Кто победит? Богу одному известно, да еще аллаху ихнему. Поди спроси их обоих. Творимир бы спросил, только бесполезно это — молчуны там на небесах сидят. Не до людей им. Остается терпения набраться и ждать.
Так седмица прошла, другая потянулась. Тишина кругом. Будто забыли про них булгары. Нет, корм исправно поставляли в дом, что им для жилья отвели. И напитков ароматных, даже медов хмельных, тоже привозили без счета. Но не зря тревожился Творимир, вспоминая пословицу, что там, где мягко стелют, иной раз жестко спать приходится, ох не зря.
И правильно рекло ему сердце-вещун. Судьба послов Ярослава, равно как и само решение эмира, на волоске зависла. В какую сторону полетит — неведомо, потому что два сына-погодка друг с дружкой сцепились, уступать не желая.
Абдулла-бек больше на уговор нажимал, который они с Константином заключили. Мол, не дело это, великий эмир, сызнова переиначивать. Коли уж решили один раз, так давай и будем этого держаться.
— Я же от твоего имени на священный свиток руку возложил, когда клялся. К тому же все земли в руках князя Константина. У него люди, у него сила. Ему выгоднее помогать, — убеждал он отца.
Молчал Ильгам ибн Салим. Ничего не отвечал. А Мультек-бек иную позицию занял.
— Посмотри, отец, сколько мы приобретем одним разом, — говорил он. — Град Великий Устюг наш будет, гривны, что мы Константину отдали, себе заберем и еще вдвое больше возьмем. Воины добычу возьмут — это тоже хорошо. Но главное в том, что все знать будут — не мы Руси, а она нам дань уплатила. К тому же мы слабому поможем. Осильнев, он нам обязан будет.
По-прежнему молчал хан. И этому сыну он ничего не ответил. Зато Абдулла-бек голос подал:
— Ты забыл, брат, сколько раз полки отца этого князя на Булгарию ходили[89]. И всегда они воевали, не желая сразу миром дело окончить. Да и сам Ярослав тоже хорош! Вспомни, что нам про него сказывали и как он с простыми купцами поступил, когда его под Липицей разбили.
— То не наши купцы были, не булгарские, — нашелся Мультек.
— Так это еще хуже, — резонно возразил Абдулла. — Если он со своими так поступает, свои города голодом морит, своих купцов живьем в землю закапывает, то чего нам от него ждать?! Вот о чем подумать надобно. И здесь то же самое. Ведь это не Константин на него войной пошел — он-то как раз мира хотел.
— Все равно он останется чужим для нас, — упрямо заявил Мультек.
— А я что, предлагаю породниться с Рязанью?! Но он стал нашим другом.
Ильгам ибн Салим слегка кашлянул.
— Союзником, — поправил он спокойно.
— И то пока лишь на словах да на бумаге, — радостно добавил Мультек.
— Пусть так, — не сдавался Абдулла. — Но и этого достаточно. Еще полгода назад мы были одни, совсем одни. Теперь мы заключили договор, и не только о мире, как обычно, но и о ратной помощи друг другу. Что же нам — все это разрушить? Зачем? А главное — в такое время?
— А что время? — хмыкнул Мультек, пожав плечами. — Время сейчас как раз спокойное.
— Спокойное, говоришь? — вскипел Абдулла. — Посмотри на полуденные страны. У шаха Мухаммеда сильное войско было. Его земли от моря до моря лежали[90]. Где ныне семивратая Бухара?! В огне пожарищ. Что с Семеркендом? Тоже разрушен. О прочих я и вовсе молчу. Не сегодня-завтра и Гургандж[91] заполыхает. Или ты мыслишь, что злобный степняк остановится? Хорошо, если аллах не позволит ему прийти на наши земли. Но если он все-таки допустит это, ибо кто ведает все помыслы его и изгибы дум — что тогда? Константин понимает это. Он не стал проливать кровь наших людей. Он хочет жить в мире со своими соседями.
— Вспомни лучше, сколько отцу пришлось заплатить за этот договор, — не уступал Мультек.
— Мне нечего вспоминать. Когда я его предложил, рязанский князь не запросил ни на одну гривну больше того, о чем было сказано вначале. Он поверил нам.
— Да не в гривнах дело. Унизительно великому эмиру Булгарии платить дань какой-то Руси! — перешел на крик Мультек, с ненавистью глядя на брата.
— Не какой-то. Зачем так говоришь? Унижая другого, сам этим не возвысишься. И мы не платили дань. Константин поступил благородно. Он не стал спорить с нашими фатихами, когда те в договоре указали, что эти гривны — подарок за причиненную обиду, — начал в свою очередь злиться Абдулла. — А вот боярину, который прибыл во главе посольства от Ярослава, как раз есть чему поучиться у рязанского князя. Он раз десять произнес слово «дань», будто наслаждался им. Мне даже стыдно стало перед великим эмиром, словно это я сам выдумываю это слово.
Ильгам ибн Салим продолжал хранить молчание, и страсти накалялись.
— Он согласился на договор, потому что боялся наших воинов. Мы бы разбили его, отец. Напрасно ты отказался от сражения. Он бы не устоял, потому что на двух его ратников приходилось трое наших. — Глаза Мультека воинственно сверкали.
— И здесь ты не прав, брат, — усмехнулся Абдулла. — Даже если бы у тебя было вдвое больше воинов, он все равно победил бы. Не веришь мне — спроси у Керима, а еще вспомни рассказ аль Бикера, который прошлую зиму был в Коломне и застал ту страшную сечу между Константином и Ярославом. Да и тут перед нами рязанский князь не скрывал свою силу, хотя, как мудрый человек, и не хвалился ею. Его пеших воинов может сломить только тяжелая конница рыцарей-меченосцев, и то, если их будет не меньше чем один всадник на двух ратников, иначе они устоят и перед ними.
— Но ныне против него две половецкие орды и вся остальная Русь. Ему не устоять. Я не хочу, чтобы Булгария была в числе побежденных.
— А я верю в Константина. Он мудр, его воеводы хитры, а вои отважны. Он устоит. Мы окажемся в числе побежденных, если станем помогать Ярославу.
— Но зачем нам помогать сильному? Если князь Константин сейчас победит, то станет слишком могуч. Как бы он не привел войско к нашим городам раньше, чем это сделает далекий степняк. Ты можешь, приложив руку к груди, дать отцу клятву в том, что он это не сделает?! — упирался Мультек.
— Я могу это сделать немедленно, если будет на то позволение великого эмира, — отчеканил Абдулла. — Но одного не пойму, брат. Мы сейчас обсуждаем не дела семьи. Здесь решается судьба всей нашей страны, а ты все время называешь Ильгам ибн Салима отцом, а не эмиром. А свое войско рязанский князь мог привести к нашим городам уже в эту зиму, и мы бы не сумели его остановить. У Биляра крепкие стены, но наши купцы говорили, что его воины, если захочет князь, берут города в первую же ночь. Они знают, как открыть городские ворота, и не раз доказывали это на деле. Вспомни, что рассказывал нам Богумил.
— Мать этого купца родом из Руси. У него даже имя русское, — пренебрежительно махнул рукой Мультек. — Что его слушать.
— Он честный человек, а это главное, — возразил Абдулла. — И я помню, и эмир, и ты, как он поведал о том, что в Переяславле-Рязанском лег спать при Ингваре-княжиче, а проснулся при Константине. Его вои взяли град бесшумно и всего за одну ночь.
— Биляр так легко им не одолеть, — гордо ответил Мультек.
— Ты из простого любопытства хочешь испытать судьбу? — прищурился Абдулла. — А если он его взял бы?
— Хорошо, пусть Константин и впрямь так силен. Но мы можем не помогать никому. Пусть они и дальше враждуют между собой. Наша Булгария от этого станет еще величественнее.
— Мы могли бы так поступить, если бы к нам никто не приехал, — скучным голосом пояснил Ильгам ибн Салим. — Теперь мы уже не можем остаться в стороне. Либо тот, либо другой, но выбор сделать необходимо.
— Мы можем помочь Ярославу только в случае, если подло ударим в спину человеку, который заключил с нами договор о ратной помощи, великий эмир. Тот, на чьей книге я поклялся в нерушимости наших слов, не простит нам.
— Он не всегда карает тех, кто так поступает, иначе в мире не было бы клятвопреступников. Я прав, оте… великий эмир? — мигом поправился Мультек.
И тут Ильгам ибн Салим вновь кашлянул. Сыновья замолчали, глядя на отца.
— Ты прав, Мультек-бек, — произнес хан.
— Отец! — воскликнул горестно Абдулла.
— Эмир, — злорадно поправил его Мультек.
— Да, твой брат прав, — еще тверже произнес правитель Волжской Булгарии, обращаясь к Абдулле, и наследник престола уныло замолчал.
Что-либо говорить и в чем-либо убеждать отца было теперь бесполезно, и Абдулла это знал. Эмир не торопился с решениями, внимательно слушая всех советников. Он мог перебить кого-то, чтобы уточнить интересующее его обстоятельство. Он мог переспросить, если какой-нибудь хитрец из числа фатихов, кадиев или муфтиев[92] нарочито туманно формулировал свое предложение, чтобы в любом случае оказаться заодно с эмиром. Только одного он не допускал — возражений после того, как он уже принял решение.
— Ты должен был высказать все до того, как я начну говорить. Я никому не мешал, — обычно обрывал он возражающего.
Поэтому Абдулле оставалось только уныло молчать и слушать, что скажет правитель Волжской Булгарии.
Мультек-бек тоже молчал, но иначе. Он молчал торжествующе. После удачно проведенных переговоров многим уже казалось, что звезда его брата загорелась ярче других, уступая блеском лишь величавому свету солнца самого эмира. От него в стан Абдуллы даже стали перебегать те сторонники, которых он до недавнего времени считал верными и преданными ему до могилы.
Ну что ж, зато теперь он снова впереди. Никаких сомнений в этом быть не может, ведь отец принял его сторону. Оставалось лишь услышать, сколько воинов предполагает выделить Ильгам ибн Салим, чтобы ударить в спину рязанскому князю.
О том, кто именно поведет их на славную битву, можно даже не спрашивать. И без того ясно, что доверит это эмир лишь одному своему сыну, и сына этого зовут не Абдулла. Уж он-то, Мультек, не будет церемониться, когда станет наносить этот жестокий коварный удар, и угрызения совести его не замучают. К тому же он не клялся от своего имени, а также от имени своего отца-эмира в вечной и нерушимой дружбе, положив ладонь на священный свиток. То есть клятвопреступником его никто не назовет.
Говори, отец! Говори! Твои слова слаще любого шербета для твоего сына! Говори, а он будет благоговейно внимать им, как одному из откровений всемогущего аллаха.
Но если бы Мультек слышал, что шепчут сейчас губы его брата, он возликовал бы вдвойне.
— Прости, князь. Прости, друг. Аллах видит, что я сделал все, что в моих силах, стараясь убедить отца. Он вообще-то разумный человек, но похоже, что сегодня мудрость изменила ему. Тебе не повезло, князь Константин, потому что теперь он может изменить свое решение, лишь если это повелит сделать тот, кто вечно пребывает на небесах. Но он молчит, а значит…
И похоронным набатным звоном колокола глухо и больно ударил в уши голос отца:
— Людей на Рязань поведет Абдулла-бек. Его Константин знает, стало быть, и веры ему будет больше, хотя бы поначалу.
«Не-е-ет!» — хотел было завопить в ответ его сын и лишь отчаянным усилием воли удержался от этого всплеска, который недостоин для наследника.
«Потом, все потом», — прикусил он нижнюю губу с такой силой, что тоненькая злая струйка крови неслышно скользнула по смуглому подбородку.
Хан Булгарии покосился на наследника, неопределенно хмыкнул — то ли одобрительно, то ли осуждающе — и продолжил излагать то, что он решил твердо и окончательно.
Глава 9 Я думал, что мы друзья
Если друг оказался вдруг И не друг, и не враг, а так; Если сразу не разберешь, Плох он или хорош… В. ВысоцкийЕдва головная ладья причалила к пристани, как от нее в красивом прыжке отделилась ловкая гибкая фигура наследника престола Волжской Булгарии.
— Ты не представляешь, как я рад видеть тебя, княже, — завопил он радостно, ничуть не скрывая переполнявших его чувств, и крепко обнял Константина.
— Как твое здоровье, дорогой бек? — приветливо улыбаясь, осведомился в свою очередь рязанский князь. — Какие, гм… чудеса позволили тебе так быстро приехать ко мне в гости?
— О-о-о, — даже застонал Абдулла. — Их так много, что если я начну загибать пальцы на одной руке, то их не хватит, и я вынужден буду загнуть все пальцы на другой. Получится, что я рассказываю хозяину новости, тряся у него под носом кулаками, а разве подобает так себя вести гостю и… другу, а?
— Нет, так не подобает себя вести гостю, а тем более другу, — согласился Константин, напряженно размышляя, может ли человек так искусно притворяться, а если нет, то тогда что на самом деле привело сюда Абдуллу.
— Но ты что-то печален, князь, — слегка отстранился от него бек и совершенно иначе, во всяком случае, гораздо внимательнее, вглядываясь в лицо Константина. — У тебя что-то случилось?
— Ты знаешь, Абдулла, у меня много чего случилось и все именно сегодня. К сожалению, хорошего среди этого нет — только плохое. Но ты гость, который дорог мне, как глоток ключевой воды в жаркий летний полдень.
— Смотри не застуди горло, — шутливо погрозил ему пальцем бек. — Стоило мне в детстве попить холодной воды в жаркий летний полдень, как я немедленно заболевал.
— Я постараюсь, — кисло улыбнулся Константин и предложил: — Идем же. Конюший уже приготовил двух коней. Взгляни на Рязань. Я, конечно, не смогу похвастаться, что в моем городе столь же могучие стены, как и в твоей столице, но лиха беда начало.
— Как только я вернусь в Булгарию, немедленно пришлю тебе своих мастеров. Поверь, что у нас самые лучшие мастера, хотя у тебя они тоже неплохие, — заметил Абдулла, внимательно вглядываясь в низенькие, не выше метра, крепостные стены. — Чуть подучатся и будут совсем хорошие.
Тут он резко шагнул вперед и встревожено повернулся лицом к князю, мешая ему идти.
— Делай вид, будто по-прежнему весело говоришь со мной, — таинственно прошептал он.
— Так я и говорю, — удивился Константин.
— И улыбайся, улыбайся, — прошипел бек. — Вот так. А теперь скажи мне, ты не чувствовал, что кто-то хочет тебя предать или за что-то отомстить?
— Такие люди есть, но они далеко, — ответил князь.
— Но они могли подкупить твоих людей, — предположил Абдулла.
— Не думаю, — усомнился Константин.
— Тогда почему в тебя целятся из лука сразу два человека, которые притаились за стенами крепости?
— Так вот почему ты встал впереди меня! — обалдел от неожиданности Константин.
— Тише, — прошипел Абдулла и добавил: — За меня можешь не опасаться. На таком расстоянии мою стальную кольчугу не пробить. Ее делали лучшие мастера Булгарии. Но ты не ответил.
— Это… — Константину стало неимоверно стыдно за свою глупую подозрительность, но теперь нужно было каким-то образом дать задний ход и при этом не обидеть бека. — Это мои воины. Не подумай чего дурного, просто… просто я же не видел, кто плывет. Мои люди увидели множество воинов в ладьях, вот и заняли оборону. А когда… когда я увидел тебя, то я… я так обрадовался, что забыл отменить их приготовления… Вот, — и Константин облегченно вздохнул. — Сейчас я все это отменю.
Он мягко отстранил бека и скрестил руки высоко над головой. Лучники, заметив команду князя, разом опустили луки.
— Вот и все, — улыбнулся Константин.
— Но вначале пошли ко мне на ладью, — пригласил Абдулла.
— Зачем?! — опять удивился князь.
— Я привез очень хороший подарок, который могу тебе показать, но не могу подарить, — загадочно объяснил бек.
— Это очень странный подарок, — усмехнулся Константин, заинтригованный этой таинственностью.
— Нет, он не странный. Он дорогой, — пояснил Абдулла, и едва они ступили вдвоем в ладью, как бек махнул гребцам рукой и приказал: — Отчаливай.
Тут же прежние подозрения навалились на Константина с еще большей силой.
— Мы… куда? — растерянно спросил он.
— К подарку, — пояснил Абдулла. — Здесь много ладей, а та, что нам нужна, плывет предпоследней. Причаливать долго. Проще подплыть самим и полюбоваться дорогим подарком.
— Тебе пришлось крепко потратиться? — уточнил Константин.
— Не мне — отцу, — улыбнулся Абдулла. — А истратил он на него… Ну, если считать все, то великому эмиру он обошелся всего-навсего в несколько десятков тысяч гривен и в два города, из коих один все равно сожгли не так давно, а другой только начали строить.
Подозрения теперь не просто навалились на князя — они душили его, не давая вздохнуть.
— Мы почти подплыли, но вначале я расскажу тебе одну историю. Присядем, — предложил Абдулла и принялся подробно и честно, ничего не утаивая, излагать все те события, которые произошли в Булгарии.
Закончил же он свой рассказ словами:
— Прости меня, князь, но я действительно сделал все что мог и в тот миг молил лучезарнейшего лишь об одном: чтобы он даровал мне милость и не дал моему отцу приказать именно мне командовать той ратью, которая пойдет против тебя.
— Но аллах тебе ее не даровал, — продолжил Константин, грустно улыбаясь.
— Ты не перебивай, а слушай, — назидательно произнес бек. — И тогда великий Ильгам ибн Салим продолжил и повторил, что Мультек прав. Клятвопреступники далеко не всегда подвергаются каре аллаха в этой жизни. Иногда они живут долго и счастливо. Хотя это вовсе не означает, что справедливейший забыл об их тяжком проступке. Напротив. Если нет кары в этой жизни, то в той наказание для них непременно удвоится. «Возможно, что в этом мире мой сын Абдулла-бек будет тоже жить долго и счастливо, но я не хочу подвергать его двойной небесной каре, — сказал дальше великий эмир. — Трудно сказать, как бы я поступил, если бы этой клятвы не было. Знаю одно — я бы думал еще не один день. К тому же Абдулла-бек прав и в другом — рязанский князь вел себя достойно. Он показал себя умным, когда не пролил крови, мудрым — потому что понял, откуда ему ждать настоящего врага, учтивым, так как он согласился принять подарок, а не дань, великодушным, когда не стал увеличивать ее, и прозорливым — потому что заключил не договор, а долгосрочный союз. Значит, с ним можно иметь дело. Такого соседа не только можно держаться — таким нужно гордиться». Ты бы видел рожу моего братца, — фыркнул бек. — Она была похожа на сморщенную дыню или скисшее молоко, а скорее на то и другое вместе и в больших количествах.
Он не выдержал и захохотал. Смеялся бек весело, как напроказивший мальчишка, который только что так удачно разыграл своего сверстника. Константин, с души которого все подозрения будто смыло прохладной окской водой, от всей души вторил Абдулле, дыша полной грудью.
— А теперь о подарке. — Бек вновь стал серьезным. — Вначале вложи стрелу своего гнева в колчан своей выдержки, а если станет тяжело это делать, то вспомни, что перед тобой послы и я поручился за их жизнь и здоровье перед великим и мудрым эмиром. Можешь оглянуться и посмотреть на свой подарок. — Он махнул рукой.
Повинуясь команде своего бека, два полуголых жилистых булгарина метнулись под палубу и появились через минуту уже не одни. Рядом с ними были послы князя Ярослава. Их мрачные лица красноречиво говорили сами за себя, наглядно дополняя всю правдивость и искренность рассказа Абдуллы.
— Творимир, — удивленно протянул Константин. — Вот уж не чаял увидеть среди них и тебя.
Тот в ответ лишь смущенно пожал плечами — мол, чего уж тут, я и сам не ожидал такой встречи.
— Они могут сойти на берег? — настойчиво спрашивал Абдулла. — Хотелось бы, чтобы эти люди передохнули, но если ты…
— Я ручаюсь за их безопасность, — твердо сказал Константин. — Особенно за того, седого.
— Он был главным среди них, — пояснил бек.
— Мне жаль его. Он хороший человек, преданный своему князю.
— Княжичу, — поправил его Творимир. — Княжичу Всеволоду Юрьевичу. Я не уберег его отца под Коломной, потому что меня там не было. Но надеюсь, что хотя бы княжича на первых порах я сумею сохранить от бед.
— Стало быть, ты его дядька-пестун, — протянул Константин. — Ну что ж, дело хорошее. Думаю, когда княжич вырастет, враждовать со мной не станет. Дружно будем жить, вот как мы с Абдуллой. — Он благодушно приобнял бека за плечи и… сразу ощутил что кое-чего у булгарина под рубахой не хватает.
Убрав руку, он повернулся к наследнику булгарского хана и, прищурившись, уточнил:
— Стало быть, ты в кольчуге был, бек? А когда ты снять ее успел — не приметил я что-то?
— Ах, ты вон о чем? — догадался будущий эмир. — Ну, должен же я был, по завету величайшего, вернуть тебе долг. Что делать — вера у нас такая, — вздохнул он, сокрушенно разводя руками, и хитро подмигнул. — Помнишь пир-то?
— Как не помнить.
— А того хатиба в зеленой чалме?
— И его тоже.
— Мир праху его, — сокрушенно вздохнул Абдулла. — Он скоро умер. Не прошло и месяца после того, как ты уехал, и он…
— Славный был человек, — согласился Константин. — Особенно любил подмешивать в мед сына эмира разные острые приправы.
— О-о-о, в этих делах он был большой умелец, — подтвердил бек. — Но что поделать, вседобрейший так возлюбил его, что не стал медлить и взял к себе. Ныне он уже ходит по райским садам среди множества гурий и утоляет жажду из фонтанов с вином.
— Надеюсь, что там ему в вино тоже добавляют разные острые приправы, — заметил Константин.
— Справедливейшему виднее, но мне очень хотелось бы, чтоб твои пожелания сбылись, — согласился с другом Абдулла, вторично выходя на пристань.
Оба они понимающе улыбнулись.
— А этих воев ты привел… — начал было Константин.
— Договор, — важно произнес бек, перебив князя. — Мы, булгары, слову своему верны. Так выгоднее. Так нам веры больше. На тебя враг идет — мы поможем. На нас надвинется — ты не забудешь. Верно?
— Ох, не забуду, дружище! — весело улыбнулся Константин.
Слуги-булгары уже подвели своему повелителю белоснежного жеребца.
— Со мной ехал, — похвалился Абдулла с какой-то ребячьей гордостью. — Он у меня умный. Всю дорогу терпел, ни разу даже копытом не ударил.
— Ты прости, бек, что я о деле сразу. Не до того мне, чтобы спрашивать о здоровье твоих подданных и близких, — повинился Константин уже по пути к своему терему.
Абдулла в ответ только яростно замахал руками.
— Тут каждый час дорог. Разве я не понимаю. А о здоровье сам скажу — все живы и все в порядке, — не забыв отметить: — Мудры у тебя предсказатели. И впрямь выздоровел отец. Двоих только с тех пор к себе всемогущий на суд призвал. Про того, что в зеленой чалме на пиру был, я уже сказал, а второй через одного от него сидел.
— Я понял тебя, бек. Ты молодец, что поверил мне.
— Прости, друг, но я поверил не тебе, а тому псу, который разливал мед, — повинился Абдулла, отчаянно прижимая к сердцу руку. — Говорят, перед смертью не лгут. Не знаю. Думаю, он не лгал.
— Бывает. Когда жить человек захочет, то такого наболтать может… — осторожно заметил князь.
— Возможно, но он уже не хотел жить, — буднично пояснил булгарский наследник. — Скорее наоборот, он очень хотел умереть и просил моих людей помочь, а те медлили. Тогда он заговорил. Но ты хотел спросить о другом, да?
— Сколько людей ты привел? — уточнил Константин деловито.
— Конных — один я, — лукаво улыбнулся Абдулла. — Пеших — три тысячи.
— Сколько?! — не поверил своим ушам Константин.
Бек воспринял этот выкрик иначе. Он вновь покаянно приложил правую руку к сердцу и проникновенно заявил:
— Я понимаю, что мало, но отец сказал, чтобы я не позорился. Русичи — храбрые воины. Они воюют — о-о-о! — Он восхищенно закатил глаза кверху. — Сам я, увы, не видел, но один из наших купцов, который, — бек немного замялся, — совершенно случайно был в Коломне позапрошлой зимой, видел, как твои люди дрались. Потом нам с отцом рассказывал.
Тут Абдулла смутился и начал торопливо пояснять:
— Мы со всеми купцами говорим. Отец — старый человек, потому и любит, когда много новостей. Интересно ему. А меня всегда с собой берет, чтоб не заскучать.
— Я понял тебя, бек, — улыбнулся Константин. — Я все правильно понял.
— Хороший друг всегда правильно поймет, — согласился Абдулла. — Плохого не подумает.
— А почему отец сказал, чтоб ты не позорился? — переспросил князь.
— Обычные наши вои много хуже, чем твои. Такими могли бы стать, но их учить надо. Тех, что со мной пришли, тоже надо учить, но они самые лучшие. Больше половины в сечах побывали, когда караваны судов торговых по Итилю до моря сопровождали и обратно. Отец сказал — пусть рязанский князь простит, что мало дал. Зато лучших. Мне за них не стыдно будет и тебе, Абдулла, тоже, — он хихикнул, — Мультек у отца в поход просился, но хан не пустил. Сказал, — тут бек приосанился и важно произнес: — Князь Константин тебя не знает. Он друг Абдуллы — не твой. Ему и на помощь идти. Когда пойдем? — повернулся он к князю.
— Гонцов я уже повсюду отправил. Я же войны к осени ждал, — пояснил Константин. — Ныне у меня все люди расписаны. А завтра поутру выплывать уже надо. Есть у меня один план. Твоим людям главное Оку перекрыть, чтобы пешие ратники не прорвались. А то сам видишь — град мой стольный без стен стоит.
— Ты на сердце тревогу не держи, — ободрил бек. — Супротив наших ладей ваши, как волчонок месячный против вожака матерого. Так что будь покоен — ни одна не прорвется.
— Зато их намного больше, — предупредил Константин.
— Велико стадо, да овцы, мала стая, да волки, — усмехнулся Абдулла. — Это же не твои вои, верно? К тому же и драться с воды не просто, для этого особые навыки нужны. Сразу так не обучишься. У моих людей они есть. Ты не думай, я не хвалюсь, — заверил он. — Как есть говорю. Если на каждого моего десятеро придется, то тут не знаю. Отступить не должны, но и победить вряд ли смогут. Хотя тоже — смотря где. Если на Оке твоей, то и тут управиться смогут — она же узкая, с Итилем не сравнить. А ежели только пятеро — считай, что на равных биться будут.
— Ну, ты прямо камень с души снял, — сознался Константин.
— На то и друг, — философски заметил Абдулла. — Радостью с ним поделишься — две радости станет, а горем — половина останется.
— Тогда мы поступим так, — сказал Константин, едва они с беком прошли в малую гридницу. — Теперь, когда у меня есть твои вои, мы сможем сделать все, как нужно. Дело вот в чем. Я не хочу войны…
Изумленный взгляд Абдуллы был красноречивее любого вопроса.
* * *
Сам будучи в услужении у диавола, он же и прочих басурман призваша в подмогу себе, и шли те с охотою, чая превеликую злобу свою на христианах выместить безнаказанно.
Из Суздальско-Филаретовской летописи 1236 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1817* * *
Нет ничего удивительного в том, что булгары пришли на помощь Константину. Ведь князья Владимира часто ходили в походы на них, и вот теперь у них появилась прекрасная возможность ответить тем же.
Вполне вероятно, что Константин, предвидя возможные конфликты со стороны княжеств Западной и Юго-Западной Руси, специально обговорил военную помощь, потребовав, чтобы в случае необходимости ему таковую выделяли незамедлительно.
О. А. Албул. Наиболее полная история российской государственности. СПб., 1830. Т. 2, с. 159.Глава 10 Заклятье
Заклинаю, любя, Мой крылатый друг, Пусть хранит тебя Колдовской мой круг, Отправляясь в ночь, Не сломай крыло И колдуньи дочь Не отдай перо… П. Миленин— Ну, здрав буди, княже.
С этими словами Мстислав Мстиславович Удатный откинул входной полог небольшого уютного шатра и, неловко согнувшись, неуклюже шагнул в него. Его кряжистая фигура казалась темной в сумраке свечей. От порыва ветра, ворвавшегося вместе с ним в палатку, пламя свечей тревожно заколыхалось и в такт им несколько раз угрожающе изогнулась из стороны в сторону огромная тень Удатного, словно предупреждая о чем-то рязанского князя.
— И тебе здравия на долгие годы, — радостно ответил Константин, облегченно улыбаясь.
Первая часть его плана сработала на все сто процентов. Лучших из лучших спецназовцев привлек он к операции по вызову Мстислава Удатного на переговоры, но все равно боялся, что где-то, на какой-то стадии все сорвется и заманить галичского князя в глухую лесную чащобу на встречу с ним, Константином, все равно не получится.
Тем более что сложным было все целиком. Во-первых, необходимо было добраться незамеченными до какого-нибудь укромного места, но чтобы оно непременно было совсем недалеко от устья Угры. Во-вторых, помимо основного лагеря, который предстояло разбить на берегу, нужно было еще и шатер в лесу поставить, пусть и маленький. Не принимать же дорогого гостя возле костра. В конце-то концов, он не просто авторитетный князь, он еще и… отец Ростиславы. И все это надлежало разместить так, чтобы ни одна живая душа не смогла заметить.
Но все эти мелочи бледнели по сравнению с основной сложностью. Ведь кому-то необходимо было неким загадочным образом пробраться к Мстиславу и оказаться с ним наедине. Да не просто оказаться, а еще и переговорить, и так пригласить его на встречу с рязанским князем, чтобы тот согласился на нее прийти.
После того как Константин узнал, что за ужасы про него рассказывал епископ Симон, вероятнее всего было бы предположить, что Удатный не просто от этого свидания может отказаться. Не-е-ет. Он вполне мог своим острым мечом тут же и уложить этого посланца на сырую землю, причем по частям. И шансы на то, чтобы остаться в живых, у того, кто пойдет извещать Мстислава, были мизерные. Один к десяти, да и то если быть большущим оптимистом.
Короче говоря, требовался смертник. Но когда Константин об этом честно сказал, а потом вызвал добровольцев из числа имеющихся у него спецназовцев Вячеслава, то глазам своим не поверил. Все как один шаг вперед сделали. Шаг, который, скорее всего, к смерти вел. Что и говорить, воспитал воевода орлов.
Зато когда он рассказал, что нужно Мстислава не убивать, не калечить и даже не связывать, оглушив предварительно, а именно уговорить, чтобы он добровольно на переговоры пошел, то чуть ли не все столь же дружно назад отступили. Не в почете у спецназовцев было плетение словес. Не этому учил их славный витязь Вячеслав.
Остались на месте лишь пятеро. Эти и в язык свой верили. Одного, слишком бойкого, Константин сразу отмел в сторону. Другой, напротив, тугодумом ему показался, а для этого дела нужен такой, чтоб за словом в карман не лез. Трое оставшихся жребий тянули — кому первая очередь выпадет, кому… ну, если что, во вторую идти, а кому — последним.
— Не боишься? — откровенно спросил князь молоденького, совсем худенького паренька с простым округлым лицом и легким пушком на верхней губе, слегка пожалев, что мальчишке первый номер достался.
— Есть маленько, — столь же откровенно ответил тот.
— Звать-то тебя как? — мягко спросил Константин.
— Торопыгой батька прозвал, — улыбнулся парень. — Я, вишь, до срока родился. Поторопился, стало быть. Потому так и прозвали. Когда ж крестили, мать Николкой нарекла. Она у меня крепко в бога верует, потому звала завсегда Николкой, батя же Торопыгой кликал, ну а люди добрые — как кому сподручнее. Да я не гордый — на любое прозвище откликнусь.
— А батю твоего как нарекли?
— Он по молодости три лета в полоне у ляхов был, потом утек. С той поры его Паном прозвали. Шутейно, конечно. Ну и меня иной раз так окликали — то Панычевым, а то просто Паниным. Да нету уж давно батьки моего на белом свете, княже.
— А кто есть?
— Мать в селище. Людмилой ее кличут, а в крещении Ульянией. Брательник еще молодший. Его Жданом батька прозвал, а поп Алексием нарек.
— А что же ты вышел, коль боишься, — осведомился князь.
— Так я слегка, — снова простодушно улыбнулся Николка. — Наш воевода сказывал, что чуток страха даже на пользу идет. Оно ведь токмо дурень голимый помереть не боится и животом своим не дорожит. Хороший же вой завсегда должон о двух делах в бою мыслить — как побольше ворогов уложить, ну, или там иное исполнить, что ему велено. А еще и о себе самом забывать не след, памятуя, что битва оная — не последняя, и надо выжить, чтоб и на другую поспеть.
— Ну, понятно, — вздохнул Константин. — Ладно, теперь пошли, Николка Панин, говорить будем, что да как тебе сказать князю Мстиславу.
Инструктировал князь посланца недолго. Парень оказался понятливым, но ершистым, заартачился почти сразу.
— Ты мне, княже, поведай лучше, каков он нравом. Что любит, а чего нет. Так-то оно мне сподручнее будет. А слова я и свои подберу. Чужие — они не от сердца будут, натужные, а тут надобно, чтоб все из души шло.
— Вон ты как заговорил, — протянул задумчиво князь. — А что, может, ты и прав. Ну, тогда слушай…
Рассказывал Константин недолго. Трудно составить мнение о человеке, которого ты и в глаза-то ни разу не видел. Хорошо хоть, историки российские не подвели, подробно о нем живописали. Вспомнил бывший учитель его поведение в некоторых ситуациях, прикинул, чем тот руководствовался, когда принимал то или иное решение, да какие чувства им владеть могли, чтобы он именно так, а не иначе поступил. Исходя из всего этого, князь и попытался вылепить примерный характер Мстислава Удатдого. Сказал, что он честолюбив, что любит, когда все по старине решается, что доверчив. Подумав немного, добавил еще, что он и вспыльчив бывает, хотя и отходчив тоже, то есть не злопамятен.
— Так что ты там смотри, не разозли его часом, — предупредил Николку.
— Так ведь отходчив, — возразил тот.
— Это так. Стоя у твоего бездыханного тела, он, может, и пожалеет того, что натворил. Вот только тебе от этого легче уже не станет. Теперь вот еще что — слово честное для него не пустой звук. Попробуй как-то на это разговор перевести. И еще одно… — Словом, много чего еще наговорил Константин, вконец заинструктировал бедного парня. Но Николке вроде бы все ясно стало. Покивал понимающе, когда Константин речь свою закончил, поблагодарил вежливо.
— Вроде бы видать мне его стало, — заявил уверенно. — Только вот… — и осекся, вздыхая да на князя стеснительно поглядывая.
— Ну что еще? — спросил Константин почти грубо.
Уж очень не хотелось ему отправлять на смерть этого паренька, чистого, как слеза ребенка, потому и пытался этой суровостью вредную жалость в себе задавить.
— Да я… — начал было и опять замолчал парень, улыбаясь застенчиво.
— Сказать кому что-то надо или передать? — поторопил Константин. — Ты не стесняйся, пользуйся случаем. Тебе сейчас многое можно. Почти все.
— Слыхал я, княже, что ты, не в обиду будь сказано, тайным словом владеешь, и будто слова этого даже нечисть слушается, — начал он робко, но видя, что Константин не гневается, во всяком случае внешне, уже посмелее продолжил: — Может, ты и меня того…
— Чего того? — оторопел от неожиданности Константин.
Он и впрямь ожидал что угодно услышать, но чтоб такое!
— Заговорил бы ты меня, княже, а? Все больше надежды уцелеть. Ты не подумай чего, — заторопился Николка с пояснением. — Не за себя боюсь. Но ежели со мной беда приключится, тогда Третьяка очередь настанет, — кивнул он на белобрысого парня, нетерпеливо переминавшегося поодаль. — А у него три сестры, мал мала меньше, и матерь болезная. Никак ему нельзя. И чтоб он не шел, мне самому все сполнить надобно, для того и выжить хочу. Или… брешут люди, и не знаешь ты слова заветного?
С трудом, еле-еле, но удержался Константин от правдивого ответа. В конце-то концов, чем он рискует, если и впрямь пробормочет чего-нибудь под нос. Коли такая слава о нем уже идет, то он все равно ничего не теряет. Зато у этого, как там его, Николки Панина, глядишь, уверенности поприбавится, а в таком многотрудном деле психологический настрой ох какую добрую службу сыграть может. Или, наоборот, плохую. Как получится.
— Пойдем, — решительно взял он его за плечо и повел на опушку леса. — Костер вот здесь разведи, да пожарче, — ткнул он пальцем в трухлявый пенек. — Я отойду ненадолго. Вернусь, чтобы горело вовсю, — предупредил строго.
Сам же пошел в лесок подальше, чтобы ветку почуднее найти. Довольно-таки быстро на глаза попалась подходящая, которая чуть ли не крючком извивалась.
«Для колдовства самое то, — хмыкнул Константин. — Теперь осталось лишь придумать, что именно говорить. Желательно что-то загадочное, непонятное, чтоб проняло парня. И обязательно в рифму. Колдуны с ведьмами всегда в рифму говорят», — сформулировал он необходимые для заклинания условия.
— Шурум-бурум, кишмиш-камыш… Нет, не то… Го-ди-моди, броди в огороде… Да что за ерунда, ты еще му-си-пуси скажи, — оборвал себя.
Сочинять явно не получалось. Хотел было положиться на экспромт, авось кривая вывезет, но в последний момент его осенило.
— Рифма, говоришь. Ладно, будет тебе рифма, — бормотал он весело.
Вышел он к ярко, горящему костру бодрый и энергичный, опасаясь только одного — не забыть бы чего.
— Становись здесь, — указал он властно. Николка послушно встал.
Князь неспешно очертил вокруг него своей веткой почти правильный круг. На сырой земле черта эта получилась глубокой и четкой, почти зловещей. Николка даже слегка оробел, но потом уверил себя, что ничего страшного нет — в конце концов, князь же для него старается. Какие-то магические треугольники, квадратики и загадочные нерусские буквы он уже воспринял значительно спокойнее. Возможно, если бы он изучал геометрию, тригонометрию, физику и прочие науки, то ему бы стало совсем спокойно, поскольку там присутствовали почти все синусы и косинусы.
— Глаза зажмурь, — последовала новая команда. — Правильно, вот так. А теперь руки перед собой вытяни.
Константин подумал, чего бы еще такое ляпнуть, но ничего умного в голову больше не приходило. Ну и ладно. И тогда он приступил к заговору, стараясь выговаривать все слова сурово и важно. Получалось вроде бы угрожающе, даже с подвыванием, ну да это еще лучше. Главное, чего он опасался, так это того, чтоб не сбиться. Запинающийся колдун — это было бы совсем плохо.
Заклинаю тебя от злата, От полночной вдовы крылатой, От болотного злого дыма, От старухи, бредущей мимо…Во время чтения он легонько водил веточкой по ладоням и лицу Николки, а после окончания каждой строчки слегка стегал по вытянутым рукам.
Змеи под кустом, Воды под мостом, Дороги крестом, От бабы — постом. От черного дела, От лошади белой! [93]— Все, Николка, — вздохнул устало колдун-самоучка.
Спецназовец послушно открыл глаза. По лицу князя ручьем тек пот — уж очень жаркий костер раскочегарил парень.
— Трудное это дело, поди, ведовство-то? — произнес он сочувственно, глядя на вспотевшего князя, и заметил: — Вон как взопрел, за ради меня стараясь.
— А ты думал, — проворчал Константин довольно, стараясь не улыбнуться ненароком — колдун должен быть суровым. — Теперь иди смело и ничего не бойся.
— Сейчас-то уж чего опасаться, — простодушно заявил Николка и поинтересовался: — А на сколько времени этого заговора-то хватит?
— На полгода, — ляпнул князь.
— Ого, — протянул Николка уважительно и низко-низко поклонился Константину. — То я от имени сестриц Третьяка да от матери его, — пояснил он, разогнувшись. — Теперь-то уж он точно не пойдет. Сам управлюсь.
И настолько парень в этом заговоре уверился, а стало быть, и в своей неуязвимости тоже, что не стал никаких хитромудрых каверз использовать, которыми его товарищи напичкали. Впрочем, он и сам изрядное количество таковых знал — воевода Вячеслав хорошо учил, на совесть. Ни подпаска он не изображал в поисках заблудившейся коровы, ни гонца спешного от другого князя, ни мальчишку, заплутавшего в лесу.
Так и пошел себе походкой ленивой через весь лагерь дружины Удатного. Брел не торопясь, да еще веточкой березовой помахивал при этом — в июне месяце комары самые злобные. Но самое удивительное в том состояло, что никто из воинов Мстислава действительно даже и не попытался его окликнуть, а уж тем более остановить. Через все костры Николка прошел спокойно и таким же невозмутимым, как и походка, тоном князю Мстиславу, что у своего шатра стоял, заявил:
— Дело у меня к тебе, княже, тайное.
А едва к нему в княжеский шатер зашел, так чуть ли не с порога в открытую ляпнул:
— Константин Рязанский прислал меня к тебе поклон передать низкий, — отвесил он его тут же, склонившись чуть ли не до земли. — А еще он встретиться с тобой хотел. Да чтоб не помешал вам никто, место хорошее выбрал. Дозволь, я тебя туда проведу ныне ночью.
— А ты сам-то кто будешь? — оторопел от такой наглости Мстислав Удатный.
— Я?! — искренне удивился парень. — Так я же Николка Панин.
— А почему шел так без боязни?
— А со мной ничего не будет, — очень обаятельно, с наивным, подростковым еще простодушием, улыбнулся Николка. — Я же заговоренный.
— А-а, ну, тогда… конечно, — растерялся князь.
Дальнейший разговор особых затруднений у «заговоренного» спецназовца тоже не вызывал.
И никому в голову не пришло заподозрить что-то неладное, когда Мстислав под утро выехал куда-то. Все знали, что есть у князя обыкновение сторожу самолично проверять, особенно в такие часы, когда сильнее всего человека в сон клонит.
Правда, обычно он в одиночку ездил, а тут паренек какой-то за ним увязался, но тут уж самому Удатному виднее. Раз не гонит его — значит, нужен. А в княжеские дела лучше не встревать. И вообще, меньше знаешь — крепче спишь. Если ты не в стороже, конечно.
Вот так Мстислав Мстиславович и оказался в шатре у рязанского князя.
Глава 11 Корона Российской Империи
Дай мне поговорить с твоей печалью, Я это вправе требовать. Пойдем, Сбери мудрейших из твоих друзей, И пусть они рассудят нас с тобою. В. ШекспирНекоторое время, пока гость с хозяином разглядывали друг дружку, длилась пауза.
Кто-то из воев внес два дымящихся кубка, поставил их на стол и так же молча удалился, не сказав ни слова. Мстислав настороженно принюхался. Пахло чем-то необычным, но вроде приятно.
— Угощайся, княже, — гостеприимно предложил Константин. — То напиток дорогой, заморский. Кофе называется. Он голову яснит, и спать после него совсем не хочется.
— Колдовство, что ли, какое?
— Когда с меда хмельного в голове туман, мы же про колдовство не думаем, — резонно возразил загадочный рязанец. — Просто мед нам знаком, а кофе — не очень.
Желая лишь показать, что он ничуть не боится, Мстислав смело отпил пару глотков, после чего решительно отставил кубок в сторону. Вкус напитка по нраву ему не пришелся, а приличия он уже соблюл.
— Ты лучше поведай, почто звал меня, княже, — пробасил Удатный. — В чем оправдаться хочешь? Или покаяться надумал?
— И это тоже, — утвердительно кивнул Константин.
— Так тебе перед всеми бы каяться надобно, чтоб не повторять сто раз, — с некоторым разочарованием — трусоват, оказывается, рязанец — заметил Мстислав.
— Каяться мне не в чем, — возразил Константин. — Оправдаться же я только перед тобой хочу. До остальных князей мне дела нет — пусть что хотят, то и думают.
— За что же мне такой почет? — вопросил усмешливо.
— За то, что я тебя среди всех прочих особо уважаю, — просто ответил Константин. — И за то еще, что… — но тут же осекся, поперхнулся на полуслове и закончил иначе: — Словом, уважаю.
— Начал, так до конца договаривай, — заметил Мстислав спокойно. — Иначе и разговора не будет. Ну, как на духу. За что еще?
— За то, что… — Константин затаил дыхание и, как в омут головой, с разбега, иначе смелости не хватит, бухнул: — За то, что ты отец Ростиславы.
— Что?! — привстал со своего пенька Удатный. — Ты что же это?! На что намекаешь, стервец?!
— Ты присядь, Мстислав Мстиславович. Сам просил как на духу поведать. А про нее ты и мыслить не моги то, что сейчас хотел вслух сказать. Грех тебе такое на нее даже думать. Она же у тебя святее всех святых! — резко выпалил Константин.
«Ох, как плохо все началось, — простонал в душе. — После такого начала он, чего доброго, за меч ухватится. Ну и дернул же меня черт за язык. Не то и не так надо было говорить, а теперь то уж что — поезд ушел».
— А ты молодец, рязанец, — спокойно заметил Мстислав, заново усаживаясь на пенек. — Ишь как за дочку мою вступился. Не дал в обиду. За то хвалю. А вот иное не одобряю. Веревка да сук для татей хороши, а ты своих же князей… Нет, не одобряю, — повторил он сурово.
— А они пришли ко мне татями, — горячо заявил Константин. — Думаешь, тот попик, который о том наплел вам, всю правду до донышка рассказал?
— Всю — не всю, но ведь повесил же ты их, — рассудительно заметил Мстислав.
— Если бы я не повесил — толпа смердов в клочья бы порвала. Это лучше, по-твоему?
— Да куда уж, — миролюбиво вздохнул Мстислав. — Но у них, повешенных, оправдание хоть есть — язычников в веру святую обращать пришли. Кто ж виноват, что они в своих заблуждениях упорствуют? Выходит, ты им от христиан добрых заступу давал. Это как?
— И снова я тебе как на духу отвечу, Мстислав Мстиславович, — вздохнул Константин. — Ничего из мыслей не утаю.
— Да уж, именно так и отвечай, — поддержал Удатный.
— Так вот, если какой-нибудь волхв или иной жрец что-либо в моем княжестве учинит — убийство какое или иное зло кровавое, — я его мигом на сук вздерну.
— Вот тут правильно судишь, — согласился Мстислав.
— Но сразу скажу и повторюсь — только за зло кровавое. За веру я его пальцем не трону. Разве можно гонения на людей за такое устраивать? Христос ведь как учил — лаской надобно. Он прощать всех заповедовал и не семь, а семижды семь раз. Если бы тот же отец Варфоломей с уговорами да со словом мягким к ним обращался, то и вовсе ничего бы не было. Он же их адом постоянно пугал да муками вечными, а потом и вовсе тех, кому они поклонялись, порубил топором. Гоже ли со святыней, пусть и чужой, так поступать?
— Так-то оно так, — протянул Мстислав. — Но все же с князьями ты…
— Обожди, княже. Сейчас и до князей дойду. Ведомо ли тебе, как я с Ингварем Ингваревичем под Коломной обошелся?
— Конечно, ведомо. Убег он от тебя. Ныне раны вскрылись, так заместо него Роман в дружине Мстислава Святославовича едет.
— Вот брехуны какие! — всплеснул возмущенно руками Константин. — Живой он был и здоровехонький под Коломной. И ран у него никаких не было. Только я с ним, как стрыю подобает, поговорил по душам, усовестил, что, мол, негоже ворогов на Русь наводить да села рязанские с градами разорять. Потолковав же обо всем этом, обратно в Чернигов отпустил. Об одном лишь просил — подумать как следует. Хороший он — чистый, справедливый, добрый. Таких обижать негоже.
— А он? — заинтересовался Мстислав.
— Выполнил он мою просьбу — подумал. Обо всем подумал, как следует поразмыслил. Аккурат месяц назад окончательно решился обратно вернуться и Переяславль-Рязанский из моих рук принять, да на беду свою мыслями этими с Мстиславом Святославовичем поделился. Тот воспретил. Ингварь за свое. Его слуги княжьи под стражу взяли. Подранили же, когда он из полона уйти попытался. Хотел черниговец поначалу следующего брата — Давыда взять, но тот во всем воле старшего послушен, потому и пошел благословления испрашивать. Ингварь же сказал: «Нет тебе моего дозволения на Рязань с ратями черниговскими идти». Давыд в отказ. Третьего же Ингваревича — Романа, который погорячее, чем второй, к старшему брату и вовсе не пустили. Не знаю, сколько они его умасливали да уговаривали, но думаю, недолго. Властолюбив мальчик оказался — легко поддался на посулы.
Рассказывая все это, Константин еще раз мысленно похвалил себя за то, что в свое время не поскупился, когда разведку заводил. Съедала она, конечно, изрядно, что уж тут. На гривны, которые бойцам невидимого фронта утекали, можно было бы запросто лишнюю полутысячу дружинников нанять, да и то еще осталось бы малость. Но дружина дружиной, а разведка разведкой, как сказал Вячеслав, прикидывая, какое денежное содержание им платить надо. У Константина от названной им цифры поначалу чуть глаза на лоб не полезли, но друг-воевода, как выяснилось, не просто ее с потолка взял. Он лист бумаги извлек, сверху донизу мелким почерком исписанный, и на стол его молча положил.
— Давай вместе смотреть, где подсократить можно, — предложил миролюбиво.
Часа четыре они потратили тогда, выискивая возможность экономии. Правда, нашли, не без того. Получилось в конечном итоге аж на целых двадцать пять гривен дешевле.
— А времени-то сколько вбухали, — прокомментировал насмешливо Вячеслав. — И стоило из-за четвертака столько возиться?
Зато теперь Константин, можно сказать, во всеоружии перед Мстиславом сидел и четко знал — кто, что, где, с кем и как. Одно плоховато было — порой данные уж очень сильно запаздывали. Российские дороги, точнее, практически их полное отсутствие, знаете ли…
Впрочем, чаще всего особых неудобств от этого не возникало, но иногда…
— Чудно мне все это слышать, — пробасил Мстислав настороженно, не понимая, откуда может все это знать загадочный рязанец. — Ничего ж не ведал, веришь?
— Верю, — твердо ответил Константин, уточнив: — А вот им — нет. Вышли они из веры моей. Лишь тебе одному во всем верю. Но ты дальше слушай — про повешенных. Только поначалу расскажу тебе, что они там вытворяли. Одно мое село они целиком сожгли. Кто из огня выскочил, те босиком по снегу, в чем мать родила, в Залесье ушли. А черниговцы через неделю сызнова пришли, опять все крушить да ломать стали. Окрестить, говоришь, хотели? Так они даже не пытались. И еще одно. Прежде чем до смердов беззащитных добраться, князья сторожу мою повырезали напрочь, которую я для защиты людишек поставил. Десять дружинников рязанских под копьями, стрелами да мечами черниговцев и новгород-северцев полегли. Это как?
— И о том я не знал, — обескураженно развел руками Мстислав.
— А невыгодно было сказывать, вот и не говорил тебе никто! Всем же ведомо, что ты за правду, за истину стоишь, что ради них можешь и на зятя пойти, чтобы честь на Руси блюлась! Кто ж тебе правду ненужную скажет?! — разошелся Константин. — И о том, что Ярослав твой, едва с постели начав вставать, тут же принялся во Владимире козни мне чинить, народ на измену подговаривать, тоже, поди, не слыхал?!
— Тут ты сам виноват, — тяжеловесно брякнул Удатный. — Не надо было ему под Коломной раны перевязывать да нянькаться, — и замолчал смущенно.
— Я не о нем — о ней думал, — честно произнес Константин. — Боялся, что больно ей сделаю. И потом, пусть не самолично, но все равно, ответ на мне, как на князе, за смерть его. И кем я перед ней предстал бы — убийцей ее мужа? От такого до самой смерти не отмыться.
— Чудной ты, рязанец, — хмыкнул недоуменно Мстислав. — Никак я что-то в толк не возьму, чего ты сейчас от меня хочешь? Почто позвал?
— Оправдаться хотел да объяснить все как на духу.
— Ну, считай, что объяснил и оправдался. А что ты не досказал, — и лукавая усмешка плутовато скользнула в русую бороду Удатного, — то мне Ростислава поведала. И про водяного сказывала, и про то, какой ты есть. Потому и сижу тут, а иначе говорить с тобой и вовсе бы не стал… Ну, ладно. С этим все. Дале-то что?
— А какой я есть? — затаив дыхание, спросил Константин. — Что она сказывала-то? Ты уж тоже, как на духу, Мстислав свет Мстиславич. Не томи душу, скажи без утайки.
— Ишь какой хитрый, — громогласно загрохотал смехом, хотя и несколько фальшивым, галичский князь.
Впрочем, он тут же умолк и смущенно кашлянул.
— То не для твоих ушей. Она передо мной как на исповеди, а это — сам понимаешь — святое. Одно лишь могу поведать — плохого там ни слова, ни полсловечка не было. Ты лучше продолжай, что сказать хотел, — ушел он от щекотливой темы.
— А чего тут говорить-то, — пожал плечами Константин. — Мира я хочу — неужто не ясно? И не только мира. Не тем мы сейчас занимаемся. Тут враг страшный чуть ли не на пороге стоит, а мы меж собой грызться продолжаем.
— Что за ворог? — построжел лицом Мстислав.
— Да ты и сам небось слыхал от гостей торговых про безбожных татар, кои ныне начали всю хорезмийскую страну зорить нещадно.
— Так, краем уха, не боле. Да и не любитель я купчишек слушать. Не мое это, — сознался Мстислав и полюбопытствовал, не утерпев: — А что, и впрямь они так сильны?
— Не то слово. Они свое войско не на тысячи — на десятки тысяч делят. Называют каждую тумен.
— Одному человеку таким скопищем, пожалуй, тяжко командовать, — как практик, заметил Мстислав.
— Тысяцкие у них тоже имеются, как и у нас, — поправился Константин. — И сотники есть, и десятники тоже.
— А-а-а, ну тогда ничего — управятся, — успокоенно отозвался Удатный.
— И таких туменов у них больше двадцати[94], — вздохнул рязанский князь.
— Ого! — присвистнул Мстислав. — И вправду силища. Но о них нам думать рано. Сам помысли, где Хорезм, а где мы.
— Вот и шах ихний Мухаммед тоже так думал, — заметил рязанский князь. — Теперь кается, поди, да поздно.
— То шах, а то мы — Русь святая, — поучительно поднял палец Мстислав. — К нам они ежели и придут когда-нибудь, так и уйдут несолоно хлебавши. Не родился еще тот ворог, который Русь бы одолел, — добавил грозно.
— Может, и не родился, — вздохнул Константин, пытаясь припомнить, в каком именно году появился на свет разоритель Руси хан Батый.
Вроде бы уже должен был — не двадцатилетним же он на Русь пошел. К тому же не первая это у него кампания была. Он до того успел всю Волжскую Булгарию разорить. Хотя какая разница. Не в нем же дело. Его не будет — иной придет. Если память не подводила, к пределам Рязанского княжества сразу тринадцать чингизидов подкатили. И какое имеет значение, кто именно во главе того войска стоял или стоять будет.
— Только в одном случае мы их побьем, — добавил Константин веско. — Если все заодно встанем.
— А как же иначе? — искренне удивился Мстислав. — Только так.
— Что-то не вижу я единства этого, — буркнул рязанский князь.
Ему еще много чего хотелось бы сказать. Например, о том, как бездарно былая слава Руси ныне проворонена. Это когда-то воитель Святослав громил Хазарский каганат, когда-то Вещий Олег прибивал свой щит к вратам Цареграда. Все это было, никто и не спорит, но когда?! Уж больно много воды с тех пор утекло. Считай, двести лет без малого грызутся потомки Рюрика за свои вотчины — все делят их и никак поделить не могут.
Результат же налицо — ныне о Руси в Европе и не слышно вовсе, будто и нет такой страны. Могущественная держава, породниться с которой считали за великую честь короли Венгрии, Польши, Норвегии, Чехии и Франции, незаметно превратилась в кучу княжеств. Да, куча большая. Можно сказать, огромная. А что толку? Кучи, они разные бывают. В иной, кроме самих ее размеров, да еще запаха, вовсе ничего хорошего нет.
А ведь государство, точно так же как и любой дом, в постоянном уходе и заботе нуждается. Не гляди, что когда-то твои предки построили его прочным на диво да красивым на загляденье. Время все рушит безжалостно. Стоит лишь упустить годы, и обратно их уже не вернешь. Присмотрись внимательно: уже и тут и там щели появились, и крыша протекает кое-где, и пол подновить не мешает. Не маши лениво рукой, мол, на наш век хватит. Точно ли хватит? Но даже если и так — о детях твоих кто подумает? А ведь им здесь жить после тебя…
А обиднее всего то, что за это время ни войн особых не было, ни нашествий могущественных соседей. Сами во всем виноваты. Простор, чистота и свет царили в доме только до тех пор, пока семья дружной оставалась. Теперь же понастроил каждый клетушек и норовит вытеснить соседа из такого же закутка, как и свой.
Словом, много чего хотелось бы сказать Константину, но тогда уж больно долго говорить пришлось, а этого допускать нельзя. До ума лишь краткая речь доходит, длинная все больше до нервов норовит достать, да и время поджимало. Не хватало еще, чтоб к утру переполошился народ, увидев, что Мстислав еще не вернулся. Однако кое-что сказал, не утерпев:
— Сам посмотри, сколько уже земель немцы поганые у полоцких князей оттяпали, сколько селищ вместе с городами под свою руку взяли. Где Герцике? Где Кукейнос? Все рижский епископ со своими крестоносцами отнял. Раньше нам Литва немытая дань платила, а теперь русичи сами подарки ей сулят, лишь бы та в набег не пошла. На юг обернись — то же самое все. Где Тмутаракань? Где пути торные по Дону? Почему Белая Вежа в запустении — или не нужна никому? Куда былая киевская слава ушла — в распри и в раздоры, в споры бесконечные о том, чья очередь на великом столе сидеть. А какой он теперь великий? Кто сильнее, тот и прав. Позови ныне всех Киев, кто его повеление послушает? Хотя да, — тут же поправился он. — Ныне в кои веки послушались и всю Русь собрали воедино, но против кого? Да против своих же, против Рязани! — воскликнул отчаянно.
— Ну, тут мы, конечно… — засопел смущенно Мстислав, но нашелся: — А ты и сам виноват. Горд очень. Прислал бы людишек своих к черниговцам, виру предложил бы уплатить да пояснил бы, как оно все на самом деле было. Глядишь, и прислушались бы твои соседи. Усопших-то все едино — не воскресишь, а за покойников идти мстить — еще больше мертвяков плодить. Хотя и без этого иной раз нельзя, — подумав, добавил он рассудительно. — Но это ежели вовсе чужой кто, а вы же все Святославичи. Одна братия, хоть и в шестом колене.
— В пятом, — поправил Константин.
— Тем более, — охотно согласился Мстислав.
— Да посылал я… один раз.
— Мало. Надо было еще, — горячо произнес Мстислав. — Смирил бы гордыню и послал еще разок.
— Нет во мне гордыни, — хмуро откликнулся Константин. — Я бы и десять раз послал, только людей жалко. Мне же их всех на санях назад воротили мертвых да грамотку приложили. А в ней слова из священного писания: «Не мир, но меч».
— Не знал, — растерялся Мстислав. — Сызнова мне ничего не поведали.
— Теперь ты и сам видишь, как они лихо тебя окручивают. Ныне же и вовсе половцев зазвали, чтоб Рязань с юга под вздох ударить. Снова селища заполыхают, небо над княжеством от пожарищ черным станет. Ну, ладно я, а народ-то за что?!
— Принято так, — осторожно заметил Удатный. — Исстари повелось, так чего уж тут?..
На душе у него, и без того мятущейся после всего услышанного, стало совсем сумрачно — из двух орд приглашенных степняков одна была как раз на его совести.
— Кем принято?! — возмутился Константин. — Если плохо оно — возьми да отмени. Я, когда ко Владимиру с Муромом шел, ни одного дома не зажег. Всей рати своей сказал: коли что худое с кем из смердов содеете — на сук сразу вздерну.
— И послушались? — скептически осведомился Мстислав.
— Поначалу нет, — не смущаясь, ответил Константин. — В первом же селе двое, куражась, бабу ссильничали, а мужика, который заступаться полез, на мечи посадили.
— Ну вот, — удовлетворительно заметил Удатный. — Все по старине. Им что хочешь говори, все равно они за свое.
— А я не говорил, — буркнул рязанский князь. — Княжье слово — золотое слово. Раз обещал — делай, иначе веры не будет.
— Вздернул?! — ахнул Мстислав. — И не жаль?! — и непонятно было, то ли он восхищается, то ли осуждает, то ли все вместе и не поймешь — чего больше.
— Тут же, — жестко отрубил Константин. — Прямо за околицей села, на ближайшем дубу. А чего их жалеть? Дрянь людишки. Хороший человек насиловать не станет, даже если полную власть иметь будет. Совесть не позволит. Да и не мог я их пожалеть, даже если бы и захотел. Кто сам свое слово нарушает, чего от других ждать может?
— Силен ты, рязанец, — уважительно произнес Мстислав.
— И еще одно, — заторопился Константин, спохватившись, что время неуклонно к рассвету движется. — Ты сказал, что жить по старине надо. Так ведь и я того же хочу. Раньше ведь как — один был великий князь. Сидел в Киеве, всеми правил, и все его слушались. А ныне что? Мстислав Романович хоть и сидит там, но кому он повелеть может? А я предлагаю совет всех князей собрать…
— Совет править будет еще хуже, рязанец. Уж ты мне поверь. Ныне на тебя, хм… — Мстислав кашлянул скептически и покосился на своего собеседника.
Тот молчал.
«Вроде не обиделся», — подумал Удатный и продолжил:
— Словом, в поход этот мы никогда сообща бы не вышли, если б не епископ Симон. Все галдели да прикидывали до поздней осени. С тем и разбрелись бы, так ничего и не решив.
— А я и не предлагаю, чтоб совет княжеский правил. Я говорю, чтобы он себе главу выбрал, да не простого, а чтобы повелевал всеми. И величали чтоб его не великим князем, а царем.
— И такого тоже никогда не будет, — убежденно заявил Мстислав. — Каждый свой голос за себя, любимого, отдаст. Да что далеко ходить, — махнул он рукой. — Вот ты бы кому корону царскую предложил бы? Себе. Ведь так? Только не лукавь. Как на духу.
— Не лукавлю. — Константин встал, повернулся к углу шатра, где на небольшом столике стояла икона, и медленно перекрестился. — Дева Мария пусть свидетельницей будет, что не лукавлю я. Я бы ее… тебе, Мстислав Мстиславович, предложил.
— Ну-у, почто мне-то? — пробормотал польщенный Удатный.
— А потому, что власть царская, особенно первое время, должна действовать по правде и по справедливости, кого бы дело ни касалось, хоть самых ближних родичей. Ты, княже, это уже доказал на деле, — строго произнес Константин.
— Да меня и по старшинству нельзя, — промямлил Удатный. — Вон, Мстислав Романович есть…
— Которого ты на Киев подсаживал, — подхватил Константин.
— Да нет, чего уж меня-то. К тому же и лествица[95] иное гласит. Нет, Константин Володимерович, не по старине так-то.
— Сам ведаешь, что давно уже не смотрят на лествицу эту. Ныне кто сильнее, тот и прав, — повторил сказанное ранее Константин.
— А если кто сильнее, тогда тебя надлежит, — предложил Мстислав. — У тебя и земель нынче больше всех, и сам ты… Вроде первый раз говорим, а будто всю жизнь знаемся. — И он испытующе посмотрел на рязанского князя.
Тот выдержал этот взгляд спокойно, давая понять, что ничего тайного за душой не держит, и отвечал, глаз от лица Удатного ни на секунду не отводя:
— Не дело это. На меня обиженных больно много. Кто меня выберет? А если самому корону надеть, тогда союз не получится, чтобы все от души, по доброй воле колена преклонили. Да и молод я слишком — трех десятков не прожил еще.
— Молод — это даже хорошо, — не унимался Мстислав. — Опять же решимость в тебе есть. Ишь как ты лихо с Симоном-то да с монастырями. Я бы и не посмел. А что?.. — снова построжел он лицом. — Ты и впрямь еретиков кающихся из келий повыгонял?
— Видишь, княже, как епископ все с ног на голову поставил. Первое — не из келий, а из узилищ монастырских. Уж на что мои дружинники привычные, а и то от смрада двоих тут же наизнанку вывернуло. Второе — не выгонял, а освобождал. А третье — не еретиков, а несчастных людей. Одного спрашиваю: «За что тебя сюда упекли?», а он говорит: «Гривны под резу у келаря епископского брал, да в срок не отдал. Просил обождать, а в ответ, дескать, мы бы подождали, а богу ждать недосуг. Взяли да корову единственную и свели со двора. У меня же трое детей, и все малые совсем. Потому и сказал им, что с виду они служители божьи, а по делам — Иуды Искариоты. А меня в тюрьму за богохульство». — «И сколько уже ты тут сидишь?» — спрашиваю. Он от света яркого щурится, потому что отвык, и сам вопрос задает: «А сейчас что на дворе — осень али весна?» — «Осень», — говорю. «Тогда почти два года», — отвечает. Дальше-то как, рассказывать?
— А говорят, ты силком их выпихивал, а они уходить не хотели. Тоже лжа?
— И это правда, но опять же с ног на голову поставленная. Старик это был. Он уже лет десять там просидел. Говорит: «Некуда мне ныне идти. Я и ослеп совсем, а тут хорошо. Хоть с плесенью кусок хлеба, а завсегда дадут. Да водицы испить тоже, ежели не забудут. Оставьте меня подыхать. Теперь уж все едино — смерть скоро. Отходился я». Да ты его, может, и сам знаешь, княже. Он ведь в свое время немало по Руси хаживал, людям пел да на гуслях играл. Звонимир это был.
— Кто?! — вытаращился изумленно на своего собеседника Удатный. — Как его звали?!
— Звонимир.
— А ты не ошибся, Константин Володимерович?!
— Точно он. Творимиричем его еще люди называли, которые близ покоев епископских собрались. Плакали некоторые.
— А он?..
— Улыбался. Говорит: «Помнят люди, как я пел. Славно это. А ныне уже и не смогу», — помолчав, Константин добавил сокрушенно: — Он, видать, не только зрение, но и голос там утерял. Так только, сипит да хрипит. Зимой-то не топили. От камня холодом и в жару веет, а уж когда мороз… Как он продержался-то десять лет. Видать, и впрямь здоровье богатырское было.
— Я его в молодости слыхал, еще когда в Торопце княжил, — задумчиво сказал Мстислав. — С той поры и понял, что иная песня в сердце впиться так может, что рана от меча острого усладой покажется. Душу они бередили, и жить после них так же красиво хотелось, как он пел. Надо же, я-то думал, что он помер давно, а он вишь где обретался. И такого человека сгубили. Эх! — хряпнул он со всего маху кулаком по хрупкому столу.
Посуда подпрыгнула и предупреждающе загремела.
— Ты кофейку-то выпей, глядишь, успокоишься, — умиротворяюще заметил Константин, протянув серебряный кубок Удатному.
Тот машинально принял его и вновь произнес расстроенно:
— А ведь как пел, как пел. А они… — Он, не договорив, снова звезданул от всей души по многострадальному столу, который повторного издевательства не выдержал, крякнул в последний раз и сложился вдвое.
Остатки кофе мгновенно выплеснулись, а Мстислав, придя в себя, смущенно встал и вернул сплющенный кубок Константину.
— Ты уж извиняй, Константин Володимерович, что напроказил тут малость. Поверь, не со зла. Пойду я, пожалуй, а то еще чего-нибудь сворочу. Поговорить надобно кое с кем.
Уже на выходе из шатра он обернулся:
— Я вот еще что хотел спросить у тебя, — и замолчал, внимательно вглядываясь в лицо рязанского князя, после чего поинтересовался, указывая пальцем на лоб Константина: — Это у тебя откуда взялось?
— А что там? — удивился князь.
— Да то ли шрамик небольшой, то ли… — и снова не договорил, глядя испытующе.
— Негоже князьям шрамы да рубцы считать, — пренебрежительно отмахнулся Константин. — Но ты спросить чего-то хотел. Или забыл?
— Точно, совсем забыл, — улыбнулся Мстислав, и лицо его как-то сразу посветлело. Уже садясь на коня, он добавил, глядя куда-то в сторону: — Послов ты нынче же зашли, прямо к вечеру. Думаю, миром все уладим. А коль не захотят, так я их сюда собрал, я и разгоню.
— А если не послушаются? — осторожно спросил Константин.
— Меня?! — ахнул Мстислав. — Да они… Да я тогда… Хотя… — Он как-то растерянно улыбнулся. — А ведь и впрямь могут не внять словам. Точно ты сказал. Царя надобно сажать. Ну а пока его нету, — он озорно подмигнул, — лупи всех, кто останется, в хвост и в гриву. Я им не заступа. Только вот что, — помедлив, произнес он. — Меня ведь и зятек мой дорогой может не услышать. Он же как бык бешеный становится, едва о тебе заслышит, так его обида гложет. Ты тогда с ним, Константин Володимерович, как себе хошь поступай, а Константиновичей не забижай. Дети еще совсем. Грех на тебе будет смертный.
— Все исполню, как ты сказал, Мстислав Мстиславович, — клятвенно заверил и даже перекрестился для вящего подтверждения Константин, а глядя вслед отъезжающему всаднику, добавил вполголоса: — Меня бы не отлупили… в хвост и гриву. Людей-то и трех тысяч не наберется, если булгар не считать.
Но тут же встрепенулся, ибо время поджимало, и скомандовал своим людям:
— Собираемся и уходим.
Он еще раз посмотрел в ту сторону, куда уехал Мстислав, и озабоченно произнес:
— Ох, что-то мне не по себе за тебя, князь Удатный. Если буянить начнешь, то как бы тебя самого не обидели.
Глава 12 Велико княжество, а отступать некуда
Мы знаем, что ныне лежит на весах И что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах. И мужество нас не покинет. А. АхматоваКонстантин сдержал слово, данное Мстиславу Мстиславовичу. Кому же еще верить, как не ему? Тем более что и сдержать его было проще простого. Его послы всего в трех часах конного ходу вниз по течению Оки второй день в укромном местечке среди камышей отсиживались, ожидая княжеской команды. Едва Удатный отъехал, как сразу два гонца с повелением выезжать во вражеский стан поскакали прямиком к боярину Хвощу, который должен был возглавить рязанское посольство. К полудню они уже у него были.
— Езжайте смело, — сообщил присланный дружинник. — Князь Константин сказал, что Удатный сам к миру склоняется.
Об одном только жалел Константин — не мог он отца Николая в это посольство включить. По слухам, в черниговском стане находился епископ Симон, и князь очень опасался, что тот своими лукавыми речами, подкрепленными к тому же весомым авторитетом духовного сана, все испортит. Здесь-то отец Николай, точнее уже владыка Николай, и пришелся бы как нельзя кстати. Епископ был бы нейтрализован таким же епископом. Но тут уж ничего не поделаешь.
Послы отплыли не мешкая. Раз рязанский князь одобрил да еще успел Мстислава Мстиславовича как-то улестить — тут уж непременно удача будет.
Остальные ладьи оставались здесь же в тревожном ожидании ответа, который должен был привезти Хвощ. Настраивались не меньше чем на сутки, а то и на двое. Переговоры, как известно, торопливых не любят, на них бал неспешность правит вкупе с рассудительностью.
Однако все иначе вышло. Сам Константин, прибыв уже после полудня, только одну ночь и успел проспать спокойно. К утру его окликнули. Рассвет лишь рвался сквозь ночной сумрак, когда одинокое судно, будто ладья Харона, вынырнуло из клубов утреннего речного тумана. Один только человек и был в ней живой — тот, что с рулем на корме управлялся. Остальные же…
Константин от одного только вида окровавленной бороды старого Хвоща чуть не взвыл. Обидно до слез стало. Он ведь, поверив Мстиславу Удатному, действительно самых лучших, самых говорливых да изворотливых послал. Получается — своей собственной рукой на смерть их благословил.
Походил малость, пристально в убитых вглядываясь и каждого запомнить стараясь, чтобы было потом, чем вредную жалость к врагам заглушить, и вновь остановился возле старика Хвоща. Постоял немного в молчании скорбном, затем склонился низко, последние почести боярину воздавая, бережно голову отрубленную в лоб поцеловал, после чего проглотил горький комок и махнул рукой — мол, поплыли обратно, чего уж там. Вздохнул только: «Эх, Мстислав, Мстислав».
Обиды, а уж тем паче гнева он к Удатному все равно не испытывал. И не потому, что тот был отцом Ростиславы. Просто чувствовал, что не срослось там что-то и настолько не так все пошло, что и Мстислав Мстиславич ничего поделать не смог. Напротив даже, тревога у Константина была — а жив ли вообще галицкий князь. Он же эмоций своих скрывать не привык, так что всякое могло случиться.
Да еще, уже на обратном пути, порадовался тому, что до сих пор не приехал отец Николай. «Если бы он был здесь, то я его непременно туда с Хвощом отправил. Да он и сам в посольство напросился бы. И что тогда получилось? А ничего хорошего. Лежал бы сейчас вместе со всеми в этой ладье, — мрачно думал Константин. — Или епископа они бы не тронули? Трудно сказать. Нет, пожалуй, все-таки хорошо, что он не вернулся до сих пор. Пока наш епископ в Никее пребывает, у меня хоть за него душа не болит».
Не знал Константин, что Удатный чуть ли не до вечера разъяренным барсом по всему лагерю прохаживался. Наутро выход уже был намечен, потому он и ждал послов с таким нетерпением, никому о том не говоря. Ну а ближе к вечеру — сказалась бессонная ночь — притомился малость и решил полежать чуток, передохнуть. Но, напокой уходя, строго-настрого стороже своей наказал:
— Ежели только слы из Рязани прибудут — вмиг меня будить!
Забыл Мстислав, что сторожа не все время одна и та же. Им тоже отдых надобен. Словом, когда через полчаса она менялась, караульный, отстоявший свое, молодого забыл предупредить и передать ему слова князя. Новый же, услышав краем уха, что прибыли послы из Рязани, вполне резонно решил, что дело у них неспешное, значит, они тут и заночуют, а утром к разговорам приступят. Тем более что и князь Мстислав ему самому ничего такого не наказывал.
Вообще-то, скорее всего, так и получилось бы с утренними разговорами, кабы Удатный самолично рязанцев встречать вышел, но он спал, а у Мстислава Святославича Черниговского терпежу всего-то на несколько минуток хватило. Показалось ему, что больно уж дерзко ответ держит старый Хвощ. Тот же просто не лебезил, а вел себя с достоинством. Собственно говоря, может, и тут бы все обошлось, но беда одна не ходит — все больше с детками норовит. Опять же если что кувырком пошло, то дальше всегда только хуже бывает. Словом, Ярослав Всеволодович на беду приключился поблизости:
— Напрасно ты, старик, мне глаза мозолить явился. Я тебя в третий раз отпустил под Коломной с миром, ибо бог троицу любит. Ныне же ты в четвертый раз пришел. Это уж ты лишку взял, — и с этими словами меч из ножен потащил.
А в таком деле главное — начать, чтоб брызги появились. Запах, что ли, у крови такой пьянящий да к убийству зовущий, а может, цвет — кто знает. Словом, едва Ярослав начал, как и остальные сразу же подключились, особенно из числа мелких князьков. В клочки изрубили всех, включая даже гребцов неповинных.
Один только и уцелел. Нашли его, когда уже отрезвели, потому и трогать не стали, даже помогли в ладью всех убитых погрузить. Сунули трясущемуся от страха парню весло-кормило в руки — плыви себе. На покойников сверху Мстислав Черниговский успел еще и грамотку к князю Константину бросить. В ней же одна только фраза была: «Тебя поймаем — и захоронить не дадим. Собакам скормим».
Князь Удатный узнал о злодействе лишь поутру, когда проснулся. Ревел он на всех страшно. Изо рта чуть ли не пена брызгала. Епископа Симона, который, как пастырю доброму положено, со словом смиренным подошел, и вовсе чуть не зарубил. Вовремя, правда, успел опомниться, чтобы меч в ножны вложить, но уж на словах зато разошелся, хоть святых выноси. Любого смерда за такое поношение духовного сана, пусть он хотя бы десятую толику произнес от сказанного Мстиславом, Симон обязательно в свою епископскую тюрьму отправил бы, то есть в кельи для еретиков. Но разве ж на галицкого князя найдешь управу. Одно только владыка и сказал проникновенно, как подобает служителю божьему:
— Бес в него вселился, братия. Не он это злобствует, а бес лютует. Спаси тебя господь, сын мой, — и перекрестил его кротко.
— Ах, бес! — прохрипел князь. — Да у тебя, как я погляжу, владыка, совсем глаза застило, коли они тебе всюду мерещатся. Лишь бы добрых людей с толку сбить. На, гляди! — И он с треском разодрал на груди белую льняную рубаху, выставляя напоказ грузное тело. — По-твоему, я тоже весь печатями каиновыми усыпан?! Вон, — начал он указывать, — на плече одна, на боку еще одна, а на спине две сразу. Я б тебе и пятую оголил, — добавил уже поспокойнее, — да штаны приспускать неохота.
Он уже почти совсем угомонился, только дышал еще тяжело и взглядом суровым епископа сверлить продолжал. Затем вздохнул и произнес устало:
— Скажи спасибо, владыка, что ряса на тебе да крест на груди, а то харкал бы ты у меня тут кровушкой, как Звонимир Творимирич по твоей милости. Ну да ладно. Там, на небесах, и так видно, что от иного христианина зла на земле поболе, нежели от язычника лютого. Вы же, — это он уже князьям, которых целая толпа человек в тридцать собралась, — не мира на Руси алчете и не за правдой сюда пришли. Вам гривны подавай, да землицы прирезать, у соседа отхапав. А что люд русский кругом стонет от походов ваших — на то наплевать.
— Ты же нас сам сюда позвал, — негромко произнес Александр Бельзский.
— И впрямь, Мстислав Мстиславович, — заметил двоюродный брат Удатного, Владимир Рюрикович Смоленский. — Если бы не ты, то и меня здесь не было бы. Ныне-то скажи, чего хочешь, чего удумал?
— И то дело, — поддержал его седобородый киевский князь. — Чего шуметь-то, народ смущать. Сядем мирком да обговорим все ладком. У нас, чай, с тобой да с Владимиром Рюриковичем не пращур общий — дед родной. Один на всех троих[96]. Неужето не уговоримся, не поймем друг дружку?
— Дед, говоришь? — вздохнул Удатный. — Ну, тогда ладно, раз дед. Но говорить не здесь будем. То, что я вас сюда привел, — моя вина. Каюсь. Простите, кто сможет. — Он натужно — мешал тяжелый живот — поклонился — достав-таки до земли рукой. — Сегодня я ее исправить хочу. Дружину свою верную с собой забираю, а кто за мной следом — милости прошу. Сами ведаете: я завсегда за правду со стариной стоял, а теперь вижу — и впрямь менять кое-что пора назрела, а то мы ныне друг с дружкой как стая собак голодных вкруг кости одной грыземся. Вспомнить пора бы, что не собаки мы — князья. Русь-матушку и так почти досуха со всех сторон обгрызли. Еще пяток-другой лет, и совсем нечего глодать будет. Эх вы, — махнул он рукой. Затем как-то неловко, по-стариковски, влез на коня и направил его прочь.
— Я брата не оставлю, — решительно произнес другой Мстислав, киевский, и тоже взгромоздился на своего коня. Вскоре старики поравнялись друг с другом, о чем-то неспешно беседуя.
— Вели и мне коня подать да скажи дружине, чтоб в обратный путь сбирались, — негромко приказал Владимир Рюрикович Смоленский своему тысяцкому. Он как-то виновато развел руками, сказав напоследок оставшимся: — Вот так вот, братья-князья.
А зять Мстислава, юный Даниил Романович, который сидел во Владимире-Волынском, даже прощаться не захотел ни с кем, молча развернулся и к своей дружине пошел. Да всем и без слов ясно было, что уезжает юный князь.
Остальные тоже как-то подозрительно зашевелились, зашушукались. А тут и еще один желание изъявил обратно податься, вслед за отцом. У молодого князя Святослава Мстиславича полки в основном пешие были, но драться умели, потому как с Новгорода да Пскова были собраны.
— Половина убыла, — присвистнул кто-то из тех, что еще оставались, но Ярослав начеку был и понял, что если сейчас хоть минуту упустить, то потом поздно будет.
— Тысячу гривен каждому князю, кто останется ныне. А дружине его само собой, — быстро произнес он и, чтоб звучало убедительнее, повысив голос, даже повторил на всякий случай: — Тысяча гривен!
— А за голову Константина я самолично еще тысячу новгородок выложу, — негромко молвил Мстислав Черниговский.
— И я столько же добавлю, — осклабился Ярослав.
Расчет верным был. Князья-то все небогатые оставались. Да что уж тут деликатничать — нищие попросту. Они и одной тысячи в своем городишке стольном, который во Владимирско-Суздальской Руси за селище большое сочли бы, в глаза за всю жизнь не видели, а тут сразу три сулят. И ведь по глазам видно, что не обманут, рассчитаются сполна да еще спасибо скажут.
— Это за голову. А ежели живой будет? — выкрикнул Александр Дубровицкий.
— Столько же накину, — тихо произнес Мстислав Черниговский.
— И дружинникам все грады, какие есть в Рязанском княжестве, на один день на поток[97] отдам, — почти весело крикнул Ярослав.
— А сил-то теперь хватит, чтоб одолеть? — это Ингварь Луцкий усомнился.
— А вот мы сейчас все сочтем и сразу в путь отправимся, — деловито заметил Мстислав Святославич, гостеприимным жестом хлебосольного хозяина приглашая всех в свой просторный шатер.
Там уже расторопные слуги мигом почти весь стол заставили угощеньями. Сама столешница не ахти какая, из грубых досок сколочена, вся в занозах, того и гляди в палец вопьются. Но это не важно. Зато с питьем и яствами полный порядок — гуляй, не хочу.
Поначалу и впрямь считать принялись. Однако занимались этим недолго, не больше часа, придя к выводу, что сил хватит вполне. Только в трех южных княжествах — Черниговском, Новгород-Северском и Переяславском, включая силы удельных князей — Курского, Рыльского, Путивльского, Брянского, Козельского, Карачевского и прочих, — имелось почти четыре тысячи конных и около двадцати тысяч пеших воинов. Еще двадцать общими усилиями наскребли князья турово-пинские и полоцкие. Конницы у них, правда, было вдвое меньше, но в общем-то получалась вполне приличная картина. Устоять против такой могучей рати Константин никак не мог.
К тому же и епископ Симон порадовал.
— Славен князь Мстислав Мстиславич Удатный, хоть и гневлив больно. Но те, что гневливы, завсегда и отходчивы. Думается мне, что смогу я его убедить не рушить единство Руси. Через день-другой, самое позднее — через пяток или седмицу, но он вас всех догонит вместе с прочими, кто подотстал, — заверил он. — Этот груз я уж на себя взвалю.
Тут и совсем на душе у оставшихся полегчало. А чтоб им вовсе не думалось чего лишнего, едва подвели итоги, как Мстислав Святославич стал всех торопить выдвигаться в путь.
Очень уж боялся черниговский князь, что из-за всех этих досадных промедлений проклятый рязанец убежит куда-нибудь и спрячется. А потом ищи его свищи как ветра в поле. Почему-то казалось Мстиславу, что кто так подло князей вешает, сам по натуре трус. Он и Ярославу о том не раз говорил.
Переяславский князь его не разубеждал, хотя был иного мнения. Однако он сейчас точно так же торопился. Уж больно его пугала почти сверхъестественная способность Константина в кратчайшее время собирать все полки в один-единственный концентрированный кулак, которым рязанец с умопомрачающей силой крошил своим врагам челюсти.
Хотя особой сноровки и он за ним не признавал. Иначе получалось, что победы Константина были заслуженными, то есть он, Ярослав, как полководец выглядел слабее рязанского князька, а это уже обидно. Гораздо приятнее было все спихивать на простое везение судьбы, на удачу, которая, как известно, не выбирает. Тогда выходило, что Ярослав ни при чем, просто пока ему не везет, но рано или поздно счастливая полоса у Константина закончится, и вот тогда-то они станут друг против друга на равных условиях.
— Ничего, ничего, — повторял он, как молитву. — Раз ему повезло, другой раз тоже, но вечного везения ни у кого не бывает.
До Ростиславля, самой западной окраины Рязанского княжества, стоящего на круто вздыбленном правом берегу Оки, они дошли лишь к вечеру третьего дня. Сильно тормозил дело обоз. Да и ладьи тоже плыли неспешно. Веслами люди махали лишь для приличия, полагаясь в основном на течение. Ока старалась, несла их, как могла, но, как известно, чем река полноводнее, тем ленивее бежит.
Константин их обогнал ровно на сутки. За это время, при умении и желании, можно многое успеть сделать, во всяком случае, к обороне толком приготовиться. Рязанский князь распоряжения нужные еще загодя отдал, всех гонцов тоже давным-давно отправил, а силы, которые в его распоряжении были, распределил в первый же день, как только получил тревожное известие из Переяславля-Южного. Теперь дело за малым оставалось: сесть и подумать, все ли правильно он сделал.
Сел. Задумался. Пока сюда из Рязани катил, да пока до устья Угры крался, да там ждал, да обратно плыл — почитай неделя миновала. Времени для сбора хватило. Прибыли все, как он и повелел, а что мало — так это его самого вина. Друг Славка примерно каждого десятого из семи рязанских полков выдернул, еще по сотне сам Константин повелел оставить на месте для усиления обороны.
Вдобавок к этому рязанский полк князь целиком в городе оставил, равно как и пронский. Ольговский, которым тысяцкий Пелей командовал, тоже не под Ростиславль — к Ряжску чуть ли не весь ушел. Большей части ожского полка во главе с Позвиздом — там же все производство — опять-таки в городе было велено остаться. Оттуда ни одного человека брать нельзя — и так треть на юг, в Ряжск ушла. Ныне в его распоряжении восемь сотен коломенского полка были, по столько же из переяславль-рязанского и местного, ростиславского. Как ни считай, все равно двадцать четыре-двадцать пять сотен, не больше. Плюс еще две — варяги вместе с ярлом Эйнаром.
Дружина конная — дело хорошее, но ее тоже всего шесть сотен набиралось, к тому же с собой из нее Константин только треть взял, вновь о Рязани беззащитной памятуя. В столице он еще одну треть оставил, под началом Изибора, а оставшуюся сотню Козлику вручил, да еще сотню норвежцев ему придал из тех, кто на лошадях уже хорошо освоился. Им поручались самостоятельные действия — тревожить черниговцев внезапными ночными вылазками.
Правда, еще спецназовцы имелись, но их Константин, едва под Ростиславль прибыл, немедленно отправил обратно в Рязань. Тем, кто упрямился, сказал веско:
— Вы свое дело уже сделали, причем выше всяких похвал. Что не получилось — не ваша вина. Тут для вас градов, которые взять надобно, нет. Там же наш стольный вовсе без защиты остался. Ныне под стенами Ростиславля помереть, конечно, почетнее, опять же со славой. О вас же, тех, кто у порога дома отчего биться будет, даже песню никто не сложит — некому станет. Но поверьте, други, безвестному подвигу цена еще больше. К тому же я на ваши плечи самое важное возлагаю — княжича сберечь. Если мы отсюда не вернемся, то в нем одном будущее всего княжества. В нем да в вас — его опоре.
Из всех трех десятков только одного человека и оставил у себя — Николку Панина. Или Паныча — как правильнее? Нет, скорее Панина. Так все-таки больше по-русски получается. А оставил, потому как очень уж парень просил. Когда он лепетал про то, что заговоренный, Константин даже не слушал, но когда стал вместо награды, положенной ему за то, что так успешно за Мстиславом Удатным сходил, требовать его оставить, то тут князь не выдержал. Хоть и не по-божески это, за такой успех смертью поощрять, ну да что делать, коли он сам ее себе выпрашивает. Велел только на коня сесть. Подумалось, что на коне-то легче уйти мальчишке, если что. Бывают же чудеса на свете.
Особых иллюзий он не питал. Хорошо, конечно, что на Оке такой могучий и умелый булгарский заслон выставлен. С другой стороны — много ли с него толку будет, когда вся пешая рать после неудавшихся попыток прорваться по реке с ладей на землю ступит? То-то и оно.
У Ростиславля же стены ветхие, старые. Давно пора настала их подновить, башни нарастить вверх метров на десять, да все руки не доходили. Словом, укрепления эти один, самое большее — два дня выдержат.
Одно хорошо было. Помимо Оки с одной стороны, Ростиславль еще одна речушка омывала, да как здорово-то. Не доходя до города верст пять, она раздваивалась и текла по обеим сторонам крепостных стен, будто губы, в призывном поцелуе открытые.
Впрочем, почему «будто», если местные жители их так и называли: Левая Губа — это та, что к границе ближе, и Правая Губа. Были они неширокие, метров по тридцать каждая, но достаточно глубокие. Переправа, чтобы вброд перейти, только в одном месте на каждой и имелась, где-то верстах в четырех от самого города.
Вот и получалось, что штурмовать Ростиславль возможно лишь там, где у города за стеной не река текла, а лишь небольшой узкий ров был вырыт, обе Губы соединяющий.
С другой стороны, даже если и выстоит его трехтысячное воинство два дня — что толку. На третий они непременно дальше двинутся, в глубь княжества, а удержать их некому.
Может, Вячеслав был бы — подсказал что-нибудь путное. Все-таки у парня и военное училище за плечами, и практики боевой хлебнуть довелось. У Константина за душой одна только кафедра военная да еще обязательные трехмесячные курсы. Он и взводом-то, если б довелось, кое-как командовал, а тут полки, то есть тысячи, под началом.
В голову же кроме классической битвы при Каннах ничего не лезло. И одна мысль суворовская в ушах зудела непрестанно: «Не числом, а умением». Константину и без того ничего другого не оставалось, вот только где взять это самое умение-то?
Да тут еще всякие упрямцы вмешаются, сосредоточиться не дают. Один Маньяк чего стоит. Как только его князь не уговаривал уехать — бесполезно. Уперся на своем слове, которое он Всеведу дал, что будет неотлучно подле Константина до осени до самой, и все тут.
Мало того, к вечеру еще одна сотня чудиков подвалила во главе с Сергеем, который из Ивановки, точнее, теперь уже правильно будет говорить — из Ожска. Разумеется, и Минька тут как тут. Помощники выискались.
Эдисон юный сослался, правда, на то, что он отливку стекол хорошо освоил, и даже результат преподнес — подзорную трубу. Из сотни увеличительных стекол, что изобретатель состряпал, штуки четыре ему удалось в один комплект собрать. Виделось сквозь нее хоть и мутновато, но зато и впрямь далеко — простому глазу в такую даль нипочем не заглянуть. Про двадцатикратное увеличение изобретатель, конечно, перебрал, но где-то семи-восьмикратного он и впрямь добился.
Ну, подарил ты ее, так иди обратно в Ожск. Нет, уперся, подобно ведьмаку, и хоть кол на голове теши. На все доводы один ответ: «Друзья так не поступают». Подумал бы как следует и понял, что как раз так и надо поступить, чтоб у друга еще и за тебя душа не болела.
Пробовал Константин через Сергея остальных уговорить. Ну, глупо же. Каждому свое: ремесленникам — в мастерских трудиться, так сказать, меч победы ковать, а уж этим мечом — извини, подвинься, дай другим помахать, тем, кто этому учился, да не месяцами, а гораздо дольше. Вон, у него, Константина, целых полтора года практики было, когда он по-тихому у своего тезки покойного уроки брал, и то он сейчас далеко не каждого в своей дружине одолеет. А уж им-то куда лезть? Вроде логичные соображения, но куда там — и слушать не хотят.
— Я, княже, сколько раз говорил, что вольная птица. Уж больно людишек у тебя мало — вот и решили подсобить.
Ишь, помощнички выискались! И ведь это первый заместитель Миньки. Вот нахал!
— Сергей Вячеславович, ну ты сам посуди, — пытался Константин по-доброму его урезонить, но куда там.
Единственное, чего он от Сереги добился, так это обещания, что как только дело совсем худо будет и враги городские ворота взломают, так он сразу с двумя самыми дюжими кузнецами Миньку в охапку и деру на булгарские ладьи. Как говорится, и на том спасибо.
Нет, приятно, конечно, чего греха таить, что народ за своего князя горой встал. Но от этого еще горше на душе становится. Ведь силища-то какая идет, аж дух захватывает. Эти спецназовцы — ребята лихие, пока Константин с Мстиславом разговоры вел, успели все повыведать, в том числе и подсчет сделать. По их словам выходило все грустно и печально. Одной конницы тысяч восемь шло, а пеших столько же, если еще один ноль к числу добавить. Тут ведь не только городку Ростиславлю, но и воеводе Вячеславу со всей ратной силой навряд ли удастся устоять.
То есть первоначальная тактика при таком явном перевесе сил напрашивалась как бы сама собой: удержать врага подле себя, измотать его, дождавшись Вячеслава со всеми войсками, и уж тогда… А теперь еще кто подсказал бы, как это сделать… Сколько ни ломал голову — ну ничегошеньки на ум не приходит. Лишь когда усталое солнце стало проваливаться в лес за Окой, чего-то там смутно забрезжило в голове и кое с чем сложилось. А почему бы так, как под Коломной, не попробовать да рвы тайные не выкопать? В конце концов, чем он рискует? Тем, что разгадают и в обход пойдут? Скорее всего, так оно и произойдет, ведь там Ярослав, а он хоть и сволочуга первостатейная, но не дурак, далеко не дурак. Ну и что? Всегда в Ростиславль можно успеть уйти, если что. И потом, это если все целиком повторить, а если кое-какие новшества внести?..
— Бой примем на подходе к городу, — сказал князь твердо на вечернем совете. — Посему и воям своим, и дружине, и всем жителям Ростиславля повелеваю…
* * *
Учиниша оные булгары на реце Оке лютовати нещадна, тако же нападоша на святое воинство подла и лодьи русськи учаша вертети и трясти.
Константин же, яко приспешник нечистаго, ликоваша премного, узрев муки люты народа православнаго и бысть середь них плач и стон велик…
Из Суздальско-Филаретовской летописи 1236 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1817* * *
И тако рек им княже Константине: «Доколе ж свары, при и которы учиняти промеж собой? Не лучшей ли миром все дела решати?» И услышали словеса оные мужи, числом четверо, и идоша обратно восвояси. Остатние же не вняли и пошли далее в землю резанскаю.
И сташа княже Константин под градам, Ростиславлем нареченным, и повелеша тако: «Негоже, братия моя, пускати их, яко волков злобных в овчарню. Встанем же тут, помоляся, и услышит нас господь, ибо правда за нас, а бог завсегда там, где и она. И не посрамим пращуров наших!»
А бысть у Константина воев мало числом, ворогов же по десятку на каждого, но не убояшися они, подъяв мечи свои и биша их дружна.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1760* * *
Как получилось, что Константину пришлось принимать бой под Ростиславлем, и притом малыми силами, легко объяснимо. Просто он ожидал наступления объединенных ратей совсем с иной стороны — намного севернее, то есть с верховьев Волги. Именно там и были сосредоточены его основные силы во главе с воеводой Вячеславом Михайловичем.
Встретив огромную рать, Константин решил применить тактику измора, но воеводы объединенных сил оказались хитрее и ловким маневром сумели отрезать ему пути к отступлению, в результате чего рязанскому князю не оставалось ничего иного, как сесть в осаду в Ростиславле.
О. А. Албул. Наиболее полная история российской государственности. СПб., 1830. Т. 2, с. 161.Глава 13 Жизнь за други своя
Твой путь нелегок и тернист, Начертан он тебе судьбою. Ты слышишь стрел каленых свист? То враг стремится за тобою. А. ПлехановЯрослав Всеволодович глазам своим не поверил, когда к полудню, не дойдя до Ростиславля нескольких верст, увидел выстроившуюся почти перед ним жалкую куцую рать. Посмотреть, так и трех тысяч не будет — курам на смех. На что же рязанец рассчитывает? Или вконец гордыня князя обуяла?
Мстислав Святославович тоже поначалу усомнился — не кроется ли тут какой подвох. Размышления его прервало появление группы из пяти всадников, приближающихся к нему. Один из них, находящийся в середине, не доехав до черниговского князя пятисот метров, вскинул свой арбалет высоко вверх, выстрелил и, даже не посмотрев, куда там вопьется железная стрела, тотчас потрусил назад. Следом остальные подались.
Черниговский князь обернулся к своим, многозначительно шевельнул бровью. Стрела-то, издали видно, не простая была. Что-то там такое привязано к ней было. Оказалось, грамотка.
— Чти вслух, — повелел князь тому, кто ее принес. — Мне скрывать нечего и не от кого.
— «Здрав будь, великий княже черниговский, — откашлявшись, начал во всеуслышание читать текст дружинник. — Почто ты ныне на моих землях? Почто Ярослава прихватил? Али мыслишь, что этот князь, мною битый не раз, тебе подсобить возможет? Да он токмо утекать в силах, своих людишек бросив на поле брани. Дождешься, и тебя бросит, а сам удерет, аки заяц быстроногий. Да и ты сам почто все не уймешься никак, словно пес бешеный…» — поперхнулся он на последних словах, виновато передернул плечами и протянул грамотку. — Ты уж далее сам чти, княже. Тут что-то неразборчиво накарябано, не разберу я никак.
Побелевшему от злости черниговскому князю дальше пришлось читать самому, но уже не вслух. Прочел быстро — там и оставалось, не считая подписи, лишь три фразы. Больше всего Мстислава Святославовича возмутила последняя из них, обещавшая, что если он и Ярослав не уймутся, не прекратят поганить своим присутствием рязанские земли, то их просто повесят, тем более что дело это для рязанских дружинников привычное.
Намек на судьбу сына был вполне понятен даже дураку. Мстислав таковым не являлся, поэтому его самообладания еще хватило на то, чтобы процедить сквозь зубы, обращаясь к своему тысяцкому:
— Дружины Константиновой нет ли сбоку?
— Да вон наши вои из леска выезжают, — прищурился старый вояка и, указывая в сторону темневшего в трех верстах леса, заметил: — Шагом едут, спокойно. Значит, не схоронился там никто. К тому же и сам князь Константин с ними бы был, а он вон где — с ратью пешей, близ стяга своего с соколом стоит.
Впереди, почти в самом центре пешей рати, и впрямь была видна гордо выпрямившаяся, застывшая на месте фигура рязанского князя. Она отчетливо просматривалась даже отсюда, благодаря тому что сзади Константина, создавая контраст в цветах, величаво развивалось по ветру его белое знамя с золотым соколом в середине. Создавалось впечатление, что птица живая, вот-вот взлетит, потому что уже машет крыльями, и только тяжелый обнаженный меч, зажатый в когтях, не дает ей сорваться с места и подняться ввысь.
И еще на одно распоряжение хватило самообладания у взбешенного черниговского князя.
— Немедля пошли гонца к пешцам, чтоб поспешали, в устье реки зашли и ворогу путь к граду отрезали, когда он побежит, — велел он тысяцкому.
Вои, шедшие водой, отставали от конницы совсем ненамного, и Мстислав надеялся, что через полчаса, это самое большое, путь рязанцам обратно в Ростиславль будет надежно перекрыт. Ничего сверх того от ладейной рати не требовалось. Избить трехтысячную пешую рать, сгрудившуюся возле своего князя, как цыплята вокруг курицы, черниговский князь рассчитывал и без ее помощи. Как бы ни был хорошо обучен воин, если только он не в седле, а стоит на своих ногах — всаднику он все равно уступит. К тому же конница атакующих почти вдвое превышала по численности пешую рязанскую рать.
Он выждал паузу, пока тысяцкий не отправит гонца к плывущим водой воям, и нарочито медленно протянул грамотку Ярославу:
— Чти, тут тебе тоже кое-что обещано.
Тот молча принял ее из рук Мстислава и углубился в чтение. По мере того как он одолевал строку за строкой, лицо его, и без того изуродованное шрамами, оставшимися после последнего ранения, все больше и больше бледнело. Сами шрамы, напротив, на глазах наливались красно-багровым цветом, создавая омерзительный контраст.
Прочитав грамоту до конца, Ярослав молча скомкал ее и кинул комок прочь от себя.
— Подними, — тут же велел Мстислав одному из своих дружинников и пояснил Ярославу: — Я ее за пазухой схороню. Солнце еще не сядет, как мы ему в пасть поганую листок сей засунем. Пущай сожрет перед смертью.
Он глубоко вздохнул, пытаясь себя успокоить хоть немного, и скомандовал, решив, что времени прошло достаточно:
— Я вперед пойду по прямой, а ты, княже, — обратился он к Ярославу, — правее возьми. Слева охватить не выйдет — Ока помехой, но в полукольцо мы их возьмем, чтоб бить сподручнее было.
Тот на ходу перестроился, забирая резко вправо и уводя за собой не только своих, но и дружины других князей. Все было, как когда-то, еще до Липицы[98], после которой ему так ни разу и не довелось испытать радости победы. Лишь одна тревожная мысль смущала, неустанно стучала в висках и предостерегающе кричала, чем дальше, тем громче и громче: «Было! Было!! Было!!!»
Перейдя в нестерпимый визг, она яростно билась в голове, словно стремясь вырваться на волю, и отчаянно взывала вспомнить. Что именно вспомнить — Ярослав не понимал, и лишь когда до ненавистного рязанца, который, нимало не таясь, стоял чуть ли не в первых рядах своей жалкой кучки, осталось всего ничего, он вспомнил. Первым делом князь осадил своего коня, причем так резко, что жеребец чуть не споткнулся, норовя выбросить наездника из седла.
— Стой, — заорал истошно Ярослав, но было уже поздно.
Снова на пути его дружинников оказался коварный ров с острыми кольями на дне и тут же рядом — второй, преодолеть который почти никто не сумел. Считаные дружинники, чудом перескочившие через оба, все равно валились замертво от точных выстрелов рязанских арбалетчиков.
Константин и впрямь воякой не был, так что ничего путного придумать не сумел. Зато на повтор старой коломенской ситуации[99] у него ума хватило. Однако повтор был с некоторыми новшествами.
Так, например, справедливо полагая, что на этот раз конная атака будет не только сбоку, но и спереди, он и рвы приказал вырыть соответственно, соединив их между собой. Чтобы ничего не заподозрили, он землю велел выносить к берегу реки и высыпать ее там. Затем рвы замаскировали ветками, уложив на них аккуратно подрезанный дерн. Времени хватило еле-еле. Оставалось лишь так раззадорить черниговского князя и особенно Ярослава, чтобы от слепой ярости они кинулись на него сломя голову, позабыв обо всем на свете. Весь вечер он сочинял нужный текст и лишь ближе к ночи остался удовлетворен содержанием грамоты. Для того чтобы развеять сомнения относительно возможных ловушек типа волчьих ям, он повелел оставить во рвах спереди несколько проходов. Их специально огородили тоненькими, хорошо ошкуренными колышками. Яркая желтизна четко выделялась на фоне зеленой травы, служила хорошим ориентиром для своих. Проходы сделали косыми, то есть, следуя по прямой, миновать оба рва было никак нельзя.
Опасения вызывал лишь Ярослав, который должен был помнить зимнюю битву под Коломной, но тут уж оставалось положиться на судьбу — как повезет. Сейчас Константин радостно понимал, что удача ему вновь улыбнулась.
Окружения со стороны реки он не боялся. Пусть булгар намного меньше, но зато их ладьи значительно больше по размерам, да и сами воины изрядно поднаторели в этих водных сражениях. Об одном он попросил своего союзника — по возможности ратников не убивать, а просто переворачивать и топить их ладьи.
— Пойми, Абдулла, они же все народ подневольный. Повелели им князья с боярами, вот они и пошли в поход — деваться-то некуда. Были бы степняки какие, я тогда наплевал бы — своей охотой они на мою землю пришли, или заставили их. Всех вырубил бы нещадно, под самый корешок. Но они — русские люди. Жалко.
— Все равно смертей не избежать, — резонно возразил наследник ханского престола.
— Это ты верно сказал. Потому и надо сделать так, чтобы их поменьше было.
Бек сдержал слово. По тем, кто не стрелял, булгары в ответ тоже не били. Просто сноровисто накидывали острые крючья-кошки и резко дергали вбок за другой конец крепких пеньковых веревок, опрокидывая одну ладью за другой.
Ратники-мужики, бестолково суетясь, пытались их обрубить, но толстые, хорошо просмоленные веревки были прочны. От одной, двух, а то и трех кошек освободиться удавалось, но в каждую ладью впивалось не меньше пятка, а потому усилия были бесплодны.
— И откель токмо понабрали их поганые, — сокрушались те, кто уже выбрался из-под перевернутых ладей и добрался к берегу.
На самом-то деле было их поначалу не так много. Но пока Константин плыл с Абдуллой к Ростиславлю — он успел хорошо ознакомиться с тактикой речного боя и тут же обратил внимание на их количество, после чего немедленно освободил всех кузнецов, пришедших с Сергием, а также местных, что были в городе, от земляных работ и поставил их на отковку кошек.
— Да куда их нам столько? — возмущался Абдулла. — Половины за глаза…
На самом деле еле хватило, да и то лишь благодаря Миньке и Сергею. Первый тут же внес кое-какие новшества, включая внедрение поточного конвейерного метода, а второй… Ну скажем деликатно, сумел найти убедительные слова для работяг, чтобы внедрить его на практике.
А от русских стрел булгар хорошо защищали высокие борта собственных кораблей и приобретенная именно в таких боях незаурядная сноровка и ловкость. После того как перевернулись десятка четыре ладей, штурм, начавшийся хаотичной атакой, резко прекратился. Стрелы, обмотанные пуками горящей пакли, воинам Абдуллы тоже удавалось загасить почти сразу же, благо, что речной воды хватало.
На берегу между тем отхлынувшие от рвов дружинники тоже попытались изменить тактику и избить рязанскую рать стрелами. Но и тут их ждала неудача. В окружении Константина имелось почти четыре сотни арбалетчиков, и едва дружинники уверились в своей безнаказанности, осыпая врага стрелами и незаметно для себя приближаясь все ближе и ближе к ним, как тут же последовало возмездие.
Прозвучала громкая команда Константина, и арбалетный залп выкосил добрую сотню воинов. То же самое произошло при попытке зайти с правого фланга. Здесь вовсю распоряжался остатками своего воинства (кузнецы продолжали вкалывать в городе) неугомонный помощник Миньки. Сам же великий изобретатель мог только азартно болеть за своих, стоя на городской стене Ростиславля, и переживать, что его самого нет среди умелых стрелков.
— Эх, гранатой бы еще, — время от времени вздыхал он, тут же с тоской вспоминая, как их вчера обнаружил у него бдительный Константин и сразу же — хорош друг, нечего сказать — беспощадно изъял все десять штук.
Между тем заметно темнело. Июньские дни самые длинные в году, но когда-то заканчиваются и они. Мстислав Святославович, уцелевший только по причине своей грузности, — конь его совсем немного отстал, и лишь потому князь не попал в первую, самую гибельную волну, — повелел прекратить атаки и готовиться к ночлегу. Злобствующего Ярослава он осадил, самокритично заметив:
— Рязанец — молодец, а мы с тобой дураки, — но тут же бодро заявил: — Ничего, за одного битого двух небитых дают, а пока пусть он немного потрепыхается.
Подумав немного, черниговский князь подозвал старого тысяцкого, который невесть каким чудом остался жив и даже почти невредим, ухитрившись выкарабкаться из рва, и коротко велел:
— Брод найти надо через речушку, что сзади рязанца течет.
— Как рассветет, так сразу и отряжу молодцев, — кивнул тысяцкий.
— Как рассветет — будет поздно. Ты к рассвету должен сам на тот берег перейти и еще тысячу с собой прихватить. Так что немедля приступай, — приказал жестко.
Тысяцкий вздохнул, вновь кивнул и поплелся отряжать молодцов.
— Я половину своей дружины потерял, — пожаловался подсевший к черниговскому князю Александр Бельзский.
— С оставшимися, конечно, тяжелее три тысячи гривен в свою калиту заполучить, но все равно можно, — заметил черниговский князь.
— Для этого к рязанцам вначале подойти надо, — подал голос один из многочисленных племяшей Мстислава.
— Завтра с рассветом пешцы первыми пойдут с хворостом в руках, — мрачно обнадежил тот. — Больше тысячи, от силы двух, пусть даже трех, рязанцам не завалить. Не успеют просто. А уж потом и наш черед настанет. А чего это он так осмелел? — обратился Мстислав к Ярославу. — Ему же сам бог повелел где-нибудь отсидеться да все полки свои тихонько собирать.
— За землю свою переживает да за смердов, — пояснил Ярослав.
Подумав немного — как-то не хотелось, чтобы рязанец даже в мелочах выглядел благородно, он криво ухмыльнулся и добавил:
— Жаден больно, вот и не хочет, чтобы его княжество зорили. Он от жадности даже мои земли не трогал. Тихо шел, по-хозяйски.
— Это хорошо, что переживает, — после паузы задумчиво протянул Мстислав. — Ежели ускользнет и завтра, то я ему еще один крючок закину. Чтоб наверняка сработало. Хотя лучше, чтоб не ускользнул.
Но его пожелания не сбылись. Ранним утром на пологом берегу Левой Губы уже никого не было. Правда, Константин не бежал — он просто сел в осажденном городе, готовясь его оборонять до последнего.
— Как мыслишь, он хотя бы сотню-другую конных имеет? — поинтересовался Мстислав, внимательно разглядывая фигуру князя Константина, командовавшего своими людьми на стене недалеко от городских ворот.
Ярослав, которому был адресован вопрос, ответил не сразу.
— Скорее всего, имеет, и даже не одну-две, а поболе, — уверенно заявил он после раздумья.
— Совсем хорошо, — туманно заметил Мстислав, по-прежнему не раскрывая своих задумок, и небрежно бросил тысяцкому: — Потери все сочли? Сколько?
— Из нашей дружины почти полтораста душ. У Ярославовых воев столько же. У прочих, ежели всех вместе честь, еще сотен шесть. Обычных конных, не дружинных, почти восемь сотен. Да что дружины — одних князей ныне десяток без одного недочли. Все во рвах остались.
Мстислав присвистнул:
— Вот, князь Ярослав, как нас рязанец лихо пощипал. За один день чуть ли ни на треть воев поубавил. Ну да ничего. Мы еще поглядим, кому цыплят считать доведется и кто из нас до осени доживет. Кстати, а где твой Гремислав?
— Я ему повелел в рядовичах[100] покуда быть.
— Напрасно ты с ним так, — с укоризной заметил черниговский князь. — Ныне, пока град на копье тщимся взять, мне все едино делать нечего. Хочу парой слов с ним перемолвиться. Вели ему подойти.
Беседой с Гремиславом Мстислав остался доволен настолько, что даже заверил его в конце разговора:
— Все исполнишь так, как должно, то я тебе не только гривен отсыплю, но и сотником к себе возьму.
— А тысяцким? — нагло спросил Гремислав.
Мстислав поморщился.
— Тысяцкого тоже, может, дам, но для того ты в руках должен голову своего бывшего князя держать, когда передо мной стоять будешь. Нет, даже не так, — тут же поправился он. — Не голову, а его самого и чтоб он живой был.
— Трудненько придется, — вздохнул Гремислав.
— А ты дерзай, — спокойно посоветовал черниговский князь.
Вялый штурм не принес никакого результата, но Мстислав почему-то был спокоен и ничуть не раздосадован.
— Завтра на рассвете уходим в глубь его земель, а Ростиславль в покое оставим, — сообщил он Ярославу.
— А как же рязанец? — удивился тот.
— А я разве не сказал? — хмыкнул Мстислав. — Мы же не просто так уйдем, а с его головой под мышкой.
— А как?.. — начал было Ярослав, но черниговский князь загадочно улыбнулся и прервал его нетерпеливо:
— Все завтра обскажу, а теперь спать пора.
Едва рассвело, как дружины уже приступили к завтраку. Перекусили быстро, после чего спешно собрались и стали одна за другой переправляться уже через Правую Губу. Брод сыскался почти напротив переправы через Левую, верстах в четырех от города. Ярослав думал, что часть конницы останется сторожить, пока не перейдет реку пешая рать, но Мстислав, не мешкая ни секунды, сразу повел полки вдаль, пояснив на ходу свой план:
— Теперь ты все понял?
— То-то я дивлюсь, чего это у нас так воев поубавилось, особенно у тебя, княже, — заулыбался повеселевший Ярослав.
— Рязанец думает, что самый хитрый, — заметил Мстислав. — Пусть думает.
Расчет черниговского князя был прост, но коварен.
Увидев, что конные дружины врага удалились на достаточное расстояние, Константин не выдержал и велел открыть городские ворота, чтобы помешать переправляться пешей рати. С собой в лихой кавалерийский наскок он взял всех тех, кто был под рукой, то есть полторы с лишним сотни.
Поначалу все шло как нельзя лучше. Неопытные ратники, привычные больше к плугу, сохе, косе и лопате, как очумелые кубарем катились назад, в теплые воды мелководной Левой Губы в поисках спасения.
Но Гремислав, как выяснилось, нашел еще одну переправу через Правую, и переправа эта была намного ближе к городу, всего в полуверсте от него. Ночью он скрытно перебросил на густо заросший ивами, ракитами и орешником берег целую тысячу. Увлекшись, Константин упустил момент, когда еще можно было бы попытаться чего-либо сделать, а когда опомнился, то на пологий берег реки выходили последние сотни неприятельской конницы.
Тысяча против полутора сотен — это чересчур. Кроме того, на помощь ей спешила вся оставшаяся конница, мгновенно развернувшаяся назад и спешившая к месту сражения. В хвосте колонны Мстислав сознательно поставил самых лучших, самых быстрых и самых опытных.
Вконец растерявшись, Константин попытался все-таки прорваться к городу, но отчаянные усилия оказались тщетны. На одного убитого рязанского дружинника приходилось двое, трое, а то и четверо погибших врагов, но тех такой размен вполне устраивал. Когда сотня бьется против восьмисот — это, пожалуй, еще хуже, чем полторы против тысячи. Тем более что сотни эти и не собирались уничтожить всю дружину. Их вполне устраивала тысяча гривен за одну единственную голову, и именно вокруг этой головы, которая пока что держалась на плечах, все теснее и теснее смыкался зловещий круг.
Константин, привстав в стременах, бросил затравленный взгляд по сторонам. Бесполезно. Полукольцо все плотнее охватывало редеющие на глазах остатки рязанской дружины. Без подмоги было бесполезно и думать о том, чтобы вырваться, и… подмога пришла.
Вот только пришла она к врагам — один за другим завершали обратный переход черниговские, новгород-северские, турово-пинские и полоцкие дружинники, которые тут же присоединялись к атакующим. Полукольцо уже сменилось кругом, железным обручем, который все сильнее стискивал рязанцев.
Оставалось надеяться на чудо, но как часто в жизни доводилось кому-либо видеть его, настоящее, пусть хотя бы один-единственный раз? То-то и оно.
До ростиславцев хоть и с опозданием, но дошло, что нужно немедленно что-то предпринимать. С гиканьем и истошными криками, стараясь отвлечь внимание от окруженных, из городских ворот выскочили еще две сотни конных. Это была самоубийственная атака с единственной целью — отвлечь на себя внимание. Плохо обученные, на крестьянских, а не боевых конях, местные ратники, тем не менее, были готовы на то, чтобы сделать все для спасения князя, но до места схватки нужно было проскакать целых четыре версты. Не успели они преодолеть и половину, как бой практически завершился…
Оставалось только одно — повернуть назад и успеть вернуться в город, не внося на своих плечах врагов. Потом еще одно, потяжелее, но все равно обязательное к исполнению — не предаваться унынию. С этим труднее — сердцу не прикажешь, во всяком случае, так вот, сразу. Хоть немного времени надо — кровавые слезы утереть. Но тут враг помог, сам того не желая — на штурм пошел. Хорошо-то как. Ведь нет лучшей тризны по другу, чем на его могилу кровь врага пролить.
Ну, давайте, давайте, смелее подходите!..
Глава 14 Толмач и гонец
Пролетают полночные птицы Над ладонями стынущих рек, И костер пограничный клубится У бревенчатых русских засек. В. СилкинЮрий Кончакович еще на подходе к Ряжску смутно почуял, что тут пахнет не просто малой поживой, которую он порешил было великодушно подарить своим воинам. Чего мелочиться, когда с этой крепости навряд ли удастся выжать больше десятка серебряных гривен.
Он же поначалу решил было вовсе пройти мимо нее, оставив пару тысяч для ленивой осады, чтобы только не выпускать из нее воинов. Впереди его ждали многочисленные богатые селища, густо облепившие реку Проню, будто пчелы улей. В завершении же похода, как венец всему, перед ним открывалась беззащитная Рязань. Как ему донесли черниговские князья, лишь кое-где вкруг своего стольного града князю Константину удалось поднять стены только до высоты одной сажени. Для его храбрых воев это не преграда. Можно вскакивать прямо на конскую спину и с нее прыгать на стену.
Да, Рязань в том году здорово погорела, но это относится лишь к домам. Серебро и золото в огне не горят, разве что плавятся, но они вполне устроят его и в таком виде.
Жаль лишь, что Котян, который ныне штурмует Пронск, застолбил за собой Ожск, где, по слухам, рязанский князь как раз чеканит из серебра свои монеты. Но это ничего. Котян глупый. Был бы он умен, сразу догадался, что Константин не хранит их в Ожске, а сразу свозит в Рязань.
Правда, придется потерять тысячу, а может, и две тысячи своих людей, ну так и что же. Всем известно, как переменчиво счастье воина. Сегодня ты пьешь душистый русский мед, нежась на пушистых шкурах и возложив грязные ноги на белый мягкий живот русской рабыни, а завтра… завтра недвижно лежишь в степи, и уже твое брюхо терзает какой-нибудь хищный зверь. И хорошо, если в этот миг ты умер. Куда хуже, когда ты еще жив, но только не в силах пошевелиться, потому что подлая стрела русского воина перебила тебе хребет.
Но зачем говорить о грустном, когда впереди ждет столько радости: горящие дома, предсмертные хрипы и стоны врагов, жалобный плач женщин и детей, уводимых в полон. Есть от чего развеселиться и будет над чем посмеяться.
Так что ни к чему такому мудрому половецкому хану, как Юрий Кончакович, думать о разных неприятностях, которые рано или поздно случаются в жизни с каждым степняком. Когда они произойдут — неведомо. Да и произойдут ли вообще, во всяком случае, именно с ним самим. Ведь хану всегда можно отделаться выкупом, который будет выплачен из той добычи, что награблена у тех же русичей.
Лучше задуматься о Ряжске и о том, как половчее да побыстрее взять этот городишко, в который князь Константин — вот же глупец — приволок всю свою немалую казну. А ведь поначалу Юрий Кончакович и не понял даже, что там за ящики с сундуками быстро-быстро заносят в город. Было их много, очень много, не меньше сотни.
Впрочем, поначалу хан на них и вовсе внимания не обратил. Когда он с передовым отрядом, состоящим из лучших воинов, выглянул с противоположного берега Хупты, его в первую очередь укрепления интересовали.
Озирая высокие бревенчатые стены и башни, он с досадой отметил, что русичи даром время не теряли. Те же стены и раньше не были низкими — сажени в три высотой, а теперь и вовсе вдвое против прежнего стали. Опять же башни в том году чуть ли не вровень со стенами были, возвышаясь на одну сажень, не больше, зато теперь вымахали — о-го-го.
Своим зорким цепким взглядом Юрий Кончакович успел за считаные мгновения оценить и все остальные новшества, которые раньше отсутствовали, даже успел обратить внимание, что на входе в город, том, что у пристани, теперь установлены еще одни ворота. Внешние, распахнутые настежь, в отличие от прошлого года, сияли новенькой железной оковкой, а у вторых, видневшихся в глубине, была открыта лишь одна створка, да и то не до конца.
А что это за людишки все время от пристани до ворот и обратно снуют? Тут только хан и присмотрелся повнимательнее к тому, чем они занимались.
А там гвалт, толчея, суета. Половина ладей уже стояли пустыми, плавно покачиваясь у маленького причала. Оставшиеся же, тяжело осевшие, продолжали ждать, когда до них дойдет очередь. И из каждой вынимали по четыре, а то и по пять тяжелых, почти неподъемных сундуков и ящиков. Не меньше пяти-шести русских пудов, определил на глаз Юрий Кончакович, наблюдая, как сгибаются рязанские воины, с огромным трудом вчетвером перетаскивая эти ящики за городские ворота.
Не иначе какой-то припозднившийся купец перегружает свои товары, опасаясь, как бы его не пограбили половцы. Ну что ж, дополнительная пожива не помешает. Когда хана и его отряд на другом берегу приметили, то разгрузка ладей не приостановилась, а, наоборот, ускорилась. Все разом засуетились, заспешили, с ящиками стали носиться чуть ли не бегом. Те, кто стоял на стороже, и то частично подключились. Даже руководивший всей разгрузкой могучий широкоплечий воин и то в стороне не остался — кинулся самолично помогать. Ох и силен здоровяк. Там, где другие вдвоем хватались, он один ухитрялся поднять, чтобы быстрее вытащить на мостки пристани, хотя один раз и он выпустил груз из рук. Видать, сил не рассчитал. Ящик немедленно рухнул, лопнув при этом, и покатились по доскам кругляши серебряные, кубки да блюда золотые.
Те половцы, что рядом стояли, взвыли разом, умоляюще на Юрия Кончаковича поглядывая. Дескать, такое богатство в чужих руках, да совсем рядом. Может, попробуем напасть, а? Однако хан только медленно головой мотнул из стороны в сторону.
Конечно, можно было бы попытаться. Иной хан, обезумев от жадности, так и сделал бы, но потому Юрий Кончакович и сумел сесть на отцовское место, одолев прочих братьев, что вид золота никогда не застилал ему глаза кровавой пеленой. Во всяком случае — не полностью.
Иной раз мало добычу захватить. Надо еще продумать, как ее довезти до своих угодий. Здесь иное. Довезти легко, зато захватить…
На разгрузке полсотни суетились, да еще полсотни в охране пристани. У хана с собой двести. Хороший расклад — один к двум. Не самый лучший, но тоже годился, если бы не…
Первым «не» была река. Она, конечно, не больно-то широка, но пока ее переплывешь, русичи так из луков проредят, что хорошо, если из двух сотен половина останется. Ну, пускай он в обход людишек пошлет, с той стороны, где русских, воинов нет. Тогда все равно второе «не» останется — город. Неужто там больше никого нет и все здесь собрались? Так лишь глупец размышлять может, а он, Юрий Кончакович, дураком не был.
Ну, точно! Бежит еще одна сотня из ворот прямиком к пристани. Это уже расклад один к одному, то есть совсем плохой. При таком раскладе можно нападать лишь в случае, когда надо жизнь свою спасти. Да ночью кидаться, чтоб неожиданно ударить. Только тогда и есть в этом смысл. К тому же и прибежавшая сотня у русичей явно не последняя. Не меньше двух, а то и трех еще в городе остались.
Словом, безнадежное это дело — из-за одного ящика с золотом и серебром людей своих безрассудно класть. В результате только потеряешь их и ящик не заберешь.
К тому же его всего лишь в город унесут, стало быть, не потерян он и не утрачен бесследно. Надо лишь все обдумать как следует и этот Ряжск взять на копье, то есть и договор с князем Ярославом не нарушить, и добычу захватить неплохую. А уж потом далее идти, на селища богатые да на Рязань неприкрытую.
Спустя три дня хан уже стал колебаться. Есть ли смысл дальше штурмовать городские стены или все-таки плюнуть на неприступный град, оставив под ним пару тысяч, и идти вперед? Уж очень стойко держались осажденные.
Не меньше полутысячи их на стенах стояло. Причем выносливыми они оказались сверх меры. Пробовал Юрий Кончакович измором их взять, днем и ночью город штурмовал — половина половцев отдыхает, половина на стены пытается влезть. Но те бьются так же, как и в первый день.
Не слабеют они силой, крепок в руках меч, остер глаз, ядовиты их подлые стрелы. Зачастую одной царапины хватало, вечером полученной, чтоб к утру несчастный степняк уже в бреду лежал, никого не узнавая, а к следующему вечеру совсем затихал. Если ранку прижечь сразу, то тут, конечно, ничего не приключится, но кто ж в горячке боя, в запале сражения о том думает.
Да и потом, особенно в первые два дня, уже у костра сидючи, глянет воин на царапину кровоточащую да и махнет на нее рукой небрежно. Негоже о таких пустяках заботиться, не к лицу оно удальцу степному, а то товарищи, сидящие рядом, начнут усмехаться втихомолку и, чего доброго, за труса посчитают.
Только на четвертый день очухались, когда из-за этих царапин больше полутысячи воинов к высокому небу ушли. Не в бою погибли — то почетно было бы, а будто баба какая, от болезни померли.
И уж совсем Юрий Кончакович решил было уйти, даже половину шатров к вечеру повелел снять, чтоб наутро возиться поменьше. Но тут ночью половецкие дозоры русского воина повязали. Пытался тот пробраться из осажденного города, да не вышло — углядели ночные караульные во тьме серое пятно, что ползет тихонько, за деревьями укрываясь. Дрался русич отчаянно, но сила силу ломит.
Хорошо, что умны дозорные оказались, не озверели, своих теряя, не убили на месте, живым схватили. Обыскав же, грамотку у него нашли, в холщовые порты зашитую, а в той грамотке слово ихнего воеводы, что всей обороной города командовал, по имени Юрко, а прозвищем Золото.
Писал он в этом письмеце слезно своему князю Константину, что нет у него мочи терпеть, потому как одолевают басурманы поганые, и ежели ден через пять, самое большее через шесть, подмога не придет, то город падет. Но самое главное в конце было сказано.
Предупреждал Юрко, что вместе с Ряжском и вся казна, кою князь из Рязани вывезти повелел, тоже нехристям достанется. Он, Золото, ее, конечно, запрячет, в землю укрыв, что уже сейчас делает, но ненадежно все это будет. Стоит одному только из тех, кто ямы копали и добро укрывали, в плен к степнякам попасть, как пиши пропало. Прижгут ему руки-ноги злодеи-половцы, и выложит тот всю правду — где и чего зарыто.
Убить же всех тех, кто ныне землю роет, он никак не может — и без того воев мало, да и те не двужильные, чтоб днем и ночью приступы отбивать, а степняки, как на грех, даже на малый час глаз сомкнуть не дают.
А еще воевода сообщал, что ежели не успеет князь вовремя, то он ему место сообщает, где и что он зарыл, дабы ничего не пропало. Дальше же перечень шел, и каждое слово в нем — услада для слуха ханского.
— А ну-ка, зачти еще раз про то самое, — буркнул он, с трудом пряча довольную улыбку.
Грамотный толмач из пленных русичей, с ненавистью покосившись на Юрия Кончаковича, снова начал послушно читать по складам:
— «А все гривны, числом двенадцать тыщ, кои в двух дюжинах сундуков, мы сразу под крыльцом твоего терема зарыли на сажень глубиной. И когда тамо копнуть повелишь, то все серебро в полтораста пудов отыщешь. Злато же в ином месте захоронили, от зерна одну скотницу освободиша, и поклали туда все шесть ящиков на три дюжины пудов без малого. Опосля того сызнова все пшеничкой присыпали, дабы басурманин не догадался. Ларцы же с каменьями дорогими я один захоронил и место то приметное…»
— Хватит, — оборвал нетерпеливо хан, махнув небрежно рукой. — Ступай отсель.
Низко склонившись, толмач вышел. Тут же, сразу на выходе, проворные степняки ему снова колодки на ноги набили, а в руки кость конскую сунули милостиво — на, мол, погрызи, на ней мясо еще осталось.
Мясо голимое без хлеба такой сытости не дает, опять-таки конину с говядиной или со свининой не сравнить, но и на том спасибо. Ныне не до выбора Пятаку. Тем более не первый год он уже в плену — третий, так что привык. Взяли его еще под градом Корсунем, близ реки Рось. Первая сторожа киевская, что в одном дне верхового пути подальше в степи стояла, оплошала малость, зазевалась, не зажгла костер тревожный. За грех свой они в ту же ночь сполна рассчитались — все под половецкими саблями полегли, но тем, что в плен попали, от того легче не стало.
Помимо ратников, числом с пяток, половцы изрядно живого товара нахватали. С сотню, не меньше, в степь увели. Потом, известное дело, на продажу в Судак[101] погнали. Его самого от рабства случай спас, точнее, зубы ханские.
Разболелись они у Юрия Кончаковича не на шутку. Шаман целый день с бубном вокруг костра прыгал, потом обливаясь, — не помогло. Что делать? И тут хану про книжицу в темно-коричневом переплете вспомнилось. Ветхая она была, да и читать опять же некому. Но помнил он, что когда их вместе с отцом, славным Кончаком, русский поп крестил, то все время из нее какие-то заклинания читал.
Книжицу эту священник потом вместе с крестами им подарил на прощанье и сказывал, что жил давным-давно человек Кристос, который могучую силу имел. Мог даже мертвых из могил поднимать — вот как велика сила его была. Потом сам себя тоже из мертвых поднял, походил еще малость по земле и затем живой на небо ушел.
Зачем он так торопился, хан поначалу не понял. Потом лишь догадался — скучно ему стало. Опять же любопытство, наверное, взяло — что там да как на небе. Поп сказывал — он опять скоро спустится. Это тоже понятно было: как наскучит, так и вернется. Но главное не в этом заключалось, а в том, что в книжице этой все его заклинания были прописаны.
Юрий Кончакович повелел ее всюду за собой возить. Пусть читать и не может никто, но и выбрасывать боязно. Вдруг Кристос, который ныне еще по небу гуляет, узнает, как хан с его заклятиями нехорошо поступил. Спустится он по такому случаю и накажет степняка. Скажем, саблей пополам разрубит, а мясо собакам раскидает. Коль сила у него так велика, то ведь ему никто и воспротивиться не сможет. Ты еще лук доставать будешь, а Кристос тут как тут: стукнет тебя кулаком могучим по лбу или еще какую казнь учинит.
К тому же он не просто человек, а еще и бог, как поп сказывал. Тут, правда, Юрий Кончакович и вовсе ничего не понял — как это так, чтобы все вместе? Ты уж что-то одно выбирай, либо то, либо другое, а все сразу навряд ли у кого получится, даже если он такой великий шаман, как Кристос. Однако спорить не стал и книжицу берег, а ныне про нее вспомнил. Вдруг заклинания эти и от зубов помогут.
— Иди, — велел он одному из старых слуг, который — сколько по Руси ни гулять — на их языке поганом лопотать малость выучился. — Иди к русичам и спроси их, может ли кто книжицу эту прочесть. Скажи, что хан слово дает — ежели есть такой, то он его в полон продавать не будет, а на волю отпустит.
Тут-то Пятак и вызвался. В грамоте он не так чтобы шибко силен был, но за два года, которые, будучи сиротой, в послушниках монастырских ходил, кое-что уразумел. Потом-то сбежал из монастыря — муторно ему в нем стало, но память отроческая не подвела. И буквицы признал, и в слова их сложил, хоть и не сразу.
— Ты то заклятье чти, кое от зубов помогает, — повелел хан, кривясь безобразно.
Хотел было Пятак пояснить, что нет в святом писании специальных молитв от зубной боли, а потом не стал. Ежели полегчает этому басурманину, значит, повезло ему, Пятаку, а ежели нет, то… О последнем думать не хотелось, и потому он, раскрыв книжицу где-то посередине, приступил к чтению:
— … От советчика охраняй душу твою и наперед узнай, что ему нужно; ибо, может быть, он будет тебе советовать для самого себя…[102]
Поначалу тяжко было. Лет десять назад из монастыря он утек, и с тех пор ничего читать ему не доводилось, но потом, со временем, как-то освоился, побойчее забубнил:
— … Душа человека иногда более скажет, нежели семь наблюдателей, сидящих на высоком месте для наблюдения…[103]
Пока читал, от монотонного голоса глазки-щелочки хана совсем сузились, а после и закрылись. Убаюкал его Пятак напрочь. Оглянулся по сторонам воровато и тихо-тихо из шатра полез — вдруг удастся убежать. Каким-то чудом он и впрямь через весь лагерь прошел, книжицу к груди прижимая да приговаривая вполголоса:
— Господи, помоги.
Половцы на него косились, но не трогали, только следом пошли. Как поганых обмануть? Пятак до края стойбища дошел, но дальше идти не стал. Уселся на траву, книжицу открыл и снова вслух читать принялся.
Долго читал. Уж больно любопытны оказались воины-степняки. Едва же им надоело слушать и Пятак подумал, что пора и деру задать, приковылял какой-то старый половец, зараза кривоногая.
— Иди, — сказал, — обратно к хану. Он проснулся. Иди, не бойся. Ты хорошо читал — у него зубы утихли.
— Только в другой раз, — это уже сам Юрий Кончакович ему замечание сделал, — ты иное заклинание найди, посильнее. Боль не такая сильная, но еще чую я ее. Ищи пока его, а вечером снова придешь.
Три дня читал Пятак святое писание. На какой странице открылось, с такой и начинал, не разбирая. Три дня Юрий Кончакович дремал под монотонный бубнеж пленного русича, не понимая ни единого слова. Если бы ему потом поведали, что слушал он книгу премудрости Исуса, сына Сирахова, а также книгу Екклесиаста или проповедника, а еще и книгу притчей Соломоновых и книгу Иова, то он бы искренне тому удивился. Да и не в этом было для него главное, а в том, что русич нашел верные заклятья. Слабые, потому что зубы утихали, а потом опять ныли, но верные. В конце концов, помогли и они — совсем боль утихла.
— Я тебе волю обещал, — сказал он, хитро щурясь, и у Пятака сердце залилось от безумной надежды — неужто сдержит свое слово степняк вонючий?! — Я свое обещание выполнить должен, иначе мне верить никто не будет. Верно я говорю? — обратился он к приближенным.
Те в ответ только дружно закивали. Юрий Кончакович терпеливо подождал, пока толмач на русский язык все не переведет, про себя отметив, что он сам, пожалуй, даже лучше бы сказал, но нельзя. Не подобает хану великой половецкой орды унижаться, самолично в разговоры с пленным вступая. Не дело это. Достоинство подрывается. С князьями русскими еще куда ни шло, хотя он их тоже в душе презирал. Разве мудрый властитель будет чужой народ себе в помощь звать, если он с соседним родом чего не поделил. У них в степи о таком и слыхом не слыхивали.
— Я его выполню, — продолжил хан, довольно улыбаясь. — Но про срок, когда я тебя выпущу, я ничего не обещал. Теперь и до него очередь дошла. Ты будешь свободен через тридцать лет. Так я сказал. Пока же, когда повелю, читать будешь, а то вдруг у меня сызнова что-нибудь заболит.
Худо Пятаку стало, ой как худо. Поманил поганый, посулил волю, а ее, оказывается, тридцать лет еще ждать. Это же насмешка одна, а не воля. Но себя он сдержал, только зубами скрипнул, да желваки на скулах выступили от злости.
«Погоди, тварь, ужо придет срок, сочтемся», — подумал.
Вслух же смиренно вопросил:
— А что нужно сделать, чтобы ждать помене?
— Ежели доведется от раны тяжкой помирать, а твои заклятия сызнова меня спасут, — перевел толмач, — срок твой на пять лет скощу, а может, и на все десять. Отпущу и за выкуп хороший. Ты умный, крепкий, грамотный. За тебя меньше ста гривен просить негоже. Есть кому столько заплатить?
— Один я, — развел руками Пятак. — Как перст один.
— А пятьдесят?
— Сказано же, что один. Так что ни пятидесяти гривен, ни даже одной за меня никто не даст.
— Плохо. Тогда жди тридцать лет, — благодушно махнул рукой хан, давая понять, что он все сказал.
Пятак один раз пытался бежать — не вышло. Поймали и долго били. Совсем забить Юрий Кончакович не дозволил. Как чувствовал, что пригодится еще ему этот воин.
Следующий свой побег Пятак стал более тщательно готовить, чтобы уж точно все получилось. Хотел было осенью прошлой деру задать, когда хан под Ряжск пришел, — сорвалось в последний момент. Слишком рано Кончакович обратно в степь подался. Не успел Пятак. Одно хорошо — слуга-толмач под стенами города погиб. На его место хан Пятака назначил.
Ныне не то. Ныне грамотка эта Юрия Кончаковича на хорошую цепь посадила. Крепкую. Прочнее железа эта цепь, потому как из злата-серебра она выкована. Жадный степняк теперь никуда из-под Ряжска не уйдет, пока град не возьмет. Стало быть, время у него еще есть. Сидел Пятак в раздумье, гадая, какой же момент поудобнее выбрать, чтоб ноги унести.
— Иди поговори с воином пленным, — толкнул его кто-то бесцеремонно в бок.
Оглянулся, голову поднял — сам хан перед ним стоит.
— Иди, — повторил еще раз Юрий Кончакович. — Сейчас тебя бить станут. Не бойся. Легко побьют, только чтоб кровь была видна. Потом к нему кинут в юрту. Скажешь, бежать хотел, но поймали. Скажи, все равно убежишь. Ему предложи вместе бежать, а сам выведай, что еще он своему князю на словах поведать должен был. Выведаешь, срок сокращу.
— На сколь же лет? — нагло спросил Пятак, памятуя, как его один раз лихо надули.
Рисковал, конечно, маленько. Но чего ему терять, когда впереди еще двадцать семь лет половецкой неволи? Юрий Кончакович нахмурился.
Дерзит русич и кому? Самому хану. Такое прощать никак нельзя. Такое карать надо, чтоб впредь никому не повадно было. По сторонам оглянулся — рядом никого. Ладно, если и впрямь что дельное выведает, тогда и простить можно. Твое счастье. Сам ты не ведаешь, как ныне нужен.
— Может, и половину сниму, — подумав немного, добавил. — А может, и сразу отпущу. Смотря что он тебе скажет.
Гонец-неудачник только постанывал легонько, когда к нему Пятака избитого кинули. Первый час молчал, ни слова не говоря. Лишь когда тот ему ожоги на ступнях пеплом присыпал, да свою рубаху разодрав на полосы, забинтовал, поблагодарил слабым голосом и поинтересовался, кто он да откуда здесь. Пятак все честно рассказал. Только об одном умолчал. Клял себя в душе, но молчал, что Иуда он самый распоследний. Уж больно крепко волей его хан поманил. Предложил гонцу вместе бежать, как Юрий Кончакович и повелел. Тот, Родей — Родионом назвавшись, поначалу, о побеге услыхав, оживился. Потом же, когда узнал, что пешими уходить надо, только усмехнулся горько, а вместо ответа, от боли морщась, ноги свои перевязанные кверху задрал.
— Куда мне с такими культяпками бежать? — спросил. — Я на них и шагу не сделаю.
— Ты прости, паря, но я на себе тебя не доволоку. Вон ты какой здоровый, хошь и молодой, — честно сказал Пятак. — Тут ползти быстро надо, иначе оба попадемся. Тогда, делать нечего, я один уйду. Ежели кому что передать надобно — скажи. Волю твою свято исполню.
Про то, что лишь последняя воля умирающего священна, он говорить не стал. Ни к чему оно. И так все ясно. Да и Родион не сопляк десятилетний — сам понял отлично.
— Передать, говоришь, — протянул гонец задумчиво, а сам пытливо на Пятака посмотрел.
Нехороший это был взгляд, не столько оценивающий, сколь подозрительный. А еще задумчивый. Значит, есть о чем сказать. Ох как погано на душе у Пятака стало. Это что же получается, парню молодому, лет двадцати двух-двадцати трех, не больше, ноги на костре жгли, а он молчал стойко, ничего ворогу не сказал. Зато теперь как на духу своему товарищу по несчастью все выложит, а тот продаст его, как Иуда. Что ж он, Пятак, творит?! Как вообще на такое решился?! Нешто креста на груди у него нет?!
Хотя креста медного нательного на нем и впрямь не было. Его в первый же день полона кто-то из басурман снял, польстившись на скудную добычу. Но разве в том дело, есть ли он на тебе. Крест — он либо в душе твоей, либо вовсе отсутствует.
Пятак кашлянул смущенно и произнес шепотом — вдруг люди хана их разговор подслушивают:
— А ежели мне веры нету — ничего не говори. Можа меня поганые вдругорядь спымают и мучить учнут. Я ведь не ты — огня не выдержу. Так что молчи себе.
Родя хоть и молчал, но глядел все так же пытливо, благо свет, хоть и тусклый, в юрте имелся — от угасающего костерка, посередине разведенного. Значит, продолжает парень кумекать, что за человек перед ним сидит и стоит ли ему доверять.
Прикидывать же Родиону было что. Он слова воеводы, сказанные на прощанье, хорошо запомнил.
— Может, на смерть идешь, парень, — сказал ему Юрко, хмурясь. — К тому же и смерть не простую — мученическую. Но и то в разум возьми, сколь народу спасено будет благодаря тебе. А ведь служба наша у князя на том и стоит, чтоб ежели что — погинуть, а долг свой ратный сполнить. Твой потяжельше прочих будет. О награде молчу. Не за нее идешь — ведаю. А сестрицу твою увечную мы в беде не оставим — ты верь. Не таков у нас князь, чтоб про родню дружинников забывать, долг свой до конца сполнивших. В том даже и не сумневайся. Ты под Коломной знатно себя показал, потому и в дружину попал. Ныне же еще тяжелее будет — один ты. Никто не подсобит, никто плечо не подставит. Однако дело делать надо.
И об этом беглеце неудачливом воевода тоже предупреждал. Ну, как в воду глядел. Точнее, не именно о нем, что рядом с Родей в юрте вонючей лежит, но о том, что всякое возможно.
— Могут ведь и подсунуть тебе кого-нибудь из наших же, русичей, кои уже давно у них в нетях[104] обретаются, чтоб, значит, хитростью все выведать. Тут я тебе, Родион Ослябьевич, ничего не скажу. Сам думай, довериться ему али как. Главное — не горячись, не спеши. И так в голове покрути, и эдак — как оно лучше будет. Да сердцем его принять попробуй — глянется ли он тебе? Может, чист он душой, а может — чукавый[105]. Тебе виднее.
«Сказать или нет? — напряженно размышлял Родион. — С одной стороны — лицо в кровь разбито, а с другой — не так чтоб и сильно его избили. Похоже, для виду больше. Вон как шустро рубаху драл да ноги мне перевязывал. Опять-таки сам предложил, чтобы сказал я ему слово тайное. Однако и тут незадача. Не стал скрывать, что слаб и пыток не выдержит. Сам молчать посоветовал. Ну и как тут быть, воевода? — обратился он мысленно к Юрко. — Сердцем принять, как ты советовал? Да глупое оно у меня. Старики уму-разуму учили, да, видать, плохо. Не нажил я его, разума-то. Мне бы еще столько прожить, тогда, глядишь, и поднабрался бы мудрости заветной. А-а, ладно».
— Слышь, ты. Как там тебя кличут-то? — окликнул соседа притихшего. — Уснул что ли там?!
— Да не сплю я, — откликнулся тот. — А звать меня Пятаком. Пятый я у отца с матерью был, вот и назвали так.
— Неважно, пятый или десятый, — отмахнулся Родион досадливо. — Лучше скажи, когда бежать удумал?
— Да нынче, пока еще крепок, — помешкав, откликнулся Пятак. — Завтра, боюсь, опять бить примутся, ироды.
«Почему не сразу ответ дал? — мелькнуло в голове у Родиона. — Но ведь не утаил, сказал, что целехонек, как я и думал».
— А как? — спросил он.
— Да вон у меня палочка заветная, — показал тот на тоненькую железную полоску и похвастался: — Ею даже рожу скоблить можно — до того остра.
— Чего ж не скоблил? — слабо усмехнулся Родион. — Вон как она у тебя заросла.
— Так чтоб не узнали про нее, — простодушно разъяснил Пятак. — Ныне она и сгодится. Токмо не сейчас, а чуть погодя. К утру ближе, когда сторожа сомлеет.
— Тогда слушай, — решился Родион. — Уйдешь ежели и сможешь до князя Константина добраться, то поведай ему, что силы наши на исходе почти.
Дальше он принялся повторять всю грамоту слово в слово.
«Да знаю я все», — едва не сказал Пятак, но вовремя осекся, продолжая слушать.
— А еще передай, — громким шепотом сообщал Родион, — что в грамотке той про места тайные, где злато-серебро зарыто, лжа голимая говорена. Слушай, где они на самом деле, потому как ежели град возьмут, то чтоб князь знал. Те дружинники, что ямы рыли, на кресте клялись не сказывать никому, какие бы муки мученические спытать ни пришлось.
«Что ж ты говоришь-то, глупая твоя голова, — растерянно думал Пятак. — Ты же всю стойкость свою в ничто обращаешь. Выходит, зря ты казнь лютую терпел?! Выходит, вся отвага твоя псу под хвост пойдет?! Хотя обожди-ка! А ежели?..»
— Все поведаю, как есть, коли доберусь, — твердо заверил он. — Прощевай, брат. И держись.
— Да мне уже все едино конец пришел, — усмехнулся Родион. — Тебе удачи.
Едва светать начало, как Пятак в щель прорезанную ужом проскользнул неслышно. Вроде бы и тихо пополз, но учуяли поганые, следом красться начали. Бдительно службу несли, нехристи. Крались тоже аккуратно. Пятак скорее почуял чем увидел их, и понял, что все задуманное на ходу менять надо. А как? Тут же, немедля что-то придумать нужно, сию минуту, да такое, чтобы с себя все подозрения мигом снять…
Ага, есть! Плохо ли, хорошо ли надумал, не ведал. Богу одному это решать, зато…
Встал Пятак с травы во весь рост, потянулся неспешно, косточки разминая, и ленивым ходом прямиком к ханской юрте подался. Половцы, что в траве позади него таились, разом головы приподняли и рты дружно раскрыли — что делать-то теперь?! Тот, кто старшим у них был, подождал немного, сплюнул разочарованно, тоже на ноги поднялся и следом за Пятаком двинулся, совсем таиться перестав. Прочие тут же его примеру последовали.
В юрту Пятака не сразу пустили, опасаясь разбудить Юрия Кончаковича. Однако тот сам проснулся от галдежа людского и войти дозволил, но тоже не сразу. Поначалу он какого-то половца позвал, а уж потом Пятака.
Когда тот в ханский шатер вошел, то кроме Юрия Кончаковича никого там не увидел. Да и не мудрено это. Хан хоть и по-походному жил, но с удобствами и себе ни в чем не отказывая. Кругом ковров мягких полно — нога тонет, подушек раскидано с дюжину, а одна треть всей площади и вовсе пологом занавешена. «Видать, там половец схоронился, который раньше меня вошел», — догадался Пятак и в душе снова к небесам обратился, чтобы они ему грех предательства ради спасения Родиона отпустили. А еще свечу пообещал поставить в божьем храме в полпуда весом, ежели только все удачно у него пройдет.
— Поверил мне гонец, — бухнул чуть ли не сразу, как только в юрту вошел. — Тайну всю поведал. Не в тех местах на самом деле зарыто, что в грамотке указано было. Иные они.
Рассказал правдиво, без утайки все, что услышал, а в конце про обещанное ханом напомнил и упомянул про то, что мысль некая у него имеется, но поведает он ее хану чуток погодя. Надо еще раз ему самому над ней покумекать.
Поморщился Юрий Кончакович, буркнул хмуро:
— Иди пока. Я думать буду. Тут рядом будь, чтоб сразу нашли, ежели позову.
Понял Пятак, что проверять его слова будут. Значит, слыхали там, за пологом речь Родиона. Это хорошо. Это просто отлично! Теперь у басурманина намного больше веры будет тому, что Пятак предложит.
Позвали его обратно в юрту, когда уже рассвело совсем. Небо сызнова хмурилось, все сплошь облаками было затянуто.
— Вот такая и жисть моя ныне беспросветная, — вздохнул Пятак, и тут же словно услышал его кто-то на небесах и обнадежить захотел, одеяло облачное быстренько в стороны разошлось, да не в одном, а сразу в двух местах. Причем не где-то там на окраине, а чуть ли не над его головой прорехи образовались. А сквозь них такая ласковая синь глянула, что Пятаку как бальзамом рану сердечную умягчила и уверенности прибавила.
— Не обманул ты меня, так что и я свое слово сдержу. Срок тебе до десяти лет обрубаю, — не поскупился Юрий Кончакович и замер в ожидании.
«Думаешь, поди, что кинусь тебе грязные вонючие лапы целовать, плача от умиления. Ну, точно, — чуть не улыбнулся Пятак, но сдержался. — Вон как носки сапог отклячил. А вот дудки тебе. И не мечтай, собака немытая. Ежели бы волю дал, тогда еще ладно. Из русской реки губы водой бы потом омыл и ничего, а так…»
— За срок, скошенный тобой, благодарствую, — поклонился сдержанно. — А только у меня вот к тебе какая думка ныне, великий хан, — не забыл польстить он самолюбию Кончаковича. — Гонец тот, именем Родион, мне одно место указал, в грамотке — другое начертано. Как узнать — где правда? А ежели он на самом деле во мне подлую душу почуял и истины ни там ни тут нет? Ты что же, весь град перекапывать станешь? А ежели и в полон никого не возьмешь, что тогда? Они ведь, сам, поди, видал, стойко бьются.
Юрий Кончакович помрачнел. Такая мысль в голову ему не приходила. А и впрямь — что тогда ему делать? Ну, хорошо, если черниговцы и прочие рязанского князья одолеют, тогда ему никто мешать не станет в поисках, да и то как сказать — дружба дружбой, а… Совсем же плохо, если князь Константин верх сумеет взять. Тогда он немедля сюда кинется, и каждый день, каждый час дорог будет. Значит, все бросить придется и несолоно хлебавши, как у них на Руси говорят, обратно уходить. А ведь он сам всегда повторял, что удачливый воин не тот, кто своего врага одолеть сумеет. Такое многим дано, особенно если вдесятером на одного навалиться. Подлинно удачлив тот, кто у своего врага поверженного узнать сумеет, куда он свое добро спрятал.
— Завтра его пытать велю. Он все скажет, ничего не утаит, — пообещал зловеще.
— Хорошо, коли правду. А вдруг опять соврет? — усомнился Пятак.
— Долго пытать буду. Каждый день.
— И каждый день он тебе место за местом называть будет. Как узнаешь, когда он истину сказал?
— А там земля должна быть свежая и мягкая, — радостно сузились глазки у хана. — Вот так и узнаю.
— Они что же, дураки вовсе, — возразил Пятак. — Долго им, что ли, всюду тебе накопать? А еще лучше через подкоп запрятать, — оживился он.
— Это как? — недоуменно переспросил хан.
— А так, — вдохновился Пятак идеей, которая, правду сказать, только что пришла ему в голову. — Роют, к примеру, в одном месте на сажень вглубь, а то и на две. А уж потом вбок идут саженей на десять. Получится, что над тем местом, где серебро с золотом лежат, земля вовсе нетронута.
— Это сколько же ее вырыть надо? — махнул хан рукой. — Не-ет, тут ты лжешь.
— Это воинам твоим такой труд в тягость, — не сдавался Пятак. — Нам же, русичам, лопата да вилы в охотку. И что тогда делать станешь?
Юрий Кончакович молчал. Наконец нехотя разжал рот:
— Говори, что сам надумал.
— Бежать мне надо от тебя. А чтобы веры больше было — гонца этого с собой прихватить. Вместе с ним чтоб. Тогда точно поверить должны. Копало же много народу. Я к ним подсяду, разговоры подслушаю — глядишь, чего и узнаю.
— Они молчать будут, — покачал головой хан.
— Тогда подпою малость. Во хмелю у человека язык как помело становится. Когда узнаю — знак дам или сам вас встречу и все укажу.
Юрий Кончакович призадумался.
— Ныне отпущу, а завтра знак дашь, — сказал нехотя.
— Не дам, — замотал головой Пятак. — Если бы обмануть хотел — пообещал бы. Я же себе свободу зарабатываю, потому и говорю честно — не успеть мне. Пять дней сроку дай. За это время я все должен разузнать. Знак же такой будет. Воев своих на пятый день под вечер отведи от стен, а трех всадников оставь, да подальше, чтоб никто по ним стрелять не стал. Если к тому времени выведаю что — я сам в них стрельну. А дабы угадал ты, что это я стрелу пустил — три пера будет у нее на хвосте, ниткой золоченой перевязанных, ежели пожертвуешь для меня одну из своего халата.
И опять Юрий Кончакович сразу ничего не сказал — все глядел пытливо на Пятака, пребывая в колебании.
— К тому же, узрев гонца своего, — поспешил добавить Пятак, — воевода и прочие ратники непременно в расстройство впадут. Раз он назад вернулся — значит, князь об их беде так ничего и не знает. Когда же воин в унынии, то у него и сил вдвое меньше становится. Глядишь, и вовсе град тебе сдадут, ежели ты их выпустить беспрепятственно пообещаешь.
В ответ хан только хмыкнул, но продолжал молчать, буравя Пятака глазами. Затем, усмехнувшись криво, спросил вкрадчиво:
— А ворота открыть сможешь?
Пятак в ответ лишь руками развел.
— Кто же мне такое позволит? На них там, поди, даже ночью не один десяток людей стоит. Воля твоя, великий хан, а с этим делом навряд ли что сложится.
— Если бы пообещал, я бы вас с гонцом этим на одном костре завтра изжарил, — произнес Кончакович равнодушно. — А почему ты сам предать своих возжелал?
Пятак, как мог, честно ответил:
— Предать и не думал даже. Я тебе в чем помочь обещался? Не град взять, не ворота открыть — узнать, где злато закопано. Кого я этим предам? Только князя рязанского — ведь это его казна. А он мне кто? Да никто. Мой-то князь, Мстислав Романович, далече отсель. И воевода корсуньский тоже далеко. А свободу получить очень хочется. Надеюсь я, что ты мне ее подаришь непременно, ежели я тебе покажу, где золото зарыто.
— В тот же день вольным уйдешь, — пообещал Юрий Кончакович. — И коней двух дам в придачу из своих табунов.
— Тогда… — замялся Пятак.
— Что еще? — нетерпеливо осведомился хан.
— Гривенок бы мне отвесил, а? Немного. С десяток. Больше ни к чему.
— Отвешу, — благодушно махнул рукой Юрий Кончакович и, видя, как русич продолжает переминаться с ноги на ногу, уже более строгим голосом спросил: — Ну, что еще хочешь?
— Хитер ты больно, великий хан. Один раз уже надул меня в самом начале. С зубами-то, — поспешил он напомнить. — Не сочти за дерзость, но вот ежели бы ты поклялся в обещанном, я бы уж для тебя расстарался. Только поклялся бы непременно здоровьем своим и жизнью, — и тут же добавил торопливо: — Коли ты слово сдержать надумал, тебе же все едино, а у меня на душе покойней будет.
— Клянусь! — торжественно произнес Юрий Кончакович. — Высоким небом клянусь и вашим Кристом клянусь, что слово ханское сдержу. В тот же день, когда серебро с золотом и камнями мои вои из земли достанут, я тебя отпущу на волю с двумя конями и десять гривен подарю.
Он и впрямь собирался сдержать свою клятву, потому и давал ее с такой легкостью, без колебаний и обычных уверток.
— А как ты думаешь бежать, чтоб гонец чего не заподозрил? — обеспокоился он вдруг.
— Я так мыслю… — начал излагать свой план Пятак.
Выслушав его, Юрий Кончакович хмыкнул и произнес насмешливо:
— А ведь ты тоже хитер, русич. Ну, гляди, пусть все по-твоему будет. Но если меня в чем обмануть замыслил — пощады не жди, когда град возьму. Ты у меня не о воле — о смерти молить будешь, но она ой как не скоро к тебе придет.
— Как на духу перед тобой я ныне, хан! — стукнул себя в грудь кулаком Пятак.
В ушах его звенело радостно — неужто поверил, неужто согласился?!
— Тогда и ты клятву дай, — потребовал Юрий Кончакович. — На кресте поклянись, что не обманешь.
— У меня нет его, хан. Твои люди сразу отняли.
Кончакович встал, молча снял с груди нательный крест на скользкой от грязи веревке, поманил к себе пальцем Пятака. Когда тот приблизился, произнес грозно:
— Целуй.
— Клянусь, — осенил себя двумя перстами Пятак и чмокнул золотой крест. — Клянусь, что все выведаю и тебе сообщу непременно.
«Господи, — взмолился он в душе. — Святая это ложь. Не из корысти — во спасение обманул. Я же этим сразу две православные души спасаю. А уж коли захочешь, так и быть — меня одного покарай, а Родиона не замай. Он-то здесь вовсе ни при чем».
Ноги у гонца на следующий вечер огнем жгло. Пытать его больше не пытали, но к хану днем таскали на допрос. Тот вкрадчиво говорил, отпустить сулился. Все про истинное место выпытывал. Молчал Родион. Один раз только не выдержал и, усмехнувшись, гордо произнес:
— Ты допрежь возьми град мой, а уж тогда и разговоры разговаривать будем, — и на ковер ему харкнул смачно.
— Собака поганая, — завопил Кончакович злобно и ногами пинать его начал.
Хотя бил не очень больно. Слабоват басурманин оказался. Саблю же все равно не достал, на что Родион очень надеялся. Тогда бы сразу конец всем его мучениям пришел. Ан нет. Значит, придется еще помучиться. Ну что ж, за ради Руси пострадать не страшно.
По дороге обратно поначалу сам пытался идти, гордо чтоб, но дважды сознание от боли терял и падал без сил. На руках его половцы отволокли и снова в юрту кинули. Связать, правда, все равно связали. Наутро хан казни лютой предать обещал, и это тоже обнадеживало, потому что сопли распускать не хотелось, а от болей неимоверных слезы сами из глаз ручьем лились.
Но тут в углу шевельнулось что-то и шорох какой-то подозрительный раздался. Потом ближе, совсем близко…
«Неужто змея?» — подумалось, и сразу вдруг испуг пришел. Зато когда про утро вспомнил — вмиг отпустило. Даже злорадство некое появилось.
«Вот здорово будет, — ухмыльнулся он. — Они меня казнить собрались. Придут завтра, а я их надул — мертвый уже лежу».
Он даже повозился немного, чтобы тварь быстрее укусила. Вот уже и ее язык пальцев Родиона коснулся. Погоди-ка, не язык это змеиный — человек ощупывает. И в ухо шепот знакомый:
— Тихо только. Это я, Пятак.
— Ты как здесь? — удивился гонец.
— Не сумел я уйти, всюду сторожа. В реке отсиделся у берега. С головой нырнул да в камышину дышал. Вишь, посейчас согреться не могу.
— А здесь почто?
— К вечеру вылез и увидел, как тебя в эту юрту закинули. Оно и хорошо. Тут совсем рядышком табун на выпасе. Тихонько одного басурмана прирежем, а там на коней и ходу. Ты как, без седла на лошади удержишься? — спросил озабоченно.
— Версту одну, может, и усижу, да и то навряд ли, — честно сознался Родион и мысленно попросил у парня прощения за то, что плохо о нем вчера подумал. — Ты не мучься со мной. Сам скачи.
— Своих бросать — не дело, — сурово отозвался Пятак. — Может, потому у меня вчера и бежать не получилось, что я тебя у поганых оставил, — заявил горячо. — Господь не допустил, чтобы я грех на душу принял. Да ты не боись, тут до табуна десяток-другой саженей, не больше. Их я и с тобой на плечах одолею. Вот ежели бы тебя в той юрте, где ты вчера был, оставили, тогда да — не осилил бы. Значит, не потянешь ты путь дальний, — задумался он. — Ну, тогда мы к Ряжску твоему махнем. Пусть воевода другого гонца к князю шлет.
— А не услышат нехристи?
— Мы тихо, — пообещал Пятак. — Только давай-ка я тебе, паря, рот завяжу.
— Зачем?! — удивился Родион.
— Ногами обо что заденешь — стон вырвется, — пояснил Пятак. — А коль рот завязан — смолчишь.
Признаться, не верил Родион, будто выйдет что-нибудь путное из этой затеи. Он и куны единой не поставил бы на то, что все удачно получится. Больно много препятствий впереди. Те же сажени проползти — труд великий с такими ногами. Опять же половца незаметно для всех, а главное — без шума прирезать надо. Потом лошадей поймать — тоже возня. Ведь на нее не просто залезть необходимо, но еще и удержаться.
— Ежели до Ряжска скакать, то нам проще обоим на одной уйти, — будто услыхал его Пятак. — Я тебя через конскую спину перекину, чтоб не свалился, и все. Пока они спохватятся, мы уже у ворот будем.
— А за собой поганых в град не приведем? — озаботился Родион.
— Не должны. Сунутся ежели, так их стрелами со стен отгонят, — успокоил Пятак, а у самого внутри так все и похолодело.
«А вдруг и впрямь хитрый хан решил именно так все сделать? Оно для него куда как хорошо бы получилось. И град бы взял, и пленные были бы. Будет у кого о казне княжеской выведать», — подумал он, но тут же отогнал от себя сомнение вредное.
Родиону же так пояснил:
— У вас там на стенах, чай, не дураки сидят. Пока поганых не отгонят — нас не впустят. Так что самое худшее — нас стрелами посекут, пока мы у ворот топтаться будем.
Но все прошло как нельзя лучше, без сучка и задоринки. Юрий Кончакович слово свое сдержал и помех побегу не чинил. Одна лишь заминка у ворот и случилась, когда открывать сразу не захотели на голос чужой, а Родион, как назло, чувств от боли лишился. Затем факелами подсветили, убедились, что половцев вблизи нет, приоткрыли одну створку, прошипев:
— Въезжай быстрее!
— Свобода, — прошептал Пятак, как только оказался внутри града и тяжелые засовы ворот с грохотом закрылись, надежно защищая его от любых посягательств половцев и самого хана.
Уже сняли бережно с коня Родиона, унеся куда-то, уже сам воевода перед Пятаком предстал, весь заспанный и в сапогах на босу ногу, а тот все сидел на мохноногой половецкой кобылке, не в силах слезть с нее.
— Меду ему плесните, — буркнул Юрко, поняв, что никакого толка сейчас от парня не будет.
Потоптался возле, прикинув на глазок, сколько в парня влить надо, еще раз поглядел на Пятака и, вздохнув, сокрушенно махнул рукой, уточнив почти сердито:
— Жбан налейте. Пущай мужик отойдет. К завтрему оклемается — тогда уж сразу ко мне его.
Но бдительности не терял. Отозвав в сторону одного из десятников, шепнул тихонько:
— Ты, Гуней, за ним пригляди пока, — и многозначительно подмигнул. — Мало ли что.
— Понял, — кивнул тот серьезно, обрадованный доверием Юрко, который, зевнув и взглянув на чуть посветлевшее небо, заметил: — Однако я еще и поспать чуток успею.
— Пошли, что ли, — дернул Пятака за ногу Гуней. — Налью, коль воевода расщедрился, — но тот, ничего не слыша и не видя, продолжал шептать, блаженно улыбаясь:
— Воля, братцы милые, воля, — а из глаз его безостановочно катились слезы, которые Пятак не замечал.
Вот только почему-то плыло все вокруг и дрожало, а он боялся, что все это — и бородатые русские ратники, и зевающий воевода, и стены Ряжска вместе с бревенчатыми строениями внутри крепости — самый обыкновенный сон, только очень счастливый. Стоит только сейчас ему слезть с лошади, как он тут же проснется, и потому Пятак, крепко уцепившись руками в жесткую конскую гриву, слезать не хотел ни в какую.
Кое-как его наконец отвели в гридницу, почти насильно влили полжбана меда и положили спать на солому, рядом со смачно храпевшей на все голоса доброй сотней мужиков-ратников. Но Пятак и им шептал в полузабытьи, пока не заснул по-настоящему:
— Воля, братки милые, воля.
* * *
Ряд молодых ученых, например белгородская школа во главе с В. Н. Мездриком, которым очень хочется, вопреки правдоподобию, внести что-либо принципиально новое в исторические изыскания, посвященные этому периоду, утверждают, что князь Ярослав якобы предварительно договорился с половцами. Этим и объясняется одновременное нападение на Рязанское княжество.
Разумеется, это не так, поскольку в этом случае они объединились бы еще до своего вторжения и шли бы могучей совместной ратью, получив тем самым ряд дополнительных преимуществ. Тем более что русские князья всегда так поступали.
Раз этого не было сделано — следовательно, степняки просто воспользовались удобным случаем, узнав про военные действия и решив, что Константину будет просто не до них. К тому же силы, которые имелись в наличии у половцев, вполне позволяли им вести самостоятельные действия.
О. А. Албул. Наиболее полная история российской государственности. СПб., 1830. Т. 2, с. 165.Глава 15 Тайна княжеской казны
Будет всем по награде: пусть один в Новеграде Поживится от русских добычей. Жены их, как в окладах, в драгоценных нарядах; Домы полны; богат их обычай. А. С. ПушкинВоевода наутро с Пятаком недолго разговаривал. Ему и беседы с Родионом хватило, после которой он изрядно повеселел.
Судя по тому, как быстро бывшему ханскому толмачу выдали все необходимое и поставили на оборону одной из стен, гонец отозвался о нем очень и очень лестно.
Сам же Пятак радовался один день, на другой уже поскучнел, а на третий, особенно к вечеру, и вовсе смурным стал. Тревожило его не то, что он Юрию Кончаковичу на кресте поклялся. Пусть его покарают небеса за ложь — не важно.
Совсем от иного кошки на душе скребли. Все-таки, как ни кинь, а есть на нем грех перед своими, что ворота для него распахнули. Если бы подозрением обидели или еще какими намеками — не так досада грызла бы. Но они ж его как равного приняли, а он к ним приехал с камнем за пазухой.
И еще одно его беспокоило. Уж очень спокойно мужики рассуждали о казне княжеской. Можно сказать, болтали даже, причем ни на кого не оглядываясь. Нешто хорошо это, когда тайна вот так в открытую гуляет?
Пятак на четвертый день, ближе к ночи, украдкой встал и в сад близ терема заглянул. Походил, потоптался между яблонькой и вишенкой, даже попрыгал немного. Точно — не рыл там никто. Зато в тех местах, что Родион указал по секрету, свежая землица сверху лежала. Сразу заметно — копали ее недавно. Чтоб казну княжью найти и забрать, половецкому хану одного дня хватит.
На пятый день он решился наконец сомнениями своими с воеводой поделиться. Тот в ответ лишь пробасил равнодушно:
— Да тебе-то что за печаль? Пусть он град вначале возьмет, а уж потом роет вволю. К тому ж я в грамотке совсем иные места указал. Так что поискать ему все равно придется.
— Знает он уже, где зарыто, — выпалил Пятак и осекся сразу.
— Откуда тебе это ведомо? — посерьезнел Юрко.
— Сам я хану и сказал, — вздохнул Пятак, потупив голову.
Так, с понурой головой, не поднимая на воеводу глаз, он и поведал все, как было. Зато на сердце сразу полегчало. Пусть будет, как будет, а таиться он больше не собирается.
— Значит, на кресте поклялся? — переспросил Золото.
— Угу, — кивнул Пятак.
— Это грех, — поучительно заметил воевода. — Эх ты, пирожок без никто. Раз поклялся, то надо исполнить, иначе тебя кара небесная не минует. Нитка-то золоченая с тобой ли?
— Со мной, — настороженно протянул Пятак.
— Стрелу состряпаешь, как с ним и уговорился, — повелел Юрко. — А вечером и запустишь.
— Зачем? — задал глупый вопрос Пятак и сам засмущался.
— Чтобы тебя не покарали сверху, — очень серьезно объяснил воевода. — Представь, шарахнет молнией, когда на страже стоять будешь, а вместе с тобой и полстены обвалится али загорится. Что тогда?
— А что тогда? — последовал еще более глупый вопрос.
— Половцы поганые в град войдут, — коротко пояснил Юрко. — А это не дело. Так что все исполни, раз обещал.
— А со мной что будет?
— Да ничего с тобой не будет, — рассердился воевода. — Бей нехристей смело и не бойся. Про разговор же этот совсем забудь, будто и не было его. Чтоб ни одна живая душа не знала, понял?
Ничего Пятак не понял, но все сделал, как Юрко велел. И нитку на стрелу навязал, и три пера добавил в хвост ей, вот только стрелять не отважился. Хорошо, что откуда ни возьмись воевода на стене появился. Пятак только брови приподнял, чтоб спросить, не пошутил ли тот над ним, но Золото лишь головой коротко кивнул и отвернулся тут же, на поле глядя.
— Ого, какие наглые, — указывая пальцем на троицу всадников, заметил он.
— Да их отсель не достать. Вот подойдут ближе, — заметил кто-то из ратников.
— Так уж и не достать, — усомнился воевода. — Ну-ка, Пятак, попробуй. Вишь, как медленно они едут. Самое то, — и, видя, что тот медлит, поторопил: — Давай-давай. Я верю, должно получиться.
Полночи потом бывший ханский толмач без сна лежал. Все думал и никак не мог понять — зачем и почему. Вопросов в голове много, а ответы… Затем вспомнил, что поутру его очередь на стену идти, и сам себе забыть обо всем приказал, потому как получалось, что либо сам воевода предателем стал, либо… вообще ничего не получалось.
Еще два дня прошли нормально, не считая того, что каждый раз на стене воев все меньше и меньше оказывалось — кого ранило тяжело, кого и вовсе убило. Юрий Кончакович в предварительном подсчете ошибся. Не пятьсот ратников в Ряжске было, а намного больше тысячи.
Из Ольгова, почитай, весь полк Константин на юг бросил, оставив там сотню какую-то. Пелей, что тысяцким там был, с полусотней лучших воев чуть раньше вместе с воеводой Вячеславом во Владимир укатил, чтоб тамошних людишек новому бою и новому строю обучить. Остальные же восемьсот пятьдесят тут находились. Кроме того, три сотни из ожского полка были, да своих, которых князь сразу в Ряжске оставил, еще сотни полторы. Всего, стало быть, тысяча триста.
Правда, за десять дней осады излиха поредело воинство. Целыми всего сотен шесть осталось. Еще сотня после легких ран с повязками на стены выходили. Столько же средней тяжести раны, с которыми уже не повоюешь. О тяжких и заикаться нечего. Весь княжий терем был ими забит снизу доверху. А сотни три совсем отвоевались. Потому и лишнего оружия имелось в избытке.
Половцы же после той стрелы, Пятаком пущенной, вовсе озверели — не успевали русичи одну волну со стен сбить, как другая валила. Хорошо, что хотя бы в первые дни осады воевода еще ухитрялся в очередь людей ставить, посменно. Одна воюет — другая дрыхнет без задних ног.
Теперь передышку лишь легкораненым давали. Остальные же и ночью и днем — все там, на стенах. Спали вприглядку, ели тоже абы как. Уставать народ начал. Разговоры пошли о том, что можно было бы и договориться с половецким ханом. Дескать, мы ему казну княжескую отдадим, из-за которой он так упорно град штурмует, а он же в ответ нас всех на радостях выпустит, потому как кроме казны ему больше ничего и не надо.
Попробовали было горлопаны Пятаку предложить, чтоб подтвердил их мысли, но тот отказался наотрез.
— Я в ханских думах не копался, и что он там измышляет — не ведаю. Одно знаю — град сдадите и сами все в полоне окажетесь, — заявил твердо.
Однако крикуны не унимались. К тому же их позиции укреплял тот факт, что раз гонец Родион к князю пробраться не сумел, стало быть, Константин об их бедственном положении не ведает, да и жив ли он? Может, его самого давным-давно сводные рати прочих князей побили и помощи все равно не дождаться?!
На двенадцатый день пребывания Пятака в Ряжске гнойный нарыв, который все это время потихоньку созревал, в одночасье лопнул. Кучка самых решительных и горластых числом до трех десятков, которую возглавил сотник Ядрила, направилась к воеводе, чтобы потребовать отдать казну половцам. Встретив на своем пути Золото, они замешкались, но Ядрила вовремя взял на себя инициативу, чтоб боевой пыл не успел угаснуть, шагнул вперед и, важно выставив ногу, начал:
— Мы вот чего порешили тут, Юрко…
— Кому Юрко, а кому и Юрий Михалыч, — перебил его воевода.
— Не рано ли возгордился? На булгар мы вместях с тобой ходили бок о бок, и оба тогда сотниками были, — напомнил Ядрила.
— Вот тогда и называл ты меня Юрко, — согласился Золото. — А ныне я Юрий Михалыч, особливо для тебя, потому как князь Константин не тебя, а меня в воеводы поставил.
— Ну, не о том ныне речь, — отмахнулся Ядрила. — Доколе нам из-за казны этой княжеской здесь куковать? Вот о чем теперь разговор. Ты гонца к князю посылал?
— Посылал, — согласился воевода.
— Не прошел он у тебя, так?
— Не прошел, — снова не стал спорить Золото.
— Стало быть, князь про нас ничего не знает, верно?
— Почему ж не знает. Ведал же он, что половцы сюда идут, иначе целый полк ольговский сюда присылать бы не стал. И о том, что худо нам, тоже ведает. Вот рать соберет и придет.
— Да его, может, самого разбили! — заорал Ядрила. — Его, может, и в живых-то нет, а ты — рать соберет и приведет! А есть ли кому ее собирать — о том подумал?!
Воевода вздохнул и посмотрел наверх, на стену. Оттуда выглядывали ратники, напряженно ждавшие, чем все закончится.
— Стало быть, ты тут самый чукавый? — произнес он спокойно, но голос его предательски подрагивал, выдавая волнение. — А ну-ка иди сюда поближе.
Ядрила нерешительно оглянулся. Подойти ближе означало оказаться в опасном соседстве от могучего кулака воеводы. Какова его сила, слышали очень многие, хотя на деле Юрко пускал его в ход от силы раза два-три, не больше. Бывает иногда, что иные средства просто бесполезны, а увещевания и уговоры вовсе вредны. Словом, не часто злоупотреблял этим Золото, но при случае мог, и потому Ядрила малость трусил.
— Да ты не боись, — ободрил его Юрко. — Ты ж сотник. Тебя бить нельзя. На веревку вздернуть — это дело другое.
— За что на веревку-то, Юрий Михалыч, — сбавил тон Ядрила, подойдя ближе.
— За смуту, кою ты в людишках ратных сеешь. Ты ж их ободрять должен, а у тебя все шиворот-навыворот получается.
— Я и ободряю, — гордо вскинул голову сотник. — Только ты опять не о том речь ведешь.
— А о чем ее вести надобно, по-твоему? — осведомился воевода.
— О том, как остальных спасти, потому что не отступятся степняки поганые от града, пока в свои руки казну княжескую не заполучат.
— Мыслишь, коли мы им все сундуки с ящиками отдадим, так они нас в покое оставят? — коротко уточнил воевода.
— В том у меня и вот у них, — повернулся Ядрила к своим приверженцам, — даже сумнения нету.
— Верно, верно! — загалдели те вразнобой.
— А у меня есть, — возразил Золото и улыбнулся хищно и даже чуточку радостно, будто волк, который обед предвкушает из молодого ягненка.
Ядрила даже попятился, нутром угадывая, что сейчас последует. В животе у него заурчало утробно. На двор бы сбегать, по нужде большой, но ратники не поймут, решат, что струсил. А ему просто приспичило, ничего больше.
— Да не боись, говорю, — успокоил его воевода. — Я ноне добрый. Давай, так и быть, выкопаем казну княжескую. Только, чур, уговор. Как мы ее из земли достанем, то опосля еще раз обговорим — отдавать ли ее хану половецкому. И ежели ты со мной согласишься, что не надо, тогда сам ее со своими горлопанами назад и зароешь, как было. Согласен ли?
— А обговаривать как будем? — покосился на пудовые кулаки воеводы сотник.
— По-доброму, Ядрила, по-доброму, — успокоил его Золото.
— Вот это другой разговор, Юрий Михалыч, — весело откликнулся сотник и бодро заорал: — А ну, братцы, мигом лопаты волоките, пока Юрий Михалыч дозволяет.
— Дозволяю, дозволяю, — кивнул воевода согласно и даже в сторону отступил, чтоб не мешать.
Извлекли тяжеленные ящики из земли через какой-то час с небольшим.
— Теперь вскрывай их все, — велел Золото сотнику.
Ядрила, никому не доверяя, мигом взломал верхнюю крышку и остолбенел, уставившись на содержимое. Потом запустил вовнутрь руку и извлек… увесистый булыжник. За ним последовал второй, третий, четвертый… Он лихорадочно бросился к следующему ящику, потом еще к одному, угомонившись лишь после того, как вскрыл десятый.
— Да тут же камни одни! — заорал он, будто остальные ослепли. — А казну куда ты дел, воевода?!
— Дурак ты, Ядрила, — вздохнул воевода. — Как есть дурак. Ты что же, не помнишь, как их наши ратники с ладей сюда сносили?
— Помню, — ответил сотник. — Торопились шибко, и ты сам пособлять взялся. Один еще развалился у тебя в руках, и серебро с золотом посыпалось прямо на доски пристани. Я это тоже хорошо помню.
— Потому я и помогать взялся, чтобы ящик развалился и все просыпалось, — усмехнулся воевода, пояснив насмешливо: — Один он такой был, чтоб хан увидал. А для надежности я еще потом и гонца к князю послал, чтобы его половцы поймали.
— Нарочно? — не поверил Ядрила.
— Знамо, нарочно. И сам Родион о том ведал. Упредил я его, что, скорее всего, на смерть он идет, да не простую. Помучиться придется. Указал под пыткой сознаться, что не в тех местах злато с серебром зарыто, кои в грамотке указаны, а в иных. После того и уверился Юрий Кончакович окончательно, что в Ряжске вся казна князя Константина ныне хранится.
— А… зачем?! — взвизгнул Ядрила истошным тоненьким голоском, искренне недоумевая.
— Вот потому ты и сотник доселе, хотя в дружине уже лет пять, — также спокойно пояснил Золото. — Я же хоть и полтора лета в ней состою, а уже тысяцкий.
— Да ты в любимцах у князя с воеводой Вячеславом ходишь — вот и все дела! Воюю-то я не хуже тебя! Или скажешь, что и это не так?!
— Вишь, как плохо, что нашему князю людишек не хватает, — ответил терпеливо воевода. — Полков много, потому нужда и заставляет его таких губошлепов, как ты, в сотники ставить. Воюют ратники простые, а нам с тобой еще и головой думать надобно, а не только есть ею. Для чего, я тебя спрошу, князю сила ратная нужна? Да чтобы смерда от беды уберечь. Чтобы у него с рала на поле не руда капала, а пот соленый. Ежели бы не слух про казну, куда бы Кончакович пошел? Верно, вниз по Проне подался бы. А сколь там селищ без защиты оставлено? Не сосчитать. Да и Рязань сама ныне тоже, почитай, как девка голая — бери да сильничай, кто хошь. Мы же всю орду на себя стянули и вот уже третью седмицу ее тут держим. Это как? Скажи, Пятак, — крикнул он. — Сколь хан уже при тебе людишек потерял?
— Тыщи две, не меньше, — охотно откликнулся тот.
— Это за четыре первых дня, — уточнил воевода. — Ныне же у него этих потерь вдвое прибавилось. Стало быть, четверть, а то и треть орды в земле лежит.
— Кончаковича держим, а Котян, поди, вместо него по Проне гуляет, — возразил сотник.
— Ну совсем ты дубина, Ядрила, — вздохнул Золото. — Нигде он не гуляет, потому как тысяцкий пронского полка Искрен точно так же и в точности такой же ящик у себя на пристани грохнул, да так, чтоб половцы тоже его узрели. И гонец в руки Котяну попался с похожей грамоткой. Посему ныне хан половецкий под Пронском стоит как привязанный.
— Они же не совсем остолопы. Должны понять, что не может князь Константин одну казну в два города разместить, — озадачился сотник.
— Остолоп — это ты, Ядрила, а они просто жадные, — пояснил воевода. — Каждый думает, что самый чукавый и казна княжеская только его будет, а другому про это, чтоб не делиться, весточку не шлет. Понял, наконец?
— Понял, — неуверенно произнес Ядрила.
— А раз понял, то ты ящики обратно засунь и землицей как следует присыпь. Ежели град наш в грязных лапах половецких все-таки окажется, пусть эти нехристи немытые еще пару деньков покопаются, серебро русское отыскивая. А там, глядишь, и князь наш на степняка соколом ясным накинется. Вот и получится, что мы двумя полками все княжество Рязанское уберегли. А я пойду водички попью, а то пока с дураком поговоришь, втолкуешь ему хоть что-то для вразумления, так глотка пересохнет, что аж спать хочется. К тому ж и пообедать пора.
И с этими словами воевода, неспешно повернувшись, двинулся назад в княжий терем.
— А я?! — крикнул вдогон растерявшийся Ядрила.
— Ну, я ведь сказал же, — бросил через плечо Золото. — Самым чукавым обед только после ящиков закопанных. — И дальше неторопливо пошел.
А со стен, забыв даже про половцев, весело посмеиваясь и подшучивая, глядели на обливавшихся потом присмиревших горлопанов и смутьянов прочие ратники. Некоторые из них еще час назад молчаливо поддерживали Ядрилу в его требованиях, но теперь они об этом благополучно забыли.
Хохотал вместе со всеми и Пятак, гордый до чрезвычайности тем, что сумел пригодиться хоть в чем-то своему мудрому воеводе.
— Половцы идут! — раздался истошный крик дозорных.
«Ну все, посмеялись и будет. Пора и за дело», — вздохнул Пятак, прицеливаясь в одного из всадников, скачущих прямо на него. Шел очередной тяжкий день осады Ряжска. Силы таяли, помощи не было, но надо было держаться во что бы то ни стало, и они держались, пока могли.
* * *
Даже люд из степи, кой и вовсе дикий бысть, узреша печать диаволову, восхотеша князьям православным помочь оказати. И пусть оные во Христа не верили, но к свету их души неразумны тяготеша неизбывно.
Из Суздальско-Филаретовской летописи 1236 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1817* * *
Степняки же о ту пору нападеша на Пронск и Ряжск и бысть градам оным тяготы и беды излихом. Воеводы же княжевы Искрен Перхович и Юрий Михайлович по прозвищу Золото, явиша мудрость великую, сеша накрепко в градах своих и стояша рати половецкие под ими, ибо князь Константин учинил лжу для оных ханов и послаша к им гонцов тайно, дабы повестити Кончаковичу и Котяну, яко бы в оных градах злато и серебро утаиша. И прияши то на веру поганые и далее к Рязани не идоша, злата оного алкая.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1760* * *
Я уважаю представителей Санкт-Петербургской школы во главе с академиком Ю. А. Потаповым, однако их гипотеза о том, что князь Константин якобы спрятал в Пронске и Ряжске много золота и серебра, то есть чуть ли не всю свою княжескую казну, и лишь потому половцы не уходили от осажденных городов, не выдерживает никакой критики.
К тому же основана она лишь на глухом и неясном упоминании об этом золоте в одной из летописей. Однако если внимательно вчитаться в ее строки, то сразу становится ясно, что все это не более чем вольный прозаический пересказ какой-то былины, не дошедшей до нашего времени.
Исходя из нее, у уважаемого Юрия Алексеевича получается, что Константин сам послал тайных гонцов к половецким ханам, чтобы лично предупредить их о том, что он спрятал в этих городах свою казну. А те, выходит, поверили этой наивной лжи. Словом, нелепица.
Ссылаясь на то, что гонцы были тайные, господин Потапов разрабатывает целую версию о том, что они были направлены уже из самих осажденных городов к князю Константину и умышленно попались в плен к степнякам. То есть, пытаясь объяснить свою нелепицу, он добавляет к ней еще и несуразицу.
На самом деле все было значительно проще и логичнее. Половцы просто опасались заходить далеко вглубь рязанских земель, оставляя за спиной сразу два непокоренных города с сильными гарнизонами, воины которых могли в любой момент ударить им в спину. Вот, пожалуй, и все.
Что же касается поведения осажденных, то оно действительно заслуживает не просто похвалы, но и всяческого воспевания. Имена воевод, как Юрия Михайловича, так и Искрена Перховича, прочно вошли во все летописи ратной славы Руси.
Особенно, пожалуй, следует отметить Юрия Михайловича по прозвищу Золото, поскольку Ряжск был слишком молод, население в нем практически отсутствовало, а в наличии у него имелось лишь несколько сотен воинов. Если судить по писцовым книгам выплаты жалования, сохранившимся, правда, только за последние месяцы 1218 года и три первых — 1219-го, то их было едва ли более трех сотен. И он, имея в своем распоряжении столь малые силы, тем не менее сумел отстоять город от многотысячной орды наиболее сильного в ту пору половецкого хана Юрия Кончаковича.
О. А. Албул. Наиболее полная история российской государственности. СПб., 1830, Т. 2. с. 166–167.Глава 16 Око за око
О поле, поле, кто тебя Усеял мертвыми костями? Чей борзый конь тебя топтал В последний час кровавой битвы? Кто на тебе со славой пал? Чьи небо слышало молитвы? А. С. Пушкин— Княже! Уходим вперед! — прохрипел Эйнар, который с видимым трудом, но еще поспевал принимать удары на свой щит, оберегая Константина с левой стороны. — Уходим, мои прикроют! Еще не поздно!
Он что-то грозно прорычал по-норвежски, и даже в этом безумном гвалте его услышали, вырастая, как по мановению волшебной палочки, между князем и сонмищем врагов, облепивших их повсюду.
Истошно ревел Сверре Пустой Бочонок, молча, но столь же яростно бился рядом с ним Хафтур Змеиное Жало, а чуть левее молниеносно разил врагов Бесе Стрела, правее же кусал свой щит в неистовстве берсерка Крок Тяжелый Топор.
— Уходите же! — рявкнул на Эйнара с князем совсем непочтительно — не до галантности тут — Алф Красный, который сейчас полностью соответствовал своему прозвищу. Кровь почти целиком покрывала его рубаху, и броня была уже невидима под ее потоками.
Все они, сгрудившиеся вокруг него, платили как могли и чем могли своему князю за все то, что он им дал два года назад. Вот только цена была несопоставима: за жилье расплачивались болью, за гостеприимство — ранами, за доверие — жизнью. Но что поделать. В свое время князь их щедро одарил всем необходимым, теперь они столь же щедро дарили необходимое ему. Они сохраняли ему жизнь, расплачиваясь взамен своей. Больше платить им было нечем.
Константин и сам понимал, что надо уходить, но еще медлил.
Оставлять своих людей на смерть — почти всегда граничит с предательством. Потому он и колебался, забыв, что «почти» не значит «всегда». Сегодняшний день был исключением из этого правила, потому что не принять дара — своей жизни из их рук, значило бы обесценить его. Тем более что они уже почти расплатились.
Развернувшись в обратную сторону, они с Эйнаром, десятком оставшихся в живых воинов-норвежцев и еще десятком рязанских ратников столь же ожесточенно ринулись на прорыв. Тут врагов было намного меньше, и они явно не ожидали такого поворота событий. Один за другим валились черниговцы, сметаемые со своего пути Гримом Кровавая Секира и Ингольфом Два Меча, который как раз и крутил ими вокруг себя в смертоносной карусели.
А сзади своим щитом надежно прикрывал спину князю Вегард Серый Плащ. Хотя нет, щит норвежцу разбили еще пару минут назад, и ему оставалось лишь самое последнее — заслонять Константина своим телом. И только об одном пожалел Серый Плащ в предпоследнее мгновение своей жизни — уж больно оно оказалось уязвимым, это самое тело. Уязвимым и недолговечным. А в последний миг, увидев, как князь и полтора десятка всадников вырвались на простор, он понял, что его усилий все-таки хватило, и облегченно закрыл глаза, успокоившись.
Кажется, даже улыбнуться успел чуточку, злорадно, как мальчишка, — что, мол, взяли?! Можно было бы и язык показать, но это уж совсем несолидно бы выглядело. Не по возрасту. Все-таки у него, Вегарда, недавно семнадцатая весна в жизни минула, а это о-го-го! Пора и серьезным стать. Хоть и ненадолго…
Там, где река Губа начинала раскрываться в призывном поцелуе, стоял мыс. Если от города смотреть, то левый его склон был низок, зато правый поднимался метров до двух над водой. Его не размывало вот уже много лет. Была бы там земля, тогда конечно, но мыс состоял из каменистой твердой площадки.
Вот так, с места редко какого коня заставишь сигануть с эдакой кручи, а когда с разбегу, то ничего, по инерции идет. Лишь сердце у Константина зашлось слегка — все-таки холодновата в рязанских реках июньская водица. Да и стрелы, что вокруг шлепаются, тоже комфорта плаванию не прибавляют. Зато противоположный берег пологий. Дотянуть бы до него теперь, и все хорошо будет.
И про ракушку вспомянулось отчего-то. Неожиданно так. До того за все время почти ни разу о ней не подумал, а тут, буквально накануне, сунул руку в карман, достал ее и усмехнулся, вспомнив, как оно тогда все было. И Ростиславу, и спасение ее, и как песенку водяному пел, и про то, как волна большая на берег выплеснулась и в озеро отхлынула, а на прибрежном песке одиноко ракушка высветилась.
И почему-то решил Константин в ту пору, что это — подарок от водяного за песенку, которую князь честно пропел. Впрочем, тогда ему многое простительно было, а не только такие бредни. И не то удивительно, что слова водяного в ушах прошелестели: «Помощь понадобится — кинь ее в воду». В голове шумело, звенело, гремело от болезни тяжкой, да с такой силой, что дивно иное — как ему еще сам водяной не пригрезился?
Верить во все это он, конечно, не верил, а… ракушку все равно таскал. Ну а что — не велика тяжесть. Вот и вчера вечером он эту ракушку снова машинально из кармана своих штанов извлек. Посмотрел на нее, полюбовался на цветные переливы при мерцающем свете лучины, да и сунул обратно.
Теперь же снова вспомнилось о ней. Глупость, конечно. Тут от погони бы уйти, которая уже следом ринулась, а он, вместо того чтобы грести посильнее, время впустую тратит, из кармана ее извлекая. Ну не балда ли?! А главное — для чего? Да чтобы в воду ее бросить. Тоже, нашел время от балласта освобождаться. Невелика тяжесть-то.
Хотя плыть ему и впрямь намного легче стало, словно кто в спину подталкивать начал. Едва ли не самым первым он вылез на берег, оглянулся назад, а там… Константин даже глазам своим поначалу не поверил. Такая волна неслась по тихой Губе, что только держись, а за ней вторая — тоже, как и первая, чуть ли не в метр высотой. И еще одна, и еще… Прямо не речушка тихая, а море какое-то при начинающемся шторме.
Хорошо хоть, что все его люди к этому времени следом за князем на берег выбрались, так что разбушевавшаяся стихия как нельзя кстати пришлась. Про ракушку мысль мелькнула, уж не она ли все это устроила, но Константин ее и додумывать не стал. Не потому, что не верил, а просто — не до того тут. Коли шанс появился, то надо его до самого донышка использовать, иначе судьба и обидеться может. Словом, дальше своих людей в сторону леса повел, чернеющего в отдалении.
Из числа же тех первых десятков смельчаков черниговцев и прочих, что в воду метнулись следом за рязанским князем, уцелели лишь те, что успели сразу обратно к берегу завернуть. Остальные, кто поупрямее, так и утонули.
Первым о том, что желанная добыча уходит, сообразил Гремислав. Однако деваться было некуда, вот так просто, без команды того же князя Мстислава, за ним никто бы не пошел, а тот, как назло, еще находился на противоположном берегу Правой Губы. Дождавшись, даже не стал говорить о происшедшем — не ослеп же черниговский князь, значит, и сам все видел.
— Людей бы мне десятка два и лошадей заводных, — выдохнул отчаянно, поглядывая на реку, где вдали виднелись князь и его спутники, неспешно направлявшиеся к лесу.
Особенно его бесило, что едут беглецы неторопливо, будто смеются над ним. Умом понимал, что и рады бы они вскачь пойти, в намет коней пустить, да сил у лошадей просто нет, но то умом, а сердце щемило — смеются. И не надо всеми, обманутыми в своих лучших надеждах и трех тысячах гривен, нет. Именно над ним, Гремиславом, ухохатываются. Но так не одному ему казалось — Мстиславу схожая картина мерещилась, потому, не мешкая ни секунды, и крикнул он в ответ:
— Любых бери.
— Любых не надобно. Мне и моих хватит — с кем я к тебе пришел, — возразил Гремислав.
«Еще лучше, — подумал черниговский князь. — Их и вовсе жалеть не стоит. Тати голимые. Где только он таких отыскал? А у меня и без того людишек не осталось», — окинул он с тоской изрядно поредевшее воинство.
Было от чего печалиться Мстиславу Святославичу. Только его дружина еще двух сотен лишилась, а сколько еще там во рву подлом осталось. Теперь же считай — не считай, из пригодных к боям больше сотни не наберется. Да и то навряд ли. Скорее всего, десятков семь-восемь.
«Ох, что-то дорого мне этот рязанец обходится. Ну да ладно. Поймаю когда — за все ответит».
Черниговский князь яростно тряхнул головой, чтоб думки черные из нее выкинуть, и посоветовал:
— Заводных нет рядышком. Пустых лови али мужиков с коней ссаживай. И не мешкай. Два дня я тебя здесь ждать буду. От силы три. Град возьмем и далее подадимся.
Гремислав только молча кивнул в ответ и принялся указывать на ратников своим людям. В кого плетью ткнет, того и скидывали грубо с седла, даже не поясняя ничего — некогда. Объяснять, во избежание ропота и недовольства, потом самому Мстиславу пришлось. Впрочем, осаженных с седла было немного — пяток, не больше. Уже больно много пустых лошадей бродило поблизости. Легче легкого было бы и вовсе всех воев, идущих вдогон, обеспечить бесхозными конями, но тут уж Гремиславу блажь в голову запала — хоть малость самую, а покуражиться, власть появившуюся выказать.
Но и практическая цель у бывшего рязанского дружинника тоже имелась. Хотел Гремислав лишний раз своим же людям напомнить, в какой он ныне чести у князя черниговского. Если кто в пути закочевряжится, то, может, хоть это воспоминание ума упрямцу придаст.
— Только помни, — сухо и невыразительно произнес Мстислав Святославич перед уходом Гремислава в погоню. — Тебя ждать буду с головой Константина под мышкой. Не привезешь — своей расплатишься и скрыться даже не думай. Ты не рязанец — всюду отыщу и никто не заступится.
— Привезу, — успокоительно просипел бывший рязанский дружинник.
А что еще ему оставалось сказать? Тут ведь либо все, либо ничего.
— Ну-ну, — безжизненно произнес Мстислав.
«Лучше бы пригрозил как-нибудь, — подумал Гремислав. — Убью, мол, там или еще что-то. А то будто он уже и приговор надо мной произнес, и даже поминальную молитву прочел».
— Точно привезу, — буркнул он и, махнув остальным рукой, ринулся в погоню.
— Я за ним пойду со своей полусотней, — зло крикнул князь Ярослав, устремляясь следом.
Мстислав даже ничего и ответить не успел. Впрочем, Всеволодович и не ждал ответа. Он уже через Левую Губу переправлялся.
— Ладно, теперь-то уж мы град возьмем, — пробормотал черниговский князь себе под нос, с досадой чувствуя, что все пошло вразнос.
«Может, не надо было послов рязанских рубить, — подумал с запоздалым сожалением, но тут же гневно возразил самому себе: — А как же сыны?!»
Минута душевной слабости прошла бесследно. Впереди его ждал пока еще не взятый град и… голова обидчика — князя Константина. Словом, приятное ожидание.
Вышло же…
Ростиславль почему-то упрямо сопротивлялся, хотя Мстислав совершенно точно знал, — чай, не слепой, — что воевода этого городка по имени Гневаш, вместе со всеми прочими дружинниками защищая спину князя Константина, сложил свою буйную молодую головушку, и ныне командовать обороной города совсем некому. Есть там, конечно, вои, не без того, но стая без вожака — это уже не то. Надо лишь грозно цыкнуть, и она рассыплется в разные стороны в трусливом беге. Но защитники города не рассыпались и не разбегались, хоть ты тресни.
Поначалу казалось — еще чуть-чуть и все. Ведь даже ворота почти взломали. Опять же стрелу с запиской в тот же вечер тиун местный пустил, обещая содействие в сдаче города и требуя взамен свободы и сохранности своего имущества. Одним словом, готовься, Мстислав Святославович, въезжать в град Ростиславль на белом коне.
Но поутру следующего дня обнаружилось, что вход напрочь заблокирован не пойми чем, к тому же подходить к ним чревато полной потерей здоровья, поскольку тут же следовал залп из арбалетов, а местный тиун не иначе как спятил. В полдень этого же дня он прислал новое послание, в котором черниговский князь как ни старался — ничего не понял:
«Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы»[106]. Непонятно было решительно все, кроме разве что бочек. Может, что-то тайное?
Мстислав Святославович немедленно совет всех князей созвал, еще оставшихся в живых. И вот все эти одиннадцать человек полдня ломали голову над тем, что бы оно значило, что такое из себя представляют эти апельсины, а главное — подпись. Тиуна иначе звали, а кто же тогда братья Карамазовы и чего они хотят?
Только рукой махнули, как летит новая стрела и опять с запиской: «Какая боль, какая боль. Аргентина — Ямайка — 5: 0».
Про боль ясно — хотя тоже не до конца: у кого, какая именно, почему она появилась и вообще зачем нужно о ней писать?
Вторая часть и вовсе мрак беспросветный. Значки в конце вроде бы чуточку знакомы, кажется, арабские купцы их употребляют при подсчетах, но зачем простому рязанскому тиуну переходить на них, когда есть простые русские числа?! [107]
И что он вообще хотел ими сказать — что требуются гривны на подкуп? Так ты скажи по-человечески, сколько тебе нужно!
На содержимое следующей записки Мстислав смотрел уже с каким-то злобным отупением, даже не пытаясь понять смысл написанного: «Меняю кило аспирина на дозу героина, а тонну картошки на блок сигарет». Что на что меняет автор — черниговский князь под страхом смерти бы не ответил, и вообще он этого тиуна за столь глупые шутки с ним, Мстиславом, с удовольствием приказал бы вздернуть на первом же суку.
Хорошо хоть, что это его желание осажденные сами угадали и осуществили в тот же день, подвесив какого-то толстого пожилого мужика прямо перед воротами. Черниговский князь даже вздохнул с облегчением. Но если сейчас в городе нет даже тиуна, так кто же там правит?
Велел своим дружинникам подслушать разговоры осажденных, но они только добавили сумятицы. Какой-то Сергей Иванов, причем явно из смердов, но за главного, какой-то Михаил Юрьич — Мстислав отродясь не слыхал про такого боярина. Черниговский князь не знал уже, что и подумать. Ну не могли обычные смерды так отчаянно, а главное — очень умело отбивать все атаки. Никак не могли.
К тому же порядком досаждали остатки княжеской дружины. Впрочем, какие уж тут остатки. Судя по тому, какой урон они наносили, речь вполне можно было вести о том, что как раз князь Константин взял с собой в тот злополучный бой лишь малую ее часть.
Малую, но лучшую — думал поначалу Мстислав. Скудельница[108], которую отрыли в первый же вечер после злой сечи, приняла в свое черное и мягкое чрево почти семьсот воинов. Половина из них были обычными мужиками, только на конях, а вот второй половины ох как жаль. Выходило, что чуть ли не семерых унес с собой каждый из погибших рязанцев. Это ли не доказательство того, что с Константином лучшие из лучших были?
Оказалось — нет. И подтверждением тому послужила первая же ночь под стенами Ростиславля. Как на грех, шедший с реки густой туман заполонил все в округе, укутав воинский стан будто одеялом.
Вот из этого-то тумана и вынырнула на исходе ночи сотня с лишним всадников во главе с юрким рыжебородым худощавым викингом по прозвищу Заноза, которого еще называли Локи[109]. На каждом из воинов красовался синий[110] плащ. И главное, как они сумели чуть ли не через весь лагерь пройти незамеченными? Ведь предусмотрительный Мстислав повелел ближе к городским стенам пешцев разместить. Если что, пусть по мужикам первый удар придется. Но он пришелся не по ним.
Лучшие били по лучшим — по дружинникам. Рубились молча, не говоря ни слова, и уходили так же молча. Их ждал не ирий, а светлая Валхалла и шумный пир у одноглазого Одина. Некоторые даже радостно улыбались перед смертью: теперь им точно Нифльхейм[111] не страшен. Соблюли они клятву верности, которую некогда дали своему ярлу Эйнару и князю Константину. Но павших среди них, по правде молвить, немного было. Десятка полтора, не больше.
Едва же поднялось осаждающее город воинство, как их и след простыл. Главное — не к городу ушли синие демоны, а в другую сторону. Поначалу Мстиславу Святославичу подумалось, что оно даже хорошо. Ушли и ушли. Плохо, конечно, что в новую скудельницу чуть ли не две с половиной сотни своих дружинников укладывать пришлось. Зато теперь-то уж никакой Сергей Иванов точно супротив него не устоит — сдадут город.
Но не тут-то было.
На другую ночь еще одни демоны вынырнули из тумана. В княжеские шатры полетели зажженные факелы, отрубленные головы окрасили изумрудную зелень травы в темно-красный цвет. Может, те же самые люди напали, невзирая на различия в одежде, а может, и иные. Впрочем, какая разница — как одеты, если рубились так же умело, как и предыдущие. Молча, зло, не щадя себя, а тем паче — врага.
На сей раз спящие повскакивали раньше, чем в первую ночь, а что толку. У нападавших от силы десяток полегло, у них же самих — еще полторы сотни. Очередная погоня снова ни с чем вернулась, растворились демоны в лесу, будто и не было их вовсе.
На третью ночь сторожи было выставлено втрое больше. Остальные дружинники спали, не раздеваясь, но, видать, и демонам небольшой передых понадобился — не тревожили. Зато перед четвертой ночью стали возвращаться отряды дружинников, которые в зажитье[112] отправлены были по ближайшим селищам, и тоже неправильно все получалось. На телегах не припасы съестные лежали, а вои мертвые. Сотни князя Константина, оказывается, не только вокруг лагеря кружили, они успевали еще и смердов под свою заступу взять.
Потому они две ночи подряд и не беспокоили тех, кто Ростиславль осаждал. Третьей же Мстислав Святославич дожидаться не стал. Все это, вместе взятое, было для него столь непонятно и дико, что он, решив оставить всю пешую рать для осады города, сам с остатками дружин нацелился идти дальше. К тому же черниговский князь потерял и надежду на то, что к ним присоединятся остальные владетельные особы, включая Мстислава Удатного.
Под Ростиславлем он оставил всего одну сотню из конных. То были жалкие остатки дружин трех князей: покойного Андрея Владимирбвича Вяземского, по прозвищу Долгая Рука, тяжко раненного Михаила Владимировича Городненского, у которого литвины окаянные уже две трети земель охапили — не с чего и не откуда дружину лихую набирать, да Александра Всеволодовича Бельзского, зятя смоленского князя. Последнего, потому как цел и невредим, Мстислав назначил за старшего. У него неплохие ратники были, только бесшабашные очень, потому и полегли, кто в первый же день во рву, который Константин коварно уготовил, кто в надежде голову рязанского князя самолично срубить. Из трех сотен чуть больше трех десятков осталось.
В утешение Мстислав Святославич пообещал накрепко, что добычей взятой и полоном непременно с оставшимися поделится. С ними же черниговский князь и еще одного сына оставил, Андрея, сказав, что Ростиславль ему дарит. Заметив жадный взгляд Александра Вельского, тут же прибавил, что тому перейдут все земли по Москов-реке, а вдобавок он им отдаст половину из той части добычи, которая на его долю придется. Словом, удоволил всех так, чтобы обид не было.
Вои выступили, чуток передохнув после бессонной ночи, то есть ближе к полудню. Три с половиной тысячи оставшихся — сила немалая. Ни одному граду не устоять.
Пройдя всего три версты, с удивлением увидели перед собой еще одну пешую рать. Было их уже вдвое больше, чем тогда, на Левой Губе, под стягом Константина.
«Плевать, прорвемся», — подумал Мстислав равнодушно и даже как-то отстраненно. Послушная черниговскому князю конница не без легкого замешательства перестроила свои порядки и пошла вперед.
Но лишь когда на флангах пеших рязанских ратников откуда-то стали выпирать спешно строящиеся в ряды всадники, Мстислав понял, в какой капкан он угодил. Да ладно сам попал, он-то уже пожил изрядно. Но ведь с ним же еще двое сынов было. «Может, хоть их пощадят, — подумалось ему, но холодный рассудок тут же подсказал неопровержимый в своей логике ответ: — Нет, всех положат».
И будто увидел князь в каком-то вещем сне наяву гневный взор совсем юного сурового рязанского воеводы и услышал его отчетливый и ясный голос:
— Теперь весточку из Ростиславля все вы слышали, и всем вам ведомо, что вороги содеяли. А посему стоять повелеваю насмерть. Себя не щадить и им пощады не давать. Око за око, кровь за кровь, смерть за смерть, как в святом писании заповедано.
И одна лишь надежда была у Мстислава Святославовича — не увидеть, как его сыны под мечами полягут. С нею он и наткнулся с размаху на чье-то копье. Умирая же, только улыбнулся блаженно, поблагодарив небеса за последнюю милость, которую они ему, старому глупому грешнику, оказали.
«Воистину бог есть добро и любовь», — мелькнуло у него в голове, и лишь одно непонятным осталось: какому же богу тогда епископ Симон молился?
Так и не разрешив этой хитрой загадки, он умер.
— Гляди-ка, бронь на боярине кака справная, — проворчал опытный дружинник, сноровисто расстегивая кожаные ремни на груди черниговского князя.
— А улыбается, будто райского блаженства вкусил, — воскликнул вой помоложе, который стоял рядом.
Опытный вгляделся повнимательнее в лицо убитого и решительно отверг предположение молодого:
— Не-ет, брат. Вишь, как у него брови изумленно кверху приподняты. Будто не понял, что смерть пришла.
— Или вопрошает о чем, — подхватил молодой.
— Ну, может, и так, — благодушно согласился опытный, аккуратно засовывая кольчугу к себе в мешок и деловито озираясь по сторонам — время поджимало.
Воевода Вячеслав дал всем передыху только до утра. И дело было не в той пешей рати, которая осаждала Ростиславль. Ее-то как раз уже не существовало. Достаточно было оцепить ее всеми одиннадцатью собранными полками, и все. Сопротивление оказал лишь последний сын Мстислава Черниговского Андрей. В сшибке он и погиб. Зато половецкая угроза продолжала оставаться.
Вячеслав мысленно поздравил себя с грамотно просчитанным, хотя и рискованным, решением отправить еще пять полков из отдаленных городов сразу же вниз по Проне и туда же, только сухим путем, двинуть половину конницы, имеющейся в его распоряжении. При этом он не просто указал им маршрут движения, но и примерные сроки прибытия на место, чтобы перед половцами под стенами Пронска они засветились не раньше и не позже чем 22 июня.
— Я вам устрою, мать вашу, и «Барбароссу», и план «Ост»[113] заодно, чтобы в другой раз знали, как по Руси шляться, — ворчал он вполголоса.
Расчет был качественным, хотя и проводил его воевода, исходя исключительно из приблизительных величин, взятых, почти в буквальном смысле слова, с потолка. Ну а как иначе определить расстояние от Ростиславля до Кир-Михайлова, который расположен на Проне, если один, мать его, краевед средневековый, говорит, что между ними семьдесят верст, второй называет восемьдесят, а третий и вовсе девяносто? Правильно, только выведя среднеарифметическое. Вот так, исходя из подобных туманных чисел, он и считал, что коннице туда один день ходу, а пехоте — два. С любой другой дистанцией, какую ни возьми, вырисовывалась та же самая картина.
«Хорошо хоть, что города южные еще держатся и даже ухитряются весточки посылать, но тянуть с их деблокадой все равно нежелательно, — подумал Вячеслав. — Какое там соотношение нападающих к обороняющимся считается достаточным, чтобы победили атакующие? — затребовал он от самого себя училищные знания. — Правильно, три к одному. У ребят, конечно, стены крепкие, да и дождями погода балует — поджечь города затруднительно, но зато и соотношение десять к одному. С такими числами ситуацию надо максимально форсировать, иначе гоняйся потом за ними по степи, как за зайцами».
Только одно дельце оставалось провернуть перед отъездом — разыскать ушедшего в леса князя. Занялся Вячеслав этим немедленно, отрядив десять полусотен и каждой придав по три старожила из числа местных жителей. Особых надежд он не питал. Если за дело взялся Гремислав, то иллюзии лишь вредны для дела, но все равно упорно продолжал верить в лучшее. Пока же главной задачей являлся разгром половцев.
* * *
И уж вовсе ухватиша вои христианские за корзно Константина, но возопиша он слезно к диаволу, кой ему и на сей раз пособиша. И ушед князь безбожный с немногими в леса дремучие, дабы там жертву некую из числа людишек своих принесть сатане и раны зализати. Но бысть мужи хоробры из воинства святаго и поскакаша они вослед, дабы пояти князя сего.
Град оный устояша, ибо егда мужи вятшие восхотеша врата воям святым отворити, то гражане, неким кузнецом Сергием Ивановым и холопом княжим Михалкой ведомые, по наущенью диавола, оных мужей на тех же вратах казниша, а сами семши крепка и глум всякий учиниша писати князьям славным руцею сваею холопскаю.
И бысть сеча велика, и за грехи мнози отворотиша бог лик свой и убивахом люд чесной резанцы безбожны и возрыдаша Русь слезою кроваваю.
Из Суздальско-Филаретовской летописи 1236 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1817* * *
И вскричаша Константин громко: «Не попущу того, дабы люд оный, кой меня Заступником Божиим прозваша, узрети воев чужих возмог на земле моей».
И учиниша тут сечу велику, и побиша малыми силами ворогов своих нещитано, остатние же вои вместях с Константином ушед в леса, дабы туда за собой всех заманити да на земли свои не пустити.
И пришед о ту пору под град Рстиславль рати, кои воевода резанский Вячеслав Михайлович собрали, и подъяли оне стяги с соколом златым и убояшись мнози и бежали вси, и побивахом их воевода.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1760* * *
Где-то на третий или на четвертый день Константину удалась попытка прорвать кольцо окружения, и он сумел со всей своей дружиной уйти в леса, которые окружали Ростиславль.
Если исходить из моральных факторов, то это выглядело с его стороны не совсем этично — бросить по сути беззащитный город на произвол судьбы. Однако, исходя из стратегии того времени и практики военных действий, такой поступок вполне оправдан. Если бы он попал в плен, война тут же закончилась бы его безусловным поражением, а так Константин, пожертвовав малым, то есть городом, тем самым спасал большое, то есть все свое княжество.
Что касается Ростиславля, то тут многое до конца не ясно. Оставшись беззащитным, город тем не менее не пал, а продержался до прихода основных рязанских сил, благодаря мятежу, который подняли горожане. Что касается имен их славных представителей, то не следует думать, основываясь только на сходстве имен, что это были знаменитые Сергей Вячеславович Иванов и изобретатель Михаил Юрьевич. Слишком высоко ценил их обоих князь Константин, чтобы позволить себе рисковать их жизнями. К тому же проживали они в Ожске, а отнюдь не в Ростиславле. Полагаю, что даже если бы они по какой-то надобности и оказались там незадолго до начала военных действий, то князь все равно успел бы их немедленно удалить. К тому же Сергей Иванов назван кузнецом, что тоже не соответствует истине.
Очевидно, что битву под Ростиславлем можно смело отнести к разряду наиболее ожесточенных в этой, как ее метко окрестил академик Потапов, «войне сокола против креста». Достаточно сказать, что после нее уцелел лишь один князь из всего черниговского рода, а что касается новгород-северских князей, то они, надо полагать, погибли все.
О. А. Албул. Наиболее полная история российской государственности. СПб., 1830. Т. 2. с. 169–170.Глава 17 Не ходи на Русь — там смерть половецкая
В одно мгновенье бранный луг Покрыт холмами тел кровавых, Живых, раздавленных, безглавых, Громадой копий, стрел, кольчуг. А. С. ПушкинПервым был Пронск. С ним получилось не все ладно. Самую малость поспешили воеводы пеших полков, прибыв на пару дней раньше установленных сроков. Правда, остановились они не у самого города, а намного дальше, чтобы половцы не заметили, однако не тут-то было. Хитер был половецкий хан Котян, хитер и осторожен. Все-таки более полусотни лет прожил он на белом свете. У степняков такой возраст считается не просто почтенным — преклонным. А сколько лет из них он стоял во главе своей орды? Полжизни, если не больше. Тут уж и вовсе год за три идет.
Его сторожа до полусотни верст от Пронска крылья раскинула, вот и не углядели воеводы, как их обнаружил один из разъездов. Поняли лишь, когда те сами, не таясь, назад к хану вскачь подались.
Заслон же, к тому времени выставленный Вячеславом выше по течению Прони, был еще непрочен. Из семи полков, что он вел, всего четыре прибыли на место. Правда, тут Котяна как раз его осторожность и неспешность несколько подвели. Ему бы сразу ринуться на прорыв, собрав все силы свои в один мощный кулак, он же промедлил. К тому же о том, что удар русичи предполагают нанести сразу с двух сторон, хан уразумел тоже не сразу. Лишь когда его орда, понемногу отходя вдоль реки Кердь, которая впадает в Проню недалеко от города, напоролась на передовые заставы ростовского полка, чуть выдвинутого вперед, до него это дошло. Тысяцкий Лисуня ратников своих завсегда берег, но ныне ради общего дела людишек не пощадил — встал намертво, дав время остальным полкам подтянуться.
Откачнулся Котян, призадумался. Было старому половцу над чем голову поломать. Кердь форсировать недолго, чтоб на запад уйти из рязанских пределов, но там он в водном кольце окажется. Проня — река интересная. Поначалу от истоков своих она курс строго на запад берет, прямиком к Дону устремляясь. Потом, верст через двадцать пять-тридцать, она, передумав видать, почти строго на север сворачивает. Еще верст через тридцать — новый изгиб, уже на восток, и тоже чуть ли на все сто градусов. На него она дольше курс держит — почти сорок верст, а затем еще один малый поворотец совершает, на сей раз к югу, но не до конца. На юго-восток надо проплыть двадцать пять верст, тут-то тебе Пронск на пути и встретится. Встретившись с Кердью, она еще некоторое время прямо течет, а потом на север дорожка водная поворачивает, к Оке-матушке да к Рязани светлой. Получается эдакая буква «С» с непомерно вытянутой, будто хоботок, верхней частью полукружья.
По большей ее части не только ладья проплывет, но и корабль малый пройти сумеет. А время-то поджимает. Ладьи русичей, которые вверх по Керди подались, уже верстах в пяти от половецкого стана, где все ханского решения ждут, а Котян все мыслит.
На восток разве бежать? Там, на реке Хупте, Константином новый град поставлен, который орда Юрия Кончаковича штурмует. Если соединиться с ним, то вместе назад в степь через Рясское поле гораздо проще уходить будет…
* * *
— Стало быть, я чукавый, а ты умный шибко? — ухмыльнулся зло Ядрило-сотник воеводе ряжскому. — А ты подивись, Юрий Михайлович, что ныне под стенами града творится. И как супротив такой тьмы драться повелишь?
Золото, спешно поднятый ночью с постели, не отвечая на дурацкий вопрос, мрачно смотрел со стены на половецкий стан. Даже отсюда было видно, как со стороны Малинового ручья один за другим загораются все новые и новые костры — каждый на десяток воинов.
— Может, пугают? — предположил неуверенно.
— Да они еще засветло пришли. Ты только почивать отправился, а поганые будто того ждали — сразу прискакали.
— Сколько? — спросил лаконично воевода.
— Да уж ради пяти-шести сотен я б тебя поднимать не стал, — вздохнул Ядрила. — Сам ведаю, что за три дня последних ты токмо на час малый[114] глаза смыкал. Погоди малость — считают люди. Я на каждой стороне троим поручил счет вести.
— По кострам?
— А как еще в темноте сочтешь? — вопросом на вопрос ответил Ядрила и добавил тоскливо: — Не устоять нам. Как пить дать — сомкнут степняки к завтрему, — и с надрывом в голосе: — Что делать-то будем, Юрий Михалыч?!
— Дозорных оставь, остальных сбирай к терему немедля. Слово скажу, — буднично произнес Золото.
Дойдя до княжеских палат — одно название, что терем, а на самом деле две гридницы да три ложницы, не считая подклетей и прочих скотниц, — он не торопясь вытащил из колодца, вырытого посреди двора, ведерко студеной воды и с наслаждением окатил себя с головы до пят. Отряхнулся, фыркая, подумал немного и еще одно достал.
«Жалеть нечего, — подумалось ему. — А вот Искрену с его людьми в Пронске куда как хуже. Там-то с водой туговато совсем. Зато нам раздолье. Хоть весь день напролет поливайся. Одна печаль — завтра к вечеру некому этим заниматься станет».
Тем временем собрались остатки воев. Воевода окинул их взглядом и только вздохнул. От былой тысячи с лишком ныне — не считая четырех десятков на стенах, что остались караулить поганых, перед ним стояли всего около трех сотен. Опять же, если по-хорошему брать, то половина из них нуждалась в добром лекаре, да и остальных надо было бы не на стены отправлять, а спать погнать немедля. Вон глаза какие красные от постоянного недосыпа.
— Славную мы в эти дни князю нашему службу сослужили. И не ему одному, — начал он тихо, но голос его, по мере того как Юрко продолжал говорить, все рос и рос, гремя грозовыми раскатами над притихшими ратниками. — Ныне мы для всей рязанской земли щитом оказались. Горд я без меры, что столь славные витязи у меня под началом. Теперь потрескался малость наш щит, не та в нем уже крепость. Да и ворог поганый осильнел на нашу беду. Ему подмога пришла — не нам. Но верьте мне, други. Чую я, что и наши рати уже недалече. Торопятся, спешат на подмогу. Когда здесь будут — не ведаю. Что устали вы — сам вижу. Не слепой. Однако надо найти силы еще на одну службу — последнюю. Вчера поганые видели, как русичи сражаются, сегодня нам показать надо, как умирать умеем. За землю рязанскую, за люд простой, за князя Константина! Он мне как-то сказывал о пращуре своем, Святославом его кликали. Так тот, на последний бой дружины свои скликая, тако рек: «Аще славен в веках будет тот, кто жизнь отдал за други своя, а мертвые сраму не имут». И пошли его вои в бой, и не сумели вороги их одолеть. А ныне наш черед настал честь русского меча уберечь и пращуров память не посрамить!
Он передохнул немного и уже буднично добавил:
— Чую я, что ранее рассвета не полезут на стены поганые. Посему по пятку людишек оставим, а остальным спать. Завтра водицей колодезной ополоснемся, благо ее хоть залейся, исподнее на чистое поменяем и…
А договаривать Юрко не стал, рукой только махнул, чтоб расходились, и сам стал не спеша спускаться с высокого княжеского крыльца. Да и чего уж там говорить-то. Одно дело — против изрядно заморенной орды Юрия Кончаковича стоять, которая, чуть ли не треть потеряв, сама с опаской на стены лезет, и совсем другое — свежим силам отпор дать, еще азартным. Как ни верти — дольше чем до полудня не выстоять.
Народ между тем расходился.
— Ты слышь-ка, — отстав от остальных, сотник Ядрила к воеводе приблизился несмело. — Ежели что не так сделал, прости пред смертью, Юрий Михалыч. А что я не трус — докажу. Ты уж поверь.
— Бог простит, — ответил спокойно Золото. — И ты меня прости, коли изобидел в чем.
— Бог простит, — повторил слова воеводы Ядрила и, повеселевший, тоже пошел со двора.
Его сторона самая тяжкая была. Ни оврага с ручьем, ни полноводной Хупты. Один ров, полузабитый трупами, да стена, будто ежик лесной, стрелами-иглами утыканная, — вот и вся опора. Да еще две сотни ратников, включая раненых. С таким количеством разве что первую волну степняков сил хватит отбить, вторую — уже навряд ли, а третью…
Заутреню поп местный, отец Варсонофий, по такому случаю рано отслужил. Кто хотел исповедаться, всех выслушал, всех причастил, а затем себя торопливо двумя перстами осенил, храм на замок закрыл и вместе с мальцами-служками на стену подался. Там он пальцем деловито острие меча опробовал, скривился недовольно, заменил его у сотника на более подходящий и вместе со всеми встал в ожидании у забора. Сам он у дьякона исповедался, который вместе с прочими ранеными в княжеском тереме лежал. Тот, грехи отпуская, об одном лишь и попросил:
— И за меня, отче, за меня-то уж не забудь. Хошь одному поганцу, но голову ссеки.
— Не сумлевайся, — деловито заверил священник. — Пока пяток не уложу — не угомонюсь.
Раньше его воевода со стен в три шеи гнал. Как увидит, невзирая на сан священнический, так отчехвостит, что аж не по себе становилось. Силен голос у здоровяка. Ныне же молчит Юрий Михалыч. Понимает, что обедню служить все едино не для кого будет. Покосился только разок, буркнул что-то себе под нос и дальше пошел. Но это ничего.
«Нынче бурчи — не бурчи, нет у тебя таких слов, чтоб меня со стены прогнать, — подумал отец Варсонофий. — Потому как сегодня не в храме, а именно на ней богу послужить всего сподручнее. Молитва, конечно, хорошо, но меч острый теперь больше в пору, даже если ты — служитель божий. Исус, конечно, сказал: «Не убий», но это он погорячился. Посмотрел бы, что эти нехристи в городах русских вытворяют, так он для них непременно исключение сделал бы! Вот те крест, сделал бы».
И отец Варсонофий вдогон своим мыслям истово перекрестился.
«А что же это поганые не идут, — подумал недоуменно. — В эти часы они уж вовсю на стены лезут, а тут…»
Додумать же не успел, вздрогнув от дружного вздоха ратников, что соседями по стене были.
— Уходят, уходят, — шепоток побежал.
Отец Варсонофий не поверил поначалу, сам начал щуриться, в стан половецкий вглядываясь. Однако чуть погодя даже его слабые глаза узрели, что и впрямь уходят поганые.
— Всем на стенах оставаться, — прервал радостный шум громовой голос воеводы. — Лукавят нехристи. Не верю я им.
Послушались дружно, разом примолкли. Слово лишнее и то проронить опасались, боясь сглазить, спугнуть иродов. Возьмут, чего доброго, и правда назад повернут. Целый час прождали осажденные, пока наконец все до единого степняки не ушли через Малиновый овраг вдоль реки, держа путь строго на юг.
— Господь спас — не иначе! — восторженно заявил один из ратников, оглянувшись на священника в ожидании того, что тот подтвердит.
Отец Варсонофий вздохнул, крякнул сокрушенно. Он к тому времени поглавней причину их отступления, по реке плывущую, узрел. Ну и как тут быть, когда и лгать грех, но и разочаровывать не хочется?
— Без него, конечно, тоже не обошлось, — уклонился он от прямого ответа.
— Но и без ратей, кои нам в подмогу князь Константин прислал, тоже, — веско добавил воевода. — Да вон и они, — указал он в сторону Хупты, по которой легкокрылыми чайками одна за другой взрезали гладь воды русские ладьи.
— Одна, две, пять, девять, два десятка, — пробовал кто-то считать вслух, но на третьем сбился.
— Чьи вы, братцы?! — истошно заорал Ядрила.
В ответ с ладей вразнобой полетело:
— Костромичи! Ярославцы! С Углича! С Унжи!
— Ах ты, завозился я тут, а мне ж к молебну готовиться надобно, — засуетился отец Варсонофий, цыкнув на своих служек, чтобы бежали немедля храм к торжеству готовить.
— Во избавление и спасение? — уточнил воевода.
— Не токмо, — приостановился священник и пояснил строго: — Это у нас во граде ныне страде ратной конец пришел. А куда рать на ладьях поспешает? То-то. Так что сейчас и благодарить бога будем, и молить его о том, дабы даровал он братии нашей победу над силой поганой. — И стремглав, со всех ног, дальше побежал, торопясь успеть первым до раненых радостную весть донести.
Если бы не упрямство Юрия Кончаковича, желающего во что бы то ни стало взять Ряжск, то половцы, возможно, и успели бы уйти. Но сказались те часы под Ряжском, когда орды в бездействии стояли, а хан Котян Юрия Кончаковича убеждал, что немедленно уходить надо, ни мгновения не тратя на штурм бесцельный.
Рясское поле, что верстах в двадцати пяти к югу от Ряжска начинается, для конницы плохо пригодно — уж больно мягкая земля в этой сырой низменности, замкнутой почти в квадрат Рановой на западе, Хуптой на востоке, а Ягодной Рясой и Становой Рясой, что в Воронеж впадают, — на юге. Однако пройти неспешно его можно. Одна беда — не получалось неспешно-то.
Снова ростовский полк тысяцкого Лисуни насмерть встал на самом опасном направлении — там, где сподручнее всего в степь уйти. Пока два хана размышляли, куда сподручнее повернуть, — сзади тревогу забили. Мол, сверху по Хупте еще одна рать спешит и уже с ладей сходит. Час-два, и тут объявится.
Тут уж не до раздумий стало. Забирая круто вправо, в сторону Рановы и Ягодной Рясы, они попытались там прорваться — вновь не вышло. Суздальский полк тысяцкого Спивака дорогу перегородил. Атаковать русские ряды, чтоб напролом через них уйти, не получилось.
Половецкий всадник чем хорош? Стремительностью своего напора, быстротой удара. Потому и легкую саблю мечу предпочитает. Нет в нем тяжеловесности и основательности, нет русского упорства и стойкости. Чуть увяз в сече, не поддается враг в первые же минуты боя — значит, бежать надо, если есть куда.
А какая может быть стремительность, когда чуть ли не перед самым русским строем не пойми откуда столько деревьев свежесрубленных взялось? Иной ствол в траве высокой и вовсе не видать — лишь когда конь, споткнувшись, седока с себя сбрасывает, тогда только и сознает половец, что досадное препятствие на пути ему встретилось.
Еще правее попытались взять степняки, так там и вовсе конница ряды свои строит, копьями щетинясь. И заметались две орды в беспорядке, не ведая, что им делать. Им бы, все воедино собрав, одним кулаком ударить в любой из пеших полков, глядишь, и прорвались бы, но Котян по старой привычке посоветовал Юрию Кончаковичу большой откуп князю Константину предложить.
— Людей сохраним — на другой год на Русь придем. Тогда и возьмем все с лихвой, — заявил он.
— Не всегда князья на откуп согласие дают, — колебался Юрий Кончакович.
— Не дают, когда видят, что если побьют — все ихнее будет. Ныне не то. Они сами ведают, что мы ни с чем идем: ни серебра, ни полона. Заложников оставим, сыновей оставим, а откуп потом пришлем. Биться же станут — ничего не получат. Зачем им просто так биться.
— На меня князь Константин сильно зол. Второе лето я к нему в гости хаживаю. Боюсь, откажется.
— Я сам к нему говорить поеду, — заявил Котян. — Его отец, Володимер Глебович, на половчанке был женат. И сам он с Данилой Кобяковичем породнился. Должен на серебро согласиться. Обязательно должен.
Первым разочарованием старого хана стало то, что до Константина его просто не допустили. То ли не пожелал рязанский князь с Котяном говорить, то ли и впрямь не лгал молодой воевода, утверждая, что нет сейчас его в стане, — кто ведает, где правда.
Поначалу, увидев, какой юнец с ним говорить собрался, хан даже оскорбился немного. Затем, подумав, наоборот, порадовался в душе. Такого мальчишку да чтоб не провести…
Промахнулся Котян и крепко промахнулся. О своей хитрости высоко возомнил, воеводу же недооценил. Хотя если бы до торга дело и впрямь дошло, то как знать — глядишь, и удалось бы в чем-то надуть русичей. Но вот беда — не стал Вячеслав торговаться.
Поначалу вроде бы все к этому и шло, то есть к торгу и откупу. Цветистый говор Котяна Вячеслав слушал спокойно, хана не перебивал, на все его вопросы о здоровье родни, принятые у степняков, отвечал обстоятельно и многословно. Да и сам в ответ много спрашивал — о женах, о детях, о прочих родственниках. У хана такое ощущение сложилось, что если бы не время позднее, ближе к ночи, то русский воевода и вовсе до седьмого колена в родне Котяна добрался.
Чем все закончилось? А ничем определенным.
— У нас на Рязани с неких пор ваш хороший старый обычай принят: о делах только на второй день говорить, — заявил юнец и в ладоши хлопнул, чтоб еду с питьем заносили в шатер.
— А и крепок на мед русский воевода, — подивился наутро Котян, вставая с разбитой головой.
Остаток вечера и начало ночи он уже помнил смутно, даже очень смутно. Да и не мудрено. После трех первых чаш хмельного меда, которые пришлось осушить до дна, хан попробовал было как-то ускользнуть от четвертой, но Вячеслав был настойчив.
— Я же за процветание наших родов выпить предлагаю, — сурово произнес он, осуждающе глядя на Котяна. — Ты что же, не хочешь, чтобы твой род процветал? Или, — прищурился недобро русич, — что-то нехорошее против моего рода в мыслях держишь? Смотри, я полностью выпил, — и в доказательство перевернул свою чашу кверху.
Пришлось выпить и хану.
— А теперь пусть в наших чашах останется столько капель, сколько мы желаем друг другу горьких дней в жизни, — спустя несколько минут опять взялся за чару Вячеслав.
Глянул Котян со вздохом на свою посудину, а она тоже до краев наполненная. Ох и шустры слуги у воеводы. Когда только успели налить? И попробуй тут после таких слов не выпить — это ж обида смертная хозяину. Словом, осушил добросовестно.
После за детей пили — это хан еще помнил. За них не опрокинуть — совсем воевода расстроится. Тем более у него, поди, вовсе маленькие еще бегают. Такие милее всего отцовскому сердцу.
Следующую подняли за то, чтобы они с ханом не только внуков дождались, но и правнуков поженить успели, то есть за здравие и долголетие. Тоже святое дело, как воевода сказал.
Потом Котян еще помнил, как он Вячеслава половецким песням учил, смутно в памяти осталось, как он ему свою красавицу внучку в жены сватал, с большими пробелами — как предлагал вообще к нему переходить, на что воевода загадочно ответил:
— Вот все брошу, гитару в зубы и прямо завтра к тебе в табор подамся.
То есть надо так понимать, что вроде бы согласился? Или нет? А голова-то трещит.
Откинул Котян полог и чуть не ахнул. Солнце над самой головой зависло — значит, полдень уже наступил. Пора идти к воеводе, об откупе договариваться да о заложниках. А тут и ратники, откуда ни возьмись, перед ним предстали. Сообщили, что ждет Вячеслав давно, а будить гостя дорогого не велел. Сказал, чтоб дожидались, пока сам не проснется.
Поплелся хан к воеводе. Тот же сразу за стол его усадил и уговаривать принялся, чтоб выпил, потому как серьезные дела на трезвую голову решать не принято, и опять же, чтоб в черепушке прояснилось.
«Только по одной», — решил Котян твердо.
Выпил — действительно лучше стало.
«Ну да ладно, — подумал он. — От второй тоже дурман не придет».
И снова хан угадал — куда как легче ему стало. Третью он осушил как-то невзначай, четвертая и вовсе незаметно прошла, за ней и пятая…
— Э-э, дядя, как тебя развезло-то на старые дрожжи, — вздохнул Вячеслав, глядя на бессмысленно лопочущего Котяна, который силился было встать на ноги, но вместо этого все время валился то влево, то вправо. — Совсем дикари пить не умеют, — констатировал грустно, осуждающе покачивая головой.
У вошедших на его зов первым делом спросил:
— Все полки добрались?
— К полудню последние прибыли. Уже на месте стоят, — утвердительно кивнул дружинник.
— До вечера пусть отдыхают, да и завтра, пока я с ханом беседовать буду, пусть отсыпаются от души, — распорядился Вячеслав. — Но ухо все равно востро держать. Грамотки по всем полкам разослали?
— Доставили даже до тех, кто близ Хупты остановился. Час назад гонец от них вернулся.
— Понятно. Значит, можно и о делах его скорбных покалякать, хватит медовуху переводить, — заметил воевода и сморщился брезгливо. — Да отнесите вы на место эту вонючку. Сколько ж терпеть-то можно.
На третий день Котяну наконец дозволили о деле говорить. И вот тут-то хан с превеликим удивлением для себя обнаружил, что молодой воевода ни о каком откупе и слышать не хочет.
«Может, цену набивает», — подумал Котян растерянно.
Голова так трещала, что он, против своего обыкновения, не стал ходить вокруг да около, а спросил напрямую, чего же тот хочет. Воевода тоже отвечал без всяких витиеватостей.
Не знал хан, что, невзирая на все разговоры Константина о том, будто половцы — союзники для Руси, сам Вячеслав русскую армейскую поговорку конца двадцатого века прочно успел внедрить в жизнь в веке тринадцатом. Вот только национальность он в ней поменял, а так звучала она очень созвучно: «Хороший половец — это мертвый половец». Исключением из правил был лишь княжеский шурин Данила Кобякович, но на то эти исключения и существуют, чтобы ими общее правило еще больше подтверждалось.
Этот свой принцип он и выложил сейчас Котяну. Как говорится, кушайте — не обляпайтесь. Несмотря на предупреждение, хан все-таки обляпался, а точнее — попросту скис.
— Мы могли бы как-то договориться? — попытался он уточнить, явно намекая на какую-нибудь взятку.
— Перепутал ты, хан, — мотнул Вячеслав головой. — Я не чиновник-иуда — откаты не принимаю.
— ?!
— Ну, мзды я не беру, — пояснил воевода. — Мне за Русь обидно. Особенно за княжество рязанское. Знаешь, сколько моих людей под вашими стрелами в одном только Ряжске полегло? Полтыщи. И ты хочешь, чтобы я простил?
— Я под Ряжском не стоял, — быстро произнес Котян.
— А какая разница? Все вы одним миром мазаны. Ты под Пронском зато стоял. Сказать, сколько человек именно твои воины погубили?
— Убитых не вернешь, — заметил хан философски. — А я дам по десять гривен за каждого, чья душа отлетела к небу.
— По тысяче за каждого, и я тебя выпускаю, — выдвинул встречное условие Вячеслав.
У Котяна округлились глаза.
— Это шутка? — осклабился он растерянно.
— Это жизнь, — перенял эстафету философской мудрости воевода. — Я своих людей дорого ценю, так что ниже цену не опущу.
— Ты плохо говоришь, — вздохнул Котян. — Или ты думаешь, что завтра на поле битвы будут лежать только твои воины? Они смешаются. Русич — степняк — снова русич — опять степняк.
— Нет уж, — возразил воевода. — Плохо ты меня знаешь, хан. Будет иначе. — Он обвел рукой все внутреннее помещение шатра. — Вот здесь везде степняки, а вон там, в уголке — русич. И поверь, что на каждого моего воина придется, самое малое, десять твоих. Но я очень постараюсь, чтобы их было побольше, а твои воины навсегда запомнили — на Русь непрошеный степной гость с саблей в руке может попасть множеством путей. Назад же у него дорога одна — ногами вперед.
— Тогда зачем ты принимал меня? — не понял Котян.
— Да затем, что позавчера мне пришлось бы платить одним русичем за пятерых твоих воинов, а то и вовсе за троих. Для меня это очень дорого, — откровенно пояснил Вячеслав, нахально улыбаясь.
Только теперь Котян понял, как красиво и ловко обвел его вокруг пальца молодой русский воевода. На сердце у него стало так муторно, как не было с того самого дня, когда он сидел возле своей юрты и ждал, пока из степи не привезут тело его старшего брата. После отца именно брат должен был стать ханом, но неудачная охота все изменила… Та самая неудачная охота, на которую наследник поехал с его, Котяна, людьми. Он ничуть не раскаивался в принятом решении, но это был его любимый брат, и Котян искренне сожалел, что тот так поспешил родиться. Был бы младшим, пожил бы… еще пару лет.
— А если я сейчас поверну обратно и уйду на Русь? Она же ныне беззащитна, — попробовал пригрозить хан, но воевода оставался непреклонен:
— Попробуй. Но сразу предупреждаю тебя, как честный человек, — позади, близ Хупты да и близ Рановы, стоят самые лучшие полки, — тут же пояснив: — Лучшие тем, что они свежие. Неужто ты думаешь, что защищать рязанские земли я плохих поставлю?
— А если я поклянусь, что никогда больше не приду на Русь? — спросил Котян. — Чем хочешь поклянусь.
— А твои дети?
— Они тоже дадут клятву.
— У молодых не всегда хорошая память, хан. А у вашего народа совсем плохая, — вздохнул Вячеслав. — Мне кажется, я придумал кое-что получше, потому что покойники точно никуда не ходят. Для вас, как для убийц, чтоб вы за старое не взялись, одна только есть надежная гарантия — смертная казнь.
Про гарантию Котян недопонял, но суть уловил.
— А ты не думаешь, что я сумею вырваться? — спросил он. — Что тогда? Наш народ всегда мстил за причиненную обиду.
— Возможно, это тебе и удастся, — не стал спорить Вячеслав. — Вот только мстить-то будет не с кем. Мало вас останется, ох и мало.
Так все и произошло. Правда, всех перебить не получилось, но тут вины воеводы не было. Слишком широкое кольцо было, слишком много народу внутри него находилось. Реки, конечно, помогали, но это не горы, да и не столь они велики в Рясском поле, чтобы их нельзя было форсировать. И на каждой, как на беду, что ни верста, то брод имеется. Когда произошла одна ложная сшибка — Вячеслав удержался, конницу не выслал. Вторую обманку он тоже угадал, да и с третьей хладнокровия хватило.
Но это была раскачка, проба сил. В четвертую же, в сторону Рановы, Котян и Юрий Кончакович не пожалели большую часть всех сил бросить вместе с собственными сыновьями, и тут Вячеслав не выдержал. Вначале кинул туда треть имеющейся у него конницы, затем еще треть, а потом и резервный полк из Переяславля-Рязанского под командованием двадцатишестилетнего тысяцкого Верховца.
Едва он это сделал, как уже через полчаса понял, что ошибся. Оставшиеся силы половцев, немногочисленные, но составленные из числа лучших воинов, пошли наконец-то в свой настоящий прорыв, ломая тонкую нитку из трех полков.
Два из них — ростовский и стародубский — держались крепко, дрались насмерть, не подведя своих воевод: Лисуню и Останю. И они бы до конца выстояли, выдержали основной удар, но вот подвел дмитровский полк, точнее, его воевода Дубак. Плохо он своих воев учил. В строю стоять те не хуже прочих умели, но в битве иное умение надобно. Бросились дмитровцы и москвичи врассыпную, кто куда, но больше под надежную защиту соседей, смешивая и их ряды.
Когда замешательство ростовчан и Стародубцев прошло, да пока подошел резервный юрьев-польский полк во главе с Лугвеней — было уже поздно. Та треть конницы, что имелась у главнокомандующего всеми рязанскими силами, положение дел спасти не могла.
Можно было бы запустить в небо сигнал, три огненные стрелы, но это ничего бы не дало. Конница, конечно же, метнулась бы из-под Рановы сюда, и получилось бы, что она и там из боя вышла, и здесь в сечу вступить уже не успевала. Так оба хана, а с ними две-три тысячи половцев и ушли, вырвавшись на степные просторы. Вячеслав, разумеется, бросил им вдогон свою конницу, одновременно продолжая добивать основные их силы на рановском направлении, но погоня была делом бесполезным. Разве только пару увесистых пинков под заднее место удалось отвесить для вящей скорости, чтобы со свистом летелось Котяну с Юрием Кончаковичем аж до самого Шаруканя[115], — вот и все, чего удалось добиться. Разумеется, не считая нескольких сотен трупов половецких воинов.
Впрочем, итог все равно оказался на удивление хорош, а главное, соотношение покойников в точности совпало с предсказаниями воеводы. Только Вячеслав утверждал, что будет десять к одному, а после подсчета выяснилось, что конечный результат еще хлеще — где-то дюжина погибших половцев, никак не меньше, пришлась на каждого погибшего русича.
Это уже было не кровопускание, а перелом хребта. Да, тех ратников, что погибли, а могли бы и остаться в живых, согласись Вячеслав на выкуп, было жалко. Несколько сотен их полегло в Рясском поле. Горько сознавать, как взвоют через несколько дней их матери, провожая в последний путь своих ненаглядных сынов, как поседеют головы их отцов, как будут рвать на себе волосы вдовы.
Все это воевода прекрасно сознавал, но тем-то и тяжела была его служба, что он не просто обязан понимать — где малое, а где большое, и не только хорошо отличать их друг от друга. Надо еще и уметь пожертвовать эти малым во имя большого. Да, люди не фигуры в шахматной игре. Один раз убрав их с большой доски под названием жизнь, заново на свои клетки в новой партии эти пешки уже не поставишь. Все. Нет их. Кому не ясно, что надо ими дорожить? Но что делать, если общая цена победы стоила неизмеримо выше. Особенно такой победы — не пирровой[116], кровавой и опустошительной для собственных рядов, а изящной и добытой с огромным перевесом.
Ну не мог он не использовать возникшей ситуации. Уж больно все удачно складывалось. Впрочем, жизнь отдельного человека в это время ценилась намного дешевле. Это Вячеслав уразумел четко после того, как увидел восторг в глазах не только тысяцких, но и всех ратников без исключения, восторженным ревом встретивших своего удачливого воеводу, когда он приказал построить полки и сказал свое спасибо тем, кто принес ему и Руси эту победу.
«Одно хорошо, — размышлял Вячеслав, возвращаясь в Ростиславль. — Нет в тринадцатом веке комитета солдатских матерей, а то меня по судам бы затаскали, а потом упекли бы лет на пять, а то и на все десять за решетку с формулировкой «За умышленный срыв мирных переговоров, который привел к многочисленным жертвам среди российских военнослужащих». Ну, наверняка бы упекли».
Однако вскоре его мысли сосредоточились преимущественно на князе. Что-то очень тревожно было на душе у воеводы, хотя он и пытался отогнать разные черные мысли. Это удавалось, но совсем ненадолго. Вскоре они возвращались и были еще пессимистичнее. Как выяснилось по приезду в Ростиславль, беспокоился Вячеслав не зря.
* * *
Поганые, егда же их одолеша, в Рясское поле ушед, и бысть тамо сеча и победихом Вячеслав Михайлович рати половецки и гнаша их нещадна. Те же числом малым в степи ушед, яко псы трусливы и боле оны на земли резанския набег не учиняша, ибо некому бысть.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1760* * *
Что касается знаменитой сечи на Рясском поле, в которой русские полки разгромили сразу две половецкие орды, то отмечу лишь, что никогда, ни до, ни после этого, степняков не постигал такой страшный разгром.
Даже победоносные сражения Владимира Мономаха с союзными ему князьями не идут ни в какое сравнение с той кровавой баней, устроенной князем Константином половцам 22 июня 1219 года — день, который немногие из уцелевших степняков запомнили на всю свою оставшуюся жизнь. И не только запомнили, но и передали своим детям, потому что именно с того самого дня степь не совершила на Русь ни одного набега.
Опять же нельзя не отметить мастерства и воинского таланта его воеводы — Вячеслава Михайловича. Несмотря на молодость — в ту пору ему было навряд ли больше 30–35 лет, — он сумел так замаскировать часть своих воинов, что половцы решили, будто русичей значительно меньше, после чего пошли в прорыв, безнадежно увязли, и тогда последовал могучий удар всех остальных русских полков.
О. А. Албул. Наиболее полная история российской государственности. СПб., 1830. Т. 2, с. 170.Глава 18 Васса — дочь сумерек
Человек, на белом свете Счастья не было и нет. Все тщета и ловля ветра — Суета сует. В. КруглянинНадежда на радостную встречу, дружеские объятия Константина и бурное его ликование по поводу столь грандиозной победы над половцами улетучились сразу, едва победоносное войско подошло к городу.
Что-то теплилось, правда, в душе, невзирая на то, что среди встречающих рязанского князя не оказалось. «Мало ли, — успокаивал себя Вячеслав, преклоняя колено перед юным Святославом. — Может, рана какая-нибудь, маленькая совсем, он чуток расхворался, а Доброгневы под рукой нет…»
— Ныне я заместо батюшки своего, — печально произнес Святослав, тут же добавив строго: — Только до той поры, пока его не сыщут.
«Вот и все, мальчик, — вздохнул воевода, сочувственно глядя на сумрачное лицо юного княжича. — Кончились твои забавы. Куда уходит детство, куда ушло оно… — всплыли в памяти строки песни. — Да туда, в могильную яму, — ответил он тут же, но усилием воли отогнал от себя очередную черную мысль. — Шалишь, милый! Костя не такой парень, чтобы сдаться».
Первым делом предстояло удалить из города княжича.
«Если и впрямь… — подумал Вячеслав, и вновь ему удалось одолеть свое уныние. — Просто удалить, так, на всякий случай. Вдруг Костю привезут в таком виде, что…»
— Да что за чертовщина мне сегодня в голову лезет, — уже вслух, злясь на самого себя, произнес он.
— Мне она уже который день покоя не дает, — отозвался голос чуть сзади.
Вячеслав оглянулся растерянно, а за спиной Минька стоит, тоже грустный, и смотрит понимающе.
— Ничего, Эдисон. Костя — ряжский парень. Прорвется. Сам знаешь — такие в воде не горят и в огне не тонут, — нарочно перепутал Вячеслав, но улыбки на лице изобретателя так и не появилось.
— Ладно тебе успокаивать-то, — заметил он в ответ. — Я что тебе — княжич малолетний. Как-никак двадцать пять лет уже живу, так что все отлично понимаю.
— Главное — веры не терять, — обнадежил Вячеслав.
— Я не теряю, — эхом откликнулся Минька. — Хотя леса, пока тебя не было, эти полусотни, что ты оставил, обшарили от и до.
— Русские леса обшарить от и до невозможно даже в двадцатом веке, — уверенно заметил воевода. — А уж сейчас это сделать нельзя даже в теории. Не веришь? — И тут же предложил: — Возьми перо с бумагой, прикинь площадь леса, а потом просчитай, сколько нужно людей, чтобы на каждого пришлось не больше ста тысяч квадратных метров.
— Хм, — заинтересовался Минька и тут же быстро даже не ушел — убежал.
— Ну вот, одного озадачил. Вот только надолго ли? — пробормотал вполголоса воевода.
Вскоре выяснилось, что всего на три дня.
Первый день изобретатель ходил почти веселый, выяснив, что на тщательный поиск нужно в сто раз больше народу. На второй день он это повторял уже не столь уверенно, на третий — больше для себя самого.
На четвертый же нашлись некоторые спутники князя. Например, ярл Эйнар и с ним еще двое викингов: Грим Кровавая Секира и Ингольф Два Меча.
От них-то Вячеслав и узнал, что по настоянию самого князя они разделились на пять частей по три человека в каждой, чтобы, как заявил сам Константин, шансов на спасение у него самого оставалось намного больше — вдруг преследователи перепутают. Воевода во время этого эпизода только иронически хмыкнул, лишний раз удивляясь, как легко запудрить мозги людям.
Как же. Зная Гремислава и его потрясающее чутье на князя, которое даже имело имя и называлось «ненависть и месть», сразу ясно, что Константин тем самым лишь спасал остальных двенадцать спутников, которые от него отделились. Он еще удивился, как это князь и оставшихся двоих не прогнал от себя под тем же самым предлогом. Однако, узнав о том, что его спутниками остались Ральф по прозвищу Черный Клубок и какой-то спецназовец по имени Торопыга, а прозвищем Панин, Славка только хмуро мотнул головой и продолжал внимательно слушать рассказ Эйнара. На третьи сутки своих блужданий ярл отчетливо слышал не так далеко странные раскаты грома, хотя небо было абсолютно чистым.
Минька, который тоже присутствовал при этом рассказе, сразу оживился и сказал Вячеславу, что гром — его работа, тонко намекнув на ухо о гранатах, которые Константин изъял у него.
— Спустя сутки, — продолжал Эйнар, — мимо нас проехали несколько всадников, которые везли на носилках своего князя Ярослава, перебинтованного, но еще издававшего слабые стоны.
— Может, не довезут, — вздохнул Вячеслав. — То-то Косте нашему радости бы подвалило.
— Если он еще живой, — сурово добавил Минька.
— Типун[117] тебе на язык! — испугался воевода. — Нет, сразу пять типунов для надежности! Думай, когда мелешь и чего мелешь!
— Мы хотели напасть, но потом решили, что силы неравны. Их двенадцать, а нас трое, — продолжал Эйнар. — Если бы Кровавая Секира не был так тяжко ранен, а Ингольф смог бы удержать в руках оба меча — мы все равно бы напали, а так…
— Ты про князя, про князя говори, — поторопил ярла Вячеслав.
— Но я о нем так ничего больше и не слышал, — растерянно заявил Эйнар.
Спустя еще день удалось отыскать вторую группу, но те тоже не могли сообщить ничего нового о судьбе Константина.
Через день из леса вернулась последние из поисковиков.
— Везде побывали, — потупив голову, печально произнес старший.
— И у Ведьминого болота тоже? — переспросил кто-то сзади Вячеслава.
Тот обернулся, увидев сухонького маленького старичка, седого как лунь, недоверчиво смотревшего на старшего из поисковиков.
«Ну ни дать ни взять большой гном из сказки», — подумалось почему-то.
— А что за болото? — спросил устало.
— Место такое, — замявшись, пояснил старичок. — В те места ни одна живая душа сколь лет уже не заходила, потому и спросил.
— Там не были, — честно ответил старшой. — Тока туда глупо идти. Сам ведаешь, дед Мирко, — оно ж, ежели восхочет, никого не пропустит. К тому ж нас на розыск посылали, а не на погибель. И потом, мы еще до него не дошли, как вон чего сыскали.
Он посторонился, кивнув пареньку, который, поняв команду, тут же сноровисто вывалил на пол кучу чисто обглоданных человеческих черепов и костей. И сверху на них из мешка саваном погребальным красное княжеское корзно легло.
Вячеслав молча глянул на их расстроенные лица. Затем аккуратно поднял корзно с пола и, как заправский патологоанатом, со знанием дела, принялся внимательно разглядывать лежащую кучу. Посмотреть было на что. При желании из них можно было бы слепить даже не один, а три скелета. Особенное внимание он уделил черепам.
— Вот на этом и было корзно, — ткнул в один из них своим чумазым пальцем следопыт.
Воевода внимательно осмотрел и его.
— А я не верю, — произнес он чуть ли не по слогам, молча встал и вышел из гридницы.
После этого он закрылся с самого утра в дальней светелке тиуновского терема, прихватив с собой увесистый бочонок хмельного меда, и выходил из нее лишь по нужде. Наутро он аккуратно возвращал абсолютно пустую тару, хватал новый бочонок и опять исчезал в светелке. Так длилось три дня. На четвертый он появился в гриднице во время шумного застолья абсолютно трезвым.
— Вот, воевода, тризну по князю правим, — в оправдание пробасил тысяцкий стародубского полка Останя. — Не хочешь с нами чару испить? — И протянул Вячеславу кубок с медом.
Тот брезгливо покосился на него, затем все-таки взял посудину в руки и медленно вылил мед обратно в братину, после чего смял в руке сам кубок и произнес:
— Я по живым тризну не справляю и вам не советую. Грех это.
Швырнув изуродованную посудину на стол, он, зло хлопнув дверью, вышел прочь. Уже во дворе его внимание привлек тот самый старичок, суетившийся неподалеку с конской упряжью. Неспешно подойдя, уселся рядом с ним на низенькую лавку и буркнул:
— А скажи-ка мне, дедушка Мирко, что это за Ведьмино болото?
Тот хитро покосился на воеводу и в свою очередь осведомился:
— А тебе пошто? Из любопытства вопрошаешь али как?
— Али как, — мрачно ответил Вячеслав. — Раз князя не нашли, а везде, кроме этого места, побывали, то, значит, мне теперь самому туда путь лежит.
— Ишь ты, — мотнул головой старичок. — Не угомонился, стало быть?
— И не угомонюсь, — почти угрожающе пообещал воевода.
— А сказывать мне тебе нечего, — пожал дед Мирко плечами. — Оно — хитрое. Путей к нему много, а воротца одни. Захочет ежели — само откроет. Не захочет — все лето проплутаешь и все равно не сыщешь.
— А дальше что?
— Дальше-то, — протянул старичок задумчиво. — Там тоже по всякому может быть. Ну вот, слыхал я, к примеру, что времечко там течет странно. Не иначе как Числобог куражится. Ты думаешь, что денек один там пробыл, а выйдешь — цельного лета как не бывало. А могет и наоборот быть.
— Ну, ну, — поощрил воевода. — А еще что скажешь?
— Что скажу, — хмыкнул дедок. — А скажу, что ежели ты думаешь, что я тебе учну небылицы все сказывать, кои среди людей про него ходют, так енто ты здря. Чай, не на посиделках девичьих, чтоб я тебе тут страстями всякими пугал.
— А что — страшное оно?
— По всякому, — буднично заметил дед Мирко. — Кто и впрямь оттуда с седой головой выходит, а кто и нет.
— То есть не испугавшись? — уточнил Вячеслав.
— То есть вовсе не выходит, — неожиданно осерчал старичок и, чуть ли не подскочив на месте, с неожиданным проворством метнулся к конюшне.
Воевода немного посидел, в задумчивости ковыряя синим сафьяновым сапогом небольшую кучку навоза, и подался вслед за дедом Мирко.
— Так как его найти-то? — спросил угрюмо.
— Оно, милай, само тебя сыщет. Ежели восхочет, конечно, — произнес тот нараспев и буднично уточнил: — Седлать что ли, аль ишшо подумаешь?
Вячеслав посмотрел на плутовато ухмыляющегося старичка и махнул рукой:
— Седлай. Да заводную не забудь, — напомнил он.
Потом оглянулся рассеянно по сторонам и увидел изобретателя, который бесцельно бродил по двору.
— Миня, со мной поедешь? — почти весело крикнул он ему.
— А… куда? — тут же встрепенулся тот.
— Куда-куда. Князя нашего искать, вот куда, — ворчливо и как-то буднично откликнулся Вячеслав.
— А разве он?.. — Глаза Миньки загорелись на миг, но тут же потухли. — Он же… — и осекся, не желая продолжать.
— Ты что? — громким шепотом, словно не веря услышанному, переспросил воевода. — Ты тоже? Ты как они? — Он возмущенно махнул рукой на княжеский терем.
Из распахнутых настежь дверей, где-то там, в глубине, отчетливо послышался пьяный говор и чей-то смех.
— Слыхал?! Это они пируют, гады! — смачно произнес, будто плюнул, Вячеслав. — Тризна у них, видите ли. И ты туда же?! Нет, ты только скажи, ты что — тоже поверил?!
— Я, — шмыгнул носом Минька. — Нет, ты что, Слав. Я никогда. Только, — и из правого глаза мальчишки выкатилась слезинка, — только сколько времени прошло, — и еще одна соленая капелька выкатилась из левого, — а тут еще этот… с черепами и… с Костиным плащом…. Ну, я и… — Он снова шмыгнул носом. — Но я все равно верю. Костя жив.
— Во! Теперь ты дело говоришь, — ободрил его Вячеслав и, повернувшись к старику, поправился: — Давай-ка ты удвой нам, дедушка. Седлай сразу четыре — две под седло и две заводных. Так, нам бы еще мешочек с едой прихватить не помешает, — завертел он головой, выискивая, кого бы послать на поварню.
— Я их уже приторочил к лошадкам, — негромко произнес дед Мирко, подавая Вячеславу сразу два конских повода и с сомнением переспросил, глядя на неуклюжие потуги Миньки вскарабкаться на лошадь: — И отрока сего с собой решил прихватить? Не боязно, что он в пути обузой для тебя станет?
— Это еще посмотреть надо — кто для кого обуза будет, — ворчливо отозвался Минька, с грехом пополам усаживаясь на коняку.
— Слыхал? — грустно улыбнулся Вячеслав. — А ты говоришь, — протянул почти весело. — Ты, дедушка, не смотри, что он летами мал. Ему палец в рот положить — считай, все одно что без руки, — оттяпает. Язык — как меч вострый. Ты лучше скажи, в какую сторону нам хоть путь держать?
— До леса доберетесь, а там мне и самому неведомо, — пожал плечами старичок. — Оно, вишь, может и спереди быть, и справа, и слева.
— То есть как? — удивился воевода.
— А так, — вновь передернул сухонькими плечиками дед Мирко и улыбнулся лукаво. — У коняки своей вопрошай — она поболе моего ведает, потому как животина умная. А человек что… — Он пренебрежительно махнул рукой.
— Ну и ладно, — покладисто согласился Вячеслав. — Не хочешь рассказывать — не надо. Эка беда — сами сыщем.
— Ну, ну, — задумчиво произнес дедок, глядя вслед двум всадникам, неспешно порысившим к городским воротам Ростиславля. — А тока без меня вам болото енто ни в жисть не сыскать, — произнес он загадочно и добавил: — Ладно уж, поворожу… в остатний раз.
Всадники между тем миновали ворота, столь же неспешно переправились через Левую Губу и подались к лесу.
— Ты извини, что я так нюни распустил, — шмыгнул смущенно носом Минька. — Как девчонка, аж самому противно.
— Точно, как девчонка, — подтвердил с прежней ироничной ухмылкой воевода. — Я тебя теперь Эдисонша звать буду, — но тут же поперхнулся, закашлялся и уже серьезно добавил: — Это ты меня извини. Знаешь, бывают в жизни такие минуты, когда… — Он вздохнул и, отчаянно махнув рукой, добавил, заговорщически улыбаясь: — Я ведь и сам вчера еще чуть ли не в голос ревел.
— Ты?! Ревел?! — ахнул Минька чуточку разочарованно, но в то же время восторженно оттого, что Славка доверил ему такую страшную постыдную тайну и не побоялся.
— Точно-точно, — подтвердил воевода. — И ревел, и выл, и по постели катался, и вон, гляди, все костяшки в кровь ободрал, когда по стенам долбил.
— Ого! — только и смог произнести Минька. На большее слов у него явно не хватило.
— А утром сегодня встал и сам сказал себе: «Все, парень! Либо ты тряпка, либо друг! Выбирай сам!»
— И что ты выбрал? — не понял Минька.
— Едем же, — пожал плечами Славка.
— А-а-а, ну да. А куда мы едем? — снова спросил изобретатель.
— До леса прямо, а там… Слыхал, что дедок сказал? Животина знает. Так что пускай она нас сама и везет. Может, они и впрямь чуют, чего мы от них хотим.
— Кони они — не собаки ведь, — усомнился Минька, но перечить не стал.
Едва же въехали в лес, как изобретатель, опасливо покосившись по сторонам, осторожно заметил:
— А нас тут не… ням-ням? Вон мужик, что плащ принес, целый мешок костей с собой приволок. И все человеческие.
— Мы сами с тобой кого хочешь отоварим, — с веселой угрозой в голосе пообещал Славка, добавив зловеще: — А этого мужика с костями я самого первого ням-ням. Тоже мне, нашел чего детям показывать, — и добавил быстро: — Слово «дети» к тебе не относится. Ты у нас Михаил Юрьич и Эдисон Кулибиныч. И точка! — а потом поправился, подумав: — Ну, и еще Минька, ежели, конечно, в теплой интимной компании… гм… вроде моей.
— Понятное дело, — откликнулся солидным баском изобретатель и осведомился: — А ты кто? Ну, если тоже в интимной компании вроде моей.
— Тогда друг Славка, а еще можешь звать Соловьем. Меня так батя называл в детстве, да и в юности тоже. Так что пользуйся — разрешаю. Эй, эй, ты куда?! — завопил он, натягивая поводья, потому что жеребец под ним неожиданно резко свернул с утоптанной широкой тропы и подался напрямик в лес.
После Славкиного окрика конь послушно остановился и застыл в недоумении. Рядом точно так же встала кобыла Миньки.
— Ты чего это животину умную пугаешь, — ворчливо заметил Минька. — Сам же говорил, что они знают, чего мы хотим.
— Да я так, шутейно, — пояснил Славка и растерянно переспросил изобретателя: — Ты что, думаешь, они и впрямь того… знают?
— Сейчас и проверим. — Минька осторожно погладил свою вороную лошадку по холке и шепнул: — Ну, давайте, милые. К князю нас по прямой.
Лошадь утвердительно мотнула головой и тронулась с места. Следом за ней последовал и жеребец воеводы. Через несколько часов Славка, последнее время все чаще оглядывавшийся по сторонам, присвистнул и с упреком заметил Миньке:
— Если мы заблудились, то это будет цирк.
— Нам, главное, Костю найти, а там как-нибудь выплутаемся, — уверенно ответил тот. — И не свисти — лошадку напугаешь. Тоже мне, Соловей-разбойник выискался.
— Это не я — это папа меня так называл, — мрачно откликнулся Славка.
Какое-то время они вновь ехали молча. Спустя еще час перед их глазами открылся спуск в небольшую пологую лощину, густо поросшую огромным двухметровым папоротником.
— Прямо в морду лезет, — начал брезгливо отплевываться воевода.
— Скажи спасибо, что это не крапива, — заметил Минька. — И не шиповник с чертополохом и малиной.
— И не терн, — в тон ему добавил Славка, тут же жалобно охнув. — Сглазил, кажись.
— Да что ты как дите малое, — рассердился изобретатель. — Скажи уж, что просто боишься.
— И скажу, — с вызовом заметил воевода.
— И что теперь? — рассудительно спросил Минька. — Я вон тоже боюсь, ну так что?
— Ох, чувствую, сейчас мы куда-нибудь приедем, — скептически заметил Славка и с удивлением в голосе добавил: — Точно. Уже приехали.
— Вечно ты все сглазишь, — буркнул недовольно изобретатель и ласково погладил свою лошадку по холке. — Ну ты чего, милая? Нам же к князю надо, а не в этот, как его, парк Юркиного периода.
— Все. Слезай, — вздохнул Славка. — Говорю же, что приехали. Дальше придется самим. — Он начал озираться по сторонам, выискивая какой-нибудь проход, ведущий хоть куда-то. Уж очень жутковатое место их лошади выбрали для своего пастбища.
— К деревьям надо пробиваться, — сделал вывод воевода, чуть подумав, и спросил: — Тебе какие больше нравятся? У меня тут по правую руку сосны, перед мордой лица березы качаются, слева ели застыли, а позади… позади вообще пусто, только папоротник. Выбирай.
— Я, как ты, — откликнулся Минька.
— Ну тогда так. Пойдем, руководствуясь указаниями моей дорогой мамочки Клавдии Гавриловны: в березовом лесу — веселиться, в сосновом — богу молиться, в еловом — с тоски удавиться. Я, конечно, всю жизнь предпочел бы веселиться, но иногда надо и… Пошли, — даже не договорив, воевода потянул Миньку за рукав в сторону сосен.
Изобретатель послушно поплелся следом. Шли недолго — минут двадцать. Сосны выросли над их головами как-то неожиданно, столь же внезапно исчез и папоротник. Точнее, даже не исчез, а как-то съежился до нормальных размеров. Зато прямо перед ними раскинулись дебри густого кустарника.
— А дальше куда, Слава? — растерянно спросил изобретатель, дергая друга за подол рубахи.
— А дальше туда, — заявил воевода, решительно опускаясь на четвереньки.
— А потом? — кряхтя, поинтересовался Минька, безропотно следуя за другом.
— А потом никуда. Приехали мы, — заявил Вячеслав, вылезая и сбрасывая с себя заплечный мешок. — Ну, здравствуй, Костя, — со вздохом облегчения произнес он.
— Ой, княже, — простодушно улыбнулся Минька, следом за другом выбираясь на свободное пространство и радостно глядя на неестественно бледного князя, сидящего под огромной сосной. Константин тут же вскочил на ноги и, пошатываясь, бросился к своим друзьям.
— А морду я тебе все равно набью, — нежно прошептал Славка, обнимая его.
— А мы уж думали, что ты… — простодушно ляпнул изобретатель и осекся, получив от Славки резкий тычок под ребро.
— Успели-таки, — улыбался Константин, тиская обоих. — Ну, как там, в Рязани?
— Да там все в порядке. Победили мы.
— А половцы?..
— И их тоже, — небрежно отмахнулся Вячеслав.
— А Ряжск с Пронском?..
— Целехоньки. Вовремя мы подоспели.
— Ну, слава богу. Теперь и уходить можно, — вздохнул Константин с явным облегчением.
— А куда это ты намылился? — резко отстранился от него Славка.
— А помнишь наш разговор перед походом на булгар? — уклонился Константин от прямого ответа.
— Ну, помню.
— И то, что со мной творилось, тоже помнишь?
— Подумаешь, трагедия большая. Кровь у него зеленоватой стала, — пренебрежительно фыркнул воевода.
— Тогда это была еще драма, — уточнил Константин. — Но с тех пор прошло слишком много времени. Маньяк сказал, что еще чуть-чуть, и все.
— А что все и чего чуть-чуть? — встрял Минька.
— И где эта твоя нечисть? — прибавил Вячеслав к вопросам изобретателя свою толику.
— Возле Николки Панина, — глухо отозвался Константин и пояснил: — Ранен он тяжко. Если бы не Маньяк, то помер бы давно. Ведьмак для него место хорошее нашел, но здоровому человеку там долго быть нельзя. Да оно совсем рядом с нами, — указал князь рукой. — Вон за той сосной, в овражке. Поэтому мы костер и прочее здесь устроили, а ведьмак к нему сам ходит.
— А ты?
— А я и так держусь из последних сил. Тут либо самому помирать, чтоб на упреждение сработать, либо меня попросту выкинут из этого тела, и контролировать его будет…
— Прежний, что ли? — не утерпел Минька.
— Хуже. Намного хуже. Есть одна нелюдь, которая вообще черт знает что. Это что касаемо чуть-чуть, — повернулся князь к Миньке и слабо улыбнулся. — Признаться, я даже и не думал, что вас, чертей этаких, увижу. Хотя она и сказала, но я, честно говоря, не поверил…
— Стоп! — резко оборвал Вячеслав. — А кто она, которая тебе чего-то там сказала?
— Да ведьма знакомая, — отмахнулся Константин. — Она вначале померла, потом вампиром стала, потом я ее поцеловал. Но все это к делу не особо относится.
— Нет уж, милый. Все настолько серьезно, что мы лучше с Миней сами прикинем — что относится, а что нет. Со стороны виднее, так что давай-ка ты обо всем по порядку, включая все свои приключения. Думаю, что на это времени у нас хватит.
Он деловито уселся прямо на толстый холмик приятно пружинящей под ногами прошлогодней хвои и приободрил:
— Ну, валяй рассказывай. А ты садись, Михаил Юрьич, садись, — гостеприимно похлопал он рукой по земле, указывая место рядом с собой.
— Это все в конце мая приключилось, — медленно начал Константин. — Мы только весточку получили, что нападения надо ожидать осенью, и ты сразу на свои учения укатил. Я один остался. И вот заходит ко мне ведьмак и говорит…
— Ну, ни на минуту человека оставить нельзя одного. Обязательно какой-нибудь фортель выкинет, — покачал сокрушенно головой Вячеслав.
— Сейчас говорю я, Слава, — перебил его Константин и продолжил свой рассказ о случившемся в Кривулях.
— А нам почему ни гу-гу? — проворчал Вячеслав, дослушав друга, причем, вопреки обыкновению, практически без комментариев.
— А когда? Мы с тех пор ни разу с тобой не виделись. Только сейчас и встретились.
— Ладно. С этим проехали. Давай дальше, — согласно кивнул Вячеслав.
— А дальше… — Константин задумался, вспоминая. — Когда мы ушли вместе с Ральфом и Николкой, расставшись с остальными, — продолжил он, — то обнаружили, что за нами увязался князь Ярослав и его люди. Долго рассказывать не буду, просто скажу, что он устроил охоту на меня, а мне пришлось охотиться на него. Хорошо, Миня, что твои гранаты хранились в кожаном водонепроницаемом мешке.
— Как ты их с собой-то взять догадался? — удивился Минька.
— Да я не догадался — случайно получилось, — пояснил Константин. — Я ж их у тебя возле конюшни конфисковал, а времени идти в терем не было, вот я их к своей лошадке и приторочил… временно. А потом, когда выезжали, даже и не посмотрел. Я ж в упряжи конской не силен, потому и не проверяю ничего перед выездом, а конюший, наверное, сам снимать не рискнул, решив, что князю видней. Словом, бабахнул я их и довольно удачно. Из его полусотни…
— Эйнар говорил, что только двенадцать человек осталось. Но обормота этого ты так и не грохнул до конца, — быстро проговорил Вячеслав.
— Господи. Как хорошо, что Эйнар жив, — улыбнулся Константин. — А его…
— Напарники тоже живы, — с полуслова понял воевода.
— Еще лучше. А с этим… Да пусть живет… Вот только…
— Ты отвлекся, — перебил Вячеслав.
— Люди Ярослава сразу после того, как я устроил им фейерверк, от нас отстали. Наверное, в Переяславское княжество подались, к себе на юг. Зато появились молодцы Гремислава. Точнее, о том, что они появились, я, к сожалению, не знал. И где он таких только набрал. Самые настоящие отбросы, а не люди.
— Рыбак рыбака, — предположил Вячеслав.
— Наверное, — согласился Константин.
Он на секунду закрыл глаза и вновь ощутил недавний прохладный июньский вечер, пахнущий грибами и сырой плесенью, издаваемой насквозь прогнившими деревьями, который так приятно начался для их небольшой группы. Точнее, радости начались еще днем. И первой из них был… ведьмак. Уйдя ближе к ночи из осажденного Ростиславля в лес, он все эти дни целенаправленно — похлеще Гремислава — шел навстречу князю.
Набрел он на Константина как нельзя кстати. Сны рязанского князя, усталого и измученного странствиями по лесным дебрям, были просто неописуемы. Казалось, что перед ним открывается дверца в ад, только не библейский, а гораздо более страшный, невзирая на отсутствие кипящих котлов и раскаленных сковородок.
Ничего подобного Константин в нем не наблюдал. Впрочем, он вообще ничего там не видел. Просто перед ним открывалась дверца в некую черную бездну: мрачную, пустую и безмолвную, а сзади его туда словно кто-то подталкивал. И была твердая уверенность — если он там окажется, то пути назад для него уже не будет. Никогда. Скорее всего, он даже и не проснется. Вернее, проснется, но не он, а кто-то чужой и страшный, выпихнувший Константина из княжеского тела.
Причем с каждым днем дверца открывалась все шире, подталкивали все настойчивее, а у него самого сил к сопротивлению оставалось все меньше и меньше. Не удивительно, что каждый последующий сон все ближе и ближе приближался к тому неотвратимому, что терпеливо ждало его за дверцей.
Да и наяву, как он ощущал, с ним явно что-то происходило, и это что-то не просто овладевало им, но так же, как и во сне, влезало в его тело все глубже и глубже, вытесняя прежнего обитателя вон.
Ведьмак, когда Константин тихонечко спросил его об этом, оставшись наедине, подтвердил все самые худшие опасения князя.
— Темнеешь, — хмуро заметил он. — Ох и напарничка мне Всевед послал — шагу от него нельзя отойти теперь, — попробовал он было полушутливо возмутиться, но, напоровшись на пытливый взгляд Константина, который молча ждал окончательного ответа, сразу же осекся и добавил почти виновато: — Сильно темнеешь.
Сам же ведьмак быстренько отвернул голову в сторону, чтобы князь не прочел свой приговор в его зрачках. На самом-то деле Константин так «потемнел», что Маньяку было уже непонятно — сколько в нем еще осталось от человека, а сколько заменилось страшной неведомой силой. И вообще неясно, кто он теперь на самом деле.
Когда Константин попытался спросить что-то еще, ведьмак, не зная, что отвечать, лишь заговорщически приложил палец к губам, указывая на возвращающихся из лесной чащи Николку и норвежца. Мол, позже поговорим. Те вернулись с тяжелым грузом, но крайне довольные как собой, так и удачной охотой.
Они быстро развели костерок и впервые за несколько суток поели горячего жареного мяса. Кабан, которого Ральф и Николка завалили, был старым секачом, мясо никак не хотело прожариваться, потому что мешала жесткая щетина, но они с жадностью наворачивали огромные куски, наполовину обугленные, наполовину сырые, но аппетитно припахивающие голубым дымком походного костра.
Блаженство было двойным, даже тройным. Во-первых, погоня от них отстала. Во-вторых, возможно, что осколки одной из гранат, попав в князя Ярослава, приведут к летальному исходу еще до того, как его успеют привезти в Переяславль-Южный, и тогда… Нет, об этом и думать не стоило — до чего дух сразу захватывало. В-третьих, они только что хорошо поели. В-четвертых же, невзирая ни на что, Константин уже предвкушал, как он сладко выспится этой ночью. В-пятых…
Но додумать Константин не успел. Коротко свистнувшая стрела с тупым хрустом вошла точно в грудь спецназовца.
— Я ж заговоренный, — успел прошептать тот удивленно и рухнул на землю.
Вторая почти тут же угодила в Ральфа, который не издал ни звука.
Маньяк с Константином немедленно вскочили на ноги и….
— Даже и не думай, княже, — чуточку с ленцой произнес очень знакомый Константину голос.
Едва говоривший выехал на свет, как князь узнал его. Это был убийца, он же насильник, он же возмутитель Пронска, человек, который ранил ядовитой стрелой Миньку, сжег Рязань, был повинен в гибели сотен простых рязанцев, а также его жены и Купавы. Словом, это был тот самый Гремислав.
— Стоять, — негромко произнес Константин, едва заметив, как Маньяк сделал шаг в сторону. — Стой, где стоишь, а то они из тебя сейчас ежика сделают.
Ведьмак послушно остановился.
— А что по такому случаю говорила мамочка воеводы, княже? — вновь раздался до омерзения знакомый голос.
Между тем на полянке сзади Гремислава появился первый всадник. За ним из лесной тьмы вынырнули еще несколько.
— Десять, двенадцать, пятнадцать, — успел вполголоса машинально посчитать их количество Константин и громко ответил: — Если ты про Клавдию Гавриловну, то помнится, что мой воевода как-то сказал с ее слов, что не очень-то хорошо быть вторым мужем вдовы, но все равно это гораздо лучше, чем быть ее первым мужем.
После некоторой паузы до опального дружинника наконец-то дошел смысл шутки, и он раскатисто засмеялся. Следом за ним стали смеяться остальные.
— А ты не из робкого десятка, княже, — одобрительно заметил он. — Не у многих хватило бы духу шутки шутить перед собственной смертью.
— А в чем мои воины перед тобой провинились, Гремислав? — спокойно осведомился Константин. — Ну, понятно, что ты на меня обиду затаил. Хотя если разобраться, то кроме самого себя тебе виноватить некого. А их-то за что?
— Такой, стало быть, им выпал жребий, — пожал плечами Гремислав. — Не поехали бы они сюда с тобой — жить бы остались.
— Маньяка-то хоть пожалей.
— А ты меня пожалел?! — крикнул Гремислав.
— Я тебя по Русской правде судил, — твердым голосом ответил Константин. — Божьего суда ты сам испугался — сбежал.
— Как же, по правде, — издевательски засмеялся Гремислав. — А когда я тебе три года назад девок свежих, почитай, кажный месяц таскал, а потом, чтоб огласки не было, их в Оке вылавливали — это как? Что об этом в Русской правде сказано? Коли по закону решил жить, так с себя бы и начал. А я всего одну и попортил. К тому же и ту не убивал — сама она в Проню кинулась. Да и брат ее — он же и вправду на меня бросился. Что мне оставалось?
Объяснять, что три года назад его, Константина Орешкина, вовсе и не было в княжеском теле, смысла не имело, поэтому он ограничился лишь лаконичным замечанием:
— Брат ее без меча был, так что ты безоружного убил.
— Без меча, — хмыкнул Гремислав. — А ты знаешь, княже, как легко простой лопатой человеку глотку порвать? Я бы тебе сам показал на мальце твоем подыхающем, токмо жаль, что лопаты под рукой нет, да и поспешать мне надобно. Я уж тут и так подзадержался, четыре дня тебя вынюхивая да высматривая.
— Маньяк, встань сзади меня, — шепнул Константин. — Как только стрелы полетят в нас, ты тоже падай. Только так, чтоб я тебя накрыл. Авось не заметят, а добивать не пойдут. Мне-то уже так и так конец.
— Сам вставай, — буркнул ведьмак. — Если от Вассы спас, так думаешь, что я вовсе ни на что не годен?
— Ты что, княже, Русскую правду вспоминаешь или молитву читаешь? — поинтересовался Гремислав.
— Скорее, псалом, — откликнулся Константин.
— Оно, конечно, без покаяния душу христианскую негоже в ирий отправлять, одначе поспешить бы тебе надо.
— Ночь длинная. Куда тебе торопиться-то? На сук?
— Когда я на нем болтаться буду, тебя уже давно черви сожрут, — огрызнулся Гремислав. — А спешу я, потому как еще потрапезничать собираюсь. Вон у вас сколько снеди с собой, а господь велел делиться. Не пропадать же добру попусту. Ну, будя тут с вами рассусоливать.
Он поднял руку кверху, намереваясь отдать команду своим стрелкам, но в это мгновение откуда-то из-за спины стоящей у костра парочки раздался громкий женский голос:
— Не спеши, Гремислав. Нынче мое время наступило трапезничать.
Константин и ведьмак невольно оглянулись. У противоположного края полянки неподвижно стояла женщина. Ее некогда белый саван, сейчас изрядно перепачканный землей, легко колыхался на невидимом ветру, хотя Константин готов был поклясться, что не чувствует даже малейшего дуновения. И сразу на всех присутствующих пахнуло нестерпимо удушливым, тошнотворно сладким запахом тлена и разложения.
Женщина приблизилась, и Константин с ужасом узнал в ней Вассу. Шла она, почти не касаясь земли. Губы и подбородок ее были запачканы чем-то алым, а рот кривился в злой усмешке.
Она миновала, не останавливаясь ни на мгновение, стоящих возле костра, сделала еще три шага и, остановившись в нескольких метрах от всадников, хищно провела по губам синеватым распухшим языком. Усмешка на ее лице стала еще шире, отчего уголки рта лопнули, не выдержав такого натяжения, и это было последней каплей, вызвавшей жуткую панику.
Дико ржали кони, вырывая поводья из рук всадников и стремясь ускакать куда угодно, лишь бы подальше от надвигавшейся на них нежити. Три стрелы все же просвистели в воздухе, но с поднявшихся на дыбы коней промахнулся бы и самый меткий лучник.
— А-а-а!
— Упырь!
— Спаси, сохрани и помилуй!
— Гремислав, иуда, куда ты нас привел?!
— Мамочка, родненькая, маманюшка моя! — верещал тоненьким голоском, убегая без оглядки в мрачную лесную чащобу, бородатый широкоплечий мужик.
Константин не знал, как там Маньяк, но что до него самого, так он тоже с радостью бы ударился в бега куда глаза глядят, но ноги стали будто ватные. Они и на месте-то стоять не хотели, то и дело подгибались, куда уж там в бег ударяться.
Так он и стоял, оцепенело взирая на паническое бегство всей разбойничьей шайки Гремислава, пока с поляны не исчез самый последний из них. Сама Васса таким же мерным неторопливым шагом спокойно дошла до ее края, после чего повернулась к Константину. Она поднесла руку к лицу, медленно вытерла саваном свои кроваво-красные губы и выдохнула:
— Даже ведьма, княже, добро завсегда помнит. Не ведаю, какое воздаяние меня ждет за зло, при жизни содеянное, но хоть после нее нашелся добрый человек — уберег. Ныне же я тебе, княже, долг свой сполна уплатила, до последней куны. Не так мне с тобой, конечно, повстречаться хотелось бы, да, может, оно и к лучшему. А то, глядишь, не удержалась бы и впрямь приворожила.
Князь молчал, продолжая оставаться в каком-то странном оцепенении. Васса понимающе улыбнулась, глядя на лицо Константина:
— Не баская я в таком-то наряде да с такой рожей, верно? — и, не дождавшись ответа, заметила: — Ан и ты, княже, плоховат ныне. На глазах темнота в тебя вступает. Совсем скоро в тебе от тебя самого ничего не останется. Но в этом уж, извиняй, я тебе помочь не в силах.
— Я понимаю, — кивнул Константин. — Жаль только, что с друзьями попрощаться не успею.
— Кто знает. Может, и успеешь, — загадочно вымолвила Васса.
— А что… там? — помедлив, спросил Константин.
— Известно что, — хмыкнул ведьмак. — Муки вечные с чертями рогатыми.
— Ты этих сказок в церкви наслушался поди, Маньяк, — невесело усмехнулась Васса. — Нет, милый. Попам, понятное дело, лишь бы людишек запугать, чтоб грехов творили помене. Они и соврут — недорого возьмут. На самом-то деле все и попроще, и помудрее, — построжела она лицом и вновь обратилась к князю: — Только ты об этом не думай. У тебя дорожка иная. Наособицу от всех прочих.
— А какая?
— То мне неведомо, — пожала она плечами, и силуэт ее, поначалу отчетливо видимый, особенно на фоне черной мрачной чащобы, стал как-то неспешно растворяться в воздухе. — А поцелуй твой, княже, я век не позабуду. Пока душа моя жива, кою ты уберег, завсегда помнить буду — и тебя, и уста твои сахарные. А ты, ведьмак, не прав тогда был, — торопилась она договорить. — Князь мудрее оказался. За сумерками не всегда ночь наступает, иной раз и рассвет грядет. Ты про рассвет почаще вспоминай, княже, пока еще силушка осталась… Ныне же прощевайте. Не свидеться нам более на этом свете.
Глава 19 Да будет свет
Бог мой, это не ропот. Кто вправе роптать? Слабой горсти ли праха рядиться с тобой? Я хочу просто страшно, неслышно сказать: Ты мне дал, я не принял дороги иной… С. Лукьяненко— С того времени мы здесь и торчим, — закончил свой рассказ Константин. — Вот только спать я себе почти не даю. Так только, урывками. И все равно худо. А спасения не вижу.
— Ну и что ты теперь думаешь делать? — осведомился наконец Славка, прервав тягостное молчание, почти физически нависшее над сидящими.
— Выбор невелик, — задумчиво протянул Константин. — Один, без Маньяка, я и пары часов не вытяну. Спать все время хочется, а нельзя. Ведьмак сказал, что этот сон последним может стать. Двоих же нас — меня и твоего спецназовца — ему не потянуть. Он ведь тоже не бог, а ведьмак обыкновенный.
— Это все он тебе сказал? — уточнил Вячеслав.
— Да. Только он, когда говорил это, имел в виду, что от паренька надо отказаться… Только в этом как раз смысла и нет. Лишь отсрочка моего приговора. А Николке еще жить да жить. Тем более что должен я ему. Да и не только я один — все княжество. Если бы он не сумел в первый же вечер Мстислава ко мне на разговор пригласить, их бы вдвое больше под Ростиславлем оказалось.
— Все равно мы бы победили, — упрямо заметил Минька.
— Может, и так, — не стал спорить Константин. — Вот только кровушки пролилось бы не в пример больше. Что с их стороны, что с нашей. Но сейчас не об этом речь. Вот ты бы сам на моем месте как поступил? — обратился он к другу.
— Парнем пожертвовать ради твоего спасения было бы можно, — медленно произнес воевода. — Звучит неприятно, зато целесообразно. Беда в том, что это, как ты сам сказал, лишь отсрочка приговора. Так что тут я не советчик — тебе решать. Одному тебе. Только ты для начала сам с собой определился бы.
— Это как? — не понял Константин.
— Реши, кто ты на самом деле, — сумрачно пояснил воевода. — Учитель истории Константин Орешкин или русский князь. Определишься — тогда и решение принимать можно. Коли учитель — уходи. Все равно не справишься. А если Рюриковичем себя посчитаешь — тогда…
— А что ему делать тогда? — встрял Минька.
— Да не знаю я, — раздраженно ответил Вячеслав. — Если бы знал… — Он развел руками.
— Вот и я не знаю, — вздохнул Константин. — Зато другое известно. Если сейчас сам не уйду, то через несколько дней Маньяку все равно меня убить придется. Это лучший вариант и для меня, и для вас, и для всей Руси. А если он не успеет — представь, что тогда будет.
— А что будет? — невинно поинтересовался Минька.
— Не знаю я. Никто этого не знает. Ни Всевед, ни Маньяк, хотя им многое ведомо.
— Это точно, — подтвердил ведьмак, незаметно вынырнувший со стороны овражка. — Такого ведь раньше никогда не было, чтобы в кого-то из людей Хлад вселялся. Но хорошего ждать нечего.
— Только плохое? — подал голос Славка.
— Да нет, о плохом тут, пожалуй, лишь мечтать можно будет. Страшное грядет. Такое страшное, что пакости любой ведьмы ромашками невинными покажутся, — мрачно ухмыльнулся Маньяк, почти дословно повторяя слова самого Константина, сказанные им Всеведу в его заветной дубраве.
А ведь не было тогда ведьмака на полянке, и никак не мог он их подслушать. Может, именно потому повторение слов старого волхва еще более жутким князю показалось.
— Ну что, тогда… потрапезничаем, что ли, в последний-то раз, — вздохнул Славка и принялся развязывать огромные заплечные мешки.
В них оказалось и беленое полотно грубого холста, которое практичный воевода прихватил из-за его прочности вместо скатерти, и пять небольших деревянных чарок, и узкогорлая глиняная бутыль с тремя литрами медовухи, ну, и к ней соответственно.
— Сало я не достаю с рыбешкой копченой, — предупредил Славка. — У вас вон кабанятины немерено. Все равно пропадет, если не съесть, а нам с Минькой и твоими орлами еще обратно добираться, а путь-то неблизкий.
Он ненадолго замолчал, сосредоточенно разливая мед по чаркам, но затем продолжил:
— Хотя что уж тут о дороге думать, коли она без тебя будет. Это уж скорее путь в никуда. Теперь хана всему настанет. Так что все наши победы — пшик да и только. Я не в том плане, — пояснил он, — что в чем-то тебя осуждаю. Тут все логично. Дела общего жаль, вот чего. Так здорово все шло, и на тебе.
— Я, между прочим, вместе с Серегой Ивановым город успешно защитил, — баском, чтоб солиднее звучало, заявил изобретатель, гордо выпятив грудь.
Впрочем, надолго его солидности не хватило. Вспомнив свою забаву с записками, он тут же весело, совсем по-мальчишески хихикнул и принялся с увлечением рассказывать о случившемся.
— Значит, все нормально? — улыбнулся Константин, услышав о несдавшемся Ростиславле. — А потери большие?
— Нормальные, — пожал плечами Славка. — На войне как на войне. Главное, что их рати на земле рязанской навечно остались. Ну, с тысчонку уцелело, не больше, и то из числа рядового состава, то есть даже не дружинники. Так, смерды на лошадках. Остальные — на том свете.
— А ополчение пешее?
— Разоружил и могилы копать заставил. Сейчас, наверное, уже закончили и ждут своей участи. То ли в полон, то ли в холопы обельные, то ли в рабство продадим.
— Они же свои, русичи. Ты что, Слава? Сейчас как раз надо ситуацией выгодной воспользоваться, — загорелся Константин. — Ведь целая куча княжеств без правителей осталась. Их же все брать надо побыстрее и к себе присоединять. Это ж вся Русь почти. Ну, кроме Киева, Новгорода со Псковом, Смоленска, да еще Волыни с Галичем. А остальные — нашими станут.
— Говорю же, что не станут, — вздохнул воевода. — Не пойду я туда. Все равно без князя нам эту прорву не удержать.
— Святослав есть, — посуровело лицо Константина.
— Он княжич.
— Я уйду — он князем станет.
— Станет, только при этом все равно княжичем останется. Пацан же совсем — какой с него князь. Так, название одно. Ему лет десять еще хорошего воспитания, ну, пусть хотя бы пять. Вот тогда он орлом бы стал. А сейчас он летать еще не умеет. Честно говоря, жаль его.
— Не понял? — удивился Константин.
— А чего тут непонятного. Отца-орла нет, мамы, хотя мне ее больше вороной называть хотелось, — тоже. Как ни крути, а надо из гнезда выпрыгивать и самому на крыло становиться. Того и боюсь, что мал еще.
— Все равно пришлось бы рано или поздно, — проворчал смущенно князь.
— Пришлось бы, кто спорит, — согласился Славка. — Орлы иногда и сами птенцов своих из гнезд выпихивают. Но это когда знают, что их время пришло. А твоему желторотику еще годика три-четыре, не меньше, в гнездышке сидеть да ума набираться.
— Вот и пусть сидит и набирается, — заметил Константин. — У него и ты есть, и Минька, и ведьмак, да еще Доброгнева со Всеведом.
— Это все не то. Вот когда ты был — это да, а теперь ему самому надо решения принимать. Это совсем другое дело. Опять же и знания истории у него нет.
— Но я ж все написал! Неужели не разберетесь? — растерялся Константин.
— А общие тенденции развития исторического процесса Святослав вычислить сможет? — Это уже Минька подключился. — Он же ничего не спрогнозирует на перспективу, потому что консервативное мышление жителя тринадцатого века ему это не позволит. Зашоренность в мыслях всегда будет присутствовать, и тут уж ничего не поделаешь — стереотипы не те.
— Это он тебе, наверное, сказал? — полюбопытствовал Славка, обращаясь к князю.
— Мне, — задумчиво кивнул тот.
— Ну и славно. Пока ты будешь переводить на нормальный язык, я выпить и закусить успею. По примеру своих тысяцких, которые чуть ли не все спились напрочь.
— То есть как спились?! — ахнул Константин.
— Кто пятый, а кто десятый день по тебе тризну справляет. Говорят, что им такого князя уже не видать, что все равно теперь развал наступит, что все прахом, что ныне… Одним словом, сплошное расстройство чуйств, порча нравов, нездоровое брожение умов и полное разложение сплоченного воинского коллектива.
— А ты чего?! Ты ж воевода! Ты ж должен был, ну, я не знаю…
— Вот не знаешь — и помолчи, — бесцеремонно перебил его Славка. — Что я должен — мне известно. Только есть вещи, в которых, невзирая на мои погоны верховного воеводы, разбираться должен сам князь.
— С каких пор министр обороны должен лично с пьянством в полках бороться? Проще командира толкового назначить туда, чтобы он это дело прекратил.
— Это когда оно в одном полку, а не поголовно во всей армии. А раз ты так вопрос ставишь, то эта пьянка, считай, в генштабе идет. А коль охота с полком сравнить, то не было такого в современной армии, чтобы на этот пост безусого лейтенанта назначали, как ты меня. Нет, после всех наших войн успешных я высоко котируюсь, спору нет, но знал бы ты, сколько раз я свои решения за твои выдавал — за голову бы схватился. А иначе никак — отказались бы выполнять. Потому и приходилось твоим именем прикрываться. Так что это ты в их глазах являешься вдохновителем и организатором всех побед Рязанского княжества над своими буйными соседями, а я — просто очень умный исполнитель твоих гениальных решений. Теперь, когда тебя не будет, такая лафа у меня уже не пройдет.
— Святославом прикрывайся, — неуверенно предложил Константин. — Он же теперь будет… — и осекся, поняв, что сморозил глупость.
— Молодец, что сам осознал, — похвалил Вячеслав без тени иронии. — А раз никто не поверит, что Святослав чего-нибудь эдакое измыслил, то тогда сразу вступит в силу психологический фактор. Станет ли опытный тысяцкий выполнять распоряжения юного сопляка, пускай и в чине верховного воеводы, если они ему полной бредятиной покажутся? Да никогда. У Ивона, который полком Галича-Мерьского командует, знаешь, какой возраст? — и, не дожидаясь ответа, продолжил: — Почти сорок! Я ему в сыновья запросто гожусь. И Остане из Стародуба, и Лисуне из Ростова. Да что там говорить, — Славка устало махнул рукой. — Самые юные, типа Булатки, который рязанским полком командует, или Зуйко из Звенигорода, все равно старше меня. Кто на три, кто на четыре года. А ты говоришь — княжества захватывать? Хорошо бы, но некому. Вот такие дела, Костя…
Он устало откинулся назад, облокотившись на торчащие из земли узловатые могучие корни высоченной сосны и пристально посмотрел на князя. Затем поморщился, неудовлетворившись осмотром, и резко сменил тему. Хотя сменил — лишь показалось поначалу.
— Хорошее дерево, — похвалил Славка, легонько похлопав по черному корневищу. — Корабельное. Для флота самое то. Жаль, что при мне его не будет. Интересно было бы адмиралом себя почувствовать.
— Почему не будет? — сумрачно поинтересовался Константин, о чем-то напряженно размышляющий.
— Ну, как почему, — пожал плечами Славка. — Говорил же. С твоей… с твоим уходом нам и завоеванного не сохранить, а уж о чем-то еще думать и вовсе не стоит. — Он одним глотком допил остатки содержимого из своей чарки и сокрушенно добавил: — Вот и вся выпивка. Ну и ладно. До Ростиславля дотерплю как-нибудь, а уж там… — Он мечтательно зажмурился. — Там и в запой удариться можно. У тиуна в погребах меду на год хватит, — и уточнил: — Это если его в одиночку изничтожать.
— А если вдвоем? — осведомился Минька.
— Тогда месяцев на девять, — прикинув, ответил воевода.
— А ты-то чего пьянствовать собрался? — возмутился Костя. — С этого дурака пример берешь? — кивнул он на Славку.
— А чего еще делать? — грустно вздохнул изобретатель.
— Что и раньше — думать, творить, внедрять.
— Так оно тогда еще хуже получится, — уныло заметил Минька. — Рязани в одиночку, как ни крути, против Мамая не выстоять.
— Батыя, — не удержавшись, поправил его Константин.
— Да хоть Гитлера. Какая разница-то? Главное, что все мои изобретения врагу достанутся.
— Но я же сказал — Святослав будет. Тем более что к тому времени он уже вырастет.
— За него ты как раз можешь не беспокоиться, — отмахнулся Славка. — Укроем где-нибудь. Монголы же на север далеко не пойдут, так что найдем местечко. Я даже заранее людей пошлю, чтобы ему избушку какую-нибудь сварганили.
— Зачем?
— Чтоб уберечь, — пожал плечами Вячеслав. — Он же гордый парень. Обязательно драться захочет. А того в толк не возьмет, что с этой армадой лишь всей Руси под силу справиться. Собрать же ее воедино некому, а значит… Да ты и сам получше меня знаешь, что именно это значит. Эй, эй, ты чего?! — удивленно уставился он на встрепенувшегося Маньяка.
— Торопыга стонет, — ответил тот, вставая и с тревогой посматривая на потемневшее небо. — Я сейчас скоренько к нему, а потом вернусь.
— Я тоже пойду. Может, помогу хоть чем-нибудь, — вызвался воевода.
— И я с тобой, — подал голос Минька.
— Проститься с парнем не хочешь? — спросил у Константина Вячеслав.
— Он все равно без сознания, — откликнулся тот, продолжая сидеть, обхватив колени руками и продолжая сосредоточенно о чем-то размышлять.
Раненый Николка и впрямь никого не узнавал, только что-то безостановочно шептал пересохшими губами да стонал жалобно, пребывая в забытьи.
— Парня-то хоть сбережешь? — вздохнув, спросил у Маньяка Вячеслав, с тоской глядя на юного спецназовца.
— Постараюсь, — буркнул тот, прикладывая руку ко лбу раненого, а вторую — к его груди. — Сейчас вот добавлю ему силенок, да к князю вернусь.
— А может, двоих вытянешь?
— Я даже без этого парня князя долго не удержу. Подсобить уйти в светлый ирий — это еще потяну, но не боле.
Вячеслав в ответ только зло скрипнул зубами, но сдержал себя.
Вернулись они втроем, как и уходили. Впереди шел Маньяк, чуть сзади — воевода, а последним плелся Минька.
— Как там он? — встретил их вопросом Константин.
— Так же, — ответил ведьмак и заметил: — Ты бы поспешил, княже. Мне его надолго этой ночью оставлять нельзя. И тебе одному туда не уйти.
— Ты куда его торопишь, нечисть болотная?! — не выдержав, сорвался Вячеслав.
Маньяк кинул на воеводу злой взгляд, но тут же пробурчал, низко склонив голову:
— Это не сам ты — печаль в тебе за друга сердешного словеса поганые изрекла, а посему прощаю за них. Тороплю же, потому как этой ночью не удержать мне их обоих, — пояснил он. — Я ведь не всесильный. И мне предел имеется.
— Тогда иди к нему, — медленно поднялся на ноги Константин.
— А… ты как же? — оторопел ведьмак.
— Иди, — твердо повторил князь. — И вы тоже… идите, — обратился он к друзьям. — Там вы нужнее.
— Может, хоть ему дозволишь остаться? — кивнул Маньяк на Вячеслава. — Ежели что, так он хоть… — Он, не договорив, выразительно покосился на меч воеводы.
— Славка все равно не сможет, — быстро перебил князь друга, уже открывшего было рот в праведном негодовании.
Наступило молчание. Ведьмак явно трусил, то и дело вытирая выступавший на лбу пот своей войлочной шапчонкой. Изо всех троих только он мог, хотя и с трудом, представить себе ужасную картину того, что должно было случиться. Остальные просто смотрели на князя: Минька с каким-то детским простодушным восторгом, совершенно ничего не представляя, но считая, что именно так и надо поступать, а Вячеслав… Трудно сказать, что он думал. Лицо его оставалось бесстрастным, и только заходившие на скулах желваки давали понять, что на самом деле воевода далеко не так спокоен, как это может казаться.
Константин же смотрел даже не на них, а куда-то вдаль, поверх их голов, будто разглядывал что-то, видимое лишь ему одному.
— А может, я и впрямь останусь, — нерешительно предложил Вячеслав. — Не затем, конечно, чтобы ну… того, но вдруг я действительно помочь тебе сумею.
— И нас заодно предупредил бы, когда час настанет от тебя разбегаться, — жалобным тоном добавил ведьмак, в очередной раз вытирая шапчонкой обильный пот на лысине.
— Не надо. Ты свой бой уже выиграл, Слава. И не один, — спокойно ответил Константин. — Теперь мой черед. А разбегаться никому не придется, — обратился он к Маньяку. — Если я и не одолею, то ему все равно не победить. Всего себя сожгу без остатка, но ему не достанусь.
— Вспомни, что Васса сказывала, — возразил было ведьмак. — Вспомни и помысли — не потому ли она тебе про другую дорожку поведала, что от ентих глупостей остеречь хотела?
— Может, и так, — согласился Константин. — А может, и не совсем. Я сейчас, пока ребятам рассказывал, про другие ее слова вспомнил. О рассвете, который за сумерками приходит.
— Или ночь, — заметил Маньяк.
— Или ночь, — эхом откликнулся князь. — Но это мы еще поглядим, — зло пообещал он кому-то невидимому. — К тому же лучше пусть ночь, чем жить в вечных сумерках. Знаешь, как один великий царь развязал сложный узел? Рубанул его мечом, и вся недолга.
— То узел, а то Хлад, — не унимался ведьмак. — Попробовал бы он тут рубануть, а я бы на него посмотрел. И супротив кого ты меч собираешься обнажать?
— А я голыми руками.
И в этот самый миг из глухой темноты донесся стон Николки. Прозвучал он так отчетливо, будто спецназовец находился совсем рядом.
— Подтверждает, — заметил Константин. — Ну, все. Идите.
— А попрощаться, — заикнулся было ведьмак, но тут же получил увесистый тычок в бок от стоящего рядом воеводы.
— Русские князья так просто не помирают, — почти ласково пояснил Вячеслав и, приняв командование на себя, распорядился: — Всем кру-у-у-гом! К раненому шаго-ом марш!
И столько властной уверенности прозвучало в этом голосе, что оба его спутника послушно развернулись и направились к Николке. Вячеслав, уходивший последним, обернулся, внимательно посмотрел на друга и удовлетворенно кивнул:
— Удачи тебе. Хотя сдается мне, что б ни случилось, а свое сражение ты уже выиграл… Рюрикович.
— Пока еще нет, — вздохнул Константин, не поняв друга.
— С самим собой, — пояснил тот.
— А Хлад?
— Себя одолеть тяжелее всего, — улыбнулся ободряюще воевода.
Дождавшись, пока друг скроется в непроглядной темноте, Константин неторопливо улегся на мягкую, пружинящую, как тугой матрац, сосновую хвою.
Вот и все. Свой выбор он сделал. На этот раз окончательный. Что-то изменить было уже нельзя, и оставалось только одно — принять бой.
«Если бы еще и знать, чем и с кем драться, то совсем хорошо было бы», — подумал Константин и устало закрыл воспаленные глаза.
Сон пришел почти сразу, тягучий и черный, как расплавленная смола. Дверь в неведомое была совсем рядом — рукой можно коснуться. Давление на княжескую спину неумолимо нарастало с каждым мгновением, тяжелое и неумолимое, как надгробная гранитная плита. Сил для сопротивления практически не оставалось. Секунда-другая, и все. Кто-то жадный и невидимый с хрустом вгрызался ему в загривок, вожделенно всасывая в себя всю его энергию.
Запоздалое сожаление, что напрасно он решился на это противостояние, пришло к нему, еще больше ослабляя волю, но он тут же отогнал его прочь. Что сделано, то сделано, и сейчас оставалось только драться.
«Врешь, упырь поганый! — подумал он с какой-то бесшабашной веселостью. — Мне теперь терять уже нечего!» — и повернулся лицом к неведомому страшилищу.
Ослепительная чернота злобно вспыхнула перед глазами и ожгла их непереносимо ярким мраком… Константин еще успел подумать, что так не бывает, что мрак не может, не должен сверкать, но тут же воочию убедился в правоте выражения: «Непроглядная ночь ослепила его». Он действительно ничего не видел. Даже темноты. Перед ним что-то было, равно как и вокруг него, но что?!
Впрочем, размышлять на эту тему было некогда. Не до того. Бывают в жизни минуты, когда любые, даже самые неправильные действия, все равно намного правильнее самого мудрого раздумья. И Константин пошел вперед. Точнее, попытался идти.
Это была уже не защита — атака. Грудью, напролом, как это умеют и делают только на Руси. Его не пускали, крепко держа со всех сторон, но он не сдавался, продолжая ломиться что есть сил. Их у него оставалось мало. Очень мало. Но Константин не экономил, щедро выплескивая их из себя. Не скупясь, не утаивая капельку на донышке. Не скупясь, без остатка. Пан или пропал. Только так, иначе все затеянное ни к чему.
Враг был силен, однако в самый последний момент, когда Константин уже задыхался от стиснувших его стальных объятий, тиски начали ослабевать, и тьма затрещала, постепенно начиная поддаваться под этим неукротимым натиском.
Ибо кто на свете может быть сильнее человека? — Только сам человек. А кому под силу одолеть русича? — Да никому. Разве что… другому русичу. Но там, где был Константин, таковых не имелось, и потому он все-таки сумел продавить, промять, разодрать липкую давящую паутину и выйти из нее…
Куда? Константин и сам поначалу этого не понял. Лишь чуть погодя, с громадным трудом и еще большим ужасом он догадался, что руины, представшие перед ним с трех сторон, — останки его же родного города из двадцатого века.
Желтовато-тусклый и какой-то грязный размытый свет блекло освещал сплошные развалины: руины на месте его родной школы, груды кирпича и бетонных плит вместо жилых домов, обугленные и искореженные стволы берез, погребальными свечками застывшие в расположенном неподалеку парке, точнее, в том, что им когда-то называлось.
С четвертой стороны, чуть поодаль, перед Константином зиял неестественной чернотой гигантский котлован. Он был настолько огромен, что, даже старательно вглядываясь вдаль, он так и не увидел противоположного края чудовищно огромной воронки.
Была она глубока и мрачна, поблескивая спекшимися, почти стеклянными краями. Некоторое время он тупо разглядывал их, задыхаясь от тошнотворно-сладкого запаха разлагающейся плоти, но затем догадка обожгла его мозг, причинив почти физическую боль: «Так это же ядерный взрыв. Ну, точно. Потому и свет такой блекло-грязный. И кто же это?»
«Да ты сам», — неожиданно отозвался у него в голове чей-то чужой ворчливый голос.
— Не может быть, — ответил он вслух, не успев даже удивиться невесть откуда взявшемуся собеседнику.
«Еще как может, — проскрипел голос. — Поживи в том мире, куда ты попал, еще с годик — и все. Именно так и будет. Могу даже дату назвать: 1 сентября 1939 года».
— Это же день начала Второй мировой войны, — растерялся Константин.
«Это в твоем родном нормальном мире, где для тебя и твоих друзей не было возможности ставить свои эксперименты, — проскрипел голос. — А в этом, параллельном, хотя на самом деле это очень грубое сравнение, ну да уж ладно — день окончания Четвертой Мировой или Первой Ядерной».
— Как… параллельном? — растерялся Константин.
«А ты что же, и впрямь подумал, что тебя в прошлое занесло?» — искренне удивился голос.
— Вообще-то да, — протянул Константин.
«Увы, но это никому не под силу, — снисходительно пояснил невидимый собеседник. — Иное дело — параллельные миры. Тьфу ты, ну и словечко выдумали, — выругался он. — На самом деле это… Впрочем, что толку объяснять, коли ты все равно ничего не поймешь. Главное, что тебе надлежит знать, так это то, что тебе надо отсюда выбираться как можно быстрее. Ты помнишь, что повстречал в Веселом лесу?» — ворчливо осведомился голос.
— Машину времени? — неуверенно спросил Константин.
«Ну, если тебе хочется дать аппарату такое название — пусть так и будет, хотя на самом деле… Ладно, это тоже не имеет значения. Короче, как можно быстрее проваливай из этих мест, и тогда то, что ты уже здесь натворил, может быть, со временем как-нибудь и рассосется. Во всяком случае, если и отзовется в будущем, то не так болезненно, как ты это сейчас видишь».
— Не может быть, — прошептал Константин. — Не может быть, чтоб в этом была моя вина.
«Еще как может, — зло проскрежетал голос. — Думать надо вначале, а уж потом воевать, да еще используя всяческие технологии будущего. Знаешь, куда ведут благие намерения? — осведомился он с ехидцей и уверенно констатировал, не дожидаясь ответа: — В ад. Вот ты его перед собой и видишь. Как он тебе по вкусу? А, Наполеон?»
— Я ни на кого не нападал. Они сами, — возразил Константин.
«Все так говорят, — не уступал голос и уточнил: — Поначалу. А потом… Аппетит, как известно, приходит во время еды».
— У меня добрая цель — Русь защитить.
«Потому ты сейчас так щедро и поливаешься русской кровью, — ехидно заметил голос и осведомился: — Тебе напомнить имена тех, кто имел такие же добрые цели? Хотя что я тебе говорю. Ты же учитель истории — сам должен знать. А что потом у них получилось, помнишь?»
— И что мне сейчас делать? — растерянно спросил Константин.
«Уходи, — оживился голос. — Прямо сейчас и уходи».
— Чтобы ты, гад, в меня влез и пакостил по-прежнему?! — возмутился Константин.
«И не думал даже, — обиженно заметил невидимый собеседник. — Я тебя для чего вытеснял? Думаешь, для себя? Больно ты мне нужен. Да я в вашем поганом несовершенном белковом теле и часа не продержусь. Это вы себя венцом творения называете. На самом же деле человек есть нелепая ошибка природы, ее раковая клетка, которая так разрослась, что в конце концов сгубила все здоровые, а потом и сам организм, то есть планету. Вслушайся! Ведь день на дворе, а ты хоть что-нибудь слышишь? Тишина-то какая вокруг, — и уточнил: — Мертвая. А другой и быть не может, потому что все мертво».
— Врешь! Я живой! — огрызнулся Константин.
«Пока живой, — заметил голос и успокоил: — Но ты не переживай. Оно скоро пройдет».
— Во сне радиации не бывает, — возразил Константин.
«В обычном сне, — поправил голос. — Только ты-то в другом, особенном находишься. В нем все как наяву. А из этой ямы знаешь, как прет, — Хиросима близко не стояла. Их здесь двести вместе взятых».
— Сколько?! — ахнул Константин.
«Ну, может, немного поменьше. Скажем, сто пятьдесят. А что, есть разница? — почти благодушно осведомился голос и напомнил: — Пока еще есть время — уходи».
— Не уйду, — твердо заявил Константин и с необъяснимой даже для самого себя уверенностью заявил: — Не вышло силой, так ты на испуг взять хочешь.
«На сострадании к потомкам хочу сыграть, — уточнил невидимый собеседник и со вздохом сожаления уточнил: — К твоим же потомкам, к русичам, хотя, как я посмотрю, таким людям, как ты, сострадание неведомо».
— Зато тебе ведомо, — насмешливо откликнулся Константин. — Ты же у нас самый большой сострадалец. Только почему-то самых лучших людей на Руси убивал невесть сколько веков, а так — гуманист. Ты случайно не из Америки будешь, а то похож уж больно?
«А чего оскорблять-то сразу? — обиделся голос. — Просто росли вы уж больно быстро, а такого допускать нельзя, — пояснил он без тени смущения. — Не трудись я так старательно, так вы бы и вовсе на половине планеты свои хоромы раскинули. А что потом?»
— И что?
«А то! Ты про атлантов слышал? Эх, жаль времени нет, а то я бы тебе рассказал, как и отчего они исчезли».
— Короче, так, — предложил Константин. — Вот тебе мои условия. Уходи ты сам, пока еще есть время. Вот тогда я подумаю над тем, что ты мне сказал. Силой же ты меня не заставишь.
«Э-э-э, милый, чего захотел. Мы теперь с тобой навеки спаяны», — и дребезжащий смешок раздался в мозгу князя.
— Ладно, — миролюбиво согласился он. — Не хочешь из живого уйти — и не надо. Особый сон, говоришь, — пробормотал он и, прикусив губу, чтобы не заорать от внезапно нахлынувшего ужаса, двинулся вперед, к черно-стеклянному краю воронки.
«Ты куда?!» — завизжал голос.
— Из мертвого уйдешь, — прошипел сквозь зубы Константин, продолжая безостановочно вышагивать вперед, приближаясь к краю жуткой яме.
«Идиот! Это и впрямь смертельно опасно! — взвыл его собеседник. — Тебе что, вообще никого не жалко, зверюга?! Даже себя?! — и добавил жалобно: — Меня хоть выпусти!»
— Нет уж. Вместе, так до самого конца, — отрезал Константин.
«Не выйдет до конца. Я живучий! Пока хоть одна клетка в тебе жива — я в ней укроюсь! Мне много места не надо!» — вопил голос.
— Значит, проживешь на целый день или два дольше, чем я, — не стал возражать Константин.
До стеклянного края оставалось каких-то пару шагов, когда голос взвыл напоследок: «Да пропади ты пропадом со своими причудами!» — и умолк.
— Вместе пропадем. — Константин, сделав по инерции эти два шага, остановился на самом краю и окликнул: — Эй! Ты там где? Чего затих? Страшно, да? А помирать всегда немного страшно, даже если знаешь за что. Ничего, потерпи малость. Совсем немного осталось.
Не дожидаясь ответа, он сделал еще один осторожный шажок вперед, но тут же поскользнулся на гладкой оплавленной поверхности и полетел вниз. Темнота мгновенно окутала его своей мрачной пеленой. На этот раз она была какой-то холодной и мокрой. Сил почти не оставалось, но Константин упрямо барахтался, пока не нащупал под ногами что-то относительно твердое. Он выпрямился во весь рост и… тут же зажмурился от нестерпимо яркого солнечного света.
— Даже ненадолго отойти нельзя!.. — вдруг прогудел не в его голове, а над ухом, чей-то раскатистый могучий бас.
Константин поднял голову и приоткрыл глаза.
Огромный здоровяк с золотисто-рыжей курчавой бородой величественно возвышался над ним, скептически разглядывая жалкую фигурку, беспомощно копошащуюся на дне достаточно глубокой, метра в полтора, ямы, на треть заполненной грязной жижей.
— Сам вылезешь или подсобить? — сочувственно осведомился он, хмурясь и задумчиво поглаживая свой роскошный седой ус, заканчивающийся где-то аж на уровне груди.
— Сам, — промычал Константин, досадуя на самого себя — ведь ясно же было с самого начала, что врет этот треклятый голос, специально пугает, а он, обалдуй, уши развесил, выслушивая. Хотя нет, он же из него самого раздавался, значит, правильнее будет сказать — мозги развесил. Придя к такому выводу, он даже развеселился, да и сил вроде как прибавилось. Правда, выкарабкаться ему удалось лишь после третьей попытки — уж очень скользкими были края ямы, но зато самому, без посторонней помощи.
— Живописный у тебя вид, ничего не скажешь, — вновь прогудело над ухом.
Константин выпрямился, хотел было заметить, что если бы этот говорун попал на его место, то был бы не чище, и вся его чистенькая одежда: и белая длинная рубаха с тоненьким пояском, и синие штаны, и нарядные сапоги из красного, тонко выделанного сафьяна, — тогда бы стали точно такими же грязно-серыми, но потом не стал ничего говорить.
К тому же сразу чувствовалось, что обладатель баса ничуть не насмехался. В его голосе явственно ощущалась доброта и только самую крошечную малость — улыбка. Да и она была тоже скорее ласковая, чем насмешливая. Глаза здоровяка внимательно разглядывали князя, и в них тоже читалось не презрение, не ирония, а больше… уважение. «Сам вылез и помощи не попросил», — говорили они.
«Хорошо, что лицо тоже в грязи, и не видно, как оно полыхает», — подумал Константин.
— Да ты не смущайся, — вновь услышал невысказанное мужик и ободрил: — Главное, что ты сейчас снова на ноги встал, а прочее — не в счет, — и поторопил озабоченно: — Давай-давай, не задерживайся. Тебе еще далеко идти, а время ждать не любит. Ныне припоздал, вдругорядь промешкал, — а вчерашний день не воротишь.
Константин вздохнул и двинулся прочь. Конечно, в идеале надо было бы найти что-то типа ручейка или речушки, но как-то не по себе ему стало от соседства с этим могучим мужиком, и он решил заняться помывкой попозже.
— Удачи тебе, сынок, — пробасил ему в спину здоровяк.
«И вам не болеть», — хотел было ответить князь, повернулся и… приготовленные слова так и остались на языке — мужик куда-то исчез, причем не один.
Город, который отчетливо возвышался за его спиной, тоже испарился. Повсюду, куда ни глянь, простиралась ровная степь с высокой густой травой, покорной волной устремляющейся вслед за теплым ветром. Только где-то в километре, не ближе, виднелись знакомые очертания заповедной дубравы и стоящий на опушке Константин прищурился…
«Нет, это не тот здоровяк, — пришел он к выводу. — Вроде на Всеведа похож, но, с другой стороны, ему-то тут откуда взяться?»
И тут же вздрогнул от раскатистого баса, недовольно прогремевшего откуда-то сверху:
— А ты чего встал? Я же сказал, что поспешать тебе надо, иначе…
Огненная стрела впилась, зашипев, в землю, и трава в этом месте, будто только того и ждала, тут же полыхнула жарким пламенем, бросив Константину в лицо удушливый клуб дыма.
«А почему он черный-то?» — еще успел подумать рязанский князь, отшатываясь от него. Дальше было уже не до размышлений. Вторая стрела ударила левее Константина, третья — правее, четвертая — почти рядом, всего в метре позади.
Константин опрометью рванулся вперед, к еще не занявшемуся огнем участку мирно зеленеющей травы, чтобы успеть проскочить к безопасным местам, и… проснулся.
Сухо потрескивали в жарком пламени костра сухие смолистые ветки. Легкий ветерок, забавляясь с дымом, время от времени направлял его в лицо лежащему князю, словно торопя его проснуться. И вдруг Константин вспомнил, на кого был похож этот здоровяк с огненно-рыжей кудрявой бородой, играющей на ярком солнце всевозможными оттенками золотого цвета… Да-да, именно золотого. А седые усы у него тоже поблескивали металлическим, нет, скорее серебряным.
Это был…
«Нет, не может быть!»
И тем не менее…
«Но каким образом?!»
«А усы с серебряным отливом?!»
«Седые они — вот и показалось».
«А борода золотая?!»
Он досадливо отмахнулся от своей невероятной догадки: «Да ну, привиделось просто».
Сухая ветка в костре неожиданно звонко треснула и обдала зажмурившегося князя фейерверком разноцветных искр, словно укоряя за неверие.
«Да не в этом дело — кто он, — вдруг понял Константин. — Главное — слова его. Медлить нельзя. Только вперед, иначе…»
Он легко вскочил на ноги, сладко потянулся, с улыбкой глядя на обалдевших от такой прыти его спутников, сидящих у костра, и тут же принялся с недоумением оглядывать свою одежду, которая была сплошь покрыта какой-то грязной вонючей серо-зеленой слизью.
— И в каком болоте вы меня всю ночь купали? — удивился он.
— Ну и напарничка мне Всевед послал, — восхищенно помотал головой ведьмак, но от дальнейших комментариев отказался.
— Ты что, Костя, и впрямь ничего не помнишь? — недоверчиво уточнил Вячеслав.
— Совершенно, — искренне заверил князь. — Я же спал, — наивно пояснил он.
— Ничего себе спал, — протянул Минька, но тут же осекся под суровым взглядом воеводы.
— Ты много потерял, — с непонятной интонацией в голосе заметил тот.
— Я и впрямь кое-что за эту ночь потерял, — впервые за последние несколько месяцев легко и свободно, даже как-то распашисто вздохнул полной грудью Константин, заверив с улыбкой: — Но ничуть об этом не жалею, — и бодро скомандовал: — Завтракаем, и в путь. Время не ждет. А расскажете все по дороге.
Впрочем, Вячеслав и потом оказался скуповат на подробности. Рассказывал нехотя, явно чего-то недоговаривая. Понял Константин лишь одно — вел он себя в эту ночь не как князь, а скорее как заправский лунатик, причем передвигался по лесу с такой скоростью, что догнать его не мог никто. Когда же наконец друзья его настигли, то увидели, что он стоит весь в грязи и в тине у края огромного болота и, судя по следу, оставленному князем на траве, только что с превеликим трудом выбрался из самой его середины. Выбравшись же, он преспокойно отправился обратно, к месту прежней стоянки, только передвигался при этом как-то странно, загадочными скачками, но едва дошел, как тут же улегся спать и больше уже не колобродил.
Через лес они ехали медленно, чтобы не растрясти Николку, мерно покачивающегося в импровизированных носилках, сооруженных на скорую руку из жердей и того самого куска беленого холста. Сами носилки были надежно закреплены между двумя лошадьми, которые, будто понимая всю ответственность возложенной на них задачи, ступали осторожно и плавно.
Но все равно к вечеру парню стало намного хуже. Хриплое дыхание с каким-то клекотом выплескивалось у него из груди, и при каждом выдохе на губах розовели крошечные розоватые пузырьки зловещей алой пены. Кроме того, парень весь непрерывно дрожал от озноба, а руки его и лоб были холодны как лед.
— Дотянем? — чуть ли не ежечасно переспрашивал ведьмака Вячеслав, но тот, хмурясь, продолжал отмалчиваться, отводя взгляд в сторону.
Привал путники сделали еще засветло и тут же подались за хворостом для костра. Маньяка, по негласному уговору, они освободили от этой обязанности — ему и с раненым забот хватало. Или… с умирающим?
Князь было собрался податься вместе с остальными, но ведьмак его удержал:
— Они пусть собирают, а ты пока с ним побудь, — кивнул он в сторону Николки и пожаловался: — У меня уже и на него одного сил нет. Хоть чуток поспать надо.
Отключился Маньяк почти мгновенно, наказав его не будить, пока сам не проснется. Примерно через час, почувствовав, как паренек немного согрелся от разведенного жаркого костра и с удовлетворением отметив, что и дыхание у него стало немного спокойнее и ровнее, Константин, незаметно для себя, тоже уснул, не выпуская рук Николки.
Вячеслава, попытавшегося было вынуть их из княжеских ладоней, резко одернул проснувшийся к тому времени ведьмак.
— И чего тебе не спится, воевода? — проворчал он сердито.
— Да князю спать неудобно, — пояснил Вячеслав.
— Оставь, оставь! — раздраженно прикрикнул Маньяк. — Или сам не видишь, как им сладко спится? Почто тревожить.
Вячеслав, вздохнув, нехотя подчинился.
— Ты только довези парня живым, — попросил он.
— Если ты считаешь, что я только из-за того, чтобы пакость учинить, твоего воя… — начал было Маньяк, но Вячеслав тут же перебил его:
— В мыслях такой ерунды не держал! — и, желая задобрить, заметил хитро: — Вот довезешь живым до Ростиславля, тогда я песню спою… про тебя, между прочим.
— Про меня?! — вытаращил глаза Маньяк. — Мерзость, поди, какую людишки глупые сочинили?
— Стал бы я про тебя мерзости петь, — возмутился воевода. — И другому, если услышу, рот сразу заткну. Нет, старина, песня хорошая. Там, конечно, не все про тебя, но имеется кое-что. Костя, то есть князь, говорил мне как-то, что твое имя падающую звезду означает?
— Ну, так, — подтвердил заинтригованный ведьмак.
— Значит, и про тебя тоже там поется. Точнее, про звезду, что сорвалась и падает. Я бы сегодня спел, только сейчас не в духе.
— Не в духе, говоришь, — хмыкнул Маньяк. — Тогда на князя нашего полюбуйся. Глядишь, духа и поприбавится.
— А что с ним? — озабоченно переспросил Вячеслав, пристально вглядываясь в мирно посапывающего Константина.
— Разве сам не видишь? — уточнил ведьмак.
— Да нет. Князь как князь. Жив, здоров и довольно-таки упитан. А что случилось-то? — перешел воевода на заговорщический шепот.
Маньяк, разочарованно вздохнув, только рукой махнул.
К Ростиславлю они добрались лишь к вечеру следующего дня. Николку Панина довезли живым. Доброгнева, хозяйничавшая подле остальных тяжелораненых, уже во время первого осмотра раны сказала, что жить парень будет.
— Через месяц уже вставать начнет, — добавила она уверенно.
А еще через двое суток к князю заглянул ведьмак. Чуть ли не все это время он неотступно бродил следом за Вячеславом, упрашивая его еще один разок, самый последний, спеть ему полюбившуюся песенку. Канючил до тех пор, пока замордованный воевода не выдерживал и вновь затягивал:
Призрачно все в этом мире бушующем, Есть только миг, за него и держись…Ко второму вечеру он и сам уже подпевал Славке, особое старание вкладывая в строки «про себя»:
А для звезды, что сорвалась и падает, Есть только миг, ослепительный миг….К князю он заглянул, уже будучи полностью экипированным для дальней дороги домой.
— Попрощаться зашел, — пояснил деловито. — Дел скопилось немерено, а я тут с тобой валандаюсь.
— Спасибо тебе, дружище, за все, — тепло произнес Константин.
— Да ладно уж, — проворчал Маньяк, старательно пряча довольную ухмылку.
— А за то, что Николку Панина живым довез, особое спасибо, — продолжил князь, в глубине души понимая, что если тот собрался уходить, значит…
«Да ничего это не значит!» — резко одернул он сам себя, но любопытство взяло верх, и он заговорщическим шепотом уточнил:
— А я сильно того?.. Ну, посветлел? — пояснил он, глядя на Маньяка, почему-то крайне изумленного этим вопросом.
— Ну и напарничка мне Всевед послал, — вздохнул тот. — Хошь — плачь, а хошь — смейся от бестолковости такой. Это ж не я парня живым довез, а ты сам! — возмущенно заявил он, после чего черед удивляться пришел для князя.
— То есть… как это я?
— А вот так. Он же в тот вечер, после того как его растрясло в дороге, даже не одной ногой в скудельнице стоял — он вовсе в нее забрался. С головой. Марена таких обратно никогда не выпускает.
— А-а-а… я чего? — осведомился князь.
— А ты его за шиворот оттуда выволок. Ха, видали остолопа! — возмущенно продолжал ведьмак, пользуясь тем, что никого поблизости не было. — Спрашивает меня — сильно ли он посветлел?! Да ты гляделки-то свои протри! С тебя жар пышет, как с солнышка в полдень летний! И сияешь ты, как оно на Купалу! Если не ярче, — задумчиво добавил он, глядя на князя, будто и впрямь сравнивая, кто из них дает больше света.
Затем еще пару секунд он с удовлетворением разглядывал обалдевшего от такой сногсшибательной новости Константина, после чего, вздохнув, заметил:
— Рот-то закрой. Ты бы еще палец туда сунул. Стоишь тут, как дите малое, зенками хлопаешь, а ты все-таки князь. Понимать должон, ну и… вести себя, как подобает.
Прочитав последнюю нотацию, ведьмак одобрительно кивнул сам себе и вразвалку направился к выходу.
А рот князь, несмотря на дружеский совет, закрыл не сразу.
* * *
Нет ничего странного в том, что летописи дружно умалчивают о непосредственном участии князя Константина в знаменитых битвах под Ростиславлем и на Рясском поле. И не стоит только на этом основании, как утверждает академик Мездрик, говорить о том, что он не принимал в них никакого участия. Это самый настоящий абсурд. Что же он, уважаемый Виталий Николаевич, в лесах все это время прятался, а потом сразу, так сказать, на готовенькое вылез?!
К тому же мы точно знаем, что ранен он не был, следовательно, ничто не могло ему помешать возглавить свои рати. Не упоминается же о нем лишь потому, что его участие в сражениях настолько само собой разумелось, что для летописцев не имело смысла лишний раз указывать на его несомненное присутствие.
О. А. Албул. Наиболее полная история российской государственности. СПб., 1830. Т. 2, с. 170.Глава 20 Так зарождалась летопись
Но ждет нас суд уже и в этом мире. Урок кровавый падает обратно На голову учителя. Возмездье Рукой бесстрастной чашу с нашим ядом Подносит нам же… В. ШекспирВстал Николка с постели через три недели.
— Нам, заговоренным, шибко разлеживаться некогда, — сурово заявил он, выйдя из терема бывшего, а ныне покойного тиуна.
Дом, после предательства главы города, точнее, попытки это совершить, был конфискован в пользу князя, и там, еще по решению Миньки, уже во время осады Ростиславля спешно развернули военный госпиталь. Константин это распоряжение подтвердил дополнительно своим княжеским указом, уточнив лишь, что как только его покинет последний раненый, терем должен быть отдан под школу.
Из своих товарищей по спецназовской сотне Николка никого не застал. Все ушли с огромной ратью рязанского князя. Теперь для них работа была — на мирную сдачу абсолютно всех городов в Черниговском, Новгород-Северском и Полоцком княжествах, а также в Турово-Пинской земле Константин не рассчитывал. Пришлось парню грустно бродить по небольшому тиуновскому дворику еще целых два месяца, печально поглядывая на Доброгневу и тоскливо вздыхая о своей несчастной жизни, потому что самое интересное опять прошло стороной. А еще он сетовал, что оказался таким невезучим недотепой, что, даже будучи заговоренным, ухитрился схлопотать стрелу в грудь, которая, несомненно, прикончила бы его на месте, если бы не крепкое заклятье князя Константина. Вон Ральфа же наповал убило, а его…
Со своими боевыми друзьями Николка встретился аж по осени. Но особо им рассказывать было нечего.
Пустые, без князей, земли они забирали в большинстве своем тихо и мирно. Лишь в трех городах жители сели в осаду, но и тут искусство спецназовцев пригодилось лишь один раз. Гарнизоны Путивля в Новгород-Северском княжестве и Городно, стоящего чуть ли не на самой границе с ятвягами и литовцами, то есть бывшего очень важным в стратегическом отношении, удалось уговорить сдаться после нескольких дней осады.
В случае с Городно было полегче. Сдаться повелел сам князь, Михаил Владимирович, которому сразу после этого не только предоставили свободу, но и разрешили забрать всю свою немногочисленную семью с правом выезда куда угодно, только за пределы своего княжества. Немного подумав, тот подался к могущественному соседу Конраду Мазовецкому, у которого получил в кормление небольшой городок с пятком сел вокруг. Не разгуляешься, но и с голоду не помрешь.
Путивльский князь тоже был жив, хотя и ранен под тем же Ростиславлем. Однако выдержать осаду он не надеялся. Выговорив почетные условия, он сдал город и через пару дней выехал из него согласно договору с рязанским князем. Препон ему не чинили: «Иди на все четыре стороны, только на рязанских землях не показывайся».
Штурмом брали лишь Переяславль-Южный. Князь Ярослав неожиданно быстро оклемался от очередных ран, полученных в лесах под Ростиславлем, и бодро командовал обороной города. Через пять дней рать Константина сняла осаду и пошла прочь. Когда она, как донесли разведчики, к концу второго дня удалилась верст на пятьдесят, в городе устроили грандиозный пир. А тем временем сидевшая в ближайшем лесочке сотня спецназовцев, возглавляемая самим воеводой Вячеславом, терпеливо ждала своего часа.
На руку сыграло и то, что как раз в эти дни было новолуние, а южные ночи — не северные. Кругом ни зги не видно, и разглядеть во мраке черные штаны и рубахи рязанских смельчаков, бесшумно подползающих к городским укреплениям, трудно, даже если ты трезв. Таковых же практически не было. Гудели все, поэтому из ночной стражи, стоявшей, а точнее, в подавляющем большинстве спавшей на крепостных стенах, погибло всего трое из числа успевших оказать нешуточное сопротивление и пару раз взмахнуть мечом. Помимо этого, успели они и крикнуть, предупреждая прочих, и даже в било ударить разок. Но все это оказалось напрасным.
Уже через пятнадцать минут после того, как последний из спецназовцев, закинув «кошку» с веревкой, влез по ней на городскую стену, ворота распахнулись настежь, а еще через полчасика, когда уже начало светать, отборная тысяча дружинников деловито въезжала через них, держа путь к княжескому терему.
И не было ни яростных стычек, ни ожесточенных кровопролитных поединков. К тому же изрядную помощь ратникам оказал Любомир, четко указавший, в каких светелках спят малые княжичи, где отдыхает княгиня Ростислава и как сподручнее отыскать Ярослава, заночевавшего у очередной наложницы. Через три дня княжеское имущество уже было загружено в ладьи и отправлено вверх по Днепру в сторону Киева.
В последней из них находилась вместе со своим мужем и Ростислава. Вячеслав предложил было ей остаться в Переяславле, памятуя о чувствах своего друга, но тут же пожалел об этом. Княгиня ожгла его таким красноречивым взглядом, что у него аж в затылке засвербило.
— Это тебе твой князь просил передать? — только и спросила она.
Как лучше ответить, воевода не знал, но вовремя вспомнил очередное мудрое наставление своей мамочки: «Не знаешь, что сказать, — говори правду. Обойдется дешевле».
— Нет, — честно ответил он. — Сам решил предложить.
Взгляд княгини несколько смягчился.
— Это хорошо, — произнесла она. — А то я уж было подумала, что ошиблась… Князю Константину передай, что Ростислава обиды на него не держит и все понимает. Мой муж — его враг. Он поступил, как долг его велит, а я так, как мой долг, и потому следую за супругом своим, — жестко отрубила она и, гордо вскинув голову, прошла в свою светелку.
«Угораздило же Костю втюриться в эдакую…» — мрачно подумал Вячеслав.
— А скажи, воевода, — совершенно иным, певучим голоском спросила Ростислава, стоя в дверях светелки. — Жив-здоров ли князь твой? Не ранен ли?
— Да нет. Все у него хорошо. Только душа болит, но то рана сердечная, — нашелся Вячеслав.
— Сердечная, — вздохнула княгиня, улыбаясь какому-то своему воспоминанию. — И сильно болит? — поинтересовалась сочувственно.
— У-у-у, — только и смог произнести воевода.
— Бедный, — протянула она сожалеючи и тут же — ох, уж эти женщины — улыбнувшись лукаво, заметила: — А может, это и хорошо.
И фейерверк искр в глазах ее зажегся. Вспыхнул и искрами рассыпался.
«Да-а-а, в такую и я бы втюрился, — уже иначе подумалось ему. — Хотя нет. Строга больно. Нам бы чего попроще». — И он в который раз вспомнил сестричку княжеского стремянного Епифана Анну.
Может, она и уступала в чем-то этой горделивой красавице, но только не в глазах Вячеслава. Точнее, те компоненты, в которых ей было бы затруднительно спорить с княжной, для Вячеслава просто не имели никакого значения. Зато в том, что он ценил — женственность, мягкость, доброту и многое другое, — Анна бы с княгиней запросто могла посостязаться, и еще неизвестно, за кем бы здесь верх остался. Хотя нет. Если бы судьей был Вячеслав — тогда известно абсолютно точно.
К тому же помимо всего этого было в сестре Епифана нечто особенное, чего больше ни в ком другом Вячеслав, пожалуй, и не встречал. Словами этого не опишешь. Нет таких ни в одном языке мира, не придумали их люди, да и зачем. Если все разъяснениям да анализу логическому подвергать — жить скучно станет. Пусть хоть что-нибудь вечной загадкой останется. Любовь, например.
А Ростиславе спустя два дня, когда ладьи уже плыли по Днепру, внезапно стало до слез жаль, что она не согласилась на предложение воеводы. Однако длилось это недолго. Княгиня быстро взяла себя в руки — не впервой — и заставила думать об ином. Ну, например, о том, где им теперь придется жить, ведь мест не так уж и много. Только земли Новгорода, Киева, Смоленска и Галича не тронул Константин.
Переяславское княжество вроде бы тоже оставалось свободным. Во всяком случае, Константин, как и обещал Мстиславу Удатному, малолетних сирот не тронул и изгонять их не стал. Правда, говорить с ними ему пришлось не раз. Уж очень противились они поначалу, подстрекаемые своими боярами, тому, чтобы принять княжество из рук Константина не в вечное владение, а лишь в пользование.
Бояр переяславских тоже понять можно было. Еще бы! Кому приятно в одночасье и сел, и смердов лишиться. Гривны серебряные — штука хорошая, но они больше выгодны тем, кто хуторок какой-нибудь имеет, где всего-то душ пять-шесть. Пока выжмешь из них все, что тебе положено, не семь, а сто семь потов прольешь. Опять же время откуда брать, если то одна, то другая служба отвлекает. С гривнами и впрямь куда как проще получается. Выдал их тебе князь, и иди, сотник или, там, тысяцкий, покупай все, что твоей душе угодно.
Иное дело, когда боярин по нескольку сел имел. Тут не просто дань — тут еще и власть душу грела. Захотел — плетью смерда огрел, захотел — в поруб его кинул. Красота. Теперь же он обыкновенным служивым человеком оказывался. Можно сказать, в закупах у князя Константина. Ничего себе! Такое далеко не каждому по сердцу придется.
Да и дядя Ярослав, ныне отсутствующий, тоже в свое время немало всякой грязи вывалил на рязанского князя.
Словом, на Константина, подъехавшего через пару дней после отъезда последнего из оставшихся в живых сына Всеволода Большое Гнездо, все смотрели, как на монстра какого. Особенно этим старший отличался, десятилетний Василько, да и средний — девятилетний Всеволод — тоже поглядывал как волчонок, исподлобья.
Пришлось вспомнить все, чему его учили в пединституте относительно подростковой психологии. Дичились ребятки всего два дня. Здорово помогли имеющиеся знания. Константин ни в чем не убеждал их — только рассказывал: о дальних странах и диковинных зверях, о древних городах и странных обычаях, о воителях древности и седых мудрецах. Мальчишки слушали его, раскрыв рот.
И еще одно на руку Константину сыграло здорово. Время от времени князь отца мальчиков хвалил, Константина Всеволодовича. Вот этим он их, можно сказать, и «купил» окончательно. От стрыя своего Ярослава Василько с Всеволодом если и слыхали что о батюшке, так лишь пренебрежительное, а то и вовсе «тряпка», «слюнтяй» и так далее.
Последнее, правда, он допускал только в разговорах с другими, да и то лишь тогда, когда не замечал, что в отдалении маячат Василько или Всеволод. Но ребята все слышали, и коробили их эти слова здорово. Да и кому приятно такое о родном отце слышать?
Константин же о своем тезке иначе говорил — ум его высоко оценивал, доброту, великодушие, любовь к книгам. Причем все искренне, от души, а это тоже важно. Дети — они фальшь остро чувствуют. Их лицемерным сюсюканьем не проймешь. Даже хуже будет. А когда догадаются, что ты им говоришь одно, а думаешь об этом совсем иначе, то и вовсе пиши пропало. Не простят и помнить долго будут.
И так Константин своего тезку захвалил, что чуть ли не до абсурда дело дошло. Уже сам Василько, на правах старшего сына, позволил себе легкую критику в адрес отца.
— А воевать тятя не любил, — заметил он и вздохнул осуждающе.
Пришлось новый курс ликбеза им обоим закатить и о войне рассказать. Но не о той, какую они себе по малолетству понапридумывали, а о настоящей, без прикрас, чтоб мальчишки воочию себе ее грубый жестокий оскал представили, с кровью, с болью, со сбитыми ногами, с ранами, от которых смердит, потому что они гнить уже начали. Судя по тому, как у ребят лица побледнели, а у Всеволода лоб и вовсе испариной покрылся, воображение у обоих хорошо сработало, в пользу князя.
Закончил же Константин неожиданно:
— Любить войну не за что, но воевать уметь надо, если дело того требует. Ваш отец как раз из таких был. Настоящий князь. Не зря у него в дружине лучшие из лучших служили. Да так любили вашего батюшку, что после его смерти к вашим стрыям переходить отказались наотрез, хотя им и предлагали.
— И стрый Ярослав предлагал? — уточнил Всеволод.
— И он тоже, — подтвердил Константин. — А они ни в какую. И воевать, если нужно, ваш отец получше многих умел. Когда он за справедливость под Липицей бился, то тех же владимирцев с суздальцами разбил наголову.
— А стрый наш ничего не сказывал о том, — заметил Василько.
— Как же, будет он рассказывать, — усмехнулся рязанский князь. — Он же чуть ли не самый первый от него улепетывал, да так, что только пятки сверкали.
— Стрый?! — завопил радостно Василько, не верящий ушам своим.
— От батюшки?! — вторил ему изумленный Всеволод.
— Именно стрый и именно от батюшки, — подтвердил Константин.
Дальнейшее произошло всего через день после этого разговора. Константин собрал в большой просторной гриднице княжеского терема оставшихся под рукой своих тысяцких на очередной совет, чтобы решить вопрос — как дальше быть с Переяславским княжеством. Внезапно вошли Василько и Всеволод. Были они непривычно серьезны, нарядно одеты, преимущественно в алое, как и положено княжичам, хоть и маленьким. Зашли не одни — за руки старшие братья держали своего меньшого, пятилетнего Владимира. По другую сторону от Василька гордо вышагивал еще один Всеволод — единственный сын Юрия Всеволодовича. Ему шесть лет совсем недавно исполнилось.
— Мы готовы, — гордо заявил Василько, пройдя всю гридницу и остановившись прямо перед Константином.
— К чему? — поначалу даже не понял рязанский князь.
— Княжество Переяславское из дланей твоих прияти и роту дати в том, что будем верность тебе хранити, яко сподручники твои, — нимало не смущаясь от десятков глаз, на него устремленных, отчеканил тот заранее приготовленную фразу.
Иные из тысяцких даже заулыбались невольно. Уж больно потешным был контраст. Сами-то мал мала меньше, а глазенки горят, суровые такие, фу ты ну ты. Им бы хоть росточку побольше…
А тут и младшие княжата — даже до того, чтобы их княжичами называли, они и то еще не доросли, — в один голос, с серьезной важностью на детских личиках подтвердили заявление старшего:
— Лоту, лоту дати.
Иные из собравшихся и вовсе прыскать в кулак стали, не в силах сдержаться. Но Константин этих весельчаков быстро остудил. Так взглядом ожег, что сразу все и все поняли. Сам тут же со своего стольца поднялся сноровисто и меч из ножен вытянул.
— Повторяй за мной, — предложил, но Василько только головой замотал отчаянно.
— Я сам все ведаю, — заявил он и принялся говорить. Слова клятвы звучали звонко, отчетливо, только голос немного от волнения подрагивал.
«И где он текст-то откопал?» — подумал Константин, а потом вспомнил, как весь последний день княжичей не видно и не слышно было. Спросил у дворни, а те ответили, что дети вроде как с Творимиром. Этому Константин доверял, да и других неотложных дел хватало, так что больше мальчишек не искал. А они вишь чего удумали. Ну и что ж, что голос детский — зато клятву как чеканит. Такой голос не подделаешь — сразу чувствуется, что от всего сердца он идет, искренне.
Уезжал рязанский князь из Переяславля-Южного с легким сердцем — верил, что здесь все в порядке будет. Расставанье трогательным получилось, хотя прощались по-взрослому, без поцелуев. Как-никак хоть и удельные, но уже не княжичи перед ним стояли — подлинные князья, особенно Василько с Всеволодом. Таких поцеловать — обида смертная будет. А так хотелось.
— Побыл бы еще, — застенчиво предложил Василько.
— Ага, — подтвердил Всеволод.
— Исчо, — протянул маленький Юрьевич.
— Я бы с радостью, — улыбнулся чуть виновато Константин. — Но княжий долг требует. Надо воеводу своего догонять. Негоже, когда он один в грады чужие въезжать станет.
— Чтобы Русь единой стала, — кивнул Василько понимающе. — Тогда езжай.
Молодец, мальчишка! Здорово все запомнил!
— В гости скоро ли приедешь? — не удержался Всеволод.
— Пожалуй, по первопутку нагряну, — пообещал рязанский князь. — Я же столько всего интересного вам еще не рассказал.
Едва произнес это, как глаза у обоих загорелись радостно. Пришлось тут же зарубку в памяти сделать — умри, но выполни. Слово князя — золотое слово. Сам их этому учил. С тем и укатил вдогон за Вячеславом, который как раз из Смоленского княжества уже возвращался.
Оно тоже почти свободным оставалось. То есть почти, но не совсем. Земли удельного вяземского князя Андрея Долгая Рука, так же как и Дорогобуж, рязанские отряды заняли.
То же самое произошло и с Владимиро-Волынским княжеством. Территорий, принадлежавших молодому Даниилу Романовичу, рязанский князь не коснулся, зато владения погибшего Ингваря Луцкого и живого Александра Бельзского взял под свою руку, выйдя, таким образом, второй раз на границу с поляками.
Разница была лишь в том, что на севере, в районе глухих болот Полесья, Константин вышел на границу с князем Конрадом Мазовецким, приютившим Михаила Городненского, а заодно с Конрадом заполучил в соседи беспокойных ятвягов, воинственную литву и прочие дикие племена, населяющие Прибалтику. На юго-западе же с Рязанским княжеством теперь сошлись земли Малой Польши, где от такого соседства сразу стало неуютно в своем краковском замке князю Лешко I, прозванному Белым, — родному брату Конрада Мазовецкого.
В Чернигов Константин въезжал тоже с тяжким сердцем. Как ни крути, а траур в княжеском тереме — его работа. Говорить-то что угодно можно: сами, мол, полезли, сами мира упрямо не хотели. Короче, кругом они — не ты виноват. И все складно получается, все правдиво — не подкопаешься. Ну а теперь в глаза вдовам и сиротам загляни — повернется язык такое ляпнуть? То-то и оно. Лучше уж вовсе ничего не говорить, а еще лучше — вообще глаза не мозолить и даже не появляться поблизости. Только никуда не денешься — княжий долг обязывает самолично под свою руку принять черниговские земли.
Но и тут у Константина схитрить получилось. Решил он, что пусть их лучше подручник будущий принимает. К тому же должок за ним — из полона Ингваря вытащили, где тот сидел. Правда, полон тот — с подвалом Глебовым, что в Рязани был, — не сравнить. Одно лишь утеснение и было у Ингваря — выходить ему дальше двора никуда не позволялось. В остальном же — ешь, пей, гуляй, сколько твоей душе угодно.
Однако и с ним тоже не все ладно получалось. Вячеслав не доглядел, когда остатки княжеских ратей под Ростиславлем в пух и прах разносил, а предупредить некому было. Словом, не уцелел брат его Роман. Тело они, конечно, привезли в Чернигов. И мед для домовины нашли, чтобы не разложилось, и все остальное сделали честь по чести, но кому легче от того, что все приличия соблюдены?
Ингварь же молодцом оказался. Постояв возле колоды дубовой, в которой тело его брата покоилось, нашел в себе силы, чтобы рассудить здраво:
— Видать, доля его такая была.
И все. Только на мать покосился жалостливо, которая, стоя у гроба, ревмя ревела, да брату Давыду кивнул на нее, повелев, чтоб приглядел.
Разговор с Ингварем получился тоже на удивление быстрым. Да и ни к чему долго рассусоливать-то. Константин лишь спросил его на другой день после того, как тризна печальная прошла:
— Не передумал в сподручники ко мне идти?
— Нет.
— Тогда принимай княжение Черниговское. Роту завтра же при всем честном народе дашь, — и пояснил, хотя и без того понятно было: — Не хочу и дня лишнего здесь пробыть. Вроде и не виноват ни в чем, а… — и толкнул его в бок заговорщически: — Да ты и сам, поди, все понимаешь. Не маленький.
Ингварь лишь молча кивнул в ответ, весь погруженный в думы. Лишь спустя пару минут до него весь смысл сказанного дошел. Повернувшись к Константину, он недоверчиво поинтересовался:
— Княжество-то уж больно великое вручаешь.
— Княжество у меня так и осталось одно — Рязанское, — поправил тот. — Тебе же я лишь часть его вручу завтра в держание. Дани потом обговорим.
— А не боязно тебе? — спросил хитро Ингварь.
«Вот паршивец», — подумал князь.
— А тебе? — ответил он вопросом на вопрос.
— Мне — да. Есть немного, — честно сознался будущий черниговский наместник. — Но ничего. Давыд вон уже большой совсем. И умен не по годам. Если что — поможет.
— Да нет, — вздохнул Константин с сожалением. — Это ты ему, если что, помоги, — и пояснил: — Я твоему брату соседнее, Новгород-Северское княжество думаю дать. Как мыслишь — управится он?
Ингварь подумал немного. Дело-то и впрямь нешуточное. Получается, что на него теперь двойная ответственность ложится, потому что если он сейчас скажет «да», то вроде как поручителем за него будет.
— Управится, думаю, — решился все-таки ответить он.
— Вот и ладно, — обрадовался Константин и пожаловался: — Людей у меня не хватает. Земель много, а вот управлять ими некому. Ну да ничего. Это дело временное. И найду, и научу.
— Да, — согласился с ним Ингварь. — Раскинулось оно у тебя.
Впрочем, говорить «Рязанское княжество», начиная с лета 6727-го от сотворения мира, стали все реже. Намного чаще теперь слышалось иное, гораздо более уважительное и даже почтительное: «Рязанская Русь». Действительно, княжеству, которое имело территорию, чуть ли не втрое большую, чем владения всех остальных князей, не считая земель Новгорода, приличествовало уже иное название, посолиднее.
Морщились, когда слышали его, и Мстислав Романович Киевский, и особенно Владимир Рюрикович Смоленский, да и другие князья. А что делать? Не было уже в живых вдохновителя летнего похода Мстислава Святославовича Черниговского, как не было в живых и его сынов. Единственный из рода князей черниговских, который остался в живых после всех битв под Ростиславлем, Мстислав Давыдович, был отпущен Константином Рязанским и нашел свой приют у Мстислава Романовича Старого.
Тот скрепя сердце дал ему в удел небольшой городок Мозырь, стоящий почти на самой границе с бывшим Турово-Пинским княжеством, которое ныне также перешло под власть Рязани. Да и не мог молодой двадцатишестилетний Мстислав претендовать на большее, поскольку даже по великому лествичному праву, которое иногда еще вспоминали, если твой отец на престоле не сиживал, стало быть, ни тебе, ни потомству твоему там делать нечего. А у него не то чтобы отец, но и дед Олег Святославич в Чернигове не княжил, потому как слишком рано скончался.
Угрюмо молчал и второй подстрекатель — Ярослав Всеволодович. Смоленский князь то ли в насмешку, то ли для вящей памяти, чтоб не забывалось, то ли как бы в упрек безмолвный предложил ему в кормление земли и городок с тем же названием, что и рязанский, — Ростиславль. Был он приграничным с Рязанской Русью, и Ярослав, поблагодарив, от него отказался.
Его деятельная натура настойчиво требовала чего-то большего. В конце концов, с трудом смирив гордыню, точнее, усилием воли приглушив ее на время, он еще до осенней распутицы подался в гости к своему тестю, в Галич. Мстислав Мстиславович после долгих колебаний выделил непутевому зятю тоже приграничный город, и тоже весьма с символичным названием. Но, во-первых, теперь его главным соседом стал не Константин, а польский князь Лешко Белый, а во-вторых, название города было символичным лишь потому, что звучало точно так же, как и имя самого князя, — Ярослав.
Третий же, а по значимости, может, и первый из подстрекателей, епископ Суздальский, Владимирский и прочая Симон, отделался поначалу, если можно так выразиться, условным сроком. Да и то лишь потому, что Константин просто не знал, какие санкции к нему применить. Конечно, лучше всего было бы полную изоляцию к нему применить, засунув в какой-нибудь монастырь, но как отреагирует митрополит на такое самоуправство, Константин не знал, а рисковать боялся. Не время было ссоры из-за такой ерунды затевать. Поэтому он лишь строго пообещал Симону, что еще только один раз — и тогда уж точно все. А что именно «все» — ни за что бы не ответил. Да он и сам не знал.
Раз этот пришелся уже через два месяца, когда ранней зимой епископа вновь застукали врасплох. Монаха, посланного Симоном незадолго до этого к своему коллеге в Чернигов, люди воеводы Вячеслава аккуратно напоили сонным зельем уже в Муроме и, пока он спал, прочли послание. Константин в это время как раз уехал в Переяславль-Южный, чтоб сдержать данное княжичам слово. Но то, что в послании было написано, настолько взбесило воеводу, что он и дожидаться княжеского возвращения не стал. Просто ворвался через пять дней в покои епископа, небрежно бросил изъятую грамотку на стол и заявил со своей прямотой:
— Слыхал я, что горбатого только могила исправит. От себя добавлю, что тебя, святой отец, лишь монашеская келья вразумит. Короче, так… Пока горит твой огарок, — а свеча да столе и впрямь уже еле теплилась, — подумай хорошенько и выбери сам. Либо даешь согласие, и мы тебя нынче же отвозим в любой из монастырей, где ты принимаешь на себя великую схиму[118], либо ты, но все равно сегодня же, берешь на себя тяжкий труд проповеди слова божьего среди закоренелых язычников. Тут я тоже, как добрая душа, даю тебе право выбора. Хочешь — к мордве отвезу, хочешь — к черемисам[119] доставят. Можешь к литве дикой, ятвягам буйным, пруссам неумытым. Словом, куда угодно… кроме половцев. Туда тебя посылать никак нельзя, это все равно что козлу доверить капусту сторожить.
— Да ты как посмел?! — аж задохнулся от ярости Симон. — В своем ли ты уме, воевода?!
— Я еще не посмел, — поправил воевода. — Вот если свеча догорит, а ты ничего не надумаешь, тогда и посмею… сам за тебя выбор сделать, но уже третий. Кляп в рот, мешок на голову и в лес до первого дуба на опушке. Веревка у меня с собой, а руки аж чешутся… посметь.
— Нешто ты и впрямь веришь, что хоть кто-то из твоих людей отважится на столь богомерзкое деяние? — криво усмехнулся Симон, еще не желая признаться, что проиграл.
— Да я об этом даже и не думал, — искренно удивился Вячеслав. — Неужели я такого удовольствия самого себя лишу. Да ни в жисть. Я же твое преподобие самолично вздерну. Тем более что ты и так святую Русь целый лишний год ногами своими погаными топчешь.
— И рука не дрогнет? — уже вяло, потому что ответ он предвидел, спросил епископ.
— Навряд ли, — уверенно заявил воевода. — Разве что от радости.
— Христос тебя покарает, — попробовал пугнуть Симон, хотя тоже скорее из-за того, что не хотел сдаваться сразу.
— Он таких, как ты, фарисеями называл. Если бы он сейчас на Руси появился, то ты бы его к себе в кельи подвальные засунул бы как еретика.
— Сын мой, ведь в евангелии сказано: «Не судите, да не судимы будете», — попытался отсрочить хотя бы ненадолго свой крах епископ, но увещевания не получилось.
Вячеслав ему даже договорить не дал, перебив гневно:
— Чем такого отца иметь, лучше с тамбовским волком породниться. А насчет того, что не судите — это ты верно сказал. Тут я тебя послушаюсь и повешу без суда и следствия. Да что я тут с тобой валандаюсь, — махнул он рукой. — Я так понял, что выбирать ты не хочешь, то есть мне за тебя решать нужно? Так?
— Нет! — возопил испуганно епископ. — Во Владимире останусь. Откуда пришел, туда сызнова вернусь[120].
— Перебьешься, — усмехнулся Вячеслав. — О Владимире ты забудь, владыка. Я еще из ума не выжил — в родных пенатах тебя оставить.
— Тогда в Суздаль отправлюсь, в Покровский монастырь. Завтра же выеду, — не стал перечить Симон, надеясь только на то, чтобы этот наглец ушел и оставил его в покое всего на одну ночку.
О-о-о, это для кого другого одна ночь ничего не значит. Для Симона же она была бы самой настоящей спасительницей и избавительницей, но…
— В Суздаль так в Суздаль. Только не завтра, а нынче и сейчас, — категорично заявил воевода, почуявший неладное.
— Но собраться время нужно.
— В повозке тепло.
— Одеться.
— Ты что — голый? В рясе сидишь. Вполне хватит.
— Мне указания надо дать.
— Знаю я твои указания. Потом за тобой их еще полгода придется расхлебывать, — проворчал Вячеслав.
— Но ведай, сын мой, что ты совершаешь тяжкий грех, ибо хочешь, чтобы я принял великую схиму не по своей воле, а по принуждению, — уже усаживаясь в возок, заметил епископ.
— Еще одно слово про принуждение, и первый дуб твой, — сурово предупредил его воевода. — Я ж тебе выбор предложил, и ты сам его сделал. Сказал бы, что мордве слово божье хочешь проповедовать, так мы бы тебя мигом туда доставили. А раз выбирал добровольно, то ни о каком принуждении и думать не моги.
Вот так в Покровском монастыре града Суздаля появился новый монах, принявший после второго пострига имя старца Филарета. В стенах монастыря сей старец вскоре очень близко сошелся еще с двумя. Один был седым как лунь, хотя и с молодым лицом. Звали его отцом Аполлинарием, отринувшим, после увиденного им откровения божьего, языческое имя Гремислав. Второй, внеся при вступлении хороший вклад, устроился относительно комфортабельно и отзывался на имя Азарий. Прежнее имя, хотя тоже крестильное, которое ему дал во младенчестве отец, ожский боярин, он еще помнил, но уже смутно, будто Онуфрием звали не его, а кого-то другого.
Одной из самых любимых тем их общих разговоров была чистая христианская скорбь по завлеченной в тенета диавола и потому навсегда загубленной душе рязанского князя Константина. Скорбели о ней все трое монахов не реже раза в неделю, обычно после вечерни, после чего смиренно расходились по своим кельям, пребывая в необыкновенно умиротворенном состоянии духа.
Вообще-то великая схима, как высшая ступень монашества, при которой даже другое имя положено давать, предполагала под собой самое строгое соблюдение всех обетов. Какие беседы, когда он даже из кельи своей и то выходить не должен! Но тут уж Вячеслав был бессилен что-либо сделать, даже если бы узнал про чрезмерную снисходительность тамошнего церковного руководства монастыря, которое, будучи по натуре трусоватым, по привычке еще продолжало опасаться бывшего владыки. Не зря бывший епископ выбрал именно Покровский монастырь. Знал он, что нигде ему так хорошо и спокойно не будет, как у игумена Тимофея.
Спустя же три месяца старец Филарет взял чистый лист пергамента и написал на нем своим красивым витиеватым почерком, которым он в свое время так гордился: «Ведомо мне, божьему человеку, стало, что рязанский князь Константин, еще в младости лет пребывая, крестом православным тяготился и носити оный не желаша».
Строки, выводимые рукой привычного к письму старца, ложились на чистый желтоватый лист ровно и разборчиво, наполняя сердце монаха радостным умилением от появившейся возможности последовать старому библейскому завету: «Око за око…»
Пускай только через пятьдесят или сто лет, но написанное им непременно прочтут, и в памяти потомков останется именно то, что он сейчас пишет, а не какие-нибудь устные сказания или былины.
«Не след брати мудрому на веру те словеса, кои до его уха дойдут, ибо они суть былых лет, блуждаючи из уст в уста, изолгут вовсе, — написал он далее, на всякий случай добавив: — Мой же сказ правдив, ибо записан со слов людей, бывших самыми близкими слугами оного князя, узревшими воочию всю мерзость его деяний».
Подумав немного, он зачеркнул слово «слугами» и принялся писать дальше, все так же старательно и неторопливо. А куда спешить? Времени у него теперь было — хоть отбавляй.
* * *
И погноиша оный князь Константин мнози мужей достойных, и не щадиша такоже и духовный сан имеюща. На Симона, епископа суздальского, владимирского, юрьевского и тарусского, обличающего князя сего во многих грехах, в блуде и чародействе тайном, Константин тако же терновый мученический венец возложиша и учиниша оному епископу казнь мученическую, терзаша тело его всяко и гонениям подвергаша. Но, снеся все без ропота, епископ сей лишь господу молитву возносиша горячу, дабы не наложили вседержитель длань гневну свою на князя сего, а простиша ему грехи ево мнози, ибо по неразумию твориша он непотребства свои.
Из Суздальско-Филаретовской летописи 1236 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1817* * *
Что касается тех изысканий, которые были проведены академиком Потаповым в отношении авторов летописей, из числа тех, кто являлся современником Константина, то я частично согласен с ним…
Однако не могу не указать на некоторую скоропалительность, с которой Юрий Алексеевич поспешил зачислить в авторы Суздальско-Филаретовской летописи самого Симона — епископа Суздальско-Владимирской епархии. Я допускаю, что это был человек, который знал епископа достаточно хорошо. Не исключено даже, что он не раз общался с ним лично и потому сопереживал ему.
Но писать в таких высокопарных тонах о самом себе епископ навряд ли стал бы. Для этого надо быть слишком самовлюбленным человеком. Кроме того, если бы автором был епископ, то каким образом он смог бы написать о своей собственной казни, которую ему учинил князь Константин. Тогда получается, что эти строки писало привидение в епископской рясе.
О. А. Албул. Наиболее полная история российской государственности. СПб., 1830. Т. 2, с. 174.Глава 21 Парад-алле
Златой мне цепи не давай, Награды сей не стою, Ее ты рыцарям отдай, Бесстрашным среди бою. Ф. И. ТютчевПоследнее из радостных событий, произошедших уже осенью того же 6727 года, по значимости не очень существенное, но по своему эффекту весьма и весьма, пришлось на первую неделю жовтеня[121]. Такого жители Рязани еще не видели. Впрочем, в иных городах на Руси этого зрелища тоже раньше никогда не наблюдали. Не принято оно было.
Нет, и раньше князья-победители тоже практиковали торжественные въезды в свою столицу. И бежала вдогонку за горделиво гарцующими на своих конях дружинниками малышня-ребятня. Боязливо распахивались створки ставень в богатых теремах, чтобы боярышни краешком глаза могли увидеть молодых красавцев, украшенных свежими, еле зарубцевавшимися шрамами. Дебелые же боярыни из другого окна глядели смело, положив необъятную пышную грудь прямо на подоконник и любуясь своим седым вислоусым мужем, чей конь важно шествовал след в след за княжеским скакуном. А может, и не только мужем, но еще и сыном, да мало ли кем. Не об этом же речь, верно?
И ахали восторженно горожанки попроще, которым менее высокое положение запросто позволяло вести себя повольнее. Иные же и вовсе кидались в крепкие объятия своего единственного, будь то суженый, только нареченный или просто желанный.
И смех радостный тут слышался, и плач бабий, когда видела она у своего родного руку на перевязи. Зачастую и вой скорбный раздавался, когда на вопрос — мой-то где? — знакомцы прежние только крякали досадливо, хмурились, стыдливо отводя глаза в сторону, а вместо ответа мрачно стаскивали шапку с головы. Все мешалось.
Словом, эти торжественные въезды в город и раньше были, но проходили они все больше как-то спонтанно. Специально же организацией подобных мероприятий отродясь никто не занимался.
Ныне же все подталкивало к тому, чтоб не просто, не абы как, а иначе, построже, что ли. Поэтому, пока все пешие полки неспешно плыли вниз по течению Оки, больше любуясь рекой да радуясь возвращению и погодке разгулявшейся, княжеская ладья — одна изо всех — стрелой в Ожск летела, чтоб успел Константин все окончательно обсудить, а также прилюдно вручить первые медали и ордена. Пусть видят, как князь своих людей жалует, невзирая на то, кто они по роду-племени, а также по званию сословному.
Вечер Константин с Вячеславом, Минькой и Сергеем Ивановым потратили на то, чтобы обсудить — кому, какие и за что ордена с медалями вручать. Торопиться было необходимо, потому как к утру должны были причалить ладьи с людьми из первых трех полков, чтобы славу награждаемым громогласно кричать, а ведь к каждой из наград требовалось еще и грамотку выписать соответствующую, а на ней большую княжескую печать оттиснуть. Ну, сами-то грамотки, положим, и заранее можно было заготовить, а вот с именами да отчествами похуже — пока решение не принято, только шапку сверху и можно накатать. Хорошо еще, что обсуждали только за тех, кто из Ожска самого, а таковых не столь уж и много набиралось. По остальным же проще. По ком Константин сам решение принял, а кого-то Вячеслав назвал — прежде всего это дюжины тысяцких касалось из наиболее отличившихся полков, а также воеводы и свежеиспеченного тысяцкого ряжского полка Юрия Михайловича Золото.
Наконец были утверждены и прочие кандидатуры. Непривычно было здоровякам кузнецам и прочему мастеровому люду прилюдно выходить на середину поля, по одному краю которого стояли горожане, а на трех других сторонах выстроились муромский, владимирский и суздальский полки. Каждый из них впервые в новой роли опробовал себя еще под Ростиславлем, где после победы пришлось драть глотки в троекратном «Слава!». Только там их было шесть — сами ростиславцы в строю стояли, коломенцы по правую руку, а вои из Переяславля-Рязанского — по левую. В Коломне их так и осталось шесть — вместо ростиславского полка там встал звенигородский с тысяцким Зуйко, а вот под Переяславлем-Рязанским было уже четыре.
Ныне же только три, поскольку ратные люди ожского и ольговского полков, прибывших из-под Ряжска и Пронска, не в счет. И не обучены, и мало их, да и ходят-то еле-еле. Зато в оставшихся трех полках каждый ратник за двоих глотку драл: великая сила — привычка. Как рявкнут, так вороны, только присевшие на деревья вокруг поля, снова в полет поднимаются, возмущаясь на ходу, что люди сегодня будто с ума посходили, покоя совсем не дают.
Мудрилу же, то бишь Юрия Степина, и вовсе в пот кинуло, когда князь ему прилюдно медаль «За отвагу» на грудь повесил, грамотку вручил и поцеловал троекратно. Чуть погодя, на пиру у князя, в этот же вечер устроенном, кузнец откровенно сознался, что ему проще было бы цельный день из литейной мастерской не выходить, в жаре, копоти да саже пребывая, чем то недолгое время на поле возле князя простоять.
— Вон, погляди, княже, руки аж доселе трясутся, — показывал он стыдливо.
Константин сочувственно кивал, но хорошо видел и другое, как шел тот обратно, домой после награждения возвращаясь. Грудь колесом выпячена, а голова так высоко кверху задрана, что того и гляди споткнется кузнец обо что-нибудь. Не от заносчивости — от гордости он так шел. Когда еще такой почет будет, как ныне, чтоб ему, простому ковалю, не токмо вои оружные — сам князь прилюдно «слава» кричал.
Почитай, каждый из соседей Мудрилу останавливал и не отпускал, пока тот грамотку ему не зачитывал да не давал медаль пощупать. Иные ее на зуб пытались пробовать, но тут уж кузнец начеку был.
— Каждый будет грызть, так она и до завтра не дотянет, а мне ее еще внукам оставить надобно!
— Так, можа, она и не серебряная, — хмыкал обиженно иной.
— Дурья твоя башка, — снисходительно отвечал Мудрила. — Серебрецо-то что — оно у каждого имеется. У тебя самого, поди, одна-две гривенки припасены. Тут ведь честь главное. Она, пожалуй, дороже всего прочего стоит. Но опять-таки мыслю, что коли даже у тебя гривны имеются, то неужто у нашего князя их в казне в тыщу раз больше не скоплено? Стал бы он мне дарить невесть что, самого себя в позор вгоняя. Эх ты, тютя.
Но пока одному втолкуешь, другой с расспросами лезет. Приходится и ему отвечать. А иначе никак. Живо слух по Ожску поползет, что зазнался Мудрила сын Степин — а ему с людьми жить да жить еще. Еле-еле он к вечеру до дому добрался да отмыться успел, чтоб на княжий пир не опоздать.
Про себя, кстати, Минька и не заикнулся ни разу, когда награды обсуждали. Он даже в мыслях не держал, что друг Костя ему и Сергею Иванову не медали, а ордена приготовил.
— По блату, что ли? — спросил ворчливо, с трудом от счастливой мальчишеской улыбки воздерживаясь.
Лезла она упрямо, выползала, подлая, на лицо веснушчатое, заставляя губы кусать, чтоб не расползались они, предательницы, радость несолидную выдавая. Уж больно красив был этот орден окаянный. Странное дело, когда штамповали, он таким красивым Миньке еще не казался, зато теперь… Вязью славянской витиевато выписано: «Доблесть и мужество», а на обороте — впрочем, такое у всех наград без исключения — сам князь изображен в полном боевом облачении, а в полукруге нижнем выпукло написано: «Великий Рязанский князь Константин жалует».
— Ну, Миня, — только и сказал в ответ на его реплику князь, да и то вполголоса, чтоб никто не услышал. — Ну когда ты только поумнеешь? Ты же мне город спас. Неужели неясно, что был бы любой другой на твоем месте — и он бы такой же награды удостоился?
— Сережка, то есть Сергей Вячеславович, побольше моего там трудился, — заметил критически изобретатель. — Со стен вообще сутками не сходил. Лучше бы ты ему вручил.
— И впрямь я чего-то не подумал, — притворно вздохнул Константин. — Орден-то дефицитный. Теперь надо год ждать, пока еще один изготовят.
— Как год? — не понял поначалу Минька, но потом заулыбался — дошло до парня.
А Сергей же приятно удивил тем, что строго ответил князю, едва тот его расцеловал, «Доблесть и мужество» вручая:
— Служу Руси святой!
— Вот это орел! — восхитился Вячеслав. — Никто ж не учил, а он почти по уставу шпарит, хотя и ненаписанному еще. Тысяцкий, как есть тысяцкий.
— Э, нет, воевода, — поправил его нерастерявшийся Сергей. — Я человек вольный. Просто Руси на любом месте послужить хорошо можно.
Словом, замечательно все прошло. Может, оно и получше можно было бы организовать, но и так недовольных не было.
Прощаясь же и торопясь в Рязань, чтоб непогода в пути не застала, Константин уже на пристани заметил Миньке с Сергеем:
— Пора на полный ход монетные цеха включать. Там для вас завтра ладьи подойдут с весовым серебром. Принимайте строго по описи и приступайте. Теперь вам надолго хватит — сто двадцать пять пудов плывут. В первую очередь крупную монету чеканьте — мне их своим воякам раздать надо, ну и семьям, где люди погибли, — тоже. Так что побыстрее, если можно.
— Сделаем, княже. До первопутка успеем, — солидно кивнул Сергей, и орден на его груди тоже блеснул, будто за хозяина поручался.
В Рязани же и до всех прочих очередь дошла. Поначалу медали раздавали. Не забыли и спецназовцев. Жданко и Званко — двоим, особо отличившимся при взятии столицы Переяславского княжества, — тоже «За отвагу» достались. Доказали на деле парни, что не только на шалости да проказы способны, от которых купцы стоном стонали[122].
Ох и радовался за товарищей Николка Панин. Чуть ли не больше их самих ликовал. Только в душе совсем немного, самую чуточку, на судьбу посетовал — был бы он там, может, тоже сейчас посреди поля стоял, счастливый и довольный. А потом отмахнулся беззаботно — а может, и не стоял бы. Нешто тут угадаешь.
И снова вместе со всеми троекратное «Слава!» кричал, когда медали норвежцам раздавали, не уставая каждым из них восхищаться — и Туре Сильным, сыном Борда Упрямого, и Старкадом по прозвищу Семь Узелков, и Торлейфом Теплым Чулком, и Эйвандом Шестипалым и пятым из их компании Свеном Отважным. Это те, кто лучше всего в дружине бились. Да и всем прочим, кто князю уйти подсобил и от верной смерти его спасал, медали достались. Но не только им одним.
Ныне князь щедр был на награды. Рясское поле тоже забывать не след. Тем, кто там лег навечно, дьячки в церквях «Вечную память» пропоют голосами гнусавыми, а кто выжил, вечную славу себе снискал. Среди таковых первыми по праву ростовчане были — Добрыня Златой Пояс, Александр Попович, Нефедий Дикун и еще человек пять из бывшей богатырской дружины. Им князь «Мечи славы» вручил. Но не только им одним — еще человек двадцать, включая недавних черниговцев — Басыню с Грушей, — тоже медалей удостоились.
А вон и молодой совсем вышел. Спехом кличут. Смущается парень, сразу видно. Непривычно ему почести принимать. Это там, на поле брани, он ничего не боялся. Но ему «Меч славы» не вручишь. Он в азарте боевом свой вовсе откинул и бревнышком, с земли подхваченным, половцев крушить принялся. Ему награду с иным названием вручили — «За отвагу».
В том месте, где стояли эти трое, тонкая нитка воев хоть и прогнулась изрядно под напором степняков, но устояла. Вот и вручал князь сейчас награды тем, благодаря кому не был прорван русский строй.
Приближенные князя тоже почестей удостоились. За что — Константин Володимерович как-то туманно сказал, но, зная его, хоть и немного, Николка уверен был — тоже по праву. Просто так он бы раздавать не стал. Видать, изрядный вклад и дружинник Любим, и княжеский тиун Зворыка, и купец Тимофей Малой внесли в победу общую.
Потом дело до орденов дошло. Первый, кому «Честь и верность» вручили, на сей раз не из русичей — из булгар был. Сын хана Абдулла-бек, союзнический долг выполняя, пришел в трудный час со своими воями на выручку рязанскому князю, так что и тут никаких споров быть не может.
На этот раз с Абдуллой всего с десяток человек было, да и сам ханский сын держался скромно, хотя и с достоинством. Одет, правда, был не по-нашенски, да ведь это только встречают по одежке, а чуть погодя совсем иное ценить начинают. Вот за это «иное» и удостоили сегодня булгарина русской награды. Правда, не все из горожан правильно поняли — перешептываться начали, хотя он ведь, по сути, именно их и защищал в первую очередь, напрочь перекрыв неприятелю проход по Оке. Зато полки не подвели — «Славу!» провозгласили дружно, хотя тоже не так, как могли бы.
Но это чуть погодя выяснилось, как они на самом деле могли, когда для вручения награды бирюч громко выкрикнул имя великого рязанского воеводы Вячеслава Михайловича. Тут уж вои троекратное «Слава!» не крикнули — взревели просто.
— И первым орденоносцем ты стал, старина, а теперь и первым кавалером орденов двух степеней, — заметил Константин, напоминая про осеннюю награду за Коломну. — Гордись, «русский богатырь».
— Такими темпами начнешь их мне на шею вешать — скоро все кончатся. Придется завязать с победами ратными, — вздохнул сокрушенно Вячеслав.
— Я тебе завяжу. Ишь какой, — пригрозил Константин, обнимая друга. — Я лучше новые придумаю, специально для тебя.
— Ну, тогда ладно. Повоюем еще, — миролюбиво согласился воевода.
Едва шум на поле немного утих, как бирюч другого воеводу выкрикнул, на сей раз ряжского. Тут помимо полков особенно горячо рязанцы ликовали — они-то уж все знали, благодаря кому ворог к столице княжества так и не пошел. Вот он стоит, герой, воевода Юрий Михайлович Золото, а вон и второго вызвали — тысяцкого пронского полка Истреня.
Тому тоже несладко пришлось. Мало того что половцы стены штурмуют, так еще и с водой туго. Ратным людям на день строго по ведру[123] на десятерых отпускалось — не больше. Не то что умыться — напиться и то с трудом хватало. А они держались и выстояли. Вот это да! И впрямь богатыри русские, да и только!
Затем тысяцкие пошли, чьи полки били под Ростиславлем сводные дружины прочих князей и храбро стояли на Рясском поле против степняков, не давая им прорваться. И снова первым из них стал ростовчанин Лисуня. Козлика, который всего с двумя сотнями устраивал под Ростиславлем лихие набеги на врагов, удостоили ордена «Быстрота и натиск». Такой же достался и викингу по прозвищу Заноза. Доказал тот, что не только языком лясы точить умеет, но еще и свою конную сотню лихо в атаки водит.
А потом… Потом Николка и сам не понял, что получилось, но кто-то его имя выкрикнул, да еще и указал, что, мол, вой сей из особой сотни. Николка даже головой покрутил — кто же его позвал так не вовремя, не давая славное зрелище до конца досмотреть. Не нашел никого и успокоился — видать, послышалось, а если и нет — беда невелика. Надо если, так еще раз позовет. И точно, совсем немного времени прошло, как позвали его во второй раз. В тишине, наступившей на площади, имя его особенно отчетливо прозвучало. Неужто опять послышалось? Но тут уже и товарищи сзади шикать на него начали да вперед выталкивать — иди, мол! Чего стоишь, как пенек?!
А Николка все равно не поймет — куда идти-то ему? Нешто в середку саму, так там лишь князю гоже быть и награждаемому очередному. Лишь потом до него постепенно доходить стало, что это его самого сейчас требуют. Ну, точно. Вон и князь, в его сторону повернувшись, машет приветливо. Мол, поспешай, парень.
Николка бы поспешил, да ноги клятые, как колоды дубовые, совсем слушаться не хотят. Но поднапрягся чуток и заставил их потихоньку переступать. Так что не пошел он к князю — поплелся скорее. Только зачем — непонятно.
А тот уже за цепь златую ухватился. Вот беда так беда. Сейчас глянет в сторону Николки и спросит недоуменно: «А ты чего вышел сюда? Кто тебя звал?» Ох, и позорище будет! И товарищи его хороши — нашли время шутки шутить. Разве так можно со своим-то?
«Ой, а князь уже приближается. Убежать бы, да сызнова ноги одеревенели. Ну, все, попал ты парень, яко кур в ощип… «Доблесть и мужество» на меня почто надеваешь, княже?! Чего творишь-то, не подумав?! Глаза свои раскрой! Я ж Николка, который, как дурак, половину лета на мягких шкурах телеса наедал в Ростиславле. В этом, что ли, мужество мое?! Одно лишь припомнить можно — как бродили втроем по лесу. Так за такое и этой, как ее, медали не положено давать. Оно и само по себе почет великий. А как беда пришла, так я в первый же миг стрелу себе в грудь схлопотал. Какая же тут заслуга?! В чем она?! Ага! Говорит чего-то князь-батюшка. Ну-ка, ну-ка».
— Этот вой ныне такую честь заслужил, потому что, ежели б не он, не стоять сейчас Ростиславлю. Да и прочие города на земле рязанской пали бы, прежде чем мы с силой собрались. И его немалая заслуга в том, что ратей у ворогов уже на Угре более чем наполовину поубавилось. Лучшие самые с мечом к нам так и не пришли.
Ну вроде бы и русским языком князь говорит, а Николке все одно — темный лес.
«Это как же я так лихо рати вражеские поубавил аж вполовину, что сам только ныне о том узнаю, княже, — хотел спросить Николка, да язык перестал слушаться. — А ну постой-ка, погоди. Да уж не про Мстислава ли Удатного речь зашла? Тогда, конечно. Тогда… все равно не ясно. Я-то тут при чем?! Кто с ним речи вел, кто увещевал его мудрыми словами — я, что ли? Ты же сам все это и проделал с ратями, князь-батюшка! Ты их уполовинил-то! Почто ж ныне грех с себя снимаешь, да на чужие плечи кладешь?! То есть не грех, а как бы даже напротив — заслугу, но все равно не прав ты, княже. Как есть не прав».
Сам-то Николка всего и делов, что до Удатного прогулялся да на встречу его позвал. Так и то ему бояться нечего было. В чем тут доблесть-то? Неужто забыл князь, как сам на своего воя заклятие могучее накладывал и аж упрел весь от трудов тяжких? Кто же его, Николку, после такого заговора тронул бы. И ведь про все успел вспомнить, на все слово наложить, да еще как складно. Почто ж он об этом молчит?! Или если сказать так, то выйдет, что он за сущую пустяковину красоту эту Николке на шею повесил?! И впрямь негоже тогда получится. А как ему, Торопыге, теперь быть?
«Нет, княже, ты себе как хошь, а все едино — не прав. Ой, какой же он блестючий-то! Надобно его снять да назад вернуть. Нынче же. Вот через час малый или через два-три… я его и сниму, — твердо решил парень. — Ну, или к завтрему — это уж край. Сверкает-то как! Будто золото горит! Ах, ну да, он же и есть из золота. И что-то там на нем такое интересное выбито. Слова даже какие-то есть. С грамотой вот не ахти у меня. Разумею малость, но не шибко. Ах, ну да, сам князь его назвал «Доблесть и мужество». А на обороте что?»
Нет уж, не серчай, княже, но денька три Николка у себя его еще подержит, пока надпись не одолеет. Оно понятно, что не по заслугам, но прочитать-то хочется. Опять же грамотку врученную тоже хотелось бы самому осилить. На все про все седмицу клади — не меньше. А опосля возвернем непременно — нам чужого не надобно.
И еще в гости заехать бы. Есть тут одна остроносенькая. Сама-то худенькая — смотреть не на что, кожа да кости, а вот глянется отчего-то. И имя славное — Радомира. Радуется она, стало быть, миру. А скорее мир ей — уж больно красивая. Словом, правильное у нее имечко. Поп-то ее Ириной нарек, но крестильное имя сердцу ни о чем не говорит, а вот Радомира — самое то. Перед ней бы гоголем пройтись, чтоб ахнула изумленно и порадовалась немножечко за него, Николку.
Опять же по селищу родному тоже прогуляться не помешает, да брату Алешке с матерью дать порадоваться за своего старшого. А то она все расстраивалась да переживала, когда Николка из ополчения вместе со всеми не вернулся, а заместо того в особую сотню при самом воеводе угодил. Хотя что уж тут. Оно и понятно. Матери, они завсегда такие.
А вот про заговор, который на него князь наложил, он ей ни за что не скажет, а не то мигом к попу потащит, дабы тот бесовские слова снял. А по его, Николкиному размышлению, какая там разница — кто именно его на небесах от смерти в бою защитит. Раз они там, наверху, сидят — значит, все боги, то есть светлые. Лишь прозываются по-разному.
Да и про рану ей тоже знать ни к чему. Сызнова плакать учнет. У нее и так после отцовой смерти глаза частенько на мокром месте. А того она не поймет, что шрамы, как воевода сказывал, украшают воина. Да Николка это и без него отлично знал. Сам чуть ли не с первого дня, едва только в сотне очутился, как о боевых рубцах мечтать принялся. Пусть малюсеньких, но на видном месте.
Сейчас-то все уже — заполучил, причем на груди, лучше места и не придумать. Конечно, сабельный или от меча намного краше бы смотрелся, но Николке и такой сойдет. Получается, что теперь у него все имеется — и шрам, и даже орден.
Нет, княже, раз твоя промашка — стало быть, только через две… ну, от силы, три седмицы возвернет его тебе Николка. Да чего мелочиться — месяц кладем на все про все, а там… там посмотрим.
А Константин уже заканчивает говорить. Теперь на пир всех приглашает, а награжденных просит за свой княжеский стол. Кстати оно для Николки. Уж очень ему захотелось еще один вопрос князю задать, прямо язык зачесался. Вот на пиру и… Или сейчас спросить, пока одни посреди площади? А-а, была не была.
— Княже, а ты-то как же? — выдавил из себя тихонечко, но Константин услышал, поближе подошел, взглянул непонимающе.
— А что я? — переспросил.
— Ну, с орденами этими, — заторопился Николка. — Кто Мстислава Удатного уйти уговорил — нешто не ты? Я-то лишь позовником послужил, да и то с твоим заклятьем бояться нечего было. А потом ты и Ростиславль боронил крепко, опять же и рвы выдумал тайные, и много еще чего измыслил. Да и в лесу потом… Думаешь, я не понял, что ты от всех прочих беду отводил? Я бы сразу сказал о том, еще тогда, но ты меня с собой взять согласился, потому лишь и промолчал. Да тебе, если подумать, не один, а враз два их на шею повесить надобно.
— Я — князь, Николка. Это обязанность моя — землю от всех ворогов беречь, да еще судить по совести татей и прочих умышляющих, — медленно, чуть улыбаясь, произнес Константин. — Так что я лишь свой долг исполнял, не больше. А ты смелость проявил, отвагу. Ведомо ли тебе, что у нас, оказывается, всего одна ночка и была для той встречи. Упусти мы ее — и все. А упустить запросто могли, если бы ты не расстарался. Так что твое у тебя на груди по заслугам. Иди, покрасуйся перед Радомирой. До пира времени еще много, так что успеешь.
Вот тут Николка чуть не ахнул. А про нее откуда князь знает? Это ж тайна сокровенная, в которой он даже самому себе сознаться стесняется. Хотя если Константин Володимерович с силами неведомыми знается, то тут тоже дивиться нечему.
— Да видел я разок, как у тебя глаза горели, когда ты на нее смотрел, — печально усмехнулся Константин, ответив на молчаливый вопрос, светившийся в простодушных глазах парня. — Так что иди — беги быстрее к ее крыльцу и… будь счастлив. За двоих будь, — добавил он почти шепотом. — За себя и за меня.
— В сердешных делах каждый токмо за себя счастлив может быть, — возразил робко Николка, не поняв грустной княжеской иронии.
— Ну что ж, тогда за себя одного попробуй, — не стал спорить Константин.
Вопрос же, который по своей наивности паренек задал, Константину только за этот вечер еще два раза выслушать довелось. Один раз — когда его, смущаясь, Юрко Золото задал. Ну, с ним полегче. От Вячеслава же так легко не отделаешься. Друг Славка иногда самым настоящим репейником становился.
— Ну хорошо, — вздохнул Константин. — Вот тебе, воевода ты мой верховный, кто орден вручал?
— Ты, разумеется, — даже удивился столь наивному вопросу Вячеслав.
— А изображен на нем кто?
— Тоже ты.
— А теперь ответь — мне его кто вручать будет, а? Ты представь, представь себе эту картинку. И тебе не кажется, что в этом случае по сравнению с моей дурью четыре геройские звезды Брежнева просто побледнеют?
Вячеслав представил. Но спустя минут пять — сразу, как только руки от живота убрал и икать от смеха перестал, — рацпредложение внес:
— А давай мы специальную медаль, нет, лучше орден, состряпаем, но на обороте карту Руси вместо тебя выбьем и напишем что-то типа «Князю Константину — от благодарной Руси». Нет, а чего — здорово же будет?
И так Вячеслава эта новая идея захватила, что Константин понял — так просто ему от друга не отделаться и не отшутиться. Не хотелось, а пришлось тайную причину назвать.
— Вот ты за эту войну сколько душ погубил? — спросил для начала.
— Ну, началось, — иронично присвистнул главный воевода. — Ты, часом, в прокуратуре не подрабатываешь, княже?
— Не понял, — искренно удивился Константин.
— Чего ж тут неясного. Комитет солдатских матерей тебе разве на меня заявку не делал? Или ты и сам не знаешь, что войны без жертв не бывает. Да, мог я мир с половцами заключить. Тогда бы, разумеется, последние сотни погибших в живых бы сейчас были. Зато что потом? А потом…
— Дурак ты, Славка, и уши у тебя холодные, — перебил его Константин. — Я тебя ни в чем не виню. Наоборот, я в восторге, как ты время тянул, силы на Рясском поле стягивая. Классика. Суворов лучше тебя не развернулся бы. А хребет половцам ломать было нужно — с этим вообще глупо спорить. Вот и получается, что все погибшие ушли из жизни не по твоей вине. Ты все, что только мог, со своей затяжкой времени для них сделал. Зато у меня картина иная. Если бы я не зарвался, то минимум сотню с лишним шикарных ребят уберег бы.
— Вначале ты тысячу уберег, — возразил Вячеслав. — Нет, даже не так. Одним тем, что ты Мстислава Удатного уговорил — не одну, а все десять тысяч сохранил. Добавь к этому аферу со своей казной. Это тоже тысячи, а то и десятки тысяч мужиков да баб. Половцы запросто до Рязани бы дошли, если бы не ты. Теперь от итого числа минусуем полторы сотни и получаем… Семь на восемь множим, а потом на три с четвертью… Словом, до фига получаем, причем со знаком плюс. И вообще — ты на пиру или кто? Улыбайся, княже, на тебя ж народ глядит. Кстати, ты новую балладу Стожара о своих деяниях не слыхал? — заговорщически шепнул он другу.
— Да нет, — удивился Константин. — А что, уже есть?
— Он меня спрашивает, — тут же надел воевода маску старого одесского еврея. — Он задает вопрос, хотя тут надо только слушать. Конечно, я могу изложить ее краткое содержание, но разве ж у меня получится перевести глубинный смысл поэзии на будничный язык банальной прозы. Я буду только размазывать белую кашу по чистому столу, и ничего хорошего из этого таки не выйдет.
— А ты попробуй, — предложил Константин.
— Ну, только если совсем немного, — кокетливо заметил Вячеслав. — Так вот, дело было так. Сеча. Идет бой между твоей дружиной и Ярославовой. И вдруг… — дальнейшее он изложил на ухо другу.
Через несколько секунд оба весело смеялись.
— Но вообще-то это больше порнухой какой-то отдает, — вытерев выступившие слезы, заметил Константин.
— Зато в каком выгодном ракурсе ты, и в каком невыгодном свете, точнее позе, он, — возразил Вячеслав. — Ты погоди, погоди. Про вас с ним скоро вообще анекдоты рассказывать станут. Будете такая же сладкая парочка, как Брежнев с Никсоном или Горбачев с Рейганом.
— Или Чапаев с Петькой, — добавил князь.
— А что? Между прочим, замечательная идея, — не стал спорить воевода. — Но на данный момент у меня есть соображения получше. Надо подойти к Стожару и тихо попросить, чтобы он исполнил твой бледный пересказ текста о ведьме и ведьмаке в своей яркой и образной литературной манере. Пошли, пошли, — потащил за собой друга Вячеслав, приговаривая на ходу: — Я знаю, что если попросишь ты, то он железно не откажет…
Но веселились ныне не только в княжеском тереме. Ликовала вся Рязань. Да что там Рязань — от невиданного урожая, который будто кто и впрямь наворожил, по всем селищам народ пьяный от радости ходил. Опять же все дела закончились, горячие денечки в поле позади — чего не повеселиться? К тому же не просто так, а на веселых свадебках, кои завсегда об эту пору устраивались.
О том же, что там потом грядет, мало кто задумывался. Пословицу, по которой день прошел и слава богу, не вчера выдумали — давным-давно.
Да и не у народа о грядущем голова болеть должна, а у князя — ежели он настоящий, конечно. Им-то что, под Константином грех жаловаться — самый всамделишный попался, как есть доподлинный. Вон как лихо всех одолел, включая половцев. Теперь надолго забудут поганые, как по рязанским землям бродить. А это значит что? Да то, что можно жить спокойно.
Коли уж и степняки укорот получили, то теперь и вовсе бояться некого. Изо всех ханов только один и остался в силе — Данило Кобякович. Да и тот в шуринах у рязанского князя, который в это лето так ему угодил, что лучше некуда. Не зря половецкие пастухи прямо перед осенней грязюкой сразу два табуна к Рязани пригнали, и в каждом не меньше тысячи голов. Отдарился, стало быть, Данило Кобякович.
А за что, о том старший над пастухами сказал, передав рязанскому князю изустно слова хана:
— Ныне весь Дон твой, княже. Володей. А мне и остальных пастбищ в степи хватит. Просторно сейчас в ней. На славу ты потрудился этим летом. Теперь живи да радуйся на долгие лета.
Слова эти мигом по всему княжеству разлетелись, присказкой стали. То и дело их повторяли:
— Живи да радуйся.
Это в перерывах между песнями звонкими да плясками бесшабашными на свадебках веселых.
К тому же и епископ новый, владыка Мефодий, который по осени на Рязань прибыл, об этом говорит. «Бог есть любовь» — доподлинные его слова.
А уж кому-кому, а ему виднее. Чай, он к вседержителю поближе иных прочих стоит — зря не скажет. Это у него чин новый да имечко поменялось из-за сана монашеского, а сам он хорошо всем известен. Давно уже о нем добрая слава по всему княжеству идет. Такого не грех и послушать сходить, и куну лишнюю в церковную кружку опустить, и поступить, как он советует.
А раз бог есть любовь, то что это значит? От земной-то любви до венца — шажок малый. Иначе-то нельзя, потому как это уже блуд, срамота и грех смертный будет. Венец же, в свою очередь, свадебку означает. Вот мы и сызнова к тому же самому пришли. Получается, что не просто так народ веселится, а по божьему благословению.
Лоб же морщить о том, что какая-нибудь напасть может в следующее лето приключиться, непривычно, да и ни к чему.
И вообще, чего зря креститься, если гром не грянул?
* * *
Константин же вовсе стыд утеряша, с той диавольской печати своей учал отиск делать и оным отиском учиниша своих людишек клеймити, аки скотину, души их диаволу в нети вручахом. Те же, яко овцы неразумны, сии отиски, видом яко кругляки, носища на шее явно и хваляся оными пред прочими.
Из Суздальско-Филаретовской летописи 1236 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1817* * *
Наидостойные же самы из воев особы гривны в дар получиша яко награды, а к им грамотку особь, в коей реклось, за что оное дадено. И не зриша он, кто из людишек боярин набольший, а кто смерд голимый, ибо тако рек: «Не звание красит человека, но дела его».
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1760* * *
Трудно сказать, где именно произошло первое вручение наград, но, скорее всего, под Рязанью. Надо сказать, что в этом деле Константин превзошел самого себя и поставил все так, что система дальнейших награждений осталась практически неизменной вплоть до наших дней — уникальный случай. Демократичность же вручения наград вызывает просто восхищение. Были напрочь отринуты все сословные предрассудки.
Так, были удостоены, причем не медалей, а орденов, некто Торопыга или в крещении Николай, по прозвищу Панин или Панич (в разных летописях оно указывается по-разному), изобретатель Михалко Юрьевич и его помощник Сергей Вячеславович Иванов.
Сами грамоты до нас не дошли, но и без того ясно, что вручены они были тому же Панину за беспримерную храбрость в бою, где он, надо полагать, одолел даже не одного, а сразу нескольких князей. Остальные двое, по всей видимости, удостоились наград за выполнение каких-либо очень важных княжеских заказов, связанных с вооружением.
Разумеется, не остались обойденными и многие тысяцкие. Хотя ордена получили не все из них, а только самые-самые, чьи имена, вроде того же Юрко Золото или Искрена, прочно вошли в российскую историю.
Говорят, что это были великие времена. Позвольте мне с этим не согласиться. Таковыми они стали, а точнее, таковыми их сделали люди, которые тогда жили, возвысив их до собственного величия.
На этом я и заканчиваю первую часть своего второго тома, ибо Рязанское княжество почило в бозе, а речь теперь пойдет о Рязанской Руси.
О. А. Албул. Наиболее полная история российской государственности. СПб., 1830. Т. 2, с. 180.Эпилог Гроза надвигается
Но срок настал, пришло Их время — это было под хвостатой звездой, Когда небо опрокинулось, и сбылись слова древних строк… Они вышли под дождь, — выжигая все вокруг и наслаждаясь войной. О. ПогодинаВ юрту, которая была чуть повыше и побольше размерами, чем остальные, стоящие рядом, стремительно нырнул крепко сбитый монгол лет сорока.
— Ты снова мыслишь, Субудай-багатур, — спросил он почтительно, но с легкой долей иронии у одиноко сидящего в ней пожилого человека.
Очевидно, жизнь его была нелегка. Об этом наглядно свидетельствовал крепко зажмуренный левый глаз и скрюченная правая рука.
— Ты прав, мой умный Хур, — откликнулся Субудай. — Я мыслю, в какую ловушку ты залезешь снова, чтобы придумать, как тебя оттуда извлекать.
— Це, це, це, — защелкал языком вошедший. — Будь осторожен в своих словах, словно лошадь, идущая по весеннему льду. И потом, сколько раз мне приходилось убивать воинов, случайно услышавших, как ты меня назвал Хуром? Ты не считал? Так я тебе скажу — четырежды. Почему ты не хочешь называть меня так же, как все, — Джэбэ?
— Хур короче, — веселился одноглазый. — Но зачем ты сердишься? Разве ты не знаешь, что в гневе и прямое становится кривым, и гладкое — сучковатым?
— Зато я знаю, что ягненок на вертеле от жара огня источает жир, а печень человека от обиды — желчь, — хмуро заметил Джэбэ. — После разговора с тобой мне впору не выходить из своей юрты целый день, потому что я чувствую, как моя желчь растекается по всему телу.
— Если любишь мед, зачем жалуешься на укусы пчел. Нравится, когда тебе льстят в лицо, терпи и правду, сын певца, — насмешливо ответил Субудай. — А то ты как дикий жеребец, на которого первый раз надели седло, — тут ему тянет, там давит, в одном месте натирает, в другом — болтается. Лучше говори дело.
— Мы разбили этих диких горцев, что неслись на нас подобно стае бешеных собак. Теперь дело за их городами, но ты почему-то не хочешь идти туда.
— Я люблю степь и не люблю горы, — перестал улыбаться Субудай. — Если повелитель вселенной скажет свое слово — я пойду туда, хотя любви к ним у меня все равно не прибавится. Но он его еще не произнес, а караван, который сворачивает с проторенных путей, может заблудиться.
— У нас сейчас все пути нехоженые. Любой из них — дорога в неведомое, — упрямо возразил Джэбэ. — Зато в другой раз они смогут лучше подготовиться для встречи непрошеных гостей.
— Тогда мы им напомним, как поступают гости с нерадушным хозяином — только и всего. Кроме того, мы уже перерубили у бочки обруч, так что рассыплется она сама. Что же до нехоженых путей, то тот, что ведет в горы, вряд ли подойдет нам. Хороших пастбищ нет ни по дороге, ни в конце ее. Так зачем нам нужен этот путь?
— Слишком острый кинжал может повредить даже собственные ножны. Не думай, что ты умнее всех — это всегда плохо заканчивается. А знаешь ли ты, что пока мы тут отдыхаем, царь гурджиев[124] Лаша уже собрал все свои тумены и сейчас собирается выйти нам навстречу?
— Значит, я был прав, как и всегда, — хладнокровно заметил Субудай. — Зачем пауку идти за мухой, когда она сама летит в его паутину?
— Это очень большая муха, — буркнул Джэбэ.
— Тем больше почета пауку, — усмехнулся одноглазый полководец. — Коршун может закогтить жалкого зайца, но только орлу под силу поднять с земли ягненка. Мы все сделаем точно так же, как и прежде. Я пойду немного вперед, а ты сядешь в засаде. Когда я отступлю, ты ударишь по ним сзади, и мы расколем их, как камень раскалывает сладкую мозговую кость. Мы так часто это делали, что становится скучно, а потому меня больше заботит то, какой путь нам избрать потом, ибо помни, что повелитель вселенной назначил нам быть не одора[125], а хоорцах[126].
— Я этого никогда не забывал, — хмуро возразил Джэбэ. — Так какой же путь ты видишь перед нами и видишь ли вообще? — зло усмехнулся он, намекая на левый незрячий глаз своего собеседника.
— Даже одним своим глазом я вижу этот путь лучше, чем ты двумя, — хладнокровно парировал его наскоки Субудай. — А вот хватит ли у тебя смелости следовать за мной?
— Я не трус! — разозлился Джэбэ.
— Этого никто не говорил, — спокойно сказал одноглазый. — Не бери горячую головешку из костра — обожжешь пальцы. Бери лучше пример с меня — я пью кумыс и думаю. Опаздывать недопустимо. Спешить — еще вреднее. Лучше всего приходить вовремя и в нужное место. Мы пойдем берегом моря, пока не минуем горы.
— Но там стоят железные ворота[127], — возразил Джэбэ. — Как ты их пройдешь?
— Мы их пройдем, — сделал ударение на первом слове Субудай. — Мы, а не я. Один конский волос порвать легко, но если свить из них веревку… Хотя зачем я рассказываю, будто ты сам не знаешь, как прочны наши арканы.
— Хорошо, а дальше?.. — заинтересовался польщенный Джэбэ.
— Дальше нас ждут пастбища, где много сладкой травы и еще более сладкой воды для усталых монгольских коней.
— И там никого нет? — помолчав, уточнил Джэбэ.
— Я надеюсь, что там кто-то есть, — равнодушно заметил Субудай. — Там должны пасти своих коней наши будущие слуги. Только они об этом пока еще не знают, но разве тут есть наша вина? Скорее это их беда. — И засмеялся сухо и безжизненно.
Затем так же внезапно оборвал свой смех и добавил равнодушно:
— Когда придет время и мы сочтем нужным, то непременно известим их об этом.
— А потом?..
— Останется самая малость. Надо будет только проверить, кто живет в опасном соседстве с нашими будущими пастбищами.
— В опасном для кого? — не отставал Джэбэ.
— Конечно, для них самих, — хмыкнул насмешливо Субудай. — Но они этого тоже еще не знают. Возможно, что и мы сами не будем им пока об этом сообщать. Ни к чему предупреждать волка, что ты натянул тетиву, иначе он может прыгнуть раньше, чем ты ее спустишь. Повелитель вселенной еще не решил, куда ему устремить свой взор завтра. Наше дело — рассказать ему о тех народах, которых мы встретим на своем пути, и тогда он будет выбирать.
— А если он решит посмотреть не туда. Получится, что все напрасно?
— Разве ты не знаешь, что покоритель народов редко смотрит подолгу в одну сторону. Чаще ему достаточно одного беглого взгляда. Если он не посмотрит в сторону этих пастбищ завтра, значит, это случится послезавтра — только и всего.
— Ты уже знаешь, кто там живет?
— Купцы из Хорезма рассказывали, что в верховьях реки Итиль[128] живут их единоверцы, которые именуют себя булгарами, а рядом с ними обитает другой народ — русичи. Они более многочисленны нежели булгары, но совсем глупы. Их князья враждуют даже друг с другом.
— С глупыми хорошо воевать. Они будут радоваться тому, как мы бьем их соседей, а потом, как покорные овцы, сами подставят жирные шеи под наши острые сабли, — рассудительно заметил Джэбэ. — Хотя если они храбрые, то с ними придется немного повозиться, как с волком, когда мы делаем большую охоту.
— Но тут главное, чтобы у этих волков не появился вожак стаи, — в тон ему добавил Субудай.
— Ты хочешь сказать, что когда у них появится вожак, то они осильнеют настолько, что…
— Я хочу сказать лишь то, что если у них в стае появится вожак, то нам придется потратить на них чуть больше времени и сил, — резко перебил своего собеседника Субудай. — И это все, что я хочу сказать.
— Когда мы выступаем? — после некоторой паузы виновато спросил Джэбэ-нойон.
— Через два дня. Я думаю, что наши воины уже успели насытиться горянками. Теперь пора проверить, какого цвета тела женщин у тех народов, которые попадутся нам на пути. И скажи своим нукерам, что мы пойдем налегке, — уже у выхода из юрты остановил Субудай своего собеседника. — Я не люблю, когда излишняя добыча отягощает воина. В этом случае он думает уже не о новых победах, а о том, как бы сохранить то, что ему удалось награбить. Сытый человек — ленивый человек, только у голодного есть волчий азарт погони.
— Я предупрежу их, сказав о твоем мудром совете, — кивнул Джэбэ и вышел.
— Ну-ну, — презрительно проворчал Субудай. — Как не натаскать решетом воды из реки, утеряв все по дороге, так и все мои мудрые советы превратятся в твоей пустой голове в обычную глупость, мой маленький Хур. — И он залился каким-то странным булькающим смехом.
Правый глаз его, правда, не смеялся. Он всегда был неподвижным и холодным. Ни тени азарта, ни капли риска — только холодный трезвый расчет, помноженный на цинизм жизненного опыта.
Вот левый, который был постоянно прищурен, отчего казалось, будто владелец все время пребывает в игривом расположении духа, иногда и впрямь вводил людей в заблуждение. Особенно если он показывал его лишь на мгновение одним легким поворотом головы. Ощущение того, будто старик тебе подморгнул, подбадривая, было полнейшим. Зачастую Субудай любил так пошутить с тем, кто уже был обречен на смерть, но еще не знал этого. И не обязательно приговор выносил Чингисхан. Иногда это делал и сам Субудай, предварительно обнадежив жертву.
Это было интересно — как-то разнообразило жизнь, внося в нее маленький элемент игры. Совсем крошечный, почти ничтожный, но очень забавный, а старый полководец повелителя народов очень любил иногда позабавиться.
Своего напарника по походу Джэбэ-нойона Субудай-багатур презирал еще и за то, что подобного рода радости и розыгрыши были ему чужды — слишком прост и слишком горяч он был. Сразу видно низкое происхождение и захудалый род, из которого в лучшем случае мог выйти только храбрец, но никак не настоящий полководец. Да и тумен-то свой он не утерял лишь потому, что рядом с ним всегда был бдительный и хитрый Субудай, который вовремя поспевал на выручку и выручал глупца из множества бед.
Но симпатизировал темнику он за то же самое, то есть за простоту, горячность, а еще за те чувства, которые вскипали у Джэбэ всякий раз, едва он только слышал свое подлинное имя. Сколько из него тогда выплескивалось ярости, ненависти и злости — ух! А это так забавно.
Веселее этого могли быть только стоны поверженных врагов, сладкий дым пожарищ да еще приторный запах крови. Кстати, а ведь Джэбэ прав — что-то давненько Субудай не ощущал всего этого, почти целых десять дней, с тех самых пор, как взяли Мерагу[129].
Значит, и впрямь пришла пора сниматься с мест. А чего тянуть — впереди ждут новые места, новые народы и страны. Точнее сказать, не ждут, но так даже веселей. Когда тебя не ждут, а ты приходишь, получается особенно забавно.
— Кху, кху, кху. — Он тяжело встал с места, инстинктивно подражая своему великому повелителю, такой же косолапой походкой на коротких ногах просеменил к выходу и осторожно отодвинул полог.
«Ага, тепло, хотя и не так, как в нагретой солнцем юрте. Стало быть, я все правильно решил, назначив срок выступления на послезавтрашний день».
Субудай еще раз жадно втянул в себя терпкий запах распустившихся почек и молодой зелени. Хорошо. Легкий ветерок, тянувший откуда-то с севера, был не совсем обычен. Присутствовало в нем что-то такое, немного смущавшее старого полководца, причем объяснить это словами он, пожалуй, так и не смог бы.
Одно Субудай знал точно — были в нем какие-то еле уловимые новые оттенки, до того ни разу ему не встречавшиеся.
— Це, це, це, — поцокал он, зажмурившись.
«А чего тут думать? Мы и сами все узнаем, когда придем на место. Хотя тогда все эти запахи перебьет запах крови врагов, пьянящий сердце любого настоящего воина», — подумал он с легким сожалением и даже сам невольно удивился тому странному чувству, которое, пусть и ненадолго, но охватило его.
* * *
Весной года ген-чень[130] по китайскому календарю, на десятый день третьей луны[131], тумены Субудай-багатура и Джэбэ-нойона стали медленной ленивой змеей втягиваться в долину реки Дзегам-чай, которую в Грузии называли тогда Бергуджи.
До разгрома всего грузинского войска и гибели их царя Лаши — единственного сына блистательной царицы Тамары — оставались считаные дни.
Примечания
1
Мефодий, святой и равноапостольный, просветитель славян, старший брат Кирилла или Константина (ум. 885), родом из г. Солуни в Македонии, грек. В 858 г. вместе с братом по поручению императора отправился к хазарам-язычникам через г. Корсунь, где обрели мощи св. Климента и крестили до 200 человек. В 862 г. братья отправились в Моравию. После смерти Кирилла Мефодий, посвященный папой в епископы Паннонии, в 871 г. крестил чешского князя Боривоя и ввел в Чехии славянское богослужение. Перевел с греческого на славянский язык ряд канонических книг Ветхого и Нового Завета. В России знаменит в первую очередь тем, что создал, вместе с братом Кириллом, так называемый славянский алфавит или азбуку (из словаря Брокгауза и Ефрона).
(обратно)2
Акведук Валента — самый первый водопровод Константинополя. Был начат еще при императоре Андриане во II в. н. э. Окончательно построен в 368 г. и назван по имени правившего тогда императора Валента. Состоял на протяжении всей своей многокилометровой длины из двух ярусов полукруглых арок высотой около 23 м и тянулся через весь город.
(обратно)3
Юстиниан I (482 или 483–565) — византийский император с 527 г. Завоевал Северную Африку, Сицилию, Италию, часть Испании. При нем Византийская империя ценой неимоверных усилий и сотен тысяч человеческих жертв достигла пика своего могущества. Провел кодификацию римского права, стимулировал большое строительство — тот же храм Святой Софии в Константинополе, систему крепостей по Дунаю.
(обратно)4
Августеон — дворец императоров Византии, включающий в себя целый комплекс зданий.
(обратно)5
Нартекс — передняя часть храма. Соответствует русскому названию «притвор».
(обратно)6
Наос — основная, центральная часть храма.
(обратно)7
Этих четырех бронзовых коней, покрытых позолотой, которых отлил в свое время один из знаменитейших греческих скульпторов IV в. до н. э. Лисипп с острова Хиоса, вывез в качестве трофея дож Венеции Энрико Дандоло, украсив этим памятником городской собор Сан-Марко.
(обратно)8
Евдокимов Николай Иванович (1804–1870) — граф, генерал-адъютант, сын простого солдата и терской казачки. Был главным сподвижником Ермолова при покорении Восточного Кавказа (1857–1859). С 1860 г. возглавлял русские войска вплоть до октября 1863 г.
(обратно)9
«Символ веры» — краткое изложение христианских догматов, безусловное признание которых церковь предписывает каждому христианину. Был сформулирован в Никее на I Вселенском соборе в 325 г. От западного оно отличается лишь словом «филиокве» (fili-oque — и от сына (лат.)), которое католическая церковь добавила в VII в. Утверждение, что дух святой исходит не только от бога-отца, но и от бога-сына, позднее стало одной из причин разрыва между ними и патриархами восточных церквей в XI в. (здесь и далее все данные по церкви и еретикам приводятся по книге Н. Тальберга «История христианской церкви»).
(обратно)10
Хартофилакс — должностное лицо, заведовавшее в канцелярии Константинопольского патриарха всем делопроизводством, администрацией и судами. Он не только расследовал дела еретиков, но и имел право определять им наказание и выносить приговор. По должности был приравнен к епископу, избирал и представлял к поставлению всех пресвитеров, диаконов и т. д. Его должность была самой важной и почетной изо всех. Неслучайно хартофилакса называли устами и оком патриарха.
(обратно)11
Великий скевофилакс заведовал всей церковной утварью, а также церковными доходами и доходами, поступавшими в церковь в пользу клириков.
(обратно)12
Великий эконом ведал всеми церковными доходами и расходами.
(обратно)13
Великий сакелларий управлял константинопольскими монастырями, заведовал монастырским хозяйством и контролировал нравственность монахов.
(обратно)14
Иоанн Дука Ватацис — будущий император Никейской империи Иоанн I (1222–1255).
(обратно)15
Чуть позже так оно и произойдет, и ее брат Роберт действительно будет избран императором Латинской империи.
(обратно)16
Мария — дочь Петра Куртенэ, графа Оксерского, правнучка короля Франции Людовика VI Толстого (1081–1137).
(обратно)17
Прокл (ум. в 485 г.) — философ, последний поборник язычества в Греции.
(обратно)18
Порфирий (233–304) — писатель-неоплатоник. В своих сочинениях резко критиковал христианство.
(обратно)19
Юлиан Отступник (331–363) — римский император с 361 г. Получил христианское воспитание, но, придя к власти, объявил себя сторонником языческой религии. Погиб в войне с персами.
(обратно)20
Цельс (I в. н. э.) — римский писатель. В своей книге «Правдивое слово» подверг самой жесткой критике и христианскую веру в целом, и происхождение, и саму личность Христа, доказывая, что тот родился от внебрачной связи Марии с беглым римским легионером Пангирой (Пандирой).
(обратно)21
Хламида — род плаща с застежкой на правом плече. По виду очень сильно походила на корзно (плащ) славянских князей, только была несколько длиннее.
(обратно)22
Доместик схол — высший военачальник в Византии. В схолах, то есть помещениях Большого дворца, некогда содержалась и обучалась византийская гвардия.
(обратно)23
Потовестиарий — одна из придворных должностей в Византийской империи.
(обратно)24
Катафрактариями назывались воины тяжелой византийской панцирной конницы. Название произошло от слова «катафракт» — пластинчатый панцирь конного воина.
(обратно)25
Здесь Ватацис намекнул на Мардония (IV в.), осужденного на II Вселенском соборе как полуарианин-духоборец; на Нестория, родоначальника ереси, названной по его имени (V в.), осужденного на III Вселенском соборе; на пятерых патриархов-монофизитов (V в.); четырех монофилитов (VII в.); а также на патриархов-иконоборцев, живших в VIII в.: Анастасия, Павла, Феодота Касситера и Иоанна Грамматика.
(обратно)26
Никейский патриарх Мануил соглашался пойти на переговоры с папой римским об унии, то есть объединении церквей под руководством Рима. В обмен папский престол должен был вернуть патриарху Константинополь. Собор патриархов, митрополитов и епископов восточных церквей, который должен был решить этот вопрос, предстояло собрать в 1220 г. в Никее.
(обратно)27
Севастократор — византийский придворный титул, введенный в середине XI в. Комнины жаловали им свою родню и высшую знать. В данном случае речь идет о родных братьях императора Феодора I — Алексее и Исааке. Они же были основными конкурентами Иоанна Дуки Ватациса в борьбе за императорский престол.
(обратно)28
На протяжении буквально десятка лет город Атталия несколько раз переходил от Никейской империи к Икониискому султану и обратно.
(обратно)29
Здесь Ватацис выдает свои далеко идущие хозяйственные планы. Он действительно через несколько лет так наладил производство яиц, что даже приобрел на деньги, полученные почти исключительно на их продаже, великолепную золотую корону для своей супруги Ирины, украшенную драгоценными камнями. Это дало ему повод в шутку, а его недоброжелателям — из зависти называть эту корону «яичной».
(обратно)30
Лукоморьем в те времена называли побережье Азовского моря.
(обратно)31
Об этом подробнее см. «Крест и посох».
(обратно)32
Набойная ладья — речное судно у древних славян, надводная часть которого увеличивалась нашивкой к бортам путем «набоя» край на край, то есть накладкой одна на другую, досок («набоев»), что значительно увеличивало ее размеры, грузоподъемность и устойчивость.
(обратно)33
Касоги — именно так на Руси в ту пору называли многочисленные племена Северного Кавказа, преимущественно адыгов.
(обратно)34
По русской традиции после крещения ребенка, которое осуществляют почти сразу же, на второй или третий день после рождения, готовится так называемое крестильное блюдо из зерен или крупы, не смолотых в муку, но сваренных в воде в их настоящем неизмененном виде. Этой крестильной кашей бабка-повитуха, принимавшая ребенка, угощает всех званых гостей, но не просто так. Тот, кто хочет отведать каши, должен выкупить свою ложку, то есть положить монетку, пусть самую мелкую, медную, опять же по поверью: за кашу куну дать — младенец жить будет.
(обратно)35
Тенеты — узы, путы, сети. Здесь употреблено как плен (ст-слав.).
(обратно)36
Здесь Константин ничуть не преувеличивает. С V по XII в., то есть 700 лет, Европа вообще не мылась. Этот факт отмечают многие историки. И если бы не крестовые походы, то не мылась бы еще больше. Киевская княжна Анна, ставшая французской королевой, была не только единственным грамотным человеком при дворе, но еще и единственной, кто имел привычку мыться и содержать себя в чистоте. Крестоносцы поразили арабов и византийцев тем, что от них разило, «как от бомжей», как сказали бы сейчас. Запад предстал для Востока синонимом дикости, грязи и варварства, да он и был этим варварством. Вернувшиеся в Европу пилигримы попытались было внедрить подсмотренный обычай мыться в бане, но не тут то было! С XIII в. бани официально попали под запрет церкви как источник разврата и заразы (!!!), так что галантные рыцари и трубадуры той эпохи источали вонь на несколько метров вокруг себя. Не хуже были и дамы. До сих пор можно увидеть в музеях изготовленные из дорогого дерева и слоновой кости чесалки для спины, а также блохоловки… — Прим. О. Матвейчева.
(обратно)37
Добрые люди — так назывались у катаров священнослужители.
(обратно)38
В отличие от католиков, да и православных, у катаров детей крестили не водой, а светом.
(обратно)39
Здесь и далее монолог Франсуа цитируется по книге Жан Мадоля «Альбигойская драма и судьбы Франции».
(обратно)40
Катары действительно отрицали все молитвы, утверждая, что все они выдуманы людьми и к истинному богу не имеют никакого отношения. Из евангелий же они признавали только одно — от Иоанна, а остальные отвергали.
(обратно)41
Катары отрицали крест как орудие позорной жестокой казни Иисуса Христа.
(обратно)42
Латиняне — так на Руси называли католиков.
(обратно)43
Имеется в виду знаменитый и столь же неудачливый дед Изяслава Владимировича, князь Новгород-Северского княжества Игорь Святославович, главный герой древнерусской повести «Слово о полку Игоревом». Авантюрный непродуманный поход этого князя в 1185 г. на половцев закончился полным разгромом и пленением самого Игоря, а также его сына Владимира.
(обратно)44
Уй — так у древних славян называли дядю по материнской линии, в отличие от стрыев, которые были дядями по отцовской (ст-слав.).
(обратно)45
Речь идет о Святославе Игоревиче, младшем брате Владимира и, соответственно, дяде (стрые) Изяслава и Всеволода Владимировичей. Вместе с братьями они в 1206–1211 гг. пытались захватить Галицкое и Владимиро-Волынское княжества, но в конечном итоге Роман и Святослав были схвачены в плен венгерскими воеводами, выданы галицким боярам, которые их и повесили.
(обратно)46
Олег был единственным сыном повешенного князя Святослава и Ярославы и являлся удельным князем курским.
(обратно)47
Двоюродные братья на Руси назывались либо двухродными, либо братанами. Если же говорилось «двухродный братан», то это означало степень родства уже в третьем колене.
(обратно)48
Единственный сын Мстислава Удалого Василий скончался осенью 1218 г.
(обратно)49
Святославичи — потомство среднего сына Ярослава Мудрого Святослава. К ним относятся черниговские и новгород-северские князья, как дети Олега Святославича, а также рязанские и муромские, происходящие от младшего сына Святослава — Ярослава. За детьми младшего сына Ярослава Мудрого Всеволода были закреплены княжества Киевское, Галицкое, Волынское и Смоленское, где правило потомство Всеволода, начиная с Владимира Мономаха.
(обратно)50
Юрьевичи — потомство одного из младших сыновей Владимира Мономаха Юрия Долгорукого. Они-то как раз и владели землями Владимирско-Суздальской Руси.
(обратно)51
Изгои — здесь: безудельиые князья.
(обратно)52
Святополк Окаянный, третий сын князя Владимира I. В 1015 г. сел по старшинству княжить в Киеве. Правил четыре года. За время правления убил трех своих братьев. Вначале Бориса и Глеба, названных впоследствии церковью святыми, затем Святослава, правившего у древлян.
(обратно)53
В XII в. этот праздник отмечался 6 января.
(обратно)54
Этот день приходился в то время на 14 января.
(обратно)55
Варяжское — Балтийское.
(обратно)56
Свей — так на Руси называли шведов и прочих скандинавов.
(обратно)57
Вальдемар II Победитель (1171–1241) — король Дании с 1202 г. По призыву рижского епископа Альбрехта в 1219 г. высадился с многочисленным войском на берегах Эстляндии, дабы помочь покорить местное население, язычников эстов.
(обратно)58
Площица — блоха (ст-слав.).
(обратно)59
Задница — наследство (ст-слав.).
(обратно)60
Личила — здесь: красила, была к лицу (ст-слав.).
(обратно)61
Колокольный мужик — нечистый дух, вселившийся в тело мертвого колдуна, которого не принимает земля. Обычно сидит в углу колокольни, в белом колпаке, который ни в коем случае нельзя срывать. Иначе он каждую ночь будет бродить у тебя под окном и просить надеть его, а если станешь надевать, он тут же набросится и удушит.
(обратно)62
Сторожиться — опасаться (ст-слав.).
(обратно)63
Дикинькие мужички — злые духи леса. Небольшого роста, с огромной длинной бородой и хвостом, сродни лешим. Бродят по лесу, перекликаясь в глухую полночь страшными голосами. Нападая на людей, с хохотом щекочут их по всему телу костяными пальцами, пока те не умрут (ст-слав.).
(обратно)64
Журавль — шест, вертикально вкопанный у колодца. На нем закреплена поперечная жердь, к одному концу которой прикручена еще одна, параллельная земле, но подвижная. Вместе они очень напоминали журавля, отчего и получили свое название. Манипулируя поперечной жердью, на одном конце которой закреплялось ведро, можно было легко зачерпнуть из колодца воды. Просуществовал практически без изменений вплоть до нынешних дней.
(обратно)65
Исус — наименование бога-сына здесь и в других местах текста дано именно так, как оно звучало во всех русских церквях XIII в.
(обратно)66
Неурочная пора — обычно свадьбы в русских деревнях играли лишь после уборки урожая, то есть осенью, когда у деревенских жителей, особенно у их мужской части, появлялась масса свободного времени.
(обратно)67
Напуск — наговор болезни на какую-то вещь. Человек, поднявший ее, должен заболеть.
(обратно)68
Относ — вещь, снятая с больного, как правило, заразного и отнесенная на дорогу или повешенная на сук дерева. Болезнь уходит либо в дерево, либо в того неосторожного прохожего, который поднимет или снимет эту вещь.
(обратно)69
Называть Христа по имени ведьмы и колдуны, как правило, избегали. Это для них болезненно.
(обратно)70
Кубра — шутник, проказник (ст-слав.).
(обратно)71
Корец — ковшик (ст-слав.).
(обратно)72
Здесь и далее ведьмак перечисляет различные способы порчи. На волос колдуют, имея в руках волос человека, которого хотят испортить, завязывая на нем каждый день по узелку, числом до девяти, после чего заворачивают в девственный пергамент и бьют. На след, когда нет возможности достать что-то, принадлежащее человеку, а на яйцо, пожалуй, самое страшное изо всех. Испорченный начинает желтеть и умирает в течение года, если это яйцо не будет сожжено, но обязательно самим колдуном.
(обратно)73
Прикрыш-трава употребляется в колдовстве для свадебных наговоров. Ее кладут в доме жениха под порог еще до приезда новобрачных. Как только невеста наступит на порог, порча вступит в силу. Правда, она имеет свою слабую сторону. Если невеста перескочит порог, то весь этот злой наговор обрушивается на самого колдуна.
(обратно)74
Рушник шитый — вышитое полотенце (ст-слав.).
(обратно)75
Здесь Маньяк явно подшутил над князем, с умыслом дав ему такое имя и отчество. Кулиманом в те времена называли мужчин с неопрятной головой, а Оборкович ведет корень от слова «оборка», что означало завязку лаптя.
(обратно)76
Бретяницы — кладовые (ст-слав.).
(обратно)77
Житницы — кладовые для хранения зерна (ст-слав.).
(обратно)78
Скотница — кладовая для хранения денег и драгоценностей (ст-слав.).
(обратно)79
Хворст — бог болезней, немощей и старческой слабости. Служили ему дряхлые старцы. Слыл недобрым, жестоким божеством (ст-слав.).
(обратно)80
Погост — определенное место для сбора дани (налога) в пользу князя, куда ее свозили из окрестных деревень {ст. — слав.).
(обратно)81
Буевище — кладбище (ст-слав.).
(обратно)82
Домовина — гроб (ст-слав.).
(обратно)83
Зеньдевь или зендень — так называется хлопчатобумажная ткань, производимая под Бухарой. Название свое получила предположительно по имени местности, где она производилась.
(обратно)84
Ипьское сукно — шерстяная ткавь, названа по имени фландрского города Ипра.
(обратно)85
Колты — украшение в форме полумесяца со сложным узором, иногда использовалось как сосудик для духов. Колты вешали над ушами, прикрепляя к головному убору. Их украшали перевитью, зернью, чеканкой, чернью, многоцветной эмалью. Изготовлялись они обычно из золота или серебра.
(обратно)86
Ряд — здесь: соглашение, договор (ст. — слае.).
(обратно)87
Лето 6691-е -1183 г.
(обратно)88
Великий город — именно так именовали Биляр в русских летописях, и было за что. Для сравнения: площадь Киева в те времена составляла 150 га, Владимира — 160 га, а Биляра — 530 га. И это притом, что он был не столицей, а лишь вторым городом государства.
(обратно)89
За время своего правления Всеволод Большое Гнездо, о котором идет речь, действительно совершил на Булгарию несколько походов, причем не всегда довольствовался только выкупом.
(обратно)90
Территория государства Хорезмшахов омывалась на севере водами Хорезмского (Аральского) и Булгарского (Каспийского) морей, а на юге выходила к Персидскому заливу (область Фарс) и Индийскому океану (город Мекран).
(обратно)91
Гургандж — столица Хорезмского государства.
(обратно)92
Кадий — мусульманский судья, муфтий — проповедник.
(обратно)93
Здесь Константин процитировал Николке стихотворение Марины Цветаевой, которое, кстати, так и называется «Заклятье».
(обратно)94
Тут Константин несколько преувеличил. Когда Чингисхан напал на державу Хорезма, численность всех его вооруженных сил не превышала 130 тысяч человек. Кстати, когда Батый шел на Русь, то он предположительно имел такое же количество — строго по числу царевичей-чингизидов, если не считать нескольких вспомогательных туменов, набранных из недавно покоренных стран и народов.
(обратно)95
Лествица (лестница) или лествичное право — обычай княжеского наследования в Древней Руси. Все князья Рюриковичи считались братьями (родичами) и совладельцами всей страны. Поэтому старший сидел в Киеве, следующие по значению — в менее крупных городах. Княжили в таком порядке: старший брат, затем младшие по порядку, затем дети старшего брата, за ними дети следующих братьев, за ними, в той же последовательности, внуки, затем правнуки и т. д. Те из потомков, чьи отцы не успели побывать на великом княжении, лишались права на очередь и получали уделы на прокорм. По мере смены главного князя все прочие переезжали по старшинству из города в город. Такой же лествичный порядок сохранялся и внутри отдельных княжеств, на которые распадалась Киевская держава. Порядок этот помогал сохранить единство страны, но был неудобен в силу постоянных переездов князей с дружинами из города в город и смены администраций. Кроме того, старшие племянники часто ссорились с младшими дядьями, что вело к усобицам.
(обратно)96
Мстислав Мстиславович Удатный, Мстислав Романович Киевский и Владимир Рюрикович были двоюродными братьями, то есть дед у них по отцовской линии был действительно один — внук Владимира Мономаха Ростислав Мстиславович (ок. 1110-17.03.1168). Он же был и родоначальником всех смоленских князей. Дважды (1154, 1159–1168) сидел на великом княжении в Киеве.
(обратно)97
Отдать на поток — здесь: на разорение, на грабеж (ст-слав.).
(обратно)98
В битве под Липицей (апрель 1216 г.) Ярослава вместе с братом Юрием наголову разбили Мстислав Удалой и старший брат Ярослава — Константин Всеволодович.
(обратно)99
См. «Око Марены».
(обратно)100
Рядович — рядовой дружинник (ст-слав.).
(обратно)101
Судак — древний византийский город, расположенный в Крыму, близ Феодосии. Славился богатым рынком рабов, поставляемых преимущественно из южнорусских княжеств половцами.
(обратно)102
Сир. 37:8.
(обратно)103
Сир. 37:18.
(обратно)104
В нетях — в неволе, в плену (ст-слав.).
(обратно)105
Чукавый — здесь: хитрый, коварный, лукавый. Это слово до сих пор применяют в некоторых деревнях Рязанской области (Егол-даево, Дегтяное и др.).
(обратно)106
Фраза взята из книги Ильфа и Петрова «Золотой теленок», и у автора есть очень серьезные основания догадываться, кто именно мог таким образом подшутить над князем Чернигова.
(обратно)107
В то время на Руси пользовались буквенным счетом. Цифры и числа обозначалась буквами и их сочетанием.
(обратно)108
Скудельница — братская могила (ст-слав.).
(обратно)109
Локи — бог обманов, хитростей, плутовства, вражды и раздоров у древних скандинавов (здесь и далее все примечания, связанные с верованиями скандинавских народов, даны по книге Марии Семеновой «Поединок со змеем»).
(обратно)110
Синюю одежду викинги и норманны надевали, когда шли мстить за нанесенную им обиду.
(обратно)111
Нифльхейм — один из нижних миров, где всегда царит мрак и вечный мороз. Тех, кто предал побратима или вождя, кто нарушил свою клятву, ждет в этом мире берег мертвых — Настранд и хоромы, сплетенные из живых змей, дверью на север.
(обратно)112
Зажитье — военный рейд, обычно совершаемый конницей с целью грабежа вражеской территории; сопровождался захватом полона, угоном скота, поджогами. Обычная тактика при войнах в средневековой Руси.
(обратно)113
План «Ост» был создан примерно в то же время, что и знаменитый план «Барбаросса». Все отличие лишь в том, что в последнем речь шла о делах военно-стратегических, о планировании наступательных операций на СССР. А план «Ост» являлся документом политическим, в котором была разработана система массового уничтожения всех славян как одной из неполноценных рас человечества.
(обратно)114
Драться весь день с врагами при полном вооружении и при этом спать по часу невозможно, просто в Древней Руси слово «час» обозначало в первую очередь время, то есть получается, что воевода спал не три часа за трое суток, а немного.
(обратно)115
Шарукань — по одним сведениям, столица хана Котяна, что наиболее вероятно, по другим — являлась общей резиденцией всех половецких ханов. Разрушена передовыми туменами Чингисхана.
(обратно)116
Царь Македонии Пирр, вступив в союз с Ганнибалом, одержал верх над римлянами. После выигранного сражения, подсчитав свои потери, он воскликнул: «Еще одна такая победа, и я потеряю армию». С тех пор выражение «пиррова победа», символизирующее такой выигрыш в битве, который по своим потерям почти равен поражению, стало нарицательным.
(обратно)117
Типун сейчас существует только в поговорке, но, по некоторым данным, он раньше считался у древних славян богом молчания.
(обратно)118
Схима — высшая степень монашества.
(обратно)119
Современное название их — марийцы.
(обратно)120
До того как стать епископом Владимирско-Суздальской епархии, Симон был игуменом (настоятелем) Рождественского монастыря во Владимире.
(обратно)121
Жовтень — октябрь (ст-слав.).
(обратно)122
Об этом см. подробнее в книге «Око Марены».
(обратно)123
Ведро — одна из мер того времени для жидких тел. Составляло порядка 9,8 литра (по данным Д. И. Прозоровского).
(обратно)124
Гурджии — грузины (тюрк.).
(обратно)125
Одора — ближняя стрела (монг.), то есть подразумевается тактическая разведка.
(обратно)126
Хоорцах — дальняя стрела (монг.), то есть стратегическая разведка.
(обратно)127
Железные ворота — город Дербент.
(обратно)128
Итиль — Волга.
(обратно)129
Мерага — город в Закавказье, который монголы взяли 30 марта 1220 г.
(обратно)130
Весна года ген-чень — с 6 февраля по начало мая 1220 г.
(обратно)131
Весенний месяц третьей луны начался в году ген-чень 5 апреля. Следовательно, десятый день — 14 апреля 1220 г.
(обратно)
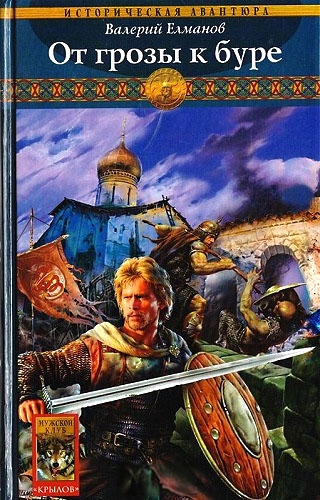









Комментарии к книге «От грозы к буре», Валерий Иванович Елманов
Всего 0 комментариев