Валерий Елманов Знак небес
Моим дорогим любимым сестрам
Валентине СЕРГЕЕВОЙ,
Тамаре ДЕМИНОЙ
и Людмиле ПАНИНОЙ
с пожеланием всяческих благ,
здоровья и счастья,
посвящаю я эту книгу.
Да ведают потомки православных Земли родной минувшую судьбу, Своих царей великих поминают За их труды, за славу, за добро… А. С. ПушкинПролог Русские корабли в гаванях Лангедока
Separo tea ab Ecclesia mllitante atque triumphante[1].
Прямо в центре Южной Франции лежит огромная плодородная равнина. Сразу за нею высятся могучие Пиренеи, а еще чуть дальше лежат несколько христианских королевств, которые постепенно и методично вытесняют мусульман со своего полуострова. Там почти всегда идет воина.
Здесь же, в благодатных краях, щедро залитых солнцем, сражения до недавнего времени в основном случались только на любовном фронте. И неслучайно лучшие трубадуры того времени происходили родом именно из этого края, столицей которого являлась роскошная Тулуза. Этот город в ту пору превосходил по могуществу и блеску даже Париж и по праву считался некоронованной столицей всей Южной Франции.
Ее государи — Раймониды любили роскошь и негу, утонченные забавы и философские беседы. Графы Тулузские проявляли снисходительность к своим подданным, даже если те несколько уклонялись в своих верованиях от строгих канонов святой католической церкви. Они были снисходительны к ним до того, что однажды вызвали самый настоящий гнев римского престола, который объявил им воину.
Впрочем, даже сейчас, взглянув на эти места, никак нельзя было сказать, что здесь уже добрый десяток лет ведутся боевые действия. Во всяком случае, все так же плодоносили виноградники, мирно цвели оливковые рощи, а тучные нивы по-прежнему приносили богатые урожаи.
Но двум всадникам, неспешно скачущим по дороге, ведущей к Тулузе, было не до любования красотами южной природы, пробуждающейся под лучами яркого, хотя еще и не очень жаркого солнышка. Да и откуда ему быть жарким, когда только начал отсчет первый весенний месяц. Они были заняты беседой.
— А что такое вообще церковь? Это организация, которая, пользуясь предрассудками и людскими суевериями, норовит встать посредником между людьми и богом[2]. Причем самовольно, ведь сам бог их на это отнюдь не уполномочивал, — седовласый мужчина, восседающий на вороном жеребце, замолчал и ожидающе покосился на своего спутника.
Тот был явно не согласен, но возразил учтиво:
— Но ведь они несут добро людям, отец. Добро, утешение и слово божье. Учат жить по святым заповедям Христа.
Седовласый в ответ лишь насмешливо хмыкнул, заявив:
— Вначале они залезают к тебе в кошель, со словом божьим на устах выгребают все, что там есть, а уж потом произносят… это свое утешение, но только ровно на ту сумму, которую у тебя выгребли. А что до слова божьего, то почем нам знать, какое оно на самом деле. Или ты и впрямь думаешь, что в библии и прочих священных текстах каждая буква начертана с божьего соизволения?
Молодой собеседник седовласого человека, юноша лет двадцати, осторожно заметил:
— Знаешь, батюшка, сдается мне, что святой престол в Риме был прав, подозревая тебя в ереси. А ведь ты ныне должен ежедневно и ежечасно доказывать иное — что ты благонравный католик и что, как и подобает графу Тулузскому, неустанно призываешь своих подданных следовать твоему примеру.
— И тогда этот паяц с митрой на голове, уверившись в искренности правителя, отстанет от Раймона VI[3], — горько усмехнулся седовласый и протянул: — Если бы все было так просто, тогда мы не сидели бы с тобой здесь, в Тулузе, и не ждали бы, когда по велению своего короля французское войско подойдет для осады нашего города. Поверь, сын, в этом мире даже родственные узы ничто, когда речь идет о дележе власти. Иначе Филипп Август никогда бы не отправил в наши края своих рыцарей, да еще под командованием наследного принца. Все-таки он мой кузен[4].
— Мы отобьемся, — уверенно произнес молодой человек и, гордо вскинув голову вверх, еще раз повторил: — Мы непременно отобьемся.
— Вспомни Марманд[5], — посуровел лицом Раймон.
— Тулуза не Марманд, — упрямо тряхнул головой молодой граф[6]. — Ее так просто не взять, если только будет кому оборонять город. Вот почему я еще раз настоятельно прошу тебя — воспрети жителям покидать Тулузу. Вчера из города ушли еще две семьи. Ушли, чтобы сесть на корабли из Руси, которые вот уже полгода стоят в наших морских гаванях.
— Разве по-христиански запрещать человеку бежать от смерти? — задумчиво протянул его отец. — Они чувствуют свою обреченность, и они правы. Я не берусь спорить — возможно, в этот раз мы и впрямь отобьемся, но тем самым только отсрочим свой конец. Пойми, сынок, что это не обычная воина двух государей. В этом случае мы еще имели бы шансы на спасение. Рим объявил крестовый поход[7], натравил на нас всех рыцарей — вот что страшно. Знаешь, когда мне окончательно стало ясно, что мы проиграем? Когда с разницей всего в год произошли два события. Во-первых, погиб твой тесть Педро II[8]. Во-вторых, Филипп Август разбил своих врагов при Бувине и Ла-Рош-о-Муане[9]. Тем самым он окончательно развязал себе руки на севере и может теперь вплотную заняться югом, то есть нами с тобой, мой мальчик. И теперь смотри, что получается — на престолах тех стран, которые могли бы нам помочь, сидят дети[10], да и когда они подрастут, нам от них тоже ничего хорошего ждать не придется, судя по их наставникам[11]. Следовательно, помощи ждать неоткуда, а в одиночку нам все равно не выстоять. Главное же — против нас римский папа, то есть у Филиппа и в этом отношении руки развязаны.
— Но почему церковь так страстно желает истребить катаров[12]? Ну, еретики, конечно, но они же никого не трогают.
— Во-первых, они постоянный живой упрек для римской курии. Ты посмотри, как живут эти святоши. Если я тебе начну перечислять всех любовниц нашего трубадура[13], то у меня пальцев на руках не хватит. Причем порой он развлекается с двумя, а то и с тремя сразу. А взять епископа Каркассонского, благочестивого Ги из Во-де-Сернея. Сколько он развратил девочек, даже не дожидаясь их конфирмации[14], — уму непостижимо.
— Однако же о папском легате Арно-Амальрике[15] ты такого сказать не можешь.
— Такого — нет. Но у него, да ты и сам знаешь это, грехи намного страшнее. Вспомни, что этот зверь в сутане сказал французским рыцарям десять лет назад, когда они осаждали мой милый славный Безье?[16] — и, прикрыв глаза, старый граф медленно процитировал: — «Убивайте всех, бог признает своих». А костры в Минерве и Лаворе? Это ведь тоже его работа. И этот зверь называет себя служителем божьим, — произнес он с горечью. — Так что поверь, сын, римская церковь не успокоится до тех пор, пока не выжжет каленым железом весь наш благословенный юг. Ты думаешь, просто для еретиков утвердили кары на Латеранском соборе?[17] Не-ет, милый. Они в первую очередь предназначены для нашего края.
— Но почему, почему?!
— Я же сказал тебе, что они — живой упрек. И сам папа, и прочие уже давно наплевали на заповеди Христа, да еще так смачно, а тут катары показывают, как на самом деле должны себя вести и верующие, и, особенно, священнослужители. Народ-то не дурак. Он умеет сравнивать, и это сравнение явно не в пользу Рима[18]. Те сегодня только возвеличивать себя и могут. Сам вспомни. Ведь еще совсем недавно папы именовали себя наместниками святого Петра, а сейчас они уже о-го-го — наместники Христа[19]. Ты что же, всерьез думаешь, что это он сам назначил их? Да он давно плачет там, на небесах горючими слезами, глядя, как его имя ежедневно и ежечасно позорит церковь.
— И только в этом все дело? — прошептал сын.
— Нет, но это самая главная причина. А так разногласий у них хватает. Того же Христа, например, возьми. Церковь считает его кем? Богом, который родился, чтобы искупить людские грехи своими муками. А у катар он кто? Только ангел, небесный посланец, который пришел указать людям путь к спасению. И даже страдания его были не настоящими, а мнимыми, ведь плоть ангельскую ни один палач на самом деле прибить к кресту не смог бы при всем желании. И дева Мария у них тоже ангел. Да, кстати, о кресте, — оживился отец. — Ведомо ли тебе, что они и его отвергают, говоря, что нельзя поклоняться орудию позорной пытки? Впрочем, они и воскрешение Христа во плоти тоже не признают.
— Не признают?! — ахнул молодой граф.
— Разумеется, — усмехнулся Раймон VI. — Сам посуди. Если отталкиваться от их убеждений, то все выглядит вполне логично. Ангел же не может умереть, верно? Следовательно, воскреснуть ему тоже не дано.
— Да христиане ли они вообще?!
— Смотря из чего исходить, — спокойно, почти равнодушно пожал плечами старый граф. — Если понимать под нашей верой главным образом божественность Христа — тогда нет. А если смотреть на то, как они себя ведут, как живут, верят, молятся, сравнить их епископов с католическими, то тогда выходит, что они-то и есть самые настоящие христиане, а все прочие — увы.
— Ну, тогда им на Руси будет хорошо. Еретики едут в гости к схизматикам, — усмехнулся молодой Раймон.
— Не думаю, — вздохнул его отец. — Та церковь, что победила, везде одинакова. Она везде цепляется за власть и всюду в первую очередь боится конкурентов, среди которых самыми главными почитает отнюдь не чужие веры, вроде мусульманства. Посмотри вокруг и ответь мне, кого Рим истребляет наиболее беспощадно? Молчишь, а я тебе скажу. В первую очередь они устраивают гонения на еретиков, которые верят почти так же, разве лишь самую чуточку иначе. То же самое и у схизматиков. А почему? Потому, что они конкуренты, которые, дай им волю, могут и деньги отнять, и власти лишить. А церкви только деньги с властью и нужны.
— На словах-то они… — возразил было сын, но старый граф только пренебрежительно махнул рукой.
— На словах мы все намного лучше. Чтобы судить о чем-то, смотри на дела. Тогда и поймешь, что церковь — сплошное лицемерие, как у нас, так и у восточных христиан, иначе они не благословляли бы любую власть, каким бы мерзавцем ни был тот или иной правитель. Главное для всех них — это деньги и власть, — повторил он жестко.
— Но папы часто враждуют с императорами, — возразил молодой граф.
— Лишь в тех случаях, когда дело касается денег и власти, — последовал категоричный ответ.
— Однако я читал, что у восточных схизматиков такой нетерпимости нет. В той же Византии и ариане[20] в войске у императора служили и монофизиты[21], и прочие. Да и среди священников у них не водится таких мерзостей, как у наших.
— Знаю, — кивнул старый граф. — Но это только потому, что у них в каждом государстве свой глава церкви, и каждый из них подчиняется своему правителю. А что было бы, если бы он был у них один-единственный, как у нас, да еще имел свою территорию, свои земли, ну, пусть хотя бы в той же Руси, то есть не зависел бы ни от одного короля, ни от одного императора? Неужели ты думаешь, что там не было бы такой же дряни, как у нас, а то и побольше? Просто им сейчас такой воли не дают, какая у папы римского имеется, вот они и не распоясались до конца. Кстати, читал я один манускрипт, так там описывается, что византийский император Алексей I только в море утопил[22] десять тысяч своих еретиков. А сколько человек он спалил на кострах, и вовсе не сосчитать. Разумеется, все это по требованию церкви. Так что и там она зверствует. Но в тех краях инакомыслящие, может, и выживут, а в наших…
Он вежливо повернул своего коня ближе к обочине и учтиво уступил дорогу большому крестьянскому возу, нагруженному всякой домашней утварью, едущему навстречу. На целой горе всевозможного скарба гордо возвышался совсем юный широкоплечий малый в белой рубахе. Остальные домочадцы шли возле телеги. Завидев графа, мужчины торопливо поскидывали шапки, низко кланяясь, а женщины просто склонились в почтительном поклоне.
— Уезжаешь, Микаэль, — не спросил, а скорее констатировал седой граф.
— Бросаешь Тулузу, — не сдержался, чтобы не вставить упрек, молодой человек.
Отец недовольно оглянулся на сына, но ничего не сказал.
— Так я… — протянул смущенно пожилой отец семейства, но Раймон VI понимающе махнул рукой.
— Я не держу зла, — мягко произнес он. — Езжайте и… удачи вам.
— И вас благослови бог, — облегченно выдохнул глава семьи, натягивая шапчонку поглубже на самые уши и задумчиво глядя вслед своим бывшим властителям.
— И вам… удачи, — произнес он вдогон.
— Не надо держать тех, кто собрался ехать на Русь, — сумрачно повторил граф, обращаясь к сыну.
— А ты видел, какие у него дюжие сыновья? — возразил молодой. — Сегодня Тулуза потеряла еще двух своих защитников.
— Они не верят в нас, — возразил отец. — Если воин не верит в успех своего дела, не верит в победу, то это плохой воин. Они не очень-то помогли бы нам и погибли бы сами. Зачем таких держать? Если уж мы не можем защитить своих подданных, то не будем им мешать искать спасения самим, — и повторил твердо: — Не держи. Тем более, как я слыхал, корабли и так вот-вот отплывут.
— Месяц назад я был там, — вздохнул с легкой долей зависти сын. — Видел этих русичей. Воины в том караване — на диво. Я и сам не маленький, но там чуть ли не каждый выше меня на голову, а то и на две. Как раз один из них бочонки с вином в порту покупал. Я все думал, как он их понесет. Неудобно же — он один, а бочонков два. Так ты представляешь, он один на плечо взвалил, а второй себе под мышку взял и так до самого корабля шел не останавливаясь. Вот бы их нам, в Тулузу.
— Пробовал?
— Куда там, — вздохнул сокрушенно молодой граф. — Сказали, что князь им не велел никуда встревать без нужды, а ослушаться они не смеют.
— А если заплатить побольше? — заинтересовался отец.
— И слушать не захотели. Говорят, что им после этого на Русь дорогу закроют, а они без Рязани своей никуда. Я думаю, надо бы их князю Константину написать, предложить денег. Кто от золота откажется, верно?
— Навряд ли что у тебя выйдет, — покачал седой головой граф. — Это только глупцы все на золото меряют. А он, судя по тому, что в такие дальние края за людьми послал, а главное, не побоялся, что еретики, — человек умный.
— Попробовать все равно можно, — настойчиво сказал сын.
— Попробуй, — уступил отец. — А вдруг и впрямь что выйдет.
Он пришпорил коня, и оба поскакали к показавшимся вдали грозным серым башням Тулузы, щедро заливаемым яркими лучами весеннего солнца.
А корабли и впрямь уже готовились к отплытию.
Русичи, приплывшие еще поздней осенью прошлого, 1218 года и прожившие до самой весны на южных французских берегах, и так уже заждались. Потому-то, едва в Средиземном море угомонились зимние шторма, сменившись затишьем грядущей весны, они подняли паруса и взяли курс на Русь.
Судов было не столь уж и много — не больше двух десятков, зато шума и гама хватало. Каждая семья, решившаяся уехать, как правило, имела не меньше двух-трех детей. Собственно, и уезжали-то люди в первую очередь для того, чтобы спасти их. В то, что проклятые католики, которые даже разговаривать толком не умеют[23], отстанут, перестанут приходить, грабить, жечь и убивать, никто из уезжающих не верил. Те, кто продолжал на это надеяться, остались дома, в благодатном Лангедоке. Впереди переселенцев ждали неизвестные берега, неведомые дали, но главное, во что им очень хотелось верить, — спокойные правители, которые не будут препятствовать новым своим подданным молиться так, как им хочется.
Успела на один из кораблей и семья крестьянина Микаэля. Правда, в самый последний момент, чуть ли не за пару часов до отплытия, но это уже не важно.
Всего же переселенцев было не так уж и много — чуть больше двух сотен семей, так что купец Исаак, не желая упустить дополнительной выгоды, умудрился прихватить еще и товары, которые должны были ему принести немалый доход.
Душа купца радовалась. Помимо того, что он получил от князя Константина и тех золотых монет, что были взяты с переселенцев, он еще и сделал благочестивое дело. Ведь из этих двух сотен семей каждая десятая относилась к его соотечественникам. Они хоть и оказались не столь легкими на подъем, как рассчитывал Исаак, но главное — это первая ласточка, которая, как известно, весны не делает, но с собой ее несет.
А кроме того, купец не забывал и про многие другие выгоды, которые он выговорил у князя. Например, право на беспошлинную торговлю по всему Рязанскому княжеству. Одно это дорогого стоило.
Он вспомнил, как они ожесточенно торговались, и восхищенно поцокал языком. Воистину, рязанский князь — непростой человек и думает не только о всяких пустяках вроде войн с соседями и прочей ерунды. Больше того, если бы он отбросил все эти глупости, то, поплавав всего два-три лета с ним, Исааком, вполне бы смог стать приличным, уважаемым купцом.
Ведь то же право на беспошлинную торговлю он урезал с пяти лет всего до года. Это же надо так изловчиться, чтобы в пять раз сократить изначальные купеческие требования. Вай ме! А как лихо он окрутил его с теми же гривнами?! Просто восторг берет, невзирая на то что надули самого Исаака. Расплатился-то князь товарами, преимущественно мехами, да еще и оценил их в пять раз дороже, чем Исаак обычно покупал на Руси, уверенно заявив при этом, что купец все равно свое возьмет, но так и быть — разницу он ему дарит.
Еврей жалобно застонал, вспомнив, как битый час доказывал Константину, что за эти меха он возьмет самое большое вчетверо, да и то если не будет других конкурентов. То есть выйдет, что он, Исаак, потеряет аж двадцать процентов.
Но купец тут же вновь восхищенно покачал головой, припоминая княжеское коварство.
— Хорошо, — сказал тот. — Я не буду спорить. Я просто найму две лишние ладьи, загружу их этими мехами и пошлю с ними своего человека. Думаю, что он их продаст даже по более высокой цене, но тебе гривны отдаст по уговору, а разницей окупится стоимость ладей, и кое-что, скорее всего, останется. Кому от этого лучше будет? Мне. Просто я не хочу, чтобы было плохо тебе, потому и предлагаю такие выгодные условия. Но раз ты на них не согласен…
После чего бедному Исааку ничего не оставалось, как завопить, что он, конечно же, согласен, но не ради выгоды, а только ради хорошего человека, которому так не хочется причинять лишние хлопоты. Ведь князю придется искать ладьи, тратить гривны, чтобы их нанять, обременять своих людей дальними поездками неведомо куда, и все только из-за того, что он, Исаак, вовремя не пошел навстречу хорошему человеку. Да он готов все меха взять даже в убыток самому себе, лишь бы не терять дружбы с таким замечательным, славным князем.
После чего они ударили по рукам и долго дружно смеялись — оба довольные тем, как все удачно закончилось.
Нет, не зря Исаак тогда так хитро подсказал рязанскому князю про своего самого опасного соперника — арабского купца Ибн-аль-Рашида. Как знать, если бы не эта его мудрая мысль, что не все с ним ладно, не все чисто, то, может, именно этот араб сейчас бы плыл по морю, возвращаясь из Франции на Русь.
Впрочем, почему «может»? Так оно и было бы. Сабля из дамасской стали, которую араб подарил князю, да еще щедро украшенная драгоценными камнями, намного перевешивала скромное подношение самого Исаака, отделавшегося кипой бумаги. Если бы несчастный еврей не бросил вовремя на свою чашу весов веское слово, то на его месте сегодня непременно был бы араб. Но так как надежная репутация в торговом деле стоит даже чуточку дороже, чем дамасская сабля, то все получилось наоборот.
Хорошо ли поступил Исаак? Глупец скажет, что это подлость, но потому-то он и глупец. На самом же деле никакой подлости бедный еврей никогда не совершал и даже в мыслях не держал совершить. Он вообще стремится жить со всеми в мире. Ему бы пакостей не чинили, а уж он сам никогда и ни за что.
А что касается араба, то разве Исаак сказал князю что-то плохое про него? Ну, хоть словечко малое? Так, высказал некоторые свои мысли Тимофею Малому, такому же купцу, как и сам. Между прочим, очень хороший человек, хотя и не еврей. Впрочем, среди христиан тоже, как ни странно, встречаются весьма достойные люди, особенно на Руси.
Так вот, разве Исаак знал, что Малой передаст этот разговор рязанскому князю? Да нет же. Ну, может, догадывался немного, но уверенности в этом у него совершенно не было.
И опять-таки кто мог предвидеть, как поступит сам князь, услышав от своего купца такие интересные новости? Никто. Все в руках всевышнего и все будет так, как захочется ему. Люди — только слепые орудия творца этого мира. Вот и он, Исаак, такое же простое орудие.
Да и не стряслось с Ибн-аль-Рашидом ничего дурного. Поговорил с ним князь, да и отпустил восвояси, разве что доверять чуточку меньше стал. Исаак же знал, что Константин — разумный человек. Был бы на его месте кто иной, скажем, его же родной братец Глеб, так бедный еврей никогда и ни за что не поделился бы с Малым своим мыслями и, упаси боже, своими подозрениями. Вот хоть кучу золота ему предложите, таки он все равно… Нет, если бы эта куча была очень большая, тогда… Хотя что об этом говорить. Где это золото и где бедный еврей — они же всегда в разных местах, и сойтись в этом мире им, наверное, так никогда и не доведется. Видно, так уж угодно Яхве.
А теперь, если отмести в сторону мысли о грустном, то есть о золотых и серебряных монетах в чужих кошелях, то вывод напрашивается следующий: нет и не было никому вреда от сказанного Исааком в нужное время и нужному человеку, а есть одна только польза. У бедного еврея она совсем маленькая, но зато у рязанского князя — огромная.
Вон каких замечательных людей везет ему Исаак. Один только Мойша из Авиньона чего стоит. Его золотое ожерелье носила на шее сама Элеонора Арагонская[24], в серьгах его работы ныне красуется Бланка Кастильская[25], браслеты, изготовленные им, дарил своей супруге Жанне Английской и сам Раймон VI…
А Исав из Тулузы. Какие платья он шил местной знати, какие камзолы! Да и жена его Сара — тоже мастерица хоть куда. Где в Тулузе самый пышный хлеб, самые румяные булочки, самые вкусные пирожки со всевозможной начинкой? Где, я вас спрашиваю, ответьте мне? Ах, не можете. Таки я сам вам отвечу — только у Сары.
Да и остальные, пусть не из числа соплеменников, но очень и очень достойные личности, уж вы поверьте старому Исааку, он толк в людях знает.
Ведь не чьи-то мечи, а именно работы Якоба из Лавора так высоко ценились по всему Лангедоку, а также Кастилии, Арагону, Бургундии, да мало ли где еще. А почему? Да все потому, что мастер он, каких поискать. Из дрянного железа такой прочный стальной меч выкует, что им можно не одну тысячу голов срубить, прежде чем тот затупится. Кольчугу работы его отца носили еще Раймон V и Раймон VI, а доспехи на будущего графа Раймона VII он делал уже сам. И на почтенного графа де Фуа делал, и на молодого виконта Раймона-Роже Транкавиля тоже потрудился.
А лекари с ним какие едут. Взять, к примеру, Зона из Каркассона. Сколько людей он вылечил, да каких людей! Ту же последнюю жену Раймона VI, например. Так бы и умерла бедняжка, если бы не Зон. Да и у самого графа здоровье он успешно поддерживал.
Вспомнив о графе, купец помрачнел. Вот тоже напасть для хорошего человека, и даже не просто хорошего, а замечательного. Во всяком случае, своих евреев он в обиду никому не давал и к нему, Исааку, никогда не выказывал ни презрения, ни грубости. Во всяком случае, никак не больше, чем по отношению к другим купцам — будь то злобные мусульмане или мрачные христиане.
И что им всем не живется в мире? Хочешь, расти хлеб, хочешь, бей зверя, хочешь, торгуй всем этим. Нет, они таки ничего не хотят. Конечно, прийти и отнять намного проще. А чтобы им взять да задуматься — сегодня ты отнял у одного, завтра — у другого, но придет время, и грабить будет просто некого, и что вы будете тогда делать, я вас спрашиваю?
Или вот те же морские разбойники. Зачем пугать своими воинственными воплями, зачем стрелять из луков в беззащитных купцов и их людей? Ты подплыви спокойно, скажи, мол, Исаак, жить мне не на что, а кушать хочется, и Исаак даст тебе… хороший совет, как разбогатеть, даже несколько хороших советов даст, причем один другого лучше, и все совершенно бесплатно.
Если к нему по-доброму, то и он щедрость способен проявить. Исаак может даже подарить шкурку… лисью, нет, заячью, если человек сильно замерз. Только не надо во время этой просьбы махать у него перед носом мечом, да еще остро наточенным. Он и так даст одну, нет, даже две, или совсем много — три шкурки. Ему, Исааку, не жалко. Возьми, а когда согреешься — вернешь, если у тебя еще осталось чуточку совести. Если нет — ну что ж, пусть будет убыток. Бедному несчастному еврею не привыкать к убыткам.
Если хорошенько задуматься, только очень хорошенечко, таки вся жизнь человеческая — сплошной убыток, а у купца — двойной. Этому дай, здесь заплати, тут заплати — расстройство, а не жизнь. А если налетят морские грабители, то и вовсе.
Он оглянулся назад, на корму, где лежали, блаженно подставив лицо яркому весеннему солнышку, двое дюжих рязанских дружинников. Двое из двухсот — по десятку на каждый корабль, — которых ему дал для охраны все тот же рязанский князь, и мечтательно подумал, что, пожалуй, в этот раз он таки ничего не даст разбойникам. Не маленькие, пора научиться самим на хлеб зарабатывать.
Вот когда таких богатырей не будет рядом, тогда придется резко подобреть. Но такое вряд ли случится, ведь это первая, но далеко не последняя его поездка по княжескому поручению в те края, где ныне грозно бряцают мечами все кому не лень — от служителей Христа до гневных безумцев-рыцарей.
А корабли тем временем, поймав парусами попутный ветер, будто на крыльях неслись по волнам. Все дальше и дальше от берегов Франции, все ближе и ближе к берегам Руси.
Глава 1 Тройной охват
Не многим, может быть, известно, Что дух его неукротим, Что рад и честно, и бесчестно Вредить он недругам своим; Что ни единой он обиды, С тех пор как жив, не забывал… А. С. Пушкин— Дура! Дура ты и есть! — выскочил из сеней на высокое крыльцо своего терема взбешенный князь Ярослав и опрометью бросился вниз. Двое стремянных уже держали под уздцы оседланного жеребца.
Вздевая в стремя ногу, Ярослав мрачно покосился наверх, в сторону терема, чуть замешкался.
— Хоть бы для приличия вышла, — буркнул он зло, уже садясь в седло, еще немного помедлил, но, так и не дождавшись появления княгини Ростиславы, в сердцах с маху хлестнул коня.
За воротами терема переяславского князя уже ждала дружина. Была она невелика — сотни четыре, не больше. К тому же и сами вои в ней были уже не те, с прежними не сравнить. Но где они, прежние-то?
Добрая треть их осталась лежать еще под Липицей, в сече с полками старшего брата Константина и своего же родного тестя Мстислава Удатного. Но тот урон был еще восполним.
А вот в битве под Коломной с рязанским князем Константином дружина полностью полегла. Тех, что тогда от погони ушли вместе с Ярославом, почитай, и двух десятков не наберется. Ярослав окинул мрачным взором своих новоявленных воинов. «Мечом не рубят — машут лишь, да и копьецом с луком тоже не больно-то владеть могут, а впрочем, что уж там про мечи и прочее языком молоть, когда иной после скачки лихой за зверем лесным к вечеру вовсе ногами не владеет, враскорячку к костру бредет, — он с тоской вздохнул. — Так бы и врезал неумехе окаянному, чтоб вдругорядь в седле грамотно сидел».
Оно, конечно, погонял князь их изрядно, кое-чему и научил, ан все не то. И опять-таки самое главное — неопытные они пока. Почитай, ни у кого из новиков[26] ни единой боевой сшибки не было. Тьфу, да и только.
Ярослав еще раз оглянулся на свой терем, и лицо его исказила кривая ухмылка. «Вышла все ж таки. Поняла, поди, неправоту свою, ан поздно уже».
Определенная неловкость все равно ощущалась. Уж больно плохое расставание у него с женой получилось. Но с другой стороны взять — чья здесь вина? Явно ведь не его. Он-то как раз мирно хотел проститься. Подумаешь, слово неосторожное сказал. Так и то не про нее, а про девку-холопку неловкую, что охромела с этой зимы.
Ну, куда ей у княгини переяславской в услужении быть, когда нога вовсе, почитай, не сгибается. Он же не со зла предложил со двора ее выгнать, а взамен сразу пяток рязанских девок привезти — о Ростиславе заботу в кои-то веки проявил. А что получил в ответ?
Ярослав припомнил недавний разговор и зябко поежился.
— А ежели бы твоя любимая сука Крыня охромела, ты бы ее тоже со двора… пинками? — спросила княгиня в ответ звенящим шепотом.
В глазах же ее вся синева вдруг напрочь исчезла, один черный угль в зрачках остался.
И невдомек бабе, что таких сук смышленых да резвых, как его Крыня, днем с огнем не найти, а холопок, ничем не хуже хромой Вейки, на торжище в базарный день пук за куну. Оно, конечно, жаль девку, но ведь не сам же он ей ногу эту сломал — дерево упало. Теперь уж ничего не исправишь.
А ныне с нее проку нет. И не поймешь подчас, кто кому больше прислуживает: то ли холопка княгине, то ли наоборот. Разве это дело? Опять-таки и первая размолвка после возвращения Ростиславы из Новгорода тоже из-за Вейки этой окаянной произошла.
Ну, виданное ли дело — столь долгое время не виделись, а она, едва приехав, как уселась у ее изголовья, так, почитай, пять дней и просидела. Да и две ночи первые там же проторчала. Хороша женка, нечего сказать.
Да и потом тоже — хоть не вспоминай. Он смердов в поруб сажает — ведь утаивают дань княжью, стервецы, ссылаясь на недород в полях, а она им туда еду таскает. Через неделю вытащили их из ямы, думал, поумнели на корках хлебных да воде, а глянул — рожи-то у страдальцев еще глаже стали.
С голоду опухли? Не похоже, да и на ногах твердо стоят. Начал дознаваться, кто им подсоблял, стражу виноватил поначалу, а это, оказывается, женка родная свое милосердие явила. Кто, спрашивается, ее о том просил?!
Нет, по дому, по слугам и прочим хозяйственным делам ее попрекнуть не в чем. Да и распоряжается она умеючи — знает, на кого прикрикнуть, кому указать, кого поправить, а кого и вовсе взашей прогнать. Тут она молодец.
Но ведь если бы все двором и кончалось, а то ведь и в его дела нос сует. И ведь чуть ли не с самой свадьбы у нее такое. Больно много воли тестюшка ей в девичестве дал, не иначе. И тоже всегда с вопросами — дескать, поясни, а то невдомек. Начинаешь же втолковывать глупой бабе, и после пятого-шестого ответа чувствуешь себя дурнем, соломой набитым.
Конечно, все это она только наедине творит, когда сраму княжеского никто не видит, но перед самим собой все равно неловко. Да князь он в конце-то концов или смерд неумытый, что она его так в собственную дурость носом тычет?! И никак не поймет, глупая баба, что все равно будет именно так, как сам Ярослав повелел. Плохо ли, хорошо ли, но по его слову, а не по ее. Неужто она считает, что он станет перед нею в своих ошибках сознаваться?!
Да и с походом этим осенним против Константина Рязанского тоже все уши прожужжала. Да ведь не впрямую каждый раз норовила, а с коварным подходцем. Право слово, как гадюка подколодная, все из-за угла, по подлому.
Он в седле уже и сам сколько лет — опыта не занимать, нешто не знает, что неладные у него вои. Почто лишний раз о том напоминать? Ныне вся надежда на дружину брата Юрия да на тех, кто у покойного Константина служил. Хоть и не любил Ярослав старшего брата, но должное ему отдавал — славных воев тот себе подобрал. Славных и преданных.
Последнее, правда, чересчур. Можно было бы и уполовинить преданность эту. Ведь от князя к князю переходить — обычное дело на Руси, и никто тебе это в упрек никогда не поставит. К тому же помер старший брат, то есть не бросили дружинники его, не оставили в час бедствий, а служили до самой смерти. Самое время нового князя выбрать, ему послужить. И ходить далеко не надо. Вон, хоть бы к брату Юрию пришли или к самому Ярославу. Он своих людишек ратных никогда не обижал, держал в чести, в неге да холе.
Нет, не понять Ярославу, никак не понять, почему они, чуть ли не полностью — четыре сотни из пяти — вместо того чтобы во Владимир переехать, вышли из Ростова и осели в слободке близ города.
Сами-то они это свое решение так пояснили Юрию:
— Мы, княже, боле в междоусобьях ваших участия принимать не желаем.
Это Александр Попович так объявил от имени всех тех, кто в слободку ушел.
Ишь как осмелел, а ведь и пяти лет не прошло, как он своего отца, причем даже не попа — дьячка в захудалом селище под Суздалем, покинул и пошел по белу свету счастья искать. Его Ярослав хорошо под Липицей запомнил. Ежели бы не он, не Добрыня — рязанец могучий, прозванный Златым Поясом, не Нефедий Дикун да прочие ростовские удальцы, нипочем не одолели бы его с Юрием воинство новгородские и смоленские полки.
К напору бешеному, к страсти, к азарту боевому еще и умение воинское приложить надобно. Без него никуда. А азарт что — первый бесшабашный натиск сдержать — и все, кончится он. У этих же всего в избытке было. Они и прорвали строй суздальцев, владимирцев и муромчан. Как нож в масло вошли, а уж потом… Да что вспоминать.
Брат Юрий подумал было, что боятся они. Ведь два с половиной года назад против него воевали, теперь припомнить может. Начал он им говорить, что не держит на них зла, что только добро им от него будет, да какое там. Смеются, упрямцы. Отвечают, что ежели кто из ворогов на Русь придет, так они и без зова ратиться встанут, а ежели надобно, то и головы сложат, и никаких гривен за то им ненадобно. А вот так, в княжьих сварах да распрях пустопорожних, они никому не помощники.
Это где же они так смело говорить выучились?! Сразу видать, что никто из них у Ярослава не служил, иначе такими бойкими на язык не были бы. Впрочем, всем известно, что Константин, брат старший, тряпкой был. Да и в Юрии тоже нет особой твердости. Еле-еле сговорил его Ярослав выступить, не дожидаясь погребальной тризны на сороковой день.
И мало того что не все ладно с их дружинами, так еще и Ростислава мухой назойливой жужжит.
Сомнения у нее, видишь ли, в том, что Константин братьев своих поубивал. Да разве в этом теперь дело? А того ей не понять, что этот рязанец проклятый замахнулся на всю Владимирскую Русь, что три кровных его брата под Коломной легли, а четвертый как слег от страшной вести, так и не поднялся. Одни они с Юрием нынче остались.
Это скольких же он племянников Ярославовых одним разом без отца оставил? И такое спускать? Вот бы ей о чем подумать, а лучше и вовсе в дела мужа не соваться. Пускай о хозяйстве мыслит, пряжу с девками прядет, рубахи вышивает.
Нет, лезет повсюду. Вон и княжича Ингваря решила ума-разума лишить. Не зря он две последние седмицы как в воду опущенный ходит. Тоже ее работа.
Намедни вишь чего удумал рязанский княжич — зря все это, дескать, затеяно. Негоже, мол, ему на свою землю приходить с чужой ратью, пожар да разорение с собой нести. А того в ум не возьмет, что поздно уже, что слы[27] давным-давно воротились от верных союзников с обнадеживающими ответами. Тесть его Юрий Кончакович, отец первой жены и хан самой сильной половецкой орды, твердо подсобить обещался. Да и Давид Муромский, хоть и мялся в нерешительности, черт набожный, а как бояре Ярослава и Юрия поднажали — вмиг согласился. Знает, что за отказ грозит.
Теперь уж рязанцу точно несдобровать. С трех сторон сразу примутся его бить. Сам Ярослав с Юрием сызнова под Коломну подойдут, а потом, град взяв да через Оку перейдя, начнут один за другим города зорить да селища жечь.
Тесть, Юрий Кончакович, с юга со всей своей ордой налетит. Ну а с третьей стороны Давид Муромский с мордвой нагрянет. А у самого Константина вдобавок ко всему еще и Рязань не отстроена. Никуда он свои дружины от града стольного, который ныне без стен, двинуть не посмеет.
Но даже если и отважится, то снова на хитрость Ярославову напорется. Он же куда пойдет? Непременно вниз по Проне реке рати двинет, чтобы половецкий набег отбить. А почему? Да потому, что именно в том и сокрыта хитрость.
Согласно уговору с Юрием Кончаковичем, напасть тот должен был не позднее рождества богородицы, что приходится на восьмое сентября. Пока гонцы к Константину прискачут с южных рубежей, пока тот рать свою спешно соберет — на все про все Ярослав отводил пять, от силы шесть дней. Да еще три дня он добавлял на то, чтобы все рязанские войска оказались у южных границ.
Вот тогда-то и они с братом ударят. Аккурат в день страстей трех дев: Веры, Любви, Надежды и матери их Софии[28].
Более того, если вдруг половцы замешкаются либо сам Константин почему-либо запоздает с выступлением, то тут ему вторая ловушка подсовывалась. Спустя седмицу после выступления половцев, в день воздвиженья честного креста, который 14 сентября празднуется на Руси, в пределы рязанской земли с запада должен был вторгнуться Давид Муромский вместе с мордовским князем Пурешем.
То есть удар владимиро-суздальских князей по своей очередности окажется лишь третьим, хотя по силе и будет самым главным. Пускай обескровятся рязанские рати в схватках со степняками, муромцами и мордвой.
А там, даже если они и одолеют всех союзников Ярослава с Юрием, даже если и успеют заслонить собой столицу, то все равно это уже не вои. Стремительные переходы и яростные сечи так их обескровят, что одолеть их легче легкого будет. На то и делал Ярослав основной расчет.
К тому же не зря он летом Гремиславу доверился. Вовремя тот в опалу у Константина попал. Все как нельзя лучше вышло. И девку его в Березовке достал, и град сумел запалить. На будущее наука. Пусть рязанец знает, супротив кого посмел меч поднять.
Словом, расчет верный. Как ни крути, не миновать ныне Константину поражения, да какое — разгрома полного, а стало быть, у него, Ярослава, земель изрядно поприбавится. Можно будет со временем и с братцем Юрием потягаться.
Отовсюду хорошо выходило. Так хорошо, что прямо тебе живи да радуйся… если бы не жена — дурища беспросветная. Хотя, с другой стороны, Ростиславу в чем-чем, а в отсутствии верности не попрекнуть.
Не далее как вчера вечером он как бы в шутку поинтересовался, что она делать станет, ежели его, Ярослава, убьют на поле бранном. Так она, зардевшись жарким румянцем, заявила, что после вести такой и седмицы лишней не останется в Переяславле.
— Сызнова к отцу, поди, поедешь? — осведомился лукаво.
— Он вдове уж не заступник, — холодно ответствовала Ростислава. — А монастырей и у нас много. Что близ Ростова изрядно понатыкано, что близ Новгорода. Сыщется и для меня уголок.
И дернула нелегкая Ярослава намекнуть, что в старину жены славянских вождей не в монастырь, а на погребальный костер восходили следом за мужьями, добровольно венец мученический на себя возлагая. И ведь в шутку он такое сказал, а она губы поджала, всерьез восприняла.
— Для иной вдовы в монастырь уйти — тот же венец мученический, — ответствовала строго и добавила загадочно: — Я для себя, наверное, и впрямь избрала бы конец полегче да побыстрее. А там как знать.
Совсем она его этими словами растрогала, и уж порешил было Ярослав снять с себя добровольный обет, который дал, едва узнав, что Мстислав Удатный возвращает ему свою дочь. Надумал он тогда гордый вид принять и пусть втрое меньший срок, чем он в разлуке с нею был, но протомить Ростиславу и долг свой супружеский не исполнять. Пусть знает, что не больно-то он в ней, рыбе холодной, нужду испытывал.
Обет этот Ярослав выполнял честно. К тому же князю в воздержании пара-тройка услужливых девок подсобляли изрядно. Как бы это деликатно сказать — тяготы добровольного воздержания смягчали ему, как могли.
А тут совсем уж решился он, не дожидаясь окончания последнего месяца, осчастливить Ростиславу, прийти к ней, да она сама, как на грех, все испортила. Сверкнула черными глазищами и задала невинный вопрос. Дескать, княгини-то за князьями в огонь шагали, а вот чтобы князья при утере супруги так поступали — не слыхала она ни разу. Да и сам Ярослав, поди, не решился бы на такое, случись это с нею, Ростиславой.
Вот дура, так уж дура! Понятно, чем дело закончилось. Вспылил он сызнова, развернулся и вышел из ее покоев, ни слова не сказав. А что тут говорить, когда и так все ясно. Одно дело — баба, а совсем другое — муж, да к тому же князь. Нашла кого с кем равнять. На такое и отвечать соромно[29].
Хотя… Вопрос-то она глупый задала, но до того ведь строго пообещала: случись что с ним, Ярославом, и она боле седьмицы в Переяславле не задержится. То есть получается, в монастырь уйдет. А у Ростиславы слово — кремень. Коли пообещала что — выполнит непременно. Стало быть, любит его княгиня. Ох и любит! Ну а что ума бабе бог не дал, так на то сам Ярослав есть. У него, чай, и своего на двоих хватит. Да и ни к чему ей ум-то.
От этих мыслей у Ярослава не просто спал гнев. Он даже улыбаться начал, да и на привале ночном тоже веселился: и Ингваря мрачного тормошить успевал, и над боярами своими, включая свежеиспеченных, не раз подшутил.
Ну а раз князь весел, дружине тоже печалиться ни к чему. Это ничего, что битва впереди ждет, что не все после нее назад вернутся. По молодости всегда мыслится, что, может, кому иному в удел полторы сажени земли уготованы, но только не тебе самому. А у Ярослава на сей раз из тех, кому за тридцать стукнуло, не больше десятка осталось. И это на все четыре сотни.
Опять же дозволил князь пару-тройку бочонков хмельного меду почать. На всю дружину такое количество, конечно, не столь уж и велико, но веселья все равно добавляет. К тому же и скорость не утомительная. Шли, не торопясь никуда, давая время догнать их небольшое войско союзным полкам из Ростова, Ярославля, Углича, из прочих земель Владимиро-Суздальской Руси, чтоб с самого севера тоже успели вовремя подойти.
Общий же сбор был назначен у Клязьмы, в том месте, где она ближе всего к Москов-реке подходит — и двадцати верст не будет, если по прямой брать. По Клязьме все пешее ополчение брата Юрия на ладьях должно было подойти, и дружины прочие тоже сюда направлялись.
Место общего сбора было удобным еще и потому, что невдалеке на Москов-реке стоял одноименный град. Хотя, конечно, сельцо это градом трудно назвать, разве что исходя из того, что захудалый кремник там все-таки имелся, но тут суть в другом была. Во-первых, какой-никакой отдых можно было для всех устроить, во-вторых, припас пополнить, лошадей подковать, доспех подправить, а в-третьих, там мастера уже с лета трудились и должны были изготовить нужное количество ладей.
Оставалось только, подобно пращуру Святославу, аки барсу молниеносно прыгнуть с Москов-града на Коломну.
Почему именно на нее? А в этом опять-таки хитрость имелась. Константин, даже услыхав про воинство, все равно решит, что в одну точку и стрела дважды не бьет. К тому же рязанец думать будет, что врагам его выгодней всего путь держать в стольный Владимир, а из него по Клязьме мигом до Оки добраться, которая прямиком к Рязани выведет. Исходя из всего этого, Константин и дружины свои расположит.
На самом же деле по той дорожке придут только Давид Муромский с мордовским князьком Пурешем, который в союзе с братом его Юрием. Пока Константин уразумеет, что перед ним лишь малая часть, да и то не владимиро-суздальских сил, а лишь их союзников, все грады его на Оке уже заполыхают.
Да и на Проне тоже, включая не только Пронск, но в первую очередь и этот, как его, Ряжск, который рязанцем поставлен недавно. О них, да и вообще обо всей южной окраине тестюшка его половецкий позаботится, Юрий Кончакович, которому Ярослав клятвенно пообещал, что коли тот первым доберется со своей ордой до Рязани, то две трети от всей добычи после разгрома Константиновых дружин и взятия столицы его будут.
Известное дело, басурманину, хоть он и крест на груди носит, главное — пограбить вволю. Ну и пусть его. Жалко, что ли, чужого добра. У него, Ярослава, цель иная, можно сказать, святая — за смерть братьев воздать.
Негоже, конечно, получилось со старшим братом. Даже сороковин ждать не стали, а Ярослав сам и на девятый день не остался — сразу после поминок метнулся к себе в Переяславль, смотрины дружине устраивать.
— Ничего. Мы ему тризну в походе справим. Костром погребальным будет сама Коломна, а в жертву целое войско принесем. Куда как любо. То-то ему с небес сладостно будет взирать, — торжественно пообещал он Юрию.
Опять же и уделы появятся, куда можно будет племянников родных усадить. Правда, про это Ярослав вслух не сказал — придержал покамест мыслишку, хотя и считал, что ничего зазорного в ней нет. Ну не владимирские же вотчины перекраивать, в самом-то деле. А вслух не произнес, потому что еще до того брат Юрий заикался что-то там насчет Ростова с Ярославлем. Дескать, о том и брат Константин в мыслях держал, когда Юрия из опалы вызывал и Суздаль вручал во владение. Только распорядиться не успел, впав в скорое беспамятство от горестных вестей. Но это уж больно жирный кус для них будет. Хватит им Пронска и еще чего-нибудь из рязанских владений.
И все у Ярослава на сей раз на лад шло. Как и планировалось изначально, находясь еще в трехдневном переходе от Коломны, он благополучно соединился с братом Юрием. Даже погода ему несказанно благоприятствовала — ни одного дождя не прошло за все время, пока они до Коломны добирались.
Если бы шибко шли, то, опережая предварительные расчеты, добрались бы до первого града, принадлежащего рязанскому князю, дня на три-четыре раньше намеченного. Но опережать события, а главное — действия своих союзников было не след, и потому войска пришли строго к намеченному сроку.
Пришли и… встали в недоумении. Оказывается, им первым делом придется не город брать, а сызнова биться с Константином Рязанским, потому как вои его в двух верстах от города уже поджидали неприятеля. Было от чего насторожиться Ярославу.
Глава 2 За одного битого
Потомки же скажут — его победа была легкой, и еще приплетут мораль. Но стратегия и мораль редко складываются в компромисс.
О. ПогодинаЭто лишь дурень, у кого голова соломой да мякиной набита, на одни грабли несколько раз наступает. Князь Ярослав, пройдя зимой хорошую выучку, ныне не торопился.
Оно, конечно, людишек у них с братом побольше, чем у Константина. Пусть даже у рязанских костров в полтора раза больше воев греются, чем обычно, — все равно намного меньше их. По подсчетам выходит, что никак не больше пятидесяти сотен. С их владимирскими силами даже и сравнения никакого быть не может. Они ведь с Юрием на сей раз, почитай, все земли свои без люда оставили. Зато пеших воев у них тысяч двадцать, да еще с гаком, плюс к тому изрядные дружины. Ну не качеством — количеством, но все равно тысчонки четыре на конях насчитать можно. Это же какая силища! Никому не устоять.
И все-таки что-то Ярослава настораживало. Что-то смущало его в поведении рязанца. Не самоубийца же он, в конце концов, чтобы принимать открытый бой при таком неравенстве сил.
«Пускай его ратники малость получше обучены, — самокритично признавал переяславский князь. — Пускай. Но все едино — когда на каждого четверо, а то и пятеро приходится, так и так ему не устоять. Да мы его одними трупами своих воев закидаем, коли уж на то пошло. Авось новых смердов бабы нарожают. И опять-таки в дружине Константиновой, как видоки доложили, ныне от силы тысяча наберется, не больше, в то время как зимой он чуть ли не две выставил. Спрашивается, где остальные? Опять в Коломне своего часа дожидаются? А может, еще где-нибудь затаились?»
Нет уж, дудки! Второй раз Ярослава на эти грабли наступить не заставишь. Ученый он уже — знает, что почем.
О своих догадках он тут же Юрию сказал и ближним боярам. Посему решено было обождать (благо время уже послеполуденное), сторожу во все концы выслать, да и поле само прощупать не помешает — ведь как пить дать, опять рязанец эти ямы поганые выкопал. Ну, а ежели ворог и впрямь впал в безумие, то тем хуже для него. Пускай последнюю ночку помолится, причастится, потому как поутру придет его смертный час.
А чтобы засадный рязанский полк все планы не порушил и в спину не ударил, было решено смердов на весь остаток дня занять привычной для них работенкой — вырыть огромный ров перед коломенскими воротами, чтобы ни одна лошадь его не одолела. Разве что с крыльями будет. Но такие, как Ярославу в детстве сказывали, имелись только у эллинов в стародавние времена. Ныне же все они и там, поди, повывелись.
И здесь князь тоже все осторожно сделал — лучников своих изготовил, чтоб ни один коломенский ратник не смог работам земляным помешать. Впрочем, эта предосторожность оказалась напрасной — за все время ни одной стрелы со стен города не прилетело. Вот тебе еще одна загадка — враг пакостит у самых ворот, а в ответ ни гу-гу.
Правда, самая главная загадка все равно осталась: почему Константин вообще здесь оказался? Почему не кинулся на юг, чтобы Пронск с Ряжском от половцев защитить? Неужто промедлил или вовсе передумал Юрий Кончакович? Известно, от этих степняков чего угодно ожидать можно. Одна только видимость, что имена христианские принимают, крест на груди таскают да два пальца складывать научились, чтоб перекреститься. На деле же все едино: язычники поганые.
Опять же что там с Давидом Муромским приключилось? По какой причине он-то задержался?
А если они вовремя на рязанские земли вступили, согласно уговору, тогда почему Константин не на них, а наперерез Ярославу с Юрием кинулся, о прочих не думая?
Словом, вопросов много, а вот ответов на них…
Потому и решил Ярослав на сей раз не спешить, а все как следует обдумать, чтоб наверняка получилось. Да и людям отдохнуть не помешает. Завтра поутру они намного бодрее будут.
Почти под вечер от Константиновых ратей три всадника подъехали. Главным среди них сызнова боярин Хвощ оказался, старый знакомый Ярослава. На сей раз князь встретил посланца с великодушной улыбкой на лице, предвкушая скорую победу.
Разговор оказался коротким.
— Почто сызнова в края наши забрел, княже? — быстро перешел Хвощ к сути дела после традиционного приветствия.
— Али сам не ведаешь, боярин? — почти ласково ответил Ярослав. — Должок получить надобно.
— Сдается мне, что князь Константин аккурат в крещение Христово тебе уже изрядно заплатил, — строго ответил Хвощ.
— Кровь братьев наших, князем твоим побитых, вопиет, — вмешался Юрий.
— Изволь, мы готовы за каждого виру внести, — покладисто согласился Хвощ.
— И сколь же твой князь за них уплатить готов? — насмешливо поинтересовался Ярослав.
— По десятку рязанских гривенок за каждого найдется.
— А не скудновато ли будет? — возмутился Юрий. — Я за тиуна убиенного вдвое больше беру.
— А ты как берешь, княже, по Русской правде? — вкрадчиво осведомился рязанский боярин.
— А как же еще?!
— А ты ведаешь ли, что там про татей начертано? — спросил Хвощ и, не дожидаясь ответа, сам же и процитировал: — «Аже убиють кого у клети или у которое татьбы, то убиють во пса место»[30]. Как видишь, князь мог бы и вовсе виру не платить, но он, так и быть, — готов.
— Это ты про моих братьев такое изрек?! — не выдержал Ярослав, и маска благодушия мгновенно слетела с его лица. — С собаками их сравнил?! Да как у тебя, пса старого, язык повернулся такое сказать?!
— То не мои слова — то князь Константин передать велел, — предостерегающе поднял руку Хвощ. — А еще он спросить повелел, почто ты так часто в наши земли ходить повадился? И года не прошло, как ты опять рать под Коломну привел. И тебе тоже, князь Юрий, соромно должно быть. Князь Константин на твое добро не покушался, хотя мог бы. Ты же в ту зиму воев своих брату дал, кои здесь, под Коломной погинули, а ныне и сам сюда с мечом пришел. Почто? Или, может, земли ваши вам же не по душе стали — решили мену учинить?
Юрий успокаивающе положил руку на плечо красного от гнева Ярослава и вышел вперед:
— Довольно шутки шутить, боярин, а то я не погляжу, что ты на копьецо свое белую тряпицу примотал. Ступай отсель да князю своему передай, что спасти его одно может — ежели он к нам сейчас со всей покорностью выйдет, а дружина его мечи сложит. Тогда мы с братом можем и милость явить — жизнь ему подарим и даже городишко какой-нибудь дадим в вотчину.
— И какой же град вы ему подарите? — не унимался Хвощ.
— Пронск дадим. Да еще тот, который он, по слухам, в Рясском поле в это лето отстроил, — хмыкнул Ярослав и сразу уточнил: — Опять же, смотря как он просить будет.
— Остальное, стало быть, под свою длань приберете? — уточнил Хвощ.
— Отчего же, — не согласился Юрий. — И Переяславль-Рязанский, и Ростиславль, и Зарайск, и прочие вотчины покойного Ингваря мы его первенцу отдадим. Нам чужого не надобно.
— Вон вы как? — загадочно протянул рязанский боярин и обратился к Ингварю, безмолвно стоящему позади братьев-князей: — А ведь ежели мне память не изменяет, княжич, их тебе князь Константин и так соглашался передать.
— Из своих рук и только как наместнику, дабы он впредь и навсегда лишь его волю исполнял, — заметил Юрий.
— Не думаю, что когда он свои земли из ваших рук получит, то воли у него поприбавится. Сдается мне, что совсем наоборот будет, — строго качнул головой Хвощ.
Ингварь собрался было с духом, чтобы ответить боярину, и по возможности резко и больно, но вдруг с ужасом понял, что сказать-то ему и нечего. А ведь и впрямь ни Юрий, ни тем более Ярослав больше, чем имел его отец Ингварь Игоревич, ему, Ингварю-младшему, ни за что не дадут.
Да какое там! Хорошо, если и это полностью вернут. Если князя Константина хоть как-то сдерживало кровное родство, то у владимирских князей и этих уз почитай что нет. И будут они повелевать им, как только душа захочет.
А тогда зачем это все и почему он здесь?
Не сказав больше ни слова, княжич молча круто развернулся и зашагал к своему небольшому шатру, стоящему подле двух огромных, поставленных для Ярослава и Юрия. Шел быстро, с трудом сдерживая себя, чтобы не перейти на бег.
Ему было мучительно стыдно за свою непростительную глупость, где-то даже переходящую в подлость. Как ни крути, а ведь именно он в первый раз, еще прошлой зимой привел Ярослава на рязанскую землю.
Боярин Хвощ внимательно проследил, в какой именно шатер зашел Ингварь, после чего заметил:
— Вы вон даже шатер ему уделили — не чета своим. Больно уж мелок. Или то не его вовсе?
— Его. Какое княжество — такой и шатер, — усмехнулся Ярослав и добавил: — Да и то покамест. Когда мы с братом твоего Константина побьем, оно и вовсе маленьким станет. Князь же твой совсем ничего не получит.
— Вон как сурово, — протянул рязанский посол и поинтересовался с ехидной усмешкой: — Да вы никак с Юрием Всеволодовичем сызнова все поделить успели, как тогда под Липицей? А не рано ли?
Не слова это были, а звонкая пощечина. Как удар — слабовата, зато как оскорбление — в самый раз. Не сказал, а ожег ими боярин Ярослава, да и самого Юрия. До сей поры им обоим стыдно было вспоминать бахвальные речи, говоренные перед битвой с Мстиславом Удатным и братом Константином.
Оно, конечно, хорошо, когда человек верит в свою победу. Без этого трудненько одержать верх в любом бою. Плохо, когда он в ней непоколебимо уверен и даже мысли не допускает о том, что возможен иной исход.
А все мед виноват, больно уж хмельной был. Кто именно первым завел речь о дележке волостей после победы и после какой уж там по счету ендовы[31] опустевшей — сказать трудно. Впрочем, выбор невелик — лишь двое его могли начать: Ярослав или брат Юрий, а больше просто некому.
Хотя какая теперь разница — позор одинаково на них обоих лег. Это ведь додуматься надо, чтобы приняться делить шкуру неубитого медведя. Ярослав, помнится, Новгород себе запросил, брат Святослав — Смоленск, Ростов — Юрию. На Киев вроде бы рукой махнули, не став мелочиться, а кому же Галич решили отдать? Ивану, что ли? Вроде нет, не ему. Да и какая теперь разница — кому именно.
А самое главное, что не только бахвалились всем этим изустно, но и харатью о том составили, надиктовав дьяку все подробно, чтоб потом обиды между победителями не приключилось, и каждый к тому свитку Руку свою приложил: То-то, небось, смеялись Мстислав Удатный с Константином и смоленским князем Владимиром Рюриковичем, когда ее прочли.
Да и ныне Хвощ как в воду глядел. Они с Юрием и впрямь уже покромсали все Рязанское княжество. По-честному, на четыре доли, включая Ингваря и малолетних Константиновичей, но поделили, и от этого на душе становилось еще более неприятно. Хорошо хоть, что на бумагу ничего этого не занесли.
— Не твое собачье дело! — выдохнул Ярослав жарко.
Если бы не стыд великий, валяться бы Хвощу, на две части поделенному, у ног братьев-князей. Стыд душил, давил, лишал сил. От него не только у Ярослава, но и у Юрия все лицо краской унижения покрылось.
— Ну, точно — поделили уже, — сделал вывод рязанский боярин, внимательно вглядевшись в багровые лица братьев, и констатировал невозмутимо: — Стало быть, каков товар — такая и плата.
— Это ты о чем? — нахмурился Юрий, с тревогой поглядывая на брата, — сдержал бы себя, не уронил княжеской чести, подняв на Хвоща меч.
К тому же хоть бы сам посол молод был, а то ведь старик совсем. Его сейчас срубить — долгонько отмываться придется.
— Коль вы в случае победы и вовсе решили изгнать Константина из отчих земель, то и ему незазорно будет — ежели он одолеет — все ваши земли под себя приять, — пояснил боярин.
Юрий вначале помрачнел, но затем, что-то прикинув, слегка заулыбался, а чуть погодя и вовсе захохотал во все горло. Глядя на него, развеселился и Ярослав.
— Пускай все забирает, — махнул он беззаботно рукой. — Чай, наследниками меня пока небеса не наделили, так что я ему всю свою вотчину дарю, только чтоб непременно одолел меня поначалу.
— Ну и мое тоже пусть прихватит, — согласился со своим братом Юрий. — Всю землю нашу отдаем.
— Все слыхали? Все слова княжеские запомнили? — строго спросил рязанский боярин ближних людей, тесно толпившихся за спинами своих князей, и пояснил: — Я к тому это говорю, чтоб потом никто не встрял поперек, когда Константин Владимирович свою длань наложит на грады Владимир, Ростов, Суздаль и прочие.
И столько силы и уверенности прозвучало в этих словах немолодого боярина, что челядь, совсем недавно дружно хохотавшая вместе со своими князьями, как-то поутихла. Не по себе стало некоторым, а кто поумнее был, у того и вовсе холодок по коже пробежался. Знобкий такой, тревожный.
Есть с чего тревожиться — слабые люди со своим врагом перед битвой с такой убежденностью и уверенностью не разговаривают.
Вот только княжич Ингварь слов этих не слыхал. Зайдя в шатер, он рухнул навзничь на жесткий воилок, зажмурив глаза и с силой, до боли, сжимая кулаки.
Чем кончатся переговоры — его не интересовало. Впрочем, оно и так было понятно. Ничем.
С самого начала ясно, что владимирские князья потребуют абсолютной покорности и не угомонятся, пока не увидят перед собой униженного и растоптанного Константина, а вместе с ним и…
«Да чего уж там, — подтолкнул он сам себя. — Продолжай, коль знаешь. А ведь ты знаешь».
И он продолжил: «А вместе с Константином такое же униженное и растоптанное Рязанское княжество. Все. Полностью».
Ну ладно, тогда зимою он еще дурак дураком был. В душе обида кипела, в голове неверие держалось. Но ближе к лету, уже по здравому размышлению, до него ведь почти полностью дошел глубинный смысл слов Константина. И не только до разума — до сердца. Ну, разве чуточку самую не хватило, чтоб решиться окончательно.
Потому и Онуфрий, почуяв неладное, скрылся с глаз его долой куда-то в один из ростовских монастырей. Чуял, змий поганый, что не ныне, так завтра еще раз допросит его княжич, как там под Исадами дело было, и придет боярину смертный час.
Так какой черт удерживал его самого, мешая повернуться и уехать куда глаза глядят вместе со своими тремя боярами, продолжающими, несмотря ни на что, хранить верность княжичу. Куда именно? Ну, хотя бы в тот же Чернигов, где его давно ждали мать и братья. Нет, гордость бесовская не дозволяла.
А ведь отец Пелагий не раз говорил на проповедях, что эта треклятая гордыня есть не просто грех смертный, но и матерь всех прочих смертных грехов, которые она же и порождает в человеке.
Да еще стыдоба великая мешала Ингварю. Ну, как же — его ведь вся семья в Чернигове ожидает с победой, а он ни с чем явится. Нельзя.
Кстати, и боярин Кофа его упреждал — пусть вскользь, туманными намеками, но упреждал, что не бескорыстно взялись ему помогать северные соседи.
— Придется тебе, княже, потом такую цену выкладывать, что без штанов останешься, — говорил Вадим Данилович пасмурно.
Да и женка Ярославова тоже на многое Ингварю глаза открыла. Ох, и мудра оказалась переяславская княгиня. Прямо как в воду глядела. Даже слова ее были почти точь-в-точь те же, как у боярина Хвоща.
И тут же в его памяти всплыло, как совсем недавно, буквально дней за десять до того, как им отправиться под Коломну, она спросила его грустно:
— А ты что, и впрямь надеешься, что переяславский князь окажется щедрее, чем твой стрый двоюродный? — И, грустно усмехнувшись, протянула со вздохом: — Эх ты, глупый, глупый.
— Ну, пусть не все грады, но Рязань-то моей будет. Да и Ольгов с Ожском, — пробасил тогда Ингварь, сам внутренне холодея.
Уже тогда он чувствовал, что именно услышит от Ростиславы, и тут же торопливо добавил срывающимся от волнения голосом:
— А уж про Переяславль с Ростиславлем да Зарайском и речи быть не может — они и так мои.
Красавица княгиня в ответ лишь пожала плечами и нехотя заметила:
— Коли так хочется тебе — надейся.
— А ты как думаешь?
Ингварю почему-то очень хотелось выслушать ее точку зрения, к тому же он успел убедиться в том, что мудра Ростислава не по годам, несмотря на писаную красоту и молодость — лет на семь-восемь, не больше, была она старше самого Ингваря.
Сколько ни слушал княжич ее рассуждения — так там ни убавить, ни прибавить, а всегда в самое яблочко.
Она вновь пожала плечами, но потом вдруг решилась и, склонившись к Ингварю, заговорщически шепнула на ухо:
— А ты князю Ярославу о том не сболтнешь?
Тот от возмущения чуть язык не проглотил. Сказал бы ей, да слова подходящие на ум, как назло, не шли. И за кого она его вообще считает — за изветника[32] поганого?!
— Да верю я тебе, верю. — Она примирительно положила ему на колено ладонь, на которой лишь на среднем пальце одиноко красовался серебряный перстень с большим ярко-красным рубином. — Только боюсь, горькими для тебя будут мои мысли.
— Какие есть, — пробурчал Ингварь. — Зато мудрые, — авансом поощрил он ее будущую откровенность.
— Твои бы словеса да богу в уши, — невесело усмехнулась Ростислава. — А еще лучше — князю Ярославу. Ну да ладно, слушай, что я мыслю. Те грады, которые и так твои, может, и впрямь тебе достанутся. Должна же и у моего мужа совесть быть, хоть чуток, — протянула она со вздохом. — К тому же с ним рядом Юрий будет. А что до остального — тут намного хуже. Ну, Коломну он уж точно себе охапит, чтобы иметь свободный ход на Оку, да и Лопасню заодно. А Рязань стольную… может, тоже тебе отдаст. Только не град, а угли да пепел.
— Это как? — не понял поначалу Ингварь.
— Должок у него. Мальцом он был, когда батюшка покойный Всеволод Юрьевич своего сынка Ярослава на Рязань усадил. Да только недолго он в ней княжил. Гражане выгнали. А он такого не забывает и не прощает. Никогда.
— Так ведь Рязань в отместку за это тогда и спалили. Почто еще раз жечь? — снова не понял княжич.
— Молод ты еще, — с жалостью посмотрела на него Ростислава. — Ее ведь не он сжег, а отец. Ярославу же за позор непременно самому отомстить захочется.
— Так оно когда было? Он уж все забыл, наверное, — продолжал недоумевать Ингварь.
— Он не забыл. Ты уж поверь мне — он помнит. И… зря ты Константина не послушался. Сдается мне, он бы все, что пообещал, выполнил, — неожиданно сменила она тему.
— Ты же о нем только с моих слов и знаешь, — усомнился княжич. — А говоришь так, будто с детства с ним вместе росла.
— Ну, не только с твоих слов, — загадочно протянула Ростислава. — Довелось и мне его как-то разок повидать. Трудно, конечно, с одной встречи о человеке судить. Только, по-моему, ему-то как раз верить можно. — Она повернулась к Ингварю, и тот поразился цвету ее глаз.
Княжич еще до того про себя не раз дивился, как он может меняться. Особенно разительно такие перемены происходили, когда Ростислава гневалась на кого-то или… в присутствии князя Ярослава. Тогда они у нее прямо-таки чернели. В обычное же время могли быть синими, могли васильковыми, могли фиалковыми, но такого цвета Ингварь еще ни разу не замечал. Вроде бы обычный, но весь какой-то мягкий, нежность излучающий. А в самой глубине, на донышке, еще и искорки неясными точечками вспыхивали то и дело.
Почти неприметными они были, будто от ночного костра, и точно так же ввысь безостановочно уносились.
— А у тебя в глазах искорки, — неожиданно произнес он вслух.
Ох, лучше бы не говорил. Дернула же нелегкая. Вмиг зрачки потемнели, искорки пропали, и даже лицо ее как-то вдруг тоже изменилось, чужим и суровым стало.
— Уходи, — строго сказала княгиня. — Сейчас же уходи.
— Ты это почто… меня… так вот? — растерялся Ингварь, ушам не поверив.
Никогда еще Ростислава такой жесткой с ним не была. Обычно она, напротив, будто старалась мягким говором компенсировать суровость своего мужа, а тут…
— Уходи, — повторила она, плотно сжав губы, и отвернулась в сторону.
Уже стоя в дверях, Ингварь обернулся напоследок, но княгиня продолжала враждебно молчать, даже не глядя на него.
— Ты прости, если я что не так… — потерянно произнес княжич и шагнул через порог, почти физически выталкиваемый этим молчанием, но успел услышать вдогон:
— И ты прости.
Он радостно обернулся, уже улыбаясь, и тут же осекся.
— Но все равно уйди покамест, — сухо и ровно, хотя и без прежней злости в голосе, добавила княгиня.
А разговоров таких о самом животрепещущем для Ингваря деле, то есть будущем дележе Рязанского княжества, было еще два, и оба раза Ростислава, крайне неохотно поддаваясь на настойчивые просьбы княжича, после долгих отнекиваний кое-что поясняла Ингварю.
Были эти пояснения лаконичными и скупыми, однако многое после них представало перед юношей совершенно в ином свете, нежели раньше.
«Права, права, во всем права», — думалось сейчас Ингварю.
Он хотел было заснуть, но сперва боярин Кофа заглянул не вовремя, настаивая, чтобы княжич хоть что-то поел, потом озабоченный князь Юрий Всеволодович влез в шатер, назойливо приглашая разделить с ним трапезу, да все допытывался, не приболел ли. Наконец его оставили в покое, но сон все не шел и не шел.
К тому же Ингваря изрядно раздражал сочный басовитый храп Вадима Данилыча, который вместе с двумя рязанцами спал в его шатре. Будить же старого воеводу тоже не хотелось — пусть выспится перед битвой.
Устав вертеться на жестком войлоке, Ингварь встал, выбрался из шатра и двинулся наугад к первому попавшемуся костру.
Ночь, несмотря на дивные, чуть ли не по-летнему теплые деньки, была все-таки осенняя, то есть достаточно холодная. Он подсел к костру и протянул к ленивым язычкам пламени озябшие руки.
Усталые ратники спали, тесно прислонившись друг к другу. Кое-где дрыхли даже те, в чьи обязанности входило время от времени подбрасывать в огонь дрова. Это было сразу заметно — костры у таких горе-сторожей практически погасли, лишь угли еще багрово рдели, да беспокойно ворочались ратники, поплотнее прижимаясь друг к дружке, чтоб не замерзнуть.
Он рассеянно посмотрел в ту сторону, где вдали еще вечером находилось войско Константина, и насторожился. К чему это стрела горящая в небо взлетела? Кому и кто сей знак подает? Но тут новый, более яркий свет, вспыхнувший за спиной, привлек его внимание.
Ингварь обернулся и с изумлением увидел, отчего стало так светло. Откуда на стенах крепости взялось такое обилие ярко полыхавших факелов, он, равно как и любой другой, пусть даже из числа бодрствующих, объяснить бы не сумел. А через секунду ему стало не до таких пустяков, как неведомо когда зажженные и невесть кем установленные факелы.
Не до того, потому что над полем внезапно вспыхнул ярким пламенем, отдававшим легкой синевой, огромный, до самого неба, крест. Почти сразу же последовала оглушительная вспышка, дикий, неимоверно страшный в ночной тиши грохот, и княжеский шатер, в котором почивал князь Юрий, как-то резко подлетел вверх и затем тут же, сложившись, рухнул вниз, заполыхав еще одним ярким факелом — куда до него тем, что горели на стенах.
Что-то подобное приключилось и с шатром князя Ярослава. Вот только он не поднимался вверх, а просто рухнул набок и не загорелся. А дальше громыхало и полыхало уже без остановки. Шатры тысяцких и прочих именитых бояр валились один за другим, занимаясь тяжелым пламенем. Вскоре от удушливого, едкого и черного дыма стало трудно дышать.
Истошные крики людей, очумевших от увиденного, густо смешивались с пронзительными воплями тех, кто совсем потерял голову и пытался куда-то бежать без оглядки. На людские вопли густо наслаивалось жалобное ржание лошадей, бьющихся в агонии; и вдруг все подавил столь знакомый Ингварю мерный звон мечей, которыми рязанские вои, идущие в сечу, что есть силы лупили плашмя по умбонам щитов в такт своим шагам. А в довершение ко всему раздался необыкновенно страшный громкий голос:
— Бросай мечи на землю, бросай мечи на землю. Бросай мечи на землю, — и тут же, без паузы: — У кого в руках меч — тому смерть.
Каждую из этих фраз голос повторял трижды, строго чередуя их и не останавливаясь ни на секунду. Чуть погодя Ингварь понял, что именно напугало его в этом звучании. Громкость. Ну, не мог ни один человек без передышки кричать так громко, чтобы почти начисто перекрывать все остальные звуки.
Большинство ратников, насмерть перепуганные происходящим, уже ни о чем не думая, действительно бросали выхваченные из ножен мечи, если они вообще у них были, а то и попросту валились навзничь, в ужасе затыкая уши. Некоторые из дружинников, не поддаваясь испугу, напротив, отважно выхватывали оружие и бежали навстречу… Навстречу своей гибели. Как правило, они успевали сделать лишь несколько шагов, а дальше тугой посвист очередной стрелы, сочно впивающейся в человеческое тело, успешно гасил порыв смельчака.
Очнувшись наконец от своего недолгого оцепенения, Ингварь попятился назад, обо что-то зацепился ногой, упал, вновь поднялся и пятился, пятился, пятился, не оборачиваясь, пока не споткнулся о ткань лежащего шатра, в котором отдыхал князь Ярослав.
«Все, — промелькнуло в голове. — Теперь никого нет. Ни Ярослава, ни Юрия. Некому грады жечь, села зорить, людей рязанских в полон брать. Не видать Ярославу Коломны, а мне — Переяславля-Рязанского».
И, странное дело, легкая горечь от последней мысли как-то резко, почти внезапно сменилась облегчением.
— Пусть так, пусть лучше так, — почти беззвучно, одними губами, шептал он, безучастно улыбаясь чему-то светлому и хорошему.
Ингварь, пожалуй, и сам не сумел бы объяснить себе, чего это он вдруг так развеселился.
«А просто так», — ответил бы он, не думая.
Напряжение последних дней, почти физически давившее на плечи и стеснявшее дыхание, теперь куда-то исчезло, и ему было легко и покойно сидеть на остатках шатра Ярослава.
Легко и… очень мягко. Княжич нахмурился, пытаясь понять, на что же это он взгромоздился, провел на ощупь рукой, и вдруг до него донесся еле слышный стон, раздававшийся из-под лежащего полотнища шатра. Он быстро приподнял его и ахнул.
Под тканью лежал живой князь Ярослав. Да, почти весь залитый кровью, сочащейся из многочисленных ран, с донельзя изуродованным лицом, превратившимся в какую-то страшную маску, но живой. Мертвые не стонут.
Ингварь растерянно посмотрел по сторонам. Были в обозе белые и чистые льняные полосы, приготовленные специально для перевязок, но где теперь искать тот обоз в царящей повсюду кутерьме?
«А может, все так и оставить, как есть. Все равно ведь не жилец».
Он посмотрел на залитое кровью лицо Ярослава с двумя резко очерченными морщинами, идущими вкось от крыльев острого носа вниз, к уголкам губ, на темно-красную, почти черную дыру, зияющую у него на месте правой глазницы, убеждаясь все больше и больше, что да, и впрямь не жилец. Однако почти сразу же ему вспомнилось лицо Ростиславы, которая всегда была добра и участлива к нему, Ингварю.
Он еще раз оглянулся по сторонам и медленно потащил меч из ножен.
* * *
И заключите безбожный князь Константин Резанский уговор с диаволом, продаша ему душу свою черную. И возжелаша он погубити воинство христово, кое прислали в человеколюбии своем братья князья Юрий да Ярослав, дабы освободити люд резанский от оного насильника и душителя.
И возгорелся огнь смрадный из самих пещер адовых пред воинством сим, и обуяша дымвонький шатры князей славных Юрия да Ярослава и тако же и бояр их верных, и дружины их.
Побиты были все, токмо едину князю Ярославу за праведные дела жизнь дарована бысть. Возопиша в то лето во градах многих на Руси люди, рыдаша горька по праведникам невинно убиенным, а Константин же, слыша плач сей скорбный, ликоваша премного душою сваею чернаю.
Из Суздальско-Филаретовской летописи 1236 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1817* * *
И возгорелся в нощи крест огнен пред воями Константина, и бысть оный будто знак с небес, несущий князю в дар славу, победу и благословенье. И хошь ратников резанских числом бысть вчетверо помене, нежели ворогов, но с божией помощью побита они их. Простой же люд Константин велеша щадити всяко, бо ведал, яко те не по своей воле, но по понуждению шли и в грехе неповинны.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1760* * *
Описываемые события второй по счету битвы под Коломной, пожалуй, наиболее загадочны. Остается только предположить, что некое небесное явление, чрезвычайно похожее своей формой на крест, действительно возникло в ту ночь на небе и светилось за спинами рязанцев, вселяя непреодолимый ужас и панику в стане их врагов. Но с этим атмосферным явлением проще, а вот что за огонь обуял шатры владимирских князей, причем практически одновременно, — остается лишь строить догадки.
Я предполагаю, что это был, скорее всего, так называемый «греческий огонь». Попал же он к Константину благодаря отцу Николаю, выезжавшему для получения епископского сана в Никею. Тогда легко объясняется, что именно за это приобретение рязанский князь впоследствии так уважительно относился к этому священнослужителю.
Утверждают, что человек, канонизированный впоследствии церковью, не мог этого сделать, ибо всегда болел душой за мир. Но, во-первых, он мог взять с Константина слово никогда не употреблять его для нападения, а во-вторых, вполне возможно, что отец Николай как раз ничего об этом и не знал. Добывали же этот важнейший секрет его попутчики, посланные князем одновременно с будущим епископом в Никею.
Другое дело — как им сумели облить, да еще одновременно, все шатры владимирцев и суздальцев? Может, со стен Коломны? Трудно сказать наверняка.
Что же касается других попыток объяснить случившееся, вроде использования тех же гранат, как это утверждают молодые ученые Ю. А. Потапов и В. Н. Мездрик, то достоверно установлено, что впервые они были применены значительно позднее, поэтому даже не имеет смысла их опровергать — это сделано задолго до меня.
О. А. Албул. Наиболее полная история российской государственности. СПб., 1830. Т. 2, с. 140–141.Глава 3 Что бог ни делает
Сейчас, когда сам бог, быть может, беден властью, Кто предречет, Направит колесо к невзгоде или к счастью Свой оборот. В. Гюго— Эй, паря, ты чо, помереть собрался, — услышал Ингварь за своей спиной. — Ведь ясно же всем сказывали — бросай мечи, — но он даже не обернулся, продолжая лихорадочно кромсать грубое шатровое полотно.
— Умом рехнулся, — предположил голос помоложе. — Ты глянь-ка на него, дядя Тереха, молодой вовсе, вот и спужался.
— Не мудрено, — вздохнул человек постарше.
Княжич тем временем все резал и рвал полотно на куски. Наконец, решив, что нарезанного будет достаточно, он отбросил меч в сторону, опустился на колени и начал осторожно снимать с неподвижного Ярослава кольчугу.
— Ах, вон оно что, — удовлетворенно протянул голос постарше и сразу помягчел: — Это совсем иное. Подсобить болезному — дело святое. Ну-ка, Тяпа, подмогни малому, а то он в одиночку не управится.
— Дядя Тереха, я же крови боюся, — заныл голос помоложе и после паузы добавил более испуганно: — А ведь ты вспомни, как вечор упреждали: ежели кто живой под шатром остался — немедля к князю бежать. Вот давай я и сбегаю. Я же прыткий.
— Прыткий он, — прогудел недовольно дядя Тереха. — Ну, делать нечего, беги отсель, а я сам подсоблю. Двигайся, орел, — брякнулся рядом с Ингварем на колени крепкий коренастый мужик, заросший по самые глаза изрядно поседевшей бородой, и принялся сноровисто помогать княжичу освобождать раненого от стальной брони.
Какое-то время они молча возились, мешая друг другу, но потом дела пошли на лад, и еще через пару минут с боевой амуницией было покончено, и они перешли к одежде. С нею справились и вовсе на удивление быстро, причем дядя Тереха ухитрился сноровисто оторвать от княжеского корзна[33] вместе с куском меха золотую застежку, заговорщически подмигнул Ингварю и молниеносно упрятал ее за пазуху.
— Токмо ты князю нашему не сказывай, — буркнул он, продолжая сноровисто перевязывать раненого, тихонько постанывавшего время от времени.
В это время сзади вновь раздались голоса, и один из них явно принадлежал Константину.
— Твои орлы, конечно, молодцы, но на пятерку малость недотянули. Это уж пятый из подранков.
— Ну уж, княже, ты прямо захотел, чтоб все в идеале было. А это жизнь, — ответил ему кто-то, тоже очень знакомый.
Ингварь оглянулся. Так и есть — в трех шагах от него стояли князь Константин и совсем еще молодой паренек, который тогда, во время переговоров с ним, Ингварем, занес князю завернутую в тряпицу икону, вывезенную из отчего терема в Переяславле-Рязанском.
Княжич зачем-то схватился за меч, опираясь на него, тяжело и медленно поднялся на ноги и выпрямился, горделиво откинув голову.
— Ну вот, а ты боялся, — спокойно произнес паренек, стоявший рядом с князем. — Жив, здоров и даже довольно-таки упитан.
— Он и тогда с мечом в руках был, но мы его с дядей Терехой срубать не стали, — начал суетливо пояснять такой же молодой парень в простой крестьянской одежонке.
— Ну и славно, — не дослушав до конца, рассеянно кивнул головой князь. — Как звать?
— Тяпой меня кличут, — услужливо откликнулся парень.
— Я запомню, — кивнул Константин. — Каждому по гривне сверх общей доли жалую.
— Ух ты, — радостно присвистнул парень и тут же добавил просительно: — По кругленькой?
— По кругленькой, — вздохнул князь. — Ну, здрав буди, Ингварь Ингваревич. Не в добрый час нам с тобой свидеться довелось.
— И ты здрав буди, Константин Володимерович, — медленно произнес Ингварь и с натугой вытянул из земли меч, на который опирался.
— Эй, эй, ты чего, дурень? — шарахнулся назад Тяпа, а паренек, стоящий возле князя, торопливо выхватил из ножен свой меч.
Ингварь отрицательно мотнул головой.
— Не то, воевода, — вспомнил он наконец этого человека и снисходительно, как старший по возрасту, усмехнулся.
Он себя и впрямь сейчас ощущал старше этого юнца лет на тридцать, не меньше.
— Не то, Вячеслав, — повторил Ингварь.
Константин продолжал неподвижно оставаться на месте. Он даже не пошевелился.
И лишь когда Ингварь поудобнее перехватил меч за острие и протянул его рукоятью к князю, тот спокойно сделал шаг вперед, не торопясь, принял оружие, чуть подержал его на весу, больше из приличия, после чего совершил аналогичную процедуру, возвращая меч обратно княжичу.
— В ножны вложи, — посоветовал спокойно и поинтересовался: — Надеюсь, обагрить его в крови рязанской не успел?
Ингварь отрицательно мотнул головой.
— Ну и славно, — вздохнул князь с явным облегчением и вдруг резко нахмурился, указывая на лежащего недвижимо раненого. — А это кто?
— Это князь Ярослав, Константин Володимерович, — ответил Ингварь.
— Притом живой, — заметил князь и, повернувшись к воеводе, произнес совершенно непонятную для Ингваря фразу: — Это даже не четверка, Вячеслав. Это три с минусом.
— За одну ошибочку целый балл срезал. Нечестно, — не менее загадочно ответил тот.
— За грубейшую ошибку, Вячеслав Михайлович. Самую что ни на есть грубейшую. И что теперь мне прикажете с ним делать?
— Ты — князь, — буркнул воевода. — Значит, тебе и решать. Палача, то есть ката, у меня с собой нет.
— А что толку, даже если бы он и был, — зло откликнулся Константин и протянул задумчиво: — Дела-а.
После некоторой паузы князь нехотя уточнил у заканчивающего свои труды по перевязке дяди Терехи:
— А он как, дотянет до дома?
— Ежели по дороге — точно не довезут, — с готовностью ответил добровольный санитар. — А ежели ладьею — то тут как сказать. Раны тяжкие, и опять же руды с него вытекло — ужасть.
— Слыхал? — обернулся князь к воеводе. — Твой грех — тебе и исправлять. Ищи с десяток воев… ихних, — уточнил он после паузы, — и пусть они его везут… во Владимир.
— По дороге? — лукаво усмехаясь, уточнил паренек.
Князь мрачно засопел, скрипнул зубами и выдавил нехотя:
— Ладьей.
— Его же в Переяславль надобно доставить, — напомнил Константину Ингварь. — Там княгиня Ростислава ждет. Я его токмо ради нее и перевязывал.
Князь скривился, будто его в одночасье прихватила острейшая зубная боль.
— Слыхал же, что сказали, — растрясут, не довезут. Водой же только по Оке, а потом по Клязьме. Иначе никак. — Он вновь поморщился и переспросил: — А что, княгиня так сильно его любит?
Ингварь в ответ лишь смущенно пожал плечами и неожиданно для самого себя выпалил:
— Женка она его. Стало быть, должна любить.
И вновь еще более болезненная гримаса исказила лицо Константина.
— Ну да, ну да. Раз женка, стало быть, должна любить. Как это я сам не догадался, — с какой-то детской растерянностью произнес он и замолчал, продолжая смотреть на неподвижно лежащего Ярослава. Потом, как бы очнувшись, вновь повернулся к воеводе и удивленно осведомился:
— Ты еще здесь? Я уже все сказал.
Вячеслав неодобрительно крякнул, явно не согласный с таким решением вопроса, и предупредил многозначительно и вновь загадочно:
— Он ведь по закону подлости обязательно выживет, княже. Оно тебе надо?
— Слыхал, что Ингварь сказал?! — выкрикнул князь жалобно. — Женка его ждет. Да еще и любит притом.
— Тоже мне, аргумент нашелся. Нас всех женки ждут и любят.
— Ты пока ею не обзавелся, — огрызнулся Константин. — А меня уже не ждет.
— Между прочим, благодаря ему, — хмуро кивнул, уже уходя, Вячеслав на тяжелораненого.
Едва воевода отошел на несколько шагов, как Константин пытливо посмотрел на княжича и спросил:
— Ты же там все время жил. Это так? Гремислав и впрямь с его ведома Рязань спалил?
Врать Ингварь сызмальства не привык, но правду говорить тоже не хотелось. Уж больно она противная была — гнусная и скользкая, как протухшая рыба. И пахло от нее так же, если не хуже.
Он молча отвернул голову, не зная, что тут можно, а главное — что нужно сказать. У него самого совесть в этом плане была вовсе чиста — о том, что столица рязанского княжества сгорела, он узнал чуть ли не самым последним. Но Гремислава он подле князя Ярослава видел, причем не раз, а сопоставить одно с другим, то есть гибель Рязани и таинственное шушуканье князя с бывшим дружинником, а потом загадочное исчезновение последнего, особого труда не составляло.
— Я спрашиваю… — начал было Константин, но потом махнул рукой. — Ладно, не отвечай. И так все ясно. Лучше скажи, ты сам-то сейчас куда?
— Куда повелишь, княже, — даже чуть удивился Ингварь.
Мысленно он был уже давно готов ко всему — от встречи с катом до какого-нибудь особо потаенного поруба.
— Чай, не маленький, — резонно заметил Константин. — Сам должен себе дорогу выбирать. Твой лоб — твои и шишки.
— Это, стало быть, я свободен? — неуверенно переспросил Ингварь.
— Стало быть, свободен, — подтвердил Константин.
— После всего, что я…
— После всего, что ты… Лишь бы ты понял все, что ты…
Оба не договаривали до конца, но тем не менее понимали друг друга вполне сносно.
— Да я еще раньше… — досадливо махнул рукой Ингварь. — Мне уж и Ростислава толковала не раз.
— Значит, плохо толковала, — заметил Константин и, настороженно прищурив глаза, переспросил: — Кто? Ростислава?
— Ну да, княгиня его, — кивнул Ингварь на Ярослава.
— И что же она тебе толковала? — не произнес — выдохнул Константин.
— Да все. Сказывала, что негоже так-то в свое княжество возвращаться. Нехорошо это.
— А-а-а, — протянул Константин несколько разочарованно, немного помолчал, но затем, сделав над собой усилие, все-таки уточнил: — И все?
— Нет, не все, — вздохнул Ингварь. — Но это главное.
— Знаешь, а она, пожалуй, права, — заявил князь.
— Да я и сам до этого додумался, — совсем по-мальчишески шмыгнул носом Ингварь. — Дураком был, стрый. Ты уж прости меня. Обида взыграла, что ты все в одни руки прибрал, вот я и…
Он, не договорив, медленно опустился на одно колено, склонил и без того виновато потупленную голову и повторил:
— Прости, Константин Володимерович.
— Встань, встань.
Константин, как-то излишне, не по делу суетясь, помог Ингварю подняться с колен, зачем-то попытался отряхнуть его, приговаривая:
— Говорено же, что свободен ты. Можешь даже назад вернуться — обиды не причиню, — и вдруг шепнул почти на ухо: — А обо мне она ничего не говорила? Не спрашивала?
— Кто? — не понял Ингварь.
— Да Ростислава же, — нетерпеливо прошипел князь.
— А-а, ну да, говорила как-то раз, но совсем малость, — честно уточнил Ингварь.
— И что говорила?
— Сказывала, что лучше бы я с самого начала своего стрыя послушался.
— Ага, ага, — закивал Константин, счастливо улыбаясь. — А еще что?
— А еще сказывала, что тебе верить можно. Ты, мол, слово свое завсегда сдержишь.
— Ага, ага, — блаженно зажмурился князь. — А еще?
— Да все, пожалуй, — пожал плечами Ингварь, искренне злясь на себя за то, что так и не приучился врать. Сейчас, глядишь, и сгодилось бы.
— Я же говорю, что малость совсем, — повторил он сконфуженно.
— Нет, Ингварь Ингваревич, это не малость, — убежденно произнес Константин.
Он задумчиво посмотрел на лежащего Ярослава, потом на Ингваря, затем вновь на Ярослава, после чего хитро улыбнулся и заключил:
— Наверное, и впрямь истинно в народе говорится: что бог ни делает — все к лучшему. Может, и это к лучшему, а?
В ответ Ингварь лишь недоуменно кивнул. Честно признаться, он так до конца и не понял, о чем говорит рязанский князь, что имеет в виду. Потому и смотрел на него непонимающе, хоть и согласился… не пойми с чем.
— Ну ладно. Потом поймешь, — хлопнул его по плечу Константин и осведомился: — С тобой-то ныне много ли было рязанских людей?
— Трое, — насторожился Ингварь. — А что?
— Боярина Онуфрия я с собой заберу, не взыщи. Остальных же можешь найти и освободить. А то их, поди, уже мои молодцы в полон прихватили, — махнул князь рукой в сторону пленных.
— Вот один Онуфрий и уцелел, небось, — хмыкнул Ингварь. — Только не здесь он. Уже с месяц как в монастырь ушел и схиму приял. Остальные же… В шатре они моем были. Наверное, в нем и сгинули — не всем же так везет, как князю Ярославу.
— Не всем, — согласился Константин. — Но в шатер я бы на твоем месте заглянул.
— Так ведь рухнул он! — удивился Ингварь.
— Кто? — с еще большим изумлением переспросил князь.
— Шатер мой.
Княжич повернулся, чтобы показать, где именно находился его шатер, но с удивлением обнаружил, что тот как стоял, так и стоит, причем единственный из всех. Просто когда один за другим они стали взлетать вверх или валиться набок, Ингварь к себе больше не возвращался, отвлеченный наступлением рати Константина, и даже не поворачивался в его сторону.
— Это Хвощ подсказал, куда именно ты зашел, — пояснил Константин. — Вот мои вои его и не тронули.
— Вот уж не думал, что ты так ко мне, — пробормотал окончательно смутившийся княжич.
— Ты хороший человек, Ингварь, — одобрительно подмигнул ему князь. — Прямой, честный, смелый. Такие, как ты, не продают и слово свое всегда держат. А что запутался малость — ну так это не беда. Главное — понял быстро. Так что иди-ка передохни, позавтракай, а то уже рассвело давно. А нам с Вячеславом пора. И помни, — уже уходя, крикнул Константин, — ежели надумаешь вернуться — дорога для тебя всегда открыта. Условия потом обговорим. А то я тороплюсь сильно. Меня еще две рати ждут, так что надо поспешать.
О том, какая из них страшнее, Константин и сам не знал. У страха глаза, как известно, велики, поэтому то количество, которое назвал ему заполошенный гонец, прибывший с восточных рубежей княжества, из-под Ижеславца, можно было смело делить напополам, а если как следует подумать, то и еще раз уполовинить. Хотя все равно оставалось много — тысячи три-четыре.
Русские-то они русские, но, во-первых, далеко не все — дикой мордвы больше половины, а во-вторых, жечь и грабить будут точно так же. Обычаи сейчас такие, ничего не поделаешь. Но это на востоке. На юге же степняки нахлынувшие, почитай, и вовсе зверье.
Все возможное, чтобы остановить одну из орд кочевников, ту, которая была под рукой Юрия Кончаковича, бывшего тестя Ярослава, он сделал. Но хватило ли его усилий для того, чтобы удержать степной народец от грабежа беззащитных южных рубежей Рязанского княжества — поди догадайся.
К тому же при любом самом благоприятном раскладе оставалась еще одна орда — старейшего хана половцев Котяна. На него Константину надавить было просто нечем. Попытаться с подарками сунуться? Так лебезить перед старым половцем еще хуже, чем совсем ничего не делать. Мудрый хан, поживший изрядно и повидавший многое, тут же сообразит, что к чему. Впрочем, тут и соображать особо нечего — сразу ясно, что боится его набега рязанский князь. Боится, потому как людей, чтоб его отбить, не имеет. А значит что? А значит то, что тогда-то уж его точно ничем удержать не удастся. И даже если он примет от князя дары и, лукаво ухмыляясь, заверит в своей искренней, горячей дружбе, то уже через пару дней скомандует своим людям нечто совершенно иное. Ну, скажем, что-то вроде: «Вперед, бойцы лихие, нас ждет добыча с серебром, и полоняницы нагие, и пир победный под шатром».
Вот потому-то, когда Константин едва достиг на своих судах устья Прони и увидел всадников, скачущих навстречу на взмыленных конях, уже не сомневался в том, какую именно весть они ему принесли. Неясно было только одно: Ряжск только взят или уже и Пронск полыхает. Впрочем, что тут гадать — сейчас ему все точно скажут.
И не знал Константин, что в той истории с половецкими ордами имелся еще один, совершенно неучтенный и не предусмотренный им фактор. Впрочем, такое предусмотреть не смог бы никто, поскольку возник он не вчера и даже не месяц назад, а ранней весной, и именовался этот фактор… Ростиславой.
Глава 4 Половцы
Строили ряжи, водой наполняли Ров, чтоб врагам не пройти. Город со временем Ряжском назвали, — Стал богатеть он, расти. С. Шейдина— Ишь ты, — засмеялся Мстислав Удатный, с умилением поглядывая на грамотку, которую только-только получил от своей старшей дочки Ростиславы.
Чуть больше месяца прошло, как он отправил ее обратно к мужу, а уже заскучал князь-отец. Чего-то недоставало. Не с кем было поговорить о том о сем. Все-таки умная у него дочурка, настоящая княгиня. Конечно, иной раз и вовсе наивные вопросы задает, которые совсем не бабьего ума, но ведь интересуется. А с другой стороны, пока ей ответит Мстислав, глядишь, и у самого кое-какие соображения придут на ум.
Взять ту же Рязань и братоубийство княжеское, которое там произошло. Если бы, не разобравшись, полез Мстислав порядок там наводить, то таких дров наворотил бы. Когда же поговорил с Ростиславой, ответил ей на одно-другое, и самому на ум сомнение пришло — а впрямь ли Константин своих братьев положил под Исадами, или то хитроумная затея его братца, покойного Глеба? А коль что-то непонятно, лучше не торопиться, не лезть на рожон.
Да что далеко ходить. Вот и в этой грамотке она сызнова отцу вопросы задает: правда ли, что ранее угры, у коих ныне король и прочее, как у всех в западных землях, простыми дикими пастухами были да бродили по степям, как ныне половцы? И ежели это правда, то любопытно ей, кто одолеет в случае, когда вдруг между ними произойдет какая-нибудь свара? Ну, скажем, под тем же Галичем. За кем победа останется — за теми, кто и ныне по старине живет кочевой жизнью, или же за теми, кто перенял ухватки у западных соседей, но многое из прежнего утерял напрочь?
Мстислав, конечно, за старину был. Так он ей мысленно сейчас и отвечал. И не просто отвечал — обстоятельно, со всех сторон обосновывая. Вот, скажем, бронь у воя. Она, конечно, быть должна, но легкая, чтоб движений не стесняла. А то в последнее время трусливая немчура столько всякого железа на себя понацепляла, что с трудом на лошадь садится, а если уж свалится такой рыцарь с нее, то считай, что все — смерть пришла. Подняться-то ему никто не даст, тут же и забьют насмерть.
Или, например, строй взять, «свиньей», предположим. Тоже ведь вычурно и хлопотно. Уж лучше вместо такой учебы лишний раз мечом помахать. А коли пришло время битвы, так тут и думать нечего. Главное, чтоб в сердце у тебя вера была — за правое дело идешь, а там, на небесах, мигом разберутся. Господь не Тимошка, видит немножко. И не просто видит, а еще и подсобляет.
Так что ответ князя был ясен. Конечно же, за ста… стоп, а что она там про Галич-то писала?
Так-так, а вот это любопытно. Мстислав задумался. Он-то поначалу к Галичу собирался со своей дружиной идти, да еще кое у кого из князей южнорусских силенок подзанять. Потому и ездил совсем недавно к своему тезке и двоюродному брату, киевскому князю Мстиславу Романовичу. Как-никак тот обязан был ему. Не подсоби Удатный, нипочем Романович на киевский стол не воссел бы. Не сдюжил бы он супротив Всеволода Чермного.
Ожидания Удатного киевский князь оправдал и дружину дать согласился, но так, вскользь, намеками, и ответные пожелания высказал, да не одно, а сразу два. Дескать, идучи на Галич, князь стол пуст оставляет в Новгороде Великом. Вот бы, как по старине и положено, старшего сына киевского князя на него подсадить — Святослава. Уж Мстислав-то Удатный ведает, кому из бояр новгородских на это намекнуть.
Ну что ж — невелика просьбишка. Почему не уважить. К тому же оно и впрямь по самой что ни на есть старине получается. Свой-то сын Василий опять хворает тяжко. Не дал господь ему здоровья.
А вот с другим пожеланием намного хуже оказалось. Просил Старый, как его на Подоле киевском метко прозвали, чтобы Удатный и других его сыновей пристроил. Ведь и Ростислав, и Андрей только именуются младшими, а на самом деле первому через два года сорок лет исполнится, а второму — через пять лет. То есть оба уже в годах немалых, а звание у каждого — княжич киевский, да и то лишь пока сам Мстислав Романович в Киеве сидит.
Едва помрет — и все. Пиши пропало. Придет Владимир Рюрикович из Смоленска, которому нет дела до сыновей двоюродного братца. У него, чай, свои детки имеются, и их тоже куда-то пристраивать нужно — жизнь есть жизнь.
Да к тому же и самому Мстиславу, когда он Галич возьмет, верные сподручники ох как понадобятся. А они уже тут, и искать не надо. Один, к примеру, в Перемышле сядет, а другой, скажем, в Звенигороде. И им славно, и Мстиславу покойно.
Вот тут новгородский князь призадумался. Не столь уж велика земля Галицкая, чтобы города, на ней стоящие, в вотчины раздаривать. Тут все как следует обмыслить надо. Да и с зятем своим меньшим, Даниилом Романовичем, тоже поделиться придется. И где же ему на всех городов напастись?
А едва он в Новгород вернулся, как единственный сын помер. Пока схоронил, пока то да се, а тут вот и грамотка пришла от доченьки-разумницы. Гм, а ежели и впрямь ему вместо киевских дружин дикий народец взять с собой на Галич? Уж, наверное, его тесть, хан Котян, не откажет зятю родному?[34] А тогда уж и делиться ни с кем не понадобится.
«Вот так Удатный, вот так молодец, — похвалил он сам себя за мудрую мысль. — А Ростиславе после отпишу», — решил он.
Дочь же ответа от отца и вовсе не ждала. Знала, что зело ленив батюшка на дела письменные. Да и не больно-то ей нужен был ответ на тот вопрос, который она в грамотке задала. Тут совсем иное.
Просто поделился как-то с нею муж Ярослав мыслью о том, что уж нынешней-то осенью он Константина Рязанского точно побьет, а когда княгиня фыркнула недоверчиво, он ей свой план и рассказал, супротив которого нет у рязанцев спасения.
В три руки он бить нацелился. Первая — с ним, Ярославом, и братом Юрием вновь по Коломне ударит, а две другие отвлекать станут, выступив чуть раньше. Давид Муромский со своей восточной стороны удар нанесет, а сразу две орды половецкие, хан Котян и Юрий Кончакович, тесть Ярославов, огнем нещадным пройдутся по южным городам. Какое бы направление ни сунулся закрыть Константин, на двух других у него голо все будет.
Поначалу-то она просто хотела усовестить Ярослава. Мол, негоже это, нехристей поганых самому на Русь звать, пусть даже в помощь против другого князя. Всем известно, что там, где половцы прошлись, на следующий год земля хорошо родит — зола да трупы славно ее удобряют. Вот только некому ее, матушку, засевать, некому и урожай собирать. Пустынно там и страшно.
Но Ярослав о такой ерунде никогда не задумывался. Наорал лишь да заявил, что не бабьего ума это дело, и нечего ей свой нос длинный совать туда, где она вовсе ничего не смыслит. Даже замахнулся было, чтоб ударить, но в последний момент одумался, вовремя вспомнив про тестя. Никак нельзя ему было вступать в свару с новгородским князем. Потом когда-нибудь можно будет все припомнить, а сейчас цель одна — рязанец проклятый.
Так что княгиня дешево отделалась. Ей лишь оскорбления достались — дело привычное.
А когда муж в бешенстве выбежал из ее светелки и Ростислава осталась одна, то ей почему-то этот рязанец и припомнился. Особенно восторг, с которым он на нее смотрел, неподдельное восхищение, надежда, ясно читаемая во взгляде, и еще что-то эдакое. О последнем она даже самой себе думать запрещала, не желая и в помыслах грешить. Но ведь было же оно, было!
Ярослав так на нее никогда не смотрел, даже в первые дни после свадьбы. У него и взгляд иной был — хозяйский. Словом, никакого сравнения. И тут же, как назло, в памяти всплыл робкий голос Константина: «Но ты же не вещь». Славный контраст получался, очень славный, и явно не в пользу Ярослава.
Вот тогда-то Ростислава своему отцу и отписала грамотку в Новгород. И вопрос умно задала, и про Галич исхитрилась намекнуть. А когда она выдавливала свою печать на синеватом воске, перед самой отправкой гонца, произнесла странно:
— Живи, купецкий сын, — и улыбнулась ласково.
А к чему слова эти княгинины были, гонцу и невдомек вовсе. Да и забыл он про них напрочь уже к вечеру другого дня.
Послы же новгородские от князя Мстислава Удатного, хотя и с запозданием, попали к хану Котяну, однако своего добились. Твердое ханское слово дал Котян, поклявшись в том, что непременно подсобит он Мстиславу Мстиславовичу, зятю своему разлюбезному.
К тому же у него еще до того возникли немалые опасения насчет Рязанского княжества. Уж больно осильнело оно за последний год. Опять же Ярославу укорот какой изрядный даден ими под Коломной.
Эдак у самого Котяна, чего доброго, столько воев погибнет, что никакой добычей их смерть не компенсируешь. Глядишь, и захирела орда. А старым волкам в слабых ходить негоже — вмиг молодые в шею вгрызутся, прокусят загривок жадными зубами.
Он и сейчас-то хоть и старейший хан, а выставить сможет, почитай, немногим больше, чем тот же Юрий Кончакович. Да что там перед собой душой кривить — поровну считай.
И все половецкие отряды, которые были ему подвластны, тут же мало-помалу двинулись на новые кочевья, поближе к быстрому Днестру.
Чуть раньше, правда, такое же твердое слово услышали от него и послы Ярослава, но в этом не было ничего страшного. Тем и славен народ половецкий, от простого пастуха и до самого хана, что они подлинные хозяева своего слова. Захотели — дали, перехотели — назад взяли.
Осталась теперь лишь орда Юрия Кончаковича, тестя Ярослава, который все еще пребывал в больших колебаниях. Ведь и к нему тоже гонцы от Мстислава наведались. Однако, вызнав доподлинно, — а в степи слух летит намного быстрее, чем ползет в ином граде, — что Котян становища свои собрал и подался на запад, Юрий Кончакович, здраво помыслив, решил Ярославу не отказывать. Ни к чему сразу двум волкам в одну овчарню лезть.
К тому же Ярослав его еще и тем привлек, что наобещал, будто самый первый удар владимирские князья нанесут и черед Давида Муромского и Юрия Кончаковича настанет только тогда, когда Константин увязнет. То есть приходи, тесть дорогой, и бери голыми руками хоть Пронск, хоть Ожск, хоть Ольгов, а то и саму Рязань. Везде будет раздолье для степняка. И добыча, и полон. На том и порешили окончательно.
Вот только едва его первые, самые быстрые отряды стали продвигаться поближе к пределам Рязанской Руси, как пожаловал к Юрию Кончаковичу гость дорогой — хан Данило Кобякович.
Радушно встретил его хозяин. Делить им и впрямь было нечего — все угодья степные давным-давно поделили еще их деды и прадеды. Правда, время от времени более сильный слегка утеснял того соседа, что послабее, но тут какие обиды могут быть — сегодня ты у моего стремени бежишь, а завтра я у твоего побегу. Такова жизнь.
Да и отцы их жили дружно. Подчас даже воевали вместе — это когда общими силами Южную Русь зорили нещадно. Особенно доставалось новгород-северским землям да еще князьям Переяславля-Южного. Кончак, правда, более удачливым был. Кобяку везение не всегда сопутствовало, особенно в лето шесть тысяч шестьсот девяносто второе[35], когда сидящему в ту пору в Киеве князю Святославу удалось собрать воедино все княжеские дружины и у реки Ерелы начисто разбить почти всю его орду. Одних только пленных половцев насчитывалось до семи тысяч.
Попал в плен и сам хан Кобяк, и два его старших сына. Один из них так и умер в полоне, другой же благополучно воротился домой вместе с отцом. У обоих на груди сверкали золотые кресты — надеялись глупые князья, что поутихнет от этого степной волк.
Хотя и впрямь именно с тех пор Кобяк действительно перестал самовольно на Русь хаживать. Конечно, не в кресте золотом тут дело было и не в вере христианской. Да и принял ее Кобяк лишь затем, чтобы из плена отпустили. Просто воспринял он разгром своей орды как последний упреждающий звонок судьбы и больше искушать ее не решился.
Опять же и с силами малость собраться было нужно. Половчанки — бабы плодовитые, но дите только вынашивать девять месяцев нужно, а уж ждать, когда карапуз чумазый воином станет, и вовсе лет пятнадцать, не меныпе. А лучше все двадцать. Но когда сами князья приглашали — не отказывался.
Очень уж выгодно было. Тут тебе и гривенок серебряных отсыпят, и город взятый пограбить можно. Окончательно же Кобяк убедился в правильности своей тактики, когда он, по приглашению Рюрика Ростиславовича, в лето шесть тысяч семьсот одиннадцатое[36] ходил брать вместе с черниговскими князьями Киев.
Ох и славная была добыча! С одного только начисто разграбленного Софийского собора утвари золотой и серебряной столько взяли, что она еле-еле поместилась на двух десятках лошадей. А ведь помимо того еще и Десятинная церковь была, и монастыри. После дележа Кобяку одних монахинь на продажу не меныпе сотни досталось. Про люд простой и вовсе говорить нечего — не сосчитать.
То был последний поход хана Кобяка и первый — его сына Данилы Кобяковича. А потом так и пошло. Спустя три года вместе с тем же Рюриком совсем юный Данило ходил Галич зорить, позже — уже с черниговским Всеволодом Чермным — Киев у Рюрика отбирал… Словом, скучать не приходилось, и без добычи молодой хан не оставался. Не раз он и рязанским князьям подсоблял, даже сестру свою выдал за Константина, княжича ожского.
Вот только такое дело, с которым он ныне к Юрию Кончаковичу приехал, Даниле Кобяковичу раньше никогда править не доводилось. Не в набег на Русь идти, а другого хана от набега отговаривать. Да еще какого хана — на сегодняшний день орда его, пожалуй, будет самой многочисленной во всей степи. С таким только миром можно попытаться вопросы порешать. Свару затевать — себе дороже встанет.
До этого друг дружке они не мешали — Кончакович пас свои многочисленные табуны в среднем течении Дона, Кобякович в мирные годы в Лукоморье сиживал. Граничили их пастбища друг с дружкой, но пока грызни за них не было. Теперь иное. Ныне их интерес, пожалуй, впервые разошелся в разные стороны, потому как Юрий, по просьбе своего зятя, шел зорить Константина Рязанского — союзника и побратима Данилы Кобяковича.
Пока продолжался веселый пир, гость с хозяином о делах не заикались. Не принято в степи торопиться. Понятно, что не просто так хан к хану в гости наведался, однако все равно полагалось соблюсти все приличия.
Поэтому серьезный разговор затеялся у них только вечером, да и то не сразу. Поначалу так лишь, шуточками перебрасывались. Известно, первому начинать невыгодно — ты свое все выложил, а что за пазухой у собеседника — неведомо. Но здесь верх взял Данило Кобякович. Хозяина подвело любопытство, желание поскорей узнать, с чем гость пожаловал. Да и не считал он нужным таить то, о чем через пару недель вся степь знать будет. Если же он сейчас сам о том гостю скажет — вроде как тайну доверит, стало быть, уважение выкажет.
— Ныне на Рязань иду. Зять мой, князь Ярослав[37], подсобить просил, — скупо пояснил он.
— По родственному обычаю? — поинтересовался лениво Данило Кобякович.
— Как сказать. Дочь моя, которую я за него выдал, умерла давно. Однако мыслю, что подсобить надобно. К тому же час удобный. Князь Ярослав обещал все полки со своей земли на Константина двинуть. Не устоять рязанцу. И мне никто мешать не станет, — и щедро предложил, впрочем, тут же об этом слегка пожалев: — Может, и ты со мной, а? Добычи на всех хватит, — и с облегчением вздохнул, когда услышал решительный отказ гостя:
— У меня иные заботы. К тому же глупо искать тень под усохшим деревом. Я не хочу дружить со слабым, — и Кобякович сразу уточнил, чтобы хозяин шатра не воспринял это на свой счет: — Князь Ярослав слишком слаб. Константин уже бил его прошлой зимой. Побьет и ныне. Лучше дружить с победителем. А дружина Константина теперь осильнела изрядно. Одних воев с севера к нему не менее пяти сотен пришло.
— Много волос на голове, но все их можно сбрить. Велико стадо, но овцы, мала стая, но волки. Куда там его дружине с моими воями тягаться, — пренебрежительно махнул рукой Юрий. — К тому же, — склонился он доверительно к гостю, — они все уйдут с Ярославом биться, потому как тот раньше выступит. В городах из воев Константина хорошо ежели десятка по два останется, не более. Даже если самого Ярослава разобьют, я свое взять все равно успею.
Хан представил себе беззащитные рязанские города, где его ждет богатая добыча, и от предвкушения славной поживы его узенькие глазки и вовсе превратились в щелочки. Однако следующие слова гостя тут же отрезвили его.
— Лжет Ярослав, — спокойно заметил тот.
— Зачем так нехорошо о моем зяте говоришь? — с укоризной протянул Юрий Кончакович.
— О бывшем зяте, — уточнил гость. — А говорю, потому как знаю. Ты ныне уже к землям Константина двинулся, а Ярослав еще во Владимире стольном сидит, смерти брата дожидается, — уверенно заявил Данило, выложив на стол свой первый увесистый козырь. — О том мне доподлинно ведомо. Потому и приехал, чтобы упредить тебя как брата — не ходи на Рязань, худо тебе придется.
— А тебе откуда это ведомо? — насторожился хозяин.
— Были у меня гости от Константина. Совсем недавно уехали. Они и сказывали.
— Ну, они и солгать могли, — протянул Кончакович задумчиво. — Или, может, просто рязанец меня боится, потому и попросил тебя со мной поговорить, от набега удержать.
Предположение хана било в самое яблочко, но Данило Кобякович виду в том не подал и догадку Юрия решительно отмел:
— Они совсем об ином толковать приезжали. Князь Константин хочет ныне водный путь открыть, чтобы купцы все товары везли чрез его княжество. О том и уговаривались. Ему без меня никак нельзя. Я же как раз в низовьях Дона кочую. Ну а далее его воины караваны торговые беречь станут.
— И какая тебе в том выгода?
— Серебро за спокойный провоз каждый купец охотно выложит. Половина Константину, половина моя.
— Стало быть, ныне ты заступиться за родича приехал, — уверился в правильности своего предположения Юрий, но Данило отрицательно мотнул головой:
— Какой он мне родич? Разве что бывший. Убили мою сестру вои Ярослава. Константин в ту пору под Пронском был, который против него поднялся, да еще град новый ставил, вот и запоздал малость.
— А ты теперь, стало быть, в оместники[38] решил пойти?
— Я ее в другой род передал и уже давно. Ты же наши законы знаешь — за жену муж мстить должен. Скрывать не стану, я сам предложил подсобить, однако Константин отказался. Передал, что он и один управится.
— Коли отказался, значит, свою силу чует. В себе уверен, — глубокомысленно заметил Юрий Кончакович.
— И я о том же. А Ярослав его боится, на своих людей надежи не имеет, потому за тобой и послал, чтоб было за чью спину спрятаться. Он дождется, когда полки Константина сойдутся в сече с твоими воинами, и только тогда ударит по градам рязанским. Выходит, и добыча вся его будет — не твоя. А теперь подумай — если тень кривая, то и палка прямой быть не может. Коли Ярослав обманывает тебя уже в речах своих, то зачем тебе такой союзник?
Говорил Данило с уверенностью, потому что послы рязанские передали ему именно это. Перед тем как послать их в степь, Константин долго думал, что именно нужно сказать половцам, дабы те отказались от набега на его княжество. Ну, с Данилой проще — ему можно, образно говоря, и морковкой перед носом помахать, чтобы пошел туда, куда надо. К тому же без его поддержки все равно не обойтись — нужен ему надежный союзник из числа половецких ханов, контролирующих низовья Дона. Кобякович же на эту роль подходил идеально. Он и родич, пусть бывший, и побратим, и его, Константина, спас, вовремя придя под Рязань[39]. Опять же и орда его именно в тех местах кочует. Словом, годился Кобякович по всем статьям. Так что с караванами князь не солгал.
А вот насчет того, что передать Юрию Кончаковичу — кандидату номер один в союзники Ярослава, который к тому же еще и тесть его, пусть бывший, пришлось поломать голову. Лишь к исходу дня Константин надумал, каким именно образом половчее вбить клин недоверия в их отношения.
Дальше все было просто. Поставив себя на место Ярослава, он понял, что, скорее всего, тот поступит именно так: подставит половцев, чтобы вся рязанская дружина вместе с ополчением ринулась на юг отбивать нашествие степняков. Сам же выждет с недельку, не больше, после чего обрушится на беззащитные города его княжества с севера.
Если бы Даниле Кобяковичу удалось убедить в этом Юрия Кончаковича, то это была бы уже половина успеха. К сожалению, оставался еще один потенциальный союзник Ярослава — хан Котян, но тут уж вся надежда оставалась только на то, что Юрий, насторожившись, поделится с ним своими опасениями, и тогда…
Надежда, конечно, призрачная, больше смахивающая на мечту, причем несбыточную, но это было единственное, что мог предпринять Константин в такой ситуации.
Да и времени у него не было на что-то более существенное. Его и так оставалось в обрез: пока до Данилы послы доберутся, пока он сам до своего соседа доедет. Опоздать запросто можно. А напрямую соваться к Юрию Кончаковичу с этим нельзя ни в коем случае. Тогда-то уж точно Константин загубил бы все. Такие новости надо передавать только опосредованно, через кого-то, иначе веры им не будет.
— А тебе-то какая выгода в том, что ты упредить меня решил? — подозрительно уставился на Данилу Юрий.
— В этом проклятом мире человек подобен хамкулу[40], — философски заметил гость. — Ветер гоняет его по степи, пока не загонит в яму. И кто, кроме друга, поможет оттуда выбраться, а еще лучше — ее избежать. Мы соседи, да к тому же родичи. В жилах твоих внуков есть кровь и нашего рода[41]. Сегодня я упредил тебя об опасности, а завтра это сделаешь ты.
— Ну а если Ярослав говорил мне правду? — усомнился Юрий.
— Значит, лгу я? — осведомился Данило.
— Почему сразу лжешь, — дипломатично уклонился хозяин юрты, не желая оскорблять гостя. — Может, тебя самого князь Константин обманул.
— Ему в том выгоды нет. Один убыток, — усмехнулся Данило. — К тому же я ведь сказал — разговор у нас с его людьми совсем о другом был. Откуда он мог знать, что я сразу поеду тебя упреждать? Опять же если бы он Ярослава боялся, то и от помощи моей не отказался бы. Словом, помысли сам о том, что я сказал.
— И все же не дело хана вечером менять то, что он решил утром, — протянул задумчиво Юрий. — Тетива натянута, стрела нацелена — зачем опускать лук? Да и нельзя перейти реку и не замочить ног.
— Не всякая стрела достигает цели, — возразил Данило Кобякович. — Ты правильно сказал о реке. Вот только у той, в которую собрался воити ты, слишком бурное течение. Не боишься, что оно унесет тебя и всех твоих людей?
— Хочешь добычи — готовься к тому, что прольется не только вражеская кровь, но и твоих воинов, — усмехнулся Юрий.
— Крови будет много, — согласился Данило. — А вот добыча… — Он загадочно улыбнулся. — Откуда ты возьмешь добычу?
— Пронск… — начал было перечислять Юрий, но был тут же перебит:
— Ты чем слушаешь? Я же сказал, что, когда люди Ярослава убивали мою сестру, князь Константин был под Пронском — град усмирял. Значит, вся твоя добыча давным-давно лежит в его сундуках. Может, и найдется малость на твою долю, но не думаю, что твои воины останутся ею довольны.
— Тогда Рязань, — предположил Юрий.
— Рязань… — протянул Данило. — Там, конечно, добычи намного больше. Но я забыл тебе сказать, что вои Ярослава не только убили мою сестру. Они еще и стольный град сожгли. Неплохую добычу оставил тебе Ярослав — головешки и трупы. Или его послы тебе и об этом ничего не сказывали?
Юрий в ответ только недовольно крякнул.
— Наверное, они не хотели тебя расстраивать дурными вестями, — предположил Данило, и глаза его насмешливо сузились. — Хорош друг, который говорит только то, что выгодно ему самому. А ведь он тебе еще и родич, — напомнил хан вскользь.
— Бывший родич, — угрюмо уточнил Кончакович.
Последний гонец от князя Ярослава, который всего несколько дней назад ускакал из его стана, и в самом деле ничего не рассказал. Он вообще был неразговорчив и послание своего князя передал изустно, благо оно было совсем коротким. Вся суть его сводилась лишь к одному слову: «Пора».
— Я благодарен тебе за предупреждение, — вздохнул Юрий. — Этим русичам и впрямь верить нельзя. Они подобны зайцу — так путают свои следы, что не сразу разберешь, какой из них верный. Но я дал слово и потому пойду к Пронску, а там буду думать дальше.
— Будь осторожен, — посоветовал Данило. — Ныне дорога не открыта, как раньше. Рязанский князь поставил еще один город. Я бы на твоем месте не оставлял его у себя за спиной — кто знает, сколько воев Константин усадил за его стены. К тому же он его еще не достроил, а платить мастеровому люду да и воям с переселенцами надо изрядно, так что казна там должна быть немалая, — и, увидев удивление на лице собеседника, недоуменно вскинул брови: — Неужто про новый град Ярослав тебе тоже ничего не поведал? — тут же заметив: — Он слишком о многом тебя не упреждал. Это странно.
— Это очень странно, — буркнул раздраженно Юрий. — Я непременно посмотрю на новый град князя Константина. И ты прав — за спиной его оставлять негоже.
После этого разговора под стены Ряжска Юрий Кончакович привел не всю орду, а только часть. Ни к чему рисковать всеми воинами, когда вокруг столько непонятного. Да и провел он там всего пять дней. Трижды его воины ходили на приступ в первые сутки и трижды откатывались назад. Два приступа, и столь же безуспешных, было на второй день осады.
Стены города не казались непреступной твердыней — было заметно, что их даже не успели возвести на должную высоту, но смущало обилие воинов. Не меньше пяти, а то и шести сотен обороняли его!
Если бы Константин и впрямь уже сцепился в смертной схватке с Ярославом, то он никогда бы не оставил в маленькой крепости, да еще на другом конце княжества, такого большого количества своих людей. Значит, Ярослав и впрямь обманул его, а сам сидит и ждет, не рискуя нападать? Получалось, что так.
Но окончательно добило хана донесение собственной стражи о том, что вверх по реке Ранове, в которую впадает омывающая новую крепость река Хупта, идет огромный караван, числом не меньше двадцати ладей.
В каждой из них от сорока до пятидесяти воев. Куда идет — тоже понятно. Тут и шаман не нужен. Без того ясно — к Ряжску.
Если считать вместе с теми, кто уже сидел в крепости, то получалось полторы тысячи.
«И это ведь только пятый день, а что будет дальше? — задал Кончакович вопрос сам себе и сам же на него ответил: — А дальше здесь появится вся княжеская дружина, которая, вполне возможно, уже сейчас спешит посуху на выручку обороняющимся. Если не уйти отсюда завтра, то послезавтра тут можно вообще навсегда остаться».
Он еще раз яростно прошипел что-то нечленораздельное в адрес подлых русских князей и велел собирать походные кибитки. Надо было отступать, потому что умный только тем и отличается от дурака, что умеет вовремя исправлять свои собственные ошибки.
«И хорошо еще, если князь Константин не пойдет за мной в степь», — думал он уже в пути.
Но опасения были напрасны. Рязанскому князю не с кем было идти в степь за Юрием Кончаковичем. Из той полутысячи воинов, которые обороняли Ряжск, половина была обычными чучелами, которых выставили через одного и особенно часто на тех направлениях, где штурма стен не предвиделось.
Да и в ладьях, что двигались к городу, три четверти воев были точно такими же чучелами. На самом деле в каждой из них сидело от силы по десятку норвежцев, не больше.
Это была обманка, демонстрация сил, которых на самом деле Константин не имел и взять ему их было попросту негде.
Тем не менее, выслушав от своих гонцов, встреченных у Прони, радостное известие, что Юрий Кончакович ушел обратно в степи, князь понял, что хитроумный план, который они составили совместными с воеводой Вячеславом усилиями, ныне сработал на все сто процентов.
Впрочем, о ста говорить было рано. Неизвестно еще, что творилось там, в приграничном с Муромом граде, где сидело всего пятьсот ратников, которым надлежало сдержать натиск рати Давида Муромского, усиленной воинами, которых послал в подмогу Давиду мордовский князек Пуреш — верный союзник владимирских князей.
* * *
И бысть воев в Ряжске мало числом, но хоробрых и верных князю свому. Затвориша они врата града и роту даша на мече — главы свои сложите, но Ряжск отстояти.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1760* * *
Город Ряжск стоит, пожалуй, особняком во всем списке городов Руси. Он не так древен, как Ростов или Муром, не так велик, как Киев, Новгород, Владимир или хотя бы Рязань тех времен.
Величие же его заключается в первую очередь в ратной славе. Мало с каким городом связано столько героических страниц древнерусских летописей. Даже откровенно враждебно настроенные по отношению к князю Константину источники умолкают, едва речь заходит об этом уникальном городе.
Достаточно сказать, что первой осаде со стороны могучей орды половецкого хана Юрия Кончаковича Ряжск подвергся спустя всего несколько месяцев после того, как он был построен.
Подвергся и мужественно выдержал ее.
О. А. Албул. Наиболее полная история российской государственности. СПб., 1830. Т. 2, с. 144.Глава 5 Муромский прорыв
А случалось ли порою Нам столкнуться как-нибудь, — Кровь не раз лилась рекою, Меч терзал родную грудь. Ф. И. ТютчевО том, чтобы таиться, готовясь к предстоящей воине, на Руси и слыхом не слыхивали. Не принято такое было. А не принято, потому что все равно не получилось бы, как ни пытайся. Одно дело — дружину свою исполчить да с нею одной на соседа метнуться. Тут, конечно, можно попытаться достичь неожиданности.
Когда же речь заходила о том, чтобы к дружине этой присовокупить еще и пешее ополчение, — тут совсем иное. Такое дело, как шило в мешке, все равно свое острие наружу выкажет.
К тому же, не полагаясь на всевозможные слухи, сплетни и прочее, князь совместно с воеводой ко всем местным купцам приставил людишек. Да не одного, а сразу двоих.
Если же речь шла о крупном граде, вроде Владимира, так там и вовсе имелось несколько таких тайных агентов. Были свои люди у Константина с Вячеславом и в Переяславле-Залесском.
Городишко, конечно, не ахти как велик, но зато в нем проживает Ярослав, которому с прошлой зимы Рязань крепко на хвост наступила. К тому же именно он из этой оставшейся в живых парочки братьев самый активный, так что тут людей жалеть было негоже, иначе потом себе дороже встанет.
Купцу — ему что, только выгода от княжьих людей. Они ведь вроде как в подчинении у него находятся. Значит, и в дороге, если тати полезут, бездельничать не станут, да и на месте помогут. Товар, скажем, понадобится разгрузить, перенести его в иное место или просто посторожить — все сделают и гривен за свою работу не потребуют. С ними сам князь позже расплатится.
Более того, некоторые из купцов и вовсе не ведали о том, что Петряя, скажем, которого они самолично нанимали, причем задешево, на самом-то деле князь с воеводой направили. И Охрим тоже от них заявился.
Да и не интересовало гостей торговых, где их работники проводят свободное время. Мало ли у кого какая нужда бывает. Пускай бродят, градом любуются.
А то, что при этом они охотно встревают в разговоры да для воев местного князя хмельного меда не жалеют, — их дело. Такие уж работники попались общительные да словоохотливые.
Потому и знал Константин многое. Во всяком случае, планы крепостей у него уже имелись. Не всех, конечно, а только мало-мальски значимых. Владимира, например, Суздаля или Ростова. Кремники[42] помельче интереса не представляли. Особых отличий детинец Ярославля, по сравнению с Угличем, практически не имел. А уж о таких захудалых городишках, как Димитров, Звенигород или Москва, и вовсе говорить не приходилось.
Пригодились лазутчики и ныне. Как только большой сбор во Владимире и прочих градах протрубили, так в Рязани уже через неделю ведали, кто и откуда по ним удар нанесет.
Вот только в сроках были некоторые сомнения у рязанского князя, но тут уж оставалось положиться на удачу. А она, как и полагается порядочной даме, любит смелых и рисковых. Им и подфартить согласна. Правда, малость совсем, но Константину с Вячеславом и того хватило.
Князь долго терзал своего воеводу, требуя, чтобы тот вспомнил родное училище и какой-нибудь подходящий пример из истории военного искусства, иначе им сразу трех противников не одолеть.
Да что трех, когда у них и на одного силенок не набиралось. Даже после самых скрупулезных подсчетов выходило, что максимум возможного — это восемь тысяч пешцев и две тысячи всадников. Вот и все силы, которыми они располагали.
Мало того, из них же надлежало Ряжск с Пронском усилить, пусть хотя бы парой-тройкой сотен на каждый град, да еще и на восток, против Давида Муромского и мордвы бросить не менее полутысячи. Тем более что первый же рязанский город Ижеславец, который расположен близ устья реки Пры и который неприятельская рать попробует непременно взять, своих ратников имел не больше сотни, да и та была черной[43]. Плюс к тому Ожск с Коломной тоже надлежало усилить. Опять же Рязань стольную, вовсе беззащитную и даже стен не имеющую, кто-то должен был остаться охранять.
Князь и воевода думали и гадали долго. Наконец решили по всем направлениям дать столько, сколько нужно, а на основную рать, под Коломну, взять то, что останется. Оставалось же до слез мало. Потому и дергал Константин своего воеводу, чтобы тот измыслил чего-нибудь эдакое, убойное наверняка.
Первый день, отведенный на раздумья, ничего не дал. Спать поплелись оба мыслителя злыми и измученными. Вот ночью-то князю и приснилось…
Поначалу казалось, что нелепица сплошная. Так, обычный урок в школе, где он рассказывал выпускникам про завершающий этап Второй мировой воины. Как лихо Красная Армия билась под озером Балатон, как освобождала Польшу, Румынию, Венгрию, как шла по Германии и какой грандиозной оказалась битва за Берлин.
Казалось бы, из того опыта ничего нельзя применить в тринадцатом веке. Ну, где ему взять танки, авиацию, чем нанести мощный артиллерийский удар и к какой электростанции подключить восемь тысяч прожекторов для достижения вящего психологического эффекта?
Потом только Константина осенило. А почему бы и нет. Рупоры сделать — мелочь. Их тот же кузнец Мудрила и десяток за ночь выковать может. Хитрость-то невелика — железную пластину потоньше согнуть воронкой и проклепать нужным образом.
Вместо прожекторов можно использовать факелы, предварительно пропитав их тем же сернистым раствором, который Минька давно использует при обработке веревочных фитилей для гранат. Если их все разом на стены выставить, то получится совсем неплохо. Причем время согласовать тоже трудностей не составит. Одна огненная стрела взлетела со стороны княжеской рати — значит, поджигай дружно. А уж когда через пару минут вторая следом взовьется — втыкай факелы в заранее подготовленные места.
Ну а для гранатометчиков сигналом являлся горящий крест, который должен был загореться в поле одновременно с факелами на стенах. Доски для него заранее напилили из самой высокой сосны, основательно пропитали их смолой. Да еще Минька туда чего-то своего добавил, узнав, что цвет у пламени желательно сделать с синевой. Ямку для него на самой вершине холма тоже выкопали заранее, метра в три глубиной, чтобы точно не выпал.
Дальше оставалась ерунда. Ночью подтащить крест, запихать его в эту яму и подпалить со всех концов разом. Едва вспыхнет этот тридцатиметровый здоровяк, арбалетчики дружно вступят в дело и дадут залп по всем шатрам, что боярским, что княжеским, кроме того, где находился юный Ингварь Ингваревич. С ним Константин собрался еще разок попробовать примириться. Удастся — нет ли, но убивать он княжича ни в какую не хотел.
Да и с рупорами тоже не абы как — на самотек дело не пустили. Вначале князь с воеводой разработали текст, весь лист исчеркали, пока не утвердили окончательный вариант. Потом долго подыскивали исполнителей. Тут ведь не только громкий голос нужен и четкая дикция. Без артистизма тоже не обойтись, иначе должного эффекта не добиться.
Из трех десятков самых горластых воев, которых им назвали сотники с тысяцкими, с превеликим трудом удалось отобрать десять человек, а потом пришлось еще маяться с ними несколько часов кряду, чтоб уразумели они, как именно кричать нужно.
А тут неожиданно выявилась новая беда — частые осечки. Минька, потупив глаза, заявил сокрушенно, что здесь даже он бессилен. При любом существенном перепаде ночных и дневных температур, который той же осенью доходит градусов до десяти, а то и пятнадцати, металл неизбежно охлаждается, после чего на внутренних стенках гранаты образуется небольшое количество водного конденсата, проще говоря — потеет железо. А раз оно потеет, значит, порох тут же моментом сыреть начинает, а сырой он не только не взорвется, но и гореть-то с трудом будет.
Пришлось и над этим призадуматься, правда, недолго. Старый порох высыпали, заряды освежили новым, а чтобы перепада температур не было, каждый из арбалетчиков-гранатометчиков разоблачился до пояса, оставшись лишь в одной нательной рубахе. После того им все стрелы примотали к груди тонким ремешком и повелели заново одеться.
Более того, друзья прикинули даже, где именно Ярослав должен разместить свои шатры, где встанут простые пешцы, а где дружины княжеские остановятся. Не совсем, конечно, угадали, малость промахнулись, но это не беда.
Главное, что всех арбалетчиков в условленных местах ждали горящие угольки, тщательно прикрытые мхом. Фитиль-то поджечь надо, а если начать кресалом искру высекать да трут подпаливать, то с неожиданностью совсем не сложится. Вмиг дозорные тревогу поднимут. А тут угольки багряные рдеют — только сбрось с них меховое покрывало, дунь пару раз легонько и преспокойно поджигай фитиль.
Словом, все сработали на совесть. Дружно так, будто по нотам. И не скажешь, что это в общем-то лишь премьера была, да и «артисты» все из новичков.
Первоначально предполагалось, что если все успешно пройдет, то, оставив с полтысячи воев на поле боя возиться с пленными, остальных придется поделить на три части. Полторы тысячи на ладьях нарядить вверх по Москов-реке, чтобы все города, какие только на ней лежат, взять полностью под свою руку.
Но это только первая задача была, самая пустячная. Ну что там, в самом-то деле, за города: Москва, Звенигород, Можайск, Димитров — вот, пожалуй, и все. На каждый сотню воев оставить — за глаза хватит. Остальным из этой же трети надлежало совершить марш-бросок до Клязьмы, захватить ладьи Юрия, оставленные там под небольшой охраной, и спешно двигаться вниз по течению.
Начинать же непременно с Владимира. Его взять — перед остальными градами козырь лишний будет. Мол, столицу-то вашу взяли давно, так что и вам нечего зазря свои головы класть.
Владимир же взять — не шутка. Там тоже ратников не бог весть сколько, но зато населения изрядно, и если они закрыться успеют, то мороки будет много. Это вам не Переяславль-Рязанский, жители которого относительно равнодушно переход власти из одних рук в другие восприняли. Им особо беспокоиться не о чем было — что тот князь свой, рязанский, что другой такой же.
Во Владимире сложностей предвиделось выше головы. Всего сорок лет минуло с тех пор, как рязанский князь Глеб Ростиславич не только изрядно пощипал сам город, но и вывез оттуда все святыни, включая икону Владимирской божьей матери[44]. С тех пор худая слава о рязанцах во Владимире была.
Потом, правда, он все это вернул, но память-то осталась. А кроме того, была еще и враждебная на протяжении многих лет политика Всеволода Большое Гнездо, который неоднократно держал в заточении рязанских князей. Отсюда вполне справедливый страх владимирцев, что ныне Константин отыграется за все причиненные обиды.
Словом, город надлежало взять неожиданно, чтобы никто и опомниться не сумел. С остальными же — Ростовом, Суздалем и Переяславлем-Залесским — была надежда на то, что особого сопротивления их гарнизоны не окажут.
Тем временем оставшиеся две трети должны были поспешить: большая часть на юг, а меньшая, забрав попутно усиление из Коломны, Ожска и Рязани, — на выручку восточного форпоста Рязанского княжества — крепостцы Ижеславца.
Известие, что половецкая орда повернула назад в степи, пришлось как нельзя кстати. Узнав об этом, Константин со всеми своими силами прошел по Оке чуть дальше воинства Давида Муромского и перекрыл ему все пути к отступлению.
Богомольный князь, который и без того-то не испытывал никакого желания воевать, тут же предложил уплатить выкуп за себя и двух своих сыновей. Гораздо более жесткие условия, особенно требование стать наместником в собственном княжестве, выставленные Константином, пришлись не по душе старому князю. Сыновей же его, теряющих все полностью, они и вовсе возмутили.
Но тут еще можно было что-то поправить, попытаться как-то договориться. К тому же настрой у Константина, радостного оттого, что очень уж удачно все с половцами получилось, был достаточно миролюбивый. Опять же и запросил он первоначально, как хитрый цыган на ярмарке, с большущим зазором, чтоб было куда отступать во время дальнейшего обсуждения. Тогда подлинные условия покажутся муромским князьям и Пурешу мордовскому такими великодушными и щедрыми, что они на них с радостью согласятся.
Однако уже на другой день все первоначальные расчеты рассыпались в прах. Рано утром следующего дня Святослав и Ярослав Давидовичи с тремя сотнями дружины, нарушив условия перемирия, неожиданно пошли на прорыв, пытаясь узким клином взрезать кольцо блокады и уйти обратно в Муром.
Возможно, ударь они чуть левее или правее, и им это удалось бы, но на самом опасном направлении Константин предусмотрительно поставил норвежцев, и северяне не подвели ни князя, ни своего ярла Эйнара.
Да, поначалу в их рядах возникло замешательство, и молодым княжичам в какой-то момент даже показалось, что еще минута-другая, и кольцо разомкнётся, но…
Тех первых, что вскочили и приняли неравный бой, и впрямь удалось вырубить почти подчистую. Рухнул под ударами муромских мечей Берг Тихоня, пал Алф Красный, затоптали конями Халварда, сына Маттиаса, тут же погиб его двоюродный брат Харольд, сын Арнвида. И уже из последних сил махал своей окровавленной секирой Крок по прозвищу Тяжелый Топор, а изнемогающий от ран Хафтур Змеиное Жало и вовсе опустился на одно колено.
Но никто из них не отступил, не показал спину врагу, а на подмогу бежали все новые и новые воины. Вот уже закрыл собой Хафтура Грим Кровавая Секира, и не удалось атакующим добить Крока, перед которым выросли Старкад Семь Узелков и Торлейф Теплый Чулок.
А уж когда чуть ли не в самую середину муромских воев ворвался с неистовым ревом сам Борд Упрямый, сын Сигурда, а следом и два его сына: Туре Сильный и Турфинн Могучий, то тут и вовсе в рядах дружинников возникло замешательство. Уж больно страшен был кряжистый Борд, обезумевший от горя, потому что минутой ранее погиб его младшенький — Тургард Гордый. Двое сыновей — неистовых мстителей за гибель брата — тоже не отставали от отца.
И падали с жалобным ржанием кони, потому что юркий и ловкий норвежец с гордым именем Викинг по прозвищу Заноза вертелся как волчок, подрубая сухожилия бедных животных.
Метнулись было атакующие в одну сторону, но там стеной встал сам ярл Эйнар, славный сын Гуннара, не отступивший ни на шаг, а с ним еще добрая сотня бойцов. Метнулись в другую — а там Бесе Стрела, и еще Гути Звенящий Меч, и тут же Вегард Серый Плащ, а с ним Финн Две Бороды.
В панике попробовали муромские дружинники повернуть назад, но едва им удалось это сделать, как они лицом к лицу столкнулись с подоспевшей конной дружиной во главе с отчаянным Константином, тезкой рязанского князя.
Бесшабашность его и сгубила. Сразу пятеро кинулись на него, и хоть отбил он почти все выпады, но в бою «почти» не считается. Пятый меч вкось чуть ли не до седла располовинил молодого удальца, но дорого обошлась муромчанам эта гибель. В неистовой жажде отомстить за его гибель рязанцы просто смели, втоптали в кровавый песок все жалкие остатки отбивающихся.
И плакал, видя гибель своих сыновей, старый Давид, проклиная тот миг, когда, понадеявшись на то, что прорыв удастся, благословил обоих на бой. Как оказалось, на последний в их жизни.
Однако не забыл муромский князь и про тех, кто еще был жив и находился подле него. Едва лишь надвинулась на них тяжелая черная туча всего рязанского войска, как из муромских рядов медленно выехал всадник. Седую его голову не покрывал шлем, из глаз ручьем текли слезы, и только по развевающемуся алому корзну можно было признать в этом ссутулившемся старике князя Давида Юрьевича.
Подъехав к князю Константину, он неловко полуслез-полусполз с коня, тяжело опустился на одно колено и, склонив голову, протянул победителю свой меч рукоятью вперед в знак покорности и безмолвной просьбы о пощаде всех муромцев, пока еще живых. И судорожно дергались от падающих на них жарких слез князя стебельки луговых трав.
Константин, в свою очередь, тоже спешился, подошел к Давиду, принял его меч и помог старику подняться.
— Господь видит, что я не хотел гибели твоих сынов, — глухо сказал он, с жалостью глядя на муромского князя.
— Только я сам во всем виноват, — хрипло прошептал Давид и затрясся от рыданий, припав к плечу Константина.
— Зачем ты вообще пошел на меня? — не зная, что еще сказать, с досадой спросил тот, неловко приобняв несчастного отца. — Жили мирно, друг другу не мешали, и на тебе.
— Не своей охотой я поднял меч, — выдавил тот. — Сам, поди, ведаешь, что мы уже давно в сподручниках у владимирцев. Куда повелят, туда и идем. А иначе… Сказали под Липицу идти — пошли. Повелели на Рязань рать двинуть… — Он не договорил, и плечи его снова затряслись.
— А не пошел бы ты ныне — ничего бы они с тобой не сделали, — Шепнул Константин. — Разбил я их обоих у Коломны. Юрий мертв, да и Ярослав еле живой — не знаю, довезу ли.
— Думаешь, утешил? — откачнулся от него Давид и невидяще глянул на Константина красными от слез глазами. — Ты мне токмо еще горшую боль дал. Стало быть, дважды я в их смерти повинен. Когда полки сбирал и когда ныне утром благословил их в бой. — Он вновь жалобно всхлипнул. — То за мои грехи столь тяжкую кару ниспослал на меня господь. Облыжно[45] я дядьев твоих оболгал пред Всеволодом Юрьевичем. Ровно десять годков всевышний ждал покаяния моего за тот грех смертный, да так и не дождался[46], вот и… — не договорив, он вновь заплакал.
— Приди в себя хоть немного, Давид Юрьевич, — сочувственно, но в то же время с легкой долей укоризны заметил Константин. — На тебя не только я и рязанцы мои, но и муромцы смотрят. Я понимаю, что горе твое велико, но ты — князь. Об этом вспомни.
— Да какой я князь, — улыбнулся тот жалко. — Вот сил хватит до монастыря[47] добрести, и на том спасибо. Теперь тебе здесь княжить, тебе суд вершить, тебе и думать, как перед людьми себя не осрамить. А мне ныне все едино. Вот только позволь, Константин Володимерович, мне останки сынов своих забрать. Ежели добро дашь, я бы хотел у себя в монастырском храме их захоронить. — И тут же быстро поправился, горько усмехнувшись: — У тебя в храме.
— Не мой он и не твой — божий, — строго поправил его Константин. — Иди, конечно. И Давид тут же побрел в сторону поля, на котором погибли в битве его сыновья.
— А с нашими погибшими воями как быть, княже? — незамедлительно обратился к князю ярл Эйнар, весь забрызганный своей и чужой кровью.
— Сколько их у тебя? — спросил князь.
— Двадцать три, да еще трое, пожалуй, до следующего рассвета тоже не дотянут. Из остальных десятка три тоже пока биться не смогут. Ну и царапины легкие почитай у всех прочих, но это не в счет.
— Всех погибших загружай в ладью. Во вторую — раненых. Отряди по десятку гребцов в каждую и с богом на Рязань. Авось Доброгнева сумеет подлечить.
И еще десяток ратников оставил рязанский князь, чтобы довезли они в третьей ладье погибшего Константина, а с ним еще пятерых убитых и около десятка тяжелораненых.
Сотня ратников во главе с Пелеем отправилась в Муром, чтобы воздать последние почести погибшим сыновьям Давида Юрьевича и… принять город в управление после ухода князя в монастырь.
Все прочие двинулись вниз по течению, стремясь поскорее достичь Клязьмы и оказаться перед Владимиром.
* * *
Обуяша сила бесовская Константина и побраша он все грады муромские под длань свою. Сынов же князя старого Давида Муромского умертвиша подло, а самого со стола низринувши.
Из Суздалъско-Филаретовской летописи 1236 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1817* * *
Что касается Муромского княжества, то, учитывая, что оно уже давно было союзным еще Всеволоду Большое Гнездо, а затем его сыну Юрию, то Константин был абсолютно прав, применив против него превентивную меру.
Возможно, что она была чрезмерно жестока — убийство двух молодых князей и ссылка их престарелого отца в монастырь. Можно долго размышлять о том, оправдана ли такая суровость рязанского князя, тем более что он, скорее всего, под предлогом переговоров заманил их к себе в Ижеславец, то есть проявил коварство.
Однако со всей определенностью на этот вопрос все равно не ответить. Не нами сказано: «Не судите, да не судимы будете». Во всяком случае, я бы не стал отдавать свой голос ни в защиту Константина, ни в его безусловное осуждение.
Опять же, не следует забывать суровость тех времен, в которые он жил. Возможно, что иначе поступить было просто нельзя.
О. А. Албул. Наиболее полная история российской государственности. СПб., 1830. Т. 2, с. 146.Глава 6 Я тут всерьез и надолго
…архивариус очень тихо спросил:
— А деньги?
— Какие деньги? — сказал Остап, открывая дверь. — Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?
И. Ильф и Е. Петров. Двенадцать стульевБогата и красива была стольная Рязань. Из всех городов, стоявших на Оке, не было ни единого краше нее.
И как знать, если бы не зорил ее Всеволод Большое Гнездо, невольно ревнуя южных беспокойных соседей и подозревая их в тяге к славе и величию, то, может быть, она и вовсе стала бы первой в Восточной Руси. Кто может о том ведать доподлинно?
Однако к лету 6726-ому от сотворения мира[48] венцом городов русских слыл Владимир. Пусть и не столь полноводна Клязьма, как Ока, и не чувствовалось в граде той чинной, торжественной старины, что так ощущалась в Ростове Великом, и не так явственно веяло благостью от обилия монастырей, как близ Суздаля, но и ему было чем похвастаться перед городами-соседями.
Ну, где еще такое чудо увидишь, как Золотые ворота, которые встречали путников на главной дороге к городу, что с западной стороны. А как красиво расписана белокаменная триумфальная арка! Пройдя же по городу, путник мог еще и в красивейший пятиглавый Успенский собор заглянуть — тоже диво дивное.
Рядом с княжеским теремом Дмитриевский собор стоял — одновременно и кряжистый, одноглавый, но в то же время и нарядный весь, изукрашенный по фасаду причудливой резьбой с каменными львами.
А еще чуть дальше, в юго-восточном углу города, застыл Рождественский монастырь с одноименным собором. И все это только из новых храмов, которые воздвиг Всеволод Большое Гнездо. Перечислять же их все — рука устанет.
Константин долго любовался этим величием, подплывая к городу. К тому же ничего иного ему больше и не оставалось. Где, как, что выгружать — тысяцкие с сотниками и без него прекрасно знали, а взять город Вячеслав не успел.
Воевода прибыл сюда всего на день раньше князя и, имея в своем распоряжении не больше тысячи ратников, застал все ворота уже закрытыми, а город — почти готовым к обороне. Почти, потому что уходя из града, Юрий по просьбе Ярослава забрал с собой чуть ли не всех ратников. Даже городскую стражу князь уполовинил, надеясь на затишье на восточном и южном порубежье, а также на крепость городских стен.
Укреплен Владимир был и впрямь знатно. Впрочем, это и не удивительно — чай, столица. Одних ворот сколько. Только с западной стороны их четверо: те же Золотые, над которыми расположена надвратная церковь Положения риз Пресвятой Богородицы, а еще Волжские, Иринины и Медные. И все они лишь в Новый град ведут.
А чтобы из него в Средний или, как его еще называли, Печерный град попасть, вновь надо пройти через ворота. И снова выбор богатый. Как тебе удобнее, так и иди. Хочешь, через Торговые шествуй, не любо — через Успенские или Дмитриевские пройди.
На востоке, правда, укрепления были похуже. Нет, ворота белокаменные тоже красивы. Не зря их Серебряными прозвали, а вот стены… Из-за их ветхости эту часть города так и прозвали Ветчаной[49]. Впрочем, осаждающим и здесь пришлось бы приложить немало трудов и сил, поскольку при Всеволоде III Большое Гнездо их не раз ремонтировали.
К тому же если и ворвешься в них, то дальше все равно перед тобой предстанут Ивановские ворота, которые тоже в Печерный град ведут. Но даже если их и удастся проломить, то тут перед тобой сам кремник вырастет. А у него даже стены из камня. Тот же Всеволод постарался. Так что запалить их при всем желании не получится.
Словом, за такими укреплениями месяцами отсиживаться можно. Правда, при условии, что людей для обороны хватит, а атакующие будут действовать обычными методами, принятыми в то время. Вот о людях и была неизбывная головная боль у старого Еремея Глебовича — владимирского боярина, который еще дядькой-пестуном[50] был у ныне покойного князя Константина, а затем подался на службу к его брату Юрию.
Теперь же так получалось, что вся ответственность за род владимиро-суздальских князей легла на его плечи, ведь ныне все они во Владимире находились. Тут тебе и самый старший, Василько Константинович, которому через два месяца всего девять лет должно было исполниться, и братья его родные: восьмилетний Всеволод и Владимир. Последнему и вовсе четыре года совсем недавно исполнилось.
Имелся у них и двоюродный брат — тоже Всеволод, но Юрьевич. Тот всего на год старше Владимира. Да еще сестренка у него была Добрава, во святом крещении нареченная Еленой. Той шесть лет. Словом, мал мала меньше.
И все они, считай, на его, боярина, руках остались, потому что от матерей ихних не толк, а беспокойство одно. Одна — Агафья Мстиславовна, дочь киевского князя Мстислава Романовича Старого, ныне, почитай, и вовсе еле ходит. Так и не отошла, болезная, после смерти мужа, князя Константина.
Со второй — тоже Агафьей, но Всеволодовной, дочерью князя черниговского Всеволода Чермного, и того хуже. От скорбных известий да при виде изуродованного лика мужа своего покойного, князя Юрия, приключились с ней не ко времени родовые схватки. Уже второй день мучается, бедняжка, и ни до чего ей дела нет.
От малолетних княжичей мысли Еремея Глебовича плавным ходом перешли к Константину Рязанскому. Чего ждать от него — неведомо. У боярина Творимира спросить бы, но тот пребывал в опале, после того как под Коломной Константину обоз сдал и ратникам князя Ярослава оружие велел сложить. Далековато его деревенька, да и гонцов не пошлешь — крепко Владимир обложен, со всех сторон к нему проходы запечатаны наглухо. Ни конному, ни пешему не вырваться.
А спросить у Творимира Еремей Глебович хотел лишь одно — можно ли слову княжескому верить. Послы рязанские уже вчера припожаловали к воротам Владимира. Константин устами посланцев своих говорил, что с его ратью город взять — пустячное дело. Но не хочет он ломать ворота, устраивать пожары и разорять жителей. Если бы завоевателем он сюда пришел, в набег грабительский — тогда ему все равно бы было. Но и ему, и сыну его здесь еще долго княжить придется, и потому не желает он на крови свое княжение начинать. Не по-христиански это.
И как тут догадаться — то ли правду Константин говорит, то ли лукавит, сберегая жизни своих воев. Ведь не одна сотня погибнет, если город на копье брать придется. Опять же с княжичами не все понятно.
А самое главное — зачем ему для завтрашних переговоров понадобились не только бояре, но еще и старшины от мастерового люда? Они-то тут при чем? Их дело — одежу шить, сапоги тачать, кузнечить и прочее. Не было никогда такого на Руси, чтобы о столь важных делах с ремесленным людом речи велись. Или он о чем другом с ними говорить собрался? Тогда о чем именно?
Словом, загадки и загадки. И поди раскуси тут хитрого рязанца — чего он на самом деле хочет, чего добивается? Пробовал Еремей Глебович за епископом владимирским послать, чтобы хоть с ним посоветоваться, но владыка Симон оказался хитер и осторожен.
Вроде бы и поговорили, а ничего конкретного боярин так от него и не услышал. Одна только болтовня пустопорожняя с цитатами из Ветхого Завета, Нового Завета и поучений отцов церкви. Да плевать боярин хотел на то, что там у Иоанна Златоуста говорится и как Василий Великий мыслит. Ты поточнее, владыко, поточнее выражайся, да скажи как на духу, что сам думаешь по этому поводу.
Ан нет, скользок епископ, как налим. Ты его уже схватил, кажется, а он все равно из твоих рук выскальзывает.
Впрочем, оно и понятно. Епископу, если разобраться, важней всего, чтобы его подворье не пострадало да чтоб после всех разбирательств жители Владимира мошной не оскудели и гривны да куны свои не на строительство сгоревшего жилья отдавали, а в церковь несли.
А уж как там Константин с малолетними княжичами поступит — дело десятое. А вот боярину не все равно. Он же, почитай, самым старшим изо всех бояр и остался — прочие там полегли, под Коломной. Он да Творимир опальный. Еще пятерых под вопли и плач владимирских женок в город занесли Константиновы вои, да и то каждый из них ох и не скоро на ноги встанет. Это если вообще поднимется.
Кстати, такое поведение рязанца говорило о многом. Особо тяжко раненных князь честь по чести семьям передал, равно как и тела погибших. Поначалу Еремей Глебович опасался, что есть у Константина тайный умысел. Ведь можно было и замятию в воротах устроить, будучи даже безоружными. Много ли времени надо, чтобы дружина конная подоспела? Глядишь, и договариваться ни с кем не пришлось бы, уступать в чем-то, дабы город мирно покорился новой власти.
Конечно, Еремей Глебович для такого случая припас пару задумок, и коварство свое рязанцу легко провернуть бы не удалось, но уж больно мало сил осталось в распоряжении владимирского градоначальника — еле-еле наберется сотня стражников, да и те далеко не первой молодости. Известное дело — лучших всех позабирали.
Одно радовало боярина — хороший настрой мастеровых людишек. Откуда взялся боевой дух у кузнецов, шорников, кожемяк и гончаров — неведомо, но за ратниками Константина, которые на носилках принесли раненых владимирцев, они следили бдительно, и ежели что…
Впрочем, не было, по счастью, этого самого «ежели». Все рязанцы сделали честь по чести — принесли увечных, сдали их с рук на руки и спокойно удалились. Да и ворота, к которым они раненых принесли, были не массивные Золотые, которые можно намного проще захватить внезапно — поди закрой их быстро, а гораздо меньшие — Иринины.
Да и сами они ступали по городу, который через несколько дней все едино их будет, не как победители, а уважительно и даже как бы с некоторым смущением. Мол, извините, что братию вашу посекли, но тут уж ничего не поделаешь, коли они сами на нашу землю с мечом пришли. И не хотелось, а пришлось.
«Так, может, и завтрашние переговоры тоже не таят в себе угрозы? Удастся договориться — нет ли, а все равно Константин владимирцев отпустит с миром, а не посадит в поруб, как это в свое время учинил князь Всеволод с теми же рязанцами, — продолжал размышлять боярин и досадливо стукнул кулаком по столу. — Одна досада, что по наущению князя Ярослава убивец Гремислав с ватагой татей Рязань спалил дочиста. С той поры и прошло-то всего меньше двух месяцев. А если Константин в отместку за свой стольный град пожелает и с Владимиром такое же учинить?! Если судить по справедливости, то надо палить Переяславль-Залесский, но вдруг рязанский князь за злодеяние это не только Ярослава виноватит, но считает, будто и Юрий Всеволодович к набегу Гремиславову тоже свою руку приложил».
Еремей Глебович вскочил и начал нервно вышагивать по просторной гриднице, теряясь в догадках, что же ему все-таки предпринять. Наконец, малость остыв, он решил, что в любом случае ничего не теряет — городу все едино не устоять, а тут был шанс, который стоило попытаться использовать.
«Да еще и святые отцы рядом будут, — окончательно успокоил он себя. — При них-то точно Константин на столь тяжкий грех, как клятвопреступление, не пойдет. Хоть и бродят о нем страшные слухи, будто он свою братию всю порешил, но и других разговоров тоже предостаточно, вплоть до того, что не убийца он, а совсем напротив — страдалец безвинный. Молва — штука известная. Если она приукрашивать начнет, так чуть ли не до небес славу твою поднимет, а коли примется чернить, то так вымажет с ног до головы, что и родная мать не узнает, отшатнется в ужасе. Умному человеку хорошо известно, что истина всегда где-то посередке находится, только вот где именно — поди-ка разбери».
Но пока попрекнуть рязанского князя при всем желании было нечем. С ранеными он поступил честь по чести, не воспользовавшись удобным случаем, да и плыл сюда мирно — ни одно сельцо на пути не заполыхало.
Там же, где останавливался, смерда не зорил, брал по совести, умеренно. У бедных на коровенку лядащую не покушался, лошадей не отнимал и воев своих — это тоже до боярина донеслось — предупредил строго-настрого, что ежели хоть кто из них меч свой обнажит попусту или бабу какую силком возьмет, то в тот же день на ближайший сук будет вздернут. И ведь на самом деле вздергивал, правда опять-таки лишь по слухам.
В последнее Еремей Глебович не очень-то верил, хотя очевидцы с пеной у рта уверяли, что сами видели эти казни. Пусть даже это лжа, но все равно получалось, что ведет себя рязанец как рачительный хозяин, а не как тать, устроивший набег. Значит, что? А то, что, как ни крути, а ехать на переговоры надобно.
В полдень следующего дня в княжеском шатре — благо бабье лето еще не закончилось — за грубо, наспех сколоченными столами, выставленными буквой «П», уже сидели как владимирцы, так и рязанцы.
Последние заняли лишь перекладинку, кроме самой середины, где стоял княжеский столец, пока пустовавший. Владимирцев было не в пример больше. Старшин от мастеровых рассадили по левую руку от перекладинки. По правую, рядышком с боярином Еремеем Глебовичем, уселся епископ Владимиро-Суздальской епархии Симон и пяток иереев из числа настоятелей самых крупных храмов и монастырей, а напротив них — пяток гостей[51] из числа наиболее знатных.
Все ощущали себя непривычно. Боярину все время казалось, что он роняет свое достоинство в такой компании — иной гость, пожалуй, и побольше его гривенок в калите имеет, а все ж таки за один стол с боярами никто из князей их не усаживал. С другой стороны, тот же епископ Симон сидит и не возмущается такому соседству.
А мастеровым с купцами тоже не по себе. Почетно, конечно, что и говорить, когда тебя уравняли со всей городской верхушкой, такое обращение дорогого стоит, но уж больно оно непонятно.
Потому и смотрели все на вошедшего князя настороженно, с прищуром. Во всех взглядах, устремленных на Константина, явственно читался один и тот же вопрос: «А кто ты есть таков, рязанский князь? С чем во Владимир стольный пожаловал?» Главное же, что больше всего волновало горожан, кем? От ответа на последний вопрос зависело не просто многое, а все, включая и дальнейшее отношение горожан.
Одно дело, если пришел ты хозяином рачительным. Такому Русь многое простить может. Даже кровь не станет неодолимой преградой, если проливал ты ее не излиха. Где грань? Пожалуй, только сердце это чувствует. Ежели не ропщет, не вопиет об отмщении — стало быть, по уму лил, без злобы.
Зато если ты разорителем явился, то пускай даже вовсе без крови сумел княжеский терем занять — все равно долго терпеть тебя не станут. Посмотрят малость, как ты свою же землю обираешь с бестолковой жадностью, не то что на годы вперед не думая, но и о завтрашнем дне не помышляя, да и турнут в шею.
Вече градское имелось везде, а не только в знаменитом Великом Новгороде. Там оно просто погорластее других было, побестолковее, и собиралось к тому же почаще — вот и вошло в историю. В других городах собирались пореже, лишь когда на душе накипало сверх меры. Но коль соберется, тут уж держись. Всем на орехи достанется, без разбору. Те же киевляне сколь раз выгоняли из города своих князей: «Уходи, княже! Не люб ты нам!» И уходили. А куда тут денешься, когда весь град против тебя встал?
Вот и глядели теперь владимирцы во все глаза на чужака, пытаясь сразу постичь — с чем и кем пришел в их город рязанский князь?
Константин все это не столько понимал, сколько чувствовал. И колкие взгляды, и всеобщую настороженность, и оправданные опасения.
Сколь важно в такой ситуации с самого начала не ошибиться, промашки не допустить, он тоже хорошо сознавал. Первые впечатления — они всегда самые яркие, в память врезаются надолго. А откуда они берутся? От первых поступков, от первых слов.
Если потом и промахнешься неосторожно, что-нибудь учинишь, не думая, ну, скажем, плетью перетянешь какого-нибудь олуха, чтоб не стоял на дороге, загораживая путь князю, — уже полбеды. Тут доброхоты всегда иное, доброе вспомнят, что за тобой к этому времени уже числится, и… простят.
Даже оправдание сыщут: «Не со зла он — сгоряча хлестанул, а чего в сердцах не сделаешь. Ежели бы он всегда такой был — то иное дело, а помните, как он обычно вежество выказывает, даже с людом простым завсегда поздоровается. Да и тот хорош, раззява. Чай, сам понимать должон — князь едет. Нет чтоб посторониться, дорогу дать…»
Гораздо хуже, когда сразу не то содеял, рубанул по живому второпях, даже если просто грубое слово допустил, оскорбив походя. Нет у тебя запаса добрых дел, не скопил еще, так что получишь по полной, а то и сверх того, потому как с незнакомого человека спрос всегда жестче, чем со своего.
Посему и надо поначалу не простую осторожность проявить вкупе с осмотрительностью, но сугубую. В любом деле хорошо семь раз отмерить, прежде чем резать начинать, а уж при знакомстве не грех и семижды семь раз мерку снять. Лишним не будет, только во благо пойдет.
Князь Константин, понимая все это, постарался изрядно.
— Заждались? — спросил он первым делом, едва только вошел в шатер, и улыбнулся чуть виновато.
Мол, извините, ради бога. Вслух же князь прощения не попросил. В таких делах иной раз перебрать будет, все равно что пересолить. Сам попробуй. Без соли любое блюдо просто невкусно будет, но если голоден — съешь, никуда не денешься. А если пересол? То-то и оно.
Однако пояснил, из-за каких безотлагательных дел, которые промедления не терпят, задержался. От объяснения убытка достоинству не будет. И что за дела — тоже скрывать не стал. Дескать, по наущению князей Юрия и Ярослава на рязанские земли ныне половцы набег учинили, потому и должен он был с воеводами своими спешный совет держать — кого под Владимиром оставить, кого на защиту южных пределов послать.
И тут тоже неясно было, почто не потаился и все открыл не таясь. Или же он тем самым намекнул ненавязчиво на то, что за грехи своих князей городским жителям придется отвечать?
Кое-что прояснилось, когда рязанец на неспрошенное ответил, пояснив, почему всех собрал, а не только бояр с епископом.
— Самые именитые здесь ныне сидят, — заметил он уважительно. — Вам все прочие жители доверяют. Ратники городовые боярину Еремею Глебовичу верят, ремесленники и гости торговые — старшинам своим, а весь люд христианский — служителям церкви. Не хочу, чтоб судьба града в одних хоромах боярских да в покоях епископских решалась. Посему и желаю, чтобы вы все меня услышать могли.
Дальше же князь вкратце повторил то, что еще раньше его послы сказывали. Но на сей раз слова эти не в хоромах княжеских прозвучали, келейно, а в присутствии всех.
Условия же выдвинул простые и необременительные. Да что там — можно сказать, и вовсе пустячные. По сути дела, самым тяжким из них был прокорм Константиновых воев, которые здесь, во Владимире, до весны останутся. Обрадовал он горожан и тем, что ежели они ныне миром договорятся, то всех тех, кого в полон под Коломной взяли, к весне по домам распустят. А до этого тоже не в полоне будут, в порубах тесных сидючи, а в рати Константиновой. Придется им сызнова ратную науку проходить, чтоб впредь владимирцев с таким позором не вязали.
— А много ли в сече сынов да братьев наших полегло? — степенно осведомился коваль Бучило.
Еремей Глебович обернулся на него недовольно, глядя со всей строгостью, — почто лезешь поперед набольших, да и епископ Симон с неодобрением вздохнул, но уж больно невтерпеж было Бучиле. Шутка ли, оба сына ушли с ополчением пешим — удаль молодецкая, вишь ли, взыграла. А остановить, воспретить не смей — с князем Юрием не поспоришь. Потому и не выдержал старый коваль, не до приличий тут, лишь бы о судьбе сынов узнать, хотя откуда чужой князь про их участь ведать может.
Константин склонился ухом к соседу своему Хвощу, и тот, сразу догадавшись, что от него нужно, глянув в, список, негромко произнес:
— Бучило это. Он от ковалей здешних.
Рязанец вопрошающе уставился на чернеца Пимена, сидящего возле боярина. Перед ним на дощатом столе лежала толстая пачка бумаги, но Пимен в нее даже не глянул.
О том, кто будет присутствовать на переговорах, стало известно за час до их начала. Рязанцы, встречающие владимирскую процессию у самых городских ворот, зря времени не теряли, мигом всех в список занесли, а Пимен тут же проверять сноровисто начал, есть ли в составе делегации владимирской такие люди, родичи которых попали в полон под Коломной.
Ох, не случайно ладья с Пименом отправилась во Владимир аж только через трое суток после всех остальных. Всех пленных монашек успел поименно переписать, причем воев из каждого града норовил занести на отдельный лист, чтоб потом удобнее было искать, если князь срочно повелит. Ныне оно и сгодилось. За то время, пока посольство неспешно везли да за столы усаживали, Пимен почти все нужные имена разыскал и теперь прямо по памяти князю шпарил, в списки почти не заглядывая.
— Простых воев у вас полегло немного. Числом и двух сотен не будет, — пояснил Константин ковалю. — Но тебя ведь, Бучило, больше всего о сынах печаль снедает?
Коваль неуверенно пожал плечами. Неизвестность, конечно, штука плохая, но лучше уж она, чем то страшное, что он может сейчас услышать. В голове мастера зашумело, в горле неожиданно все пересохло, и он не своим — чужим голосом выдавил из себя с натугой:
— Да уж… хотелось бы… Кровь родная как-никак, — и с тревожным ожиданием уставился на Константина, который — показалось или впрямь? — одними глазами, легонько, ободрил коваля.
Да нет, не показалось, вон и легкая улыбка в уголках княжеских губ появилась. Неприметная вроде под бородкой, но Бучило зорок был, вмиг узрел. Когда речь о родных сыновьях идет, любой отец самую крохотную мелочь углядит.
— Живы твои сыны, Бучило, — просто сказал князь. — Вот только у старшого рука левая малость поранена. Но лекари у нас хорошие, мазь ему нужную на рану наложили, так что, думаю, через пару седмиц она у него совсем заживет. Он у тебя крепкий парень, Боженко-то. А младшему твоему, Петраку, мои вои, — коваль вновь затаил дыхание в тревожном ожидании, — большущую шишку на лоб посадили.
Бучило счастливо заулыбался.
— Вот домой вернется, я ему вторую посажу, — скрывая за напускной суровостью звонкую щенячью радость, грозно пообещал он.
За тем краем стола, где сидели владимирские ремесленники, вмиг стало оживленно. Лица у всех повеселели. Вроде бы хорошая весть одного коваля касаться должна, но как же тут не порадоваться за соседа.
— А мой-то как княже? Из древоделов я, дома ставлю, — подал робко голос сухощавый Чурила. — А сынка моего Кострецом кличут. Здоровый он такой, в сажень ростом вышел да еще без малого локоть добавить надо. Про него не поведаешь?
И вновь повторилась прежняя процедура. Только на сей раз обошлось без Хвоща. Пимен, услышав, о ком идет речь, тут же выдал князю ответ.
— С ним малость похуже будет, — сказал Константин и с сожалением пожал плечами. — До весны твой Кострец тебе не помощник — плечо ему посекли.
— До весны, — вздохнул облегченно Чурила. — Да хошь до осени. Главное — жив.
— А мой племяш? — пробасил старшина всех владимирских кожемяк. — О нем тебе не ведомо? Я ведь ему стрыем довожусь, а отца с матерью у него и вовсе нет. Михасем его кличут.
Пимен, хмыкнув, склонился над столом и сказал:
— Тот самый, княже.
Константин кивнул и, посуровев лицом, ответил:
— У него дела плохи. С животом мается.
Рана в живот всегда справедливо считалась одной из самых страшных. После нее человек если и выживал, что бывало нечасто, то прежнего здоровья все одно уже не имел.
— Может, натощак подранили, — вполголоса пробормотал кожемяка.
Действительно, если рану наносили человеку, который до того не ел хотя бы часов шесть-семь, то надежда на его выздоровление была неизмеримо больше.
— Если бы натощак, то он бы брюхом не маялся, — с легкой улыбкой на лице заметил князь. — А так он мне всю ладью запакостил, не говоря уж про свои порты. Жаль, что в Оке вода студеная, а то бы я его так с голым задом и вез бы.
— Так это оно что же — не ранило его, стало быть, в живот? — начало доходить до кожемяки.
— Какое там ранило. Обожрался он чего-то, вот и все, — и под сдержанные улыбки и похохатывание присутствующих добавил, веселья своего уже не сдерживая: — Его и вязали-то, когда он со спущенными портами в кустах сидел. Поначалу ведь думали — затаился. Чуть не зарубили. Потом пригляделись, а больше принюхались и поняли, что иным делом вои храбрый занят.
— А мой как, княже?.. — приподнялся было из-за стола сухонький старичок, но договорить не успел.
Боярин Еремей Глебович, устав терпеть, не выдержал, поднялся в свою очередь с лавки, зыркнул зло, осаживая очередного наглеца, осмелившегося лезть «поперед батьки», и степенно начал свою речь:
— Что откуп малый с града берешь, то славно, княже. И за то, что полон готов вернуть, тоже поклон тебе низкий. А как с княжичами малыми будет? Им ты какую долю определил? Мы ведь всем градом за них теперь в ответе. К тому же Владимир Юрьевич ныне и вовсе осиротел — в полдень, за час до того, как нам сюда выехать, мать его Агафья Всеволодовна, что на сносях была, скончалась, мук тяжких не выдержав.
— Это ты про меня, боярин, намек такой подпустил? Дескать, я их, по-твоему, осиротил? — резко поднялся из-за стола Константин. — Неужели это я рать собирал, дабы князя-соседа изобидеть? Лучше спасибо сказали бы, что мы с умом воев ваших встретили, до настоящей сечи дело не довели, иначе сколько бы здесь отцов без сыновей остались! А ведь они-то как раз самые безвинные и есть, потому как молодые, в разум еще не вошли. Князю Юрию на то не сослаться — ему, почитай, четвертый десяток лет пошел[52]. Да и брат его Ярослав немногим моложе. И вина в сиротстве Владимира не на мне лежит, а на самом отце его. Что же до Агафьи Всеволодовны, то тут и вовсе не моя воля. Чья? — Он выразительно развел руками и сам же веско ответил, как припечатал: — Божья.
— А все-таки ты не ответил, княже, — не сдавался боярин. — Кем они станут? Изгоями?[53]
— Ну почему же так сразу? — примирительно ответил Константин. — Из Владимира я их, конечно, выведу. Да и в Суздале с Ростовом делать им тоже нечего. Однако в изгои ты их рано поместил. Есть у них еще Переяславль-Южный. Да не один град, а целое княжество. Туда ты их и отвезешь, боярин, со всем своим бережением.
— Беспокойное больно княжество у них будет. На самом рубеже со степью, — проворчал, но больше для приличия, отчасти успокоенный Еремей Глебович. — Там дружина знатная нужна. Да и не справлюсь я один — стар стал.
— А я тебе Творимира дам. Он подсобит. А что до дружины, то тех сынов боярских, которые тоже без отцов остались, как раз на всех четверых хватит. А ежели князь Ярослав оправится от ран, то он по первости их и будет в бой водить.
— Стало быть, ты его из своей вотчины тоже изгоняешь? — уточнил Еремей Глебович.
— Вежества он напрочь лишен. Все обидеть норовит. Еще одного такого соседа заиметь — и никаких ворогов не надобно. К тому же я так мыслю, что и у владимирцев на него обида большая. Если бы не Ярослав, то Юрий ваш под Липицу не пошел и ныне под Коломной его тоже не было бы.
— Тесновато им там придется. Невелико Переяславское княжество, — осторожно заметил епископ Владимирский.
— Да уж побольше, чем Городец Радилов будет[54], — тут же нашелся Константин.
— Ну, с княжичами все понятно, — вздохнул, перекрестившись, Симон. — И мастеровому люду ты все славно обсказал. Опять же, пока шел сюда, смердов не зорил, селища не жег. То ты по заповедям божеским поступал. Осталось вопросить тебя, княже, о делах церкви. Оно, конечно, пустяк, но положено так, чтоб новый князь каждый раз грамотки прежние своей дланью подтверждал.
«Вот оно, — мелькнуло в голове у Константина. — Или сейчас бой принимать, или отложить малость, но отступать-то уж точно нельзя».
— А о каких грамотах ты речь ведешь, владыко? — наивно спросил он, стараясь выгадать время, чтобы как можно туманнее сформулировать свой ответ.
— Ну, как же, — даже удивился Симон. — На володение землями, селами, лесами и прочими угодьями. Не ведаю я, как там в Рязанской епархии, коя победнее малость и даже монастырей не имеет, а у нас соборам и чинам монашествующим немало князья выделили. Один лишь Успенский собор помимо земель разных еще и десятую часть княжеских доходов каждое лето получает. На то повеление богоугодного князя Андрея Юрьевича[55] имеется. Когда Михаил Юрьевич[56] братца своего сменил, он эти грамотки подтвердил. Так же и еще один брат их поступил, Всеволод. Да и сыны его — что Константин, что Юрий — не уклонялись от пожертвований в казну церковную, как и подобает добрым христианам. Помимо того что их стрыи и отец дарили, они еще и от себя немалую лепту вносили.
— Об этом, по-моему, ныне и говорить не резон, — возразил Константин. — Так же, как и эти князья, я твердо пребываю в христианской вере. Неужели ты сомневаешься, владыко, что я монахов, которые за землю Русскую без устали молятся, оставлю без землицы на пропитание? Или креста на мне нет? О том и говорить нечего попусту.
— Вот и подпиши.
Лицо епископа медленно стала заливать краска гнева. Не любил владимирский владыка, когда ему перечили, пусть даже и в мягкой уклончивой форме.
— Да тут их вон сколько, — простодушно заметил Константин, глядя, как один из подручных епископа извлекает из увесистой шкатулки все новые и новые свитки. — Я ведь до вечера с ними провожусь, не меньше, а времени нет, дел много.
— Но решать-то все едино надо. — Симон еще больше покраснел. — К тому же с тебя, княже, и одной грамотки хватит. Главное, чтобы ты в ней указал, что все прежние дарственные подтверждаешь. Ну, а ежели новым чем-то наделишь, то и тут времени много не надобно. А мы уж тебе, чтобы ты не утруждался, и сами грамотки написали. Осталось только печать приложить.
Константин вышел из-за стола и решительно шагнул в сторону Симона. Заметив повелительный кивок князя, следом за ним заторопился Пимен. Дойдя до епископа, Константин почтительно принял из его рук оба свитка, которые должен был подписать, и, не глядя, протянул их назад Пимену.
— Благодарствую, владыко, за облегчение трудов моих, однако и ты уж меня пойми — не гоже дарить то, чем я пока и не владею толком. Мне самому поначалу все разглядеть хочется.
И тут же, не давая опомниться, он взял со стола увесистый ларец и тоже протянул его своему чернецу. Оторопевшему прислужнику оставалось только хлопать глазами, наблюдая, как кипа драгоценных документов все удаляется и удаляется от него.
— Э-э-э, — проблеял он, растерянно глядя на своего епископа.
— Не гоже так-то, — понизив голос до свистящего шепота, укоризненно произнес Симон.
— Так ведь разобраться надобно, владыко, — обезоруживающе развел руками князь. — Надо же мне узнать, чем монастыри владеют, а какие земли мне самому принадлежат. А то не по-хозяйски получается.
Сидящие рядом купцы, как по команде, одобрительно закивали, но тут же испуганно дернулись, заметив злой взгляд епископа.
— По-хозяйски, — хватило сил выдавить из себя Симону. — Но не по-княжески. Добрее надобно быть и помнить, что за церковью ни добро, ни зло втуне не пропадают.
Он первым встал из-за стола и с гордым видом прошел, ни на кого не глядя, к своему возку, высоко вскинув голову и нервно покручивая на правой руке массивный золотой перстень.
«Только бы не сорваться, — пульсировала острой тоненькой жилкой колкая мысль. — Только бы доехать до Владимира, а уж там-то…»
Он сдержался и не сорвался, до самых своих покоев сохраняя внешнюю невозмутимость. Лишь зайдя в опочивальню, Симон позволил себе дать волю гневу. Все было не по его, все не эдак, и уже к вечеру оба служки имели: один в кровь рассеченную нижнюю губу, а другой — увесистый синяк под глазом и разбитый нос. Кровоподтеки по всему телу были не в счет.
Причем оба были уверены, что еще дешево отделались. Как-никак до келий в подвалах, а проще говоря, том же порубе, но монастырском или, того страшней, епископском, дело не дошло, а по сравнению с тем, что рассказывали о них, и о том, каково приходится несчастным сидельцам, разбитый нос был самым что ни на есть пустячным делом. Можно даже сказать, благодеянием.
Небывалая сдержанность епископа объяснялась двумя обстоятельствами. Первое — это то, что он еще не утерял надежды вразумить рязанца, тем более что намеки были сделаны более чем понятные. Второе же — что вечером ему надлежало быть на совете у боярина Еремея Глебовича, а до этого многое необходимо было как следует обдумать и взвесить.
Уже на следующий день боярин, говоря с Константином, только разводил руками, оправдываясь и утверждая, что он сделал все возможное и невозможное.
— Я ему толкую, что все равно нам не выстоять, а он все одно — пока, мол, грамотки мои не подпишет, я град Владимир на сдачу не благословлю. Ныне же сам обедню отслужил и на проповеди так гневно перед людом говорил о князьях неких, кои даже для святой церкви куны жалеют, что всех аж дрожь прошибла, — сокрушенно продолжал боярин.
С тоской глядя на бледнеющее от гнева лицо Константина, Еремею Глебовичу подумалось, что теперь-то уж точно поруба ему самому на старости лет не миновать.
Впрочем, он-то ладно. Старый совсем. А вот того, как рязанец град Владимир на копье брать станет, ему бы видеть не хотелось.
«И ведь как поначалу все ладно было… Нет же, дернул же черт князя заупрямиться, — досадовал Еремей Глебович. — А может, и правда черт? — мелькнуло вдруг в голове. — Речь-то ведь о монастырских угодьях идет, а не о боярских», — и он уставился на Константина уже с некоторым подозрением.
— Не бойся, боярин, — вдруг невесело усмехнулся тот. — Попробуем мы потерпеть малость. Вот только жаль, что припасов надолго не хватит. От силы дней на пять, не больше, — и после прозрачного намека осведомился: — А что люд простой говорит?
Еремей Глебович хмыкнул неопределенно и туманно заметил:
— Владыка сказал: кто врата князю Константину без моего благословления откроет — прокляну и его, и потомство, и весь род до седьмого колена.
— Вот что жадность с человеком делает, — сокрушенно заметил князь.
— Точно, — печально кивнул головой боярин, но потом, спохватившись, перекрестился, мысленно обругав себя на все лады за то, что вздумал согласиться с порицанием служителя божьего, и робко заметил: — Ну а мне-то как быть? Он ведь непременно вопрошать станет — о чем речь шла.
— Скажи, что князь опечалился сильно и теперь думу думать будет, — Константин задумчиво поскреб в затылке и добавил: — Три дня. На четвертый за ответом подъезжай.
И вновь рязанец поступил честно. На четвертый день он со вздохом сказал Еремею Глебовичу, что пропитание у воев совсем почти кончилось, а так как деревни близлежащие зорить он не намерен, то пусть завтра владимирцы ворота откроют и, как водится, встретят своего нового князя хлебом-солью. Впереди же всех епископ Симон должен идти, дабы благословить и в град пригласить.
«Стало быть, все уже знает, — подумал боярин. — Вон как уверенно он все говорит. Не иначе донес кто-то о том, что старшины всем миром порешили».
Он вспомнил суровую отповедь коваля Бучило, который возглавлял посланцев и напрямую заявил Еремею Глебовичу:
— Ты как хошь себе, боярин, а князь Константин нам люб, и мы людишек своих мастеровых, которых тебе в помощь дали, со стен сей же час снимаем.
— А епископ?.. — заикнулся было боярин.
— Ежели бы не владыка Симон, то мы их и вовсе в тот же день сняли, — пояснил Бучило. — Ну, ты сам посуди, боярин. Князь нам почет оказывает, уважение, почти за каждого ответил из сынов наших — кто, как да что. Вот как на духу скажи, смог бы, к примеру, тот же Юрий Всеволодович мне сразу сказать, живы мои сыны али нет? — и сам ответил: — Да никогда! Что им смерд какой-то. Про князя Ярослава я и вовсе молчу. А чужак рязанец вмиг ответ дал, хотя сыны мои не за него, а супротив дрались. Это как понимать надобно? — и сам ответил: — А так и понимай, боярин, что прав он везде и во всем. С большим понятием ко всему подходит, как оно и должно быть.
— Константиновичей меньших с Юрьевичами опять-таки не обидел — целое княжество им уделил. А мог бы ничего не давать. Ведь мог? Мог. Получается, что и перед ними у нас совесть чиста. Откуп с города раз в десять поболе мог взять, а он опять-таки с пониманием, — это уже старшина купцов слово взял.
— И пошутить могет. Да чтоб не обидно было и в самую точку, — быстро добавил кожемяка. — Я на белом свете давно гостюю, ведаю, что коли человек так шутковать умеет, то злобы у него на душе нет и зависть черная там не живет. Стало быть, и дело иметь с ним завсегда можно.
— У него на Рязани вместо стен доселе одни головешки. Кто расстарался? Князья наши. Пусть не Юрий, а Ярослав, но в таком деле особливо не разбираются. Всем попадает — и правым, и виноватым. А он сердце сдержал — людишек, ни в чем не повинных, зорить не стал. Это как? А ведь мы ему даже не свои еще — чужие. А он опять-таки по-доброму с нами, будто уже приял к себе. — И глава древоделов подытожил: — А раз он к нам с лаской, то тут в отказ вовсе грешно идти. И супротив своего князя град мы боронить не станем. А владыка пускай себе лютует.
Утром же стали постепенно куда-то расползаться и городские стражники. Ныне их осталось всего ничего — трех десятков не набрать, да и те потихоньку продолжали разбредаться. Одного было ухватил боярин за шиворот, а тот вытаращил глаза и спросил:
— А от кого град-то боронить? Князь нашенский у ворот стоит, а больше никого и нет рядом.
От таких слов боярин даже дар речи потерял, а когда тот к нему вернулся — наглеца уже и след простыл. И вопрос свой насчет грамоток задал он теперь как-то так, нехотя, больше из приличия, чтобы отрицательный ответ из уст самого князя прозвучал.
Каково же было удивление Еремея Глебовича, когда Константин заверил его, что обе грамотки он непременно, сразу же после торжественной обедни самолично с поклоном глубоким вручит владыке Симону.
Почему не сейчас? Да потому, что ему тоже честь княжескую соблюсти надо. Что его дружина скажет, когда узнает, что он на попятную пошел? Пусть перед служителем божьим, причем не просто перед священником или диаконом, а целым епископом, но ведь пошел и от княжеского слова своего отказался. А так вроде бы все добровольно будет, по обоюдному согласию, и ему, князю, в упрек эти грамотки уже никто не поставит.
Обрадованный боярин в тот же день передал епископу все это почти дословно. В ответ воодушевленный Симон заявил, что всю организацию встречи он берет на себя, после чего тут же развил кипучую деятельность по ее подготовке.
Слово свое владыка сдержал, даже с лихвой. Уже в приветственной речи он не забыл ни одного доброго деяния Константина: и приветлив, дескать, князь, и о люде простом заботлив, и не злобив, и добр, и терпелив, и о церкви, как подобает истинному христианину, неустанную заботу являет.
О том же самом он и на обедне говорил, во время проповеди, которая на сей раз полностью посвящалась князю Константину, причем за основу он взял отрывок из книги пророка Исайи и, указывая на стоящего впереди всех, почти у самого амвона, князя Константина, торжественно изрекал прихожанам, благоговейно внимавшим ему:
— И он пришел от корня великого воителя Святослава, и корня равноапостольного князя Владимира, и от корня мудрейшего Ярослава. Ибо о нем было сказано еще в святом писании: «И ветвь произрастет от корня его; и почиет на нем дух господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом господнем исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет препоясанием чресл его — правда, и препоясанием бедр его — истина»[57].
Никогда еще речь епископа не была столь вдохновенной, а слова — столь проникновенными. Впрочем, вдохновение в тот день осеняло Симона дважды. Первый раз, как уже было сказано, это произошло во время проповеди на обедне, а второй — несколько позднее, после того как он развернул, находясь в своих покоях, княжеские грамотки.
— Подлец, негодяй! — сотрясались от неистового рыка епископа дорогие веницейские[58] стекла в свинцовых оконных переплетах. — Прокляну мерзавца! Отлучу! Анафеме предам! Шутки шутить с церковью удумал — я тебе их пошучу! Я тебе так пошучу — колом в глотке встанут! Ах ты ж поганец какой!
Битых два часа ни одна живая душа не смела воити к владыке, пока тот хоть немного не утихомирился. А виной всему были дарственные Константина.
Нет, князь не опустился до откровенной лжи — он честно сдержал свое слово. Более того, грамоток этих было даже не две, а намного больше. Практически для каждого монастыря — отдельная, которая подтверждала ранее пожалованное другими князьями, а к ней прилагалась еще одна, где говорилось о том, как князь, безмерно почитая неустанный труд монахов и высоко ценя их бескорыстие и усердие, жалует им еще от щедрот своих.
Так-то оно так, но если почитать их повнимательнее, то становилось ясно, что рязанский князь поступил как самый настоящий плут, пройдоха, проходимец, мошенник, и к этому епископ Симон охотно добавил бы еще множество подобных эпитетов.
Во-первых, из подтверждающих грамоток исчезли все села со смердами. У того же Рождественского монастыря в одночасье пропали сразу восемь сел с несколькими сотнями дворов.
Нет, смерды никуда не делись, и села тоже оставались на месте, но Константин отныне брал их под свою руку, да еще с издевательской припиской. В ней князь указал, что желает облегчить святым отцам, проживающим в монастырях, неустанную борьбу с кознями дьявола, который ежедневно подталкивает их оскорблять свою же братию, проживающую в селах, обижать смердов неправыми поборами, налагая лихву на лихву[59], и чинить им всяческий вред, доводя до разорения. Посему он, Константин, и лишает такой возможности изначально, но не их, а дьявола.
И ведь этот подлец, мерзавец, плут и мошенник не только оттяпал все села. Он же вдобавок, подобно злобному язычнику, лишил их самых лучших угодий: заливных лугов, богатейших бортей. И осталось у них лишь одно право — пользоваться дарами рек и лесов. Но и тут следовала лукавая приписка негодяя о том, что точно такое же право на пользование ими — ибо все люди на земле произошли от Адама и Евы — князь дарует еще и жителям сел, лежащих возле этих водоемов и лесов.
И дарственные новые тоже звучали издевательски. Одному монастырю в подарок болото поднесено. Дескать, ежели его осушить — цены этой земле не будет. Другому — лужок близ низменного левого берега реки Клязьмы, весь поросший осокой и камышом, на котором отродясь ничего не вырастить, третьему… Да что там говорить, надул, негодяй. Подло и гнусно надул.
И ведь не скажешь теперь ничего. Тот же народ не поймет, если сам епископ ныне славит князя, а завтра клянет его же на чем свет стоит. Как объяснить прихожанам, что Константин этот — самый настоящий тать, нет, что там, в десятки раз хуже татя. Кто посочувствует, если новый князь ни у кого куны лишней не взял, если обобрал только монастыри и церкви, лишив их давно узаконенного дохода.
Впрочем, оставался один вариант. Не должен был митрополит всея Руси Матфей промолчать, глядя на этакое безобразие. И если у него, Симона, после чрезмерно горячей и еще более необдуманной скороспелой проповеди в пользу князя Константина руки узлом связаны, то у Матфея они свободны. А потакать творившемуся бесчинству тот просто права не имеет, ибо дурной пример заразителен.
Епископ не был стар годами, а на подъем и вовсе легок, так что уже через день рано утром ладья с Симоном и несколькими служками отчаливала от речной пристани. Нужно было спешить и успеть до первых зимних морозов, пока реки еще не встали. Тогда придется дожидаться зимнего первопутка, и путь до Киева и обратно запросто может занять все время до весны. Симон же рассчитывал по первому снегу вернуться уже назад, в свою епархию.
Едва же он отъехал, как уже на следующий день, аккурат в самый полдень, молчаливые княжеские слуги, предъявив указ князя Константина, распахнули настежь двери всех подземных темниц, которые самими монахами стыдливо именовались кельями.
Напрасно особо ретивые из епископских служек выражали свои гневные протесты, утверждая, что имущество церкви не может быть подвластно князю. Руководивший всеми чернец Пимен только изумленно поднял вверх брови и нагло заявил в ответ, что князь ничего из вещей брать вовсе и не собирается. Люди же, кои сидят по этим узилищам, бессловесным имуществом никоим образом быть не могут. Или владыка Симон их тоже за бессловесных скотов считает? Ах нет, ну тогда…
И один за другим наружу из покоев епископа извлекались несчастные, изнеможенные, оборванные, полуслепые люди, вся вина которых зачастую состояла лишь в паре-тройке неосторожно сказанных слов.
Но тут ведь смотря каких слов и против кого они произнесены. Если бы против князя — это одно, да даже против бога — еще куда ни шло, но против служителей церкви Христовой!.. За такое карать надо нещадно, дабы другим неповадно стало.
И кому какое дело, что эти самые слова вырвались у человека из уст после того, как дюжие монахи в счет недоимок прошлых лет вывели у него со двора последнюю коровенку, не побрезговали ледащей лошаденкой и оставили только двух куриц. Причем и их-то не забрали вовсе не по доброте душевной, а лишь потому, что тучным божьим служителям с объемистыми черевами было несколько затруднительно гоняться за шустрыми птицами.
Стоило же хозяину сказать о них все, что те заслужили неустанными стараниями и заботами об имуществе ближнего своего, как ему тут же присваивалось грозное клеймо «еретик», и через пару дней двери церковной тюрьмы наглухо закрывались за очередным несчастным.
И благо для смерда, если она была монастырская. О своем «говорящем» имуществе простые монахи заботились чуть лучше, нежели глава Владимирско-Суздальской епархии преподобный владыка Симон.
Если бы епископ по каким-либо причинам вернулся с полдороги обратно, то навряд ли бы ему поздоровилось. Трудно сказать, сумели бы дружинники князя Константина удержать народ от самосуда над своим духовным владыкой. Проще ответить на вопрос: попытались бы они вообще встать на его защиту или же — что скорее всего — сделали бы вид, что у них и без того княжеских поручений невпроворот.
Точно такие же угрюмые дружинники, которые остались в городе после отъезда князя, всего за неделю с небольшим перешерстили все монастыри. В общей сложности из узилищ было извлечено около двухсот человек.
Сам Константин был к тому времени уже далеко — под Ростовом.
* * *
И в заступу княжичей-младеней такоже никто гласа свово не подаша, окромя епископа Воладимирской, Суздальской, Юрьевской и Тарусской епархии Симона, кой оттого великую остуду получил от Константина и бысть оным князем изобижен и поруган всяко.
И было о ту пору церквям христианским поругание всякое, а монастырям и людям божиим — ущемление великое.
Князь же, диаволом научаемый, из келий и затворов еретиков злокозненных за мзду выпускаша, дабы они слово божие неладно везде рекли к умалению славы и величия церкви православной, гнусные поклепы возводя на оную.
Из Суздальско-Филаретовской летописи 1236 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1817* * *
Константин же, возжелаша мира, послаша своих слов к князьям Юрию и Ярославу и рек им: «Почто прииде на Коломну? Не хотяще аз ваших градов и княжения, почто вы алчете моего? Не уйметеся же ныне, и аз к вам в земли приду».
Те же глаголили со смехом: «Коли нас не станет, то все твое буде».
Слы же князя Константина рекли им: «Быть посему, и пускай бог рассудит — у кого правда, тому все и отдаст».
Егда же победита князей владимирских и муромских, то Константин и грады их взяша под свою длань по уговору ранее. К люду же градскому рек с вежеством: «Не воевати хощу с вами, не грабити, но оберег вам дам всем и защиту».
И люд оный выю склоняя, нового князя славил, ибо он не с мечом пришед, но с миром.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1760* * *
Захват всех городов Владимиро-Суздальского княжества был практически мирным и бескровным. Сопротивляться было просто некому — воины-дружинники полегли под Коломной.
Только один епископ Суздальской, Владимирской, Юрьевской и Тарусской епархии Симон возвысил свой голос в защиту малолетних детей — трех Константиновичей и одного Юрьевича, за что и пострадал, попав в опалу. Попытка же Симона отстоять их права у митрополита Киевского Матфея тоже не увенчалась успехом.
Впрочем, нельзя сказать, что Константин обидел маленьких княжичей. Напротив, он поступил с ними достаточно великодушно, уступив в их пользу южное Переяславское княжество.
Что же касается его знаменитого указа о монастырях, по которому божьи люди отныне и навсегда лишались сел с крестьянами и исключительных прав на другие угодья, которыми владели ранее, то опять-таки при всей своей набожности князь просто не мог поступить иначе.
Будь это другие, более спокойные годы, и я более чем уверен, что Константин не только не издал бы этого указа, но и дополнительно одарил бы церковь, пусть и не всю, но хотя бы столичные монастыри и наиболее видные храмы при крупных городах.
Однако время великих перемен требовало великих расходов, а где их взять?
То же самое касается так называемых еретиков, которых Константин, не исключено, хотя об этом говорится только в одной летописи, выпускал не бескорыстно, а за определенный выкуп.
Причина все та же — срочная нужда в серебре.
Причем, вполне вероятно, что умный князь щедро делился им с церковью. Я выдвигаю такое предположение, потому что практически никто из епископов, за исключением того же Симона, не протестовал против такого поведения Константина и его грубого вмешательства в права церкви.
О. А. Албул. Наиболее полная история российской государственности. СПб., 1830. Т. 2, с. 146–147.Глава 7 Так рождаются реликвии
Лучше быть счастливым от заблуждения, нежели несчастным от истины.
Фридрих II, король ПруссииГороду, который открылся взору рязанского князя, было уже почти четыреста лет. Хотя на самом деле, может, и больше — кто знает. Во всяком случае, Киевской Руси еще и в помине не было, когда он появился. Маленький, с тщедушными деревянными укрепленьицами, тихонечко встал он на низменном западном берегу озеро Неро. Да и не славяне его поставили — меря. Те больше сродни мещере да муроме с мордвой доводились, а не кривичам с вятичами.
Однако как бы то ни было, а за град им спасибо.
Позже, когда уже потомки Владимира Святославовича Киевского по Руси разбрелись, Борис, сынок его любимый, в те места и был прислан отцом. Он-то и приступил к созданию настоящего кремника. Приступил, да не закончил — погиб от рук Святополка Окаянного. Добротные укрепления появились намного позже, при еще одном Владимире, основателе рода Мономашичей.
Но даже это теперь — старина глубокая.
Зато ныне Ростов на всю Русь славен. Пускай Новгород Великий богатством своим кичится, пускай Владимир бахвалится своими умельцами, которые для тебя что угодно откуют, пошьют, выстроят и изукрасят. Призадуматься ежели — это все суета сует.
У Ростова иная гордость. Здесь ныне средоточие русского духа. Чего стоит одна только вифлиотика, которую покойный ныне Константин Всеволодович собирал всю свою недолгую жизнь. Более тысячи томов она насчитывает. Среди них и рукописи древние, и свитки различные, но главное в том, что три четверти этого собрания, не меньше, благодаря неустанным трудам монахов и переписчиков, уже на русский язык переведены. Для истинного книгочея здесь — эдем настоящий. Иной весь век бы отсюда не выходил, истинным богатством наслаждаясь. Все читал бы да перечитывал, впитывая в себя мудрость веков.
При нем же, старшем сыне Всеволода Большое Гнездо, в Ростове и первая школа появилась. Он ее из Ярославля сюда перевел. Да много всего разного — перечислять начнешь, так и не упомнишь.
Что и говорить, умен был князь. И не только в книгах умел разбираться, но и в людях своих редко ошибался, даже в тех, которые по роду своих занятий, казалось бы, далеко отстояли от Константина.
Вот, скажем, дружина. К чему она миролюбивому ростовчанину? Зачем на нее серебро тратить и не лучше бы еще книг, рукописей да свитков древних накупить? Но на то и есть книжная премудрость, подсказывающая, что без ратных людей не стоять государству — более воинственные соседи мигом сожрут и даже косточек не оставят.
Но и ратник ратнику тоже рознь. Если для количества подбор вести — одно. Если же хочешь, чтоб лучшие у тебя служили, — совсем другое. Их не только гривнами осыпать надобно, но и вежество проявить. Зато против таких, ежели что случится, ни один ворог не выстоит.
Потому и подбирал Константин к себе в дружину не абы кого, а лучших из лучших. Платил щедро, но приковывал к себе не звонким серебром, а открытостью души, лаской сердца и большим умом. Не раз и не два он с ними задушевные беседы вел и всякий раз вровень держался, не кичился тем, что он урожденный Рюрикович, а они так себе, ни роду именитого, ни предков знатных не имеют. Понимал князь, что не в них честь человека заложена, что в тяжкий час испытаний заслугами теней загробных прикрыться никому не удастся. И потому в дружине его редкостное содружество царило. Оттого после его смерти и не пошли Константиновы вои наниматься на службу к другим князьям. Не видели они в Юрии, брате его, большого ума, перед которым можно было бы уважительно склонить голову. Сказать же, что у Ярослава, еще одного брата, ласковое сердце, разве что в шутку можно было бы. В злую шутку.
Решив держаться всем заодно, вышли они тогда разом из Ростова и, проехав малость вдоль берега озера Неро, осели в слободке приглянувшейся. Те семена, что Константин Ростовский в их умы заронил, к этому времени всходы давать стали. Рассуждали по вечерам о единой Руси, печалились, что ныне каждый из князей сам за себя, и все думали, рядили да гадали, как им самим-то дальше жить.
Одно только твердо решили дружинники — больше в сварах да междоусобьях княжеских не участвовать. Хотят рвать друг друга, как псы бешеные, — пусть и грызутся. Потому и в дружину к Юрию мало кто пошел, когда тот, сразу после смерти Константина, взгромоздясь на великий стол Владимирский, принялся ополчение собирать. Им Рязань ничего дурного не содеяла — почто соседей зорить. К тому же у них самих рязанцев имелось немало. Коли посчитать, так с полста наберется, не меньше, то есть каждый восьмой из тех краев. Им и вовсе невместно со своими в бой вступать.
Зато дальше, после того как слушок пошел, что рязанское войско, разбив объединенные рати Юрия и Ярослава, на Владимир подалось, чуть ли не каждый день вои до хрипоты судили да рядили — идти им на выручку стольному граду или поберечь силенки для Ростова. Покумекав основательно, порешили так: позовут ежели, то подумаем, и как знать… Не позвали.
Теперь — иное. Теперь войска Константина Рязанского вплотную к Ростову придвинулись, а в городе, даже если каждому из желающих по мечу выдать, все равно больше трех-четырех сотен не набрать. Значит, выручать надо любимый град покойного князя. И пусть сам он уже на небесах, но в честь памяти его надобно потрудиться.
Поэтому, когда Константин прибыл под Ростов, горожане готовы были биться до конца и настроены весьма решительно. Попробовал было князь собрать всех, как под Владимиром, но ростовчане отказались, опасаясь предательства.
Хорошо, что он прихватил с собой нескольких бояр из бывшей столицы. Их-то вместе с Хвощом и Евпатием Коловратом он и отправил уговаривать городской люд покориться добром.
«Не хочу видеть, как древность вековая придет в разор и запустение, — велел он передать. — Ведаю, сколь в храмах города святынь хранится, и боязно мне за знаменитую вифлиотику, не хочу, чтобы пострадала она, когда я град на копье брать учну».
— Огонь чрез стену метнуть нашему князю недолго, — говорили послы, стоя в большой гриднице, где собрались набольшие из ростовских бояр. — Но у вас самих-то душа не болит оттого, что далее с вашим градом приключится?
У бояр же душа больше за иное болела. Слыхали они, как у рязанца боярское сословие живет, и очень им это не по нраву пришлось. Вроде бы и с гривнами изрядно, но власти они, если так разбираться, никакой не имеют. Даже смердов в тех деревнях, которые им в кормление отданы, касаться не смей — на то тиун княжеский имеется. А он хоть и выдаст все положенное, но зато и лишку взять не позволит. То есть серебра у них всех изрядно, а вот с властью худовато. О том они и толковали промеж собой, когда послов отдыхать отпустили.
И еще одно соображение у них имелось. Сейчас Владимир уже как бы к Рязани отошел, а потому если Ростов отобьется, то именно он станет главным городом княжества, как когда-то уже был. А в том, что они должны выстоять, мало кто сомневался. Рвы глубокие, башни крепкие, стены высокие, а если кто и заберется на них, то сразу о том пожалеет, потому как вся дружина покойного Константина на них набросится, а в ней каждый если не десятка рязанцев стоит, то уж с пятком наверняка управится.
Пускай их князь попробует, а мы полюбуемся. Когда же умается, тогда и заново говорить можно, вот только условия станут иными, не такими жесткими, как те, что он сейчас выставляет.
Словом, порешили ростовские бояре наутро сообщить послам, что от сдачи города они отказываются. А вот сотники дружинников, которые тоже присутствовали на тех переговорах, призадумались, а потом, посовещавшись меж собой, решили к ночи поближе еще раз пригласить рязанцев к себе на разговор.
Хоть и охрип Евпатий Коловрат, тщетно пытаясь урезонить ростовских бояр, но, выступая перед богатырями-дружинниками, он дар красноречия снова обрел, говорил, что давно уже пора настала всем на Руси объединиться перед лицом новой опасности, которая будет гораздо страшнее всех прежних.
— Ныне брань учиним меж собой, а кому мечи в руках держать, когда страшные монголы из неведомых краев придут на святую Русь? — вопрошал с укоризной. — А на вас у нашего Константина особая надежа, потому как вы не токмо в ратном деле умудренные, но и за Русь душой болеете. Потому и считает наш князь, что теперь у него и у вас одна дорога. Пока единство малым будет — только три княжества в одно сливаются, но тут ведь главное — начало положить. Боярам, кои о благе всеобщем не радеют, торговаться простительно, прежние вольности выклянчивая, потому как они дальше своего носа не видят, а уж вам такое зазорно, — попрекнул в конце.
— С самим бы князем перемолвиться, — осторожно заметил Александр Попович.
Он у прочих ратников в самых набольших ходил и среди всех четырех сотников первейшим считался. Выучкой да ратным умением и остальных бог не обидел, но у Поповича еще и ума палата. Шутка ли — самому покойному Константину в беседах никогда не уступал, о чем бы речь ни заходила: об устроении земель, о душе и боге, о святости и благочинии древнем.
— Это верно, — не стал спорить Коловрат. — Я так мыслю, что завтра поутру получу отказ от ростовских бояр. Уж очень они ныне осмелели, за вашими спинами сидючи. Вот и поехали к нам. Там обо всем и переговорим.
Попович на своих оглянулся, а те в ответ только кивнули согласно.
— Негоже мне одному за всех решать будет, — произнес он веско.
— А я не одного тебя — всех приглашаю. Или ты думаешь, что у князя Константина медов хмельных не хватит?
Попович еще раз оглянулся, затылок задумчиво почесал и кудрями решительно тряхнул:
— Быть посему. Вчетвером и поедем.
Наутро все вышло примерно так, как и предполагал Евпатий.
— Осилит твой князь наши стены — быть по его, — заявил от имени всех прочих Олима Кудинович. — А нет… — И он лукаво руками развел.
— Так ведь если осилит, то он иначе говорить станет, — заметил Коловрат, но спорить не стал.
Сотники дружинников присоединились к отъезжающему посольству только у городских стен. Спесь и тут худую службу сослужила боярам — не стали они сопровождать послов до ворот, кичась своей солидностью да важностью. А уж когда все вместе за ворота выехали — поздно удерживать было.
В шатре помимо князя из рязанцев были Евпатий, воевода Вячеслав и дружинник на выходе у самого полога. Поровну получалось — четыре на четыре.
— Не боязно тебе вот так с нами оставаться? — хитро прищурился Лисуня на князя. — Или думаешь, что одолеть сможешь, ежели что?
Этот тоже в набольших хаживал. После Поповича он следующим считался. Умом был не так велик, как Александр, чтоб беседы заумные вести, зато хитер и осторожен за пятерых. Потому и прозвище соответствующее имел.
— Бояться — значит ни в честь вашу, ни в совесть не верить, — спокойно ответил Константин. — Да и не принято гостей с мечом в руках встречать, если они с добром пришли. Сам же первым нападать на вас тем паче не собираюсь.
Смешался Лисуня, остальные же сотники ответ князя одобрили дружными кивками и уселись за стол. Первые две чары осушили, особо не разговаривая. Им спешить некуда, да и что такое для них две чаши меда хмельного — так, пустяк один. К тому же в таких делах в проигрыше тот, кто первым говорить начнет. Это они тоже хорошо знали, а потому все больше князя слушали. Тот их ожиданий не обманул — говорил много, да все гладко так, умно, рассудительно.
— Ты вот все о единстве Руси говоришь, — не выдержал наконец Попович. — Но коль Рязань стольным городом будет, то Киев, получается, побоку? Хорошо ли это — старину рушить?
Ответить Константин не успел. За него это сделал еще один сотник — Добрыня.
— А почему бы и не Рязань? — возмутился он горячо.
Вступился Добрыня, потому что сам родом из тех краев был. Селище его родное лежало западнее Пронска, там, где извилистая Ранова впадает в Проню. Междоусобье княжеское ему осточертело еще раньше, чем Поповичу, потому он и ушел к Константину в Ростов, очень удачно попав — аккурат за месяц до Липицы. А уж в знаменитой битве так отличился, что князь ростовский самолично на него узорчатый пояс надел, шитый золоченой ниткой и весь переливающийся от нарядных бляшек. Потому его и прозвали Золотым Поясом. Силушку Добрыня имел от бога, но во зло ее не употреблял.
— Не о том речь ныне, чей град лучше. Да и нельзя их сравнивать. Всякому человеку свой родной уголок милее будет, чем прочие, — примирительно заметил Нефедий Дикун.
Этот тоже окским был. Да мало того — ожским. Но хоть и лестно было сотнику, что именно его князь ныне под Ростовом стоит, понимал он, что и впрямь не имеет особого значения, чей град наверху будет. Тут иное важней — сумеет Рязань вкруг себя всю Русь соединить али как?
— И как угадать, да чтоб не ошибиться? — осведомился Попович.
Вопрос его вроде бы Дикуну адресовался, но смотрел он в это время на князя.
— А угадать легко, — улыбнулся многозначительно Константин. — Никто из вас не задумывался, что святыня, коя ныне на Рязани объявилась, неспроста именно там оказалась? Может, это и есть знак с небес, гласящий, что именно Рязани господь повелел вкруг себя Русь сбирать, — и предложил Коловрату: — Расскажи, Евпатий, как оно все было.
— Может, ты сам, княже, — возразил тот. — Невместно мне сказывать, когда не я ее…
— Неважно, — перебил князь. — Так оно, может, и лучше. Не зря говорится, что со стороны видней. Сказывай.
— Ну-ну, послушаем, — первым выказал интерес простодушный Добрыня.
Он вообще любил разные занятные истории, пусть даже и сказочные. А уж ту, которая взаправду приключилась, да не где-нибудь, а совсем рядом, почитай, на родине, и вовсе грех не выслушать.
Рассказывать Евпатий умел хорошо. Не зря Константин лучшими своими послами считал именно его и старого Хвоща.
Правда, излагал Коловрат только то, что сам знал о появлении на Рязани частицы того самого креста, на котором распяли Христа. Но тут самое главное — вдохновение, а им Евпатий обладал в полной мере.
А Константин молчал, хотя мог бы рассказать намного больше, причем то, о чем никто и не догадывался. Он вспомнил тот майский день — солнечный и яркий, когда ему впервые пришла в голову идея надуть киевского митрополита. Дело в том, что уже давно пришла пора отправлять в Киев церковную десятину, а отправлять-то как раз было и нечего. Все серебро он уже давным-давно истратил. Правда, теперь у него чуть не во всех крупных селищах появились школы, то есть истратил-то он гривны на богоугодное дело, но почему-то Константину казалось, что у митрополита на все это будет иная точка зрения.
Тогда-то он и придумал этот фокус. Нашел под Рязанью лачугу подревнее и как-то раз незаметно от всех… Словом, уже через день две здоровенные щепки, которые теперь гордо именовались частицами креста господня, были им отправлены в Киев. Далее Константин красочно описывал, как он купил их у своего шурина — половецкого хана Данилы Кобяковича. И пришлось ему вбухать в эту покупку не только всю церковную десятину, но еще и кучу своих гривен. Хану же они достались от одного православного монаха, шедшего из Константинополя к святым местам, но по пути тяжело заболевшего. Уже умирая, он увидел золотой крест на груди Данилы Кобяковича, поведал ему все и передал святыни. Для вящей правдоподобности Константин отписал, что частиц было три, но одну из них он порешил оставить у себя в Успенском соборе.
И все прошло тихо и гладко, если не считать того, что через полтора месяца от киевского митрополита пришла особая грамотка, в которой старый Матфей благодарил рязанского князя за столь благостный и щедрый подарок и прощал неуплату десятины.
Казалось бы, все замечательно. Но тут умирает рязанский епископ Арсений. Константин назначает на его место отца Николая, которому надлежит ехать в Киев на утверждение, а затем в Никею — на возведение в сан.
Разумеется, обо всем этом жульничестве князя священник был ни сном ни духом. Как половчее сказать ему обо всем, Константин не знал. Сказать же было нужно, потому что в Киеве о святынях речь зайдет непременно и будет весьма подозрительно, что в самой Рязани о них не знает даже будущий глава всей епархии. Князь оттягивал признание, насколько мог. Лишь когда наступил самый последний день перед отъездом, Константин понял, что дальнейшее промедление невозможно.
С самого утра на пристани полным ходом шла погрузка в ладьи, предназначенные для предстоящего путешествия в Киев. Грузили снедь и все прочее, чтобы в дороге никакой нужды не было. Последнее дело, когда хоть в чем-то надо одалживаться. Конечно, всякое в пути бывает, но на то ты и рачительный хозяин, чтобы все случайности предусмотреть, а не трясти попусту гривнами, которые и за морем пригодятся.
Отец Николай лично контролировал процесс, а в уме между тем напряженно прокручивал предстоящий разговор с князем, который предстоял ему сегодня. Последний, нет, теперь уже самый последний перед дальней дорожкой.
— О-хо-хонюшки, — вздохнул он тяжело, обмысливая, что да как.
Предстоящее путешествие его, честно признаться, порядком страшило. Пугали его не какие-то опасности или трудности. Отнюдь. Тут уж как господь повелит, так оно и будет. Но уж больно медленно движется этот древний транспорт. Пока он до Киева доберется, и то сколько воды убежит. А ведь от него до Константинополя еще катить и катить. Потом Никея. О том, сколько времени займет поставление в сан и выполнение княжеского поручения, ему не хотелось думать вообще. Да и обратно путь изрядный по времени.
Не за себя переживал будущий епископ — за друзей, которые оставались на Руси. Вроде бы и осторожен князь, не вертопрах какой-нибудь, с умом все делает, а все-таки тревожно. Не сотворилось бы здесь за время его отсутствия чего-нибудь эдакого, что и поправить потом, как ни старайся, уже не получится.
Опять же соседи треклятые, прости господи. Ведь ежели не сегодня, так завтра-то уж непременно Ярослав на Рязань посягнет… Надо было бы Константину посольство какое-нибудь направить к Юрию, братцу его, хотя, с другой стороны, проку с него навряд ли можно ожидать. Три брата у них под Коломной полегли от руки рязанского князя. Такого не прощают. Значит, будет воина.
А он, отец Николай, вместо того чтобы, скажем, воев вдохновлять, кои за Рязань милую, за князя своего на рать пойдут, невесть где болтаться будет.
Вот и размышлял отец Николай, как бы половчее Константину сказать, что надо бы погодить с отъездом, пока здесь все окончательно не утрясется. Разговор на эту тему он начинал уже не раз, но все время князь чуть ли не на пальцах пояснял священнику, что если тот выедет именно теперь, в погожий сентябрь, то до зимы запросто может добраться до Никеи, а значит, успеет вернуться к следующему лету. Чуть подождать, ну хотя бы с месяц, и отплыть из Киева получится только в следующем году. Вернуться же тогда удастся не ранее глубокой осени, а то и вовсе в следующем году. То есть один месяц задержки сейчас грозил обернуться целым годом, затраченным на дорогу. Такая вот выходила простая арифметика.
Все это отец Николай прекрасно понимал, с доводами княжескими соглашался, но только разумом. Чувство же того, что Константин попросту удаляет его куда подальше за пределы княжества, чтобы уберечь на все это тревожное время, по-прежнему не покидало священника. Благо у князя имелся не просто удобный, а шикарный повод к отправке. Да что там чувство — это была самая настоящая уверенность.
Для себя самого он уже давно решил, что лучше лишний год провести в дороге, чем уехать именно сейчас, когда опасность черной свинцовой тучей уже нависла над его друзьями и вот-вот разразится. Ох и страшной будет эта гроза, где вместо проливного дождя — лавина вражеских всадников, вместо грома и молний — мечи и стрелы, и повсюду кровь, кровь, кровь…
Отец Николай, конечно, не громоотвод, но, глядишь, кое-что из тягот сумел бы на себя принять. Опять же иной раз умное слово стоит дороже, чем сотня дружинников, а если оно примирительное, то как знать, сколько жизней сохранить удастся. Крепко священник в его силу верил, почти магическую. Потому и любил он изо всех евангелий больше всего чарующее загадочное начало у апостола Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога и Слово было Бог»[60].
Умом он опять-таки понимал, что иные из спасенных этим словом проживут весьма недолго, лет пять от силы, то есть дотянут лишь до Калки, а то и вовсе раньше погибнут, и все же, и все же…
Потому едва Константин пришел на пристань, как священник сразу переспросил его еще раз. Мол, как бы ему погодить с отъездом.
— Говорили уже не раз, а ты снова за свое, — устало попрекнул в ответ князь. — Я вот еще о чем рассказать хотел. Все как-то забывал, пустяком считал, но тебе, прежде чем к митрополиту ехать, знать надо…
Константин вздохнул, не зная, как лучше начать. Шалость с тремя несчастными щепками, казавшаяся поначалу совсем пустяшной, князю уже давно таковой не представлялась. А уж о том, что скажет отец Николай, узнав о столь бессовестном обмане духовного владыки всея Руси, Константину даже и думать не хотелось.
Да и вообще, согласится ли священник при всей его чуть ли не маниакальной честности покрывать кощунственный княжеский обман? Ведь сам Константин почему на него решился? Да потому, что не верил он в то, что до времен средневековья, а это без малого двенадцать веков, дошла хоть одна малюсенькая стружечка от того самого креста, на котором распяли Христа. То есть, с его точки зрения, всем тем деревянным обломкам, большим и не очень, что во множестве хранились по церквям, соборам, костелам и монастырям, была ровно такая же цена, как и его щепкам. Ничуть не больше.
Но это его, Константина, точка зрения. А вот отец Николай, вне всякого сомнения, посмотрит на его аферу совершенно иначе. Но говорить было надо.
«Согласится или нет, — напряженно размышлял князь. — А если нет, то, может, лучше ему вообще не говорить? Хотя нет, рассказать-то все равно придется, иначе и вовсе конфуз может получиться, если киевский митрополит эту тему поднимет, а отец Николай в ответ вытаращит глаза в неподдельном изумлении и начнет в ответ мычать нечто нечленораздельное. И как тогда будут эти святыни выглядеть? Вот только как бы это половчее сказать, чтобы он скандал до небес не поднял?»
Слегка успокаивало князя лишь одно — версия появления этих щепок в Рязани была выдумана вполне правдоподобная, так что если только отец Николай, пусть и скрепя сердце, пойдет на обман, то особо врать и выкручиваться ему не придется. Если согласится…
— Я митрополиту киевскому, — начал он неуверенно, так ничего определенного для себя не решив, — две щепки, нет, не так, две частицы от креста господня отправил нарочным.
— Что ты отправил?! — ушам своим не поверил отец Николай.
Его можно было понять. Звучало это примерно так же, как если бы к самому князю подошел сын Святослав и сказал, что он это… ну, Париж с Лондоном, а заодно и Багдад с Константинополем подарил как-то черниговцам.
— Ну, от креста, — промямлил Константин, потупив глаза и боясь взглянуть на изумленного донельзя священника.
— Да где же ты взял такую святыню?! — переспросил тот недоверчиво.
— Я митрополиту все написал. Монах шел, из Константинополя возвращаясь. Он прослышал, что крестоносцы некоторые святыни, из числа особо чтимых, собрались на Запад увезти, а потому, чтобы они в нечестивые руки не попали, он их и выкрал прямо из святой Софии. Нес их в святые места, в Киево-Печерскую лавру, по пути же занемог в половецких степях, там и помер. А перед кончиной хану, крест у которого на груди увидел, все и рассказал — как да что. Хан же этот был моим шурином, Данилой Кобяковичем. Вот у него я их и выкупил. Только их три поначалу было, но одну я у себя в Рязани оставил…
Константин хотел было дальше сказать, что он это сделал для вящего правдоподобия всей версии, а потом открыть подлинное происхождение этих трех злополучных щепок, но просто не успел.
— Где она?! — возопил священник.
— У меня в малой гриднице лежит, в шкафчике, — опешил от такого напора князь, но в глаза собеседнику по-прежнему не смотрел.
— Совсем очумел! — всплеснул руками отец Николай. — Святыню в шкафчик запихать, будто щепку простую! Ты бы ее еще под кровать себе засунул! Ну, от Михал Юрьича, изобретателя нашего, и не такого ожидать можно было, но от тебя, княже!..
— Да я… — князь хотел уже выпалить про то, что никакая это не частица, но священник и слова не давал вымолвить:
— Это ж всем святыням святыня — понимать надобно. Ей же и въезд праздничный организовать требуется. Ай, ладно, — махнул он бесшабашно рукой. — Подождет пару дней наш митрополит. Не беда. А я сам всем займусь. Чтоб торжественно все прошло.
— Прости, отче, но я… — вздохнул Константин сокрушенно и тут же снова был перебит.
— Бог простит, а впредь такого не делай, — наставительно заметил отец Николай. — Хотя что это я, — он стыдливо хихикнул в кулак, — нешто такая великая удача дважды подряд улыбнется. Ну да ладно. Пойдем, пойдем, — заторопился он, увлекая за собой Константина. — Немедля святыню извлечь надобно. Я ею самолично полюбоваться хочу. Ишь чего удумал, — бормотал он на ходу. — В шкафчик запихать, будто деревяшку простую.
Идти от пристани до терема было не так уж и близко, и времени князю вполне хватило бы, чтобы сознаться. Но как это сделать, когда священник, окрыленный предстоящей встречей со святыней и летевший на всех парусах, практически не давал и слова вымолвить. Нет, Константин честно пытался, но…
— А ты когда же ее выкупил-то? — поинтересовался отец Николай.
— В конце весны еще, — смущенно ответил князь. — Только, отче…
— И до сих пор молчал?! — ужаснулся тот. — Мог бы, по крайности, мне сказать или хоть шепнуть. Да и вообще, не пойму я, чего тут таиться?
— Да я хотел, — промямлил Константин. — А потом все как-то дела, дела… Ты уж извини меня, отче, что я так поступил. Я же как лучше…
Решимость рассказать все как есть таяла с каждой минутой, но князь еще честно пытался сознаться. Пытался, но не успевал.
— За что извинять-то? — искренне удивился священник, снова перебивая князя. — За то, что не все три отправил, а оставил одну? Вот чудак! Да я бы сам на твоем месте две оставил, чтоб в Рязани их больше, чем в Киеве, было!
— Так если бы они… — еще пытался что-то пояснить Константин.
— Не-ет, тут ты явно поторопился, — совершенно не слушая его, бормотал отец Николай.
— Понимаешь, отче, я все ломал голову, как за десятину оправдаться, которой нет, и взять ее неоткуда, ну и…
— Да ладно уж тебе, — отмахнулся на ходу священник. — Содеянного не вернуть. Сам вижу, что жалко тебе. Конечно, в каждый храм по одной и вовсе славно было бы, но и одна — тоже здорово! Шутка ли — частица креста господня! Это же… — Отец Николай даже остановился на секунду и, не в силах выразить переполнявшие его чувства словесами, безмолвно поднял руки в молитвенном экстазе.
Впрочем, он тут же продолжил свое стремительное движение, продолжая тащить за собой князя, который лепетал на ходу:
— Я и подумал: дай, мол, отправлю. А одну оставил, чтоб вера была…
— Да уж, вера теперь будет о-го-го, — краем уха все-таки уловил священник отдельные слова своего спутника. — Народ теперь валом в храм пойдет. Это ж здорово-то как — нигде нет, ни во Владимире, ни в Суздале, ни в Ростове, ни в Новгороде Великом, а у нас имеется! А монаха-то как звали? — перескочил вдруг он на другое.
— Какого? — даже не понял поначалу князь.
— Ну, того, который скончался по дороге, — пояснил священник.
Это был очень хороший момент. Оставалось сказать, что не было никакого монаха и вообще все это от начала и до конца выдумка. Константин так и сказал бы, но эта идея пришла ему в голову слишком поздно. Вместо этого он ляпнул:
— Феофан или Феогност. А я хотел тебе сказать, отче, что…
— После, после, — нетерпеливо отмахнулся священник, то и дело переходя на легкую трусцу вместо быстрого шага и не выпуская рукава ферязи Константина.
Вот так, чуть ли не волоком, и дотянул он князя до малой гридницы, нетерпеливо подтолкнув к шкафчику со словами:
— Извлекай с богом.
Константин нехотя достал из самого верхнего отделения злополучную щепку и протянул отцу Николаю.
— Дерево как дерево, — попытался он в очередной раз начать свое саморазоблачение.
Какое там.
— Да ты что ж ее так грубо хватаешь. Так и залапать недолго, — запричитал священник.
Он бережно, самыми кончиками пальцев, перенял эту щепку, затем вытянул эту руку далеко вперед, а сам опустился на колени.
— Сам ты дерево, — попрекнул он умиленно Константина и тут же снова полностью погрузился в созерцание святого чуда. — Невелика, — бормотал он вполголоса, разговаривая сам с собой и не переставая любоваться драгоценной реликвией. — А с другой стороны, как она может большой быть? Не-ет, шалишь. Вот эти большие как раз и есть обман. Разве они дошли бы до наших дней? Да ни за что на свете! А вот такая малюсенькая, сколок, как раз и уцелела. Даже запах от нее идет древний, стариной отдающий, из Иудеи или… погоди-ка, может, это пот Христа так ее пропитал, а?.. Ну да, ведь потел же он. Непременно потел, жарко там было. Опять же солнце на Голгофе сильное, а он… Да вот же и пятно. Точно пот, хотя вроде темновато оно для пота… Неужто?!
Он наконец-то соизволил повернуться к князю, стоящему чуть сзади коленопреклоненного священника, да и то лишь потому, что ему непременно нужно было поделиться с кем-нибудь своей гениальной догадкой.
— Костя! — не сказал, а выдохнул он, с усилием проглотив комок, подкативший к горлу. — Сынок мой золотой! Это же кровь Христа. Как же я сразу-то ее не признал. Это же… — Он больше не мог говорить и снова замолчал.
— Может, и впрямь кровь, — мрачно ответил князь. — Во всяком случае, сильно похоже, — совершенно искренне заметил он, присматриваясь в свою очередь к щепке.
«Вот только Христос тут совершенно не при дедах, — продолжил он мысленно. — И апостолы со святыми тоже к бабке той навряд ли хоть раз заходили».
Но как сказать это вслух человеку, который чуть не плачет от умиления, хотя погоди-ка.
Константин присмотрелся повнимательнее. Да нет, не чуть. Из глаз отца Николая вовсю текли слезы. Руки его, держащие деревяшку — будь она неладна, — тряслись крупной дрожью.
— На-ка, прими ее у меня, — протянул священник свою реликвию князю и пожаловался: — Еще миг и выпущу из перстов, а перехватить тоже мочи нет. Вот что значит святыня. Обычная-то щепа легче легкого, а эта столь тяжела, будто из свинца отлита. Прими, милый.
«Взять бы её сейчас да с маху об колено, заразу этакую, — подумал Константин, неохотно принимая деревяшку, и засопел раздраженно. — Нельзя теперь. Поздно. Его тогда точно кондрашка хватит».
И он отчетливо понял, что поезд ушел, причем безвозвратно. Минут десять-пятнадцать назад он еще мог рассказать все как на духу, да даже пять минут назад, то есть до того момента, пока не достал из шкафчика эту штуковину, было не поздно. Теперь же оставалось только молчать, благо кроме него ни одна живая душа не ведала, где он взял этот небольшой кусок дуба длиной сантиметров тридцать-тридцать пять и толщиной с человеческий палец, ну, может, чуть больше.
Константин мысленно попытался припомнить, а имелось ли похожее темное пятно хоть на одной из двух других щепок, что он отправил митрополиту. Вроде бы нет.
«Ишь ты, — подумал он. — Будто уже тогда готовился сжульничать всерьез. И что мне теперь со всем этим делать? — спросил он сокрушенно неизвестно кого и сам же ответил: — А ничего. Пусть все как началось, так и идет себе».
Желая успокоить совесть, которая продолжала недовольно ныть, он тут же припомнил в качестве анестезирующего средства те факты, которые ему довелось прочитать в одной очень серьезной документальной книге о культе реликвий.
Еще в XIX веке в Европе в разных монастырях и храмах показывали более 200 гвоздей, которыми был прибит к кресту Христос. А в XX веке верующим еще демонстрировалось 18 бутылок молока богородицы, 12 погребальных саванов Христа, 13 голов Иоанна Крестителя и 58 пальцев его рук, 26 голов святой Юлианы…
Ну ладно, может, источник изрядно привирал. Не без того. Но Жан Кальвин, глубоко верующий швейцарец, сам писал, что «если бы собрать во всех монастырях и храмах многочисленные куски креста, на котором распинали Христа, то из них можно было бы построить корабль».
Тоже преувеличение? Кто спорит. Чего подчас не скажешь ради красного словца. Во всяком случае, ясно одно — на небольшую яхту все равно хватило бы запросто, причем навряд ли хоть одна деревяшка была подлинной. У римских легионеров в небогатой на растительность Иудее, особенно в прохладные весенние ночи, в костер шел каждый кусок дерева, в том числе и те кресты, на которых распинали всякий разбойный люд или беглых рабов.
«Ну, подумаешь, — вяло думал князь. — Добавил я чуток к этой яхте. Тоже мне, беда большая».
А настроение все равно оставалось гнусным, будто взял да и нагадил самому себе. Прямо в душу. По большому.
Больше он уже ничего не пытался объяснять, тем более протестовать. Вместо этого покорно принял на себя роль, которую отвел ему в своем небольшом сценарии отец Николай, и безропотно отработал номер до конца, проделав все, что от него требовалось.
Вот только мрачную маску с лица согнать никак не удавалось. Как прилипла она к нему, так и оставалась на протяжении всего торжественного шествия в город вплоть до вручения этой щепки у ступеней Успенского собора отцу Николаю.
Хотя даже это сыграло ему в конечном счете на пользу.
— Князь-то наш, князь каков. Прямо молодец да и только, — перешептывались взволнованные необычайным событием горожане. — Хоть бы бровью повел, хоть бы моргнул.
— Да нешто он не понимает, что несет, — вторили другие. — Стало быть, всей душой проникся.
Шкатулку для щепки тоже успели подобрать, правда, не серебряную и тем паче не золотую, а деревянную, но красиво изукрашенную.
Впрочем, три златокузнеца[61] уже вовсю трудились над серебряным ларцом, в который эту «частицу креста господня» предполагалось переложить впоследствии. Более того, каждый из них почел за великую честь приобщиться к ее изготовлению, ничего не взяв за работу, а только приняв от князя по весу необходимое количество драгоценного металла.
Когда состоялась передача, «святая реликвия» была занесена в храм. Отец Николай благоговейно установил ее на небольшой квадратной тумбе, стоящей посреди главной залы собора и сверху донизу обтянутой золотным аксамитом[62]. После этого будущий епископ открыл шкатулку, обратившись к прихожанам с настоятельной просьбой о том, что уж если возжаждалось человеку коснуться святыни, то трогать ее надлежит очень легонько, бережно, самыми кончиками пальцев.
Впрочем, предупреждение было излишним. Многие вообще лишь водили над ней ладонями, боясь дотронуться, пусть даже и легонько.
Не обошлось и без чудодейственных исцелений. Один человек прозрел, причем, как Константин потом выяснил, он действительно раньше ничего не видел, ослепнув еще в детстве.
Ноги, правда, ни у кого новые не повырастали, руки тоже, но вот женщина, покрытая страшными даже на вид гнойничковыми мокнущими язвами, через три дня с гордостью демонстрировала соседкам, как они зарубцевались, и коросту на них. Особо мелкие успели даже настолько поджить, что эта короста отвалилась, обнажая розовую пленку новой молодой кожицы.
«Воистину правильно мудрыми сказано, что вещь сама по себе никогда не бывает святой. Такой ее всегда делают сами люди», — подумалось ему.
Совесть князя терзать перестала. Два человека благодаря этой деревяшке уже стали счастливы, а это с лихвой перевешивало учиненный им всеобщий обман. Последний чувствительный укол от своей почти умолкнувшей совести он получил лишь еще один раз, когда к шкатулке подошла та самая бабка, от стен ветхой и древней лачуги которой Константин и отколупнул все три щепки.
По коричневым, продубленным многими ветрами, дождями и непогодой, морщинистым щекам древней старухи безостановочно текли слезы. Она то и дело крестилась трясущейся рукой, тихонько приговаривая беззубым ртом:
— Шподобил-таки господь, шподобил, родимый.
Вот тут уже Константин не выдержал, круто развернулся и пошел к выходу. Но, как ни странно, даже этот преждевременный уход с торжественной церемонии тоже сыграл ему на руку.
— Ишь как князюшка наш проникся, — шептали с умилением друг другу прихожанки. — Да и то взять, я лишь мимо святыни прошла, так и то чуть ноги от счастья не отнялись. Сила-то в ей какая, просто силища.
Даже самые заядлые вольнодумцы-мужики из числа кузнецов, которые, по поверьям, непременно хоть чуть-чуть да знаются с чертом и прочей нечистью, и те степенно рассуждали, сидя вечерней порой на завалинке:
— Ведь вот с виду взять — деревяшка деревяшкой. В любой хате такие отыскать можно. А окажись поближе и сразу чуешь — не простая она, ох, непростая.
— А князь-то наш, князь каков был.
— Да что там. Ему теперь за это на том свете непременно сотню самых тяжких грехов скостят, — донеслась до Константина концовка одного из таких разговоров, когда он в вечерней тишине неспешно возвращался рязанскими улочками в свой терем.
«Или добавят, — не преминул он прокомментировать про себя последнюю фразу, но затем махнул рукой. — Ну и ладно. Мой грех — мне и ответ держать. Если это грех, конечно», — лукаво уточнил он и впервые за весь этот неимоверно тяжелый день легонько улыбнулся.
Князь очнулся от воспоминаний и посмотрел на сотников, завороженных увлекательным сказом рязанского боярина.
— И вот с того самого времени она у нас и хранится, — вдохновенно вещал Коловрат, уже заканчивая. — Но не просто хранится, а еще и помогает всемерно. Орда половецкая ни с того ни с сего взяла да назад в степи подалась — это как? У того же Юрия с Ярославом воев втрое супротив нашего было, а кто победил? Вот то-то и оно, — завершил он многозначительно.
В тот вечер между ростовскими дружинниками и Рязанским князем было еще много чего говорено, и трудно сказать, насколько именно эта история повлияла на окончательное решение Александра Поповича, Лисуни, Добрыни и Нефедия Дикуна, но на следующий день Ростов открыл ворота для рязанского воинства. А куда было деваться боярам, если еще рано утром все четыре сотника объявили им, что отныне все они переходят на службу к Константину, а потому пусть на стены городские кто-то другой встает. В ответ на упреки о предательстве они заявили веско, что ряд с городом не подписывали, а защищать Ростов хотели, потому что боялись, как бы худа ему от рязанцев не было. Ныне же все уверились, что зла от Константина ждать нечего, да к тому же Рязань благодатью господь осенил с небес и знак верный дал, что именно ей надлежит все грады русские вкруг себя объединить.
И еще одно. Почти половина из тех дружинников, которые нанялись на службу, попросили у рязанского князя разрешения навестить его столицу, чтобы самолично узреть драгоценную святыню. Кстати, когда они высказали свое пожелание Константину, тот почему-то поперхнулся, некоторое время как-то странно откашливался, но добро свое на эту поездку дал, всерьез задумавшись о том, что неплохо было бы при случае приобрести еще парочку реликвий.
В голове его уже робко шевелились очередные скромные идейки, связанные с зубом Иоанна Предтечи, пальцем евангелиста Луки, волосами апостола Павла и прочими святынями. Разумеется, их приобретение нужно осуществлять не сейчас, а намного позднее, ну, скажем, через два-три года. Причем приобрести их, скажем так, с оказией, как следует проинструктировав одного из дружинников, из числа тех, кто отправится в очередной рейс за еретиками во Францию. Все равно у них будет остановка в Константинополе. Вот там-то их и можно прикупить, даже… даже если их там не будет.
* * *
Оный князь Константин чистоту соблюдаша не токмо телом, но и самою душою. И бысть свет пред им сияющий, кой за праведность наградиша князя оного и вручишаему дар велик — частицы креста господня.
И бысть от святыни сей чудес без числа на земле Резанской и исцеленья разны люду во множестве.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1760* * *
В преданиях говорится по-разному про первую и, пожалуй, самую драгоценную святыню, ставшую национальным достоянием и гордостью рязанских жителей. Я имею в виду бережно сохраненную до наших дней частицу креста Господнего.
Ученые вообще и историки в частности обязаны быть чрезвычайно объективны в своих суждениях, опираясь только на факты.
Но, думается, читатель согласится со мной, что далеко не случайно именно в те суровые времена и именно в руки князя Константина Рязанского попала эта уникальная святыня. Не случайно в первую очередь то, что ушедший из Студийского монастыря и унесший из храма святой Софии бесценную реликвию монах Феогност — его имя в некоторых летописях указывается по-разному, но мы взяли наиболее распространенное — устремился именно на Русь.
Не случайно он умер именно в стане шурина Константина — половецкого хана Данилы Кобяковича. И уж вовсе закономерно, что рязанский князь, которому для его грандиозных замыслов вечно не хватало наличных средств, не поскупился и выкупил святыни.
По одним летописям он заплатил за них две или три, а по другим — и вовсе четыре ладьи, доверху груженные серебром и драгоценными камнями.
Возможно, что источники преувеличивают. Не спорю. Но вот Владимирско-Пименовская летопись подробно описывает, сколько всего было в тех ладьях. Количество судов, правда, не указывается, но зато приводится, что находилось там 32 кожаных мешка и в каждом лежало по 250 рязанских гривен. То есть получается, что всего князь заплатил за святыни восемь тысяч гривен, или свыше полутора тонн серебра, — колоссальная цифра.
Наконец, не случайно, что Константин не отправил в Киев, а оставил у себя в Рязани именно ту реликвию, на которой обнаружены были впоследствии частицы крови самого Христа.
И еще одно. Обратите внимание на дату, когда эти реликвии появились в Рязани — осень 1218 года. Это время, когда во всем его небольшом княжестве нам более-менее известны семь-восемь городов, включая саму столицу. То есть до обретения святынь Рязань, наряду с Муромом, являлась подлинной украйной русских земель, будучи одним из слабых княжеств в военном отношении и одним из самых небольших по территории.
А теперь вспомните последующие годы, многочисленных врагов княжества и задумайтесь — смогло бы оно уцелеть, если бы не…
На мой взгляд, тут далеко не простое совпадение. Скорее эти частицы стали неким символом Божьей благодати, осенившей и самого князя, и все его потомство.
О. А. Албул. Наиболее полная история российской государственности. СПб., 1830. Т. 2, с. 148–149.Глава 8 Мы поздно встретились…
Когда б он знал, как дорого мне стоит, Как тяжело мне с ним притворной быть! Когда б он знал, как томно сердце ноет, Когда велит мне гордость страсть таить!.. Е. РостопчинаДве кавалькады столкнулись всего в пяти верстах от городских ворот Переяславля-Залесского. Одну из них, небольшую, состоящую всего из пяти всадников, возглавлял небольшой приземистый возок, в котором сидела княгиня Ростислава. Впереди другой, состоящей преимущественно из длиннющей колонны боевой конницы, ехал князь Константин.
Не далее как пять дней назад добрались до города остатки воинства, ушедшего вместе с князем Ярославом под Коломну. Впрочем, остатки — это сказано слишком сильно. Пятеро их было. Всего-навсего пятеро. Воспользовавшись суматохой и неразберихой, возникшей под утро, три человека ухитрились улизнуть от Константиновых дружинников.
Чуть погодя, когда блуждали по мещерским лесам, они встретились еще с двумя беглецами. Пока дошли до истоков Клязьмы, где надеялись упредить своих, а заодно и закончить свой утомительный пеший путь, там уже побывал воевода Вячеслав. Скрытно подобравшись к безмятежно дрыхнувшему десятку пеших воев князя Юрия, которых оставили для охраны ладей, люди рязанского воеводы без особого труда повязали всех ротозеев. Для спецназовцев Вячеслава это был такой пустяк, о котором даже и рассказывать не имеет смысла.
Пришлось всем беглым из разбитого воинства брести и дальше пешим ходом. Благо осенний лес щедро кормил беглецов своими дарами, а благодаря затянувшемуся бабьему лету даже по ночам было пока не так чтобы и холодно. Во всяком случае, тепла от костра для сугрева им вполне хватало.
Правда, из опаски, что повяжут по дороге, если доведется столкнуться с рязанцами, переяславцы ушли чересчур влево, да так, что вышли на Дмитров, но зато сердобольные горожане накормили их и дали снеди в дорогу. Взамен они получили не совсем внятный, но зато весьма красноречивый рассказ о грандиозной сече, которая произошла под стенами рязанской Коломны.
Исходя из этого повествования, выходило так, что беглецы стояли грудью до последнего и покинули поле брани лишь тогда, когда увидели бездыханного Ярослава.
Поначалу тело князя, согласно рассказу, было целым, но по мере того как опрокидывалась одна чара хмельного меда за другой, стало выясняться, что был несчастный разрублен надвое или даже на четыре части, если не вообще на мелкие кусочки. Словом, лишь по мертвой голове, лежащей поодаль, признали они своего князя.
Напустив страсти-мордасти на перепуганных жителей Дмитрова, беглецы двинулись к Переяславлю-Залесскому.
Княгиня Ростислава, услышав о случившемся, не проронила ни слезинки. С побелевшим лицом она сухо и коротко отдала приказание, чтобы всех напоили и накормили, после чего удалилась в женскую половину терема. Лишь придя в маленькую, почти квадратную горенку, расположенную на самом верху, она медленно опустилась на широкую резную лавку и закрыла лицо руками, позволив себе наконец-то расслабиться.
Кого она больше оплакивала — мужа или себя? Трудно сказать. Скорее обоих разом, одновременно. Муж не любил ее — это так. Сейчас она отчетливо осознала это до самого конца и подивилась сама себе — как могла не понимать этого раньше, почему колебалась? Потому что человеку всегда хочется верить в чудо, надеяться на лучшее, хоть и несбыточное?
Ныне он ушел из жизни, оставив ее — слабую, полную нерастраченной любви. Ростислава готова была подарить ее Ярославу, но он в ней не нуждался. Или нуждался, но не в такой.
Ему всегда было проще с наложницами, такими покорными, послушными, податливыми. Они не спрашивали, как княгиня, они только слушали и слушались. Они не имели своих мыслей, своих суждений, стараясь глядеть на мир только глазами своего повелителя. С ними Ярослав мог вести нескончаемый монолог о чем угодно — они кивали и поддакивали. Ему же от женщины было нужно только это, потому что, считая любую бабу ниже себя, он признавал с их стороны лишь подчиненность, причем полную и безоговорочную.
На это она была не способна. Правда, она могла подарить содружество, но оно-то как раз и не было нужно. Никому.
Последний раз он говорил с княгиней о своих делах еще тогда, когда она приехала от отца, поделившись планами нападения на рязанца. Ростислава попробовала высказать свою мысль, которая — как всегда — ему не понравилась. Больше он не пытался.
Женщины всегда были для него низшими существами. Он требовал от них только согласия. Тупого, безропотного, покорного. Такого Ростислава дать не могла. Хотела, но не получалось. Согнуть себя человеку можно, сломать же — нет. Это в силах сделать только другой.
Сломать свою жену Ярославу не удалось, хотя он, сам того не подозревая, очень старался. Гнул — днем, ломал — ночью, в те редкие часы, когда милостиво появлялся в ее ложнице.
Ночь повторяла день изгибами его желаний, его стремлений, только была еще грубее и еще страшнее, потому что откровеннее. Он и там ничего не спрашивал и ни о чем не заботился — только о самом себе. Сделав свое дело, поворачивался на бок и засыпал. Ему было хорошо. Как там та, которая рядом, его не заботило и не интересовало. И так все шесть супружеских лет.
Стыдно сказать, но она, живя на свете уже двадцать пятый годок, подобно девке-вековухе, лишь по рассказам баб из числа дворовой челяди знала, как сладки объятия любимого, какая истома наступает во всем теле после этого, какое блаженство испытывают. Точнее, она слышала об этом, но чтобы знать — надо ощутить самой. Есть вещи, которые познать в полной мере можно, лишь почувствовав. А Ростислава…
Вот и ныне, сидя в своей горенке, она в первую очередь думала с тоской не о нем, а о том, что так ничего теперь у нее и не будет. И не скорбь была в душе — печаль.
Скорбят по любимому, печалятся по себе. Княгиня оплакивала то, что могло бы быть, но так и не случилось, то, что она могла ощутить, но оказалось — не судьба. Она хоронила не то, что теперь у нее кончилось одновременно со смертью Ярослава, а скорее то, что у нее даже не начиналось.
И жаль ей было страницу собственной жизни, которую жизнь перелистнула походя, как ветер срывает пожелтевший листок осенней порой. Буквы в этой странице были грубы, слова — горьки, предложения — невнятны. Но все же это была ее жизнь.
К тому же следующая страница грозила стать еще страшнее. Она — последняя. Ее не перелистает ни один ветер каких бы то ни было, пусть даже самых бурных событий. Ее крепко придавит тяжелый каменный крест в келье, летом душной, а зимой сырой.
Этот лист ее жизни уже изначально был украшен траурной каймой черных монашеских ряс. От него веяло сладковатым запахом ладана, он светился желтизной восковых свечей, чем-то напоминающих лицо покойника, и уже слышались, если приложить ухо к самому листу, тоскливые церковные песнопения, заунывные, будто вои волка в ненастную осеннюю ночь. Когда Ростислава их слушала, то ей всегда казалось, будто отпевают кого-то.
Теперь отпевать будут монахини. И не будто, а на самом деле. И не кого-то безымянного, а ее — дочь Мстислава Мстиславовича Удатного, жену князя Переяславля-Залесского, которая скоро, совсем скоро превратится в монахиню Феодосию.
Вот еще одна ирония судьбы. Она никогда не любила свое крестильное имя. Терпеть не могла, когда ее так называли. Ярослав почувствовал это и в последнее время обращался к ней только так. Она как-то не сдержалась и попробовала назвать его в свою очередь Юрием.
Ростислава вздохнула, вспоминая тот день. Длань Ярослава была тяжела, как и подобает руке настоящего воина, а сдерживать силу удара, даже если он наносил его не в бою и предназначал слабой женщине, князь не собирался.
Княгиня мысленно произнесла про себя несколько раз: «Монахиня Феодосия, инокиня Феодосия». Словно примерялась к грядущему неизбежному, оглядывая на себе платье, которое отвратительно, плохо сидит, грязное и скверно пошито, но другого нет, а надеть что-то надобно, ведь не ходить же человеку голым.
Иной одежи на ней не видел даже ее отец — Мстислав Удатный, строго чтивший старину во всех ее проявлениях и убежденный в том, что вековые обычаи Руси всегда святы. Коли княгиня осталась вдовой и не имеет детей — ее дорога лежит только по направлению в монастырь. В том заключается ее святой долг и обязанность.
Переубедить его в этом? Проще Плещеево озеро вычерпать ложкой. Хотя, как знать, может, она и попыталась бы — от отчаяния, от страха перед беспросветным мраком всей грядущей жизни, которая ждала ее за суровыми монастырскими стенами.
Но она не могла сделать и этой малости. Тут уже князь Ярослав постарался, взяв с нее слово, что не пройдет и недели со дня его кончины, как покинет Переяславль-Залесский. И дорога из города была только одна…
«Стало быть, монахиня Феодосия, — вздохнула она, но тут же спохватилась. — В монашестве иное имя дают. Будешь ты теперь какая-нибудь Евлампия или того хуже. В Византии много чудных имен — приторных, слащавых, скользких и ничего не говорящих ни уму славянскому, ни сердцу девичьему. Ну и пускай. Чего уж теперь. Видно, так господу угодно. Знать бы вот только, за что или уж хотя бы зачем — все легче было бы».
Она вздохнула, очнулась от раздумий, легонько прикусила нижнюю губку, чтобы поскорее прийти в себя, и стала медленно спускаться вниз, в людскую. Это только кажется, что пять дней — много, а начнешь собираться в дорогу, и пролетят они как миг един.
Теперь, спустя эти пять дней, Ростиславе оставалось исполнить последнее, что она для себя наметила, — проститься с городом и с его жителями.
Все горожане знали, сколько бед причинил их князь Рязани. И с ратью дважды выступал, и Гремиславу почти явно потакал, когда тот шайку свою из татей сколачивал. Опять-таки бронь, мечи хорошие, кони — всем он снабдил бывшего слугу князя Константина.
Ярослав схитрил, ушел из жизни, а значит, и от грядущей расплаты. Но оставался его стольный город, которому предстояло испытать на себе то же, что пережили рязанцы несколькими месяцами ранее.
Просто так покоряться неизбежному горожане не собирались. Помирать, так под гусли. Негоже, отчий дом защищая, даже дедовского меча не обнажить. Пусть горожан и немного, но как знать — если удастся продержаться хотя бы седмицу, может, и Константину надоест осада, смягчится сердце, покрытое жесткой коркой мести.
Словом, пока погруженная в свои тяжкие думы княгиня собиралась к отъезду, город тоже спешно готовился, но к обороне.
Очнулась Ростислава перед тем, как настала пора прощаться. Расставание было бурным. Княгиню жители любили. Зная о ее несложившейся доле, ее жалели и оттого любили еще больше. Многие даже плыть с нею хотели, до самого монастыря проводить, но этому она решительно воспротивилась.
В ладью, что уже стояла в готовности у пристани на Плещеевом озере, кроме двух десятков гребцов, княгиня никому садиться не дозволила. И следом за нею плыть тоже воспретила.
Сама же в последний раз поехала в нарядном княжеском возке. Медленно катить велела, не спеша, специально избрав кружной путь, чтоб подлиннее, чтоб с городом проститься и оставить в своей памяти и его, и желтотканую осень, и яркое солнышко на безоблачном небе, и даже холодок от вольного ветра.
Хотелось ничего не забыть, все в памяти надежно укрыть, дабы было что вспомнить долгими унылыми вечерами в тех местах черных, где вместо солнца — свеча восковая, а вместо вольного дыхания ветра — лишь леденящий душу сквозняк.
Тогда-то она, проезжая в последний раз по городу, и увидела все приготовления горожан к обороне. Негоже княгине в столь тяжкий час град покидать, и вновь в ней Ростислава проснулась — гордая, смелая, красивая, мудрая, хотя и несчастливая.
Уже перед воротами городскими вышла она из своего возка, еще раз зорко и внимательно все оглядела, вздохнула, головой сокрушенно покачала и назад обернулась. А сзади нее провожающие — почитай, весь город собрался.
— Приготовились вы знатно. Все, что в силах ваших было, сделали, ничего не упустили, обо всем подумали, — начала она свою речь с похвалы, но закончила словами горькой правды: — Токмо напрасно все это. Лишь князя Константина еще больше озлобите.
— А что же делать, матушка ты наша? Запалит ведь город, злодей. Как пить дать, запалит, — обратился к ней один из тех, кто не ее матушкой должен был называть, а сам княгине в отцы годился.
Она задумалась. Кругом тишина. Все в ожидании застыли. Даже птицы щебетать перестали — тоже любопытно стало.
— Из Владимира вестей доселе не было, а ведь он там уже давно должен был быть, — произнесла задумчиво.
— Так, так, — охотно подтвердили из толпы, а что дальше сказать — не знали, потому как не ведали, к добру это отсутствие вестей или совсем напротив — к худу.
— Ежели бы Константин город князя Юрия пожег, то всех в полон все едино взять бы не сумел. Кто-то бы да утек, — продолжала размышлять вслух княгиня. — Выходит, коли ни единого беглеца в наших краях не появилось — цел Владимир.
— Мыслишь ты княгиня мудро, стойно[63] вою бывалому. Однако и то в разумение возьми, что Владимиром стольным князь Юрий володел. Мы же — Ярославовы. С нашим князем, ты и сама ведаешь, у рязанца счет особый. Непременно он нам сожженную Рязань попомнит, — не согласился с нею один из тех, кто по старости лет уже не мог идти с Ярославом под Коломну, но ныне, собрав остатки сил, приготовился принять бой на городских стенах. Бой, который должен был стать его последним, если он вообще сумеет на эти стены взобраться, а не рассыплется от ветхости на полпути.
Ростислава обвела взглядом толпу, ждущую ее решения. Да и не решения даже — чуда. Она глубоко вздохнула и негромко произнесла:
— С ним самим говорить надобно.
— Послушает ли? — вновь усомнился все тот же старый вояка.
— Меня послушает. Я — княгиня. Мне и ответ за всех вас держать.
И столько воли было в этих негромких словах, что никто ни на единую секунду не усомнился — да, ее он выслушает, а главное — прислушается.
Первым перед своей заступницей опустился на колени седобородый воин. Следом за ним и вся толпа спины преклонила, мало самой земли не касаясь. И все молча. Потому что нет таких слов, которыми за такое отблагодарить можно.
Наверное, так умные люди перед Христом ниц падали, когда он в свой последний путь шел. Из тех, кто знал, что не крест увесистый пригнул его к земле. На него бы сил у спасителя хватило. А вот грехи людские потяжелей будут. Но он шел — один за всех, спасая каждого.
Она же — русская княгиня. Она пока еще Ростислава, а не Феодосия, и уж подавно не какая-нибудь монахиня Елевферия.
Да и планы у нее совсем чуток менялись. По слухам, Константин с дружиной как раз со стороны Ростова шел. Ей же хоть и не совсем в ту сторону надобно было ехать — к ближайшему женскому монастырю дорога малость иначе вела, вверх, вдоль Плещеева озера, ну да крюк невелик. К тому же рязанец вроде бы близехонько совсем — и трех верст не проедет, как на него натолкнется.
Проехала Ростислава немногим более пяти. Поначалу она сторожевые разъезды встретила. Те, узнав, куда и к кому следует переяславская княгиня, особой вражды не выказали и даже проводить вызвались.
Впрочем, и в самом окружении рязанца на нее косых взглядов никто не кидал и стольный град, мужем Ярославом разоренный, тоже не поминал. Да и некому было. Из числа коренных жителей Рязани сейчас с Константином не больше сотни ехало. Он их в первую очередь по другим городам распихал, опасаясь, что при виде гнезда ворона черного — князя Ярослава не сдержится кто-то, взыграет ретивое, и тогда уж непременно быть худу.
И сам Константин первым с коня спрыгнул проворно, не кичась ничуть. И к княгине не подошел — почти подбежал, помогая из возка выйти. Слуги шустрые тут же шатер установили. Правда, походное жилище без изысков было, без особой красоты — лишь толстая воилочная кошма на пол второпях брошена, да две легкие табуретки поставлены у небольшого стола. В дороге для воина достаточно, и ладно.
Поначалу за нею следом и двое переяславских дружинников в шатер вошли, всем своим суровым видом выказывая, что, мол, не одинока княгиня наша, есть кому заступиться. Не для защиты, конечно, — для почету больше.
Но Ростислава их тут же удалила жестом властным. Воспротивиться же они не посмели, чтоб рязанец не усомнился в том, будто полновластная она хозяйка над всеми.
Константин же своих людей и вовсе в шатер не пригласил. Как бы ни сложилась беседа — в свидетелях разговора с Ростиславой он не нуждался.
И так получилось, что при них одна лишь верная Вейка осталась.
— Ну, здравствуй, сын купецкий, — промолвила Ростислава тихонько, едва на табуретку уселась.
Была у нее, чего греха таить, небольшая опаска, что князь ныне с ней и разговаривать не пожелает. Ну кто же и когда с бабой переговоры вел? Испокон веков на Руси о таком и слыхом не слыхивали.
Разве что княгиня Ольга, ну так о том что говорить. И опять же та повелевала, потому как за ней сила была. Хрупкость правлению не помеха, лишь когда тебя дюжими плечами могучие дружинники поддерживают. За Ростиславой же сегодня лишь град, наполовину обреченный, да жители его немощные, вроде того старика седобородого. И все они уже к смерти изготовились, но чуда по-прежнему ждут… От нее, от княгини.
Потому и начала она так речь свою, хотелось ей о той встрече случайной напомнить, а еще посмотреть, как он на такое откликнется. Да полно, уцелела ли вообще та встреча в его памяти? Так, мимоходом ведь все прошло, ветерком дунуло и пролетело.
— И ты здрава будь, боярыня, — услышала она в ответ и сразу поняла — нет, не мимоходом.
Скорее уж стрелой каленой. А вот куда ее острие угодило, о том додумывать не стала. Испугалась попросту. Не его — самой себя.
А уж когда на его губах улыбка расцвела, глупая такая, мальчишеская совсем, то тут ей и вовсе худо стало. Впору хоть волчицей завыть, от тоски лютой, от безысходности всей этой жизни — и той, что в песок прошлого утекла безвозвратно, и грядущей, которая еще страшнее будет.
Что ж ты, батюшка любый, с дочкой своей так шибко не угадал?! Что бы тебе взор не на переяславском князе остановить, а на владетеле далекой Рязани?! Совсем иная судьбинушка у твоей Ростиславушки получилась. И цвела бы она ныне, как яблонька молодая, да любовью своей, как лепестками, своего суженого всего бы усыпала. Чтоб где ни сел — не земля сырая, а ложе мягкое да духовитое было готово. А деток бы каких ему нарожала — все как яблочки наливные были бы у нее, ни единой червоточинки.
Тут уж не о Переяславле переговоры вести впору, не о жителях его — о себе самой.
К тому же по одной только этой улыбке поняла Ростислава, что и говорить-то им ни о чем не надо. Ни к чему оно, лишнее. И понапрасну так страшились рязанца в городе. Не из таковских этот князь, чтобы злость свою, на одного человека устремленную, пусть и справедливую, святую, на тысячах неповинных людей вымещать.
Однако на всякий случай обговорить кое-что надобно. К тому ж, если об этом речь не вести, тогда о чем? О себе самой? Завыть в голос, по-простому, по-бабьи, да, забыв обо всем, пасть на это крепкое, надежное плечо и будь что будет — так, что ли?
Ан нет, милая. Что молодке из смердов дозволено, то тебе не по чину будет. Изволь честь княжескую блюсти. Хоть на клочки себе сердце изорви — но молчи, проклятая, и виду подать не думай.
Ростислава вздохнула глубоко, руки сцепила крепко, чтоб дрожь не увидел ненароком, — подумает еще, что боится, — выпрямилась гордо и сухо заговорила:
— Ныне ты победитель. Тебе решать, что с градом моим делать. Знаю, что ни сотворишь — на все не токмо воля твоя, но и правота будет. Но ежели ты как оместник на переяславскую землю пришел — дозволь в ноги поклониться, дабы остуду с сердца своего снял и людишек, ни в чем пред тобой не повинных, за чужой грех не карал.
Говорила, а сама собой гордилась. Так, самую малость. Да и было чем. Голос сух, деловит, но не подобострастен. И в душе огонь пламенеющий унять удалось. Уголья, конечно, все едино остались, но с ними, видать, совладать удастся, только если с самой жизнью покончить… С самой жизнью… Постой-ка… Но мысль свою додумать не успела — Константин помешал.
Он-то решил, что княгиня, как назло, о муже вспомнила, да и претило ей, как Константин чувствовал, у чужого человека милости просить. А уж когда она, встав, вознамерилась ему низкий поклон отдать, тут он и вовсе растерялся. Хорошо хоть, что вовремя опомнился, удержал и заново на табурет усадил.
Ох, не так он себе эту встречу представлял, совсем не так. А спроси его, как именно, и тоже не ответил бы. Да и что ответишь, когда между ними, как стена, Ярослав застыл. Хорошо хоть, что не памятником надгробным, тогда ему в ее глазах и вовсе прощения не было бы. Но и кровь его да раны тяжкие — тоже препятствие не из легких. Ни на коне эту стену объехать, ни птицей перелететь, ни рыбой переплыть.
Одно и сказал только. От души сказал, как думал:
— Не унижай себя ни перед кем — ты же гордая. А предо мною тем паче. Лишь больно сделаешь. И себе и… мне. Что до града твоего — поверь, что худа ему от меня и так не будет. А ежели моя вина в чем пред тобой — прости великодушно. Известное дело, мы народ купецкий, грубый, — это он так неуклюже сострить попытался.
Хотелось ему напомнить о том зимнем свидании, ох как хотелось бы, но не было теперь искорок в глазах Ростиславы. Без них же — чувствовал — и начинать не стоит. Лишь на миг краткий показалось, будто очи девичьи влагой наполнились, вот-вот слеза выкатится. Пригляделся — вроде и впрямь померещилось. Но все равно.
«Нет, не простит она мне Ярослава», — подумалось с тоской.
А у княгини сил только на то и хватило, чтоб воду соленую с глаз долой убрать. Ей сейчас все больно было слушать. И чем ласковее голос, тем больнее. Такое бывает — чем лучше, тем все хуже. А уж когда Константин про купецкого сына заикнулся, тут ей и вовсе невмоготу стало, даже в голове помутилось. Не тоска — дракон семиглавый в сердце страшными клыками впился.
— Прости, княже, что-то душновато мне в шатре твоем, — вновь поднялась она с места, тяжело опершись руками о стол. — Дозволь, я воев своих отправлю с радостной вестью к Переяславлю да накажу, чтоб назавтра тебя как должно встретили — хлебом-солью, дабы ты с почетом во град въехал.
— Может, в пути растрясло, — робко предположил Константин. — Так я повелю, мигом постель в шатер принесут, — и, чтоб, упаси бог, не подумала чего, тут же торопливо добавил: — Вейку оставим, чтоб сон блюла, а я сторожу выставлю — комар не залетит, — и заверил: — Сам на часах встану, так что будь в надежде.
Ох, не надо было бы ему это говорить. Последняя то капля была, которая чашу окончательно переполнила. Даже сердце болеть перестало — умерло уже. Да и сама-то она жива ли еще? А если жива, то зачем?
— Благодарствую тебе, гость торговый, — сил только-только хватило, чтоб на шутку достойно ответить. — Ни к чему забота твоя. Мне на воздухе вмиг полегчает.
Так, за обе руки поддерживаемая — по одну сторону Вейка, по другую сам князь — она и вышла из шатра.
Поначалу дружинники было насупились, решили, что изобидел рязанец их дорогую княгиню, но потом на нее, на лицо его встревоженное глянув, сразу поняли — промашка вышла. Не в обиде тут дело — в ином чем-то. А вот в чем — домысливать не стали, не до того.
Тут уж о другом забота нагрянула. Известно, кто быстрее всех радостную весть до города довезет, тому больше всего почета да славы достанется. Тем более что и вестей-то сразу две. Первая, конечно, главнее. К тому же она всех горожан касается. Не с мечом — с миром князь Константин идет к Переяславлю.
Вторая тоже приятная. Жив князь Ярослав, хоть и раны тяжкие получил. Ныне он во Владимире стольном оставлен на попечение лучших лекарей. Об этом они только что от самих же рязанцев узнали.
А одного из дружинников бывалых тут же и осенило — потому княгиня и стоит пред ними такая побелевшая, что о князе своем услышала. Иная радость ведь — кого хочешь спроси — не только с лица краску сгонит, а и вовсе человека с ног снесет. Тут все дело в силе ее да в неожиданности.
Потому он и одернул самого молодого, который было к Ростиславе дернулся, чтоб о муже сообщить.
— Не видишь, что-ли, какая она. Князь-то Константин, поди, сам давно ей все сказал. А ты молчи, не усугубляй.
Княгине на свежем воздухе и впрямь лучше стало. А может, еще и по привычке простой — на людях виду не подавать, как бы плохо ни было. На тебя беда навалилась всем телом грузным, давит тебя что есть мочи, а ты знай себе терпи да молчи. Хрипеть же не удумай, чтоб не услыхал кто, не подумал чего.
Впрочем, ей особо и говорить ничего не пришлось. Так, пару общих фраз о том, что Константин милует град ворога своего, палить его не собирается и даже откуп лишь самый малый возьмет.
Когда о гривнах заговорила, краем глаза по лицу князя скользнула неприметно — не много ли она на себя взяла. Ведь о них и разговору не было.
Это уж она так сама домыслила, что совсем без откупа и ему переяславцев отпускать негоже — надо чем-то с дружиной своей расплатиться, да и горожанам зазорно. Получается, что они по милости княжьей целы остались, а это больно уж с милостыней сходно, иной раз даже чересчур. На Руси же народ гордый живет, к такому не приучен. А вот про малый откуп опаска была, что встрянет сейчас князь, поправит грубо и бесцеремонно. Хотя общей суммы она предусмотрительно не назвала.
Но нет, обошлось. Напротив даже, к уху ее склонился, словом ласковым, будто губами нежными коснулся:
— Умница ты, княгиня. И о том, что не сказано, без слов домыслила, — шепнул тихонько.
А ей от его голоса столь радостно, что опять силы пропали — ноги вовсе не держат.
А еще больно стало. И не только потому, что она со счастьем своим несбывшимся столкнулась. Такое выдержать можно. Скорее уж потому, что даже увидеть его еще раз, пусть мельком, издали полюбоваться, все равно не получится. Ничегошеньки ее впереди уже не ждет теперь. Ничего и никогда. Страшно уж больно осознать такое. Поневоле задумаешься: а зачем ей тогда вообще такая жизнь? Была б она по духу Феодосией, согласилась бы и в рясе остатний свой век доканчивать — все равно долгим он не получится. Но она-то Ростислава. Не личит ей такое.
Да и, рассуждая здраво, батюшку Мстислава Мстиславича никто эдаким поступком старшей дочери не попрекнет. Наоборот, с уважением скажут, мол, прямо по седой старине твоя Ростиславушка содеяла. Едва муж из жизни ушел, как и она за ним тотчас на тот свет подалась. А что не через костер пошла, так и тому оправдание мигом сыщут — не захотела на язычницу быть похожей.
И получалось у нее, что со всех сторон она пригожая — и старину соблюла, и языческий обычай отвергла. То есть если ей сейчас умереть — ничего страшного не случится. Наоборот даже. Ведь вон в какой схватке лютой две силы в ее душе сцепились намертво: долг княжий да любовь святая. Не расцепить нынче врагов этих кровных, не разнять никакими средствами. И сегодня этого не сделать, и завтра, и через неделю не выйдет, да хоть через пять лет — все равно не получится. Только смерть ее примирить их сможет, да и то — не всякая. Та, что Ростиславой задумана — сумеет. Потому и виделся ей теперь только один выход.
Говорят, грех смертный — руки на себя накладывать. Не-ет, ее не обманешь. Господь — не тот, что в церкви, а настоящий, тот, что на небесах сидит, — тоже не осудит. Добрый он и любит всех. Уж за него Ростислава и вовсе спокойна. Ну, разве что пожурит ее малость, как родитель строгий, не без того, но понять должен, а где понять — там следом и простить тут же. Может, даже, еще и пожалеет, по головке погладит, скажет чего-нибудь простодушно-ласковое: «Дуреха ты, дуреха. Что ж ты, девочка моя глупенькая, эдак-то?»
А там, глядишь, и свидеться дозволит. Хоть разок. Пускай не сразу, а лишь через двадцать-тридцать, а то и все пятьдесят лет, но свидеться, еще разок поговорить, друг на дружку посмотреть.
Эх! Что уж там сердце травить! Все! Она — княжья дочь! Как решила — так и будет.
И на душе как-то от принятого решения сразу легче стало. Ростислава чуть посильнее на крепкую Константинову руку с наслаждением оперлась — совсем хорошо. Век бы так стояла и с места не сходила! Но все равно на последние слова еле-еле силенок хватило:
— Нам с князем еще кое-что обговорить надобно. Он мне провожатых даст. А вы все скачите немедля — в граде уж, поди, вестей добрых заждались.
Такое дважды повторять не надо. Вмиг все переяславцы на конях оказались. Только что здесь были, ан, глядь — даже след простыл. Лишь глухой стук копыт еще пару мгновений слышался где-то вдали, но потом и он умолк.
А Ростислава к князю повернулась. «Все, — выдохнула мысленно. — Отрезана тебе, милая, дорожка обратно, после того как ты своих переяславцев отпустила. Вперед, правда, по-прежнему прохода нет, но ты ж на это и не рассчитывала. У тебя теперь путь известен — вниз, во тьму. Зато короткий — и на том Недоле спасибо — смилостивилась. Или это сестрица ее милая[64] постаралась, выделила кусочек малый? Да и какая теперь разница».
А на душе легко-легко стало, даже весело. Потому и блеснула князю задорной синевой глаз.
— Чем угощать будешь, сын купецкий? Али поскупишься? Али гостья не дорога?
— Куда ж дороже, — с опаской ответил Константин.
Уж больно настроение у нее переменилось. Оно, конечно, хорошо, но как-то непонятно. И сразу у него какой-то холодок по коже прошел. Вроде радоваться надо, а ему вдруг отчего-то тревожно стало.
В шатре уже, сидя за столом накрытым, она вдруг попросила робко:
— Ты не говори много, ладно, — и созналась простодушно: — Мне сейчас отвечать тяжко, силов вовсе нет.
О том, что захотелось ей наглядеться на Константина вволю в последний раз перед задуманным, промолчала стыдливо. Ни к чему ему знать, что ей в голову взбрело. Но чтобы уж совсем молча не сидеть, пару вопросов задала. Так, без задней мысли, только из приличия:
— Как семья твоя, княже? Как сын поживает?
И подивилась, приметив, как вздрогнул Константин.
Хотел уж он было сказать о том, что княгиня Фекла сгорела вместе с Рязанью стольной, но осекся вовремя. Вдруг подумает, что он ее за мужа попрекнуть хочет намеком таким, да и о Ярославе напоминать не хотелось. Отделался, сдержанно ответив на последний вопрос:
— Сын княжью науку постигает славно. Ныне я его во Владимире оставил. Пусть к самостоятельности приучается.
Ростиславе же о судьбе Феклы и впрямь невдомек было. Ярослав о том с ней не заговаривал ни разу. Буркнул лишь как-то, что запалили Рязань тати шатучие, но князь уцелел, а как да что — княгиня к мужу не приставала. Уж больно не те у них отношения были. Спросила лишь с укоризной:
— Теперь-то доволен?
И тут же на бешеный крик нарвалась. Оставалось лишь губы поджать да выйти гордо, всем своим видом показывая — чай, не девка дворовая перед тобой — княгиня.
— А в Переяславле кого мыслишь наместником посадить? — полюбопытствовала вскользь.
— Есть у меня боярин один. И воин из первейших, и поговорить красно умеет. Евпатием кличут, а прозвищем Коловрат.
— Это хорошо, — одобрила Ростислава. — Переяславцы — народ такой. Их лучше лаской повязать. Тогда и они за тебя куда хошь… — и осеклась испуганно.
Это у нее вновь привычка сработала.
— Ты сызнова меня учить вздумала! — взвился бы муженек дорогой. — Что бы понимала умишком своим бабьим в делах княжьих, а туда же лезет.
Только перед ней не Ярослав — Константин сидел. Едва голос его услышала, сразу разницу поняла.
— Мудро ты, княгиня, рассуждаешь. Сдается мне, не у каждого князя столько ума имеется, сколько в твоей головке красивой.
Ох, ну лучше бы крикнул. И без того тошно, а от похвалы такой — еще горше. Ведь сказал так, как ей до сей поры лишь в мечтаньях сладких и виделось. А голос все продолжал звучать, мечту в явь воплощая:
— А подскажи-ка, сделай милость, на кого ему из твоих людишек опереться? Чтоб не корыстный был, не злой и в суждениях спокойный — сгоряча дров не наломал?
— Да где же мне с умишком бабским в княжеские дела соваться, — попробовала было она увернуться, как с отцом своим Мстиславом Удатным, но не тут-то было.
— Женский ум иной раз позорчее мужского бывает, — возразил спокойно. — Да и разный он. У нас так глядит на мир, у вас — иначе, а чтоб полнота была — их непременно соединить нужно.
И вновь как ножом по сердцу его слова полоснули.
«Где же ты раньше был, витязь мой желанный?! Нет, нет, нельзя тебе больше оставаться! — это она уже самой себе строго. — Еще час какой-нибудь, и у тебя вовсе сил на задумку не останется. Уходи немедля, Ростислава, или быть тебе до скончания жизни Перпетуей какой-нибудь. Беги отсель, куда задумала!»
Встала резко, а в голове мысль шалая: «Поцеловать бы на прощанье. Теперь уж все одно — помирать, так под веселые гусли».
Но делать этого не стала, прочь отогнала мысль коварную. Вдруг он целуется так же, как говорит: мягко, ласково, сладко, нежно. Тогда-то уж у нее точно больше ни на что силенок не останется.
Вместо этого иначе решила поступить. Кубок не свой — его взяла, почти доверху медом хмельным наполненный. Решила: «Пусть думает — невзначай перепутала». Сама же тихохонько посудину серебряную к себе тем краем повернула, где он его губами касался.
«Хоть так, а поцелую», — подумала решительно.
— Пора пришла, княже, прощаться нам с тобой. Напоследок же одно скажу, от всего сердца — сколь жить буду, столь и тебя помнить.
А Константин все в глаза ей смотрел, пока она говорила, и никак понять не мог, что же такое творится. Вроде искренне говорит, от души, и волнуется изрядно: голос дрожит и даже вон кубки с медом перепутала, хотя перед ним явно побольше стоял, вот только отчего же в глазах-то ничего не видно? Пустые они какие-то. Или даже нет — иные. Словом, как их ни назови — все не то будет. И где-то когда-то он уже такие глаза видел, вот только припомнить бы — у кого именно. Почему-то казалось, что стоит вспомнить, и сразу хорошо все станет.
Но, как назло, на ум ничего не приходило.
Он в свою очередь оставшуюся чару поднял и тоже аккуратно к себе ее той стороной повернул, которой ее губы касались. Эх, сейчас бы ее саму поцеловать, да нельзя. Ну хоть так, через мед душистый. Покосился осторожненько, не приметила ли, как он ее кубок в руках вертел. Кажется, нет.
А она только усмехнулась горько. Даже в такой малости у них мысли сошлись.
«Эх, судьба ты, судьбинушка! Что ж ты так погано над людьми скалишься?! Мало того что всю жизнь мне перекосила ни за что ни про что, да еще перед смертью все раны сердечные солью обильно посыпала! Что ж я тебе такого сотворила, что ты так надо мной изгаляешься?!»
Вслух же спокойно молвила:
— Ныне пора мне пришла, княже. Благодарствую за хлеб-соль. Мыслю я, переяславцы мои тебя завтра не хуже угостят.
— Я провожатых дам, стемнеет скоро.
— Передумала я, — отказалась напрочь. — Тут и ехать-то всего верст пять — рукой подать. А ежели твои люди будут со мной — кто-нито подумает, будто под стражу меня взяли.
— Но своих-то ты тоже отпустила, — возразил Константин.
— У меня Вейка есть.
— Так ведь она… — оглянулся на нее и осекся, чтоб не обидеть, помянув лишний раз про хромоту.
И снова княгиня на помощь пришла:
— Лошадьми править — не ноги, руки нужны. А они у нее в порядке.
— А все-таки я людей дам. Мало ли, — заупрямился Константин.
— Ну, пусть полпути проводят. А дальше — не взыщи. Я и сама доберусь, — согласилась Ростислава.
Полпути не страшно. Там как раз дорога резкий поворот делает. Вот перед ним она и отправит назад охрану. Самой же иная дорога: через луг заливной и прямиком к Плещееву озеру. В городе будут думать, что она в монастырь сразу подалась, а Константин — что в город отъехала. Завтра поймет, спросит, искать станет, но ей уже к тому времени все равно будет. Плохо только, если найдет не сразу. Она ведь, поди, некрасивая будет. Отвернется еще, чего доброго. Хотя какая ей разница.
Все она как задумала, так и осуществила. Вот только Вейка подивилась немного, зачем с дороги понадобилось сворачивать и куда ее княгиню на ночь глядя понесло, но Ростислава так зло на нее прикрикнула, что той и переспрашивать расхотелось.
Поняла Вейка все, лишь когда лошади уж чуть ли не к самому озеру донесли. Поняла и в кои веки не послушалась, стала возок вспять поворачивать. Но княгиня ее живо как пушинку оттолкнула, вожжи перехватив — и откуда сил столько взялось, — да сызнова коней послушных к озеру направила.
Как на беду, Вейка, отлетев назад, виском обо что-то твердое приложилась. Когда же в сознание пришла, то увидела, как Ростислава уже всю одежду с себя поскидала, в одной нижней рубахе оставшись, и неспешно в воду заходить стала. Еще чуток совсем, и поздно будет — не остановить.
— Тогда и я с тобой, — крикнула отчаянно.
— Не смей! — крикнула княгиня, как плетью ожгла — наотмашь, до крови.
А Вейка уже и в воду забежала. Ростислава, подумав малость — не пошла бы подмогу звать, — назад немного вернулась, ласково произнесла:
— То я грех смертный творю. А тебе иное велю — до сорока дней за упокой души грешной в соборе Дмитриевском за меня молитву возносить. Авось смилостивятся там, на небесах, чуток убавят от мук адских. А это вот перстенек, — в руку ей сунула неловко. — То батюшки Мстислава подарок, князю Константину его передашь. Может, и сгодится ему, как знать. И еще скажи, что… — но осеклась на полуслове, рукой лишь обреченно махнув. — Ничего не говори, не надо. Что уж теперь.
— А я всё равно с тобой, — жалобно пискнула Вейка.
— То мое дело, — строго сказала Ростислава. — Сама посуди, глупая. Мне ныне только два пути осталось — в монастырь инокиней или сюда.
— А может, в монастырь лучше, — попыталась было возразить служанка. — Богу бы молилась.
— Может, и лучше для кого-то, но не для меня. А ты молись, — напомнила княгиня. — Свечи ставь. Бог-то он добрый, глядишь, и простит.
А кого он простит, так и не сказала. Если рабу свою, то это плохо получалось. Не по ее это характеру. Да и не нужны на том свете рабы. Богу они уж точно ни к чему. За переяславскую княгиню Феодосию сказать, тоже как-то плохо выходило. Ответ сам собой пришел:
— За Ростиславу, княжескую дочь, молись, — и, видя, что глупая девка еще колеблется, хоть и переминается с ноги на ногу, а назад из воды не выходит, снова ее, как плетью, стеганула с размаху: — Пошла прочь, дура хромоногая.
Так больно Вейке за всю жизнь не было. За что ж она ее, холопку верную, обидела безжалостно? Даже слезы на лице от таких слов высохли.
И уже не пошла она за Ростиславой дальше, оставшись на месте стоять, и только наблюдала безучастно, как княгиня все глубже и глубже в воду погружается. Холодно ей, видно, что ежится, но идет, не останавливаясь. Вот уже голова одна видна, а вот и ее не стало.
И только тут поняла Вейка, что не обидеть ее Ростислава хотела, а отрезвить. Бывает, что опьянение смертью от одного к другому передается.
Древние старики правы были, говоря, что на миру и смерть красна. Умный поймет, а мудрец следом домыслит, что еще и заразна она, как немочь черная.
Если бы не это оскорбление, то Вейка в первый раз свою княгинюшку ненаглядную ослушалась бы, а теперь уже не то, да и ногам холодно в воде студеной.
Взвыла она в голос и к лошадям пошла. А им что, скотине глупой, знай себе травку пощипывают на лужке прибрежном. Не понукают, и ладно.
Глава 9 Эх, Ростислава, или Песенка водяного
В поле дуб великий, — Разом рухнул главою! Так, без женского крика И без бабьего вою — Разлучаюсь с тобою: Разлучаюсь с собою, Разлучаюсь с судьбою. М. ЦветаеваКонстантин даже дожидаться не стал, когда шустрые слуги остатки снеди вынесут и сам шатер свернут. Уж больно не терпелось ему город увидеть, в котором княгиня живет. А еще ему хотелось с Любимом без свидетелей поговорить. Да, подло это, по мыслям Ростиславы втихую шариться, но Константин и не собирался ничего у парня выспрашивать.
К тому же тот, скорее всего, и не слышал ничегошеньки. Ну, а если слышал да вдруг сам скажет, то это уже совсем другое дело будет. Князь ему, конечно, тут же замолчать велит, но, пока остановит, кое-что само и услышится. Короче, сам себя обманывал.
А тот и рад стараться — почти тут же разговор завел. Когда княгиня перед отъездом из шатра выходила, он, на всякий случай, поближе подошел. Думка у него, конечно, о другом была — мало ли какую встречу князю в Переяславле приготовили. Стелют-то мягко, да вот спать бы жестковато не пришлось. Случись-то что, с кого спрос? С него, с Любима. И не перед князем ответ держать придется, а еще хуже — перед своей совестью. Да она, окаянная, поедом его сожрет.
Вот только услышать ему ничего не довелось. Из такого смешения слов и беспорядочных мыслей разве что мудрец какой слепить что-то смог бы. А он, Любим, кто? Простой смерд из селища Березовка. Так уж получилось, что березка-берегиня ему подарок сделала — одарила способностью слышать мысль чужую, вслух не высказанную. Но мысль, а не слов невнятных нагроможденье.
О том он и князю простодушно поведал. Дескать, у княгини переяславской в голове как копна сена намешана. Там тебе и клевер сладкий, и дурман-трава, и полынь горькая, и белена ядовитая.
— Молчи, — сердито оборвал его Константин, но в голове предательски шевелилось: «Говори, говори».
Любим слышал, но обиженно молчал, и Константин не выдержал:
— Белена-то ядовитая проступала, когда она обо мне, поди, думала? — и даже дыхание затаил в ожидании ответа.
— О ком — не ведаю, но точно не о тебе, — немного подумав, осторожно вымолвил Любим, еще немного подумал, после чего добавил более уверенно: — Ее думки о тебе, княже, я повторять не стану. Уж больно сокровенные они. Только скажу, что сладость в них была одна, хоть и с горчинкой. А белена ядовитая об озере Плещеевом, да и о себе самой тоже полынью горькой отдавало.
И снова у Константина холодок по коже прошелся. Будто тоненькой струйкой морозца обдало. Но нездешний тот морозец был, стылый какой-то и с душком неприятным. Обдал и ушел куда-то. Только будто колокольчик где-то звонко пропел. Тоненько так и невесело, явно о чем-то предупреждая.
В это время те самые всадники вдали показались, которые Ростиславу провожали. Возвращались они обратно весело, на ходу о чем-то приятном переговариваясь.
— Проводили?.. — спросил князь, когда поравнялись они с ним.
— А чего ж не проводить, — ответил старшой. — Только чудно она как-то поехала — не по дороге, коя ко граду ведет, а прямо через луг заливной.
— Может, лошади понесли? — встревожился Константин.
— Нешто я бы не приметил, — почти обиженно ответил старшой. — Возок ничего себе катил, шибко, однако не опрометью.
— А в той стороне у нас что? — уточнил Костя на всякий случай, хотя сердце уже правильный ответ дало.
И вновь морозец по лопаткам пробежался. На этот раз был он намного злей, чем тот, первый.
— Да, окромя озера, почитай, и нет ничего. Берег-то низкий, каждую весну, поди, подтапливается. Луга для выпаса знатные, а жилья там никакого быть не может.
И опять где-то вдали колокольчик звякнул — дин-дон. Жалобно так, будто отпевали кого. Отпевали… И тут он вспомнил, у кого еще такие глаза видел, как у Ростиславы в минуту прощания, и даже коня придержал.
Под Коломной это случилось, прошлой зимой, сразу после первой битвы с Ярославом. Еще не стемнело.
Константин после уговора с Творимиром о сдаче в плен обоза, пока шли приготовления к пиру, решил самолично поле битвы осмотреть.
Там-то он и встретил совсем молодого паренька, который на снегу лежал. Даже усов мальчишка отрастить не успел за недолгую жизнь — один только пух на верхней губе и виднелся. Рана у него была страшная, во весь живот. Кто-то его, как свинью, от бока До бока вспорол острием меча. Но он не морщился от страданий, не стонал — то ли болевой шок сказывался, то ли сил кричать не было. Так, лежал себе тихонечко и в небо смотрел, не шевелясь.
Константин подумал поначалу, что он уже мертвый. В тот день погодка порадовала, было ясно, безоблачно, наверх посмотришь — синь неохватная. Вот и у него такая же синь в глазах застыла. То ли небо в них отражалось, то ли сами по себе они у него такими были.
Хотел Константин мимо проехать, но пригляделся и тут же с коня соскочил. Дышал еще, оказывается, мальчишка. Медленно, с натугой большой, как говорится, через раз, но дышал.
Князь людей позвал, чтоб подсобили, но первый же, кто на зов князя подошел — опытный уже ратник, в боях закаленный, едва посмотрел на мальца, как тут же шапку с головы скинул, перекрестился истово и заметил:
— Ему подсобляй — не подсобляй, ан все едино, — и посоветовал: — Ты в глаза ему, княже, загляни.
— Синие они, — не понял Константин.
— Так то цвет, а я о другом, — пояснил ратник. — Смерть в них застыла. Она теперь своей добычи нипочем не упустит.
— Но он же дышит, — возразил князь.
— Скоро перестанет, — философски заметил старый воин. — Когда глаза такой мертвой пленкой подернулись — верная примета, что не жилец.
Вот точно такие же глаза и у Ростиславы в минуту прощальную были. Вроде и синие, и добрые, а знакомая пленочка в них уже застыла, и холодком из них немного веяло. Недобрым таким. Могильным.
… До Плещеева озера мчать — нет ничего, но уж больно зло князь жеребца плетью охаживал, вот все остальные и отстали маленько. Хорошо, что еще сумерки не наступили — Константин и сам следы от колес хорошо видел. А у озера и совсем легко стало. Вон они, лошадки ее с возком, а вон и Вейка на земле распласталась неподвижно. Что случилось с девкой?
Подбежал быстро, повернул ее и глазам не поверил. Всего час назад, да какое там, полчаса не прошло, совершенно иная была девка — милая да пригожая. Теперь же вся растрепанная, а лицо так от рыданий опухнуть успело — мать родная не признала бы. Но вглядываться некогда. Его другое интересовало — куда Ростислава делась?
Вейка без слов, молча на озеро указала.
— Только что, — выдохнула почти беззвучно. — Вон, даже круги на воде еще не разошлись, — а во взгляде у нее шалая, почти безумная надежда читалась — неужто и впрямь успеют спасти?! Неужто не все еще потеряно?!
Тут и остальные подскочили вместе с Любимом. Что к чему, мужики сообразили мигом, разоблачились до портов, но в озеро шагнули, три шага сделали и остановились в нерешительности.
— Студена водица-то, — протянул один.
— Десять, нет, двадцать, сто гривен тому, кто достанет ее! — выпалил Константин.
Дружинники переглянулись. Сто гривен — это тебе не кот начихал. За них надо лет десять княжьей службе отдать, да еще в походы сходить при этом, долю не раз и не два в добыче получить, тогда только и наберется. Сто гривен — это конский табун в такое же количество голов. Сто гривен — это… Не додумав дальше, только булькнули разом и под водой скрылись.
Рядом только всхлипывающая Вейка осталась, Любим, которого князь в озеро не пустил, удержав близ себя, да еще двое.
Один из старых, ему и вдесятеро дай — все равно не полез бы. И так спину крутило — порой мочи не было терпеть. Да еще один из самых юных. Тот-то порывался, но старый не пустил, пояснив князю:
— Больно холодно, да и к ночи дело. Вылезут ребята, померзнут, а так мы для них костер запалим — хоть пообсохнут.
Константин только кивнул молча — делайте, что хотите.
Тем временем все восемь в холодной сентябрьской воде бултыхались, оживленно переговариваясь между собой и то и дело ныряя. Однако постепенно первоначальный азарт поиска под влиянием холода осеннего озера стал улетучиваться.
Вот уже первый из воды вылез. Весь дрожа от холода, к Константину подошел и, стуча зубами, повинился:
— Воля твоя, княже, а у меня сил нет. Еще чуток — и я сам утопну.
— И я боле не могу, — произнес, вылезая на берег, второй.
— Ее, поди, водяной прибрал давно, — проворчал третий.
Следом потянулись остальные. Последние двое продержались чуть дольше, но в конце концов сдались и они.
— И впрямь водяной утащил, — откашливаясь, произнес один из них.
— Княгиня, чай. Такие не каждый день в гости к нему забредают. Вот он и рад, — поддержал его другой.
Константин не отвечал, продолжая пристально вглядываться в темную воду, затем встал и тихо произнес:
— Тысячу гривен, — и на всякий случай — вдруг у кого со счетом плохо — тут же пояснил: — Десять раз по сто гривен.
Все переглянулись и, как по команде, молча повернувшись, пошлепали обратно.
«Все равно не найдут. Вон уже сколько времени прошло», — мелькнула тоскливая мысль.
«А ты сам водяного попроси», — раздался вдруг в ушах звонкий девчоночий голос.
Константин посмотрел на Вейку. Та молчала и, затаив дыхание, вглядывалась в озерную гладь.
— Вейка, — окликнул он девушку.
Та повернулась недовольно.
— Ты сейчас что-то сказала? — спросил удивленно, хотя понимал, что голос явно не ее.
— Не до разговоров мне, княже, — отрезала она почти сердито, но потом, вспомнив что-то, подошла к Константину и протянула перстень с крупным синим сапфиром.
— Она тебе передать просила.
— А сказала что при этом?
Вейка отрицательно мотнула головой:
— Сказала, ты сам все поймешь.
Константин повертел его в руках, попробовал разглядеть, что там написано мелкой славянской вязью по внутреннему ободку, но света костра для этого было слишком мало.
С тяжким вздохом он надел его на палец, и в этот самый миг в его ушах вновь раздался звонкий девчоночий голос. Вот только на этот раз в нем уже явственно звучали легкие нотки раздражения: «Ну что, налюбовался? А теперь к водяному беги, да скорее, а то не успеешь».
— Ты что-нибудь слыхал? — обратился он к Любиму.
— Тишина кругом, — пожал тот плечами. — Только… — он, не договорив, изумленно уставился на Константина.
«Ну и бестолочь ты, а еще князь, — проворчал голос. — И вслух не ори — я и так хорошо слышу. Вон у Любима своего спроси, коли мне веры нет».
Константин в свою очередь уставился на дружинника.
— Берегиня, — выдохнул тот еле слышно.
«А как вызывать-то его?» — переспросил Константин недоверчиво, но вслух ничего не говоря.
«Как, как, — передразнил его голос. — Палочку найди какую-нибудь да по воде ею похлопай — он и появится. Только отойди подальше, саженей за пятьдесят, чтоб не видал никто».
«А потом что делать?» — не понял князь.
«Потом попроси отдать то, что он взял».
«Как попросить?»
«Вот раскакался тут. Словами, конечно, — досадливо произнес голос и тут же, опережая следующий вопрос князя, добавил: — А какими именно — я не знаю. Ты, главное, понастойчивее, и чтобы от души они шли. Он враз почует, если соврешь. Понял?»
Честно признаться, Константин ничего не понял. Точнее, что делать — тут-то как раз все ему толково разъяснили, а вот выйдет ли из этого что-то путное — вопрос спорный.
С другой стороны, можно попытаться и этот способ испробовать. Благо в случае неудачи Константин совершенно ничего не терял. Да если надо, он бы черту в ножки поклонился — только бы Ростиславу спасти.
Какую-то кривую загогулину удалось отыскать почти сразу. Оглянувшись на трясущихся от холода дружинников и ошалевшего Любима, крикнул, чтобы за ним никто не шел, пока сам не позовет.
Отбежав метров на сто в сторону, он с силой принялся лупить палкой по озерной глади, поначалу сидя на корточках у самой кромки воды, затем зайдя в нее по щиколотку, а потом и еще дальше, так что она уже стала перехлестываться за отворот сапога.
Ситуация складывалась щекотливая, поскольку промерзшие насквозь бедолаги, позабыв про свою трясучку, удивленно прислушивались, какого рожна их князь вдруг принялся деревяшкой по воде барабанить. Менять же позицию поздно, да и ни к чему. Чтобы его перестали видеть и слышать, нужно было удалиться по меньшей мере еще на полкилометра. Хорошо хоть, что умница Любим удерживал всех у костра, запрещая пойти взглянуть хоть краешком глаза.
— Ну и хрен с ними, — в сердцах буркнул князь, продолжая со всей силой охаживать воду палкой. — Пусть слушают.
Голос тоже молчал, не желая мешать процессу.
Когда появился водяной — Константин не заметил. Да и трудно было распознать водяного в обычной травяной кочке, лениво дрейфующей мимо него.
— А ты упрямый, — одобрительно булькнул чей-то голос почти у самых его ног.
Константин от неожиданности вздрогнул, когда одновременно с этим кто-то невидимый, но очень сильный, легонько обхватив его ноги, с силой дернул за них, да так, что князь сел, а если откровенно — плюхнулся самым жалким образом в стылую сентябрьскую воду. Выронив при этом падении свою палку, он инстинктивно потянулся за нею, но булькающий голос отсоветовал:
— Она тебе уже ни к чему. Чай, свое дело сделала. А ты сказывай, почто звал.
— Девушка у тебя одна есть, хорошая, сгоряча к тебе в воду залезла, не подумавши, — начал было Константин, но голос тут же обиженно перебил князя:
— Они у меня все хорошие. Не веришь, так пойдем, покажу. — И вновь кто-то ухватил его за ноги и легонько потянул в глубину.
— Верю я тебе, верю, — отчаянно завопил Константин, что есть силы упираясь руками и чувствуя, что все равно соскальзывает все глубже и глубже.
— Ну ладно. Раз веришь — показывать не буду, — несколько разочарованно произнес голос и неожиданно похвалил: — А ты смелый. Боишься, а из воды не идешь. Стало быть, над страхом своим хозяин будешь.
— Княже! Ты там живой или как? — крикнул кто-то из дружинников, не вытерпев, и тут же его поддержал второй, видно, почуяв неладное:
— Вода-то холодна больно. Не застудился бы часом. Али помочь надобно вылезти?
— Сам знаю, что холодна, — сердито проворчал Константин и громко ответил: — Сидите, где сидели. Я мигом.
— Так ты из каковских князей будешь? — лениво осведомилась травяная кочка.
— А из тех… кто с Хладом воевал и его одолел, — нашелся подходящий ответ.
— Вона как, — булькнул растерянно голос. — Не иначе как сам князь Константин в гости пожаловал. А я-то, старый дурак, все думаю, откель же мне твоя речь знакома. Ты уж звиняй, княже, что не признал сразу, — повинилась травяная кочка и тут же пожаловалась, оправдываясь: — Видеть я что-то плохо стал, особливо ежели к ночи. Токмо на ощупь все, на ощупь.
И в подтверждение своих слов по княжеским ногам вновь что-то проползло-прошелестело.
— А с чем пожаловал-то? — полюбопытствовал голос из кочки.
— С просьбой, — отрывисто бросил Константин. — Выполнишь?
— Кому иному сразу бы отказал, — заметил голос. — А над твоей подумаю. Только чтоб легкая была, — попросил он, тут же поясняя: — Чтобы и мне, старому, силу последнюю не тратить, и тебе угодить.
— Да у тебя силищи еще немерено осталось, — искренне воскликнул Константин.
— Буль, буль, буль, — раздалось из воды, и все пространство вокруг кочки мгновенно покрылось пузырями. — Это я так смеюсь, — пояснил довольный голос. — Оно, конечно, знаю, что брешешь, а все равно приятно. Ты продолжай в том же духе и считай, что просьбу твою я выполню.
— Тогда верни мне девушку, которая недавно здесь утопла, — выпалил Константин. — Люблю я ее.
Из воды раздалось озадаченное бульканье.
— Это такую красивую, — уточнил наконец голос.
— Ее самую, — радостно подтвердил Константин.
— Так она же сама буль-буль-буль ко мне захотела. Не отбивалась, не брыкалась, даже, буль-буль, подсобить пыталась.
— Не подумавши она, сгоряча, — пояснил Константин.
— Ну, это я уже слышал, — откликнулась кочка. — Но давай разберемся во всем по порядку. Ты сказал, что…
— Потом разбираться будем, — завопил Константин. — Все потом, а то поздно будет, — и тут неожиданная мысль промелькнула у него в голове. — Погоди, погоди. А ты мне, часом, не зубы заговариваешь, чтобы и впрямь уже поздно стало?!
— Да за кого ты меня принимаешь?! — возмущенно запузырилась вода вокруг кочки. — Ты вообще кем меня считаешь?! Я тебе что — колдун какой, чтоб зубы твои заговорами лечить?! Я честный водяной! Вот ежели у тебя, скажем, водянка была бы, или, к примеру…
— Точно! Резину тянешь! — твердо констатировал князь.
— Чего я тяну? — недоуменно булькнул голос.
— Потом поясню. Ты девушку мне отдай.
— Такая красивая, — сожалеюще вздохнул голос. — К тому же княгиня. Я сколько живу, а княгинь у меня отродясь не бывало. Даже обидно как-то. И все вы, люди, вот так, — перешла кочка к обобщенным выводам. — Когда что-то нужно, так сразу на поклон бежите — верни, мол, дедушка водяной. А вот чтобы просто, от души, в гости заглянуть — этого от вас не дождешься.
— А хочешь, я тебе песенку спою? — вдруг осенило Константина. — Твою песенку. Ну, ее один водяной сочинил про себя, — и уточнил сразу: — Но она и для тебя тоже хорошо подходит.
— В самом деле? — уточнила удивленно кочка.
— Да чтоб мне навсегда к тебе в гости попасть, если я вру.
— А не боишься? — булькнул предостерегающе голос. — Ты ведь не гляди, что я озерный. Мне слова твои передать всем другим легко будет. И уже никто не вступится, так что тебе не реки — тебе колодца хватит.
— Не боюсь ни чуточки, потому что не вру, — заверил Константин. — Только, чур, вначале Ростиславу отдай. А песню завтра тебе спою.
— Ну, ладно, — примирительно бултыхнулась вода вокруг кочки. — Сейчас ее тебе доставят прямо в руки. Уж очень мне песню охота послушать. Но впредь гляди, княже, — предостерег водяной, — ежели нужда в чем будет, просто так получить не надейся.
— Понятно. У вас все строго. Деловой подход, — вздохнул Константин обреченно. — Капиталистические отношения на дне великого русского озера Плещеева. Процветающий бизнес по вылавливанию молодых княгинь и прочих славянок.
— Чего?! — запузырилась вода возле кочки.
— Я говорю, что все понял! — гаркнул Константин. — Ты — мне, я — тебе. Без подарков в воду ни ногой, ни рукой. Да и с подарками тоже… с опаской, — добавил он, подумав.
— А-а, — с облегчением булькнул водяной. — Вот теперь вижу, что ты все понял. А то что-то буровишь там несуразное. Аж напужал. Я-то думал, что уже и слуха стал лишаться. Оно, знаешь ли, когда постоянно вода в ушах, то очень вредно для здоровья. Ага, ну вот и твоя княгиня, — булькнул удовлетворенно водяной. — Тогда я поплыл. Прощевай, князюшко. Завтра свидимся, — уточнила кочка и начала стремительно удаляться от берега.
— Эгей, а где девушка-то? — возмущенно заорал ей вдогон Константин, вскакивая на ноги, и в тот же миг увидел почти рядом с собой белое неподвижное пятно женской рубахи, хорошо различимое на темном фоне озерной воды.
Следующие полчаса ушли на то, чтобы попытаться вернуть Ростиславу к жизни. Трижды бывалые дружинники пытались объяснить своему князю, что померла она, что поздно, уж больно много времени прошло, но всякий раз, напоровшись на его бешеный взгляд, испуганно замолкали, осекшись на полуслове.
Спустя полчаса утопленница закашлялась и слегка открыла глаза. Дружинники стояли как вкопанные, боясь пошевелиться. Не бывало такого, чтобы через столь продолжительный срок пребывания под водой человека потом удавалось вернуть к жизни. Четверти часа вполне хватало, чтобы упокоилась душа христианская навеки. Нет, случалось, конечно, иной раз, что и откачивали, уж больно живуч оказывался человек, но ведь четверть часа, а тут-то вдвое больше времени княгиня под водой пробыла. Пробыла и… ожила.
«Нет, братцы, вы как хотите, но не иначе как тут что-то тайное замешано», — явно скользило во взглядах воинов.
Вслух об этом пока никто не заикался, даже намеком малым, но перепуганные лица красноречиво говорили сами за себя.
— Зачем? — прошептала княгиня и тут же вновь потеряла сознание.
— Зачем-зачем… надо! — пыхтел Константин, помогая дружинникам перенести ее свинцовое безжизненное тело к костру.
— Ох, и тяжела баба, — вытер пот со лба один из воев, когда княгиню донесли до огня. — А на вид и не скажешь. Вроде вовсе и не толста будет. Ну да нет худа без добра, зато согрелись малость, — констатировал он благодушно.
Другой, все это время с опаской косившийся на князя, улучив момент, вполголоса спросил у Константина, когда тот отошел к лошади, чтобы достать сменное белье:
— И как токмо тебе, княже, удалось ее найти? Не иначе как с водяным сумел договориться. — И, не дожидаясь ответа, присвистнул удивленно: — Ну, дела…
Вовремя вспомнив мудрые слова отца Николая, Константин веско произнес:
— Все в этом мире от бога, и каждую тварь на этой земле создал господь. И кто уж там чистый, а кто нечистый — не нам с тобой судить, а вседержителю. Иной человек, хоть и крест на груди имеет, а порою такое вытворяет, что похуже черта будет, — и посоветовал: — Ты Гремислава-то вспомни.
— Ну да, ну да, — покладисто пробормотал дружинник, но чувствовалось, что слова князя его не убедили.
— Кажись, совсем в себя приходит, — раздался в это время радостный голос Вейки, и Константин, так и не успев переодеться, поспешил обратно к костру.
Едва придя в себя, Ростислава вновь спросила, глядя в упор на склонившегося над нею князя:
— Зачем?
— Потом поговорим. Сейчас не время. Ты поспи лучше, а то умаялась, поди, — мягко ответил Константин и ласково коснулся пальцами ее лба.
Княгиня будто только и ждала этого прикосновения. Глаза ее тут же послушно закрылись, и она покорно уснула.
— Дивись, как у князя нашего ловко получается, — оторопело зашептал тот, кто спрашивал у Константина про нечисть.
— Замолчь, а то услышит, — так же тихо и испуганно огрызнулся в ответ другой.
Чтобы лишний раз не тормошить княгиню, Константин распорядился шатер ее здесь же, у озера поставить. Ловкие вои сумели полотнище прямо над княгиней натянуть. Оставалось только чуть сдвинуть ее вбок, на воилочную кошму, да укрыть потеплее. Вейка неразлучная тут же в ногах улеглась.
Константину второй шатер рядышком поставили, но тот в нем спать отказался. Никому не доверяя, он улегся прямо рядом с входом, чтоб за ночь своенравная княгиня опять чего-нибудь не отчубучила. Так оно понадежнее будет.
Угомонились все не скоро. Во всяком случае, Константин, пока не уснул, все слышал приглушенные голоса дружинников, обменивающихся мнениями насчет того, как именно в кромешной мгле их князь ухитрился углядеть в воде княгиню, вытащить ее да еще и откачать.
— Не иначе как он… — следовал приглушенный шепот.
— Ну, нас там не было, — басил скептик.
— Да он сам мне сказывал, — горячился тот, кто спрашивал Константина про нечистую силу. — А потом-то, потом!.. Все же видали, что он только ее лба ладонью своей коснулся, как она тут же и заснула. Это как?!
От утренней свежести Константин проснулся чуть свет. Вчерашнее помнилось, но с трудом. То ли он просто настолько ошалел от переживаний, что его воспаленное и чересчур живое воображение сыграло с ним дурную шутку, то ли и впрямь был разговор с водяным…
«Да ну, — отмахнулся он. — Придумаешь тоже — водяной. Хотя… фантазия фантазией, — вздохнул он, — а песенку я ему на всякий случай спою, сидя на бережку. От меня не убудет, хотя и глупо, конечно. Ерунда это все».
Уже собравшись идти, он осторожно, чтобы не разбудить, заглянул в шатер и остолбенел — Ростиславы там не было.
В один прыжок он преодолел расстояние до костра, который поддерживал один из караульных, и, схватив его за грудки, хрипло выдохнул:
— Где?..
— Да вон она — у озера уселась, — жалобно запричитал часовой.
— Зачем отпустил? — недовольным, но уже более спокойным тоном спросил Константин. — А если она опять того?..
— Просилась сильно, — виновато ответил дружинник. — Я и подумал, не среди нас же ей нужду справлять. Да она и слово дала, что ни-ни, — заторопился он. — Пока, мол, с князем не поговорю, даже и не подумаю. Ну, и я опять-таки бдю все время.
— Бдю, бдю, — отозвался ворчливо Константин и медленно пошел к княгине.
— Зачем? — спросила она, едва тот уселся рядом, и терпеливо повторила: — Зачем старался?
— Все мы когда-нибудь уйдем, — глухо отозвался Константин.
Неожиданный вопрос слегка сбил его с нужной мысли, и начал он не совсем так, как хотел:
— Неважно, когда уйдем. Важно как. А еще важней — во имя чего. Один — как богатырь в бою с врагом, защищая друзей. Второй, как трус, просто убегает от этой жизни, потому что боится ее.
— Я не боюсь, — перебила Ростислава. — Мне просто жить незачем. Так что ты напрасно трудился, у водяного меня выпрашивая.
— Ты и это уже знаешь? — воскликнул Константин удивленно. — Но откуда?
— Видала я кое-что в озере том. Не приведи господь вдругорядь такое узреть. А потом проснулась среди ночи да услыхала, как вои твои шепчутся. И смелый, дескать, у нас князь, и сильный, и умен — вон, даже нечисть уговорить сумел, чтоб та свою добычу назад вернула. И не побоялся с самим водяным споры спорить. Не зря его в народе заступником божьим кличут. — Она резко оборвала фразу и повернулась к князю, с интересом всматриваясь в его лицо: — Так ты что, правда из-за какой-то девки дурной сам к водяному в лапы полез?
— Правда, — покаянно сознался Константин и улыбнулся виновато, радостно любуясь самым главным — глаза у Ростиславы жили. Мертвенная пленка, туманившая вчера ее взор, сегодня куда-то бесследно исчезла, растворилась, сгинула, и они даже чуточку лучились от искорок, прыгающих озорными чертиками в самой глубине.
— А зачем? — посуровел ее тон.
Но глаза предательски выдавали, что это все лишь напускное, а на самом деле настрой у княгини совсем иной.
«А вот теперь главное, — решился Константин. — Именно сейчас. Да давай же ты, не молчи», — подтолкнул он себя почти с ненавистью.
Он попытался вдохнуть в грудь побольше воздуха, но что-то мешало и больно кололо. Константин хрипло закашлялся, и ему чуть полегчало, хотя дышалось все равно с трудом.
— Да люблю я тебя, люблю! — выпалил отчаянно и тут же услышал убийственный ответ:
— Того я и боялась, княже. Нельзя ведь нам — грех это. Ведь женатый ты.
— Ярослав постарался, развел с супругой, — глухо ответил Константин. — Или ты не знала? Или муж не похвалился?
Щеки Ростиславы порозовели, а в глазах ее уже не искорки светились, а костер разноцветный полыхал.
— Он мне и впрямь ничего не сказывал, — растерянно покачала она головой и тут же предупредила: — Только ты ничего о нем не говори. Негоже о покойниках дурное сказывать. Они же за себя постоять не могут.
Константин вновь закашлялся.
— Козел он, твой Ярослав, — выдавил с усилием между двумя приступами надсадного, тяжелого кашля. — И с чего ты взяла, что он покойник? Во всяком случае, когда я его во Владимир привез, он еще живой был. Сейчас как — не знаю.
— Стало быть, так вот, — медленно протянула Ростислава.
Лицо ее вновь построжело и поскучнело. А в глазах уже не только костра разноцветного не было, даже самые малюсенькие искорки исчезли.
Она медленно и рассудительно произнесла:
— Я ему слово дала — седмицы не пройдет, после того как я о смерти его узнаю, и меня в Переяславле не будет. А у вдовой княгини, да бездетной еще, на Руси только две дороги: либо в монастырь, либо туда, откуда ты меня вытащил.
— Но он же жив! — напомнил Константин и поморщился — в груди вновь что-то укололо, да так сильно, что он чуть не вскрикнул.
— Жив, — подтвердила безучастно Ростислава. — Он жив, а нам с тобой как дальше жить? И чем?
— Я — надеждой, — твердо ответил Константин. — Пока ты жива, я надеяться буду. А жизнь — штука длинная. Кто знает, что она нам завтра преподнесет, — и почти с мольбой: — Ведь всякое может быть, правда? Скажи, правда?! — а сам, не дожидаясь ответа, почти шепотом застенчиво: — А ты меня хоть чуточку… — договаривать же не стал — испугался.
— Дурачок ты, дурачок, — грустно протянула Ростислава. — И почто спрашиваешь, грех мой тайный из души вытягиваешь? Неужто сам не понял досель? — и посетовала лукаво: — Перстенек мой тогда с мизинца сними да прочти, что там написано, — но тут же ухватила его за руку и приказала строгим голосом: — Только ты потом это сделай, когда меня рядом не будет. Тож ведь поди стыдно. Я его от батюшки получила, еще перед свадебкой, с наказом подарить… ну, подарить, словом, — замялась она. — Только видишь, сложилось-то так, что не князю Ярославу оно досталось, а тебе, — и тут же добавила отрезвляюще, сухо и почти зло: — Вот только не бывать нам вместе.
— А ты верь, — убежденно произнес Константин и просительно добавил: — И живи. Только живи обязательно. Мне бы только знать, что ты жива, пусть далеко от меня, пусть замужем, но жива.
— А если далеко, да еще за другим замужем, тогда какой тебе в моей жизни резон? — вздохнула Ростислава.
— Ты для меня как воздух. Умрешь — чем дышать стану?
Глаза девушки неожиданно наполнились слезами.
— Знаешь, — медленно произнесла она. — О такой любви ведь каждая мечтает — от холопки обельной до княгини знатной. Каждая о ней грезит, только редко к кому она приходит. Я ведь еще совсем недавно такой несчастной себя считала.
— Думала, что Ярослав погиб? — перебил ее Константин.
— Вовсе нет. Просто тяжко все было. Думала, несчастливая я. Сам помысли. Каково это — всю жизнь нелюбимой с нелюбимым коротать. Это как в потемках все время сидеть. А вчера для меня как будто солнышко ясное на небе взошло. Я и зимой лучик малый приметила, да отмахнулась — боялась все, что помстилось. А уж вчера-то точно. А если ты солнышко узрел, то во тьме уже жить не захочешь. Так и я. Вот только я счастливая, оказывается, — сама удивилась Ростислава такому выводу, но уверенно повторила: — Да, счастливая. И не боись — жить я теперь буду. Пусть не для себя, для тебя. — И она, закрасневшись, но не в силах сдержаться, порывисто чмокнула Константина в лоб, но тут же ахнула и испуганно отшатнулась.
— Да ты же весь горишь?! Ты что ж, так и проспал возле шатра на земле сырой всю ночь?!
— Тебя караулил, — смущенно пожал плечами Константин и вновь натужно закашлялся, а пока отходил от приступа, княгиня, прижавшись ухом к его спине, напряженно слушала, после чего озабоченно спросила:
— Ты когда-нибудь слыхал, как в кузне огонь мехами раздувают, особливо ежели они уже старые и худые?
— Ну, доводилось как-то раз.
— Так вот, у тебя в груди сейчас еще хлеще творится, — убежденно заявила княгиня, поставив короткий диагноз: — Перекупался ты, солнце мое ясное, — и скомандовала: — А ну-ка в шатер и лечиться немедля.
— Погоди, погоди, — воспротивился Константин. — Должок у меня перед водяным за тебя остался. Песенку я обещал про него спеть. Обидится дедушка. Скажет, коли князь слово не держит, то и совсем нет веры людям. Возьмет и отчубучит чего-нибудь нехорошее. Сейчас я ему ее спою и тогда уж…
— Да ты дойдешь ли? — воскликнула Ростислава, с тревогой глядя на князя, тяжело, с натугой поднимающегося с земли.
Вскочив, она ловко подставила ему свое плечо. Константин попытался отстранить ее, но сам чуть не упал, потеряв равновесие.
— Я один, — погрозил он ей пальцем. — Ничего со мной не случится. А то вдруг спою, а ему не понравится. Возьмет, и тебя назад потребует.
Слова давались ему тяжело, но под конец он уже понемногу приспособился и выговаривал по одному за вздох. Больше не получалось, хоть ты тресни.
— Так я и далась ему, — насмешливо протянула Ростислава, вновь подставляя князю свое плечо и заверяя его уже на ходу: — Да ты не бойся. Я тихонько в кусточках усядусь, он и не приметит меня вовсе. Мне ведь тоже хочется твою песенку послушать. А потом, как ты один назад-то пойдешь? Нет, княже, и не думай даже.
Так, с воркованием нежным, она и довела его до вчерашнего места, усадив на бережок, и, соблюдая обещание, отошла метров на пять, спрятавшись за кустами.
Как Константин звал водяного слушать обещанную песенку, сам он впоследствии так и не вспомнил. Все как в бреду или во сне было. Помнил он только, что пел:
Я водяной, я водяной, Никто не водится со мной…А еще ему смутно помнилось, как Ростислава, плача навзрыд, пыталась его, Константина, поднять с земли, как причитала, что все, хватит, спел он уже, довольно. Он же, боясь, что позабыл что-то, все продолжал петь, с натугой выплевывая по слову за один вздох и все время удивляясь, почему ему не хватает воздуха, когда его здесь вон сколько.
И последнее, что осталось в памяти, — это встревоженные дружинники, бегущие навстречу им с Ростиславой, и его собственный выдох: «Все!» — а потом только резко приближающаяся к глазам трава и вновь острая боль в груди.
Все те несколько дней, когда Константин находился в пограничном состоянии — то ли выживет, то ли нет, Ростислава ни на минуту не отходила от его постели. Она и спала тут же, в изголовье, уткнувшись лбом в горячую, влажную от пота руку князя.
В ответ на недоуменные взгляды дворовых людей, понимая, что именно могут донести доброхоты князю Ярославу о ее поведении и в какой ад после этого превратится вся ее дальнейшая жизнь, она поясняла гордо:
— Негоже, чтоб князь Константин в Переяславле-Залесском жизни лишился. Тогда уж его дружина точно весь град по бревнышку разнесет.
А сообразительная Вейка тихонько от княгини еще один слушок пустила. Будто главная причина того, что Ростислава в воду кинулась, состоит в том, что она не знала о том, что муж ее, князь Ярослав, жив. После того как он распространился, уже не только дворня, но и все горожане ее чуть ли не в святые возвели.
А как иначе? От мести рязанской град спасла, собою жертвуя, — раз. Одно только это ох и дорогого стоит. За такое сколько ни кланяйся — много не будет.
Да тут еще и второе добавь — как за мужа своего переживала. Не всякая в воду кинется, узнав о смерти суженого, а княгиня, вишь ты, решилась.
Теперь же и третье не забудь — ухаживала за Константином Рязанским так, что если даже и таились у него на душе остатки мести за град свой стольный, то ныне они точно все исчезли напрочь.
И ведь ни на минуточку малую от ложницы его не отходила. Умаялась, бедная, так что высохла вся, с лица мертвенно-бледной стала, лишь глаза одни горят синевой жаркой, да так, что и смотреть на них больно.
А тому, что лик у нее вроде как светиться начал, люди даже не удивились. А чему удивляться-то? Сказано же — святая. А у них у всех положено так, чтоб лицо светилось, иначе как же простому человеку святость отличить.
Ростислава же, коль и услыхала б такое о себе, лишь посмеялась бы в ответ. Глупые они все. Ишь чего измыслили себе — умаялась. Да она самой счастливой в эти дни ходила, потому как все время рядышком с ним была. И мнилось ей, что не просто князь любый, но муж венчанный близ нее лежит, а впереди у них столь много счастья — ни руками не обнять, ни глазами не охватить.
Про смерть же его возможную она даже и не думала. Не тот Константин человек, чтобы вот так глупо костлявой старухе уступить. К тому же и сама Ростислава рядом, а уж она за него — не гляди, что девка слабая, — глотку, как волчица, любому перегрызет. И той, что в саване белом шляется, тоже. Ни страх напускаемый не поможет, ни коса вострая не выручит. Сколько ею ни маши — все едино ее, Ростиславы, верх будет.
Вот только недолго счастье ее длилось. Спустя неделю после того, как стало окончательно ясно, что Константин пошел на поправку, Ростислава покинула княжий терем. Сердце кровью обливалось, но что поделаешь. Любовь любовью, но про долг свой княжеский тоже забывать не след.
Она и сама была бы рада еще хоть на чуть-чуть остаться, но что ж тут поделать, коли за ней сноха, вдова старшего брата Ярослава — Константина Всеволодовича, уже и нарочных прислала со слезной мольбой, чтоб приехала подсобить, а то, дескать, не с ее здоровьем со всем хозяйством управляться.
Да и сам Ярослав к тому времени начал понемногу глаза открывать и первым делом про Ростиславу спросил. Хорошо, что Агафья Мстиславовна, которая всегда Ярослава недолюбливала, из женской солидарности наговорила ему с три короба про погоду отвратительную, про слякоть да грязь непролазную.
Впрочем, и не так уж сильно соврать ей пришлось. Как раз в тот день, когда Константин свалился в жару, и началась настоящая осень с заунывными дождями и прочими своими прелестями.
Вот так погода и подарила Ростиславе почти полмесяца, расщедрившись вдруг. А потом все — такие снега повалили, что только держись. И пришлось княгине с тяжким сердцем катить по первопутку во Владимир, оставляя Константина на попеченье лекарей и своей верной Вейки, которая на кресте поклялась, что неотлучно около князя сидеть будет, пока тот на ноги не встанет.
На прощанье, склоняясь к больному, она жарко выдохнула ему на ухо:
— Помни, я ведь только для тебя жить обещалась. И ежели я для тебя воздух, то ты для меня и вовсе весь мир. Уйдешь — и я следом.
После чего ожгла Константина поцелуем горячим прямо в сухие губы и пояснила с горькой улыбкой:
— Это не я — от водяного подарочек передаю. За песенку.
И ушла. Насовсем.
Глава 10 И вновь ожидается бой
Все возвращается, — осень, надежды и страхи, Все, что уходит, — всего лишь к тому, чтобы вновь возрасти из песка… Над игрушечным миром на панцире Матери-Черепахи Время свивается в кольца, готовое для броска. О. ПогодинаОх и долго же тянулись зимние дни для Константина. Все ему казалось, что настанет весна и что-то обязательно поменяется, да непременно в лучшую сторону. Но изменения произошли гораздо раньше, еще под Рождество, когда к князю, проведать больного друга, зашел Вячеслав.
Воевода был веселый, румяный, с морозца. И пахло от него так же: свежо и хрустко. Вначале он бодро отрапортовал, что с нынешнего лета великий князь Рязанский, Владимирский, Ростовский, Суздальский, Муромский, а мелочь в счет не берем вообще, может рассчитывать на двадцать тысяч только пешего ополчения плюс к тому пять тысяч конницы.
Уточнил, справедливости ради, что со всем этим воинством, которое пока далеко не воинство, еще возиться и возиться, но главное, что оно вообще имеется в наличии. К тому же хлопцы по большей части крепкие, достаточно смышленые, так что он, Вячеслав, как верховный воевода, за оставшееся время до ума их доведет.
Потом друзья посидели, поболтали о разном, в том числе и о том, как Минька своего родного князя заждался и сколько еще всякой всячины юный Эдисон Константину приготовил, а ему, верховному воеводе всего Рязанского княжества, сообщать отказывается. Говорит — сюрприз для князя.
Уже уходя и стоя в самых дверях, Вячеслав вспомнил напоследок:
— Да, чуть не забыл. Из Владимира все святое семейство я уже отправил, как ты и говорил, в Переяславль-Южный. Неделю назад они уехали. Так что ныне там твой Святослав уже на всю катушку распоряжается.
— А Ярослава тоже?.. — уже чувствуя непоправимое, спросил князь непослушными губами.
— Его я бы и еще раньше спровадил, — сердито ответил Вячеслав. — Ну и козел же он. Только-только вставать с постели начал, еще еле ходит, по стеночке, а уже козни пытается строить. Ты же ему оставил пяток бояр из стариков. Так он с ними все шу-шу-шу да шу-шу-шу. Но я, правда, стукачей из числа их дворни завел, и они мне быстренько своих хозяев заложили. Прямо с потрошками сдали, тепленькими. Да ты что, ты что? — кинулся он к князю, пытаясь удержать его и не дать встать. — Костя, тебе ж лежать надо. Очумел ты, что ли? Все в порядке, ты не думай. Троих из них я тем же санным поездом уже отправил. Так что успокойся — никакой измены, никаких переворотов. Вот напугался, дурилка.
— А Ростислава? — спросил Константин еле слышно.
В голове у него все плыло, все кружилось. Стены вокруг будто плясали, да и потолок с полом вели себя тоже неадекватно.
— И ее отправил, естественно. В принципе, она, пожалуй, одна нормальная баба там и была, с которой еще хоть как-то пообщаться можно. А эта, которая вдова Константина, квашня квашней. Да и пацаны тоже волчатами все смотрели на меня. Зато Ростислава и вежливая, и приветливая. Все о твоем здоровье спрашивала.
— Не тарахти, пожалуйста, — сморщился, как от зубной боли, Константин. — Лучше скажи, ее как-то вернуть можно?
— Ее одну? — от удивления глаза Вячеслава даже округлились. — Ты, вообще-то, в своем уме, княже?!
— Нет, ну, пусть со всеми остальными, — заторопился с объяснениями Константин. — Я вот тут подумал чего-то и решил, что они… что я… их бы где поближе надо… и нечего им там, в Переяславском княжестве, делать. Пусть они… ну, в Муроме будут. Под боком у меня, ну и пригляд понадежнее за тем же Ярославом.
— Вообще-то, поздновато уже, — хмуро выслушав друга, Славка задумчиво потер переносицу. — Да и ни к чему им в Муроме сидеть. Опять же мордва рядом и эти твои — как их там? — волжские булгары. Ты, кстати, в курсе, что они Великий Устюг захватили и пограбили? Между прочим, теперь это тоже твой город, — и протянул намекающе: — Я так подумал, что долг платежом красен. К тому же мне ребятишек новых в деле испытать охота. Опять же зима, санный путь шикарный, а Минька заодно свои пушки испытает на них, чтоб знали в другой раз, как по нашим городам шляться.
— Ты погоди с испытаниями, с Устюгом этим, булгарами. Давай о другом договорим, — каждое слово давалось Константину все тяжелее и тяжелее, будто и не слова то были, а каменюки пудовые. — Я про то, чтобы вернуть.
— Так сказал же я — неделю назад уехали. Где я тебе их возьму! Они уж, поди, в Чернигове или Новгороде-Северском.
— Обоз, дети… Они не могли так быстро двигаться.
— Да на черта это вообще надо, — возмутился Вячеслав. — Ты же все правильно решил — загнать их подальше, и пусть там сидят и не рыпаются.
— Это… мне… надо…. Очень надо… — с огромным усилием выдавил из себя Константин и потерял сознание.
Когда он открыл глаза, то Вячеслав продолжал сидеть возле его постели, только был весь какой-то мрачный, помятый, а левую руку держал на перевязи, у груди.
— Ты когда пораниться успел? — спросил Константин и попытался сострить: — Я что, буянил тут, когда вырубился?
— Лучше бы буянил, — хмуро буркнул Вячеслав. — Я уже второй день здесь сижу. Все жду, когда ты наконец очнешься.
— А за ними так и не ездил?
— Вернулся уже! — не выдержав, заорал Вячеслав. — Вон, и Доброгневу из Рязани привез. Как видишь, вовремя.
— А за ними?.. — упрямо повторил вопрос князь.
— Вот это видел? — показал Вячеслав забинтованную руку. — Вот и все результаты моей поездки. Говорил же тебе, что поздно уже. Догнал я их уже под Козельском, а это черниговские земли, не наши. Еще подъезжал только, как уже недоброе почуял — уж больно у них эскорт увеличился. Одних воев человек тридцать, не меньше. Видать, встретили, потому что, когда отсюда выезжали, человек пять у них и было из дружинников.
— Почему так мало? — удивился Константин. — А если бы в дороге что-то случилось? Это ж на нас сразу вина бы легла.
— Своих два десятка я в счет не беру, — пояснил Вячеслав, продолжая ласково, будто малыша, баюкать перевязанную руку. — Они только до границы их проводили и назад повернули. Но главное — не поняли они меня. Я ору: «Стойте, поговорить надо», а они как ломанулись. Уж не знаю, чего подумали, но явно что-то нехорошее, потому что отстреливаться стали. Со мной и был-то всего десяток — куда там бой принимать. Главное — слушать ничего не хотят. Знай себе пуляют, гады.
Он поморщился, продолжая бережно баюкать раненую руку, и пожаловался:
— В кость попали. Теперь еще неделю, а то и две болеть будет.
— Извини, — вздохнул Константин.
— Из твоих извинений шубу не сошьешь, — хмуро заметил воевода.
— Ты чего, гривен хочешь? — удивился князь.
— Дурак ты, Костя, хоть и князь, вот что я тебе скажу! — возмутился Вячеслав. — У меня там три человека полегли из-за твоей дури. Еще двое — куда ни шло, раны заживут, а одному стрела в легкое угодила. Даже Доброгнева сказала, что не знает, будет жить или нет. Тебе блажь княжеская в башку запала, а у меня народ погиб.
— Прости.
— Прости не простынь — на стене не повесишь, на кровати не постелешь, — недовольно отозвался Вячеслав. — Их родителям помочь надо бы. Деньгами, конечно, сыновей все равно не вернуть, но хоть подспорье какое-то будет.
— Скажи там Зворыке, чтобы по пять гривен каждой семье выдал.
— Да уж будь спокоен. Скажу, не постесняюсь, — заверил воевода все так же ворчливо.
— Прости, — еще раз повторил Константин, не зная, что еще сказать.
— Да что ты все заладил — прости да прости, — шмыгнул носом Вячеслав. — Ты лучше о себе подумай. Как отмазываться теперь станешь? Они же все обязательно решат, что ты меня за ними послал, чтобы прикончить по дороге. Потому и за пределы княжества своего выпустил — след заметал. Только твои люди все плохо рассчитали, вот и сорвалось, — и досадливо протянул: — И чего я тебя вообще послушался?!
Вячеславу хотелось поговорить с другом еще о многом, но он, справедливо полагая, что князь еще слаб для серьезных разговоров, решил от них воздержаться. Константин же, погруженный в себя от известия о том, на какое расстояние удалилась от него Ростислава, совсем заскучал.
— Ну да ладно, — прервал воевода затянувшуюся паузу.
Он встал, легонько похлопал Константина по плечу здоровой правой рукой и заверил успокоительно:
— Доброгнева сказала, что через неделю ты у нее вставать начнешь, а через две, от силы три, я за тобой приеду и в Рязань заберу. Говорю же, тебя Минька в Ожске заждался. Вот и помаракуем втроем, как да что насчет булгар. Не нравится мне что-то их поведение.
«А почему втроем, без отца Николая?» — чуть было не вырвалось у Константина, но он вовремя вспомнил, что сам же его отправил еще по осени с двумя десятками дружинников в Киев, а потом аж в Никею для утверждения в епископском звании.
Вообще-то священники — белое духовенство[65], а епископом может стать лишь монах, то есть из черных, но Константин решил, что все это пустяки, и главное в том, чтобы получить принципиальное согласие митрополита Матфея. Монашескую же рясу на отца Николая запросто можно напялить в каком-нибудь из многочисленных киевских монастырей.
Через неделю он уже и впрямь начал вставать, а через две вовсю ходил по терему, хотя и недолго — не больше чем по получасу. Когда Вячеслав приехал забирать князя в гости к Миньке, то Константин чувствовал себя совсем здоровым, разве что к вечеру все-таки изрядно уставал, но это были уже мелочи.
— Как отдыхалось, бездельник ты наш драгоценный? — осведомился Вячеслав, едва они отъехали от Переяславля.
— И не бездельник я вовсе, — проворчал Константин обиженно и толкнул ногой небольшой сундучок, аккуратно притороченный в возке сразу за спиной возницы. — Вон сколько трудов накатал — чуть ли не доверху его набил.
— А что там? — полюбопытствовал воевода, откупоривая фляжку и с аппетитом прикладываясь к ней.
— Половина сундука — история, — кратко пояснил князь. — Она вся в отдельной шкатулке, ленточкой перевязанная, и вверху надпись: «После моей смерти отдать воеводе Вячеславу Михайловичу, отцу Николаю или Михаилу Юрьевичу».
Воевода Вячеслав Михайлович от таких слов поперхнулся и долго откашливался.
— В глаз бы тебе дать сразу! — рявкнул он грозно и передразнил зло: — После моей смерти! Да после твоей смерти Руси хана настанет, карачун и капут, вместе взятые. Ты про это и думать не моги.
— Да я это так просто. Мало ли, — смущенно пожал плечами Константин.
— Мало ли, — проворчал воевода, остывая. — Никаких мало ли. Должен жить, и все тут. Обо мне-то, небось, и не подумал?! А о Миньке, об отце Николае? Да если всю толпу собрать — знаешь, сколько людей на тебе одном завязаны? Тьма. На-ка лучше, накати малость, авось дурь и растворится.
Константин послушно взял фляжку и сделал пару глотков. Мед был отличный, вишневый, с легкой горчинкой и хорошо выдержанный. Словом, вкуснота. Такого можно и еще пару глотков… и еще. В голове зашумело.
— Отдай продукт, — заволновался Вячеслав, отнимая у него фляжку, но не забывая похвалиться: — Лично нашел в княжеских погребах во Владимире, — и пояснил туманно: — Я там место для обороны подыскивал на случай внезапной вражеской атаки, ну и заодно уж…
Пока друзья говорили, сани успели углубиться в девственный дремучий лес, застывший в ожидании момента, когда же наконец над ним поднимется тяжелое и величественное зимнее солнце, раскрасневшееся от морозца. Высокие разлапистые ели, плотно закутанные в густой январский снег, медленно проплывали по обеим сторонам уже накатанной неширокой санной дороги.
«Интересно, как они тут разъезжаются-то, если навстречу друг другу?» — поневоле подумал Константин при виде огромных сугробов, возвышавшихся по бокам неширокой колеи. Кругом царило торжественное безмолвие, лишь изредка нарушаемое беззаботными птицами.
В основном это были снегири, которые веселыми стайками вспархивали с деревьев, слегка тревожась от близости проезжающих мимо людей, и тогда с ветвей слетали маленькие пуховые горсточки искристого снега, устраивая что-то вроде миниатюрного снегопада.
Один раз Константин даже приметил рыжую мордочку лисички с любопытным черным носом, которая с интересом поглядывала из своего укрытия на пяток саней и два десятка конных дружинников, проезжавших мимо нее. Если бы с ними были ее извечные недруги-собаки, лисичка, конечно, не была бы такой нахальной, но острое чутье, которое никогда не подводило свою хитрую хозяйку, ничего не говорило ей о четвероногих врагах, потому она так и осмелела.
Воздух был прозрачен и душист. Пахло сочным ядреным морозцем, свежей хвоей и еще чем-то таким, что присуще лишь одному зимнему русскому лесу, который равнодушно взирал на проезжающих путников с высот вершин могучих деревьев.
— Да хватит мне, пожалуй, — ответил Константин, с удивлением чувствуя, что язык как бы еще слушается своего хозяина, но вместе с тем норовит выказать первые легкие попытки неповиновения.
Вячеслав внимательно посмотрел на князя и утвердительно кивнул:
— Сам вижу, что хватит. Ну, тогда ответь мне, как на духу, только без вранья, у тебя к Ростиславе как, серьезно, или так себе, увлеченность пополам с влюбчивостью?
— Жена моего лютого врага… — начал было высокопарную речь Константин, но воевода тут же досадливо оборвал его:
— Я же просил без вранья. Не хочешь правду сказать — вообще ничего не говори. Пойму и не обижусь. Не забывай, мне в двадцатом веке почти тридцатник стукнуло — не сопляк, чай. И не из-за праздного любопытства вопрос задаю — для дела надо.
— А что, с ней что-то случилось?! — резко повернулся к Вячеславу Константин.
Пожалуй, даже чересчур резко. Настолько, что чуть не выпал из саней, но был вовремя ухвачен за воротник бдительным воеводой.
— Нарезались вы, ваше благородие. Это я виноват, не доглядел, — бормотал он, усаживая Константина поудобнее и заботливо кутая в медвежью полсть. — Думал подпоить тебя да все выведать, — вздохнул он. — А вот не рассчитал маленько. В порядке твоя Ростислава — не боись.
Константин медленно и очень осторожно снял с мизинца правой руки маленький перстенек и молча протянул его другу.
— Это что? — не понял воевода.
— Она подарила, перед тем как… ну, тонула. Там на внутренней стороне надпись выгравирована — прочти и все поймешь.
Вячеслав долго вертел в руках перстенек, но затем, отчаявшись прочитать, протянул его обратно князю.
— Что-то шрифт уж больно мелковат, — пожаловался он. — Ты лучше сам мне зачти.
— «Ничтоже от любве крепчайше», — медленно произнес Константин, даже не глядя на гравировку.
— Очень поэтично, — туманно заметил воевода. — Если бы еще кто-нибудь перевел, то совсем бы хорошо было.
— Ничего нет крепче любви. Так что у меня все очень серьезно, Слава. Ты даже не представляешь, насколько, — вздохнул Константин и переспросил с тревогой: — С ней и правда все хорошо?
— Да-а, — задумчиво протянул воевода. — Не нравится мне все это, ох как не нравится. Ведь она же — не забывай — жена твоего злейшего врага.
— Так что с нею? — настойчиво переспросил Константин с еще большей тревогой в голосе.
— Господи, да что ж ты так испереживался-то весь. Сказал же я — жива она, жива и здорова, и вообще все в порядке… у нее.
— А у кого не в порядке? — не отставал князь.
— Будто не знаешь, чья она жена, — хмыкнул Вячеслав.
— Он что — умер?! — ахнул Константин.
И не понять, чего в этом возгласе было больше. То ли сожаления, но лишь оттого, что это ее муж и сама его смерть, невзирая ни на что, все равно причинила бы ей определенную боль, то ли — чего уж тут таиться — облегчения, густо настоянного на радости. Скорее, последнего.
Говорят, что грешно радоваться смерти любого человека. Грешно, даже если он самый закоренелый преступник, негодяй и убийца, казненный по приговору суда. А уж если не можешь сдержаться — радуйся не самому этому факту, а тому, что есть еще справедливость на свете, ликуй не оттого, что палач его повесил или голову отрубил, а тому, что правосудие восторжествовало, хоть и с большим запозданием, но это уж как водится. У Фемиды-то повязка на глазах, слепая она, считай, а слепые и ходят медленно, и все свои поступки совершают тоже без спешки.
Понимал все это Константин умом, а вот сердце сдержать не мог. Известное дело, они с разумом испокон веков не в ладах.
— Живой он, гад, — буркнул Вячеслав. — Знал бы я, что ты так его смерти радоваться станешь, я бы его, гадюку, еще под Коломной удавил бы. Да и давить бы не понадобилось, — чуть подумав, добавил он. — Там и всего-то оставалось — не перевязать вовремя.
— А теперь, Слав, представь, каково мне было бы в роли убийцы ее мужа выступать? — поправил его с укором Константин и вздохнул. — Значит, живой, — протянул он с сожалением.
— И живее всех живых, — заметил воевода. — Он еще нас с тобой переживет. К нему уже князья черниговские и новгород-северские в Переяславль зачастили. Чую, не успел оклематься, как опять что-то замышляет.
— Да он и ходит-то, поди, до сих пор еле-еле. Куда ему козни затевать? — вступился справедливости ради за Ярослава Константин.
— Чтоб других на нас натравить, много здоровья не надо, — откликнулся Вячеслав. — А то, что науськивает, так это точно. Только теперь он коалицию сбивает, чтоб всей толпой навалиться, а это верных сто тысяч, если не полтораста.
— Ну, и у нас, если всех собрать, тоже под пятьдесят будет, — возразил князь.
— Знаешь, Костя, — задумчиво произнес воевода. — Я, конечно, в сорок первом в армии не служил. Как да что там было — не знаю. Может, и впрямь деваться было некуда, когда в Подмосковье под немецкие танки десятки тысяч людей необученных клали. Только знаю одно — сейчас у нас не сорок первый год и сопляков деревенских и прочую шелупонь гражданскую с вилами или там с косой в руках я в твое ополчение не призову. Сам не буду, да и тебе не позволю, хоть ты мне и друг. Во всяком случае, пока я у тебя на должности верховного воеводы стою. Я лучше Рязань сдам, — и тут же поправился: — Временно, конечно. То есть мне всякие политические штучки-дрючки до лампочки, хотя здесь, наверное, правильнее будет говорить «до лампады». Словом, коль деваться некуда, лучше буду тактику Кутузова использовать, но народом необученным дыры затыкать не стану. Так что, если тебя что-то не устраивает в моих соображениях, ты сразу скажи, я уволюсь. Деньжат ты мне подкинешь — я их честно заработал, построю где-нибудь возле Оки теремок и буду жить припеваючи. Мне ж много не надо.
— Да чего ты так развыступался-то, — примирительно толкнул друга в бок Константин. — Согласен я во всем. Разве что со сдачей Москвы, то есть Рязани, малость неприятно. Да и то лишь потому, что у местных князей есть дурная привычка. Они, когда к соседу воевать приходят, начинают изгаляться, как свиньи последние. Крестьян в полон забирают, села жгут, скот угоняют. Короче, ведут себя не как русские, а как фашисты какие-нибудь.
— Спасибо за информацию. Обязательно учту.
— Не за что. А кстати, что ты там про Ярослава говорил? Источник-то надежный?
— Куда уж надежнее, — хмыкнул Вячеслав. — Ты обратил внимание, что с тобой Вейки давно нет? Я ее давно к жене, гм, — он кашлянул и смущенно поправился: — К Ростиславе отправил. Это еще до того, как у тебя рецидив случился. Ну, пообщались малость. Деваха она смышленая, сразу поняла, что от нее нужно. А для связи я тоже человечка подобрал, которого как раз в Переяславль отправил, и даже раньше, чем всю эту семейку. Ну, чтоб обжился там, и подозрений не возникало. Да ты его знаешь — Любомир, который и свиданки тебе в свое время с Купавой устраивал, и с Хвощом ты его посылал ума-разума в посольствах разных набираться.
— Я же его в дружину обещал принять, — вздохнул Константин. — Обманул, выходит. Княжеского слова не сдержал.
— Да не обманул, — досадливо поморщился Вячеслав. — Я с ним потолковал и разъяснил, что есть дружина явная и есть тайная. От последней, конечно, видимого почета мало, да и перед девками нечем похвалиться будет. Но зато каждый человек из дружины этой все время у меня да у князя на особом счету будет. А если о пользе для княжества говорить — так тут и вовсе сравнить не с чем. Действуя тайно да еще и с умом, можно врагу столько вреда принести, сколько целой сотне, да что сотне — тысяче не под силу. И потом, если он в обычную дружину вступит, то поначалу рядовым только станет, а сумеет дальше пробиться или нет — никому не известно. А в тайной я его сразу десятником назначил, а там, глядишь, в скором времени и сотником станет.
— Силен ты детей охмурять, — крутанул головой Константин.
— Это ты в порицание или в поощрение? — с подозрением покосился на князя воевода.
— Это я в восторге, — нашел тот подходящий ответ.
— Тогда ладно, — милостиво кивнул Вячеслав и продолжил: — Так вот, эту весточку мне от него как раз перед самым отъездом к тебе доставили. Почему я и хотел с тобой посоветоваться. Дело в том, что черниговские и новгород-северские князья собрались легкий набег устроить в приграничной полосе, только неизвестно в чьей. Где и как все это будет — Любомир толком не узнал, может, даже и не у тебя вовсе, но точно известно, что там, где язычников много. Предлог-то святой — веру христианскую подпереть копьем. — И сплюнул презрительно. — Хреновая вера, если для ее установления меч нужен. Ну да ладно, мне эти поповские штучки-дрючки триста лет в обед. Ты лучше скажи, есть ли у них где-нибудь граница с какими-нибудь дикарями? Ну, скажем, с литовцами там, с латышами, с эстонцами. А то, может, я зря беспокоюсь и понапрасну людей разослал по селам возле Ростиславля, Зарайска, Глебова, короче, по всей нашей западной границе?
— Я даже и не знаю, Слава, — честно сознался Константин.
— Ты историк или где? — возмутился воевода.
— Да в том-то и дело, что историк, а не географ. За Полоцкое княжество точно тебе могу сказать — там граница есть. Более того, прибалты с немецкими рыцарями кусочки из него уже выцарапывают. Ну, там, Кукейнос, Гернике…
— Какие-то нерусские названия, — заметил Вячеслав.
— Какие есть, — развел руками Константин. — Точнее, какие были. Скоро их там переименуют, если уже не поменяли все. Еще я точно знаю, что новгородские земли на западе тоже с Прибалтикой граничат, особенно Изборск и Псков. А ну-ка, подожди.
Он зажмурил глаза и попытался представить перед собой среднюю школу, затем урок истории и себя с указкой в руке. Так, теперь он подходит к карте древнерусских княжеств перед татаро-монгольским нашествием и начинает показывать, как шел Батый. Что брал вначале, в какие степи затем отошел, как ударил по Переяславлю, Киеву, Галичу, Владимиру-Волынскому, далее пошел на Польшу… стоп.
— Нет у прибалтов границы с Черниговом. К северо-западу от них лежат полоцкие земли, ну, может, еще чуть-чуть турово-пинские, хотя точно не скажу. А еще строго на север — там Смоленское княжество.
— Значит, на тебя нацелились, — протянул задумчиво Вячеслав. — Теперь осталось точно выяснить, куда именно бить будут, и дело в шляпе. Любомиру такое не поручишь — опасно. Мальчишка совсем. Так что попасться может запросто, силенок не рассчитав. К тому же, скорее всего, поздно будет. Значит, — заключил он, — будем большие маневры устраивать и по пятку дружинников в каждое село выставлять. Чтоб постоянное дежурство было.
— Подожди-ка, — запротестовал Константин. — Ведь у них есть еще южная граница, с половцами. О ней-то мы не подумали.
— Оно им надо — будить лихо? Тем более что Ярослав совсем недавно их на тебя приглашал, — отмахнулся Вячеслав.
— А если они на Данилу Кобяковича нацелились, на союзника моего?
— Да ты же сам говорил, что он далеко внизу кочует, близ Азовского моря?
— Сурожского, — поправил его князь.
— Один черт, — буркнул воевода. — Я хоть и не историк, но… Русские князья хоть раз на половцев зимой ходили, тем более в такую даль?
— Вроде бы нет, — неуверенно протянул Константин.
— Значит, все ясно, — подвел неутешительный итог Вячеслав. — Пойдут они именно на тебя. Ну что ж, — вздохнул он обреченно. — Будем ждать.
Глава 11 Эдисон Кулибиныч
Счастлив в наш век, кому победа Далась не кровью, а умом, Счастлив, кто точку Архимеда Умел сыскать в себе самом, — Кто, полный бодрого терпенья, Расчет с отвагой совмещал — То сдерживал свои стремленья, То своевременно дерзал. Ф. И. ТютчевМинька встретил обоих друзей с распростертыми объятиями.
— Князь в дом — гость в дом, — безбожно переврал он известную поговорку, — гостеприимно приглашая их в свой обширный двухэтажный дом — бывший княжеский терем, заново отстроенный после прошлогоднего пожара. Теперь он был не только сердцевиной всего Ожска, но и личной резиденцией самого изобретателя.
Константин только кашлянул в ответ, сдерживая улыбку, и лишь поинтересовался:
— Скажи-ка мне…
— Нам, — тут же встрял воевода, снова превратившись в балагура-спецназовца Славку, готового в любой момент подколоть, разыграть и схохмить.
— Пусть нам, — покладисто согласился Константин. — А на кой ляд тебе одному такие замечательные, но огромные хоромы?
— Ну, не век же мне бобылем вековать, — степенно заметил Минька, и Славка тут же начал кусать губы.
Начинать подшучивать с самого порога ему не хотелось, но вопрос так упрямо и очевидно напрашивался на язык, что воевода не выдержал:
— А как насчет женилки? Уже все в порядке?
Миньке не понадобилось подыскивать достойный ответ. Откуда-то из-за угла выпорхнула растрепанная девчонка, на вид лет семнадцати, не больше, и робко осведомилась:
— Так что, Михал Юрьич, все, что ты повелел, я сполнила. Дале-то как?
— Ну, подсобишь гостям дорогим, — солидным, хоть и ломающимся еще баском, произнес Минька и по-хозяйски шлепнул шмыгнувшую мимо него девку чуть пониже спины.
Та смущенно, но в то же время радостно взвизгнула:
— Сызнова вы, Михал Юрьич, за свое.
— И впрямь отросла, — изумился Славка, провожая ее оценивающим взглядом.
— Ну, ты тут не больно глазами зыркай, — заметил ему Минька. — И вообще на чужой рот каравай не разевай.
С пословицами юный изобретатель был явно не в ладах.
— Да нет, куда там моему караваю до твоего, — сокрушенно вздохнул бывший спецназовец и двинулся следом за князем в просторную горницу, полностью заставленную столами различного размера.
Все они были настолько загромождены различными инструментами и непонятными штуковинами, что пустого места ни на одном из них практически не оставалось. На многочисленных полках тоже чего только не было! Да и на полу валялось всего в избытке, включая даже какие-то мешки. Один из них был открыт, и Константин с удивлением заметил, что тот доверху наполнен странной однородной светловатой массой. Подойдя поближе и зачерпнув из него горсточку, князь обнаружил, что держит в руках самые обычные… древесные опилки.
Впрочем, всему этому друзья не особенно удивились. Гораздо больше их поразил так называемый красный угол, где у доброго христианина всегда находилась божница с одной, а чаще с тремя иконами. Так вот у Миньки там расположился целый иконостас аж на семь икон, ярко освещаемых сразу тремя лампадами.
Более того, практически на каждой полке и над каждым столом красовалось еще по иконе. Великомученики, угодники и апостолы мрачно и ревниво взирали со всех сторон на вошедших.
— Восемь, десять, двенадцать… Нет, опять сбился. Сразу видно, что здесь святой человек живет, — благоговейно прошептал Славка. — Ну, прямо тебе храм, а не мастерская. И ты их всех знаешь, Михал Юрьич? — обратился он к улыбающемуся Миньке.
— Конечно, — ответил тот уверенно.
— А вот этот, например, кто? — Воевода-спецназовец ткнул пальцем наугад в какую-то икону, на которой был изображен скорчившийся, чрезвычайно худой полуголый человек, торжествующе ухвативший руками что-то черное с красными точечками.
— Это святой Пеликан, одолевающий беса, — гордо ответил юный изобретатель, хитро улыбаясь.
— А это? — Палец князя уткнулся в икону с изображенным на ней мрачным типом, угрожающе растопырившим пальцы.
— Это великомученик Амфибрахий, одолевший водяного змия.
— Ну а вот тот? — осведомился Славка, указывая на изображение чрезвычайно волосатого мужика, голый торс которого был увешан крест-накрест, будто патронташем, двумя здоровенными цепями.
— Это страстотерпец Абдурахман, терзающий себя за то, что не сдержался и пошел на сделку с сатаной дабы получить некое тайное знание, — во весь голос отрапортовал Минька, уже не сдерживая улыбки.
— Странные какие-то имена у твоих святых, — протянул Славка.
— А это у тебя вообще мастерская или храм? — непонимающе спросил Константин.
— Храм, конечно. Каждый раз, как зайду, сначала триста поклонов отобью, «Отче наш» прочитаю, потом еще пять молитв, благословения у всех попрошу, а уж потом за работу. Чуток потружусь — и опять за молитву с поклонами.
— Помогает? — серьезно спросил князь.
— Еще бы, — гордо вскинул голову Минька. — Боятся сюда бесы лезть. Очень уж тут намоленное все. Ну и опять-таки отец Никодим заходит раз в месяц. Сережка, ой, то есть Сергей Вячеславович, ну, который Иванов, рассказывал, как он во время воскресной проповеди меня другим прихожанам в пример ставил.
— А новые виды оружия ты, разумеется, побоку? — кивнул головой Константин как о чем-то само собой разумеющемся.
— Вот уж хрен вам во всю морду, — заявил Минька. — Ишь чего захотели. Думаете, у меня правда крыша поехала? Да не дождетесь!
— Вот как ныне, оказывается, богоугодный молодняк со старшими разговаривает, — вздохнул сокрушенно Славка.
— Будешь много говорить, так я тебя сейчас вместе с собой на молитву поставлю часика на два, — пригрозил изобретатель грозно.
— Не надо, — перепугался Славка. — К тому же я и словов-то не знаю. Ежели бесы подкрадутся, совсем худо придется мне, несчастному, — пригорюнился он и смахнул несуществующую слезу.
— Не боись, старина. Ко мне приходи. Это ведь раньше народ считал, что я здесь чем-то страшным и темным занимаюсь. Все гадали, то ли я сам колдун, то ли бесов вызываю, а они мне все стряпают. Помнишь, Костя, как Сережка, тьфу, Сергей Вячеславович нечистую силу изгонял из моих мастерских?
— Конечно, помню, — усмехнулся князь.
— Ну и все. С тех пор как отрезало. Я все понял, осознал и обратился к богу. Навешал повсюду кучу икон, каждому святому имя дал.
— А где имена-то брал? — поинтересовался Славка.
— Да из головы, — махнул беззаботно рукой Минька. — Главное, чтоб повычурнее да позаковыристее. Вон там, в стекольной мастерской, у меня, к примеру, Дельфиниус висит. Тебе, Костя, перевести или сам догадаешься?
— Уже, — откликнулся князь.
— А в цеху литейном такая страхолюдина повешена!.. Если бы бесы там и водились, то они бы и впрямь разбежались. Так я его Динозаврусом назвал, — продолжал Минька.
— Подходяще для страшилки, — согласился Славка, облегченно вздохнул и пояснил: — Давно мы с тобой не видались. Вот и решил, что у тебя крыша поехала. Изобретатели, они ж все немного чокнутые, и все по-разному, вот я и подумал, что у тебя тоже чердак малость снесло, — и виновато покаялся: — Ты уж прости меня, Эдисон Кулибиныч.
— Сам дурак, — огрызнулся Минька.
— А на основном-то поприще как дела твои идут? — осведомился Константин.
— Хо-хо, — надменно заявил изобретатель и молча открыл дверь в соседнюю комнату.
Тут было точно такое же обилие святых, столов и полок, но, как ни странно, везде царил относительный порядок, да и вещей на столах было немного.
— Здесь у меня что-то типа зала готовых экспонатов, — пояснил Минька. — А вот вам, — он взял со стола какую-то круглую железную штуковину сантиметров двадцати высотой и примерно столько же в диаметре, — первая русская мина нажимного действия. Срабатывает и как противопехотная, и как противокавалерийская.
— Как понять? — уточнил Константин.
— Смотря на кого поставить. Настраивается в зависимости от необходимости в течение десяти секунд путем добавок нескольких прокладок.
— Кулиба Эдисоныч, я тебя обожаю, — промычал Славка, погрузившись в полный восторг и нирвану блаженства.
— А можно принцип действия уточнить? — поинтересовался Константин. — Особенно меня взрыватель интересует. Ты же как-то говорил, что там нужно чего-то эдакое, чего ты, к сожалению, сейчас не можешь сделать.
— Правильно говорил, — кивнул головой Минька. — Ни диазодинитрофенол, ни тетразен, ни тринитрорезорцинат свинца я сейчас изготовить не смогу, хоть ты тресни. А они нужны все в комплексе. Тогда я сел и задумался.
— Но ведь ты помолился сперва? — уточнил Славка.
— Ну, разумеется, — развел руками Минька. — Без этого мы вообще никуда. По сто поклонов каждой иконе, стоя на коленях, причем обязательно каждый раз лбом об пол. А все равно ни черта не получалось.
— Усердия, наверное, не было настоящего, — предположил Константин. — Не вложил ты душу, чтобы молитва из сердца шла.
— Или головой стукался плохо, — вставил свои три копейки Славка.
— Точно, — подтвердил улыбающийся Минька. — Не вложил. И плохо стукался. Тогда я еще помолился.
— Долго? — уточнил Славка.
— Дня три, а то и четыре. И только на пятый меня осенило.
— Вот что крест животворящий делает, — поучительно поднял палец кверху Константин.
— И молитва святому Динозаврию, — добавил в тон ему воевода.
— Будете перебивать — вообще ничего рассказывать не буду, — заявил Минька.
— Мы все — одно сплошное внимание, — примирительно поднял руки Славка.
— Ну, то-то же, — успокоился изобретатель и продолжил: — Вспомнил я, что есть взрывчатка, которой никакой искры не надо.
— Это что же такое? Почему я не знаю? — удивился воевода, но тут же, вспомнив обещание, быстренько зажал свой рот ладонями.
— А взрывчатка эта называется нитроглицерин, — торжествующе выпалил Минька и победно уставился на своих друзей.
Те с недоумением переглянулись.
— Эдисон Кулибич, я, конечно, всегда перед тобой преклонялся, но ты уж все-таки освети вопрос пояснее, — попросил Славка.
— Да вы что, о нитроглицерине никогда не слыхали? — удивился Минька. — Ну, Славка-то ладно. Чего с безмозглого вояки возьмешь? Но ты, Костя, меня удивляешь.
— Нет, я, конечно, о нем слышал, — осторожно заметил тот. — Но он вроде бы как из нашего века, то есть для его производства заводы нужны, фабрики и прочее. А о том, чтобы его можно было в кустарных условиях состряпать, честно говоря, впервые слышу.
— А-а-а, это потому, что вы всякую ерунду в детстве читали, сказки и прочее, а я — полезную литературу. Так вот, в одной интересной книжке я вычитал, как его изготовить в домашних условиях.
— Справочник любителя-пиротехника? — поинтересовался Славка.
— Неважно, — отмахнулся Минька. — Тут другое здорово. В классе седьмом или восьмом я его уже делал, и все у меня получилось. Правда, дыра в сарае жуткая была потом, но это… ерунда. — Он невольно почесал многострадальное место, которое в основном всегда и расплачивалось за очередное чересчур шумное изобретение.
— Больно было? — сочувственно спросил Славка, от внимания которого Минькин жест отнюдь не ускользнул.
— Бывало больнее, — героически ответил стойкий изобретатель и съязвил в свою очередь: — Но это тогда было, а сейчас вы меня туда целовать должны. Дадите рассказать-то до конца?
— Слава, усохни, — сурово повелел Константин.
Воевода вновь прижал обе руки ко рту, всем своим видом изображая абсолютное смирение и внимание.
— Вот так и держи, — распорядился Минька. — Короче говоря, изготовить нитроглицерин очень легко. Надо только смешать азотную кислоту с глицерином. Я бы намучился, если бы не знал точных пропорций, но я-то уже его делал, так что это пустяк.
— Погоди, погоди, Миня. А компоненты ты как добыл? Их же в природе не бывает, насколько я знаю, — не понял Константин.
— Строго по книжке, — заявил изобретатель. — Во-первых, взял серный колчедан, то есть пирит. Из него выделил сернистое соединение железа, а по-простому если, то железный купорос. Для этого создаются такие же условия, как и для плавки железа. На обычную поленницу дров кладут железный колчедан, а сверху тоненько — серный. Как только оно все загорелось, накидывают еще несколько слоев.
— Тоже серого колчедана? — уточнил Славка.
Ерничать он уже перестал. До шуток ли, когда прямо на его глазах рождается процесс изобретения, изготовления и т. д. и т. п.
— Ну, разумеется, — подтвердил Минька. — Потом всю кучу засыпаешь землей, закладываешь дерном и все. Только несколько дырок надо сделать, чтобы тлеть продолжало. Вот так оно у меня десять суток и дымилось.
— А зачем? — не понял Константин.
— Ну, это же элементарно, Костя. — Минька посмотрел на князя с укоризной, как на маленького несмышленого ребенка. — За это время колчедан превратится сначала в сернистое железо, а потом в железный купорос. Пока он пережигался, я занялся изготовлением глицерина, чтобы зря время не терять. Он вообще проще простого делается. Берешь свежее сало и обрабатываешь его известью или содой. Жидкое выпариваешь в водяной бане до загустения — это и будет глицерин.
— Совсем без разницы, что ли, чем обрабатывать? — усомнился Константин.
— Конечно, есть разница. Если известкой, то в остатке будет нерастворимое мыло, а если содой, то обычное. Так что я тебе заодно и мыло сварганил, княже. — Изобретатель гордо подбоченился и кивнул на дальний стол в углу комнаты, на котором одиноко лежали несколько катышков чего-то темного.
Славка подошел, осторожно взял один из них в руки, понюхал и сморщился.
— Не туалетное, — брезгливо заметил он.
— Ну и сволочь же ты, вояка косопузый, — в сердцах заявил изобретатель, оскорбленный в своих самых лучших чувствах, а потом сердито надулся и замолчал.
— Миня, тебе цены нет, — проникновенно произнес Константин, исподтишка показывая воеводе кулак.
Он обнял юного друга и бережно поцеловал его несколько раз в обе щеки.
— А сало-то загубил, загубил. Ох, хохлы бы увидали, они б тебя за такое кощунство самого на сало распустили. Ломтями бы настругали и даже солить не стали, — раздалось ворчливое брюзжание из угла, которое вдруг резко сменилось жалобной просьбой: — Кулиба Эдисоныч, прости дурака зеленого и глупого. Ну, вояка я тупой, и шутки у меня дурацкие. Но я ж не виноват, что меня в училище четыре года прикладом по голове за двойки лупили.
— И никакого толку, — беззлобно заметил отходчивый Минька.
— Точно, — обрадовался провинившийся воевода. — Потому как все по пословице. Толк из меня вышел, а бестолочь осталась.
— Ладно, — махнул рукой Минька. — Только молчи теперь.
— Все, все, — завопил Славка. — Как рыба об лед.
— Кстати, что касается запаха и цвета, то нужные присадки к нему сделать, чтоб оно ароматным было, — пара пустяков. Если хочешь, Слава, — лукаво улыбнулся изобретатель, — то я мигом этим займусь. Брошу все остальное и через полгода-год у тебя будет шикарно пахнущее мыло.
— Но я уже извинился и все давно осознал. Еще с утра, — уточнил возмущенный столь явной несправедливостью Вячеслав. — Не бей ниже пояса.
— Живи, — великодушно хмыкнул Минька и продолжил: — Короче говоря, глицерин я выделил. А дальше совсем просто, только нужна азотная селитра. Она часто встречается, так что проблем с ней у меня не было. Ее надо обработать серной кислотой, и тогда получится азотная кислота.
— А нитроглицерин как же? — возмутился Славка, упорно державшийся до победного конца, то есть до окончания Минькиного рассказа.
— Так я уже сказал. Соблюдая нужные пропорции, очень осторожно подливаешь глицерин к азотной кислоте — и результат налицо. — Изобретатель горделиво взмахнул рукой, указывая на среднюю полку.
На ней красовалась стеклянная бутыль литра на два, почти доверху наполненная желтоватой жидкостью.
— Это про нее написано, что перед употреблением надо взбалтывать? — поинтересовался Славка, подходя к бутыли и протягивая к ней руку.
Взять ее он не успел. Подскочивший Минька проворно оттолкнул его в сторону с такой силой, что воевода отлетел в противоположный угол.
— Идиот! — заорал побледневший изобретатель на Славку, который, оставаясь лежать, изумленно взирал снизу вверх на разбушевавшегося друга. — Придурок! Ты бы лучше сигарету в бочку с порохом кинул! И то больше шансов было б, чтоб выжить! На себя наплевать, так хоть о Косте подумал бы!
— Миня, я же осторожно хотел, — виновато произнес Славка.
— Осторожно, — передразнил изобретатель. — Она же от малейшего толчка взорваться может, а мощность у нитроглицерина в десять раз больше, чем у пороха. От такого количества весь терем мой на воздух взлетит сразу. Я же ее когда смешивал, вообще из дома вышел и даже со двора всех разогнал. В одиночку лил, чтоб если что, так я один.
— Ты герой, Миня, — заявил Константин и, небрежно кивнув в сторону Славки, заметил: — А ему на будущее урок. Если не поймет, то процедуру повторим. Только ты в следующий раз дрын какой-нибудь возьми, да потяжелее. Кстати, — он заговорщически приобнял начавшего постепенно успокаиваться изобретателя и уточнил: — А какие пропорции, если не секрет?
— Нужные, — буркнул Минька, но потом, сменив гнев на милость, встав на цыпочки, что-то прошептал на ухо князю[66].
— Развели тут тайны мадридского двора, — кряхтя, поднялся на ноги Славка, но Минька даже глазом не повел в его сторону, предложив уже почти спокойно и изменив своим демократическим привычкам:
— А пойдем-ка, княже, трапезничать, в смысле ужинать. Соловья баснями не кормят. — И они пошли в противоположную половину дома, где гостей уже ждал богато накрытый стол.
— Так соловей-то — это я, — возмутился спецназовец, ковыляя следом за своими друзьями и ворча на ходу: — Вот и катайся по таким друзьям!.. Отлупят до полусмерти и даже куска хлеба не дадут.
После ужина Минька рассказал до конца историю работы с миной. По его словам, после того, как он изготовил нитроглицерин, все остальное и яйца выеденного не стоило.
Достаточно было погрузить любое вещество, содержащее клетчатку, например кусок льняной ткани, минут на пятнадцать-двадцать в раствор дымящейся азотной кислоты — и нате вам, пожалуйста. Правда, дымящейся[67] Минька не имел, но он заменил ее смесью обыкновенной азотной кислоты и концентрированной серной. После этого клетчатка была извлечена, хорошенечко промыта в воде и высушена.
Полученный таким образом пироксилин имел главное и весьма существенное преимущество перед черным или дымным порохом — он не боялся сырости. Плюс к этому он, по сравнению с порохом, был в четыре раза более мощным и почти не оставлял нагара.
— Но для пушек все равно лучше применять порох, — заметил Минька.
— Ты же сказал, что и без нагара, и мощнее намного? — удивился Константин. — Тогда в чем дело?
— Слишком быстро воспламеняется, а вспыхивает неравномерно. Всегда есть опасность, что он просто разорвет орудийный ствол. А вот мины — дело другое. Там он как раз и должен все разорвать.
— Ну а какой принцип-то у этих мин? — отважился наконец обратиться с вопросом Славка, которого снедало любопытство. — Я больше не буду, — добавил он жалобно. — Мир, а?
Минька посопел слегка, выдерживая паузу для приличия, но затем улыбнулся.
— Ладно, мир. А принцип самый простой. При отливке болванки делается углубление на дне. Потом я изготовил в стекольной мастерской под размер выемки точно такую же маленькую посудинку граммов на двадцать-тридцать, не больше. Туда доверху налил нитроглицерин, после чего запаял верхушку, пока стекло горячее, ну и воском для надежности хорошо залепил. Потом ее закладываешь в это углубление на дне железной болванки, но только в самый последний момент. Все остальное — это пироксилин. Для самой мины отливаешь или просто вырезаешь из дерева колышек, чтобы идеально входил в верхнюю дырку и чуток вылезал из нее. Сантиметра на три вполне хватит. Вкапываешь саму мину в землю. На всякий случай делаешь две-три прокладки между штырем и стеклянной посудиной, чтобы заряд раньше времени не сдетонировал. Человек идет, наступает ступней на колышек, тот раскалывает стекло. От удара нитроглицерин взрывается, а уже от его взрыва, в свою очередь, детонирует пироксилин. Дальше-то рассказывать? — спокойно осведомился он у Славки.
— А чего дальше? — удивился тот.
— Значит, и этого не знаешь, — вздохнул Минька. — Тогда специально для тебя, — и продолжил: — В результате взрыва железную болванку разрывает в клочья, и, разлетаясь, осколки причиняют множественные рваные раны, которые трудно залечиваются, а попадая в отдельные, наиболее важные жизненные органы человека или животного, приводят к смертельному исходу. В результате многочисленных…
— Спасибо, Миня, дальше я как-нибудь сам, — поспешил перебить его Славка, поняв, что тот над ним попросту издевается.
— А разберешься самостоятельно-то? — с подозрением уставился на него изобретатель.
— Приложу все усилия, Михаил Эдисоныч, — кротко заверил Миньку Славка и поинтересовался: — Ты лучше скажи, много ли таких мин заготовлено?
— Если полностью, чтобы осталось только в землю вкопать, то только одна, — вздохнув, честно ответил изобретатель. — Даже сам еще не бабахал, все вас ждал. Успел лишь нитроглицерин отдельно опробовать. Болванок еще девять штук готово. Стеклянных посудин тоже столько же, но пустых. С пироксилином плохо — самое большее, на две хватит. Кислота кончилась. Надо было нитроглицерина поменьше делать, — посетовал он. — А я, дурак, дорвался.
Славка, против обыкновения, сидел молча, даже не пытаясь как-то съязвить насчет столь малого количества готовых мин. Более того, поразмышляв о чем-то с минуту, он очень серьезным тоном обратился к изобретателю:
— Миша, если ты гикнешься в результате нелепой случайности, то имей в виду, что у нас с Костей Кулибиных больше нет, и это будет такая потеря, что лучше мне конную тысячу потерять или две-три, чем тебя одного. Этих-то я и новых наберу да обучу. Ну, будут чуть похуже, чем ветераны, и все. А если ты взорвешься, то такого спеца мы уже никогда не найдем. Поэтому дай нам с князем слово, что последней стадией приготовления нитроглицерина ты никогда больше сам заниматься не станешь.
— Чтобы кто-то вместо меня погиб?! — возмутился Минька. — Тот же Иванов, к примеру?!
— Только так, — подключился к просьбе своего воеводы Константин. — Именно вместо тебя. И без скандалов, пожалуйста. Ты просто подсчитай. Другой взорвался — ты остался жить. Сколько потеряно? Одна единица. Да, жаль, да, это тоже человек, но один. Взорвался ты — и мы столько всего недополучим, что в результате потеряем на несколько тысяч жизней больше. Это как минимум. В максимуме тут и вовсе десятками тысяч пахнет. Что дороже — одна жизнь или эти десятки тысяч, которые останутся на этом свете при том обязательном условии, что на нем останешься ты, а? Что же касаемо твоего Сергея Вячеславовича, то и его жизнь слишком ценна, раз он у тебя такой талантище. Так что пусть это будет действительно хорошо обученная, но простая рабочая единица.
— Чтобы отряд не заметил потери бойца, — добавил Славка.
— Ну, я и не знаю, что тут сказать, — протянул Минька задумчиво. — Но все равно, по-моему, это нечестно, если вы поставите другого. Он же смертником будет, он же…
— Во-первых, если он все станет делать правильно, то выживет. Это раз, — перебил его Константин. — Кроме того, ты сам разработаешь дополнительные меры, обеспечивающие его безопасность, — это два. В-третьих, десять тысяч жизней — не кот начхал. А в-четвертых, оно же в-пятых, в-шестых и так далее, в том числе и в-последних, ты — наш друг, и мы очень не хотели бы присутствовать на твоих торжественных похоронах.
— Вообще-то, Костя, это как раз во-первых, если уж так разбираться, — внес дополнение Славка.
— Ну, я просто специально оставил его напоследок, чтобы разговор был спокойнее, убедительнее, а аргументы звучали повесомее, — пояснил Константин. — Друг — это все-таки из области эмоций и нежных чуйств. Кстати, Миня, а неужели нельзя придумать какую-нибудь менее опасную взрывчатку?
— Менее опасную, — задумчиво протянул Минька. — В принципе, это возможно. Ты у меня там мешки с опилками видел?
— Видел, и еще удивился — зачем они тебе.
— ДВП будет делать, а потом на ДСП перейдет, — вмешался Вячеслав.
— Интересно, все вояки такие дураки, или некоторые из них еще ничего? — задумчиво протянул Минька. — Может, ты мне скажешь, великий и могучий воевода, за каким чертом я буду пытаться делать древесно-волокнистую или древесно-стружечную плиту, если у нас здесь в округе леса немерено?
— Я что-то про лес не подумал, — сконфузился Славка, но тут же нашелся: — А если из спортивного любопытства? Может, это твое хобби? Почему ты не можешь иметь хобби, скажи на милость?
— Мое хобби — это взрывчатка, — пояснил изобретатель. — Так что в общем-то ты прав. Как раз для этого я их и натаскал сюда.
— Взрывчатые опилки, — благоговейно прошептал воевода. — Круче них может быть только стреляющий унитаз.
— Клинический идиот без надежды на выздоровление, — поставил изобретатель диагноз своему другу. — Я динамит хочу сделать.
— Из опилок, — настала пора удивления для князя.
— Дело в том, что они, вместе с нитроглицерином, входят в смесь, из которой изготавливается динамит, — пояснил Минька и, повернувшись к Славке, осведомился: — Ты хоть знаешь, сколько бывает сортов динамита?
— Ну, разумеется, — гордо выпрямился на своем месте воевода. — Тот, что взрывается — это раз. И… тот, что бракованный, — это два. Еще?
— Попробуй, — предложил изобретатель, не в силах сдерживать улыбку от столь глубочайших познаний своего друга.
— Значит, так. Тот, что взрывается, делится на сорта. Первый — это тот, который взрывается здорово и громко. Второй не так громко, но все равно здорово. Третий совсем тихо и не совсем здорово. А тот, что бракованный, делится уже на совсем другие сорта. Первый — это который почти взрывается, второй — это тот, который…
— Может, хватит? — уныло спросил Минька, перебив на полуслове.
— Как скажешь, — не стал возражать воевода.
— А что — динамит и впрямь разный бывает? — спросил Константин.
— Не то слово. Все зависит от пропорций самой смеси, а их может быть масса. Опять же ингредиенты, которые входят в ее состав. Есть такие, которые просто смысла нет пытаться изготовить. Ну, например, те, куда входит оксалат аммония, или безводный сульфат натрия, или карбонат кальция, или нитрат бария.
— Костя, он сейчас с кем разговаривал? — обратился воевода к князю.
— Ты бы и впрямь как-то попроще, — попросил тот в свою очередь у изобретателя.
— А если совсем просто, то во все без исключения смеси входит нитроглицерин, который уже есть, а в подавляющее большинство — еще и древесные опилки. Остальное, скажем, состоит из крахмала или пироксилина, который мы тоже имеем. Или из нитрата аммония. Ну, это аммиачная селитра, — быстро поправился он, отвечая на молчаливый вопрос обоих друзей. — Но в любом случае обязательно нужно знать необходимые пропорции, а я… Беда в том, что конкретно в этот вопрос я никогда детально не вникал. Ни когда учился, ни когда в своем НИИ работал. Не моя эта тема.
— А если составить неправильную пропорцию, то что тогда? — осведомился Константин.
— В лучшем случае смесь просто не взорвется.
— А в худшем? — посерьезнел Славка.
— В худшем… Вообще-то нарушение пропорций всегда неизбежно ведет к неполному сгоранию в момент взрыва, — пояснил Минька. — Если же брать самый плохой вариант, то к нестабильности самой смеси.
— То есть бабахнет в любой момент, — констатировал Славка.
— Вывод примитивен, как и ты сам, — поморщился изобретатель. — Но вообще-то можно сказать и так, — сознался он.
— Тогда хрен редьки не слаще, — пришел к заключению Константин. — Что нитроглицерин может рвануть, что твои смеси адские. Ты с этим тоже завязывай. И потом, не верю я, что порохом, динамитом и нитроглицерином ограничен весь ассортимент взрывчатки. Неужели больше ничего нет?
— Куча, — мрачно отозвался Минька. — Огромная куча.
— Тол, например, — подсказал, покопавшись в памяти, воевода. — Мне с ним общаться доводилось, хоть и нечасто. Очень надежная штука. Я бы даже сказал — флегматичная взрывчатка. Ему даже на искру наплевать или на огонь. Хочешь — три его, хочешь — на пол кидай, хочешь — прострели насквозь. Все равно ничего не будет. Очень безопасен. Опять же нарезать можно на какие угодно куски. Надо килограмм — запросто, нужно два — без проблем, кусочек оттяпать грамм на сто — легко и непринужденно.
Константин вопросительно уставился на изобретателя.
— Это так, — с неохотой сказал тот. — Только это все замечательно, когда он уже готов. А ты, Слава, знаешь способ его приготовления?
— Забыл, — честно сознался воевода.
— Отвечаю, — вздохнул Минька. — Нужно приготовить смесь соляной кислоты, азотной и воды.
— Отлично! — возрадовался Вячеслав, но несколько преждевременно, поскольку был бесцеремонно перебит изобретателем:
— Затем эта смесь аккуратно, в пропорции примерно пять к двум, вливается в толуол. Потом она нагревается до растворения этого толуола, и получается монотолуол. Далее… Словом, чего там рассказывать, когда толуола у меня нет, а делать его я просто замучаюсь. И, между прочим, ты же сам сказал, что он очень флегматичный. Значит, ему тоже нужно что? Правильно, детонатор.
— А из детонаторов только нитроглицерин? — осторожно спросил князь.
— Да почему только он, — вздохнул Минька. — Беда в том, что у меня нет нужных ингредиентов. При их наличии можно было бы запросто изготовить, скажем, гремучую ртуть.
— Так вместо того, чтобы мед тут квасить с нами, ты возьми и изготовь! — возмутился воевода.
— Ртуть саму давай, и я тебе через неделю гремучку сотворю, — не стал спорить Минька.
— С ртутью любой дурак изготовит, — назидательно заметил Славка, ничуть не растерявшись. — А вот без ртути гремучую ртуть состряпать…
— Только она при этом будет называться как-нибудь иначе и никогда не взорвется, — парировал юный Эдисон.
— А взрывчатка, действующая совсем без детонатора? — уточнил Константин.
— Порох, — сказал, как отрезал, Минька. — Можно еще одну вещицу состряпать, которая, правда, не совсем взрывчатка, но очень надежная и качественная. Вот только тебе, Костя, для этого нужно будет срочно налаживать контакты с Кавказом. Или на север катить, в Тюмень.
Глава 12 Южная сфера интересов, или Украинский Крым
И разные века, что братья-исполины, Различны участью, но в замыслах близки, По разному пути идут к мечте единой, И пламенем одним горят их маяки. В. Гюго— Так я и думал, — вздохнул Славка и произнес почти обличительно: — Снова Чечня на горизонте маячит.
— Можно и Азербайджан, — пожал плечами изобретатель. — Только кататься намного дальше.
— Ты имеешь в виду нефть, Миня? — уточнил Константин.
— Ее, родимую. Из нее и бензин, и керосин, и мазут — все что угодно можно добыть. А на основе того же бензина наделать бутылок с горючей смесью.
— Хорошо, что отец Николай сейчас рядом с нами не сидит, — вспомнил неожиданно Славка. — Если бы он услыхал, как мы тут вооружение придумываем, которое только в двадцатом веке применялось, — ох и задал бы нам жару.
— Нынче не задал бы, — уверенно заявил Константин.
— Ты уверен? — усомнился воевода.
— Почти на все сто, — кивнул князь.
Он припомнил, как перед самым своим отъездом отец Николай, улучив время, чтобы остаться наедине с князем, снова поднял тему потенциальной опасности такой форсированной гонки вооружений.
— Неужели ты и впрямь считаешь, отче, что все, запускаемое в производство нашим Эдисоном, на самом деле принципиально новое? — осведомился он у священника.
— Знаю, что ты мне скажешь, — сурово проворчал тот. — Дескать, китайцы тот же порох изобрели еще сотни лет назад. Но ведь они его не использовали в войне. А гранаты когда появились бы, если бы не наш Минька? А пушки? И ты думаешь, я не ведаю, что у него там еще на уме. Он ведь скоро и до ружей с пистолетами дотянется. А воевода твой чего творит? Строй твой несокрушимый, поди, лет через пятьсот только использоваться будет, не раньше. А инженерные войска? А его лыжники? Когда они на самом деле появились, а? Про спецназ же его я и вовсе молчу. До него уж точно не меньше восьмисот лет осталось. Да и не только в одном вооружении дело. Опять же трубы всякие подзорные, станки, да мало ли… Княже, дорогой, как же ты не поймешь, что первым делом надобно бы душу возвышать. Она — главное. А Михал Юрьич с Вячеславом Михалычем вместо этого все технику пытаются вперед двигать и того в толк не возьмут, что если душой заняться, то пушки с гранатами и вовсе могут не понадобиться.
Впрочем, ты и сам хорош. Кто неделю назад мыслил, как бы тебе поставки нефти организовать на Рязань? Думаешь, не догадываюсь, зачем она тебе нужна? Не иначе как людей палить. А к чему хорошему все это может привести, ты даже и не пытаешься задуматься. Ну, сам представь, что бы случилось, если бы ядерную бомбу не в двадцатом, а где-нибудь в пятнадцатом веке изобрели?
— А скажи-ка мне, отец Николай, что страшнее: нефть горящая или напалм? — поинтересовался Константин.
— С последним не сталкивался, но раз над его изобретением ученые трудились, а они — пакостники известные, выходит, что напалм.
— Так вот, отче, могу тебя заверить, что он уже существует, — уверенно заявил Константин. — Причем существует не меньше нескольких столетий[68]. Только в нынешнее время его называют «греческий огонь». А что страшнее: граната или ракета, если она боевая, разумеется?
— Неужто наш Михаил Юрьич и до них додумался? — всплеснул испуганно руками священник.
— Пока еще нет, но ты не ответил на вопрос, отче.
— Любому понятно, что ракеты.
— Так вот, отец Николай, довожу до твоего сведения, что пороховые ракеты в боях китайцы стали использовать еще в одиннадцатом веке. Первый трактат, где описывается их действие, датируется 1042 годом, — твердо ответил Константин. — Подумай сам, отче, не граната — ракета. Это я к тому, — пояснил он свою мысль, — что практически все, над чем сейчас работают и Минька, и Славка, уже есть. Я же хочу, чтобы все это было не где-то там, в далеких странах, а у нас на Руси, потому что оно жизненно нужно. Что же до опережения времени, то мы, наоборот, отстаем. Про ракеты с напалмом я тебе уже сказал. Арбалетам, которые он сейчас до ума доводит, тоже две тысячи лет с гаком. Так что Минька лишь в одном-единственном деле немного обогнал всех прочих. Это я о пушках.
— Вот! — торжествующе воскликнул священник. — Я же говорил!
— Но обогнал на такую малость, что об этом смешно и говорить.
— Я хоть и не силен в истории, но то, что у нас на Руси они появились, да и то самые примитивные, лишь при Дмитрии Донском, помню, — не согласился с князем отец Николай и укоризненно покачал головой. — Разве более чем полтораста лет — это малость?
— Так то на Руси, — возразил Константин. — В Китае же до их появления осталось всего сорок лет.
— Ты ничего не путаешь? — удивленно воззрился на своего собеседника священник.
— Ну, если быть очень точным, то сорок один. У них пушки появятся в 1259 году. А ведь к тому времени там по-прежнему будут править монголы. И вот представь себе: порох, боевые ракеты, пушки, и все это в руках тех, кто совсем скоро придет на Русь. А мы? Будем обязательно ждать, чтобы все это в другом месте изобрели, а уж потом с легкой душой себе на вооружение примем? А если нас всех не в прямое прошлое закинули, а в какой-то параллельный мир, где первые образцы пушек уже лет десять-двадцать как известны в том же Китае, то есть и монголам тоже?
— Как-то ты уж больно резко все с ног на голову переставил, — критично поджал губы отец Николай. — По-твоему получается, что мы еще и отстающие.
— Это не по-моему, это по правде. И не я с ног на голову все переставил, отче. Это как раз твои представления о развитии вооружения на голове стояли, а я их в нормальное естественное положение привел. Кстати, отстает не только Минька. Наш великий и могучий воевода действительно создает сейчас принципиально новую армию — это так. Но опять же все познается в сравнении. Это на Руси сейчас такой армии ни у какого другого князя нет. Но на самом деле возраст той же самой фаланги исчисляется даже не столетиями, а тысячелетиями, потому что ее изобрели и применяли еще древние спартанцы, а уж потом, причем полторы тысячи лет назад, этот вид воинского строя довел практически до совершенства знаменитый Александр Македонский. Про лыжников говорить совсем несерьезно, учитывая, что сами лыжи три с половиной тысячелетия назад были известны. Про спецназ ты тоже не прав — слава ниндзя как раз примерно в эти времена и начала греметь по всей Японии. А кому от разделения обязанностей в армии хуже? Между прочим, тот же Чингисхан точно такое же разделение ввел у себя в войсках еще два десятка лет назад. Словом, наш Слава и здесь здорово подотстал. Да и во всем остальном. Взять увеличительные стекла для подзорных труб, которыми Минька занимается. Неужели ты думаешь, что польза от них лишь в военном деле будет?
— В первую очередь именно там.
— Разве что в первую. Но есть ведь и вторая, и третья, и четвертая. Между прочим, у нас и здесь отставание. Ведь возраст плосковыпуклой ошлифованной линзы датируется примерно шестисотыми годами, причем до новой эры. Вот только не на Руси она найдена была, а в Ассирии. И так во всем, что ни возьми. Пресс винтовой наш изобретатель почти закончил? Так его тоже до новой эры изобрели, а сверло еще раньше. Один Архимед сколько всяких полезных вещей создал: тут тебе и водоподъемный винт, и зубчатая передача, и прочие штуковины. А ты думаешь, он один такой умный был? Да ничего подобного. И станок деревообрабатывающий, и часы водяные, и насосы нагнетательные, и подшипники, и даже подъемный кран с блоком — все это еще до рождения Христа появилось. А сколько еще в первом тысячелетии нашей эры прибавилось — о-го-го! На сегодняшний день даже часам механическим и то добрых шестьсот лет. Вот коленвал помоложе — ему где-то четыреста, а то и меньше, но все равно возраст приличный. Дальше продолжать? — сжалился наконец князь над отцом Николаем, который оцепенело застыл на месте, напрочь сраженный информацией, которую щедро выплеснул на него Константин.
— Ну и зачем же нам-то все это приумножать? — прошептал он неуверенно. — И без того всего достаточно.
— А никто и не приумножает, отче. Правильнее сказать, что мы все это собираем. В мире же все, что я перечислил, имеется, а на Руси-то пока многого нет. Разве ж это порядок? Вот мы и исправляем такое безобразие. Короче, по минимуму работаем, не больше.
После этого они со священником еще не раз говорили, но отец Николай даже не пытался поднимать тему вооружения, армии и несвоевременности всяких изобретений. Как отрезало.
— Будь уверен, Слава, что он ничего бы нам не сказал, — еще раз твердо повторил Константин. — А что касается коктейля Молотова[69], — медленно произнес он, — то мне непонятно только одно. Ну, добьемся, к примеру, мы с Вячеславом, чтобы эта нефть к нам на Русь, можно сказать, рекой потекла. Но ведь тебе же, Миня, надо будет целый нефтеперегонный завод строить. Справишься ли?
— Этот завод даже я тебе выстрою, — усмехнулся Славка.
— Ой ли? — хмыкнул недоверчиво изобретатель.
— Вот тебе и ой. Знаешь, Миня, сколько я их в Чечне спалил в свое время? Не сосчитать. Заодно и на работу их тоже досыта нагляделся, а принцип устройства вообще постиг на раз.
— Неужели все так просто? — удивился Константин.
— Более чем, — развеселился воевода. — Если совсем кратко, то это самогонный аппарат. Да-да, со змеевиком и прочими атрибутами. Отличие лишь в том, что вместо браги заливают нефть и начинают самую обычную перегонку. На выходе, разумеется, идет не спирт, а бензин.
— Вообще-то он хоть и примитивно излагает, но правильно, — подтвердил Минька. — Ничего сложного в этой перегонке действительно нет.
— Примитивно, зато доходчиво и понятно, — не остался в долгу воевода. — Не то что некоторые академики.
— Стоп-стоп, — перебил обоих князь. — А зачем же тогда заводы современные и прочее?
— А в каких количествах бензин нужен? В этом-то все и дело. Разве на самогонном аппарате можно столько выгнать? Только для одного джипа, если весь день на нем разъезжать, и то несколько сот литров требуется, — пояснил Минька.
— Ну и качество опять же, — добавил воевода. — У нас там сплошь и рядом этот самопальный бензин задешево продавали, только никто его не брал, если, конечно, машину жалел, потому что семьдесят шестой у них на самом деле был где-то как водка, то есть сороковой. А если уверяют, что чистейший девяносто второй тебе продают, то считай, что пятидесятый.
— А такие разве бывают? — удивился Минька.
— Разумеется, нет. Машину ими заправлять, все равно что докторской колбасой питаться, которая до этого неделю на солнышке полежала. Опять же степень очистки. Там же смол остается раз в двадцать выше нормы. Сразу все забьется. Но здесь он нам только для бутылок с горючкой нужен, так что на смолы плевать, а уж на октановое число тем более. Лишь бы горело, и ладно. Так что самогонный аппарат подойдет.
— Стало быть, Чечня, Азербайджан или Тюмень, — задумчиво произнес князь и почти мгновенно сделал вывод: — Тогда только Чечня. Тюмень вообще отпадает и даже рассмотрению не подлежит — там нефть намного глубже под землей находится, а у нас ни оборудования нужного нет, ни всякого прочего. Зато на Кавказе она, можно сказать, прямо из земли сочится. Бери — не хочу. Но до Баку ехать намного дольше, и опять-таки проблемы, думается, с правительством тех мест могут возникнуть. Словом, тоже отпадает.
— Ну, нет мне покою, — сокрушенно вздохнул Вячеслав. — Уж я и на семьсот лет назад залез, только чтоб туда больше не ездить, ан нет — и тут меня достали. А ведь говорил себе сколько раз — в Моздок я больше не ездок. Оказывается…
— Значит, это твоя судьба, — развел руками князь. — Хотя я считаю, что ты, Слава, напрасно сокрушаешься. Тем более что народы, живущие именно на Северном Кавказе, — сплошные дикари и особой опасности не составляют. Там сейчас единственная реальная и могучая сила — это аланы, между прочим, уже частично принявшие христианство.
— Аланы — это…
— Это предки нынешних осетин. Здесь, на Руси, их называют ясами. Народ весьма приличный: и слово свое держит всегда, и о чести воинской им не понаслышке известно. К тому же нам с ними все равно так и так надо договариваться, чтобы все возможные попытки войск Чингисхана выйти на Русь через Кавказ были наглухо заблокированы. То есть это наши потенциальные союзники. И тебе, дорогой мой воевода, еще придется муштровать и приучать к строю их лихую и достаточно стойкую, не в пример половцам, но очень уж недисциплинированную конницу, которая сейчас дает прикурить кому угодно на всем Восточном Кавказе.
— А чеченцы и прочие? — не унимался Славка.
— Ну, я же сказал. Сейчас они представляют собой исключительно племена дикарей. Никакой опасности для нас. Ты сам подумай. Если уж этих папуасов аланы вовсю гоняют, то нам-то какая от них угроза может быть? Из крупных городов в тех краях только Дербент расположен.
— Знаю я его, — не преминул похвалиться своей осведомленностью Славка. — Райцентр в Дагестане.
— Это он в той нашей истории не больше чем райцентр. А сейчас это пока что самый могучий город-крепость, потому что стоит на пути единственного удобного прохода из Закавказья на Северный Кавказ. Его еще Сасаниды основали.
— Сосу… кто? — встрепенулся воевода.
— Проще говоря — персы, — пояснил спокойно Константин. — Лет за четыреста до нашей эры он был северной границей их владений. Между прочим, у него даже первоначальное название персидское: Дарбанд.
— Ну, это даже я переведу, — заулыбался Славка. — Подарок бандитам. Вот только какой именно — непонятно.
— Почти угадал, — улыбнулся князь. — Узел дорог.
— Да, это я ошибся, — самокритично сознался воевода. — Хотя совсем на чуть-чуть.
— Через тысячу лет персы его здорово отстроили, отгрохав две длиннющие стены — южную и северную, — продолжил Константин. — Они берут свое начало от цитадели и тянутся параллельно друг другу на восток до самого Каспийского моря и даже углубляются в него, образуя очень удобную гавань. Чуть позже персы соорудили Дагбары, то есть Горную стену. Она ныне уходит на запад до самых гор, чтобы крепость невозможно было обойти по долинам и перевалам. Вообще-то правильнее было бы назвать ее на вашем военном языке чем-то вроде укрепрайона. Сам посуди — длина сорок километров. К тому же выглядит все это не как единая стена, а скорее как сложная система, то есть целый комплекс оборонительных сооружений. Словом, миновать этот город попросту нельзя. Разве что в одиночку, имея хороший набор юного альпиниста и навыки скалолазания.
— Слушай, Костя, так ведь этот город надо просто немедленно брать, — задумчиво произнес Вячеслав, и хищный огонек загорелся в глазах воеводы. — Это же какой форпост у Руси на юге будет — сказка да и только. Перефразируя занюханных американцев, можно сказать, что он уже давно попал в сферу рязанских интересов. Там сейчас кто сидит?
— Он частенько переходил из рук в руки, так что я даже затрудняюсь ответить точно, — виновато вздохнул князь. — Помню, что от Ирана он перешел к хазарам, но был у них недолго. От хазар перекочевал к арабам.
— Они-то каким боком к нашему российскому Дагестану? — подал возмущенный голос Минька, до этого внимательно слушавший князя.
— Это было в седьмом веке нашей эры, — пояснил Константин. — Арабы как раз начали свое стремительное расширение.
— Надеюсь, что это продолжалось не слишком долго, — проворчал воевода.
— Лет пятьсот. Из них три века, не меньше, Дербент вообще был резиденцией наместника халифа на Кавказе.
— Получается, что они там все мусульмане, — тут же сделал вывод Вячеслав. — Это плохо.
— Они действительно почти все исповедуют ислам, — подтвердил князь, но тут же успокоил своего воинственного друга: — Впрочем, это ерунда. Когда город тесно завязан на купцов — а Дербент все эти годы был не просто центром морской торговли, а и вовсе главным портом на Каспии, — то жители со временем начинают смотреть на веру как на что-то второстепенное. Вырабатывается принцип — верь во что хочешь, только плати налоги, пошлины и вообще дай городу как можно больше заработать на тебе. К тому же Арабский халифат давно развалился. Одно время, где-то в десятом веке, Дербент вообще был самостоятельным и независимым эмиратством, ну, что-то типа той же Волжской Булгарии, но это длилось недолго — лет сто. В одиннадцатом веке город взяли турки-сельджуки. А вот удержались ли они в нем до наших дней — не помню. Да и какая разница.
— То есть как?! — немедленно возмутился Вячеслав. — Как верховный воевода, я считаю, что просто необходимо выяснить все подробности, касающиеся этого чудесного города.
— Боюсь, что мы не успеем, — вздохнул Константин. — Тумены Чингисхана придут туда намного раньше.
— И что, мы никак не сможем помочь отбиться?
— А мы поступим хитрее, — прищурился князь. — Монголы же только пройдут через него, не захватывая.
— То есть как? — возмутился Славка. — Сам сказал, что Дербент неприступен, а теперь говоришь, что они вот так запросто через него протопают. Накладка получается.
— Никакой накладки. Они пройдут только потому, что сумеют захватить заложников. По сути, их сами дербентские старейшины проведут. Так вот, пусть жители сперва воочию на собственной шкуре узнают, что такое монголы, насколько они подлы и коварны, а уж потом придем мы — как заступники, ну и как потенциальные союзники.
— А они знают о том, что мы их назначили своими союзниками? — поинтересовался воевода.
— Даже не догадываются… пока, — улыбнулся Константин. — Равно как и аланы. Но как только к нам придут первые переселенцы из Франции и мы создадим в устье Дона свой город…
— Как символ российско-французской дружбы, — уточнил Вячеслав.
— Скорее как опорную базу на юге. Первую, но далеко не последнюю. Там еще и древняя Тмутаракань имеется, а в Крыму — Корсунь и Сурож или, как его еще называют, Судак…
— Крым в составе Рязанской Руси, — задумчиво произнес Вячеслав и посоветовал: — Ты только на Украине об этом не заикайся, а то Киев очень неадекватно все это воспримет.
— Еще раз тебе напоминаю, Слава, что Киев и есть центр нынешней Руси и будет им оставаться, ну, во всяком случае, до прихода Батыя точно. Украина же — это как раз наши земли, то есть Рязань, Муром и так далее. Название-то происходит от слова «край», то есть Украина и есть то, что лежит у края русских земель. Считай, что мы как раз восстановим историческую справедливость, присоединив Крым к украинской Рязанской Руси.
— Эва, как ты загнул, княже, — восхищенно покрутил головой воевода. — Вот только одно непонятно: мы что же — хохлы с тобой получаемся? А если я русским желаю оставаться, тогда как?
— Ну и оставайся, — усмехнулся Константин добродушно. — Чтоб ты знал — сейчас вообще нет такого различия. Одна у нас народность — славяне. Одной она и останется, пока страна едина.
— А удержим мы это единство?
— Тут тебе, пожалуй, точно никто не ответит, — грустно заметил князь. — Остается только Марка Аврелия процитировать: «Делай, что должно, и пусть будет, что будет».
Минька внимательно поглядел на обоих, поднял свой кубок с медом и с чувством произнес:
— За это и выпить не грех.
— За что именно? — поинтересовался Славка.
— Да чего тут непонятного. За то, чтоб мы все правильно сделали, — улыбнулся Минька.
— Коротко так, но со вкусом, — одобрил тост Славка, сумев и здесь оставить за собой последнее слово.
Пировали друзья долго, никуда не торопясь, и потому спать легли, когда уже пропели первые петухи, но выспаться им толком не дали. Едва рассвело, как в ворота терема усиленно забарабанил измученный гонец, не соскочивший, а, скорее, сползший с взмыленной лошади.
— Беда, княже, — доложил он, с трудом шевеля замерзшими губами и из последних усилий тараща красные от недосыпа глаза. — Черниговцы Дон перешли. Ныне селище Пеньки зорят. Наши, как воевода повелел, по соседям сразу, а меня сюда вот. Насилу добрался.
И с этими словами он, как куль, свалился прямо у порога.
— И что за наказание, — ворчал вполголоса Вячеслав, седлая коня. — Как выпьешь, так наутро обязательно вводную подкидывают. Ну, хоть совсем завязывай.
Однако лошадей, невзирая ни на что, он оседлал быстро, не забыв прихватить и запасных, а на прощанье даже успел ухитриться озорно подмигнуть заспанной девке, ошалевшей от утреннего переполоха.
Глава 13 Кому лучше молиться?
… Провидение предвидит, А не решает ничего за нас! Пред нами две дороги: впереди Ждет нас успех и радость или горе И неудача. Выбираем мы… Е. РостопчинаОни вышли рано утром. Снег еще отливал легкой синевой, временами отсвечивая чем-то неприятно желтым. Виной тому была огромная багровая луна, сумрачно глядящая на вытянувшуюся в сторону черного сурового леса длинную цепочку всадников.
Две сотни человек. У каждого — заводная[70] лошадь, к седлу которой приторочен вьюк с небольшой воилочной подстилкой, чтобы можно было улечься на снегу, и прочим нехитрым скарбом, включающим бронь, которую надевать не спешили — рано.
— Подождать бы еще пару седмиц, — буркнул вполголоса один из всадников, едущих впереди, с толстым носом, похожим на грушу.
Когда-то именно за это сходство его так и прозвали — Груша, прилепив имечко на всю жизнь. Он не обижался.
— А почто ждать-то? — поинтересовался у него совсем молодой дружинник, который держался почти рядом со своим опытным товарищем, уступая ему всего на какую-то четверть конного корпуса, да и то из уважения.
— Видал, луна-то какая? — проворчал Груша.
— И что с того? Нам же ехать лучше, раз все видно, — не понял молодой.
— Вот-вот. У тебя что имечко Спех, что сам ты — торопыга. А жизни не знаешь. Такая луна добра не сулит. При ней только ведьмам хорошо на шабаше крутиться да колдунам где-нибудь на перекрестке дорог черную ворожбу творить. А для воев вроде нас иное надобно.
— Ты, дядька Груша, о другом помысли, — возразил Спех. — Все равно мы только к утру подоспеем к селищу-то. Так что светит сейчас луна али нет — все едино.
— Вот дурень, — сплюнул в сердцах Груша. — Говорю же, несчастье она сулит.
— А может, не нам, а совсем наоборот — тем язычникам треклятым. Светлые ангелы-то все с нами — и помогут, и заступятся, ежели что. Да и заступаться, почитай, не придется. У них всего дворов с полета, как нам сказывали. Пусть даже по три мужика в каждом дворе, не менее, и то нас больше выходит. А мы ведь на конях, при мечах, при копьях, да тул со стрелами за спиной, — рассудительно заметил Спех. — Только вот как-то неладно в том селище получилось. Сказывали — язычники, язычники. Значит, надобно было крест на них надеть и все. А мы — аки тати. Налетели, пожгли, порубили, в полон взяли. Почему так?
— А это уж и вовсе на твоего ума дело, паря, — засопел недовольно пожилой и украдкой оглянулся по сторонам. — И чтоб я таких речей от тебя впредь не слыхал. То князьям нашим решать, а не нам с тобой. К тому же говорили нам, что ныне точно крестить будем.
Дело и впрямь обещало быть несложным. Всего-то и требовалось пинками загнать закостенелых в смертном грехе язычников в церковь, заставить окреститься, ну и малость пограбить, не без того.
Смущало Грушу только одно. Если бы это было селище своих князей, черниговских, а то оно стояло уже по другую сторону Дона, на рязанской земле.
Конечно, любой правитель своему соседу в таком богоугодном деле всегда готов подсобить, но и тут неувязочка получалась. Ни к кому из тех молодых князей, которые сейчас шли наводить порядок на чужой земле, рязанский князь Константин за помощью не обращался. Тогда выходило, что они идут просто в воровской набег, как тати ночные, а это плохо. Рязанцы могут и на копья вздеть.
Дальнейшие размышления Груши прервал негромкий голос самого старшего из князей — Мстислава Глебовича, сына умирающего ныне в Чернигове князя Глеба Святославовича:
— Не забудь уговор, попик, первое слово в обличении язычников за тобой.
Гнусавый голос попика Груша тоже слышал хорошо, но так и не понял, что он бормотал князю. Скорее всего, выражал какие-то опасения или говорил о том, что его попросту не станут слушать, потому что вскоре его перебил князь Мстислав:
— И не бойся ничего. Видишь, какая с нами сила идет. Давай-ка, двигай вперед, да побыстрее, а то уже околица недалече.
Сизые рассветные сумерки неприметно сменил хмурый пасмурный день. Пелена тяжелых снеговых туч, идущих откуда-то с запада, прочно скрывала солнце, не выпуская его хоть на минуту посветить людям. Лишь изредка там, где имелся небольшой просвет, облака, проплывая на фоне солнца, меняли свой цвет с сизого на розовый и даже багрово-красный. Приметив такое, старый седой Груша еще раз неуютно поежился и подумал: «Не к добру оно».
Естественную границу двух княжеств — Черниговского и Рязанского, которую извилисто очерчивал неширокий в этих местах Дон, они перемахнули уже засветло.
Да, Груша побаивался, но, с другой стороны, если взять тот случай полуторанедельной давности, когда черниговцы ходили зорить селище Пеньки, приметы тоже были недобрые, хоть с полдороги вертайся, но прошло ведь все удачно. Из добычи на долю Груши достался почти новый, хотя и малость куцый овчинный тулупчик, да еще пяток кун, что он нашел под стрехой в одной из убогих хатенок.
В тот раз их тоже вел попик, который уверял, что практически никто из Пеньков в истинного бога не верует, Христа не признает. Так что если даже где кому и встретится икона, то это одна видимость.
Правда, окрестить так никого и не удалось. Лесные бородачи так резво ухватились за топоры, вилы и косы, что, во избежание ненужных жертв среди своих, пришлось тут же брать их всех в мечи. Баб, что помоложе, прихватили с собой, остальных бросили посреди пепелища, но крестить почему-то никого не стали.
После Груша мельком глянул на полонянок и вновь ничего не понял. У тех, что понуро брели, связанные одной веревкой, поминутно спотыкаясь и падая, почти у каждой был на груди дешевенький деревянный или медный крестик.
— Как же так? — ошалело спросил его юный Спех.
Бедного парня долго рвало после первого же увиденного мужика-лесовика с разрубленной головой, лежащего возле собственного дома в луже крови. Правда, кресты на шеях полоненных баб он приметил всего у двоих, Груша-то поглазастее оказался, но ему и того хватило.
— У князей спроси. Им виднее, — буркнул в тот раз старый дружинник, желая отделаться от назойливого юнца, а тот, дурень, и впрямь рад стараться, чуть было не пошел спрашивать.
Хорошо, что Груша вовремя сумел его удержать при себе.
Жалко парня. Они ведь с одного селища родом, и даже хаты у них поблизости друг от дружки стояли. Возраст вот только. Но отца Спеха — своего погодка, старый дружинник хорошо знал. Да и мать его, которую, можно сказать, чуть ли не на коленях Груша нянчил, тоже ему неплохо знакома. Только давно уже там не был старый дружинник, забывать стал многое, а Спех в дружине всего третий месяц — всех сельчан помнит.
Взяли его в дружину за необычайную силушку. Крепким оказался деревенский бугай. Правда, толком пока еще не обучен ничему, но это дело поправимое. Главное, что желание у парня имеется, да и сноровкой небеса его не обидели. А обучить ратному ремеслу Груша своего земляка еще успеет. Чай, не последний день они на белом свете живут. Вот только луна уж больно зарделась. Не к добру.
Ныне они шли в Залесье. Прозывалось селище так потому, что и впрямь стояло не у самого Дона, как Пеньки, а за небольшим леском.
Попик рассказывал Груше, что само село богатое, но народ в нем больно темный да невежественный. На игрищах бесовских обряды языческие правят, березки завивают. Летом на Купалу через огонь прыгают, ему же дары приносят, как бога почитают. Иные же и вовсе огню своих покойников придают, пепел потом в сосуды собирают да в курганы зарывают, что испокон веков стоят перед Доном.
Сам попик не продержался на своем приходе и полгода. А все почему? За веру пострадал. Поганых идолищ, в лесу скрываемых, велел изничтожить, а жители отказались. Сам с топором пошел — не пустили.
Хитростью время позднее улучил, когда уже снег выпал, добрался до кумиров их сатанинских, изрубил все и щепу в огне спалил.
А через три дня нехристи осмелились на неслыханное кощунство — молча вынесли все иконы из старенькой церквушки и так же молчком в костер швырнули. А потом взяли его за шиворот и пинками вышвырнули вон из селища, пригрозив, что если сунется он еще раз к ним, то так дешево не отделается.
И пошел он по морозу лютому наг и бос, голодом и жаждой томим, пока добрые люди не подобрали и не приютили его.
И опять сомнения у Груши. Не был попик босым да и нагим тоже, — тулуп у него был на загляденье. А в котомке — он же помнит, сам был в числе тех, кто для молодого князя Гавриила Мстиславовича дань собирал на полюдье в своих селах, — снеди еще на два дня с лихвой оказалось.
Да и злобен поп больно. Знай одно шипит: жечь, дескать, язычников надобно, выжигать каленым железом нечисть поганую со святой земли. Зачем же так сурово? Разве Христос к такому звал: уверуй в меня, а не то убью, мол?
А еще у него на душе оттого тяжко было, что срубили они в Пеньках пятерых дружинников князя Константина. Ни один из них живым не ушел. Стало быть, скоро жди беды. Тем более что рязанский князь осильнел ныне — всю Владимирскую Русь под себя подмял.
Зачем такого зазря дразнить? Это ведь все равно что медведя в берлоге зимой будить, когда у самого ни рогатины, ни топора. Да что топор — ножа сапожного и то нет.
Задумался Груша и не углядел, как передние вои бросили своих коней в намет. Стало быть, скоро конец лесу. Ну, точно, вон и околица.
И тут отличия от Пеньков не оказалось. Вновь околица перегорожена, и вновь дружинники княжеские пятью копьями ощетинились.
Мало их, пятеро всего, а пощады не просят. Да и то взять — они же своих людишек защищают, за правое дело стоят, а он, Груша, зачем здесь оказался? Неужто бог простит, коли он на старости лет руки в крови невинных омоет?
Ох, как погано на душе! Да и не у него одного — вон они, сверстники Груши, тоже хмурятся, муторно им. Только мало их совсем — десяток от силы. Молодым князьям, известное дело, ровню подавай, они своим умом живут, спрашивать у других все едино ни о чем не станут.
А они, молодые, на расправу ловки. Ишь ты, как резво полетели! В кольцо взять хотят, из-за домов заходят, чтоб в спину ударить.
— А ты чего же? — толкнул кто-то в бок Грушу.
Обернулся тот, а перед ним княжич молодой. Хорошо хоть, что не свой — не Гавриил Мстиславич, а тот, который новгород-северский. От его распоряжений и отговориться можно, увертку найти. Да и не больно-то он допытываться станет. Сразу видно — так только спросил, для прилику. Вон как на коне гарцует да зубы скалит, предвкушая кровавую забаву.
Звать-то его по-русски Всеволодом Владимировичем, но посмотреть со стороны — степняк степняком. Видать, кровь матери, сестры грозного хана Юрия Кончаковича, оказалась сильнее, чем отца — Владимира Игоревича.
— Да негоже мне, старому, под копытами молодыми путаться, княже. Не столько подсоблю, сколько помешаю, — уклончиво ответил Груша.
— Ну, смотри тогда, старик, как надо рубить, — захохотал во всю глотку княжич и поскакал прямо на рязанских воев.
А Груше тоскливо. Ведь коли по правде сказать, то он с гораздо большей охотой сейчас рядом с теми пятью встал бы в один ряд. И не страшно, что убили бы, даже радостно маленько — за своих людей, за землю родную. Такую смерть за почет считать можно, особенно если пожил порядком.
Вот Спеха поберечь бы надо. Парню вроде как опять плохо, сызнова его мутит. Видать, это совесть его кровь невинную не принимает. А вот и рухнул последний из защитников сельчан. Хорошо они рубились — с десяток, не меньше, черниговцев положили. Добрые вои у князя Константина. Одна беда — мало их больно.
Молодые же дружинники мигом по селу рассыпались. У них иные забавы. Мужику, скажем, голову мечом снести, а еще лучше вкось его располовинить. Это не каждый может — тут сила нужна.
А еще надо, чтоб в душе жалость не шевелилась. Она в черном деле только помеха. Груше их не понять. Коли так тебе кровь любо лить — езжай в степь, с половцем поганым сразись, а своих…
— Рядом держись, — предупредил он Спеха.
По селу они ехали неспешно — муторно стало Груше от визга бабьего, от слез детских, вот и брел его конь чуть не шагом, а сам он, почитай, зажмурился совсем и по сторонам старался вовсе не смотреть. А визг все громче и громче.
Глянул Груша налево — никого. Глянул направо — лучше бы и не смотрел вовсе. Остроух, любимец княжича Гавриила Мстиславовича, тащит со двора сразу двоих девок за косы. Погодки, видать, годков двенадцать-тринадцать, не больше. Вдогон им мать бежит и голосит вовсю.
Следом за ними на крыльцо вышел вой по прозвищу Дикой. У того вся одежа и вовсе в крови, и руки красные, но тоже веселый, как и Остроух. К матери девок неспешно подошел, а в руках меч извивается, будто гадюка, ядом переполненная. Только вот гадюки зимой спят в укромных норах, а человек готов круглый год свой яд расточать. Видать, у него больше запасов, чем даже у змеи подколодной.
А вот и замахнулся уже Дикой, чтобы бабу глупую располовинить. И снова старый Груша зажмуриться хотел, да не успел, а потом у него и вовсе глаза от удивления расширились.
Не баба разрубленная на грязный, истоптанный снег снопом повалилась — Дикой рухнул, а в груди у него копьецо застряло. Славное копьецо, доброе. Груша его сразу признал. Сам помогал Спеху древко обстругивать, до ума довести. Так это что же получается-то?.. И только теперь дошло до Груши, что парень, которого в Пеньках мутило при виде крови, теперь решился-таки через себя самого переступить. Радоваться бы за Спеха надо — мужает на глазах сельчанин, хотя и промахнулся по первости так неудачно, а дружиннику старому отчего-то и вовсе муторно стало, хоть волком вой.
Остроуху в голову, видать, та же самая мысль пришла. Сплюнул он в сторону и неодобрительно головой покачал:
— Удар хороший — вон аж бронь прошиб, только что же ты так промахнулся неудачно? Ай-ай-ай. Не одобрит тебя Гавриил Мстиславич.
— А я не промахнулся, — тихо ему так Спех отвечает. — Я точно попал. Как дядька Груша учил.
— Что-то не пойму я тебя, малый, — враз посуровел Остроух.
— Ты детишек оставь, а я и тебя вразумлю, — таким же тихим голосом произнес Спех и меч из ножен потащил не спеша.
— На своих! — прошипел Остроух и тоже меч из ножен потянул.
— Да какой ты мне свой! — рассудительно заметил Спех. — Зверь ты. А зверь человеку своим не бывает.
«Ах, малый, малый, — с тоской подумал Груша. — Я же тебя всего-то двум-трем ударам научил да совсем немного — защите. Остроух же у Гавриила Мстиславича не зря в любимцах ходит — он во всем первый, а на мечах ему изо всех молодых и вовсе равных нет. Ну куда ж ты на рожон полез?»
— Сам полакомиться захотел, — двинулся Остроух на Спеха и кивая на девок.
— Нет, не захотел, — мотнул головой Спех. — Только у меня в селище такая же сестренка осталась, и этих девок ты не получишь, пока я живой.
— Это ненадолго, — обнадеживающе пообещал Остроух.
Шел он неспешно, крадучись. В ратном поединке вообще спешить нежелательно — княжеский любимец это хорошо знал. Девок Остроух выпустил. Чтобы Спеха убить, времени много не нужно, во всяком случае, ему, так что все равно далеко им не убежать. Он сделал еще шажок и осклабился в довольной улыбке — совсем глуп его враг. Не та у него стойка, неправильно у него все. Сейчас, сейчас он…
— Гей, Остроух, — раздался вдруг голос сзади.
Тот обернулся, стараясь одним глазом на Спеха поглядывать — не попытается ли в спину ударить, — но как увидел, кто с ним говорит, чуть на землю от удивления не сел. Да и было с чего — у молчальника Груши голос прорезался. Никак старый хрен за сельчанина своего просить станет.
— Допреж Спеха разомнись малость, со стариком меч скрести.
— Ну, давай, старый, позвеним клинками, — снова раздался шип Остроуха.
«Ну точно как гадюка, — подумалось Груше. — И голос один к одному. Как только таких людей земля носит? Впрочем, слыхал он от людей, что в дальних краях бывает, будто дрожит она иногда и даже трещинами под ногами расходится. Видать, слишком много погани там всякой скопилось, вот ее и трясет от омерзения. Хорошо, что на Руси пока такого не бывало. Значит, не так уж много таких вот гадов, как Остроух, по ней ходят».
Ну а он, Груша, теперь в меру сил своих постарается, чтобы их еще меньше стало. А нет, так что ж. Пожил свое, пора и честь знать. Пусть хоть и со своим в схватке сгинул, но за правое дело, а это самое важное. Да и правильно Спех сказал: «Разве зверь человеку может своим быть? Да никогда!»
Умеет старый Груша думать, даже когда мечом рубится. Может, иному думки те помехой были б, а ему — так нет. Даже помогают иной раз. Пока голова занята, рука сама знает, как ловчей клинок на клинок принять, как удар отбить, как его в сторону отвести, как врага сил лишить, а самому схитрить, прикапливая их для одного решающего мига.
Вот и сейчас мысли текут медленно и плавно, бою отнюдь не мешая. Теперь они на Спеха перекинулись. Тут тоже есть о чем подумать.
«Ну и молодец парень вырос! Так сказануть не каждый седоголовый сможет. В самое яблочко угодил. Да и копьецо метнул на славу. Опять же, силу какую иметь надо, чтоб добрую бронь прошить, все равно что ткань иголкой. Только что не насквозь, вот и все отличие.
А вот без своего старого дядьки Груши пропадет он, непременно пропадет. Где же ему среди стаи волков выжить? Значит, надо про смерть забыть пока. Нет у него, Груши, детей, не нажил. Но если бы сын был — хотелось, чтобы в точности такой же был, как и Спех. И силен парень, и сноровка есть, и слово может молвить, и душой покамест чист да светел, а оно, пожалуй, самое важное, что у человека есть. Если ж этого нет — человек ли он вообще?
Оп-па! Слишком глубоко ты, старый, задумался, вот и пропустил стальное жало. Рана в левую руку не смертельна, но кровь-то течет, руда исходит обратно к матери-земле, а значит, либо бой заканчивать надо поскорее, либо Остроух его сам закончит, а это плохо. Потом Спех и трех ударов не выстоит.
Ох, ты! И снова пропустил. В бок тоже пустяк, но это когда молодым был, а ныне уж не то. И Остроух почуял победу, засуетился, загорячился. Вот это уже хорошо. Вот это славно. Правду люди сказывали, что нет худа без добра. Да ты лезь, лезь на меня, а уж я отступать буду помалу. Отступать да готовить свое последнее спасение. Оно не подсобит — пиши пропало.
К тому же Остроух этой ухватки не знает. А все почему? Да стариков не уважал вроде меня, а ведь я и его по простоте душевной научил бы, когда еще не знал, что это за зверь.
Уйду я — уйдет и этот прием со мной. Хотя постой, — никуда он не уйдет. А Спех-то как же? Человека таким приемам тайным обучить — святое дело, потому как тот завсегда сильнее зверя должен быть, и не только словом. Иному это слово в голову только кулаком вбить можно, да еще вместе с зубами. Ну, кажись, пора».
А Спех, затаив дыхание и открыв от удивления рот, наблюдал за ходом схватки, не в силах сдержать изумления и восторга.
Чего греха таить, за те несколько месяцев, что он пробыл в дружине, Остроуха он уже успел невзлюбить, но только как человека. Остроухом-воином он все равно восхищался и тихо вздыхал по вечерам, мечтая, но не особо надеясь, что когда-нибудь, пусть через десять лет, тоже научится так ловко вертеть острым клинком.
Но чтобы дядька Груша, которого Спех стариком глубоким в душе считал, так умел мечом крутить — о том парень и подумать не мог. Только одного не знал Спех, что это была лебединая песня старого Груши, и пел он ее именно для него, Спеха, и во имя Спеха, и ради будущей жизни Спеха.
И все-таки достал окаянный Остроух дядьку. Эх, годы… Парень в отчаянии даже губу прикусил. Ну! Удержись же, милый! Как же я тебя такого раньше-то не знал! Ох, ты! Еще удар! Да будто и не в Грушу, а в него, Спеха, угодил меч. И как же больно-то стало! А еще того хуже, что видел, чувствовал молодой дружинник, как течет кровь из старого воина. Через его, Спеха, тело течет и на землю капает.
«Господи, да неужто ты не постоишь за дело правое, не поможешь тому, кто старается зло убить? Пусть у человека сил немного, но если бы каждый его так, как дядька Груша, норовил прихлопнуть, издохло бы оно давно и следа среди людей не оставило», — взмолился Спех.
Но молчали небеса, словно устал господь с них на землю взирать да осуждающе головой покачивать. Никто на горячую молитву не откликнулся, никто не поспешил правому делу подсобить.
И тогда в отчаянии взмолился парень к иным богам. Впрочем, к каким иным — своим родным, самым что ни на есть исконным, которым все его пращуры молились испокон веков, да и ныне не забывали. Во всяком случае, старики в родном селище Спеха до сих пор их почитали, хоть и тайно.
«Перун среброусый! Услышь простого парня, который за славой погнался, в дружину сам запросился, а потом, пусть не ведая того, но на черное дело пошел! Стоит он ныне как вкопанный и не знает, что ему делать. Если ты крови жаждешь, то дядька Груша в твою честь немало ее пролил. Он ведь как ты, только огненной бороды не имеет, но сердца-то одинаковые у вас — за честь, за правду и чтоб до конца».
То ли и впрямь помогла старому Груше искренняя молитва Спеха и услышал ее огнебородый Перун, то ли сам воин справился, но в тот миг, когда произнес парень мысленно последнее слово, и впрямь чудо произошло.
А как иначе происшедшее назвать? Ведь уже присел было на одно колено старый Груша, и кровью его — густой, почти черной, — мгновенно снег в этом месте окрасился. И Остроух уже прыгнул, чтоб к силе последнего удара добавить еще и силу всего своего тела, а сам поединок не просто завершить, но и красиво это сделать, но тут…
Не сам Груша в сторону отпрянул — человек так не сумеет, если только ему боги не пособят. И не смог бы старый дружинник так мастерски удар нанести по незащищенному боку Остроуха, если бы Перун своей дланью невидимой ему не подсобил, спасая старого дружинника от неминуемой гибели.
А потом все. Груша остался лежать, окончательно сил лишившись, а Остроух к нему пошел. Не торопясь двигался, медленно. А куда ему спешить если только прикончить старика лежащего осталось. Вот только чем ближе он к Груше приближался, тем шаг его все более робким становился, неуверенным, дрожащим. И сам он весь трясся от натуги, и меч в руках его, от земли еле-еле приподнятый, извивался, как гадюка издыхающая. И рада была бы змея хоть кого-то еще ужалить в свой последний час, да не дано ей это. Мучается она в злобе лютой, а изменить ничего не может.
Так и Остроух наконец сообразил, что с ним случилось. Глянул на свой правый бок, а из него не струйкой — ручьем на землю руда бежит, пузырится. И поняла гадюка, что помирать ей пришла пора, повалилась на землю да издохла.
Так они и лежали рядышком — человек и змея. Один два укуса гадючьих в себя принял, вторая слишком рано восторжествовала, и успел человек разрубить гадину. Разрубил, но и сам улегся. Вот только разрубленное уже не склеишь. Мертвая вода бывает лишь в сказке, а в жизни если и была бы, то никому и в голову не пришло змеюку подлую ею кропить.
Зато на всякий яд противоядие имеется. У каждого оно есть, но не каждый сумеет его использовать. А вот Груша сумел. К нему Спех один шаг всего шагнул, а воин старый застонал уже, будто почувствовал.
Впрочем, стонать — это беспомощных душой удел. Груша как раз не из таковских. Скорее прорычал он, только тихо, потому что глупо последние силы на рык тратить. Второй шаг Спех шагнул — и дядька, наставник его, пошевелился. Третий раз ногой ступил — тот вставать начал.
Кинулся Спех, чтобы помочь. Приобнял, встать подсобил, но едва Груша выпрямился, как тут же парня оттолкнул от себя.
— Девок спасай с бабой, — повелел грозно и, видя, что тот стоит, глазами обиженно хлопая, а с места не двигается, уже тише и мягче добавил: — Коли назвал их сестрами, так теперь должен непременно сберечь да от беды оградить.
Сам же у хлипкого плетня встал, раненой рукой чуть придерживая его, чтобы тот совсем не покосился, да еще и подумать успел по-хозяйски, мол, поправить бы не мешало.
Тут, откуда ни возьмись, и княжич явился, Гавриил Мстиславович, а за ним все его дружинники, числом чуть больше двух десятков.
— Кто его?.. — бросил коротко, увидев на земле труп любимца в луже крови.
Кто-то из молодых угодливо пальцем в Грушу ткнул.
— По-подлому, поди. Из-за угла, — констатировал князь, оценив рану.
— По-честному они бились, — возразил кто-то из старых воев.
— Груша по-честному Остроуха одолел? — усмехнулся князь, и молодые наперебой угодливо засмеялись.
— Я сам видел, — выступил вперед кто-то.
А у Груши туман какой-то в глазах непонятный. Зажмурил глаза — открыл снова. Пропал туман, не совсем, правда, а так, отдалился на время. Потом он опять подкрадется, но это уже неважно. Главное, что сейчас ему все видно. Все и всех. Оказывается, это Басыня за него вступился. Он еще раньше, чем Груша, в дружину пришел, ныне же и вовсе ветераном среди ветеранов был.
— Не верю, — сказал Гавриил Мстиславич.
Плохо сказал. Нельзя так говорить. Коль ты не веришь человеку, то зачем его в дружине держать? А коли держишь, почто тогда не веришь?
Словом иной раз больнее, чем рукой, ударить можно. На руку рука есть, а на слово как ответишь? Словом таким же? А если тебя оскорбили безвинно? Неужто унижаться до ответной брани? Тогда ты уже баба базарная, а не воин. Меч же достать нельзя. Ты на службе, да не на простой — на воинской. Он не начальник, а куда выше — командир. И ты не работаешь у него, не трудишься — служишь.
А как быть, если — ты не слуга? Тогда уходи лучше с этой службы. Совсем уходи. Басыня так и сделал, даже ждать ничего не стал.
— Ухожу я от тебя, князь, — сказал жестко.
Дружинники зашептались было, но Гавриил Мстиславич лишь глянул на них зло, и все разом примолкли.
— Уходи, — молвил князь. — Путь тебе чист.
Вольно тому, кто уходит, выбирать себе дорогу. Четыре их — и любая твоя. Нужно только правильный выбор сделать. Свой, а не чужой. Басыня выбрал. Он к плетню подошел, где Груша стоял. Тронул его легонько, а сказал грубовато:
— Подвинься, молокосос.
Слова людьми по-разному воспринимаются. Тут кое-что от воспитания зависит, еще больше — от характера, совсем много — от ума, от понимания. А еще капельку — от возраста. Это юнцу двадцатилетнему слово такое обидно услышать. Тридцатилетнему мужику просто смешно станет. Семидесятилетний старик, услышав такое от восьмидесятилетнего, пожалуй, и порадоваться может. Стало быть, ничего он еще, бодрый, коли его так называют.
В дружине же объятия с поцелуями да льстивые слова никогда в ходу не были. Больше все грубость мужская. Но и она опять-таки разная. Бывает обидная, колкая, чтобы унизить, растоптать. А бывает с теплотой души, больше на ласку похожая. Что еще мог сказать Басыня человеку, который всего на два года младше его самого был, а в дружину на четыре года позже попал, чтобы приободрить его? Как лучше он смог бы это сделать? Впрочем, хватило и того, что он просто рядом с ним встал.
— Ты сам свой путь выбрал, — вздохнул с сожалением князь и повелел: — Обоих взять.
И шага никто не сделал. Боязно. Одно дело — сотней на пятерых кидаться, дома поджигать беспрепятственно, мужиков безоружных рубить, похваляясь силой удара молодецкого, баб за косы в полон уводить, скот из хлева выгонять…
Тут же совсем другое. Тут тебе не коровы безропотные, а матерые быки у плетня стоят. Они шеи под мечи не подставят безропотно. Скорее, наоборот, чужую шею острыми рогами пропорют, да не одну.
Один хоть и подраненный, но за версту видно, что ему ныне все по плечу, захочет — гору своротит. Бывает такой день у каждого человека. Не каждый, правда, его угадывает, не каждый потом вспомнить может, а многим и вспомнить-то бывает нечего. Груше будет что. Если переживет, конечно.
Другой же и вовсе, хоть и старый такой же, но в соку, цел и невредим. К нему молодым бычкам лучше и вовсе не подходить. Эта пара в одночасье всему стаду укорот дать может. К тому же кто сказал, что их двое?..
Звонкий голос Спеха со стороны крыльца раздался:
— Ухожу я от тебя, княже.
Проворный дружинник и ответа традиционного дожидаться не стал — мигом к плетню подскочил, встал рядышком со стариками.
Теперь совсем трудно будет на них нападать. Тот же Спех не больно-то овладел наукой на мечах, но он уже ушел и ныне — вольный человек. А ну как он и вовсе меч в сторону откинет, а вместо него ухватит кого-нибудь из атакующих за ногу да начнет вертеть со всей силой вкруговую — попробуй дотянись.
Один только и есть у парня недостаток — молодость. С годами, конечно, она проходит, ну а пока… Ведь не должен он был к ним становиться, пока князь не скажет, что путь чист ему, иди, куда знаешь.
Впрочем, не бывало еще и такого, чтобы князь дружинника упрашивать стал, мол, останься, сделай милость. А если и бывало, так то князья лишь по названию были — не по духу. Гавриил Мстиславович себя подлинным считал, так что на такое унижение ни в жизнь бы не пошел.
Однако странное дело приключилось. Так ведь ничего князь и не ответил Спеху. С минуту, насупившись, разглядывал парня, будто диковинную птицу, ни разу доселе не виданную, а потом молча развернулся и прочь пошел. И все остальные следом за ним побрели, будто собаки побитые.
Бывает такое — вроде победил ты, а победа отчего-то не радует. Но есть и иное — как у тех троих, что остались. Вроде и не выиграли, да и битвы-то никакой не было, а в душе праздник, и только одного хочется — чтобы он никогда не кончался. Хотя это тоже не совсем верно — вечный праздник имеет обыкновение очень быстро в будни превращаться.
— Твой, что ли? — толкнул Басыня Грушу.
Тот напыжился от самодовольства сладкого, степенно нос почесал, из-за которого его так и прозвали, и изрек горделиво:
— Знамо, мой.
— Жаль парня, — вздохнул Басыня.
— Чего это? — встревожился Груша.
— Да похожи вы здорово. Значит, и у него такой же вырастет. — А глазами на нос могучий указал.
Ох, нельзя ведь Груше смеяться — раны открыться могут, которые только-только запеклись, но как тут удержаться, когда хочется, когда уже живот болит, а остановиться — мочи нет.
А Спех только улыбался. Коли дядька Груша на дядьку Басыню не обиделся за шутку насчет носа, то ему вроде бы тоже не след. Однако все-таки шибко громко над этим лучше не смеяться. К тому же спроси кто у парня: «Хотел бы ты вдвое больше нос иметь, чем тот, что у Груши, а к нему в придачу тебе вдвое больше и умения бы дали, чем у наставника твоего?» — он бы знал, что ответить. Ни минуты бы не промешкал, ни мгновения единого.
Да пускай хоть втрое больше нос у него вырастет — все равно. За то, чтобы так с мечом обращаться, как его старый сельчанин, ничем пожертвовать не жалко. Только вдвое больше умения ему не надо. Ему бы так, как дядька Груша, научиться.
А больше? Это ж все равно что звезду возжелать, которая на самом деле шляпка золотого гвоздика. Ими ангелы небо прибили. Одному гвоздик дай, другому вытащи, а там и небо само рухнет. Так что несбыточного желать нельзя. Не бывает умения выше Грушиного-то.
Вот так они и смеялись беззаботно, друг на дружку поглядывая. На самом-то деле смотреть им совсем в другую сторону надо было, на дорогу проселочную, по которой всадники чужие замелькали, но где там — все трое веселились, будто дети малые, ничего вокруг не замечая.
— Кто такие? — раздался вдруг совсем рядом голос властный.
Тут только они и очнулись, посмотрели изумленно на вопрошающего и дружно, в один голос, с улыбкой — веселье-то не прошло еще — ответили:
— Черниговцы.
— Взять, — последовала команда.
И как-то очень уж шустро их взяли. В иное время не один полег бы, а тут так проворно скрутили, что все трое и мечей достать не успели. Один Спех малость поворочался, пару раз успел засветить кому-то промеж глаз, но и того чуть погодя ловкой подножкой на землю сбили. Видать, правду говорят, что смех расслабляет, на добро настраивает, а в ратном деле злость надобна.
Связанных, потащили всех троих на околицу, а там уж и прочие дружинники в рядок стоят, накрепко веревками скрученные, — и из их дружины, и из прочих, что в лихом набеге участвовали.
«Не зря луна кровью отсвечивала, — мелькнуло в голове у Груши. — Ох, не зря». Но это была последняя мысль. Туман проклятый одолел-таки вояку старого, и пополз ратник вниз, к земле, уходя в спасительное небытие.
Глава 14 По законам военного времени
Что сделано, того не воротить. Мы действуем иной раз без оглядки, Жалеем о содеянном — потом. В. ШекспирЧувствуя свою вину — не успел все-таки вовремя, — Константин еще больше злился на тех, кто сейчас понуро перед ним в цепочку выстроился с руками связанными.
Да, взяли они почти всех, успев перехватить на обратном пути. Прямо в лесу кольцо замкнули, и настолько яростной сшибка была, что у черниговцев даже мечи сами из рук выпадали. Всего-то и потерял рязанский князь трех своих дружинников. Царапины да небольшие раны, которые еще с десяток человек получили, и вовсе считать негоже — заживут.
Но куда лучше было бы, если б они пораньше подскочили, чтоб жителей села успеть защитить. А теперь что — смотри, князь, любуйся на два десятка трупов, среди коих не только мужики, но и бабы, и даже дети встречаются.
Поначалу он хотел вообще распорядиться, чтобы всех разом по тяжелым дубовым ветвям развесили — благо, что они тут в изобилии растут. Потом одумался. Не дело это. Пусть даже по законам военного времени с ними поступать — и то непорядок. Хоть военный трибунал накоротке, а надо провести.
Конечно, морока с ними сплошная, а в конце все равно финал одинаковый — сук да веревка, но надо. И жителям Залесья приятнее будет. Для них суд предстоящий лишь удовольствие предвкушаемое растянет от казни неминуемой, а это тоже учитывать надо. Но уж раны перевязывать, как требует тот молодой парень, — это дудки. Пускай так подыхает — невелика потеря. А тут еще один голос подал:
— Княже, ежели его не перевязать — помрет вой. И получится, что он от твоей справедливости, коя на суку болтается, утек. Хорошо ли это?
Умно сказал, подлец, рассудительно. И голос у него опять же спокойный, даже добродушный. Ну да ладно, чтоб от суда да от возмездия не ушел, так и быть, пусть кто-нибудь его перевяжет. Константин только хотел распорядиться, но тут какая-то баба чудная объявилась. В руках холстина чистая, уже на полосы разодранная, сама растрепанная, а в глазах — даже не поверил князь поначалу, хотя и рядом стоял, но, приглядевшись, окончательно убедился — слезы.
Ну и народ на Руси! Ну, народ! Этот черниговец каких-то полчаса назад кровью тут все заливал, пока не повязали, а она чуть не плачет. Тоже мне, заботливая выискалась. Не выдержал Константин, сказал пару ласковых, чтобы напомнить об этом, но и баба в долгу не осталась:
— Он моих дочек от полона спас и руду свою за них пролил. Он да еще бугай вон тот, — ткнула она пальцем в молодого парня, который рядом стоял.
— Так они что, не черниговцы, что ли? — оторопел Константин и на своего воеводу оглянулся в недоумении.
Тот, как всегда, согласно воинскому уставу, чуть сзади стоял, на полшага.
— Черниговцы, — подтвердил уверенно Вячеслав.
— Так как же они?.. — не договорив, уставился на него вопросительно князь.
— А я знаю? — пожал тот плечами. — Мне и самому интересно.
— Ладно, — решил Константин. — Этих пока в сторонку отодвинь. Потом с ними разберемся.
А молодой и рад стараться:
— И Басыню тоже! — закричал возмущенно. — Басыня самым первым за Грушу вступился.
— За кого?.. — не понял Константин.
— Вон за него, — указал парень на лежащего без сознания. — Его Грушей кличут. А вон Басыня, — кивнул он головой — руки-то связаны — в сторону рядом стоящего старого дружинника.
— Тебя послушать, так вы все сплошь и рядом заступники, — буркнул недовольно Вячеслав. — Только настоящие-то защитники селища вон где лежат, — указал он в сторону лежащих отдельно от всех прочих рязанских дружинников, которые самыми первыми в неравный бой вступили.
Хорошо им досталось. У кого голова, ссеченная одним махом, просто к телу была приставлена, кому руку аккуратно к плечу приложили. Это не считая прочих ран.
— Не все, — упорствовал парень. — А Басыня за Грушу вступился. Он даже из дружины княжьей ушел из-за этого.
— А ты? — осведомился князь.
— И я ушел. Не любо мне стало воевать, вот и ушел, — уже потише произнес парень.
— А тебя как звать-то, шустрого такого? — поинтересовался Константин.
— Спехом кличут, — буркнул ратник. — Мы с им из одного селища. — Он вновь кивнул на лежащего.
— Поэтому ты так за него и заступаешься? А с Басыней вы тоже с одного селища?
— Не знаю я, откель он, — еще тише произнес Спех, но тут же встрепенулся. — А какая разница — откуда. Ты не по селищам суди, княже, а по Русской правде. Вина на нас, что мы незваными сюда пришли, есть, то я не спорю. Токмо нам сказывали, что в селище этом одни язычники живут и наше дело святое — в веру их всех в христианскую обратить.
— Мечом и копьем? — спросил князь тихо.
Смутился Спех, замолчал, взгляд потупив, а князь не унимается:
— А кто же такую умную мысль тебе подсказал, воин?
— Князья наши так решили, после того как поп им про язычников твоих поведал, — ответил он тихо.
— Поп, значит, — засопел князь возмущенно. — Ладно, попом мы потом займемся. А пока с прочими разберемся, — и распорядился: — Этого речистого пока оставьте вместе со всеми, раз он так просит. Говорить мы все мастера. Коль не признает никто из Пеньков тебя и твоего Басыню — считай, повезло. Тогда будем дальше думать. Ну а коли кровь на тебе безвинная — не обессудь, — и скомандовал: — Давай, Вячеслав Михалыч, запускай баб.
Ох, да лучше было бы Спеху прямо тут провалиться, с головой в снег пушистый залезть, чем сызнова перед глазами тех баб оказаться, коих он зорил неделю назад. Точнее, не сам, но все едино — был же в их селище, с мечом и копьем приехал, стало быть, участие все равно принимал.
— Этот моего мужика срубил. Прямо у плетня, — ткнула в одного черниговца какая-то женщина. Словно первой ласточкой она оказалась.
Тут же наперебой голоса остальных раздались:
— Этот вашему дружиннику голову со всего маху ссадил.
— Этот на копье мою матерь вздел!
— Вот он, тать поганый, что мою избу подпалил!
Кое-где и кидаться на связанных стали. В одного какая-то баба и вовсе зубами вцепилась, да прямо в шею. Насилу оторвали, но куда там — поздно. Видать, артерию перекусила — кровь не ручьем текла, а фонтаном била.
— Ну и дела, прямо чистый вампир, — склонился к уху князя воевода.
— Они у нее троих детей в полон увели, а старшенького прямо там во дворе зарубили, — вздохнул Константин. — Понять можно. Ты лучше распорядись, чтобы ее обратно к бабам отвели — пусть успокоят несчастную. Все равно с нее свидетель, как…
Звонкий женский голос перебил князя:
— Вот он, тать, валяется. Тулуп совсем новый из избы забрал!
Пожилая женщина торжествующе указывала на Грушу, лежащего на снегу.
— А теперь что скажешь, шустрый? — осведомился Константин, поворачиваясь к Спеху.
Парень только уныло вздохнул, не говоря ни слова, а женщина не унималась:
— И на меня меч поднял, да только я увернулась.
— Крут наш защитник, — восхитился воевода.
— Ты сперва думай, а потом говори, — неожиданно встряла другая, которая Грушу перевязывала.
Она неодобрительно посмотрела на обвинительницу, после чего обратилась к Константину:
— Не верь ей княже. У страха глаза, известное дело, велики.
— Да пусть подо мной Мокошь землю расступит, ежели брешу, — не сдавалась первая баба. — Как на духу говорю — еле-еле увернулась. И скалился еще, аки зверь дикой.
— Ты, княже, лучше мне поверь. Я ведь своими очами видела, как он бой приял. Ежели бы он ее ударить хотел, то она бы тут не стояла, — твердо произнесла та, что перевязывала.
— Хоть и баба, а дело говорит, — подал голос Басыня. — Не забижай Грушу, князь. Он в своей жизни отродясь не промахивался. Коли ударит, так тут только держись.
— Точно говорю, промахнулся, — стояла на своем обвинительница. — До задницы токмо и достал.
— Ранил? — поинтересовался воевода.
— Так ведь плашмя попал, — сбавила тон женщина и пожаловалась: — Все одно больно, — и тут же оживилась: — А этот, — ткнула она пальцем в Басыню, — еще и мужику моему голову с плеч снес. Я за этим извергом-то выскочила, чтоб тулуп отнять, а он уже лежит, кормилец мой, прямо у плетня и без головы.
— Голову не сносил, — смело глядя на Константина, ответил Басыня. — А то, что охолонил его малость — был грех.
— Охолонил — это как? Копьем в живот или мечом в грудь? — уточнил князь.
— Мечом, — подтвердил Басыня. — Только не в грудь, а в голову и не острием, а рукоятью.
— А дальше что было?
— Дальше я прочь поехал и ничего не видал. А и видал бы — тебе не сказал. Негоже это — на своих наговаривать. У вас и без того видоков два селища.
— А ты не наговаривай. Сейчас ведь, не забывай, твоя судьба на кону стоит. Если кровь ее мужа на тебе, то и одна из веревок твоя. Если ж нет — тогда и разговор иной, — заметил Константин.
— А ты, княже, вместо того чтобы вешать, лучше бы мне, вдовице горемычной, в холопы его отдал, — плаксивым голосом произнесла все та же баба, обвинявшая всех и вся, и похотливым глазом скользнула по связанному воину.
— Казнить — казни, княже, а так изгаляться надо мной — не дело, — возмутился Басыня. — Лучше головой в петлю, чем к карге этой старой в холопы, — и предупредил грозно: — Отдашь — сбегу, так и знай.
— А не стыдно висеть-то будет, яко тать безродный? — прищурился Константин.
— А чего? Я и есть безродный. Ваши же рязанские и осиротили, когда я еще мальцом был.
— Значит, ты поквитаться приходил? — высказал догадку князь.
— На мужиках да бабах? — хмыкнул презрительно Басыня. — Я вой, а не кат. Просто князь повелел, вот я и пошел.
— А почему же решил из дружины уйти? — подал голос воевода.
— Это мое дело, — нахмурился Басыня. — Мое и моего князя. А иных-прочих оно не касаемо. И я, княже, не баба, чтоб тебе тут в тряпицу жалобиться.
Тем временем процесс опознания завершился, и теперь все связанные воины стояли, разбитые на две неравные кучки. В той, что побольше, были преимущественно молодые дружинники, хотя изредка встречались и годами постарше. В другой же, небольшой, состоящей всего из полутора десятков человек, преобладали люди в возрасте. Молодых же было всего двое.
Схваченные в плен князья вместе с понурым попиком стояли на особицу, поодаль от всех. Правда, было их всего четверо — Гавриил Мстиславич успел и в схватке выказать свой норов. Бился он стойко и даже успел свалить одного из нападавших, прежде чем его достали мечом. И теперь здесь стоял только его меньшой брат — Иван Мстиславич.
— Ладно, после договорим, — махнул князь досадливо и сказал воеводе: — Пока я приговор им зачту, ты как следует бабу эту расспроси — что и как там было, а то я что-то не пойму с этой троицей. — И поспешил к большой кучке.
— С этими все ясно. За руду, безвинно пролитую, за полон, за пожарища, которые вы учинили в моих селищах, — все пленные затаили дыхание. — Повесить! — И, не слушая никого, быстро перешел к другой кучке, что была поменьше. — Теперь с вами как быть? Бабы сказывают, зорили, но не убивали. Стало быть, нет на ваших руках людской кровушки. Ну что ж. Ваше счастье. Однако за все отвечать надобно. Посему виру на вас налагаю, — и распорядился властно: — Бронь, мечи и все прочее с висельников и прочих снять. То в добычу пойдет. Все убытки тиунам за седьмицу счесть повелеваю. Опосля того думать будем — как подсобить сподручнее. Самим же вам в холопах быть у тех баб, что кормильцев лишились, — и возвысил голос, перекрикивая поднявшийся недовольный ропот: — Благодарить надо за милость да за то, что разобрался, а не повелел всех огульно вздернуть.
Гомон стих. А и впрямь — разобрался ведь, не стриг под одну гребенку. А в холопы идти? Ну что ж, это не сук с веревкой, тут и удрать можно. До Дона отсюда и десяти верст не будет, а за ним уже черниговские земли, там у рязанского князя власти нет, как успел один из пленных другому заметить хвастливо. Однако Константин краем уха разговор этот уловил.
— Ежели бежать кто удумает, — счел нужным он предупредить, — то сразу, как только мои люди его поймают, велю забить в колодки и кинуть в выгребную яму. А там иноземным купцам продам. Они за русских мужиков хорошие деньги платят. Не думаю, что выживет. Так что лучше об этом не думайте. К тому же не обельными холопами будете, а в закупах. Срок — два года. После отпущу.
— На всех все равно не хватит, — вздохнул вновь объявившийся Вячеслав.
— А сколько всех-то?
— В Пеньках двенадцать и тут девять. Очко получается. А у тебя пленных этих всего шестнадцать человек.
— Тогда так, — быстро переиначил князь. — В первую очередь тем их отдаю, у кого сыновья малолетние или их вовсе нет.
Пленников разобрали сразу, но все равно одной работника не хватило. Женщина робко подошла к князю и тихим голосом попросила:
— Я ведь не в обиде, княже. Господь с ним, с холопом-то. У меня и свои сыны крепкие, только вот нет их ныне, в полон забрали. Ежели бы ты, княже, подсобил их выкупить, век бы за тебя богу молилась.
— Вячеслав, — повернулся к воеводе Константин. — Вели быстренько собрать всех назад и допросить обстоятельно — куда они всех дели и где те сейчас находятся.
— Уже, — заметил тот. — Я ж как чувствовал, что еще не все закончилось, — и бодро отрапортовал: — Всех, кого из Пеньков забрали, пока держат в Дубицах — это селище верстах в пяти от Дона. Завтра собираются отвезти на торжище в Новгород-Северский и в Чернигов. Не спешили, потому что хотели отправить вместе с теми, кого мы сегодня отбили. Охрана у них — человек пять. Ну и еще десятка два ратников имеется. Остальные все здесь, так что дело плевое. Само селище, правда, тыном огорожено с кольями, да еще небольшим валом, ну и все остальное там как в городе, только в миниатюре. Но, я думаю, возьмем без шума и пыли. Только солнце уже к закату, так что лучше завтра с утра выйти одной сотне и спокойненько к вечеру вернуться.
— Боюсь, что не выйдет у тебя спокойненько, — нахмурился Константин. — Они тоже не дураки. Раз не вернулся никто из их людей, значит, влетели. Тревогу поднимут. Осаждать придется, а там, глядишь, и помощь им подоспеет.
— Так что, в ночь выходить? — не понял воевода.
— Все равно, наверное, поздновато. Ты лучше вот что — собери всех наших полностью и покажи силу, чтобы им там, в Дубицах, страшно стало. Если нахрапом ворваться не получится, то объяви, что мы их палить в отместку не собираемся, а пришли к ним только за полоном. Вернут — и ты сразу уйдешь. А иначе ты их на копье возьмешь — силы хватит.
— А откажутся? — усомнился Вячеслав.
— У страха глаза велики — не откажутся, — усмехнулся Константин. — Да и что им толку с этих пленных? От них же весь доход князьям да дружине пойдет, а самим сельчанам ни одной куны не достанется. А когда переговоры будешь вести, тонко намекни, что если они не выдадут всех рязанцев, то князь решит, будто они там все заодно с теми, кто набег устраивал. Иначе зачем бы им полон удерживать. Тогда ты с ними другие разговоры вести будешь, и не словом, а мечом.
— В общем и целом уразумел, — кивнул Вячеслав и, показав на князей и попа, осведомился: — А с этими что делать будешь?
Вместо ответа Константин не спеша прошел к лавке, которую дружинники успели для него откуда-то притащить, критически покосился на домотканый половик, впопыхах постеленный на сиденье вместо обычного ковра, и вполголоса поинтересовался у воеводы:
— Из него хоть пыль-то выбили?
Тот утвердительно мотнул головой и заверил:
— По нему вообще еще никто не ходил. Прямо у ткачих забрал из станка. Вон, гляди-ка, нитки болтаются — даже до конца не доделали.
— Ну, тогда ладно, — вздохнул Константин и жестом подозвал пленных князей.
Те послушно двинулись к рязанскому князю. Попик семенил тихонько сзади, стараясь не высовываться из-за их спин. Оставаться на месте он не пожелал. Толпа сельчан тоже, будто по команде, стала медленно подходить, охватывая Константина и пленников плотным полукольцом, чтобы ничего не упустить из предстоящего зрелища. Из людской гущи слышались приглушенные голоса. Отдельные обрывки разговоров донеслись до Константина.
— Ворон ворону глаз не выклюет, — это сзади и справа.
Князь нахмурился.
— Возьмет окуп да и отпустит. А они потом сызнова придут, — это уже слева.
Константин нахмурился еще сильней.
— Раз воев их повесил, стало быть, и их должон. На них-то вины поболе, — успокаивающе произнес чей-то старческий голос, но ему возразили сразу несколько человек:
— То вои простые, а то князья.
— С покойника что возьмешь, а с живых — гривны.
— Хотел бы повесить — вместе с прочими бы вздернул.
— В нашей крови те гривны будут. Не будет ему с них счастья.
И снова обреченно-тоскливо:
— Ворон ворону…
Константин поначалу и впрямь собирался выпустить всех четверых за выкуп. Дело было не в деньгах, хотя они тоже на дороге не валяются.
Главное заключалось совсем в другом — они были князьями, то есть стояли наособицу, со всеми отсюда вытекающими последствиями. Придумать им любое другое наказание, кроме смерти? А какое? Порку публичную затеять? Это еще хуже получится.
И не в том дело, что он лично их унизит. Они-то как раз по заслугам получат. Но простому люду такого зрелища устраивать тоже ни в коем случае нельзя. Уж очень оно чревато на будущее самыми непредсказуемыми последствиями, в том числе и для самого Константина.
Тогда и впрямь лучше повесить, но этого делать тоже нельзя. Хотя, конечно, просто так отпускать их совсем не хотелось. Чисто по-человечески не хотелось. Словом, какой-то заколдованный круг получался. Константин обреченно вздохнул.
— Княже, Нюрнбергский трибунал давно пора открывать, — деликатно напомнил стоящий сзади Вячеслав. — Публика в сборе, обвиняемые на месте, кому ждем?
— В чем их личная вина? — негромко спросил Константин. — Вот этого, например. — И ткнул пальцем в человека, стоящего с самого краю.
— Сам скажешь, Андрей Всеволодович, али мне за тебя ответить? — степенно спросил рязанский дружинник, который стоял рядом с князем.
Тот молчал, понурив голову.
— Стало быть, мне за тебя, — вздохнул дружинник и сделал шаг вперед. — В селище Пеньки оный княжич черниговский троих мужиков самолично срубил. При этом еще и похвалился, что он получше прочих мечом володеет, а дабы речи его за пустую похвальбу не сочли, он четвертого, коего уже в полон взяли, своим мечом вкось на две половины разрубил. Кроме того, будучи уже здесь, в Залесье, бабе одной тоже голову с плеч снес.
— Она сама на меня налетела, — вскинулся было обвиняемый.
— С мечом в руках? — невинно осведомился Константин.
— У нее когти, как мечи. Вон, руку мне оцарапала до крови, — не зная, что еще сказать, выпалил Андрей Всеволодович, в качестве доказательства демонстрируя тыльную сторону левой ладони, на которой и впрямь алели три розовых царапины.
— Ишь ты, — усмехнулся князь. — Знатные у тебя раны. За такие и впрямь отомстить надобно, чтоб неповадно было. А мужиков зачем рубил, похваляясь? Или они тоже царапались?
— В горячке я был, в запале. Сам не ведаю, как получилось. Не ведал, что творил, — снова опустил тот голову.
— Не дело ты учинил тут, Константин Володимирович, — встрял Мстислав Глебович, который стоял в середине, держа на весу раненую руку, кое-как перемотанную какой-то замызганной тряпицей.
Был он изо всех четырех самым старшим и держался увереннее прочих.
— Я князь, и ты князь. Почто смердов на суд собрал? Откуп назови, какой тебе нужен, а перед этим вели отвести в покои да накормить, а там и обговорим, сколь гривен тебе надобно от моего отца Глеба Святославича. А что вина у нас всех перед тобой — от того ни я, ни они и так не отрекаемся.
— Вина у вас, положим, не передо мною, а перед ними, — кивнул в сторону толпы Константин. — А про князей ты тут неверно сказал. Я-то таковым являюсь, а вот вы… В чем у вас от татей шатучих отличие — не скажешь?
Ответом было молчание.
— Вот и сам разницы этой что-то не вижу, — сокрушенно вздохнул рязанский князь.
— А ты другое в виду поимей, — подал голос Мстислав Глебович. — Мы ведь подсобить тебе пришли, с христианскими намерениями — обратить в святую веру здешний народишко, который закоснел уже в поганом язычестве. Нашумели, конечно, малость, но кто же виноват, что они сразу за косы да топоры хватаются. Поначалу-то думали всех миром в церкву загнать да окрестить заново, ан не так все вышло.
— Они идолищам поганым в лесу молятся. Я знаю, где это. Даже показать могу, — пискнул осмелевший попик.
— А с тобой, человек божий, у нас отдельный разговор пойдет, — достаточно спокойно, даже почти ласково пообещал Константин.
Но была в той ласковости такая невысказанная угроза, что уж лучше бы князь как-нибудь прикрикнул — все пар бы спустил. Нет, в себе удержал, а это намного хуже. Попик мигом затаился и сызнова юркнул за княжеские спины.
— Он все верно сказал, — подтвердил Мстислав Глебович. — Ты вон Владимир с Ростовом брал, а у себя под носом язычников не приметил. Вот мы и…
— А тебе, княже, что за печаль была до язычников моих? Ты кто — митрополит или епископ черниговский? — перебил Константин и, ткнув пальцем в дружинника по имени Первак, требовательно спросил: — В чем вина этого князя?
Дружинник чуточку помедлил, припоминая. Его, как и еще троих, к князьям приставили до начала опроса видоков, чтобы запомнить, в чем именно вина каждого. Перваку, можно сказать, повезло. На Мстиславе Глебовиче меньше всего грехов оказалось, и теперь вой, старательно морща лоб, припоминал их все.
— Воя Брутю самолично на копье вздел. Это в Пеньках было. Все жечь повелел. Баб хлестал нещадно, а старухе Матрене так руку перебил, что ни поднять, ни пошевелить ею ныне не в силе. Здесь, в Залесье, девке Бажене и вовсе глаз выбил. Кузница Точилу срубил.
— Да тот кузнец самым главным у них был, кто Велесу да Сварогу жертвы приносил, — выкрикнул зло пленник. — Ты спроси-ка, спроси сам у вдовицы его, пусть она тебе как на духу ответит.
Константин повернул голову к глухо ворчащей толпе.
— Где вдовица? — спросил негромко.
Пауза длилась не меньше минуты. Затем, легко раздвинув двух набычившихся мужиков, угрюмо стоящих в первом ряду, на пустое место вышла крупная женщина лет сорока. Отвесив низкий поклон Константину, она повернулась к Мстиславу Глебовичу и с вызовом произнесла:
— Он хоть и приносил Сварогу жертвы, только никого никогда не забижал.
— Она и сама, поди, язычница! — радуясь тому, что все его слова полностью подтвердились, закричал Мстислав Глебович.
— Христианка я, — женщина сняла с шеи сиротливо болтавшийся на веревочке маленький деревянный крестик, сжала его в кулаке, подошла поближе к пленному и с силой швырнула крест ему в лицо.
Повернувшись к Константину, она как-то жалко улыбнулась и беспомощно развела руками.
— Была христианкой. Ныне же не желаю быть одной веры с этим кровопивцем. — Она, не глядя, кивнула на Мстислава. — Хотела детей окрестить, да муж не велел. Сказывал, в возраст войдут — сами пускай выбирают. Негоже это, когда мы за младенца решать станем. Я уж его и упрашивала, и молила — уперся и ни в какую. Ныне нет в живых кормильца мово, так я им и сама креститься не велю.
— А я говорил, я говорил, — вновь пискнул связанный попик, осторожно высовываясь из-за спин пленных князей и тут же ныряя с опаской назад.
— А ты и вовсе молчи, — повернулась к нему женщина. — Из-за тебя все, окаянный. Не ведаю уже, какому богу ты служишь, только знаю, что злой он, как наш Чернобог, и негоже такому поклоны бить да ради него от наших чистых и светлых отрекаться.
— Богохульница! В аду сгоришь! — вновь пискнул попик.
— Вот-вот. Целыми днями он нас только этим и пугал, — усмехнулась женщина. — А когда мужики его в круг взяли, знаешь, княже, что он нам заявил? Готов он, дескать, за веру свою мученический венец приять от нас. А за то ему на небесах вечное блаженство его бог подарит. Мой-то Точила возьми да спроси: «А нам за это что от твоего бога будет?» А тот в ответ: «Адские муки. Вечно вам в котлах кипящих вариться». Ишь ты какой. Точила и говорит: «Стало быть, ты, поганец, на наших муках хочешь вечное блаженство себе заработать. Мы-то котлов твоих не боимся, вот только противно нам знать будет, что такая нечисть, как ты, блаженствовать станет». Вот и выкинули его из селища. А он воротился, да не один — с силой ратной. А теперь хоть казни меня, княже, хоть милуй, только крест его я больше на себя не надену. — Женщина вновь склонилась перед Константином в низком поклоне и, выпрямившись, гордо вскинула голову, ожидая своей участи.
Князь молча встал, расстегнул полушубок, ворот рубахи и медленно высвободил изящный золотой крестик. Показывая его жене кузнеца, он произнес вполголоса:
— Разные люди Христу поклоняются, — и добавил с укоризной: — И свой крест подбери. Не хочешь носить — принуждать не буду. Верить силком никого не заставишь. Кому пожелаешь — тому и молись. Но и так тоже нельзя. Ты же, крест свой бросив, на одну доску с этим попом встала, себя унизив.
Женщина растерянно взглянула на князя. Иных слов она ждала в ответ. В запале своем даже смерть готова была принять. Всем жизнь тусклой кажется в первые минуты после утери близкого человека. Вот и ей все равно было, что с ней дальше сделают. А князь вон как все повернул. И попрекнул-то деликатно, можно сказать, ласково, и верить во что хочешь разрешил, а главное — ее, кузнечиху простую, да еще и язычницей сызнова ставшую, выше попа поставил. И тут же стыд пришел — а ведь и впрямь погорячилась. Крест-то тут при чем?
Она повернулась, подошла к сиротливо лежащему на снегу кресту, нагнулась, чтобы поднять его, и… неловко взмахнув руками, рухнула навзничь. Это Мстислав Глебович, изловчась, прямо в лицо ей своим сапогом угодил, отомстив за унижение.
Толпа поначалу даже не поняла, что случилось. Не до того ей было. Добрая половина слова князя обсуждала про то, что он никого к вере не принуждает и каждый из них, выходит, теперь уже не таясь может в кумирню к своим привычным богам прийти, дабы требы им принесть.
Лишь когда некоторые из передних охнули возмущенно, все сызнова на кузнечиху внимание обратили, и опять людям еще непонятно было: сидит баба, одной рукой о снег опершись, а другой кровь с разбитых губ вытирает. Что случилось, откуда кровь — ничего не ясно.
Пока те сельчане, которые в доподлинности видели все произошедшее, всем прочим о том рассказали, еще чуток времени прошло. А когда уж толпа взревела — поздно было.
Едва Мстислав нанес свой удар, как Константин мгновенно сообразил, что дальше будет. Мигом с лавки своей соскочил, да так проворно, что она завалилась назад. Первым делом князь окликнул Вячеслава. Затем, ни слова не произнося, обвел толпу рукой, а пленных князей отдельно вкруговую очертил. Только после этого рот разжал.
— Двойное кольцо. Быстро, — произнес он тихо.
Голос князь потом повысил, когда приговор зачитывал. Правда, огласил он его не сразу, поколебался чуток. Сердце чуяло недоброе, ясно было, что ничего хорошего от таких решительных мер, пусть и вынужденных, ждать не придется, но куда тут денешься, если пленные черниговцы сами сотворили все, чтобы головы в петли засунуть.
Константин молча вздохнул, мрачно глянул на толпу, которую от пленных князей отделял уже не один ряд ратников, а два, да еще и третий тут же набегал, выстраиваясь, и поднял руку. Мгновение одно отделяло гул возмущения от рева негодования, но князь успел в эту оставшуюся секундочку крикнуть зычно, так чтобы все услыхали:
— За зло, учиненное вольным рязанским людям, всех четверых повелеваю повесить.
— Князей?! Повесить?! — ахнул самый молодой из них, лицом на степняка похожий.
— Был ты князем. А ныне ты тать шатучий, — сурово ответил Константин вдогон.
Князей уже быстро-быстро, почти волоком, тащили к ближайшим дубам, а трое дружинников сноровисто прилаживали веревки на ветвях. Потом к воинам, которые волокли князей, подбежал воевода, что-то сказал им вполголоса и вновь метнулся к князю.
— Костя, — склонившись к самому уху друга, зашептал он жарко. — Нельзя их вешать. Ну, выпори их, деньги сдери, в тюрьму засунь, то есть в поруб, но только не вешай.
— Поздно, — сурово ответил Константин, кивая на толпу, которая ревела и шла грудью напролом, заставляя дружинников шаг за шагом пятиться назад. — Смотри, что творится. Озверел народ.
— У меня здесь почти сотня. Удержим. Копий с мечами побоятся — не полезут.
— Они уже ослепли от гнева, так что на все пойдут. Сейчас, чтобы их остановить, без крови уже не обойтись. А они и так пострадали. Так что или мы сами князей вздернем, или через минуту крестьяне это сделают. Как видишь, выбор невелик.
Напор толпы и впрямь заметно ослабел, едва только первый из князей закачался на толстой дубовой ветви.
— Маманя, — жалобно пискнул младший Мстиславич.
— Попомнят тебе это отец мой, и мать моя Свобода Кончаковна, и брат мой, Изяслав тоже, — успел выкрикнуть похожий на половца князь Всеволод Владимирович.
— Жди оместников, княже, — это уже крик Мстислава Глебовича раздался, после чего еще одна ветвь закачалась под тяжестью человеческого тела Андрей Всеволодович ничего не сказал напоследок. Молча на тот свет ушел.
— Правосудие и справедливость, Слава, — вещи очень разные. По закону они и впрямь могли бы от меня откупом отделаться. Только, знаешь ли, мне почему-то больше справедливость по душе. Вот как эта. — Он показал на болтающихся в петлях князей. — Все согласно библии: око за око, кровь за кровь, смерть за смерть.
— Ты президент — тебе видней, — вздохнул воевода, сокрушенно глядя на князей, чьи тела продолжали мерно раскачиваться на дубовых ветвях.
— А ты тут не намекай этим словом, — жестко обрезал Константин. — Я слюни распускать и моратории на смертную казнь вводить не собираюсь, так что защитником убийц все равно никогда не стану. И никакой отец Николай никогда от меня пощады для подонков и мерзавцев не выпросит.
— Ты думаешь, мне их жаль? — хмыкнул Вячеслав. — Тут совсем другое. Я ж тебе говорил, что не готова у меня еще армия. Год нужен. А ты четырех сыновей у четырех отцов на веревку. Теперь все. Жди ответного привета. Потому я и расстроился. Тебе сейчас осталось для полного кайфа вон того придурка в рясе рядышком с ними подвесить — и считай, что коалиция будет еще и идейно вооружена.
— А он, между прочим, самый главный козел и есть, — философски разглядывая одиноко стоящего попика, заметил Константин.
— Не хуже тебя понимаю. Только с одной поправкой — козел, но не самый главный. Вспомни-ка донесения из Переяславского княжества и сразу поймешь, кто из ху.
— А все равно он скотина, — брезгливо поморщился Константин.
— Но в рясе, — не отступился Вячеслав.
А толпа все никак не могла угомониться, продолжая, хотя уже не с той силой, напирать на цепь дружинников. Только теперь ее гнев был обращен на последнего из виновников случившейся трагедии, который еще оставался в живых.
За это непродолжительное время поведение попика успело разительно перемениться. Бывает, когда неробкого десятка человек в последние минуты перед смертью вдруг униженно плюхается перед своими судьями на колени, начинает целовать им ноги и униженно вымаливать себе жизнь.
Но бывает и иное. Священник, который вроде бы не отличался особой храбростью, вдруг поняв, что истекают последние часы, если не минуты его жизни, неожиданно преобразился. Раньше он прятался за спины князей, не желая привлекать к себе всеобщего внимания, зато сейчас, когда укрываться стало не за кем, гордо вскинул голову и с ненавистью посмотрел на князя.
Константин вздохнул устало, встал с лавки и неспешно пошел к нему. «Никак этот зверь самолично терзать меня сейчас учнет», — мелькнула испуганная мыслишка, но отец Варфоломей, а именно так звали священника, усилием воли отогнал ее прочь и принялся почти беззвучно читать отходную молитву, настраиваясь на тяжкие муки во имя господа, за которого и пострадать должно быть сладко.
Жалел он сейчас только об одном. Дело в том, что его слабый кишечник в минуты очень сильных душевных волнений не желал слушать никаких увещеваний хозяина и опоражнивался самопроизвольно, причем вместе с мочевым пузырем. Иной раз ему удавалось справиться со своим организмом, неимоверным усилием воли заставив его сдержаться, но такое было далеко не всегда. Сейчас как раз не получилось.
За это ему сейчас больше всего и переживалось. Тоскливо становилось, что князь навряд ли поверит, будто он, отец Варфоломей, готов принять предстоящую мученическую смерть легко и с улыбкой. Да и кто бы на его месте поверил, учуяв эдакий запашок. «Хоть бы уж сразу пришиб», — подумал уныло попик.
Однако он почти сразу понял, что князь идет совсем не к нему, а к жене кузнеца, которая продолжала растерянно сидеть на снегу. Она даже не вытирала кровь, струившуюся у нее изо рта, — острый кованый носок княжеского сапога здорово разбил ей губы.
Константин на ходу достал из кармана платок, еще и порадоваться успел, какой он молодец, что уже с год как повелел, чтобы на всех его штанах карманы сделали. Мелочь, конечно, но постоянно в калиту, висящую на поясе, то бишь средневековую барсетку, лазить ему было как-то несподручно. К тому же здесь она была значительно более неуклюжей и громоздкой, чем в двадцатом веке, — замучаешься ковыряться. Да и непривычен к ним был бывший учитель истории Константин Орешкин. Карман все-таки проще и сподручнее. Вот и пригодился ныне в очередной раз.
Подойдя, присел на корточки рядом, заботливо стер кровь с ее лица, сунул в руку платок и помог подняться.
— Загваздаю я его совсем, княже. Лучше уж снегом. Да оно и привычнее, — как-то беспомощно улыбнулась кузнечиха и протянула жалобно, почти по-детски: — За что он меня так-то?
— Черна была его душа, и бес гордыни крепко обуял ее, — нашелся Константин, прикинув, что бы сказал на его месте отец Николай. — Не держи на него зла. Он теперь все равно далеко — перед богом ответ дает за все свои злодеяния, — и добавил: — А крест ты все же прибери. Не ожесточайся душой.
— Я прибрала, — послушно закивала женщина и, разжав правый кулак, показала крестик Константину. — Ты уж не серчай, княже, на словеса мои глупые. Со зла я наговорила, — повинилась она, пока он провожал ее подальше от притихшей толпы, внимательно наблюдавшей за ними.
Отведя женщину метров за пятьдесят, Константин жестом подозвал к себе ближайшего дружинника и коротко приказал:
— До самого дома доведи.
Возвращаясь назад, князь с неудовольствием заметил, что умолкнувшая было толпа вновь начала гудеть, с ненавистью глядя, на священника и вновь распаляя себя до той крайней точки, когда становится плевать на все.
— Из-за тебя все, проклятущий! Если бы не ты! Ишь, стоит, будто ни причем! — слышались отдельные возгласы.
— Ну и сволочь же ты, батюшка, — хмуро заметил бледному отцу Варфоломею Константин, останавливаясь подле священника и поворачиваясь к толпе.
— Упаси, господи, от язычников поганых, ибо сатана, в их души вселяясь, норовит служителя твоего растерзати. Не допусти, господи, но ежели будет на то воля твоя, то пошли смерть скорую… — донесся до Константина приглушенный торопливый шепот священника.
— Каешься, поганец? — вздохнул Константин.
— Каюсь, ибо грешен есмь, аки и мы все, рабы господни, — сурово ответствовал попик.
— Врешь, собака. Может, ты сам из них, но вот меня в рабы не записывай. И на бога не греши. Ему рабы не нужны. Не для того он нас, людей, создал. — И Константин брезгливо сморщился от густого смачного запаха испражнений, явственно проистекающих от отца Варфоломея.
«Даже смерть принять как следует и то не может», — подумал он и отошел на пару шагов в сторону, но тут неплохая идея пришла ему в голову.
Князь поднял руку, требуя тишины, и обратился к толпе, которая тут же притихла:
— Сей служитель божий сана своего не достоин. Но рясу с него содрать и покарать, подобно тем, что сейчас на дубах висят, я не могу. Нет у меня такой власти.
Толпа опять взревела. Пришлось снова поднимать вверх руку и продолжить после паузы, дождавшись, когда люди хоть немного угомонятся:
— Мыслю я, что епископ, в чьей епархии служит этот поп, узнав, что и как было, сам на него кару суровую наложит, а монастырская темница пострашнее будет, чем на веревке сдохнуть. Тут-то все быстро, раз — и готово. Верно я говорю? — и сразу, не дожидаясь ответа, продолжил: — А он же, недостойный, заслуживает куда более страшной казни за все то, что содеял. Правильно? — Он и на этот раз не спешил, дождался-таки недружных отдельных выкриков:
— Верно сказываешь, княже!
— Чтоб помучился, проклятый!
— Пусть в мучениях издохнет!
— Подольше чтоб!
Снова переждав немного, Константин продолжил:
— А раз вы со мной согласны, стало быть, мы с вами так и поступим — отправим его к епископу на покаяние, дабы тот его и наказал. А чтобы он не сбрехал чего, я вдогон еще и грамотку пошлю с описанием всех бед, кои приключились с вами по его вине. Так-то оно вернее будет. А то ведь он, собака лукавая, сам-то обязательно соврет, правильно?
Князь вновь дождался одобрительных голосов и только после этого повел свою речь дальше:
— Нынче же мы его и отправим в путь-дорогу, в том я свое княжеское слово даю. Пеший-то путь долог, а на коня с собой рядом ни один дружинник его не усадит, потому как обгадился он и дух с него идет мерзкий, — и пожаловался сокрушенно: — Вам-то хорошо, вы от него далече. А я рядом, так что чую, — и заключил с улыбкой: — Одно слово — поганец.
В толпе заулыбались, а кое-где раздались сдержанные смешки.
Даже физически ощущалось, как начинает спадать, смываемое ручьями смеха, напряжение. Гнев и злость, ярость и ненависть растворялись в хохоте, особенно усилившемся после того, как одна из шустрых молодок резво поднырнула под перекрестья копий, преграждавших дорогу, быстренько подскочила вплотную к попику и тут же отвернулась от него, демонстративно зажав нос пальцами.
— Ой, бабоньки, а он ведь и взаправду воняет. Да как сильно-то! — И с веселым визгом, не убирая рук от носа, кинулась обратно в толпу.
— Еще есть желающие принюхаться? — громко спросил князь и повелительно махнул дружинникам. — Вход свободный.
Те опустили копья, однако желающих все равно не нашлось. Толпа, продолжая смеяться, стала постепенно расходиться по домам.
— Ну, кажется, разрядил малость обстановку, — вздохнул Константин с облегчением и горделиво посмотрел на Вячеслава. — Учись, орел!
— Ты гений, княже. Обуздать разъяренную толпу — это талант нужен, — искренне заметил воевода.
— Не обуздать, — поправил князь. — Это как раз бессмысленно. На такое вообще никто не способен. Ее можно либо разогнать, либо возглавить. Но разгонять — без мечей не обойтись, а посему я ее возглавил и постарался повести за собой, на ходу меняя направление ее движения в нужную для меня сторону.
— Грешно смеяться над слабостями телесными, особливо ежели сам человек над ними не властен, — раздался вдруг сзади голос священника.
— Он мне еще и замечания будет делать! — возмутился Константин. — Да я тебя, чтоб ты знал, этой насмешкой от смертной казни спас! А теперь слушай меня и очень внимательно, — жестко произнес князь. — Кстати, как там тебя кличут?
— Отец Варфоломей я, — непримиримо, даже почти враждебно ответил тот.
— Вот он и устроил здесь Варфоломеевский день, — блеснул эрудицией Вячеслав.
— Для начала посмотри, сколько здесь трупов, — князь широким жестом обвел лежащих на снегу покойников, — а теперь погляди, сколько на ветвях болтается, — указал он на деревья и подытожил: — И все это именно твоя работа, ибо ты — самый главный подстрекатель. Так что веревку ты намного больше других заслужил. Ох, как жаль, что ряса на тебе, иначе я бы тебя самого первого повелел вздернуть. Но запомни мои слова, поп, и крепко запомни. Второй раз станешь людей на зло подстрекать — и ряса тебя не защитит. Крови твоей не пролью — пачкаться не хочу. Черная она у тебя, недобрая. Но и в живых тебе не бывать. Повешу сразу, потому что если разобраться по уму, то ты и есть самый главный христопродавец. Уразумел?
Отец Варфоломей угрюмо промолчал, явно не желая вступать в дискуссию, но всем своим видом выражая несогласие со словами князя.
— Короче, так, — вздохнул Константин. — Давай-ка ноги в руки и пошел вон, прощелыга. Дуй, пока цел, по дороге в Рязань. Там покаешься в грехах тяжких и самолично потребуешь, чтоб тебя заперли в темнице. Будешь там сидеть на хлебе и воде до суда епископского.
Он тут же мысленно прикинул, что до приезда отца Николая из Никеи пройдет еще не меньше полугода, так что этот гад еще вдоволь успеет насидеться на голодном пайке, дожидаясь решения епископа.
Константин же самолично проинструктирует всех ответственных за монастырские казематы, чтобы кроме хлеба с водой этому паршивцу в обгаженной рясе ничего не давали. Авось не поумнеет, так хоть притихнет с голодухи.
— Одного не пойму, — кашлянув деликатно, уточнил отец Варфоломей. — Зачем ты мне в Рязань идти велишь, княже, когда надобно в Чернигов?
— Это почему еще? — не понял Константин.
— Так селище-то енто к черниговской епархии относится, — независимо пожал плечами попик. — Стало быть, и епитимию на меня должен накладывать владыка Митрофан.
Это резко меняло все планы. Константин не знал, кто такой владыка Митрофан, но зато прекрасно представлял, что, а главное как, может рассказать о случившемся этот тщедушный человечек. Да еще усмешка какая-то подлая на губах у него промелькнула. Ох, не к добру она. Словом, нужно было все срочно менять.
* * *
В то же лето 6726-е, индикта шестого, в месяц просинец, приехали в селище Залесье четыре княжича из Чернигова и один из Новгорода-Северскаго по просьбе попа отца Варфоломея, дабы язычников злобных, кои в том селе обитали, в веру православную обратити.
Константин же избиша их со дружинами и повесиша яко злодеев, тела же отдаша опосля отцам оных и рек им в злобе окаянной: «Дайте срок и с вами тако же вчиню, егда осильнею».
О ту пору прозваша резанского князя люди на Руси Константином-князеубойцей, ибо он черную славу Святополка Окаяннаго затмиша и умалиша, бо тот токмо в смерти трех братиев повинен бысть, Константин же — сочтем, помолясь — токмо под Исадами девятерых погубил, да Глеба-страстотерпца еще, да прибавь четверых князей владимиро-суздальских, да двух муромских. К им же новые мученики прибавились, числом пятеро и тако общим числом два десятка и еще одного имеем.
Из Суздальско-Филаретовской летописи 1236 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1817* * *
Анализируя летописный материал того времени, можно сказать, что свою экспансию на запад Константин попробовал было начать, согласно некоторым летописям, уже зимой 1219 года. Предлог для этого был вполне подходящий и наиболее распространенный в те времена, причем не только на Руси — предотвратить дальнейшие рубежные споры и провокации со стороны соседей.
Но тут его ждала неудача. Сил оказалось недостаточно, и рязанцы потерпели поражение. С досады Константин приказал умертвить четырех молодых княжичей, захваченных в плен.
Почему он так жестоко поступил с ними? Ни в малейшей степени не пытаясь оправдать рязанского князя, замечу лишь, что он, возможно, попросту не знал, что среди пленных есть и князья, приказав просто повесить всех пленников. Допустим и такой вариант, при котором он мог и вовсе оказаться непричастным к этому злодеянию, например, не исключено, что отдали команду повесить уже в его отсутствие.
Так это было или нет — никому в точности неизвестно. Ясно только одно: потерпев неудачу, Константин затаился и спешно принялся готовиться к отражению ответного удара.
О. А. Албул. Наиболее полная история российской государственности. СПб., 1830. Т. 2, с. 151.Глава 15 Старый, но недобрый знакомый
… И зловещ в мою дверь стук, И завис над главой крюк. В изголовье моем в ряд Страхи, будто кресты, стоят. П. Миленин— Ладно. Так и быть. Замерзнешь еще по дороге, — махнул князь рукой, зорко наблюдая за выражением лица попика. — Дозволяю тебе рясу свою отстирать вместе с исподним да обсушить ее, а назавтра тебя мои вои довезут.
— Нет уж, княже. Слово свое держать изволь, — заупрямился отец Варфоломей. — Раз сказал, что идти нынче же надобно, стало быть, нынче же и пойду. Небось, и сам доберусь. К тому же и мороза почти нет — чего не дойти.
— Нет, — отрезал князь и распорядился: — Я повелел тебе сегодня в Рязань идти. А если в Чернигов надо отправляться, то тогда завтра пойдешь. И не перечь, — рявкнул он. — Осерчать могу, а рука у меня тяжелая. Так что тебе до завтра еще и дожить надо. Дай-ка ты ему, воевода, двух дружинников в охрану, чтобы не обидел кто. — И подмигнул многозначительно. — С ними пусть и отправляется на постирушки.
— Понял, — кивнул Вячеслав. — А с этими как быть, — кивнул он в сторону Басыни, Спеха и уже пришедшего в себя Груши.
— А они что — и вправду от своего князя ушли?
— Самого князя уже не спросишь, — пожал плечами воевода. — Это как раз тот самый, которого мы в лесу еще завалили. Но свидетели утверждают, что молодой и тот, которому плохо стало, действительно за девчонок вступились. Причем так рьяно их защищали, что двоих своих грохнули. Одного молодой копьем проткнул, да еще с такой силой, что доспехи пробил, а второго старый — мечом. Говорят, поединок был — загляденье. Против него лучший мечник в дружине княжеской дрался, а все равно не справился, завалил-таки его старый…
— А третий? — нетерпеливо перебил его князь, озабоченно поглядывая на небо, тускнеющее в вечерних сумерках.
— Третий за старого вступился, когда его князь схватить приказал. Говорят, что он перед этим тоже от службы в дружине отказался.
— Ишь ты, — уважительно заметил князь. — С волками жили, а по-волчьи выть не захотели. Значит, для нашей дружины годятся, — сделал он вывод.
— Если согласятся, — осторожно заметил Вячеслав.
— Ну а на нет и суда нет, — пожал Константин плечами. — И без них троих у тебя людей достаточно. Ты иди своих проинструктируй, чтобы с попом ничего не случилось. Ежели не устерегут, головой ответят, — распорядился он уж на полдороге к троице загадочных черниговцев, терпеливо дожидавшихся окончательного княжеского решения.
Около них нетерпеливо переминались с ноги на ногу трое дружинников.
Остановившись возле сидящих на снегу Спеха и Басыни, князь тоже, ни слова не говоря, присел рядом на корточки. Молчание длилось с минуту. Первым не выдержал, как ни странно, Басыня.
— Ты уж либо так, либо так, княже, — посоветовал он миролюбиво. — Чай, не маленькие мы. Порешил что, так не томи душу. А то ишь, гляделки уставил на меня, как телок недельный. Что я тебе, икона, что ли? — и уже совсем грубо поторопил: — Давай, давай, чего ты там удумал для нас, то и делай.
Спех изумленно покосился на старого ратника, обреченно решив, что даже если князь и колебался до начала речи Басыни, то теперь-то уж точно вздернет всех троих. Даже дядьку Грушу не пожалеет, хотя тот и молчит.
— Добрая половина князей за такие дерзкие слова тебя бы тут же и повесили, — будто в подтверждение мыслей Спеха заметил князь.
— Только ты, как я слыхал, из другой половины будешь, — осклабился Басыня.
— Из недоброй? — усмехнулся Константин.
— Из меньшей, — уточнил старый ратник.
— Ну-ну, — протянул Константин и распорядился, вставая: — Всех развязать, напоить, накормить и спать уложить. Утром поговорим.
— И не караулить? — уточнил старший из охраны. — А ежели за ночь сбегут?
— Не сбегут, а уйдут, — поправил его князь. — Они вольные птицы, так что могут идти куда угодно. Только темно ночью, да и волков в лесу хватает. К тому же и товарища своего они никак не бросят. Да и любопытно, поди — о чем утром князь с ними толковать станет. Верно, Басыня? — Он весело подмигнул ветерану, на что тот уже более дружелюбным тоном заметил, с наслаждением разминая запястья, освобожденные от веревок:
— Почти. Только в последнем ты чуток промашку дал, княже. Это вон ему, молодому, — кивнул он на Спеха, — любопытно, а я-то уже и сейчас знаю, что ты сказать нам хочешь.
Он тоже в свою очередь хитро подмигнул Константину.
— И что? — заинтересовался тот.
— Да в дружину свою пойти предложишь, — почти равнодушно заметил Басыня.
Только голос его при этом чуть-чуть дрогнул, выдавая внутреннее волнение старого вояки.
— А если бы и впрямь предложил, то ты согласился бы?
— Как на духу скажу тебе, княже, да и то лишь потому, что понял ты правильно слова мои дерзкие и обиды на них не выказал. — Басыня глубоко вздохнул и продолжил: — Я уже старый. За молодыми не всегда смогу угнаться, но кое в чем ином и они до меня не дотянутся. И вой с меня справный будет. Опять же ни кола, ни двора не имею. Язык меня всегда подводил — что князь Мстислав, что сынок его Гавриил Мстиславич за него меня не больно-то жаловали. Так что ни селищ, ни терема своего я так и не нажил.
— А я селищ не раздаю. У меня все смерды только в княжьей воле, — заметил Константин. — А гривны получать будешь, как все прочие.
— Так-то оно так, — снова вздохнул Басыня. — Да душа у меня, видать, шибко вольная. А теперь она и вовсе на свободу вырвалась, за столько лет в первый раз. Погоди маленько. Пускай она налетается. Правда, перья малость пощипали твои орлы — пусто ныне в калите, ну да ладно уж, и так не пропаду.
— А летать где собрался? Если по Чернигову, то не советую. Проведают князья, что здесь стряслось, быстрее, чем петуха, обдерут и живьем в котле сварят.
— А по твоим владениям, стало быть, дозволяешь? У тебя теперь ныне земель много, — вновь хитро прищурился Басыня.
— Да хоть круглый год броди, — весело махнул рукой Константин и посоветовал: — А утром ты все-таки ко мне загляни, а то негоже с пустой калитой на воле гулять. Верну тебе все сполна.
— Э-э, нет, княже, — укоризненно заметил старый ратник. — Это ведь людишек твоих законная добыча. Я порядок знаю. Не дело ее назад отбирать.
— А я и не буду, — пообещал Константин. — Из своих отдам.
— Во как, — изумился Басыня. — Так там много было, аж четыре гривенки новгородские.
Константин вопросительно посмотрел на старшого из своих дружинников. Тот, секунду помявшись, вспомнил, что князь обещал отдать из своих, и уже без опаски выпалил быстро:
— Брешет он, княже. Три гривны там было, аккурат нам по одной на брата. Да и те киевские.
— А помимо их?! — искренне возмутился Басыня.
— Помимо их у тебя там всего три медяка старых валялось, и все.
— Вот. Я же говорю, княже, почти четыре гривны, — удовлетворенно заметил старый ратник. — А новгородские или киевские — вою в том разбираться недосуг.
— Это с каких же пор три куны почти гривной стали? А уж киевские от новгородских даже слепой отличит, — хмыкнул Константин. — Ладно, получишь ты обратно три своих гривенки[71].
— Новгородские? — уточнил Басыня.
— Рязанские, — улыбнулся князь и успокоил насторожившегося ратника: — По весу те же, а расплачиваться станешь — товару даже больше возьмешь. Держи одну, — покопавшись в кармане, он выудил оттуда большую серебряную монету свежей чеканки.
На аверсе у нее красовался в полном парадном облачении сам Константин со скипетром в одной руке и шаром-державой — в другой. Обрамляющая надпись заверяла особо бестолковых, что это и есть на самом деле «Великий князь Рязанский Константин».
На реверсе был выбит гордый сокол, цепко сжимающий в своих когтях обнаженный меч. Вообще-то надлежало сунуть в лапы птице трезубец, но после некоторых колебаний — все казалось, что это вилы какие-то, — вид оружия было решено изменить. Чай, не Посейдон, чтоб трезубцем махать, да и нет пока морей в Рязанском княжестве — не вышли покамест к ним. Рисунок был обрамлен снопами пшеничных колосьев. Здесь же был указан и номинал монеты.
О том, как именно его обозначать, тоже имелись разные мнения. То ли не спешить и оставить на всех русские буквы[72], то ли последовать рекомендации Миньки, который настаивал сразу перейти к арабским цифрам. Резон в этом был. Когда будет проведена реформа алфавита, то переходить на них придется обязательно. Ведь некоторые буквы, которые предстояло сократить, тоже означали цифры[73]. Не станет букв — надо менять и цифры. Значит, придется возиться с переделкой чеканов и маточников.
В конце концов решили все-таки не спешить и буквенные обозначения цифр частично все-таки оставить, кроме трех монет — самой крупной и самой мелкой, где номинал был указан прописью: «Одна гривна» и «Одна куна», а также для будущего рубля, на котором написали: «Рубленая гривна».
— Как живой, — уважительно, но в то же время с легкой долей усмешки — мол, чем бы дитя не тешилось, — заметил Басыня, внимательно разглядывая изображение князя на монете.
— А то, — в тон ему заметил Константин, улыбаясь, будто желая сказать: «Ну, ты-то понимаешь, что мне и самому такое возвеличивание не очень нравится, но раз для княжества полезно, то куда же тут денешься — надо».
— А ежели я к тебе совсем в дружину не пойду? — уточнил Басыня. — Гривны-то эти назад, поди, истребуешь?
— Что с возу упало, то пропало, — пожал плечами Константин. — Чай не разорюсь я с такого подарка.
— Ну-ну, — напряженно размышляя о чем-то, хмурил и без того морщинистый лоб Басыня. — А с ними как? — кивнул он в сторону товарищей.
— Если бы ты не спросил, то я б тебя в дружину нипочем бы не взял, — заявил ему князь и ответил: — Грушу твоего лечить надо. Раны-то не очень тяжелые у него, но крови много вытекло. Раньше чем через месяц он не оклемается. Ну а как в себя придет — пусть сам решает. Захочет на вольные хлеба — земли у меня в достатке. А если в дружину пожелает — тоже отказу не будет. Молодой же ваш…
— Я дядьку Грушу не оставлю, — быстро выпалил Спех. — Куда он, туда и я.
— Значит, вместе решите, — согласился князь. — Только в Залесье его оставлять, пожалуй, не стоит.
— Баба та сказывала, чтобы его к ней принесли. Она-де малость в травах ведает, так что на ноги мигом поставит, — снова перебил Спех и тут же получил увесистый подзатыльник от Басыни.
— Не перебивай князя, — поучительно заявил тот и извинился: — Ты не гляди, княже, что он телок телком. С жеребцом-двухлеткой на плечах плясать может. Его только научить малость ратной науке да еще вежеству чуток, и вой будет на загляденье.
— Я и так на загляденье, — буркнул Спех, немного обиженный на такую бесцеремонность.
Впрочем, обиду изрядно перевешивали добрые слова дядьки Басыни. Такая лестная рекомендация со стороны старого воина, как понадеялся парень, должна была сослужить ему хорошую службу, если князь станет колебаться — брать или нет его в дружину.
Но радужные мечты почти сразу сменились еще одним подзатыльником, столь же увесистым, как и предыдущий.
— Думай, допрежь того, как слово молвить, — пояснил Басыня. — Пока еще загляденье для одних девок. Для князя же — неуч языкатый, не больше. Ну да, пока Груша болеет, я за тебя всурьез возьмусь.
Спех только вздохнул горестно. Лестная рекомендация разваливалась буквально на глазах.
— Крепись, парень, — сочувственно заметил князь и поинтересовался: — Тяжелая рука-то, поди, у Басыни?
— Не тяжельше, чем у Груши, — вздохнул Спех.
— Ну, тогда ничего. Авось тебе не привыкать, — констатировал князь. — А у тебя-то что же? — обратился он к Басыне. — Планы-то никак поменялись? Я так понимаю, что ты остаться решил, коли Спеху пообещал взяться за него.
— Куда ж их бросать-то ныне? — вопросом на вопрос ответил тот и пожаловался: — К тому же я и сам — человек ветреный. Вечор так надумал, а поутру, глядишь, уже все переиначить норовлю. Нынче мысль в одну сторону, а к завтрему…
Но досказать, в какую сторону направятся его мысли «к завтрему», Басыня не успел — его перебил истошный вопль дружинника, бегущего откуда-то из леса:
— Убег, убег! Никто его не забижал — сам убег!
— Да что стряслось-то, толком говори, — прикрикнул на него князь, хотя сам уже все понял — попик удрал.
— Мы, княже, недалече от него были — десятка два шагов, — взволнованно начал пояснять ратник. — Ближе не подходили, каюсь, уж больно смердело от него. Но за селищем все время строго бдили — никто оттуда на него накинуться не смог бы. В том я голову на отсечение даю. А опосля глянули как-то в его сторону — а его и след простыл. Мы туда-сюда, по следу пошли…
— И куда след вышел? — нетерпеливо перебил князь.
— А к дороге, по которой мы сюда ехали, — пояснил смущенно дружинник. — Мы чуть дальше по ней двинулись, думали, что заплутал он да не в ту сторону пошел. Опять нет. С версту туда прошли — никого впереди не видать.
— То ли успеем, то ли нет, но погоню посылать надо, — заметил Константин Вячеславу, прибежавшему на крик своего воина.
— В лесу заховается. Все равно не сыщем — темень же кругом, — неуверенно возразил воевода и предложил: — Может, завтра, а?
— А это твоя вина, между прочим, — вскипел Константин, не выдержав спокойного, рассудительного тона, которого старался придерживаться. — Ты сказал этим раззявам, — он небрежно кивнул в сторону бывших караульных, — что они за него головой отвечают?
— Ну, сказал, — вздохнул Вячеслав. — Но…
— Без ну, — оборвал его Константин. — Без ну и без но. Теперь пусть отвечают, как и сказано было. А ну-ка…
Остатков самообладания у князя хватило только на то, чтобы отвести своего проштрафившегося воеводу метров на тридцать в сторонку, дабы не подрывать его авторитет, и еще на то, чтобы держать в узде свой голос, не срываясь на крик.
— Ты что, совсем очумел?! — зло шипел он. — Ты не понимаешь, что будет, если он все-таки доберется до черниговского епископа?! Ты понимаешь своей дубовой башкой, чем и как он нас с тобой вымажет?! Да по сравнению с этим его сегодняшняя вонь шанелью номер пять покажется. Ты же сам просил меня, чтобы я убивать его не велел! А теперь что?! Я и жизнь-то ему сохранил по твоей же просьбе!
— Чтоб не ссориться с попами, — вякнул было Славка.
— Ах, чтоб не ссориться, — всплеснул умиленно руками Константин и вновь зашипел: — Да лучше бы мы его десять раз повесили, и то скандал меньше был бы. А теперь он такую бучу заварит, что только держись. Мало мне епископа Симона, так еще и черниговский Митрофан подключится, чтобы во второе ухо митрополиту киевскому против меня дудеть. А плюс к ним четыре отца невинно убиенных сыновей.
— Сыновья — это твоя работа, — снова попытался возразить воевода, но Константин вновь грубо оборвал его:
— Ты что, совсем не соображаешь?! Я их повесил — и только! А вот невинно убиенными их твой беглый попик сделает, да еще вместе с епископом в ранг мучеников за святую веру возведет. Тем более, насколько я знаю, в Чернигове со своими святыми большая напряженка. Это же для них прямо-таки подарок судьбы лично из рук простофили, который почему-то до сих пор в воеводах рязанских ходит. Ты же из внутренних войск, паразит! Ты же специалист по охране зон! А тебе одного обгадившегося зэка доверить нельзя.
— Да внутренние войска их давным-давно не охраняют. ВВ знаешь как переводят, точнее, переводили — воюющие войска, понял?! — не выдержал наконец Вячеслав. — И катись к черту вместе с этим воеводством! Я что — в тюремщики к тебе нанимался?! Я тебе хоть один бой проиграл?! Нет! У тебя княжество впятеро увеличилось. Благодаря кому?!
— Так-так, — произнес Константин, внезапно успокоившись, каким-то странно холодным и до тошноты равнодушным тоном. — И благодаря кому в пять раз увеличилось мое княжество?
— Благодаря всем нам, в том числе и мне, то есть мой вклад тут тоже есть, — тут же уловил опасную грань в разговоре, за которую переступать чревато, Вячеслав.
— Странно, а я-то думал, что мы с Минькой здесь вообще ни причем, — не принял его примирительного тона князь и сухо заявил: — Короче, так. Слово тебе сдержать придется, хоть ты тресни. Либо попика найти, либо пусть оба этих раззявы головами отвечают, тем более что ты их предупредил. Я спать пошел. К утру доложишь, как и что. — Он резко развернулся и направился к избе тиуна.
Полегчало ему, да и то слегка, лишь когда он в одиночку вылакал чуть ли не жбан медовухи. Да и то скорее просто в сон потянуло, хотя лучше бы ему было в ту ночь вообще не спать. К такому выводу Костя пришел утром, когда проснулся от собственного истошного вопля и едва смог оторвать чумную и тяжелую, залитую свинцом голову, от подушки.
Странные, загадочные сны не раз и не два посещали его и в предыдущие ночи. Не в каждую, конечно, но приходили. Были они очень похожи друг на друга и очень страшны. В то же время попроси кто-нибудь Константина рассказать их содержание, он при всем желании не смог бы этого сделать. Едва наставало пробуждение, как сон начисто исчезал из памяти, оставляя после себя лишь гнетущую тяжелую тревогу и мерзкое тоскливое настроение.
— Пройдет, — поначалу небрежно отмахивался он, и действительно, хоть и не сразу, но все проходило.
Однако постепенно такие сны стали учащаться — раз в неделю, затем раз в два-три дня. В памяти они по-прежнему не оставались… до сегодняшнего утра.
Зато это последнее сновидение Константин запомнил четко.
Словами рассказать, от кого он убегал всю ночь, колеся по ночным улицам родного Ряжска, он бы все равно не смог. Помнил одно: сам Ряжск был точно таким, каким он запомнился ему, когда Константин отдыхал там у родителей последний раз. Та же старая добрая Новоряжская, та же Первомайская, те же пятиэтажки на Лермонтова и двухэтажки на Вишневой, старый, изрядно подзапущенный парк с красавицами березами.
Вот только в парке во сне почему-то до сих пор не был разрушен летний кинотеатр, и карусель, на самом деле давным-давно сломанная и уже изрядно заросшая травой, продолжала весело вертеться.
Зато людей он во сне не видел. Нигде. Ни одного человека. Город будто вымер, и оставались в нем лишь сам Константин да еще загадочные аморфные черные преследователи. У них не было лица, ног, рук, но каким-то странным образом они ухитрялись догонять его, хватать, держать и при этом… ласково улыбаться.
Последнее почему-то было страшнее всего. Косте казалось, что даже если бы они рычали на него и угрожающе клацали при этом целой сотней острых клыков в три ряда — было бы намного легче. И ведь они совершенно не причиняли боли, даже удерживали его очень мягко, почти ласково, но эта ласка как раз и пугала больше всего.
А главное — они были повсюду, где бы он ни пытался от них скрыться. Он баррикадировал стульями дверь в одном из классов своей родной сто восьмой школы, но тут вдруг начинал понимать, что они, он, оно — неважно — уже здесь и нужно срочно разбирать созданный им завал.
Он пробирался к другу, который жил в маленькой трехэтажке на улице Островского, но едва появлялся в его квартире, как чувствовал, что они уже тут, причем давно.
Он успевал кубарем скатиться по лестнице и пробежаться до авторемонтного завода, но из-за проходной внезапно выплывало ласково извивающееся аморфное нечто, и нескончаемая погоня вновь возобновлялась. Мелькали улицы, дома, предприятия, Сельчевка сменялась на Захупту, та, в свою очередь, на железнодорожную станцию, вновь парк и опять пятиэтажки и снова Новоряжская — спасения не было нигде.
Чуть-чуть полегчало у него на душе лишь в первые минуты пробуждения. По крайней мере, теперь ему погоня точно не грозила. Но едва он натянул штаны и открыл дверь, чтобы спуститься из своей ложницы, как тут же откуда ни возьмись выплыло ночное существо — доброе и оттого еще более страшное, потому что лишь казалось добрым.
Кое-как закрывшись в ложнице, он наспех придвинул к двери какой-то пузатый неподъемный сундук, но едва уселся для надежности на него сверху, как распахнулось единственное на всю комнату узенькое слюдяное оконце и из него величественно выпрыгнула черная тень. Она стремительно обхватила Константина за плечи, он в ответ что-то истошно заорал и… вновь проснулся. Оказывается, это тоже было сном.
Константин перевел дух и прикусил губу. Стало больно. Убедившись, что уж на сей раз все в порядке, он откинул одеяло, под которым… извивалось черное нечто. Нет, не извивалось. Оно — о боже! — ласкалось, заигрывая и постепенно перебираясь все выше и выше.
Едва оно достигло коленей, как Константин согнал с себя ужас оцепенения и попытался выбежать за дверь, но та была закрыта. Оставался один путь — в окно. Выбив его вместе с рамой, он попытался пролезть сквозь узкий проем, но не смог и застрял. Попытки вылезти назад успеха тоже не принесли.
Во дворе далеко внизу встревоженно бегали какие-то люди. Константин четко видел их маленькие фигурки, а внимательно присмотревшись, даже опознал некоторых. Вон Минька, там Доброгнева, а рядом с ней Славка. Чуть поодаль Юрко по прозвищу Золото. Вот он подбежал к остальным, развел беспомощно руками, что-то объясняя, и вновь подался куда-то прочь. Следом за ним убежал и Минька. Махнув на них рукой, направился в другую сторону Славка.
Тут же вместо них появилась целая толпа новых людей. Где-то по углам двора бродили, словно пьяные, черниговские князья, которые хоть и были повешены, но, оказывается, все равно оставались живы. Они даже о чем-то болтали между собой, задумчиво крутя в руках веревки, свисающие с шей. Веселилась и притоптывала ногами в самой середине двора жена кузнеца. О чем-то напряженно думал облокотившийся на меч Басыня, возле которого сидели Спех и Груша. Неистовый попик, стоя совсем рядом с ними, угрожающе тряс крестом, вздымая его высоко над головой.
Потом все они тоже куда-то разбежались, но зато появился старый волхв в паре с Маньяком. Ведьмак то и дело снимал с головы неизменную воилочную шапочку и протирал ею лысину.
«Э-ге-гей!» — хотел закричать им Константин, но язык не слушался. И в этот же миг нечто коснулось его и снова поползло вверх. От панического ужаса голос прорезался, и его, кажется, услышали, во всяком случае, все задрали головы вверх, высматривая горлопана.
«Ну, наконец-то», — подумал Константин, увидев, как Всевед испуганно машет ему рукой. Затем волхв что-то сказал Маньяку, и тот заметался по двору в загадочных поисках. Нечто уже плотно обхватило его ноги, как жгутом, бережно, но крепко спеленало их так туго, что вырваться не представлялось возможным, и двинулось дальше.
Константин еще раз отчаянно заорал и… выломал полстены, рухнув вместе с нею во двор. Полет был неспешным и плавным, тем более что ему удалось высвободиться от деревянного обруча, представлявшего собой каркас бывшего окна. Да и приземлился он точно в подставленные руки Маньяка, но, глянув на свое тело — лучше бы не глядел, — вновь заорал от панического ужаса. Черная тварь, лукаво улыбаясь, удобно расположилась у него в районе живота и явно не собиралась этим удовольствоваться.
Он заорал еще громче, с ненавистью ухватил это скользкое, противное, черное нечто, чтобы содрать его с себя, но чем больше усилий прилагал, тем больше увязал в студенистой вязкой черноте, с ужасом наблюдая, что его руки исчезли в ней уже почти по локоть, а процесс и не думает замедляться.
Перед глазами неожиданно все завертелось в нескончаемом хороводе — Всевед с угрожающе занесенным посохом, перепуганный чем-то ведьмак, беспомощно лежащий на земле, Доброгнева с каким-то кувшином, а дальше все быстрее, быстрее, а тварь все ближе, ближе, почти рядом с его лицом, и тут… он вновь проснулся.
На этот раз его разбудил стук в двери. Князь слабым голосом прохрипел, чтобы вошли, и увидел Вячеслава. Тот сухо доложил, что все возможные пути побега попика перекрыты, на всем берегу Дона на десять верст выставлены патрули, а оставшиеся четыре сотни поскакали на выручку полона, ведомые проводником Басыней, добровольно предложившим свои услуги. Воевода вскользь заметил, что по его здравому размышлению ратники, упустившие попика, все равно ни в чем не повинны, потому что княжескую команду охранять священника от жителей деревни они выполнили, можно сказать, на пятерку. Посему их ни казнить, ни изгонять из дружины не представляется возможным, чтобы не допустить явной несправедливости, если не сказать больше.
В заключение своего доклада он явно собрался произнести что-то торжественное, даже встал по такому случаю со стула и, сделав шаг к кровати, уже начал было говорить:
— А теперь, княже…
И вдруг как-то сразу осекся на полуслове, замолчал и принялся пристально рассматривать лежащего князя. Что именно Вячеславу удалось разглядеть, Константин не знал, но тот явно увидел что-то нехорошее. Лицо воеводы тут же стало каким-то испуганным и встревоженным одновременно, и он неуверенно произнес:
— Костя, ты извини за вчерашнее. Я же не думал, что ты так сильно из-за побега этого козла в рясе переживаешь. Решил, что выпендриваешься.
— А сейчас что — дошло? — вяло улыбнулся Константин, которому после всех этих сновидений все остальное внезапно показалось пустяками и мелочью.
Он еще успел удивиться тому, как остро им вчера была воспринята такая ерунда, как побег попика, прежде чем до него дошел смысл ответа Вячеслава:
— Да вот как только виски твои седые увидел, так сразу и осознал. Ты уж не сердись на дурака тупого, — Какие виски? Чьи? — все равно не понимал или не хотел понимать Константин.
— Твои виски, — терпеливо и непривычно серьезно, будто разговаривая с больным, пояснил Константину воевода.
— А почему седые? — продолжал играть в непонимание князь.
— Из-за переживаний? — высказал догадку Вячеслав.
— Ну, будем считать, что из-за них, — хрипло откликнулся Константин, решив не рассказывать пока, из-за чего он на самом деле поседел.
Впрочем, он и не солгал, ведь во сне ему и впрямь пришлось пережить такое, что и сравнить-то в жизни не с чем.
Хотя нет, стоп!
И словно молния вспыхнула в его голове, при свете которой ярко осветились все самые темные закоулки памяти, в том числе даже такие, которые ему самому лишний раз чертовски не хотелось ворошить. Шалишь, брат. Сравнить-то, оказывается, было с чем, но от этого стало еще страшнее. И он понял, что нужно делать.
Бывает, что главный герой героически сдвигает брови и сурово заявляет, что некая смертельная угроза — это его проблемы. Затем он скорбно уходит, чтобы одолеть бесчисленное множество врагов с автоматами Калашникова в руках.
Константин таким героем не являлся, сам себя им никогда не считал и не испытывал особого желания таковым стать. Он не бегал жаловаться в жилетку по пустякам, не закатывал глаза, не заламывал руки. Но в некоторых случаях, трезво все обдумав и взвесив, он просто понимал, что именно тут, в данной конкретной ситуации, его одного будет маловато. То есть может и хватить, что вряд ли, а может и нет, что скорее всего.
Вот и сейчас он пришел к тому же выводу. Только с кем конкретно посоветоваться? Друзья? Доброгнева? Нет, все это было не то.
Однако почти сразу же он вспомнил, что есть у него один мудрый человек, который как раз именно в этой ситуации мог бы дать ему мудрый совет. Не зря же он приснился — ой, не зря. А раз решение принято, оставалось только претворить его в жизнь. Но срочно! Немедленно! Иначе можно и не успеть.
Константин быстро вскочил с кровати и бросил отрывисто:
— Слава, все на тебя здесь возлагаю, а мне срочно нужны сани со сменными лошадьми и десяток дружинников.
— А ты сам-то… куда? — оторопел от неожиданно выказанной прыти друга воевода.
— Я к Всеведу. Вопрос жизни и смерти! — честно ответил Константин, лихорадочно одеваясь.
— Чьей жизни и чьей смерти? Да скажи толком — чего кота за хвост тянешь! — озлился вдруг Вячеслав.
— Моей жизни и моей смерти, — пояснил Константин и добавил: — Смерть возможна, если я до ночи не успею добраться до Всеведа.
— А еще яснее? — продолжал допытываться воевода.
— А еще яснее я и сам себе толком не могу объяснить. Чувствую, и все тут, — поставил жирную точку князь и поторопил друга: — Слава, срочно давай.
Сил еще хватало, чтобы пошутить о чем-то нейтральном перед отъездом, но, как оказалось, шутка была не очень удачной, потому что Вячеслав, выслушав ее, скривился, как от нестерпимой зубной боли, и поинтересовался:
— A y тебя вообще-то как с самочувствием? Не заболел случайно? — и выразительно поскреб у виска указательным пальцем.
— Пока нет, но если еще одна такая ночка выдастся, то я точно заболею, — уверенно пообещал Константин, чем еще больше озадачил воеводу.
По пути к Рязани их настигла вьюга. К ночи они едва успели добраться до Переяславля-Рязанского, остаток дороги проделав чуть ли не на ощупь, чтоб не сбиться.
В Переяславле Константин приказал, чтобы дружинники устроили дежурство у его кровати, разбив ночь на пять смен. Каждой смене он поставил только одну задачу — будить самого князя каждые десять минут, засекая время по песочным часам.
Впрочем, насчет десяти минут сказано было образно. Константин сам толком не знал, за какое время песок целиком пересыпался в нижнюю часть этого древнего прибора, но это было и не столь важно — десять минут, девять или двенадцать. Главное, чтобы ему не успел присниться вчерашний кошмар.
Дружинники честно бдили и честно будили, отчего голова Константина к утру невыносимо раскалывалась, в ушах что-то непрерывно звенело, а виски ломила тяжелая тупая боль.
До следующей ночи они все-таки успели домчать до Всеведа. По пути от дикой скачки из двадцати четырех лошадей — у каждого была вторая на смену, а в сани запрягали парами — осталось всего четырнадцать. Остальные пали по пути, да и те, что оставались в живых, выглядели не лучше.
Но окончательно добил Константина суровый приговор Всеведа. Едва князь появился близ уютного костра на заветной полянке и радостно поздоровался со старым волхвом, как тот, даже не приподнявшись навстречу дорогому гостю, а лишь тревожно всмотревшись в него, вместо приветствия сразу же вынес мрачный вердикт:
— Темнеешь, — Стало быть, все-таки Хлад, — выдохнул обреченно Константин и как куль с зерном, тяжело и бесформенно, брякнулся рядом с костром, чуть ли не усевшись прямиком в жаркое пламя.
Впрочем, даже если бы и рухнул в него, то вряд ли заметил бы, пока не загорелся всерьез. Отныне любая опасность была для него ерундой и пустяком, не заслуживающим внимания, по сравнению с тем, с каким «милым и славным» старым знакомым предстояло ему встретиться. Как скоро? Да как только уснет, а человек без сна может продержаться всего несколько суток — это Константин знал точно.
Он с надеждой взглянул на старого волхва, но тот лишь сурово нахмурил брови и мрачно засопел. Сказать ему было явно нечего.
Глава 16 Надейся, но и готовься
О, страшных песен сих не пой Про древний хаос, про родимый! Как жадно мир души ночной Внимает повести любимой! Из смертной рвется он груди, Он с беспредельным жаждет слиться!.. О, бурь заснувших не буди — Под ними хаос шевелится!.. Ф. И. Тютчев— Не думал я, что он так скоро свой голос поднимет из твоего нутра, — проворчал Всевед, внимательно выслушав Константина.
Впрочем, он его не только выслушал, но и вопросов накидал — будь здоров. Для начала волхв детально разобрал весь сон. Интересовало его буквально все: как бежал князь, где именно бегал, куда и откуда, с какой скоростью, где прятался и так далее. Выяснив это, он сделал короткий, но глубокомысленный вывод:
— Не сдаешься — это хорошо. Убегаешь — это еще лучше. Борешься — это ты и вовсе молодец.
Далее разговор перешел к Хладу. И снова рекой полились вопросы, после которых Всевед сделал новый вывод, еще короче и еще туманнее:
— Подлизывается, гадюка.
Константин было подумал, что на этом волхв из роли следователя выйдет, но тот, по всей видимости, с нею уже сжился, причем капитально. После вопросов о том, какие были люди во сне, во что одеты, чем занимались и прочее, последовал детальный допрос о событиях тех суток, которые предшествовали сну.
И снова последовала череда нескончаемых подробностей, которые Всеведу позарез нужно было знать: как выехали, где была засада, даже какого сорта деревья рубили в лесу, чтобы устроить завал для черниговцев. Это не говоря уже о суде, где волхв докапывался до самых крохотных мелочей. Он даже спросил, какого цвета был домотканый половик, который постелили князю на лавке, а также какой был узор на том платке, который он отдал жене кузнеца.
Под конец у Константина стало складываться мнение, что Всевед попросту не знает, что ответить, а главное — что посоветовать князю. Сознаваться же в этом гордый старик ни в какую не хочет, вот и тянет время.
Тем временем глаза у Константина слипались все больше и больше. Спать хотелось неимоверно, но заснуть он боялся. Ведь это, скорее всего, означало бы, что к нему снова придет очередной страшный сон, и сумеет ли Константин в очередной раз убежать от своего старого, но, увы, весьма недоброго знакомого — бог весть. А если не успеет, то что с ним тогда произойдет там, во сне и что случится наяву?
Аккуратно, намеком, вскользь, он попытался выяснить все это у волхва — вдруг тот сможет подсказать. Всевед выслушал, не спеша подкинул несколько увесистых поленьев в жаркий костер и произнес медленно:
— Тварь эта, Хладом прозываемая, чуть ли не бессмертной считалась. Посох мой, что от волхва к волхву передавали, никто в дело так ни разу и не пустил. Это ведь нам с тобой так свезло, хоть и не до конца. А раз он жив был все эти годы, то ни в кого залезть и не пытался. Зачем ему? Вот почему, княже, я тебе ответа дать не могу. Рад бы хоть что-то сказать, да сам ничегошеньки не знаю. Об одном лишь догадываюсь — нельзя дожидаться того часа, когда ты вовсе черен станешь. Не ведаю я — какая сила в тебе забурлит в ту пору, но справиться с тобой тяжко будет.
— Даже с посохом? — усомнился Константин.
— Ты же князь — о том не забывай. Повелишь, так вся дружина за тебя встанет, чтоб меня изничтожить. Посох же против Хлада пользу даст, а так-то для меня он чаще всего клюкой обыкновенной служит, и все.
— Может, лекарство какое есть? Травы, например, или грибы? — не унимался Константин.
Очень уж не хотелось ему признавать бессилие перед надвигающейся угрозой.
— Разве что мухоморы или поганки, — буркнул Всевед. — Если болезнь неведомая, то как лекарство сыскать, помысли?
— То есть неизвестно даже, кем я стану и что вообще со мной произойдет, так? — уточнил Константин.
— Одно скажу — хорошего ждать от этого глупо. Да, пожалуй, и плохого тоже, — уточнил волхв и добавил, поразмыслив: — Только страшное. А ты сам-то чего больше всего боишься? Смерти?
— Умру — полбеды, хотя тоже неприятно, — начал Константин.
Начал и тут же остановился. Никому не хочется рассказывать, когда твой собеседник начинает невесть с чего веселиться, да не просто улыбаться, а взахлеб хохотать эдаким противным старческим дробным смешком.
— В первый раз я слышу, чтоб люди вот так про свою смерть сказывали — неприятно, — вытер выступавшие на глазах слезы Всевед. — Ты уж прости, княже, что не удержался. Но ты говори, говори.
— Да, всего лишь неприятно, — упрямо повторил Константин. — Гораздо хуже, если я не умру, но стану уже не собой. Ты представь только, что тогда Русь ждет. Да любой враг по сравнению со мной счастьем покажется. Впрочем, ты и сам об этом сказал. Что-то страшное будет, — повторил он слова волхва.
— Верно сказываешь, — одобрил Всевед уже серьезно. — То самое страшное. Да такое, что дальше уже и некуда. Ну да ладно. Времечко позднее, а тебе, вон, спать хочется, аж скулы раздираешь. Отдохнем прямо тут, у костра, а поутру и поговорим.
— А как же мне спать-то? — усомнился Константин. — Он же опять… начнет.
— Никаких опять, — строго заметил Всевед. — Ты в дубраве моей заповедной. Нешто забыл, что нечисти сюда хода нет.
— А как же Маньяк? Он же вроде хороший, но тоже нечистью считается?
— То своя нечисть, родная. Ей проход остается, но и то лишь с моего дозволения. У тебя же… — Волхв, не договорив, махнул досадливо рукой. — Спи давай. Тут у тебя защита со всех сторон — и я, и посох, и дубрава сама, даже небо со звездами. Нет ему сюда ходу, и все тут.
— Ну я не знаю, — протянул нерешительно Константин и тут же отключился.
Ну, просто моментально, будто его по затылку чем-то тяжелым огрели.
Когда он проснулся, костер, несмотря на день, продолжал все так же ярко гореть, вовсю светило солнце, и ему, лежащему у костра в тулупе, было так тепло, что и просыпаться не хотелось. Он снова закрыл глаза и… опять уснул, а проснулся уже от недовольного ворчания Всеведа:
— Ну и горазд же ты дрыхнуть, княже. Так все дела проспать можно.
— Прости, дедушка, — повинился Константин. — Уж больно сладко у тебя здесь спалось.
— А я, покамест тебя не было, успел славную похлебку сварить. Сейчас отужинаем и поговорим. Тебе-то ныне ничего не снилось?
— Ничего, — пожал плечами Константин.
— Так вот совсем ничегошеньки? — не унимался волхв.
— Как младенец спал, — весело улыбнулся князь.
— Это плохо, — построжел лицом Всевед. — Это очень плохо. Стало быть, дубрава дубравой, посох посохом, а Хлад Хладом, — сделал он очередной туманный вывод, понятный лишь ему самому, и тут же поторопил князя: — Да ты ешь, ешь.
Похлебка была сварена на славу. Правда, мясо в ней отсутствовало, но зато в обилии плавали какие-то травки, корешки, стебельки, и все это так ароматно пахло, что второй раз князя приглашать было не надо. Содержимое большого горшка исчезло чуть ли не за пять минут, после чего Константин с легким сожалением — еще бы немного не помешало — старательно облизал деревянную ложку, протер ее снегом и выжидающе уставился на волхва. Тот молчал. Так длилось минуты две. Внезапно откуда-то сверху донеслось пронзительное воронье карканье.
— Сейчас он подойдет, и мы все обговорим, чтобы не повторяться, — произнес Всевед.
Прошло еще несколько минут, и из-за дубов, как всегда, несколько неожиданно, вынырнул Маньяк.
— Ну, раз князь здесь, стало быть, опять в Око Марены идти надобно, — даже не поприветствовав, начал он сразу возмущаться. — А у меня делов-то, делов скопилось — страсть. — Он всплеснул руками. — Нет, княже, — произнес ведьмак со вздохом. — На сей раз я тебе не напарничек. К тому ж Юрко твой, который Золото, тоже туда дорожку знает. Чай, довезет.
— Сколь времени тебе надобно на то, чтобы дела свои уладить? — задумчиво поинтересовался Всевед.
— Сейчас точно скажу. — Ведьмак задрал голову, пошевелил пальцами, загибая их один за другим, после чего пошлепал толстыми губами, вытер лысину своей неизменной воилочной шапчонкой и деловито произнес: — Ежели поспешить, то за пару месяцев управлюсь. Ну а чтоб как следует все утрясти, основательно, так тут и трех маловато будет.
— А там половодье, после сев, покос, урожай собирать, — в тон ему подхватил Всевед.
— А без того никак. Тиун я как-никак. Дань, опять же, кому на погост везти — мне. А после опять дела. Но их, ежели бегом-бегом, за месячишко-полтора переделать можно.
— То есть ты через год освободишься? — уточнил Константин.
— Да уж не ранее, — солидно заметил Маньяк.
— Ну, считай, что год прошел, — вздохнул Всевед.
— А от должности тиуна я тебя освободил, — добавил князь.
— То есть как это, прошел?! Как освободил?! — возмутился ведьмак.
Его лысина почти мгновенно покрылась мелкими капельками пота. Он беспомощно развел руками, но потом до него дошло, и Маньяк протянул укоризненно:
— Все шуткуем. Все вам смешочки да хаханьки. Нет, чтоб всурьез о делах потолковать.
— Давай всурьез, — согласился Всевед и предложил: — Ты на князя-то нашего повнимательнее взгляни. Может, тогда и сам что поймешь.
Маньяк пристально посмотрел на князя и вдруг так резко отшатнулся от него, что чуть было не угодил в костер.
— А он не?.. — проблеял он, обращаясь к волхву.
— Покамест не, — сурово отрезал Всевед. — А чтобы и дальше не, ты мне и нужон.
— А я-то что смогу? Ты что, сам не видишь, какая с него силища прет. Ты-то, конечно, волхв знатный, опять же и посох Перунов с тобой завсегда. Может, и одолеешь его, а мне, ведьмаку простому, тут тягаться не с руки. Всяк сверчок знай свой шесток, — заключил он поучительно.
— Врешь. Ты такой сверчок, что на любой шесток взгромоздишься, если понадобится, — убежденно заявил волхв.
— Ну, не на любой, но могу, — согласился польщенный Маньяк.
— Дела свои за день обстряпаешь, а к утру послезавтрашнему чтоб тут был.
— Да я ничего не успею, — возмутился ведьмак. — Да и зачем я понадобился?
— Днем спать будешь, а ночью в его ложнице бдить. Если что — ну, не маленький, сам знаешь, как и что делать, чтоб он спокойно почивать продолжал. Ему, спящему, не так уж и много силенок нужно подкидывать время от времени, чтобы Хлада утихомирить. Тихий он покамест и слабый еще. На это тебя точно хватит.
— И сколь же времени мне так близ него торчать?
— До осени — не меньше, — сказал, как отрезал, Всевед.
— А потом?
— Поглядим. Потом и думать станем, — снова напустил туману Всевед.
— А если он потемнеет так, что?..
— И тут, что делать, знаешь, — последовал жесткий ответ волхва.
— Но на столь долгий срок я и впрямь не смогу. Ты уж прости, старче, но… — Ведьмак, не договорив, нахлобучил на лысину шапчонку и решительно поднялся на ноги, пообещав: — До изока[74], не более, а там никак. — Он уже сделал шаг в сторону, но тут его вновь остановил суровый голос Всеведа:
— Ведьмак! Ты помнишь, что было пять зим назад?
Маньяк остановился и с укоризной произнес:
— Вот уж не думал, что ты мне этим когда-нибудь в нос тыкнешь. Считал, что друзья мы с тобой, старик.
— Я тоже так считал до сегодняшнего вечера. Напоминать не хотел, но ты сам к тому вынудил. Ну что, будешь должок платить?
— Я свое завсегда отдаю, волхв, — хмуро произнес ведьмак. — Кому, как не тебе, это ведомо.
— Тогда выбирай. Либо долг платишь, либо, как друг, мою просьбу выполняешь.
— Вот такой я добрый!.. — возопил отчаянно Маньяк и с силой шваркнул своей шапчонкой в снег. — Коли старый закадычный друг просит — все готов бросить, лишь бы его уважить.
После чего он деловито подобрал шапчонку, снова нахлобучил на лысину и подался опять в лесную чащу, буркнув напоследок:
— Ну, прощевайте до послезавтрева.
— У меня побудешь пока, — распорядился Всевед хмуро сразу после ухода ведьмака. — Воев своих отпусти. Возницу оставь с санями, и хватит с тебя. Послезавтра поутру вместе с Маньяком и поедешь в Рязань стольную.
— Уже, — вздохнул Константин и пояснил: — Уже отпустил.
— Молодец, — одобрил волхв. — О людишках своих заботу проявляешь. А теперь слушай меня. Зачем я к тебе ведьмака приставляю — понял?
— Почти, — уклончиво заметил Константин.
— Не лги, — сурово заметил Всевед. — Негоже правду от себя отметать. Она хоть и горька, но куда лучше, чем словеса лживые, хоть и сладкие. Если вовсе дело худым обернется, то он тебя ко мне повезет. Уйти в ирий[75] ты должен именно здесь, в моей дубраве. Здесь ты уснешь навсегда с его помощью, здесь тебя и на священный костер возложат, дабы руда твоя, Хладом отравленная, вся в чистое небо ушла, без остатка. В том нам Перун поможет.
— А излечиться как-то Перун не поможет?
— Не его это. Да и навряд ли кто из светлых богов наших на такое отважится. Хоть и горько такое говорить, но проходит их времечко. Они ведь у нас как люди, — есть и у них своя пора юности, есть и зрелость, а есть и старость. Хотя я думаю, что им такое никогда под силу не было. А там как знать. О тех временах стародавних нам столь мало известно, что ныне поди пойми, где быль, а где небылица. Все спуталось.
— А христианские?..
— О том у их жрецов спрашивай. Только навряд ли они тебе хоть что-то дельное скажут. Скорее всего, мало кто из них и увидит, что ты уже темнеешь. Больно хорошо им ныне живется — в этом все дело. Когда вера жирком благополучия покрывается — пиши пропало. Корысть многих губила и до них, и при них, и еще погубит не раз.
— Но есть же искренние, те, что и вправду верят.
— Есть, — согласился Всевед. — Потому и вера пока еще не оскудевает. А чем меньше их будет оставаться, тем… Не о том мы говорим, — перебил он себя досадливо. — Лучше скажи, готов ли ты в рощу мою приехать по доброй воле, а не по понуждению Маньяка? — И пытливо посмотрел на князя.
— Готов, — решительно кивнул Константин.
— Верю. А до той поры я весточку пошлю мудрым людям, — обнадежил князя Всевед.
— Это кому?
— Знакомцам твоим старым. Мертвым волхвам, — пояснил старик и улыбнулся в бороду. — Или ты думаешь, что они лишь тебя одного подарками одарили? Мне тоже кое-что досталось. Вот только не думал я, что понадобится так скоро.
— А они… помогут? — решился спросить князь.
Выслушивать отрицательный ответ ему ой как не хотелось, но и пребывать в полной безвестности тоже было не лучше. А может, и хуже. Не зря сказано, что лучше горькая правда, чем слепая неизвестность. Особенно если ты силен духом или хотя бы считаешь себя таковым. Тут ведь тоже для всякого по-разному.
Всевед еще раз внимательно посмотрел на Константина, вздохнул и честно сказал:
— Они могут даже и не ответить, княже, а ты спрашиваешь меня — помогут ли. И как поступят — неведомо. Уж больно далеко и давно мы разошлись. А тебе я вот что скажу. Не знаю я, какие тебя там заботы княжеские впереди ждут, но опаску держи. На суде своем княжеском дела татебные не суди. Оно понятно, что есть злодеи, по которым веревка плачет да сук дубовый. Жизнь двуногой нечисти только самый что ни на есть худой князь оставлять станет, которому лучше бы сразу в монастырь уйти, чтобы простому люду от его показной доброты впятеро хуже не стало. Но нельзя, чтоб ты мерзость эту своим словом, своим повелением на сук подсаживал. От этого ты еще сильнее можешь потемнеть. Есть у тебя судьи, вот пусть они эти дела и вершат.
— А если на меня кто с ратью пойдет? Ворота распахнуть настежь, хлебом-солью приветить, а самому в тот же монастырь податься? — горько усмехнулся Константин.
— Ворога бить надобно. От этого мрака в тебе не прибавится. Но опять-таки с условием, что делать ты это будешь, будто работу обычную исполняешь, только немного неприятную. А вот зла старайся в душу не допускать. Пусть у тебя там поменьше ненависти, ярости, гнева будет. Ты же не зверь, а человек. Вот и не забывай об этом. Никогда.
— Думаешь, что это как-то ему расти помогает?
— Не знаю, — честно ответил Всевед. — Мы теперь с тобой оба во мраке блуждаем. Кругом туман, а идти вперед надо. Значит, пойдем не спеша и ощупывая все впереди себя. Может, там и ровно, а опробовать легонько надо. Где-то впереди — обрыв, а где-то — ямина.
— Где-то, — эхом откликнулся Константин. — А где?
— Неведомо это никому, — пожал плечами волхв. — Потому и бдить тебя зову, что не ведаю, где ты поскользнуться можешь да прямиком к нему в лапы угодить. Да, и еще одно, а то забуду. Полоняников ты щадить старайся… Хотя что я тебе говорю, будто ты и впрямь в Хлада превратился. Ты и сам их щадишь. Если же… — он помедлил и после паузы продолжил с явной неохотой: — Если же тебя Маньяк в мою дубраву позовет, то озаботься, чтобы все дела твои в полном порядке к тому времени были. Чтоб княжича Святослава мудрые люди своими плечами подпирали, а Русь чтоб еще больше крепла. Опять же дружбу со всеми свести тебе надобно, чтоб союз был.
— Ага, — вздохнул Константин грустно. — Был бы тут воевода мой, он непременно бы спел про «союз нерушимый республик свободных», который «сплотила навеки могучая Русь»[76].
— Ишь ты, — крутанул головой Всевед и одобрил: — А что? Красиво, хотя и малость непонятно. Сам былину такую сложил, или воевода твой постарался?
— Да нет. Есть у нас, точнее, был, нет, будет, короче, неважно — гусляр один. Сергеем звать, Михалковым[77].
— Имя христианское, но слова самые что ни на есть наши, славянские, — счел нужным еще раз похвалить Всевед. — Вот и строй этот союз, дерзай, княже. А главное, в уме держи все время, что деньков у тебя осталось немного, а дел — как раз наоборот.
— В том-то и беда, что я теперь не знаю, за что схватиться в первую очередь, да так все наладить, чтобы оно после моей… моего ухода в ирий не развалилось.
— А ты пальцы загни да прежде в сторонку откинь то, с чем и без тебя управятся, — посоветовал волхв.
— Значит, армия побоку, — задумчиво произнес Константин. — С ней Вячеслав и сам управится. Наука, дома странноприимные, приюты для детей-сирот, больницы, школы, университет — тут Минька с отцом Николаем. В судах Русская правда так и будет применяться, разве что с моими изменениями. — Он сокрушенно вздохнул. — Все равно много остается. С тем же союзом нерушимым. На западе черниговцы того и гляди теперь накинутся, и добро бы, если одни, а то и помощников позовут. На востоке Волжская Булгария. С ней тоже нелады — недавно Великий Устюг разорили. Получается, что и с ними воевать надо.
— А ты не воюй, — предложил Всевед.
— Не поймут. Решат, что слаб. А после того как я на них накинусь, с ними уже никакого союза не заключишь.
— Тогда не накидывайся. Сделай так, чтоб кровь малая пролилась, — и посоветовал: — Подчас даже бить не обязательно. Главное — очень большой кулак показать, чтобы у них аж глаза округлились. Иной раз неведомая сила намного страшнее кажется ворогу, чем сеча проигранная. О том подумай.
— А половцы? Я же сына сестры самого Юрия Кончаковича повесить приказал. Теперь жди с юга грозы. Плюс мордва.
— Думай, княже, — беспомощно развел руками Всевед. — Не стариковскому уму твои дела великие вершить.
— А корабли? — вдруг вспомнил Константин. — Они же из Франции только весной приплывут. Мне же переселенцев размещать надо и град ставить в устье Дона.
— А этим можно и ранее озаботиться, — резонно заметил волхв. — Пошли мастеровых людишек побольше, да и приступай, Сварогу помолясь, с самой зимы.
— Тоже верно, — согласился Константин. — Значит, говоришь, союз нерушимый, — протянул он задумчиво. — Ладно. Пока жив — надо жить.
— Вот и правильно, — одобрил Всевед. — А еще важнее, чтоб ты надежду не терял.
— Ага! Короче, надейся на лучшее, а готовься к худшему.
— Не слыхал, — удивился волхв. — Это откуда ж ты взял?
— Эллины древние такое выдумали, — пояснил Константин. — Был такой народ в Греции. Он и сейчас там живет, только измельчал духом.
— А вот это, княже, отныне ты сам себе постоянно повторяй, — серьезно заметил Всевед. — А ежели кратко, то не только надейся, но и готовься. Понял ли?
— Чего же тут не понять, — вздохнул обреченно Константин. — И жди осени, — усмехнулся он невесело.
— Пока осени, — уточнил волхв. — А далее поглядим, как да что, — и лукаво подмигнул Константину.
Тот в ответ тоже постарался моргнуть, только получилось это у него не так весело, как у Всеведа. Если же совсем честно, то грустное это подмигивание было. Уж очень от него тоской веяло. Чуть ли не за версту.
Глава 17 Сверх всяких ожиданий
Брут. Начнем с речей, а биться после будем.
Октавий. Но мы речей не любим так, как вы.
Брут. Речь добрая удара злого лучше.
В. Шекспир. Юлий ЦезарьПрошел почти месяц. Принес он немало событий, как хороших, так и плохих, а самым гадким было то, что поладить с черниговцами так и не удалось. Впрочем, Константин особо на это и не рассчитывал, надеясь хотя бы на то, что удастся выяснить, чего ждать от Глеба Святославича Черниговского, а также от второго своего западного соседа — Изяслава Владимировича Новгород-Северского.
В какой-то мере он это выяснил, правда, ценой гибели всего своего посольства. Хорошо хоть, что рязанский князь на сей раз, почувствовав недоброе, не послал, как обычно, старого Хвоща или Евпатия Коловрата. Поехали несколько ростовских бояр из числа тех, кто жаждал выслужить прощение князя за свою дерзость, проявленную, когда Константин стоял под Ростовом.
Что и говорить — свое прощение они заработали сполна. Да только это была их последняя служба. Вернулись все шестеро на санях, изрубленные, будто мясные туши.
Набольшего из бояр, возглавлявшего посольство, по имени Олима Кудинович, и вовсе признали лишь по приметным ножнам и дорогому поясу. Лица у него не было вовсе. Руки и ноги, правда, оставались целыми, но туловищу уже не принадлежали — лежали рядом с ним на залитой кровью соломе. Тут же валялись и прочие тела.
С ними рядышком, только на двух других санях, лежали слуги и дружинники.
Не пощадили никого, даже возниц. Потому правил поездом из трех саней какой-то черниговец. Был он неразговорчив и, судя по всему, уже настроился на скорую гибель от рук рязанцев. Во всяком случае, когда Константин запретил его трогать и с миром отправил назад, вид он имел весьма удивленный, примерно как человек, который второй раз родился.
Но кроме этой дикой выходки с посольством, как ни удивительно, черниговский князь пока ничего не предпринял и, судя по тому, что доносила разведка, даже не собирался предпринимать. Во всяком случае, в ближайшие пару-тройку месяцев, потому что до весеннего половодья оставалось всего полтора, да еще полтора кидай на то время, пока спадет вода и подсохнет земля. А потом сев — это святое. Что он задумал, оставалось только догадываться.
А может быть, и не задумал ничего. Со здоровьем у него и так было не ахти, а после смерти сына он и вовсе сдал. Там теперь всем его брат заворачивал, Мстислав Святославович, который шел следующим по старшинству. И посольство порубленное, как Константину донесли верные люди, тоже его работа. Да и письмецо, которое передал черниговец, что покойников в Рязань привез, тоже лично он писал. Было оно совсем коротким и состояло всего из одной фразы, взятой из библии: «Не мир, но меч». Что она означает — мудрено не догадаться. Значит — война.
Но, как бы ни было, а пока у Константина и Вячеслава появилась передышка. Вот ее-то и можно было, хоть и с некоторой натяжкой, считать чем-то хорошим. Оставалось лишь выжать из образовавшегося затишья все возможное, успев разобраться с восточными соседями.
Русский город Великий Устюг, который взяли войска булгар, был, образно говоря, лишь пробой пера булгарского эмира. Стоит промолчать или того хуже — уступить, и следом за первой ласточкой тут же полетят остальные.
А там и мордва непременно зашевелится, и есть с чего. Этот народ хоть и состоял из двух, вечно враждующих между собой племен: мокша и эрзя, но и про набеги на русские земли их князьки тоже не забывали. Ныне один из них — Пуреш, давно лежал в сырой земле, но тем опаснее был Пургас, который возглавлял племена эрзя. В отличие от Пуреша, ориентировавшегося на владимирских князей, Пургас входил в союз с волжскими булгарами и потому был опасен вдвойне.
Со всех городов Рязанского княжества, которое теперь включало в себя не только скромные муромские земли, но и всю Владимиро-Суздальскую Русь, были уже собраны полки. По настоянию своего князя Вячеслав скрепя сердце призвал под военные знамена, которые уже красовались над каждым полком, даже совершенно необученную молодежь.
Впрочем, Константин и сам не собирался кидать неопытных парней «под танки». Предполагалось, что все они станут войсками так называемого второго резервного эшелона, в битвах участия вообще принимать не будут, но зато хотя бы получат первые военные навыки: как в строю себя вести, как в походах и так далее.
Опять же, что ни говори, а вернуться они должны были с победой, что непременно придаст каждому дополнительную уверенность в себе и в своих силах, хотя молокососам навряд ли придется браться за меч.
Целыми днями Вячеслав буквально не слезал с седла, а по вечерам все вычерчивал карты предстоящих боевых действий, маршруты движения, продумывая наибыстрейшие способы доставки кормов для лошадей и продовольствия для неимоверно разбухшей армии.
Реально предполагалось вести бои мощной пятитысячной конной дружиной и двадцатитысячным пешим ополчением, хотя большая часть ратников, по мнению Вячеслава, была еще очень и очень «сырой».
Не рискуя полностью оголять тылы, чтобы не заполучить коварного удара в спину со стороны черниговцев, воевода скрепя сердце оставил две полутысячи и раз десять проинструктировал «верховного главнокомандующего западной группировки» Изибора, по прозвищу Березовый Меч, о способах и средствах связи, об условных сигналах и даже научил его пользоваться элементарным шифром.
Еще одним из инструктируемых был командир второй полутысячи, чудом выживший после резни под Исадами, молодой ратник по прозвищу Козлик.
Вячеслав знал, кого оставлять. Оба полутысячника отличились еще под Исадами, когда, рискуя собственной жизнью, спасали князя Константина от погони.
Прозвища свои они получили еще раньше. Изибора так прозвали за то, что во время обучения ратников он всегда брал в руки только березовый меч, дозволяя остальным атаковать его настоящими, стальными, и все равно одерживал победу. Козлик же получил свое прозвище не столько за мастерство, сколько за технику ведения боя. Он перемещался так легко и виртуозно, будто не фехтовал с мечом в руках, а танцевал в хороводе на Купалу.
А командирами двух сотен у Козлика были недавние черниговские дружинники — Басыня и Груша. В сотне у последнего служил и Спех. В десятники он еще не выбился, однако все шло к тому. Но вообще такие пришлые командиры были не правилом — исключением.
В основном Вячеслав выдвигал начальников из своей дружины. Чтобы проверенные, надежные. Сам выдвигал и сам же потом постоянно жаловался, что остался совершенно без командирского резерва. Воевода, конечно, несколько преувеличивал, не без того. Запас-то у него все равно имелся, хоть и небольшой.
Зато о пешцах теперь можно было не беспокоиться: все командиры — орлы, да и только. Из старых испытанных вояк там были в тысяцких Пелей, Позвизд, Искрен из Пронска, где в сотниках ходил Юрко Золото, и еще много исконно рязанских. Помимо них, на такие высокие должности было назначено и множество новых людей, которым Вячеслав доверил не только десятки и сотни, но и тысячи.
Правда, сделал он это лишь после долгих уговоров князя, который несколько дней подряд вдалбливал в него, что если того же Пелея поставить куда-нибудь в Суздаль, то спустя два-три года его, образно говоря, все равно «осуздалят». Зато если полк возглавит свой, коренной, чтобы жители могли гордиться земляком, то после двух-трех лет, проведенных в составе рязанского войска, и он сам, и весь его личный состав, наоборот, «орязанятся».
— Хоть сюда политику не суй, — отбивался поначалу Вячеслав.
— Это не политика, а психология пополам с социологией, — убеждал Константин. — Они должны чувствовать себя монолитом — единым кулаком.
— Как говорила моя мамочка Клавдия Гавриловна, усложнять простое, что ты сейчас и делаешь, княже, очень легко. Гораздо тяжелее сделать сложное простым. Это я к тому, что лучше бы ты о своевременной доставке продовольствия позаботился.
— Тебе же Зворыка сразу двух начпродов подарил с барского плеча.
— И оба экономные до чертиков, — возмущался Вячеслав. — Каждую куну считают. Одни хлопоты с ними, а ты мне еще тысяцких навязываешь по своему вкусу. Кто воевода — я или ты?
— А кто князь — ты или я? — парировал Константин. — И не назначаю я их вовсе. Любого на свой вкус ставь, но только чтоб во главе владимирского полка был командир из самого Владимира и так далее.
— Как говорила моя мамочка Клавдия Гавриловна… — начал было в очередной раз Вячеслав, но, не выдержав, засмеялся. — Хрен с тобой. Есть у меня людишки на примете, хотя и рановато их на столь высокие посты выдвигать, но только из личного к тебе уважения, княже, — и сразу резко поменял тему: — Слушай, а чего за тобой этот хмырь болотный всюду шляется, как привязанный?
— Считай, что это мой лекарь, Слава, — сразу помрачнел Константин.
— Доброгневы мало? — удивился воевода.
— А он по совместительству еще и палач, — горько усмехнулся князь. — Эта должность нашей славной ведьмачке не по нутру бы пришлась, так что я ей и не предлагал.
— Для булгар, что ли, приготовил? Не рано ли? — хмыкнул Вячеслав.
Константин немного помялся, но решил, что рано или поздно все равно придется обо всем рассказать и ему, и Миньке, и отцу Николаю. Последним двум и ближе к осени не поздно будет, тем более что новоявленный епископ Рязанский и Муромский раньше из Никеи не приедет, а вот Славке можно и сейчас. Так сказать, заблаговременно, чтобы привыкал понемногу.
— Для меня, дружище, — медленно произнес он. — Лично для меня.
— Это как понять? — вытаращил глаза Славка.
— Помнишь, я тогда, сразу после того как князей черниговских повесили, срочно выехал к Всеведу?
— Конечно.
— Ну, тогда слушай, что было дальше.
И Константин, стараясь не особо драматизировать и даже немного подшучивая над своим недолгим сроком правления в должности князя, рассказал Вячеславу все подробности.
— И он тебя грохнуть должен?! — возмутился Славка. — Да я его сам раньше пришибу.
— Сказано же тебе — не я это уже буду. И произойдет оно лишь тогда, когда у меня самого сил не останется этому Хладу чертову сопротивляться.
— А перекачка крови? — деловито осведомился воевода. — Ну, там, гнилую всю слить, а здоровую влить.
— Запросто, — согласился Константин. — Только при одном условии: найди где-нибудь здесь поблизости станцию переливания.
— О, дьявольщина! — взвыл Вячеслав. — А что, все настолько серьезно? Всевед — он тоже человек, а людям свойственно ошибаться.
— Более чем серьезно, — хмуро ответил князь. — Смотри сам.
Он взял нож, и воевода не успел еще сообразить толком, что собирается делать его друг, как Константин деловито полоснул себя по вене выше запястья.
— Совсем одурел? — только и произнес Вячеслав.
— Мне почти не больно. Ты лучше посмотри — какая она, — мрачно сказал Константин.
Воевода склонился над поверхностью стола, куда капала кровь князя, постепенно собираясь в небольшую лужицу.
— Так она же зеленым отливает, — оторопел от увиденного Вячеслав, но тут же засомневался: — Может, у нас свет не тот? Ведь так не бывает.
— Бывает, — вздохнул Константин и добавил: — И она теперь стала немного пузыриться. Ты смотри, смотри. Весьма поучительно.
Воевода вновь склонился над столом. На поверхности почти черной, с хорошо заметным зеленоватым отливом лужицы и впрямь то и дело возникали небольшие пузырьки. Был их век недолог — едва они появлялись, как почти сразу, всего через несколько секунд, лопались.
Однако несколько штук, скучившись в небольшой комок, продержались чуточку дольше. Даже когда кровь застыла, они еще продолжали оставаться в неподвижности, и что-то маленькое, но гадкое даже на вид, отчаянно металось внутри каждого из застывших пузырьков, но потом затихло и оно.
— А это что у тебя там такое? — окончательно растерялся Вячеслав и шлепнулся на стоящую поблизости лавку. Рот у него так и оставался полуоткрытым. Впрочем, увиденное могло потрясти кого угодно.
— Я тебе что — медик? — сухо ответил Константин. — К тому же я даже в школе по таким предметам не очень-то блистал. Знаю только, что если зеленое и извивается — то это биология, а если плохо пахнет — то химия.
— А если что-то не работает?
— Ну, брат, тогда это уже физика, — улыбнулся невесело князь, деловито перебинтовывая порезанную руку. — К тому же, будь я хоть медиком-профессионалом, все равно ничего больше не узнал бы. Приборов нет, аппаратуры тоже, да если бы даже они и имелись — электричество нужно. Ясно одно, что кровь моя уже не совсем человеческая. Но это и так видно, невооруженным глазом.
— И шансов никаких?
— Всевед сказал, что он пошлет весточку мертвым волхвам. Если ответят — неплохо, если помогут — отлично. Но вряд ли. У них, видишь ли, принцип невмешательства.
— Как учила моя мамочка Клавдия Гавриловна, в жизни иногда надо быть выше принципов, даже если они твои собственные.
— Дай бог, Слава, чтобы их мамочки учили своих детишек тому же самому. Так ты поставишь местных тысяцких или нет? — шутливо напустился он на воеводу, не желая дальше говорить на больную тему.
— Как скажешь, Костя. Все сделаю в лучшем виде, — негромко ответил Вячеслав, непривычно грустно глядя на друга, который еще ходил, ел, пил, говорил, дышал, то есть числился в списке живых, но был уже приговорен к смерти.
Причем приговорен самим собой. Таким другом можно было от всего сердца гордиться, восхищаться, удивляться, но вот места для радости в душе уже не оставалось.
— Я пока не умер, — вывел его из транса Константин. — На чем мы там остановились?
— Ах, да, — очнулся воевода. — Значит, так…
И работа опять закипела.
К середине февраля мощная рать, собравшись воедино в устье Клязьмы, нескончаемым густым потоком двинулась в сторону Волги. Пройти им довелось не столь уж много. Первое посольство из Волжской Булгарии появилось перед глазами воев передовых дозоров русского войска, когда оно не прошло и половины пути до Волги.
Было оно немногочисленное, подарки с собой имело бедные, как сразу же на глазок определил один из «экономистов», присланных Зворыкой, словом, несерьезное какое-то. Поэтому Константин и отправил его назад несолоно хлебавши.
Второе посольство, более солидное, встретило их в устье Оки. Не исключено, что дошли до булгарского правителя недобрые вести о вторжении монголов в Среднюю Азию, где Чингисхан лихо громил рыхлые, аморфные, неповоротливые войска хорезмского шаха Мухаммеда. А может, хан Ильгам ибн Салим и впрямь устрашился при виде могучего объединенного войска. Да и не были булгары мастерами в ратном деле.
Словом, тут князю уже стоило и призадуматься — идти дальше или принимать условия мира, равно как и извинения за сожженный Великий Устюг.
На большом совете с участием всех двадцати тысяцких основного войска рассудительные слова рязанских воевод были напрочь перекрыты воинственными криками Плещея — тысячника переяславль-залесского полка, Волоша, возглавлявшего владимирский полк, Лугвеня, руководившего ратниками из Юрьева-Польского, Остани, который шел во главе Стародубцев, Яромира, командовавшего полком ярославцев, Спивака, который вел суздальцев, и прочих. За мир, кроме рязанцев, высказался лишь осторожный Лисуня — тысяцкий ростовчан.
Как потом пояснил Константин Вячеславу, его окончательное решение было снова густо замешано на психологии и желании сплотить войско. Чтобы никто не мог сказать, что князь потакает своим рязанцам, Константин поступил вопреки их советам. Нет, если бы за мир решительно подал свой голос главный воевода всего войска, да еще веские аргументы подкинул бы в защиту своего мнения, то князь, конечно же, прислушался бы к Вячеславу, но тот соблюдал полное молчание и нейтралитет.
Рязанцы же не обиделись, поскольку Константин, улучив момент, успел побеседовать накоротке почти со всеми из своих тысячников. И каждому он пояснял, что пошел вперед, отвергнув мирные условия, лишь из желания в совместной битве сплотить людей, пришедших из всех земель огромного рязанского княжества.
Но совместная битва явно откладывалась. Они дошли только до устья Суры, когда им повстречалось третье посольство. На сей раз возглавляла его вся верхушка Волжской Булгарии, включая старшего ханского сына, бека Абдуллу.
Это было не просто солидно. Это было о-го-го, потому что именно Абдулла — Константин успел навести справки у купцов, зимовавших на Руси, а до того торговавших с булгарами, — являлся наследником эмирского[78] престола.
Ильгаму ибн Салиму долгое время аллах никак не хотел посылать наследника — рождались только девочки. Первого сына родила его третья жена, только когда ему исполнилось уже тридцать лет. Потом были и другие дети, но этот, долгожданный, навсегда остался любимчиком правителя Волжской Булгарии. И то, что сейчас хан Ильгам не поскупился и отправил во главе посольства именно его, говорило о многом.
Выглядел Абдулла несколько постарше, чем Константин. В его черной шевелюре уже искрились кое-где седые волосы. Они-то в основном и старили бека. На самом деле разница в возрасте между ними составляла всего три года. Если Константину пошел тридцать первый, то наследнику булгарского престола — тридцать четвертый.
В первые часы бек лишь присматривался к Константину и в основном помалкивал. Может, так было положено поступать по правилам их этикета — сидеть в точно таком же кресле напротив рязанского князя и скучать, глядя по сторонам.
Время от времени Константин ощущал, как останавливается на нем заинтересованный взгляд бека, но стоило ему посмотреть прямо на Абдуллу, как тот тут же отводил глаза, причем с явным смущением, будто его застукали на чем-то постыдном.
Часа через три бек наконец решился. Он выдержал взгляд Константина и еле заметно, одними черными бровями, указал на обоих руководителей посольств, что-то оживленно обсуждающих друг с другом. При этом он так сочно зевнул, тут же стыдливо прикрыв рот ладошкой, что князь едва не рассмеялся.
Вид у бека был и впрямь потешный. Уловив же негласное одобрение своему поведению со стороны Константина, он и вовсе разошелся: то рожицу забавную скорчит, то бровями тонкими поиграет, словом, забавлялся как только мог.
Все переговоры, которые проходили на нейтральном Кореневом острове, вел от имени Абдуллы бека глава делегации, некто факих[79] Керим. В его должности Константин так и не смог толком разобраться и понял лишь, что по своему рангу он то ли замминистра, то ли министр внутренних дел.
Начал Керим хитро. Указав, что разграбленный город Великий Устюг принадлежал в то время не Константину, а прежним владимирским князьям, он постепенно дошел до того, что начал доказывать, будто они и без заключения мира почти союзники.
Более того, это Константин должен уплатить великому эмиру могучей Волжской Булгарии некоторую сумму за те издержки, которые тот понес, снаряжая войско, чтобы сковать силы владимирских князей на севере.
Что и говорить, красноречие Керима просто било фонтаном. Боярин Евпатий Коловрат, который, в отсутствие приболевшего Хвоща, возглавлял переговоры с русской стороны — не князь же самолично должен их вести, — был по-военному лаконичен:
— Вот мы и идем с войском, дабы сполна расплатиться с вашим великим эмиром.
Керим нашелся почти мгновенно:
— Сдается мне, что исстари на Руси расплачивались за содеянное добро гривнами. А разве ныне стали платить воями?
Но Коловрата смутить было невозможно.
— Так это смотря какое добро, — тут же возразил он. — За какое гривнами платим, а за какое — воями и мечами.
— Да-да, — сразу оживился Керим. — Как это я сразу не догадался. Мы помогли вам, а теперь вы идете в свою очередь помочь Волжской Булгарии усмирить непокорные племена башкир. Что ж, этим вы отплатите сполна великому Ильгаму ибн Салиму за ту помощь, что он вам оказал.
— Может, мы и на башкир после сходим, — не стал отказываться Евпатий. — Но до того нам надобно вашего эмира отблагодарить за Устюг.
— Здесь сын его сидит. Он наследует Ильгаму ибн Салиму. Благодарите его, — предложил Керим.
— Э-э, нет, только самолично, — заупрямился Коловрат.
— Но великий эмир болен.
— Вот пока до вашего Булгара дойдем, пока стан разложим, глядишь, и выздоровеет, — усмехнулся Евпатий.
— А если нет?
— У нас припасов много. Мы долго стоять сможем, — благодушно заверял Коловрат.
Словесная пикировка длилась до самого вечера. А уже затемно в шатер к князю Константину, который блаженствовал, наслаждаясь травяным отваром с медовыми пряниками, и лениво обсуждал с Коловратом и Вячеславом итоги первого дня переговоров, а также другие вопросы, которые тоже хотелось бы обсудить с булгарами, заглянул дружинник, стоявший на часах у полога:
— Тут, княже, стало быть, гонец от Абдуллы-бека прибыл. Зовет князя Константина потолковать о том о сем.
— Что за гонец? — поинтересовался князь.
— А вот он. — И, потеснившись от входа, дружинник пропустил юношу, почти подростка, который, низко склонившись перед Константином, на ломаном русском передал ему приглашение зайти в гости к беку Абдулле.
— Вообще-то ты, княже, по чину выше его будешь. Негоже так-то. Может быть, мы его к себе пригласим? — осторожно заметил Коловрат.
— Абдулла-бек пришел бы, но он недавно болеть и иметь боязнь очень сильно опять болеть, ибо ваш шатер на холод и тут ветер. У нас деревья и тепло. К тому же бек сказывал, что он ваш князь стеснит беспокойство, а у него ковер-скатерть накрыт и все готов. Князь Константин, как бек слыхать, смелый воин. Ему нечего бояться. Ему будет почет и уважение от Абдуллы-бека.
— Скажи беку, что князь Константин сейчас будет, — последовал решительный ответ.
— А ну-ка, где там шатер ваш? — вышел наружу посмотреть месторасположение временного пристанища ханского сына Коловрат.
— Княже, по-моему, он тебя просто на понт взял. На самое что ни на есть дешевое слабо, на которое даже не каждый мальчишка клюнет, — рассудительно заметил Вячеслав.
— Ты думаешь, я потеряю много лет жизни в случае чего? — улыбнулся Константин.
— Все равно глупо рисковать. Добро бы еще сам хан или кто он там, а то один из наследников. Не все прынцы становятся королями.
— Слава, этот будет эмиром, — заверил князь своего друга. — Так что с ним не только можно, но и нужно дружить. И потом, насколько я помню историю, он лично возглавит оборону своей страны от монголов и будет драться с ними, пока не погибнет. А кроме того, не забудь, что нам позарез нужны их мастера, их, выражаясь языком двадцатого века, технологии, а также полностью свободный доступ к Каме и беспрепятственный транзит по ней от Урала и до Волги.
— Твоя жизнь стоит дороже какого-то дрянного транзита, — заупрямился Вячеслав. — Не говоря уж о мастерах и технологиях. У нас Минька есть, который сам с усам. Без них запросто обойдемся.
— Да кто бы спорил, — покладисто согласился с ним князь. — Но больно уж времени жалко. К тому же моя жизнь осенью этого года, возможно, не будет стоить и одной гривны, а зимой — и медной куны, — и, обрывая дальнейшие возражения, Константин категорично заявил: — Все. Я уже иду.
В шатре у бека Абдуллы действительно было намного теплее. Булгары, прибывшие на остров первыми, успели занять места поуютнее, в его лесной части, а жилище бека к тому же закрывалось с двух сторон большим холмом. Словом, здесь не дуло.
Поначалу, обменявшись приветствиями и любезностями, оба принялись молча пить дорогой напиток, привозимый китайскими купцами. Затем Константин, критически покосившись на свою пиалу, наполненную, как обычно, на один глоток[80], откровенно предложил Абдулле, благо тот очень чисто говорил по-русски:
— Я понимаю, что всемогущий не разрешает вам пить сок виноградной лозы. Но про мед в священной книге ничего не сказано. Если достопочтенный бек и будущий эмир согласится разделить со мной один-два кубка, то я думаю, что мы легче поймем друг друга. К тому же нам есть о чем переговорить.
— Я благодарен тебе, князь Константин Владимирович, за то, что ты назвал меня из вежливости будущим эмиром. Уже из-за одного этого нам стоит опрокинуть кубки, тем более что ты прав: справедливейший и впрямь не запрещает употреблять хмельной сок пчел. Прошу об одном — не называй меня так впредь. У нас в Булгарии с наследниками престолов иной раз случаются очень странные вещи, а судьба не строптивый конь, чтобы ее хлестали плетью.
«Ох, уж это мне цветистое восточное пустословие», — вздохнул Константин, но вслух ответил, как и подобает учтивому человеку:
— Желание хозяина — закон для гостя, тем более что ты прав — нынче скакун времен столь норовист, что надо быть вдвойне осторожным, дабы не вылететь из седла.
— Благодарю тебя, князь, за мудрые слова. Теперь я убедился, что ты столь же умен, сколь и бесстрашен, — тонко намекнул бек на смелый приход Константина в гости.
— Я полагаю, что двум разумным людям нечего делить, но даже если найдется что-то, то они сумеют сделать это, спрятав мечи вражды в ножны дружбы, — заметил Константин. — К тому же очень тяжело понять человека, когда он приходит к тебе. Гораздо легче это сделать, если ты сам пришел к нему в гости.
— Тогда завтра жди меня в своем шатре, — весело засмеялся бек.
— Я буду рад этому, — просто ответил князь.
— Ты слишком мудр и силен, — продолжая улыбаться, сказал Абдулла. — Я бы не хотел тебя иметь врагом и очень хотел бы видеть другом.
— Истинность друзей проверяется их делами. Мы с тобой видимся впервые, но ты тоже нравишься мне. К тому же мы соседи, а соседям надлежит жить дружно, — осторожно вел свою речь Константин. — Одинокое дерево и слабый ветер может вывернуть с корнем, лес же устоит и перед бурей.
— Не знаю, правильно ли ты поймешь меня, — замялся Абдулла. — Я хотел предложить хороший и очень выгодный для тебя мир. Ты же слышал, о чем говорили сегодня наши люди?
Константин легонько кивнул.
— Все будет так, как сказали твои, — заявил бек.
— Эмир не будет в обиде? — осведомился Константин.
— Ильгам ибн Салим — очень мудрый правитель. Он уже жалеет, что позволил своему сыну Мультеку учинить набег на город русичей. Я не хочу, чтобы ты решил, будто эмир — трус. Это будет неправдой. Он хочет мира, потому что с тревогой смотрит на полуденные страны. Мой брат не понимает, что теперь не время для вражды между соседями. Однако беда в том, что отец до недавних пор чаще прислушивался к брату и его людям, а те считают, что раз на Руси иная вера, то нам негоже жить с вами в мире.
— Разве он не знает, как всевышний сказал своему пророку: «…Тебе дано предупреждать, а не вершить над ними суд»?[81]
— Ты знаешь слова священной книги?! — удивился Абдулла и радостно заулыбался. — Я же говорил отцу, что с тобой можно договориться.
— А он?..
— Он ответил, что доказать свою правоту можно только на деле. «Езжай и попытайся заключить мир с русичами, если ты считаешь, что он так уж необходим для Булгарии», — вот его подлинные слова. Мультек же в это время улыбался, оттого что был уверен в моей неудаче. Я знаю, он говорил своим людям: «Если мой брат предложит русским мало, то они обидятся и убьют его, если много — их глаза загорятся от алчности и они решат, что надо пойти воевать, чтобы взять все. А нужную грань между малым и большим Абдулла не найдет».
— Получается, какова бы ни была моя выгода от заключенного с тобой мира, для тебя она все равно будет двойной, — сделал вывод Константин.
— Только не поднимай своей цены, иначе плодами этого мира сызнова воспользуется Мультек.
— Я не гость на торжище. Поднимать не стану. А за то, что ты согласишься с моими условиями, завтра выдвини свои: прочный мир на сорок лет и военная помощь друг другу, если на чью-либо землю придет враг, — посоветовал князь.
— И ты?! — блеснули глаза бека.
— И я соглашусь с ними. Мне кажется, что Ильгам ибн Салим после этого уверится в правоте Абдуллы-бека и останется доволен своим старшим сыном.
Мимолетная радость после последней фразы Константина тут же сменилась у Абдуллы неожиданной печалью.
— Старший, — горько усмехнулся он. — Абдулла-бек и впрямь старше Мультек-бека, но он — сын третьей жены эмира. К тому же его мать из рода сувар, а женщина, родившая Мультека, — старшая и любимая жена эмира, причем из барсилов, ну, то есть, говоря по-вашему, из серебряных булгар.
— А это имеет большое значение? — осторожно осведомился Константин.
Так далеко его познания в истории Булгарии не заходили.
— Это царский род. Все правители всегда выходят только из этого рода. Теперь понимаешь?
— С трудом.
— Получается, что я к этому роду принадлежу лишь по отцу, а Мультек — еще и по матери, — терпеливо пояснил Абдулла. — К тому же разница у нас с ним даже не в годах, а в месяцах. Я родился в последний месяц года Дракона, а он — во второй месяц года Змеи[82].
— И все-таки ты старше. К тому же я не видел Мультека, а ты здесь, рядом, сидишь и откровенно говоришь со мной. Я люблю слушать рассказы купцов. Если кто-то из них в поисках выгодного торга приплывет в стольную Рязань и заодно поведает мне, что дни Ильгама ибн Салима сочтены, то мне, как доброму соседу, непременно захочется разделить скорбь его близких. Я надеюсь, ты не обидишься на меня, если к столице Великой Волжской Булгарии придут пять тысяч русских ратников, чтобы оплакать усопшего и порадоваться за нового эмира, которого будут звать не Мультек, а Абдулла.
— А если Мультек в благодарность за то, что они разделяют его скорбь, прикажет выдать каждому по нескольку гривен и попросит проводить его до ханского трона, потому что у него от безутешного горя подкашиваются ноги? — впился глазами в своего собеседника бек.
— Они проводят его, но только к подножию трона, поскольку на нем уже будет сидеть Абдулла хан, а трон не лепешка, пополам не ломается.
— Но те, кто будет командовать твоими ратниками, могут перепутать имена, заслушавшись серебряным звоном.
— Я стараюсь быть милостив к своим людям, но гнев господень за ослушание своего князя неотвратимо падет на их головы. Такого всевышний не прощает, и они это знают. К тому же навряд ли у Мультека отыщется так много серебра, чтобы он заглушил их память.
— Я верю тебе, — вздохнул Абдулла и предупредил: — Но отец болен уже сейчас. Может случиться и так, что купец с новостями догонит вас совсем скоро, на обратной дороге.
— Он поправится, — твердо заметил Константин. — Непременно поправится и будет жить достаточно долго. Во всяком случае, до года Овцы[83].
— Почему ты так решил? — недоверчиво спросил бек.
— У меня хорошие предсказатели, — слегка замявшись, ответил князь.
Ну не говорить же ему, что все его знания происходят из книг по истории, в одной из которых как раз и рассказывалось о том хане, возглавившем успешную войну с Субудеем, когда тот сразу после Калки завернет в Волжскую Булгарию по пути в зауральские степи.
— А сердце отца может стать еще ближе к Абдулле, если в то время, когда все прочие будут красться к трону, его старший сын и наследник не сделает ничего для этого, а все дни напролет станет просить всемогущего, чтобы великий эмир выздоровел, — добавил он, уходя от щекотливой темы с предсказателями.
— Твои предсказатели не могут ошибаться?
— Разве громкие молитвы сына и наследника трона, обращенные к милостивому и милосердному, помешают путешествию одинокого купца со свежими новостями? — задал Константин встречный вопрос.
— Друг, который в тяжелый час поспешил первым разделить с тобой скорбь, заслуживает щедрой награды.
— Ты ошибся, — отрицательно покачал головой Константин. — Награждают слуг за усердие, платят врагам за то, чтобы они опустили меч, занесенный над головой. А другу за помощь говорят спасибо. Иногда же не говорят и этого, ибо друзья разговаривают сердцем. Если, конечно, это настоящие друзья. Однако уже за полночь, а завтра поутру нам придется вновь сидеть в шатре и весь день выслушивать пустые речи.
— Они будут скучны вдвойне, потому что мы-то знаем, что все давно решено, — подхватил Абдулла-бек, немного смущенный последними словами князя, сказанными с легкой долей укоризны.
— Не все, — спокойно заметил Константин. — Я думаю, что завтра, после того как мы подпишем мирный договор, нам надо, не стесняясь, показать на веселом пиру, как хорошо мы подружились. Кто-то искренне порадуется, глядя на то, как быстро старший сын почтенного отца приобретает новых друзей, а кто-то призадумается.
— Воистину твоя отвага уступает только твоему уму, — восхитился наследник престола.
Свое слово Абдулла-бек сдержал. К неудовольствию Керима, где-то в середине дня он встал со своего кресла и гордо заявил, что тот, кто собирается быть дружен с соседями, не должен трястись над своей сокровищницей, как ревнивый муж над красавицей женой. Вот только дружба должна стать прочной на долгие годы, а не порхать бабочкой-однодневкой. А посему он, Абдулла-бек, согласен со всеми предложениями князя Константина, но только при условии, что они ныне заключат не перемирие, а договор на сорок лет и пообещают, как и подобает дружным соседям, приходить на помощь друг к другу в трудный час, когда на земли кого-нибудь из них покусится любой враг.
Керим остолбенел. Он искренне жаждал мира, точно так же, как и Абдулла, горячо поддерживая наследника престола и в этом, и во многих других вопросах. Но он уже более десятка лет правил посольство[84] и знал, что так дела не делаются.
Посол должен быть как змея: ползти медленно и неслышно к одному ему видимой цели, при этом все аккуратно прощупывать своим раздвоенным языком, который и не лжет чрезмерно, но и не говорит все напрямую.
Понятно, что бек молод и не знает, как надо себя вести в таких случаях. В то же время Абдулле очень хочется добиться успеха в порученном деле. Но он мог хотя бы предварительно посоветоваться с ним, Керимом, прежде чем ставить его в столь неловкое положение.
И еще одно. Столько, сколько затребовали русские, отдать было бы можно, хоть и жалко, но выплатить такую сумму, которую они запросят сейчас за военную помощь, — никакой казны не хватит. Это при условии, что они вообще согласятся помогать. Вон как заулыбался в предвкушении богатой поживы их хитрющий боярин Евпатий Коловрат. И что тогда делать ему, Кериму?
Он с немым упреком воззрился на Абдуллу-бека, и тут же в подтверждение его грустных мыслей в наступившей тишине раздался звучный голос самого русского князя.
— Русские воины стоят очень дорого, ибо они стойкие и бесстрашные, умелые и крепкие. Не думаю, что всей сокровищницы достопочтенного Ильгама ибн Салима хватит, чтобы выдать им достойную плату.
Это был явный отказ. Керим обреченно вздохнул. Теперь можно сворачивать все переговоры — пользы не будет. Эх, Абдулла, Абдулла…
— Но, уважая ханские седины и желая порадовать сердце больного правителя, чтобы он как можно быстрее выздоровел, а также будучи в восхищении от простой прямоты и искренности достойного наследника его престола, я согласен на все то, что предложил Абдулла-бек. Дружбу, особенно поначалу, всегда надо испытать на прочность именно делами. Во всяком случае, до тех пор, пока она не окрепла. Через годы и так всем будет ясно, какова ее цена. Сейчас же иное. И я готов протянуть руку дружбы этому смелому и чистому душой беку, ибо мое сердце отныне открыто перед ним настежь.
С этими словами рязанский князь встал со своего места, и они обнялись с Абдуллой прямо посреди шатра.
Керим не верил своим ушам, но все равно был в восторге. Впрочем, могло статься и так, что ликовал он рано. К Константину тут же устремился Евпатий Коловрат и быстро шепнул на ухо:
— Княже, может, прервемся на сегодня, чтоб обговорить сказанное как следует. К тому же ты истинно сказал, что такая помощь дорогого стоит. Увеличить бы на пять-шесть тысяч гривенок их выплаты, а?
— Прямо сейчас вписывай как сказано, боярин, — упрямо тряхнул головой князь.
— Потеряем много, — вздохнул Коловрат.
— Зато приобретем дружбу, а она, как ни крути, дороже стоит, — ответил Константин. — А если уж тебе так обидно, что мы дополнительно ничего не получим, то ты тихонько в договор, там, где о гривнах говорится, добавь одно словечко малое — рязанских. Какой князь — такие и гривны.
— Так это же! — чуть не ахнул, но тут же, испуганно покосившись на Керима, осекся Евпатий и заверил шепотом: — Все сделаем.
С давних времен, когда еще земли на Руси были подвластны одному лишь киевскому князю, во всех договорах указывалось число гривен именно его чекана. Их можно было заменить серебром, равным по весу нужному количеству киевских гривен из расчета по сто шестьдесят граммов за каждую. Затем слово «киевских» употреблять перестали, потому что оно и так было само собой разумеющимся. И теперь, за счет включения в пункт договора всего одного уточняющего слова, говорящего о конкретной, а не абстрактной русской гривне, Константин одним разом приобретал дополнительно свыше полутонны серебра. Ведь изготавливаемые в Ожске рязанские монеты по своему весу, согласно княжескому указу, равнялись более тяжелой новгородской гривне, весившей двести четыре грамма. Сделано это было специально, чтобы их покупательная способность не уступала «северной сестре».
Получалось, что Константин и лицо свое соблюдал, отказавшись торговаться о дополнительной оплате выгодного для булгар мирного договора, но в то же время все равно увеличивал дань. Пусть не наполовину, как предлагал Коловрат, а вдвое поменьше — только на пятую часть, но зато без малейшей торговли и лишь за счет разницы в весе.
Послы Волжской Булгарии деньги считать умели хорошо, и почти каждый уже видел необычную монету, появившуюся на Руси полгода назад. Но Константин был уверен в том, что возражать те все равно не станут.
Во-первых, уж больно много выгод сулили новые условия договора, по сравнению с которыми увеличение суммы дани всего на двадцать процентов — незначительный пустяк.
Во-вторых, они тоже сохраняли «лицо», ведь количество-то гривен и впрямь не увеличилось. Следовательно, честь эмира Булгарии не порушена, и он выступает равноправным партнером, а не данником.
А как же иначе, коли все эти гривны названы не выплатой дани, а всего-навсего подарком, призванным подтвердить мирное хорошее отношение Волжской Булгарии к своей западной соседке. Более того, за возможную военную помощь со стороны Рязанской Руси Ильгам ибн Салим не раскошеливался ни на одну гривну, если брать их строго по счету, а не по весу.
С Абдуллой же Константин расплатился за свою маленькую уловку уже этим вечером. Плата была щедрой — жизнь наследника престола стоила гораздо дороже какой-то лишней полутонны серебра. Произошло это на веселом пиру, когда уже было изрядно выпито и съедено. Князь, больше по привычке, чем из недоверия, украдкой окунал свой перстень с алым камнем в каждый из кубков, что ему наливали.
Последний тост провозглашал фатих Керим. Он предложил в знак нерушимой дружбы, которой отныне связаны обе державы, обменяться всем кубками и оставить их у себя на вечную память об этой встрече.
Абдулла-бек, сидящий рядом, охотно протянул свой кубок Константину. Тот в ответ отдал свой и вновь больше по привычке, чем из какого-либо подозрения, тихонько обернув перстень камнем вниз, коснулся им медовухи. Коснулся — и глазам не поверил, когда красный цвет немедленно сменился на голубой, синий, фиолетовый, а потом чуть ли не почернел.
Немного поразмыслив, он протянул кубок обратно беку:
— Извини, Абдулла, но я как-то привык из своего. Давай мы выпьем, а уж потом обменяемся пустыми чарами.
— Как скажешь, — охотно согласился Абдулла и, не колеблясь, поднес к губам взятый у князя кубок.
Сомневаться не приходилось. Ни при чем тут ханский сын.
— Не пей, — быстро шепнул ему Константин на ухо, изображая пьяную улыбку и гадая, кто же сумел подсыпать яд наследнику трона.
Тот непонимающе обернулся, в глазах стояло искреннее недоумение.
— Кто-то подложил тебе отраву в кубок, — пояснил Константин, не переставая улыбаться. — Ты отдал кубок мне, а я, перед тем как пить, проверил. Извини, друг, я поначалу на тебя подумал, вот и вернул его обратно.
— Но кто это сделал? — побледнел Абдулла.
— Во всяком случае, не Керим, иначе яд достался бы тебе. Да улыбайся же ты, чтобы никто ничего не заподозрил, — прошипел Константин.
Абдулла с усилием растянул в улыбке посеревшие губы.
— Вот так уже лучше, — ободрил князь. — А что касается яда, то ты о том даже и не думай, — обнадежил он приунывшего наследника булгарского престола. — Знай, гуляй себе и жизни радуйся. Говорят, кто раз от смерти ушел, к тому она потом долго не заглядывает.
— Но кто на это решился?
— Скоро узнаем, — заверил Константин, подзывая к себе Любима.
Впрочем, тот уже и сам спешил к князю. Лицо его было озабочено, даже перепугано.
— Радуйся, Любим. Радуйся и улыбайся, — вполголоса сказал князь дружиннику, подавая пример.
Тот непонимающе захлопал глазами, потом сообразил, фальшиво улыбнулся и зашептал:
— Тревожно мне что-то, княже. Вон у того крючконосого слова чудные в голове гуляют. Все бубнит: «Выпьет — не выпьет, выпьет — не выпьет». Вот мне и помыслилось нехорошее. Думаю…
— Это который в зеленой чалме? — перебил его Константин.
— Он самый, — подтвердил Любим.
— А еще у кого чего нехорошее в голове имеется? Да улыбайся же ты!
— Тот, кто вино сейчас разливал, — снова раздвинул в улыбке непослушные губы дружинник. — Только там страха больше.
— Еще, — потребовал князь.
— Через одного от боярина ихнего с чалмой. Сейчас как раз улыбается и на нас глядит.
— У него что?
— Никак дождаться не может, когда бек пить станет. Остальные о разном думают, но больше о веселом, да еще о наградах, которыми их всех хан наделит.
— Ладно, — махнул рукой Константин. — Спасибо, Любим. Сейчас иди на свое место. Жаль тебя отпускать, но и рядом усадить не могу — сам, поди, понимаешь. Но ты постоянно настороже будь, хорошо?
— Ежели что, так я мигом примчусь, — заверил дружинник.
— Стало быть, так, Абдулла-бек, — повернулся князь к наследнику Булгарии. — Двое их у тебя на пиру сидят. Один в зеленой чалме, а другой…
— Не может такого быть, — горячо перебил его бек. — Усман-ходжа — человек большой святости. Он в том году хадж совершил в Мекку. Это не он. Твой человек ошибся.
— И тут святоши достали, — устало вздохнул князь. — Дело, конечно, твое, Абдулла, но я бы посоветовал тебе приглядеться к нему. Это он сейчас гадает — выпьешь ты или нет. К тому же проверить легко. Предложи ему выпить из твоего кубка, и ты все сразу поймешь. А заодно второму, который через одного от этого Усман-ходжи сидит. Ну, вон тот, толстый такой.
Наследник помрачнел.
— Вот это больше похоже на правду, княже, — заметил он, зло передернув плечами. — Он такое запросто может устроить. Вот только как? Он же не подходил к нам ни разу.
— Виночерпий, — коротко пояснил Константин. — Только с ним тебе поторопиться надо, иначе эти двое сами его убьют, чтобы не выдал.
Абдулла что-то отрывисто бросил старику, сидящему неподалеку от общего пиршества, который наигрывал нескончаемую тягучую мелодию на длинной деревянной дудке.
Тот равнодушно посмотрел на Абдуллу, не переставая играть, и снова зажмурил подслеповатые глаза, продолжая выводить грустные рулады.
— Это мои глаза и уши, — пояснил бек князю.
— Он же полуслепой, да и глуховатый, наверное, — усомнился Константин.
— Нам бы с тобой такую зоркость и такой слух, — лукаво улыбнулся Абдулла и добавил: — А я знаю, кто выпьет мед из моего кубка.
— И я знаю, — откликнулся Константин. — А теперь радуйся.
— Чему? — не понял Абдулла.
— Ты заключил мир со мной, ты родился второй раз, и у тебя скоро станет на одного врага меньше.
— А ты плачь, — посоветовал Абдулла. — Если бы мы подписывали договор завтра, ты мог бы запросить вдвое больше гривен.
— Ты думаешь, что я настолько глуп? — усмехнулся Константин. — Гривны ты бы мне, конечно, дал, но тогда мы были бы с тобой в полном расчете, а это невыгодно. К тому же у нас на Руси говорят: «Всех гривен все равно не заработаешь», — тут же перефразировал он поговорку, хорошо известную всем в двадцатом веке. — И потом наш господь, как и ваш аллах, велел делиться. Как же можно ослушаться старших?
Он и впрямь был доволен. Помимо торговых льгот для купцов своего Рязанского княжества, а также бесплатного транзита он отдельно обговорил с Абдуллой вопросы, связанные с обучением русских ремесленников у самых лучших мастеров Булгарии.
Знал Константин, что просить у наследника ханского престола. И не случайно именно на эту просьбу бек не сразу ответил согласием, а долго мялся и вздыхал. Лишь потом, возможно вспомнив про пир и про то, как ему подарили жизнь, он отчаянно махнул рукой, весело, хоть и несколько натужно засмеялся, грозя пальцем:
— Ох и хитер ты, князь Константин. Дорогая цена у нашего мира получается.
— Ты не прав, Абдулла, — возразил рязанский князь. — В конечном счете мир все равно оказывается дороже. К тому же если бы у нас с тобой был просто мир — это одно. Тогда и я о таком не заикался бы. Но у нас договор о взаимной помощи. Так что помогай, бек. Сегодня твои умельцы научат моих людишек, а завтра, как знать, возможно, и я пришлю к тебе своих, которые смогут сделать что-то новое для вас.
— Ну, тогда разве что послезавтра, не раньше, — усмехнулся Абдулла. — Нет еще у вас на Руси того, чего не могли бы делать наши люди.
Наследник престола не преувеличивал. Булгары и впрямь умели очень многое. Где делают самую лучшую кожу — что сафьян, что юфть, — у них. Где добились самых высоких результатов в работе со сплавами меди — снова у них. Кто умеет лучше всех обжигать керамику? Опять же булгары. Слава об их табибах[85] разнеслась чуть ли не по всему Востоку, Средней и Малой Азии. Их металлургия — это вообще отдельная история. Научить людей на Руси работать с никелем, свинцом, оловом, сурьмой, серой, производить сталь повышенного качества, дать им возможность овладеть всеми секретами литья чугуна, сварки и пайки — это же о-го-го.
Конечно, в Рязани был Минька. Он один стоил сотен и сотен мастеров, если не больше, но опять-таки не везде. Кое в чем и он прокалывался, причем не раз.
Взять, например, отливку тех же гранат. С нуля же начинал, бедолага, потому что не знали еще литейного дела на Руси. Первый блин, как ни удивительно, как раз получился не комом, но зато потом сколько было у парня неудач с этими доменными печами — уму непостижимо. Только по счастливой случайности никто из тех, кто трудился с ним бок о бок, не погиб.
Да и потом сколько раз он там все переделывал. Как ни заедет Константин в Ожск, так на месте литейного двора вечную стройку застает. Это же насколько Миньке труд облегчился бы, если бы у князя в наличии была парочка хороших специалистов. Так что тут Константин не ошибался — мастерство булгар, если заглянуть подальше в будущее, стоило очень дорого.
Во всяком случае, гораздо дороже тех двенадцати тысяч полновесных рязанских гривен, которые были получены, тщательно взвешены и ныне, упакованные в пятьдесят один кожаный мешок по три пуда каждый, тихо катились в десяти санях вместе со всем княжеским поездом.
Десять тысяч из них предназначались за обиду князю и еще две Великому Устюгу как возмещение причиненного ущерба. Позаботился бек и о том, чтобы ни один из рязанских дружинников и пеших ратников не остался без подарка. Тут он даже своей казны не пожалел. Вдобавок каждый бывший полоняник из сожженного града щеголял в новой одежде. Ее им тоже справил наследник ханского престола.
Словом, поездка удалась на славу. А то, что подраться не довелось, так оно, может, и к лучшему. Правда, не все были согласны с князем в этом вопросе, некоторые и ворчали втихомолку. Даже Вячеслав выразил сожаление, оставшись с Константином один на один.
Начал он издалека, заикнувшись о том, что содрать с булгар, скорее всего, можно было бы намного больше.
— Я же вместе с вами условия разрабатывал. Сколько мы запросили, столько нам и дали, — удивился Константин.
Но воевода, оказывается, краем уха слышал последнюю фразу Абдуллы-бека, о чем и сказал, упрекнув:
— Ты как наши президенты в России. Те тоже любители казенными деньгами кидаться. Этим миллиарды простили, тем простили, а на то, что народ в нищете, наплевать. Я думал, уж ты-то не дурак и за Русь всей душой болеешь, а ты, оказывается…
— Слава, ты бы подумал, прежде чем меня такими сравнениями оскорблять, — возмутился Константин. — Поверь, что никогда и ни одному чужому государству я ни единой гривны долга ни за что не прощу. У нас и самих расходов выше крыши. Буду я еще гривнами разбрасываться — как же. Но тут-то совсем другая ситуация. Мы же дань потребовали, и они нам ее сполна всю отвесили… Возможно, что мало заломили — но тут не я один, а все виноваты. Кстати, и ты тоже участие принимал. И потом, сам знаешь — после драки кулаками не машут.
— Вот оно и плохо, что драки не было, — вздохнул сокрушенно Вячеслав. — После нее мы и правда из них намного больше выжали бы.
— Так вон ты к чему беседу эту завел, — догадался Константин и упрекнул добродушно: — Ты же воевода. Радоваться должен, что людей сберег.
— Хорошая тренировка все равно бы не помешала, — возразил Вячеслав. — А так-то что — ходили, бродили, а где победы?
— А для тебя они с чем ассоциируются? — спросил князь. — Чтобы поле бескрайнее, а на нем трупы горками уложены?
— Если вражеские, то примерно так я ее себе и представляю, — подтвердил воевода, ничуть не смущаясь собственной кровожадности.
— Одних вражеских на таком поле никогда не будет. Они всегда со своими вперемешку лежат, — заметил Константин. — И потом, любая победная битва чем всегда заканчивается? — и сам же ответил: — Мирным договором с побежденным противником, который для тебя выгоден, а для него — нет. Считай, что мы сразу, минуя битву, к конечному результату перескочили.
— А еще лучше, когда вообще договариваться не с кем, — упрямо заявил воевода.
— Договариваться всегда есть с кем, только не всегда с тем, с кем ты воевал, и порою это даже хуже, — парировал князь. — А если тебе драк мало, то будь уверен — на твой век хватит. Причем уже в этом году.
— И откуда такая уверенность? — удивился Вячеслав.
— Сердцем чую, — нахмурился Константин. — А сердце у меня — вещун.
— Да-а, — протянул Вячеслав. — Ты в этот раз прямо в духе отца Николая действовал, — не удержался он, чтобы не подковырнуть. — Борец за мир и все такое. Жаль, что не видит он сейчас тебя, а то обязательно возликовал бы и прослезился.
— Возможно, — флегматично заметил Константин, пропуская мимо ушей язвительные слова друга, и добавил: — Честно говоря, мне его сейчас дьявольски не хватает.
— Как-то двусмысленно звучит. Священника и вдруг не хватает дьявольски, — насмешливо хмыкнул воевода.
— Да не в словах дело. И не священника, если уж на то пошло, — поправил князь. — Он из Никеи должен епископом прибыть.
— И как тогда к нему обращаться?
— В наше время было: «ваше преосвященство». Как сейчас — не знаю, но, скорее всего, точно так же. Знаешь, — пожаловался он, — что-то мне он последнее время чуть ли не каждый день вспоминается. И при этом возникает какое-то непонятное чувство, будто с ним что-то неладное происходит.
— Ерунда, — поспешил успокоить друга Вячеслав. — Сам же говоришь, что все эти поставления, если они только сана епископа касаются, — пустая формальность. Ну, как у нас в войсках, когда вызывают для утверждения на вышестоящую должность. Прокатится отец Николай туда и назад, кучу книжек интересных тебе привезет, впечатлениями поделится, и все.
— Так ведь я же ему еще и поручение дал о Константинополе переговорить. Помнишь, толковали мы с ним при тебе об этом?
— Да помню я, конечно. Только здесь, по-моему, ты тоже зря волнуешься. Согласятся они или откажутся — лично ему в любом случае ничего не грозит.
— И все равно как-то тревожно, — не успокоился Константин. — Такое чувство, будто над ним там беда нависла. И не дай бог, если она окажется связана как раз с моими просьбами или, — искоса посмотрел он на воеводу, — с твоей разведкой.
— Да я и сам себе не прощу, — отозвался Вячеслав, но тут же успокаивающе добавил: — Да нет, ничего с ним не будет. И за разведку мою ты тоже зря волнуешься — там ребята надежные. Конечно, всякое может случиться, но подвести они не должны.
* * *
Не суесловно реку, что Константин бысть еретик и веру христову отринул. В ту же зиму поиде он на булгар веры Магометовой, воевати же их не восхотеша, но мир прияша.
Сам же учал мыслить, яко ему веру их прияти, но ведая, что они тож поклоны богу бьют, своему уговору с диаволом верен остался. Тако же приял от их гривен во множестве и дозволил за то нехристям оным на Русь святую ехати и заполонили булгары грады русския. Из гривен же оных, за кои он Русь продаша, будто Иуда, на церковь православную ни единой куны не даша.
Из Суздальско-Филаретовской летописи 1236 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1817* * *
В ту же зиму Константин поидоша на булгар и без сечи их одолеша. Они же зрели рать велику и дань даша мнози тысячи гривен.
Из оного же сребра резанский князь ни единой куны не взяша, но на славу градов своих отдаши и, тако же и на воев. Союз же учиниша с ханом ихним, ибо ведал о ту пору ворога злее.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года. Издание Российской академии наук. СПб., 1760* * *
И вновь Константин поступает как очень дальновидный политик, заключив без единого сражения выгодный мир с эмиром Волжской Булгарии Ильгамом ибн Салимом.
Трактовка того, за что именно получил рязанский князь плату или дань, неоднозначна. Возможно, и впрямь, согласно Суздальско-Филаретовской летописи, он сделал какие-то уступки в вопросах веры — дыма без огня, как известно, не бывает.
Во всяком случае, в подтверждение этого предположения говорит тот факт, что количество булгар в русских городах действительно в последующие годы значительно увеличилось, а мусульманские мастера-строители, как это ни удивительно, действительно трудились у князя Константина, причем не только помогая ему строить каменные стены городов, но и даже возводить православные храмы.
О. А. Албул. Наиболее полная история российской государственности. СПб., 1830. Т. 2, с. 153.Глава 18 Четвертая София, или Княжеское поручение
Одни люди думают больше о путях веры. Другие сомневаются в истинном пути. Боюсь, что однажды раздастся возглас: «О неведающие! Путь не тот и не этот». Омар ХайямТот памятный разговор состоялся буквально за пару дней перед отправкой отца Николая в Киев. Кажется, это было уже вечером. Точно, вечером, потому что совсем незадолго до появления священника Константин распорядился зажечь свечи в малой княжеской гриднице — света уже не хватало. Заходящее солнышко еще не спряталось за высокие купола Успенского собора, но в гриднице уже царил полумрак.
— Вот, заглянуть решил, — робко улыбаясь, сказал отец Николай. — Послезавтра отплываю. Уже собрал все. Думал попрощаться да переговорить напоследок, — и осведомился смущенно: — Или не вовремя я, княже?
Константин отложил перо — последние дни он по вечерам работал над изменениями в Русской правде — и грустно посмотрел на священника:
— Наши желания совпадают, отче. Только я рассчитывал на завтрашний день, но можно поговорить и сегодня. Есть у меня для тебя небольшая просьба, точнее, поручение.
— И у меня просьба, — оживился отец Николай.
— Насчет гривен? — уточнил князь.
— Этих ты мне выделил в избытке, — замахал руками священник. — Я и не ожидал, что у тебя их так много. А потом и подумалось, если ты так щедро мне их отмерил, то, может, и на храм новый что-нибудь изыщешь, а?
— О господи. Опять ты за свое, отче, — устало вздохнул Константин. — Тебе я лишь потому столько отвалил, что книги дорого стоят, которые я тебя купить попросил. Опять же дорога дальняя, всякие непредвиденные расходы могут быть, вот и отмерил их с избытком, как ты говоришь. На самом же деле туго у меня с ними. Ты даже не представляешь, как туго. Иной раз в казне не только сотни, но и десятка гривен не насчитаешь. Вроде и доходы сейчас намного больше стали за счет купцов, но и расходы тоже возросли. Да что я тебе говорю, когда ты сам все прекрасно знаешь. Одни стены у Рязани сколько денег съедят, а они для города нужнее.
— Стены — дело и впрямь необходимое, — примирительно согласился отец Николай. — Разве ж я спорю. Вот только равнять их с храмом нельзя. Разные это вещи. Стены для обороны нужны, для сохранения имущества и жизни людской, то есть, по сути, они для тела, если уж образно говорить. Но надобно ведь еще и о вечном заботу проявить, о том, что в будущее простерто будет. Храмы и дух народа твоего в трудный час поддержат, а в иные особо тяжкие минуты и ввысь его поднимут.
— Ну, хорошо, — сдался Константин. — Как только стены добью, первым делом за храм примусь. Устраивает? — улыбнулся он, ожидая услышать подтверждение, и… разочаровался.
— И сызнова ты не прав, — возразил отец Николай. — Это крестьянину простому дозволительно такие вещи на потом оставлять. Мол, сейчас важнее засеять, затем сена накосить, после урожай собрать, ну а уж потом, ближе к зиме, можно и в храм сходить, богу помолиться.
— А разве он не прав? Если он в горячую пору вместо пахоты молиться начнет, то к весне вместе с семьей зубы на полку сложит.
— Вот же какой ты упрямец, — досадливо всплеснул руками священник. — Ну как тебе объяснить, что нельзя такие вещи друг дружке противопоставлять. Душа и тело у каждого человека едины суть, потому надлежит о них обоих заботиться, пусть и не всегда в равной степени. Во время страды основной путь на поле должен быть, и с тем никто не спорит. Но и совсем о душе своей тоже забывать не след. А зимой, когда самые главные дела переделаны, можно духовному и побольше времени посвятить. Но главное — чтобы оно всегда одновременно было, то есть рука об руку шло. Поэтому я тебя и прошу ныне не десяток монастырей отгрохать или сделать еще что-то, столь же неподъемное для казны твоей. Нет же. Один-единственный храм в стольной Рязани воздвигнуть умоляю, и только-то.
— В сотню гривен я уложусь? — деловито осведомился князь.
— На часовню ежели, то их вполне хватит, — кивнул отец Николай. — Я же с тобой речь о храме веду — большом, красивом, могучем. Тут скупиться нельзя. Более скажу, хотя ты, может быть, сразу мне и не поверишь. Если ты его заложишь, то он тебе и в мирских делах немалую пользу окажет. Не знаю, как правильно тебе это объяснить, но, узрев, что князь их не об одной токмо суедневной пользе помыслы имеет, но и о благе духовном радеет, даже в самые тяжкие дни к высокому свои думы устремляет, народ совсем иначе на тебя глядеть станет.
— Да люди вроде бы и так ко мне хорошо относятся. Или ты что-то другое замечал? — насторожился Константин.
— Да, относятся к тебе хорошо, — подтвердил священник. — Но скорее так, как в большой семье к самому старшему. С уважением, с любовью, но как к земному. Такого тоже тяжело достичь. Иному за всю жизнь не удается, а ты всего за полтора года добился. Молодец. Но останавливаться на этом негоже. Во всяком случае, тебе-то уж точно никак нельзя.
— Я что же, особенный какой? — не понял Константин.
— Сам знаешь, — коротко ответил отец Николай. — И отличие твое даже не в том, что ты сюда из другого времени прибыл. В помыслах у тебя, если с другими князьями сравнивать, разница существенная. Уж больно цели твои велики. Шутка ли — всю Русь воедино собрать. А потому, яко победы ратные величие твоего ума выказывают, тако же и твой храм будущий высоту твоих помыслов всему народу предъявит. И не только покажет, но и весь люд простой вдохновит следом за тобой к этому высокому устремиться.
— Ты хочешь, чтобы я был без штанов, но в шляпе, — раздражительно заметил Константин. — А не выйдет так, что… — начал было он, но священник бесцеремонно его перебил:
— Знаю, что скажешь, но паки и паки[86] повторюсь — коли мало денег, то затевай, но строй не торопясь. Никто же не требует, чтобы ты, плюнув на все, решил его в один год отгрохать. Ныне у тебя, как у смерда в деревне, страда самая. Тут и впрямь основную дань телесному пока что отдавать надобно. Но я речь о начале веду, о том, чтобы ты это дело хотя бы затеял. Пусть ты его пять лет строить будешь, пусть десять, двадцать, но начни, размахнись душой. О том и молить тебя пришел перед отъездом, чтоб душа у меня была спокойна в странствиях дальних. Кстати, если ты думаешь, что лишь я один о том пекусь, то тебе и Вячеслав Михалыч то же самое сказать может.
Константин знал, что это была правда. Один из разговоров на эту тему состоялся как раз при воеводе и Миньке. Как ни странно, но голоса «за» и «против» разделились тогда в соотношении не три к одному, как предполагал князь, а поровну.
— Вообще-то наглядную агитацию в армии никто не отменял, — задумчиво произнес Вячеслав, встав на защиту священника.
— Так то же в армии, — буркнул Константин.
— А в народе она что — не нужна, по-твоему? — усмехнулся воевода. — Порою еще сильнее требуется. Решать, конечно, тебе, Костя, но я бы подумал еще раз. Может, и наковыряешь где-нибудь деньжонок.
Ссылка на слова воеводы окончательно добила Константина, и он выкинул белый флаг:
— Ну, хорошо. Быть по-твоему, отче. Но все равно сразу же не обещаю — к зиме идем. А вот весной, одновременно со стенами, непременно и под фундамент храма начну котлован рыть. Правда, с самим строительством годик-другой все рано погодим.
Священник тут же издал недовольный вздох, собираясь заново приступать к уговорам, но Константин опередил его.
— Не о том ты подумал, отче, — мягко упрекнул он собеседника. — Не собираюсь я тянуть время. Тут иное. Ты же сам сказал, что храм этот должен краше всех прочих смотреться. А это штука тонкая. Она не от размеров зависит. Вон какие в двадцатом веке небоскребы — ну и что? Ими же никто не восхищается. Так что надо мастеров первоклассных отыскать и, как мне кажется, попробовать сыграть на смешении стилей. То есть главными, конечно, наши строители будут, но им в помощь непременно нужно двух-трех булгар дать, из молодых, чтоб своей подчиненностью не тяготились, да еще из Германии или из Италии кого-нибудь дернуть. Получится, что мы в будущий храм, помимо православной, еще и мусульманскую красоту вбухаем вместе с католической.
— Какая-то разношерстная компания соберется. И что у нас тогда за храм получится? — встревожился отец Николай.
— Боишься, что они к заячьим ушам лисий хвост и медвежью морду присобачат? — улыбнулся князь. — Зря. Главными на стройке будут наши мастера, а от остальных — я ведь сказал уже — возьмем самое лучшее, причем такое, чтобы оно вписывалось в общую картину, а не маячило в ней, как бельмо в глазу.
— А с канонами церковного строительства эти новшества не войдут в противоречие? — озаботился священник.
— А мы, чтобы такого и впрямь не получилось, над всеми мастерами отдельное начальство поставим. Ему и доверим принимать окончательные решения — как да что, да где, да какое новшество допустить.
— А он… — начал было священник, продолжая терзаться сомнениями.
— Не он, а ты, отче, — перебил его князь. — Ты же будешь главою епархии, тебе и карты в руки, точнее сказать, строительство.
— Да я в нем не больно-то силен, — замялся было отец Николай.
— Потому я тебя и назначу не строить, а руководить. Разница существенная.
— Ну, хорошо, — неуверенно согласился священник. — А посвятить храм кому мыслишь? — тут же деловито осведомился он и пояснил: — Оно ведь сразу знать надобно, чтоб народу объявить прилюдно. Меня же весной еще не будет, потому и вопрошаю ныне.
— Это тоже тебе решать. Если бы не ты, то строительство я еще долго не начинал бы. Но я так думаю, — Константин лукаво улыбнулся, — что честнее всего будет его посвятить покровителю твоего имени, то есть Николаю-угоднику. К тому же он на Руси очень популярен. Как ты мыслишь?
— Святой этот и впрямь почитаем, — задумчиво отозвался отец Николай. — Однако если уж величие помыслов своих выказывать… Ты как о святой Софии мыслишь?
— Так есть же такие храмы, — искренне удивился Константин. — Ты не забыл, что уже в наше время их аж три штуки на Руси имеется: один в Киеве, другой в Новгороде, а третий в Полоцке. У нас не первый, а четвертый по счету выйдет.
— Это все так, — кивнул священник. — И впрямь четвертый. А ты его так выстрой, чтоб народ глянул, ахнул и сказал: «По времени он четвертый, но по красоте и величию — первее первых будет».
— Эва куда ты замахнулся, — крякнул Константин и весело засмеялся, шутливо грозя собеседнику пальцем. — Думаешь, не вижу, куда ты гнешь, отче? Если я святой Софии храм посвящу, то мне уж волей-неволей, а сэкономить никак не удастся. Придется во всю ширь размахиваться, чтоб и размеры были — о-го-го, и все остальное им под стать.
— Да уж, — согласился отец Николай. — Сотней гривен не откупишься. Да тысячей, пожалуй, тоже. Оно и хорошо. Тогда он у тебя на часовенку убогую, кою ты хотел по первости поставить, точно похож не будет. Так что можешь мне спасибо сказать.
— А спасибо за что? — возмутился Константин.
— От позора уберег, — пояснил священник. — Их, часовенки-то, ныне на Руси бояре строят да купцы побогаче. А я указал, какое строительство к лицу князю — храм величавый. Это если простой правитель, и без помыслов величественных. Такому же, как ты, только неслыханную красоту воздвигать. Иначе и затеваться смысла нет.
— Ну и хитер ты, отче, — восхитился Константин.
— Прост я, — возразил священник. — Сам видишь, за пазухой ничего не таю. И не столь я тебя убедил, сколь ты сам уразумел мою правоту.
— А факты подобрать с доводами, слова нужные отыскать? Это же уметь надо, — не согласился князь.
— И тут вся хитрость лишь в том, что слова эти от сердца должны идти. Ежели изрекающий сам в них верит, то и слушающий рано или поздно ими проникнется, — спокойно пояснил отец Николай. — Опять же и того не забывай, что у меня за плечами проповедей столько, что если их все сосчитать — непременно за тысячу перевалит, а то и не за одну. А что такое проповедь? Речь, предназначенная для того, чтобы убедить слушателей в истинности чего-либо. К тому же не одного человека, а десятки, если не сотни. Это весьма тяжело, ты уж поверь мне. Ныне же гораздо легче. И убеждать всего одного понадобилось, и сам он умом не обделен. — И священник вопрошающе уставился на князя.
— Знаю, чего ждешь, — хмыкнул князь. — Слово тебе даю — скупиться не стану. Вплоть до того, что если казна пустая будет — в долги к купчишкам влезу, но отгрохаю все в лучшем виде и именно так, как ты скажешь. Жалко, конечно, гривенок, что уж тут говорить. К тому же сам знаешь — я к церкви равнодушен. По-моему, человеку для общения с богом посредники не нужны. Но тут дело не столько церковное, сколько политическое, так что и впрямь глупо было бы над серебром трястись. Ну теперь-то ты доволен? — спросил с улыбкой.
— Вполне, — сдержанно склонил голову отец Николай, стараясь не выказывать откровенной радости, что сумел он наконец-то дожать, додавить неуступчивого упрямца. — Вот только про посредников ты не совсем верно сказал. Когда человек умен или вовсе мудр — это одно. Тут, может, и впрямь наша помощь ему не нужна. Но и на другое посмотри. Мы же не навязываемся. А крестьянину простому, ремесленнику, купцу, да и многим князьям сподручнее все-таки в церкви молитву вознести.
— Насчет того, что не навязываемся, — вопрос спорный, — начал было Константин, но затем передумал. — Ладно. Это дискуссия долгая, а у меня самого к тебе дельце имеется. Долг-то платежом красен, отец Николай. Я тебе слово свое дал, что храм начну строить и мелочиться не стану, а теперь пришла пора и тебе меня выслушать. Знаешь ли ты, что не только на поставление в сан в путь-дорожку собрался, но одновременно еще и послом моим будешь?
— То есть как? — опешил священник и энергично запротестовал: — Э-э, нет. Так мы не договаривались. Или ты митрополита Киевского имеешь в виду?
— Да нет, бери выше. Ты, отче, мой чрезвычайный и полномочный посол к патриарху Константинопольскому, а также к императору Феодору Ласкарису. К нему даже в первую очередь. Пусть он сам своего патриарха убалтывает. Так-то оно понадежнее будет.
— Да ты в своем уме, Костя?!
Священник настолько взволновался, что даже забыл добавить княжеский титул.
— Не помешал? — осторожно спросил Вячеслав, протиснувшись сквозь полуоткрытую дверь.
— Заходи, Слава. Ты как раз вовремя. А то тут отец Николай отказываться вздумал от посольства.
— Правильно делает, что отказывается, — неожиданно для Константина заметил воевода, подходя к столу и с тоской оглядывая его скудное убранство. — Кто же под квас с хлебом человека уговаривает? Между прочим, посол — это новая должность, и ее непременно обмыть надо. Так что ты держись до конца, отче, и не соглашайся, пока наш князь не проставится.
Константин хмыкнул и неспешно направился к высокому шкафу.
— И при чем тут документация твоя? — заметил Вячеслав.
— У меня тут помимо ящичков с бумагами еще и полочки имеются, — пояснил князь, так же неторопливо выбирая что-то.
К столу он вернулся со здоровой бутылью, наполненной чуть ли не до краев.
— Это дело другое, — оживленно потер руки Вячеслав, усаживаясь и по-хозяйски пододвигая к себе блюдо со свежими румяными яблоками. — Сейчас остограммимся, а уж потом ты, отец Николай, дашь свое добро. И не продешеви. Если медовуха не по душе придется, требуй из другой бутыли налить. Хотя, честно говоря, я бы на твоем месте сразу согласился. Это же загранкомандировка сроком на год, не меньше, да еще с прекрасными суточными и обслуживающим персоналом.
— Вот сам и езжай, — огрызнулся священник. — Лик у тебя благообразен, нахальства хоть отбавляй. Тебя-то точно и император примет, и патриарх. А не примут, так ты сам к ним пролезешь. Да и чин у тебя подходящий — верховный воевода всего княжеского войска. А я-то кто такой, чтобы сам император беседовать со мной согласился? Какой-то русский священнослужитель, которого только-только в сан простого епископа возвели. Да меня до него даже не допустят. Знаешь, княже, какой у императоров сложный церемониал?
— Знаю. Но это было, когда они в самом Константинополе сидели и свысока на всех поглядывали. А как только они в Никею переехали, то спеси у них сразу поубавилось. И слушать он тебя обязательно станет, как только ты передашь, что хочешь с ним поговорить о том, как ему Константинополь вернуть.
— Вернуть?! Константинополь?!
— Или Царьград, как его сейчас на Руси называют. А ты чего так удивился-то, отче? Не сразу, разумеется, а годика через два-три, не раньше. Нашему Славе тоже надо время, чтобы как следует к его взятию подготовиться.
— Да-а, Константинополь — дело не шуточное, — протянул воевода. — Его без пары стаканов… — И, не договорив, сноровисто разлил из бутыли по чаркам.
Подняв свою посудину, он торжественно произнес:
— Ну, за взятие.
Священник мрачно посмотрел на воеводу, прикоснулся губами к самому краешку своего кубка, но тут же с тяжким вздохом отодвинул его в сторону. Ну как им объяснить, что политика — это такое тонкое, а главное, грязное дело, что он всегда, сколько себя помнит, шарахался от нее, как… Нет, «как черт от ладана» вроде неправильно было бы сказать — священнослужитель все-таки. Словом, чурался и избегал этого всячески. Ну, не его это дело. Если бы вот только что, буквально пару-тройку минут назад, князь не согласился начать строительство храма, пообещав при этом отдать на него все свои деньги и даже занять, если не хватит имеющихся, ему было бы легче. Тогда бы он попросту отказался, причем самым решительным тоном. Да и сам Константин о чем думает? Неужто не понимает, что по причине своей неопытности и простоты отец Николай ему все дело загубит на корню?
— А почему я? — спросил он. Прозвучало это как-то по-детски наивно.
— А кто, отче, если не ты? — невнятно промычал Вячеслав.
Говорить нормально он не мог, мешала закуска во рту.
Константин в ответ даже не улыбнулся, а спокойно разъяснил:
— Говорю же, что тебе не только к императору придется обращаться, но и к патриарху, который вместе с ним в Никее сидит. А кому сподручнее всего это сделать, как не тебе, православному священнослужителю? Да ты не тушуйся, — ободрил он приунывшего священника. — Хитрить, ловчить и жульничать тебя никто не заставляет. Действуй по-простому, в лоб. Мы им Царь-град, а они нам шапку патриарха. Хочу, чтобы церковь на Руси полностью независима было от ромеев[87], — пояснил он. — Но наденут эту шапку только на того, кого мы сами укажем. Нам грек без надобности. Своего, русского поставим. Если же начнут чего-то там юлить и выкручиваться, то сразу скажешь, что торг здесь неуместен. Либо да, либо нет — все остальное от лукавого. Я правильно процитировал?
— Правильно, — уныло вздохнул отец Николай, пытаясь заставить себя примириться с мыслью о том, что вести посольство придется и никуда ему от этого не деться, и поинтересовался: — А как мне себя вести с этим Феодором?
— Мужик он, как я помню по истории, основательный, медлительный. К тому же ему и дергаться особо возможностей нет. С деньгами у него большущая напряженка. Следовательно, и с войсками тоже, потому что в тех краях исключительно с помощью наемников действуют. Поэтому он сидит и не рыпается. Успеха в делах пытается достичь исключительно с помощью переговоров, перемирий, уступок и терпения. То есть, по идее, выслушать он тебя должен. Но только выслушать. Боюсь, что с окончательным ответом тянуть начнет. К тому же его жена — родная сестра императора так называемой Латинской империи, столицей которой как раз и является Константинополь. Так что тебе в разговоре с ним лучше давить на то, что он абсолютно ничем не рискует и даже в случае нашей неудачи ничего не теряет. Наоборот. Ведь те же франки при отражении нашего штурма, пусть даже и неудачного, не одну сотню своих людей потеряют, а значит, еще больше ослабнут. Разве это не плюс для него? А для надежности, чтоб ваше с Феодором свидание железно состоялось и чтобы он к тебе повнимательнее прислушался, действуй через его зятя.
— А не через сына? — уточнил священник.
— Нет, именно через зятя. Сыновей у него просто нет — одни дочки. Муж старшей из них — Иоанн Дука Ватацис. Он, кстати, где-то через пару лет[88] императором и станет после смерти Феодора.
— И как ты все это помнишь? — изумился в очередной раз Вячеслав. — И даты, и имена, и фамилии, и даже характеры. Вот я бы нипочем.
— Ты же всех своих солдат в батальоне помнил? — усмехнулся Константин.
— Ну, еще бы. Вот, помнится, был у меня такой славный, парнишка. Русский, из Пензы. Серегой звали. А фамилия чудная — Идт. Так я его Итд прозвал. А еще…
— Вот и я тоже своих королей, императоров и князей помню, — перебил его князь. — Потому что они для меня те же солдаты. Солдаты истории. Так же воюют, убивают, побеждают или проигрывают. Всего понемногу.
— Сравнил, — протянул воевода. — У меня живые люди были, а у тебя…
— Понимаешь, Слава, во все времена историю делают личности. От них не меньше чем на две трети зависит, куда и как судьба того или иного государства повернется. А иной раз, как, например, в случае с Литвой, и на все девяносто[89]. Так как же мне не знать движителей истории. Да и не все я помню, — сознался он, простодушно улыбаясь. — Например, имени той же дочки этого Ласкариса, которая замужем за будущим императором, я тебе, хоть убей, не скажу[90]. Имя египетского султана, с которым сейчас крестоносцы грызутся, тоже из памяти выскочило[91]. Так что на твердую пятерку мои знания по истории никак не тянут.
— Кстати, а этот вот зять, — деликатно вернул Константина к обсуждаемой теме отец Николай. — Он-то сам каков? Такой же, как тесть, или…
— Или, — быстро ответил Константин. — Они, можно сказать, небо и земля. Иоанн — это сплошная энергия, напор и натиск. Кроме того, он отличный практик, реалист и блестящий хозяйственник. Причем, насколько я помню по разным хроникам, Ватацис правил очень долго, больше тридцати лет, и все время спал и видел себя в Константинополе. Такая вот идея-фикс у него была.
— Но он туда попадет?
— Фигушки. Если только с нашей помощью. А так даже его сын, Феодор II, отцовскую мечту осуществить не сможет. И вообще их династии на Константинопольском троне не бывать — грохнут его внука Палеологи. Так что за наше предложение Иоанн, если только я хоть каплю понимаю в людях, ухватится руками и ногами. Тем более что ничего и делать-то не надо. Сказать «да», подождать нашего гонца из уже захваченного Царьграда и въехать в город, склонив голову перед очередным русским щитом, который Вячеслав лично присобачит к их воротам. Для памяти.
— Это уж точно, — заметил воевода. — Сотню гвоздей не пожалею для такого дела. Чтоб если оторвать попытаются, так он вместе с воротами отвалился. Вот здорово будет. На одних воротах щит князя Олега, а на других — мой, личный. Или Олегов уже сняли? Эх, жаль, что в мире пока еще сварка неизвестна. Я б его вообще намертво приварил.
— Известна, только не у нас, а в Волжской Булгарии. Но я специально для тебя найду умельца.
— Ты, Костя, заканчивай шутить, а лучше скажи, что будешь делать, если они обманут? Пообещают, а потом слова своего не сдержат, — сердито спросил священник, хмуро глядя на князя.
Было с чего сердиться. Ну прямо как дети, честное слово. Тут о таких важных вещах речь идет, а Вячеславу хоть бы хны. Что Царьград взять, что к теще на блины съездить — все едино. Да и Костя недалеко от него ушел.
— Так ведь первым въехать туда должен император в сопровождении уже двух патриархов — Константинопольского и Всея Руси, — пояснил Константин. — Иначе никакой передачи города не будет.
— А зачем вообще тогда говорить с императором? — снова не понял отец Николай. — Ведь не он же решает церковные вопросы? С патриархом и надо говорить.
— С ним само собой — без этого нельзя, — невозмутимо подтвердил Константин. — Ему, я думаю, тоже мало радости сидеть в какой-то задрипанной Никее и все время думать о том, в какой свинарник превратили крестоносцы храм Святой Софии и его личную резиденцию. Но ты не забудь, отче, что ты приедешь и уедешь, а мне желательно, чтобы ему все время кто-то на мозги капал. Причем капал не просто человек, которого и послать по матушке запросто можно, а сам император или, на худой конец, его зять. К тому же я в патриархах не больно-то силен, а меняются они на своем престоле, по причине того, что избирают их в весьма преклонном возрасте, значительно чаще, чем императоров. Сегодня мы с одним договоримся, и он «добро» нам даст, а через два-три года почиет в бозе, а новый в бутылку полезет. Нет, мол, и все тут. Вот тут-то нам императоры и сгодятся как средство систематического давления.
— Но ведь получается, что и патриарху тоже сплошная выгода. Зачем же он будет противиться? — удивился священник.
— Деньги, отче. Очень большие деньги. Пока Русь в подчинении у патриарха, она ему каждый год шлет и шлет серебро. Уж не знаю, как там оно деликатно именуется на вашем церковном языке, но я это называю попросту данью или налогом. Если бы не русские гривны, то Константинопольский патриарх давным-давно бы взвыл. У него самого-то территория весьма ограниченная, и население там обнищавшее. Словом, много не поимеешь, а кушать хочется каждый день, причем не только ему одному, но и всему его аппарату. Конечно, он сейчас не такой раздутый, как в двадцатом веке, но дармоедов и теперь хватает. Вот они-то и будут в первую очередь возмущаться твоим предложением.
— А они откуда узнают?
— Так сам патриарх им и скажет. Такие важные дела в одиночку никто не решает. Должен же он с синодом своим посоветоваться. Ну а дальше цепная реакция — от одного двое, от двоих четверо — и пошло-поехало, — деловито пояснил Константин.
— Да-а-а, сплетников во все времена хватало, — прокомментировал Вячеслав.
— Но ведь благодаря нашему предложению они получат новые земли и новых прихожан, так что ничего не потеряют. Получится что-то типа обмена: серебро Царьграда на серебро Руси, — возразил священник.
— Вот уж дудки. Вместе с Константинополем они получат почет, ну и снова смогут отправлять богослужение в Святой Софии. А вот серебром, тем паче золотом, там не очень-то разживешься. Конечно, за счет разных торговых пошлин с купцов — кроме русских, разумеется, — император получит толику на кусок хлеба с маслом. Не спорю — он этим обязательно поделится с патриархом, но не думаю, что так уж щедро. Вот тебе и первое препятствие.
— Если ты его назвал первым, стало быть, есть и второе, — задумчиво произнес отец Николай.
— А как же, — подтвердил Константин. — Оно в том, что пока Византия, а сейчас Никея, сама ставит к нам митрополитов, а также утверждает в сане всех наших епископов, она тем самым имеет возможность хоть как-то влиять на нашу политику. Да, сейчас Русь раздроблена, и особой практической пользы от этого нет. Но если задуматься на перспективу, то как знать, как знать. Они это понимают, как и то, что едва у нас появится патриарх и они тут же утратят даже возможность влияния.
— И что мне тогда делать?
— Я же говорю, действуй через императорского зятя. Иоанн Ватацис — паренек энергичный и очень хочет попасть в Константинополь. А кроме того, на твоей стороне нынешняя ситуация в тех краях. Дело в том, что сейчас чуть ли не каждый обломок бывшей Византии заявляет себя ее единственно законным правопреемником. Да, у Феодора Ласкариса есть огромный плюс. Его легитимность, в отличие от всех прочих, может подтвердить патриарх. Это разных князьков и царьков немерено, а патриарх действительно один. Но плюс этот единственный. А некоторые конкуренты Никеи очень сильны. Например, Эпирский деспотат. И тут все зависит от того, кто первым войдет в Константинополь. Кстати, тезка Никейского императора, который сейчас в Эпире, скоро коронуется как император Византии.
— Но есть еще патриарх.
— Как ты думаешь, что он сделает, если Феодор Эпирский первым возьмет Константинополь и пригласит туда патриарха в обмен на освящение законности его власти над этим городом?
Священник смущенно засопел.
— Может и отказаться, — неуверенно произнес он.
Послышалось насмешливое покашливание Вячеслава.
— Да, может, — твердо повторил отец Николай.
— Говорят, куры тоже летать могут, — невинно заметил воевода. — Тильки тихэнько и низэнько-низэнько.
— Скорее всего, он согласится, отче, и ты сам это прекрасно понимаешь, — заметил князь. — Так что ты намекни императору, что твоему князю все равно, кому предлагать корону, хотя у Иоанна морда лица, честно говоря, симпатичнее будет.
— Но ты так говоришь, будто на все сто уверен, что мы непременно возьмем Царьград.
Вячеслав от такого сомнения в его способностях даже крякнул возмущенно.
— Вот, отче, даже вино из-за тебя разлил. Как ты меня унизил, как унизил, — запричитал он. — А я-то тебя лучшим другом всегда считал.
— Я в Славе и его людях уверен даже не на сто, а на сто один процент, — твердо отверг все сомнения отца Николая Константин.
— Я бы прослезился, но носовой платок позабыл, — притворно всхлипнул воевода.
Однако было заметно, что он и в самом деле польщен, причем настолько, что едва-едва сдерживает довольную ухмылку.
— Разумеется, возьмет он его не сразу, а после соответствующей подготовки, — пояснил Константин.
— Само собой. Все-таки городишко чуток побольше, чем Переяславль-Рязанский, будет. Для этого с тобой, отче, и поедут в свите двое моих хлопцев, которых я худо-бедно, но научил и чертить и рисовать. Пока ты будешь наслаждаться красотами Константинополя, они полюбуются его укреплениями и прочим.
— Шпионы, — с осуждением и легкой долей отвращения произнес отец Николай.
— Разведчики, — поправил Вячеслав. — Они же наши, поэтому храбрые и отважные русские разведчики. А вот, к примеру, если мы с князем каких-нибудь монгольских соглядатаев на Руси вычислим, то повесим их именно как грязных и мерзких американ… ой, то есть монгольских, шпионов.
— Все равно не очень приятно.
— Да они сами по себе бродить станут, — успокоил священника воевода. — Неужели ты думаешь, что мы твою священную посольскую миссию под риск провала поставим? Даже если парни попадутся, все равно молчать будут. Во всяком случае, до вашего отплытия. Несколько часов они смогут продержаться.
— Но это же огромный город с десятками тысяч воинов. Ну ладно, воевода, — отец Николай небрежно махнул рукой в сторону Вячеслава. — Он о его размерах ни малейшего представления не имеет, но ты-то, княже, понимаешь, сколько людей поляжет при его штурме?!
— Он намного больше Грозного будет? — как-то недобро прищурился воевода, и в глазах его зажглись злые огоньки.
— Не в том дело.
— А у них что, есть лимонки, Калашниковы, фугасы и прочее? — не унимался воевода, а огоньки продолжали постепенно разгораться.
— Я не хотел тебя обидеть, Вячеслав Михалыч, — примирительно обратился к нему отец Николай. — Мне просто людей жалко, которых ты потеряешь. Наши же, русичи.
— Потери, конечно, будут, — уже более спокойным тоном заметил воевода. — Но намного меньше, чем ты думаешь, отче.
— Да пусть даже только тысяча одна, и то скверно.
— Эка ты куда загнул, — крякнул Вячеслав. — Сотня, от силы две — не больше. Это потолок, да и то лишь в случае, если в дело вмешаются какие-нибудь роковые случайности. На самом деле я рассчитываю на несколько десятков. И я не самоуверен, — заверил он, заметив скептическое выражение на лице священника. — За свои слова головой отвечаю.
Священник некоторое время молчал, но потом нерешительно заметил:
— А ведь можно и вовсе без смертей обойтись. Живет же сейчас Русь без патриарха, и ничего.
— Так она и без царя живет, — не согласился с ним Константин. — А когда он появится, то кто корону ему наденет? И потом, я считаю, что несколько десятков человек, как Слава сказал, а я ему верю, это не очень-то большая цена за патриаршую тиару.
— Это у папы римского тиара, — хмуро поправил князя отец Николай. — А у патриарха клобук.
— Пусть так, — легко согласился с ним князь. — Главное, что недорого.
— Между прочим, Ивана IV митрополит на царство венчал, и ничего. Да и его сына Федора Иоанновича тоже. А вот Бориса Годунова как раз патриарх возводил в царское достоинство. Помогло ему это?
— И снова ты не прав, отче. Иван Грозный и так владел всей Русью. Плюс то, что его власть была родовая, то есть и его отец, Василий III, и дед Иоанн, и прадед, и прапрапрадеды — все сидели на этом же престоле. В такой ситуации, даже если бы его простой епископ на царство венчал, ничего бы уже не изменилось. То же самое и с его сыном — Федором Иоанновичем. А Борис Годунов был умнейший мужик. Он и людей самым первым из царей на учебу за границу посылал, и университет хотел в Москве открыть, а уж городов понастроил — уму непостижимо. Просто ему не повезло, умер не вовремя. Еще бы каких-нибудь полгода-год, и были бы у нас Годуновы, а не Романовы.
— А хорошо бы это было для Руси?
— Сам считай. Отсутствие смуты и всеобщего разорения — раз. Но главное — престол занял бы не малолетний дурачок Миша, которого только потому бояре и избрали, что он годами мал, а умом недалек, а Федор Борисович — такая же умничка, как и папа. Между прочим, его с детства приучали и натаскивали на царствование. Несколько иностранных языков знал, да что языки — он самую первую карту Русского государства лично вычертил. Ну да господь с ним, с Федей Годуновым, а то отвлеклись мы малость. Кстати, что касается штурма Константинополя и количества возможных жертв, отче, — вовремя вспомнил Константин. — Чтоб тебе охотнее поверилось в обещания нашего славного Славы и ты не думал, что идут они от его самоуверенности, вот тебе подлинный исторический факт: когда крестоносцы штурмовали Константинополь, то у них погиб всего один рыцарь. А ведь у них не было ни одного спецназовца, обученного работать в темноте, соблюдая скрытность и неожиданность. Тебе это ни о чем не говорит? Пойми, отче, что жители твоего Царьграда не просто откажутся помогать крестоносцам. После всего того, что латиняне сотворили с самим городом, а заодно и с православными святынями, граждане Константинополя, включая самого распоследнего нищего и бродягу, будут целиком на нашей стороне, потому что те для них — дикие завоеватели, а мы, соответственно, герои-освободители.
— Не думаю, что их помощь будет существенна, — скептически заметил священник.
— Я тоже на нее не очень-то полагаюсь. Да лишь бы под ногами не путались, и на том спасибо, — заметил воевода, разливая медовуху по чаркам. — Хотя для того, чтобы отвлечь внимание обороняющихся, они вполне сгодятся.
— Но есть еще и второе, — продолжил Константин. — Это шаткий триумвират самих латинян. Они ведь едва захватили Константинополь, как стали тут же грызться за власть. Как собаки, честное слово. В конце концов император, которым избрали Балдуина Фландрского, получил в свое владение всего часть захваченных ими владений Византии и, что самое смешное, только часть столицы.
— А кому же еще город достался? — не понял отец Николай.
— Дело в том, что брали его сразу две группировки этого «святого» воинства. С моря атаковали венецианцы во главе со своим дожем, которые и оттяпали себе львиную долю столицы, а с суши — бельгийцы, ломбардцы, немцы и французы. Балдуин — это представитель последних, да и то не всех. Одновременно с ним был избран королем Бонифаций Монферратский — это властитель Ломбардии. Ну и почти сразу они погрызлись между собой, причем дело дошло аж до военных действий и до захвата друг у дружки городов.
— Ничего не понимаю, — пробормотал священник. — Как же можно выбрать императора и одновременно с ним короля, которые тут же начинают войну друг с другом?! Теперь-то ты видишь, что я ни бум-бум в политике?! Я эту ерунду с бардаком пополам точно никогда не освою!
— А тебе, отче, и не надо ничего осваивать. Это у нашего князя очередная серия галопом по Европам, как я понимаю, — заметил Вячеслав. — К тому же, скорее всего, эти данные у меня, а не у тебя какой-то интерес могут вызвать. Мне же Константинополь брать. Ты продолжай, Костя, продолжай.
— А чего продолжать-то, — пожал плечами князь. — Такая же вакханалия у них и с церковью. Вначале патриархом выбрали какого-то венецианца[92]. Когда он скончался, стало совсем весело. Каждая из партий, и венецианская, и французская, выбрала своего патриарха, а тосканцы — еще одного. Для полноты счастья добавьте к ним теперь папского легата Пелагия, и получится полный винегрет.
— Ну, это все дела давно минувших дней, а вот как там сейчас обстановка и кто в данный момент рулит? — заинтересовался Вячеслав.
— Она с каждым годом все хуже и хуже. Люди убавляются — кто погиб в стычках и войнах, а кто просто назад подался, на родину поманило.
— А пополнения? — деловито осведомился воевода.
— Их больше нет. Все те, кто выступил год назад в пятый крестовый поход, а это в основном немцы и венгры во главе с королем Андреем II, до сих пор торчат под каким-то городишком в Сирии[93]. Потом они еще несколько лет будут бестолково воевать с египетским султаном. Закончится же все тем, что они попадут в окружение и будут отпущены только благодаря милости правителя Египта.
— С пополнением разобрались, — удовлетворенно кивнул Вячеслав, тут же разливая по третьей. — А в самом Константинополе кто сейчас рулит?
— Был муж сестры Балдуина — имени я точно не припомню[94], зато знаю, что он прямой потомок короля Франции Людовика VI Толстого. Да это и не важно, потому что он даже не добрался до Константинополя — погиб по дороге. И еще одного человека помню точно, но его изберут только в следующем году. Это его сын Роберт.
— Сын кого? Твоего толстого короля или мужа сестры?
— Мужа сестры. Он будет править до конца двадцатых годов, но власть у него, как я уже говорил, чисто номинальная, тем более что он вообще не имеет никакого авторитета.
— Так уж и никакого? — усомнился Вячеслав.
— В качестве доказательства приведу только один пример из совсем недалекого будущего. Этот император влюбится в девушку, которая к тому времени уже будет помолвлена с одним из французских или немецких рыцарей. Национальность я точно не помню[95], да это и не важно. Роберт уговорит мамашу девушки, чтобы она отказала этому рыцарю. Та — все-таки сам император просит руки — даст свое согласие. Тогда отвергнутый ухажер соберет свою родню с дружками, вломится ночью во дворец, отрежет несчастной девушке нос и губы, а ее мамашу вообще выкинет в Босфор. Вот такие изысканные нравы и куртуазная вежливость там сейчас царят.
— А император? — спросил отец Николай. — Точно так же с этим рыцарем поступит или…
— Никак он с ним не поступит, — невесело ухмыльнулся Константин. — Он так и не сможет добиться от своих баронов суда над этим рыцарем. Представляете?
— Ну что ж, мне все ясно. Для Роберта все плохо, а для нас — так просто замечательно. Этот сказочный бардак меня вполне устраивает, — сладко потянулся Вячеслав. — Учитывая, что время позднее, а я притомился за день, пока своих орлов гонял, пойду-ка я на боковую. Тем более что уже и выпито все. Вот только одного я не пойму, княже. Ты уж поясни мне, дураку, а почему сами никейские императоры не попытаются взять Константинополь?
— А войско? С таким количеством воинов город приступом не взять. Латиняне хоть и грызутся, как собаки, но пока еще достаточно сильны, чтобы отбиться. А твоего спецназа для удачного штурма у Ласкариса нет.
— Да я и не собираюсь его штурмовать, — пояснил Вячеслав. — Просто одной тихой безлунной ночью мои ребята спокойно вскарабкаются на стены, вырежут часовых, дойдут до ворот, откроют их, ну а дальше — дело техники. Сдается мне, что два-три десятка — это потолок моих потерь. Больше у меня «двухсотых»[96] не будет, — уверенно заявил он.
На том разговор и закончился.
Потом Константин не раз вспоминал тот вечер, и каждый раз ему казалось, что он чего-то недоговорил, а может, и наоборот — сказал, а точнее, возложил на плечи отца Николая лишку. Дипломатия и впрямь слишком серьезная штука, чтобы с нею мог справиться любой человек. И тут одних благих намерений недостаточно.
— Да ну! — отмахнулся он досадливо. — Славка прав. Согласятся они или откажутся — все равно лично отцу Николаю ничего не грозит, так что зря я пугаюсь.
Эпилог Дан приказ ему на запад…
Тот их, кто с каменной душой Прошел все степени злодейства; Кто режет хладною рукой Вдовицу с бедной сиротой, Кому смешно детей стенанье, Кто не прощает, не щадит, Кого убийство веселит… А. С. Пушкин— Ну что, хорошо растомило? — плюхнулся распаренный Вячеслав на широкую лавку в предбаннике.
Вопрос его предназначался князю, такому же розовому, который только-только окатился ледяной водой из кадушки и теперь неспешно попивал холодный квасок.
— Нормально, — задумчиво ответил тот.
— Что-то я тебя не пойму, княже, — буркнул недовольно воевода. — На пиру в честь бескровной победы над Волжской Булгарией ты смурной сидел, словно единственный представитель побежденных. Я думал, дела какие неотложные тебе душу грызут, но уже неделя прошла, а ты хоть бы раз улыбнулся. Мне же завтра на проверку ополченцев выезжать, а это месяц, не меньше. И что я с собой на память о друге увезу? Рожу его мрачную? Так что давай-ка ты мне сразу исповедуйся. Тем более что я в основном уже знаю причину твоей тоски, — заговорщически подмигнув, он осведомился: — Шерше ля фам, а? Ля фам шерше?
— Ты что, мой новый духовник? — хмуро осведомился Константин.
— А как же иначе? — убежденно и, как ни странно, вполне искренне заявил Вячеслав. — У нас же взаимозаменяемость. Так что я на время отсутствия отца Николая должен исполнять его прямые обязанности, — и, почесав в затылке, уточнил: — Частично.
— Ну, тогда… Грешен я, отче Вячеслав, — начал князь со вздохом. — Я ведь чего хотел — единства на Руси добиться. А на деле чего достиг? Окончательного раскола. Ведь теперь ни черниговцы, ни новгород-северцы со мной уж точно ни в какой союз не войдут. Про южное Переяславское княжество и вовсе молчу. Да и остальные тоже, едва узнают о том, как я князей, будто разбойников, на дубах развешиваю. Вот и думаю, то ли двойку себе за брак в работе поставить, то ли сразу кол жирный.
— Тю на тебя, дурилка ты картонная, — искренне возмутился воевода. — А Муром? А Владимир с Ростовом, Суздаль с Юрьевцем, Тверь с Ярославлем, Димитров с Москвою?! Они что, по-твоему, совсем ничего не стоят?!
— Димитров с Москвою, — хмыкнул презрительно князь. — Ты бы еще какой-нибудь Муходранск приплюсовал, — вздохнул он. — Зато сам посчитай: открытая вражда с Черниговским и Новгород-Северским княжествами, да еще скрытая — со всеми остальными, а это Киев, Галич, Новгород, Волынь, Смоленск…
— Ну, конечно. Давай собирать все в кучу, — не пожелав даже выслушать до конца, оборвал друга воевода. — Ты, между прочим, всего два года здесь живешь, а вон уже сколько наворотил. Из князя какого-то захудалого Ожска — между прочим, если он и лучше Москвы, то ненамного — ты же вырос в передовики-феодалы. С твоими владениями по территории уже ни одно княжество не сравнится, а ты сопли распустил. Ты, родной, чего вообще-то хотел: от Карпат до Дальнего Востока державу раскинуть? Это ж тебе не кино, а жизнь, балда.
— А я и не распустил, — возразил князь. — Я просто думаю, выход ищу приемлемый из создавшейся ситуации.
— Как говорила моя мамочка Клавдия Гавриловна, — поучительно заметил воевода, — если с такой угрюмой мордой думать, то и выход отыщется точно такой же мрачный. У тебя вон парень на выданье. Сколько ему уже? Женить-то не думаешь? Или в Чернигове малолетних княжон нет?
Заметив, как оживилось лицо друга, он, ухмыльнувшись, гордо похвалился:
— Это только один вариант. Давай-ка сейчас в парилочку, и я тебе там под веничек столько их накидаю — замучаешься выбирать.
— Думаешь, успеем до Калки? — вздохнул Константин, вставая с лавки.
Вячеслав в ответ только присвистнул.
— Да у нас времени вагон и маленькая тележка. Обязательно успеем. Должны успеть, иначе нам потомки не простят, — добавил он жестко и поторопил князя: — Пошли, а то Епифан там заждался уже.
Уже устроившись, поудобнее на полках — Вячеслав повыше, а Константин пониже — и ожидая, пока Епифан закончит колдовать с каменкой и примется за них, воевода, вспомнив, спросил:
— А от твоего арабского купца, ну, который монгольским шпионом оказался, ничего не слыхать?
— Тишина, — отозвался князь, тут же ойкнув от первого прикосновения к телу горячего распаренного березового веника, и добавил торопливо: — Самому интересно, жив ли он сейчас и на кого по-настоящему решил работать.
Он втянул в себя аромат свежевыпеченного каравая, которым густо запахло от кваса, щедро выплеснутого на каменку, и окончательно умолк — Епифан взялся за дело всерьез, так что стало не до разговоров.
А арабский купец Ибн-аль-Рашид был жив. Более того, именно в этот день банных утех рязанского князя купец окончательно убедился в том, кому следует помогать по-настоящему, а кому — только на словах.
Если раньше он еще как-то сомневался, да и страх играл немалую роль, то теперь…
Проехав по почти полностью разрушенной Бухаре и вдоволь наглядевшись на многочисленные и до сих пор не погребенные трупы ее жителей, он уже почти не колебался. От изобилия покойников его стало мутить, едва они въехали в некогда великий город. Несколько раз Ибн-аль-Рашид, будучи не в силах справиться с рвотными потугами, слезал со своего невозмутимого верблюда и надолго задерживался возле пересохшего арыка — желудок выворачивало чуть ли не наизнанку. Трупы были повсюду — обезображенные, изувеченные, гниющие. У многих вспороты животы, монголы искали там серебряные дирхемы и золотые динары.
Широких раскидистых платанов и чинар, под сенью которых так славно отдыхалось в знойные летние дни, тоже не было. Степняки вырубили их подчистую. Многие дома, правда, оставались целыми, так же как и караван-сарай[97], но все равно от них веяло каким-то унынием и заброшенностью.
Но главное — запах. Отовсюду несло такой вонью, что заходить куда-либо было просто чревато. Удушливо сладкий запах гниющей плоти еще долго преследовал купца. Не меньше десятка верст отмерил он, удаляясь от бывшей семивратной жемчужины Средней Азии, прежде чем аромат смерти немного поутих и перестал преследовать Ибн-аль-Рашида. Вот тогда-то он и определился до конца.
Купец всегда и всюду в первую очередь созидатель, повелитель монголов — разрушитель. Они сходились только в одном. Как торговые пути объединяют державы, так и Чингисхан соединял воедино земледельческий Китай, диких кочевников степей и великую некогда державу шаха Хорезма в единое целое.
Но и здесь тоже имелись различия. Ибн-аль-Рашид и ему подобные делали это с помощью мира, всячески укрепляя его, ибо он выгоден каждому торговцу. Цементом им служили товары и серебро с золотом.
Великий потрясатель вселенной тоже крепил его, но с помощью войны, склеивая свои обширные и весьма разношерстные территории исключительно жестокостью и кровью. И на этом пути Ибн-аль-Рашиду было явно не по пути с монгольскими воинами.
В ставку Чингисхана купец в сопровождении корукчиев[98] прибыл уже под вечер. Она располагалась в уютной некогда долине, окруженной со всех сторон невысокими пологими холмами. По пути его несколько раз останавливали многочисленные разъезды, но всякий раз разочарованно отпускали. Выручала пайцза.
Устроится на ночлег торговцу удалось тоже без особых хлопот — встретились знакомые перекупщики. Ибн-аль-Рашид обычно с такими дел не имел, но тут обрадовался им как малый ребенок. А не имел, потому что всегда считал этих людей мелковатыми для своих торговых дел. Потому они и вились возле степного войска в надежде существенно увеличить имеющийся первоначальный капитал. Это было чрезвычайно опасно — могли ограбить и даже убить. Но это еще было и очень прибыльно. Чертовски прибыльно.
Воины, зная, что впереди предстоят длительные походы, стремились поскорее избавиться от награбленного добра, потому что остатки добычи у них зачастую отбирали и сжигали, как обременяющее в пути.
Нет, конечно, никто не препятствовал степняку напялить на себя, вместо одного, два, а то и три халата. Но что делать с остальной одеждой, когда на тебе самом ее уже столько, что трудно повернуться, а хурджины[99] на сменной лошади тоже забиты до отказа?
Он-баши было чуть легче, юз-баши — совсем неплохо, а мии-баши[100], имеющим в своем распоряжении арбы, и вовсе хорошо, но рядовым воинам…
Вот потому уже в первые после захвата города дни за вещь стоимостью в золотой динар не знающий ее истинной ценности дикий степняк просил вдвое, втрое, а то и вчетверо дешевле. Затем цена падала еще больше. Когда же по лагерю кочевников проносился слух о том, что завтра выступать, суммы запрашивались и вовсе смехотворные, уменьшаясь в десятки раз и опускаясь до одного черного дирхема[101]. В такие вечера гомон бесконечного торга утихал лишь к полуночи, не раньше.
Впрочем, Ибн-аль-Рашид такой мелочовкой не интересовался. Да и не до того было. Ему предстояло все взвесить и продумать, что именно говорить хану. Особенно тщательно — о чем умолчать.
А вот лгать не стоило. Аллах, конечно, делал в этом случае скидки правоверным, поскольку обман людей, не приобщенных к истинной вере, допускался, хоть и с оговорками. Зато у Чингисхана скидок не было. Никогда. Никому. Нигде. Поэтому, прежде чем явиться к потрясателю вселенной, необходимо было как следует приготовиться к предстоящему разговору.
Но купец не успел. Тот сам нашел его и позвал. Ближе к полуночи за ним пришли два здоровенных бугая из числа кебтеулов[102]. С монголами их роднила только кривоногость, желтизна кожи, узкие глазки и плоские, как сковорода, лица. Возглавлял же их сам Тахай, которого Чингисхан поставил руководить всеми разведчиками еще тридцать лет назад.
Араб думал, что его приведут в огромный ханский шатер, вмещавший при необходимости до сотни человек. Однако не успели они даже дойти до высоких плечистых кешиктенов, застывших, будто изваяние возле шатра, как Тахай неожиданно дернул купца за руку, бесцеремонно увлекая его за собой влево, где метрах в ста пятидесяти стояла еще одна юрта. Подходила она больше для какого-нибудь он-баши или юз-баши, не выше. Даже для мии-баши она уже не годилась, не говоря уже о темнике[103] или, страшно сказать, о самом повелителе вселенной.
Правда, были в ней и тяжелые плотные ковры, богато украшенные разноцветным орнаментом и в обилии развешанные на тонких стенах, но на земляном полу лежал обычный войлок. Стояло перед купцом и богатое угощение, но подано оно было прихрамывающим старым слугой-китайцем, причем на блюдах, совершенно разных по стоимости. Были там и золотые мисы, отделанные по ободку причудливым орнаментом, но были и серебряные, и даже грубо вылепленные из обычной глины.
А еще купец подумал, что зря поверил рязанскому князю Константину, который слишком доверял своим предсказателям. Понадеявшись на его слова, купец прибыл в Бухару, опрометчиво считая, что у него в запасе уйма времени до той поры, пока придет этот проклятый степняк. Как выяснилось, неведомый звездочет Константина ошибся и очень сильно — на целый год.
Сам Чингисхан находился уже в юрте. Он был, точнее, выглядел очень спокойным. Впрочем, как всегда. Почти всегда. Но купец уже знал, что спокойствие это обманчиво и больше всего походило на медлительность гюрзы перед смертельным прыжком. Лишь желтые немигающие глаза великого сотрясателя[104] вселенной самую малость выдавали истинное состояние души властителя монголов — ленивое, но настороженное, хотя пока и без шалых искорок безумия где-то там, в самой их глубине.
Эти искорки весело плясали, когда горели один за другим города тангутской империи Си-Ся, переходили в безумное адское пламя во время очередного сражения и угрюмо роились в самой глубине зрачка, когда Чингисхан определял дальнейшую судьбу пленных, захваченных на поле битвы. Сейчас их не было, и одно это уже радовало Ибн-аль-Рашида, хотя на самом деле ничего не значило. Появиться они могли в любой момент. Пока же гюрза размышляла.
Ибн-аль-Рашид огляделся, сделал он это очень осторожно, самым краешком глаз. Араб все никак не мог понять, почему воины привели его не в большой шатер, где повелитель монголов всегда устраивал веселые пиры и горделиво восседал на золотом троне, захваченном в Китае. До недавних пор его принимали именно там.
— Ты сказал, купец, что урусы мужественные и храбрые люди, — хмуро выслушав подробный рассказ торговца, заметил Чингисхан. — Тогда почему же они бедные? Почему же они не оседлают своих коней и с мечами в руках не добудут себе богатства у своих соседей?
— Я уже говорил, повелитель народов, что они мирные люди. Они любят то, что делают и добывают сами. У них даже поговорка есть такая, — заторопился Ибн-аль-Рашид, видя, как нахмурились и без того уже узкие глаза Чингисхана, — что легко приходит, то легко уйдет.
— Глупцы, — проворчал грозный хан. — Они забыли добавить, что, когда все легко уйдет, можно также легко взять еще. Ну, пусть так. Но ты сказал, что у них много правителей, и нет одного, самого главного.
— Я сказал, что у них есть князья и каждый сидит в своем улусе. Но кроме этого есть и великий князь, который сидит в главном городе уруситов — Киеве, и если он созывает остальных на битву, то они, как послушные сыновья, охотно приходят на зов отца.
Чингисхан рассеянно протянул руку к пиале и, шумно отдуваясь, одним махом осушил пенистый кумыс.
— Всегда приходят? — буркнул он. — Всегда слушаются?
— Мне говорили, что всегда, но за последние годы у них не было большой войны и великих врагов, — осторожно заметил Ибн-аль-Рашид. — Поэтому я могу говорить сейчас только о том, что слышал. Видеть же это своими глазами мне не доводилось.
— И они никогда не враждуют между собой? — осведомился монгольский хан.
— Бывает у них и такое, — уклончиво ответил араб. — Но и тут я могу лишь вновь повторить те слова, которые уже произнес: все это я только слышал, но сам не видел.
— Значит, сыновья не очень-то послушны, — проницательно заметил «повелитель народов». — Плохие дети и плохой отец, который не хочет или не может накинуть узду непокорности на каждого из них, — сделал он глубокомысленный вывод и вновь задумался.
Ибн-аль-Рашид тоскливо вздохнул. Каждый раз после того, как он имел встречу с Чингисханом, араб, возвратившись с нее живым и невредимым, первым делом расстилал молитвенный коврик и возносил аллаху благодарность за великую милость. Величайший вновь позволил ему ускользнуть от этой огромной кошки с острыми когтями рыси и немигающим взглядом хищных глаз барса.
— Ты все мне поведал, купец? — неожиданно раздался в ушах торговца голос хана. — Ничего не утаил?
— Все, сотрясатель вселенной. Как на духу.
— А почему умолчал о том, как рязанский князь Константин разбил войско князя Ярослава?
— Я не умолчал, — растерянно развел руками Ибн-аль-Рашид. — Я ведь сказал, что между уруситскими князьями бывают ссоры и раздоры. Если говорить о каждой из них, то мой рассказ затянется на слишком долгое время, а у тебя есть дела и куда более важные, чем выслушивание таких пустяков.
— Это так, — величественно кивнул головой Чингисхан и заметил: — Ты принес мне много интересного и нового. За это ты можешь купить у моих воинов столько, сколько сможешь увезти на своих верблюдах. Ныне здесь есть все, так что тебе ни к чему отправляться за товаром дальше, к восходу солнца.
Это был намек. Чингисхан явно не желал, чтобы Ибн-аль-Рашид поехал в Китай, где у араба осталась молодая жена и младенец сын.
— Но я бы не хотел, чтобы ты надолго задерживался в этих развалинах, которые когда-то гордо именовались великой Бухарой, — неторопливо продолжал хан. — Почему бы тебе снова не отправиться к уруситам? Мои воины не знают настоящей цены захваченной добычи, так что ты сможешь продать все там с очень большой выгодой для себя.
— Как я могу ослушаться твоего повеления, хан, — склонился в низком поклоне перед «повелителем народов» торговец. — Я как можно быстрее отправлюсь в путь, даже если потерплю от этого ущерб, — но тут он вспомнил просьбу рязанского князя и после недолгих колебаний решился: — Дозволь одну только просьбу, великий каган.
Тот вздохнул. Все просят. Всем что-то нужно. Вот и этот туда же. Сделал на черный дирхем, а просить будет — уверен — на золотой динар. Однако делать нечего.
— Ну, — буркнул нетерпеливо.
— Прежде чем уехать на Русь, я бы хотел не только купить у твоих воинов товар, но и взять у тебя некоторых пленников, чтобы увезти их с собой.
— Хорошие умельцы мне и самому нужны, — хмыкнул Чингисхан. — Или ты думаешь, что я их отбирал для тебя?
— Я так не думаю, великий каган. Но я не прошу у тебя тех, кто может ковать мечи, выделывать кожи, ткать красивые ковры и изготавливать для твоих жен прекрасные золотые украшения. Если бы ты позволил, то я взял бы других, которые ничего не умеют делать своими руками. Зачем тебе бездельники, которые все ночи напролет любуются небом, пытаясь понять движение звезд, или те, кто за всю жизнь тяжелее каляма[105] ничего не держали в своих руках.
— Их не жалко, — кивнул Чингисхан довольно — просьба оказалась пустячной — и развел руками. — Но таких у меня нет. Я не люблю кормить бездельников. Мы уже отобрали тех, кто искусен в каком-либо ремесле, а остальных… — Он, не договорив, выразительно чиркнул себя по грязно-желтой коже горла кривым черным ногтем.
— Не всех, — нашел в себе смелость возразить араб. — Возможно, кто-то из них в страхе перед смертью сказал, что он умеет то, чем на самом деле никогда не занимался. Я сам видел таких у тебя среди пленных.
Ибн-аль-Рашид не лгал. Действительно, проезжая вдоль лощины, где монголы собрали отобранных для угона в Монголию пленных бухарцев, среди грязных полуголодных жителей он успел заметить двоих из числа тех, кого хорошо знал и с кем некогда имел удовольствие неспешно беседовать за пиалой ароматного чая, сидя в тени раскидистой чинары. Одним из них был Рукн эд-Дин Имам-Задэ, настоятель знаменитой бухарской медресе[106]. Вторым — мудрый Кара-Тегин. Вполне вероятно, что там в толпе находились и еще несколько из числа тех, кого купец хорошо знал.
— Они посмели меня обмануть?! — даже не возмутился, а, скорее, удивился Чингисхан. — Глупцы, — протянул он насмешливо. — Если человек никогда не держал в руках кузнечный молот, то его обман раскроется, едва он подойдет к наковальне.
— Но зачем тебе его поить и кормить, дожидаясь, пока вскроется его ложь? Отдай их мне.
— Нет, — отрезал хан. — За то, что они посмели меня обмануть, они должны быть наказаны.
— Это так, великий, — покорно склонил голову араб. — Но от этого ты не получишь никакой пользы.
— Польза будет, — не согласился Чингисхан. — Она — в устрашении остальных. Все должны знать, что покорителя вселенной нельзя безнаказанно обмануть. К тому же ты не сказал, какая от этого будет выгода у тебя. Ты что-то хитришь, купец, — заметил Чингисхан почти вкрадчиво, стараясь сдержать подступающее раздражение.
— Я весь перед тобой как на ладони. А выгоды от того, что ты сохранишь им жизнь, будет намного больше, — возразил Ибн-аль-Рашид. — И не у меня — у тебя. Я же получу лишь убыток, ведь в дороге мне придется их кормить и поить, пока не довезу до места. К тому же навряд ли кто-то на Руси захочет дать за них хорошую цену. Лишь бы расходы окупить.
— Тогда зачем? — не понял Чингисхан. — И ты не сказал, какая от их жизней будет польза у меня.
— Когда я привезу их на Русь и в Булгарию, то они понарассказывают там таких ужасов про твое непобедимое войско, про его многочисленность и жестокость, что у воинов в страхе опустятся руки, а правители невольно призадумаются: не лучше ли им добровольно склонить колени перед повелителем всех народов, раз ему невозможно противиться.
— Это ты хорошо придумал, — сдержанно одобрил Чингисхан. — Но почему ты хочешь взять именно таких, про которых сказал?
— У этих мыслителей пусто в кошелях, но много чего есть в голове, — пояснил торговец. — Едва спасшись от сотни твоих воинов, увиденных вдалеке, он тут же начнет всем рассказывать, что их было несколько тысяч. К тому же у них у всех хорошо подвешен язык. Подобно маддаху[107] они могут говорить целый день, а излагая увиденное, найти такие слова, от которых бросит в дрожь даже бывалого воина.
— Хоп. Я позволю тебе отобрать для продажи десять, нет, — тут же поправился хан, — даже двадцать этих бездельников. Но помни, что на этот раз, отправившись на Русь, ты должен разузнать все подробно: какой князь настроен против какого и насколько сильна у них вражда друг к другу. Тебе также надлежит занести калямом на бумагу, какие реки текут в тех местах, броды через них, где стоят их города и каковы там укрепления… Словом, я хочу знать все об этих землях.
Сейчас хан был настолько благодушно настроен, что счел возможным даже пояснить, для чего ему нужны эти сведения.
— Я не собираюсь идти воевать с уруситами или с булгарами — это очень далеко. К тому же я пока не поймал хорезмского шаха Муххамеда. Да и сын его, Джелал-ад-Дин, до сих пор колючей занозой покусывает один из мизинцев моей ноги. Просто мне нужно знать, не соберутся ли мои соседи сами идти на меня воиной, посчитав, что для меня одного всех этих владений чересчур много. Я не боюсь их. Нукуз и Киян[108] покровительствуют мне, как сказал мой шаман, но знать должен.
Почти то же самое он повторил спустя час своим военачальникам: молодому и горячему Джэбэ-нойону и мудрому рассудительному Субудай-багатуру.
— Те купцы, что рассказывают мне о булгарах и уруситах, видят немногое и говорят разное, — заметил Чингисхан. — Но мне даже отсюда с их слов ясно, что в той стае нет настоящего вожака. Вам надо посмотреть, насколько сильна сама стая и будет ли она опасна для меня, когда вожак найдется. Я слышал и о других народах, которые живут в тех краях, но они намного меньше числом и у них нет такого большого количества городов, где мои воины смогли бы взять богатую добычу.
— Если они пойдут против нас, то нам вступать с ними в битву? — поинтересовался нетерпеливый Джэбэ.
— Не стоит раньше времени пугать врага, — произнес нравоучительно хан. — Однако монгольский воин не должен знать, что такое бегство. Пусть Сульде[109] подскажет вам нужное решение. Я думаю, услышав его голос, Субудай-багатур правильно поймет его слова.
— Я буду стараться, покоритель народов, — наклонил голову в знак того, что он понял своего повелителя, польщенный Субудай, а Джэбэ только ревниво покосился на своего извечного соперника, которому сейчас Чингисхан недвусмысленно передал главное право на принятие решения. Однако делать было нечего, ибо воля сотрясателя вселенной священна и оставалось только размышлять о том, как лучше ее выполнить.
— Лучше всего поначалу решить дело миром, отправив к великому князю послов, — все-таки пояснил хан и, даже не увидев, а больше почувствовав удивление военачальников непривычными словами о мире, счел нужным добавить: — Я хорошо слышу голос Сульде, но он пока молчит о том, как я должен поступить с народами, живущими на закате солнца, а без его одобрения я не хочу вести своих воинов в неведомые дали. Поэтому вы обойдете Великое[110] море, вернетесь сюда через Хорезмское[111] и все расскажете мне. И тогда я, может быть, услышу, что говорит мне Сульде. Как он повелит поступить с теми народами, о которых вы мне расскажете, так я и сделаю, — и жестко уточнил: — Но вначале шах Мухаммед. Это ваша первая цель.
Когда оба военачальника, все время низко кланяясь, вышли из той же неприметной юрты, в которой в последнее время принимались все самые главные решения, Чингисхан вновь задумался над тем, правильно ли поступил.
Еще не взяты Несеф[112], Балх, Кабул, Газни. А ведь помимо них оставались цветущие города за полноводным Индом, у жителей которых, по сведениям все тех же лазутчиков-купцов, тоже скопились изрядные богатства. А он отрывает от себя два отборных тумена и отправляет их невесть куда.
«Но не из праздного же любопытства, — укорил он себя тут же. — Как иначе я смогу узнать все о своих будущих врагах, — но тут же неожиданная мысль пришла ему в голову: — А доживу ли я сам до встречи с ними? — И Чингисхан честно ответил: — Не знаю. Никто из нас не бессмертен, но достаточно и того, что мои сыновья до этих времен дожить должны, так что пришла пора потрудиться не столько во имя себя, сколько во имя грядущего, во имя будущего своих детей».
А ему самому не так уж много и надо в этой жизни. Щепоть хорошо разваренного плова, глоток-другой пенного кумыса и удобная обувь, чтобы не сильно беспокоили застарелые мозоли. Но ради сохранения своего рода ему надо позаботиться и о землях, которые пока еще далеко.
И той же весной года цзи-мао[113] начался великий огненный поход стремительного Джэбэ-нойона и Субудай-багатура. Один за другим заполыхали в пламени пожарищ города северного Ирана: Мерв, Туе, Нишапур и другие. Очевидно, обильный аромат паленого человеческого мяса приятно щекотал ноздри монгольских богов, а их уши радостно взимали стонам беззащитных жителей, плачу женщин и крикам убиваемых детей, потому что они даровали своим любимцам одну победу за другой.
Но одноглазый Субудай[114] продолжал недовольно хмуриться, памятуя о том, что им не удалось выполнить даже самую первую задачу повелителя всех земель и народов — найти хорезмского шаха Мухаммеда. На привалах он только насмешливо хмыкал, когда слышал бахвальство своего более молодого сотоварища по этому походу, и всегда находил повод тонко поддеть его.
Это было тем более легко, потому что именно Субудай был в числе тех немногих, кто знал настоящее имя этого тайджиута. Причем не то, которым назвался он сам, попав в плен Чингисхану после битвы у реки Онон[115]. Не-ет. В имени Чжиргоадай как раз и не было ничего зазорного, а вот еще одного, которого Джэбэ сильно смущался, не знал практически никто. Правда, Субудай никому его не выдавал и, подобно самому Джебэ, держал в строгом секрете, однако, оставаясь наедине, не упускал случая назвать его Хуром[116].
Злясь на одноглазого, Джэбэ старался не упускать возможности показать свой верх во всем остальном, иногда чрезмерно горячась и всегда проявляя нетерпеливость. Неудивительно, что именно он заторопил Субудая в первый весенний месяц года Дракона[117] сниматься с зимней кочевки, которой стали окрестности города Рея, и поспешить к Азербайджану, где их вновь ждала богатая добыча и много-много податливых покорных пленниц, которых так приятно насиловать, с наслаждением вдыхая дым свежих пожарищ.
И с каждым днем расстояние между монгольскими туменами и южными русскими княжествами неумолимо уменьшалось, хотя пока еще было достаточно велико. К тому же монголов отделяли от Руси не только бесчисленные версты половецких степей, пока еще перед ними высились и отроги могучего Кавказа.
Надолго ли? Бог весть. Да и вообще, кто в этом мире из обычных людей может хоть что-то предугадать, а уж тем более знать наверняка? Нет таких, а если и есть, то порой и они ошибаются, причем зачастую очень сильно.
Истина ведома лишь небесам, но они жалеют людей и потому молчат, не желая умножать их страдания, ибо сказано древними, что «во многой мудрости много печали и кто умножает познания, умножает скорбь»[118].
И еще сказано там же, что всему свое время в этом мире. Кого винить, что ныне настало время сетовать и плакать, раздирать и ненавидеть, разрушать и убивать, ибо наступили дни войны и пришли ночи ненависти. А что до времени объятий и любви, то никому не ведомо, когда придет их черед.
Да и придет ли вообще?
Примечания
1
Отлучаю тебя от Церкви воинствующей и торжествующей (лат.).
(обратно)2
Чтобы соблюсти равноправие — ведь не пишем же мы Бог Сварог, Бог Перун, Богиня Мокошь и т. д., здесь и далее к словам бог, богородица, аллах, библия и т. д. автор применил правила прежнего советского правописания.
(обратно)3
Раймон VI (1156–1222) — с 1194 г. герцог Нарбоннский, граф Тулузский, маркиз Прованский. Владел также графствами Мельгей и Сен-Жиль, виконтствами Нимским и Арльским. Эти обширные владения в Лангедоке делали его наиболее могущественным властелином всей Юго-Восточной Франции и позволяли полностью контролировать реку Рону, включая ее выход к Средиземному морю.
(обратно)4
Филипп II Август (1165–1223) — король Франции с 1180 г., двоюродный брат Раймона VI, мать которого, принцесса Констанция, была родной сестрой отца Филиппа — короля Франции Людовика VII (1137–1180). Наследный принц, о котором говорится в тексте, — старший сын Филиппа Августа, будущий король Франции Людовик VIII (1223–1226).
(обратно)5
Марманд — первый город в Тулузском графстве, который осмелился оказать сопротивление французскому войску. Был взят в 1219 г., и все его жители, включая стариков, женщин и детей, вырезаны.
(обратно)6
Молодой граф — будущий наследник всех титулов своего отца, последний граф Тулузский Раймон VII (1197–1279). Сын Раймона VI и Жанны Английской, дочери короля Генриха II Плантагенета, сестры королей Англии Ричарда I Львиное Сердце и Иоанна Безземельного.
(обратно)7
Крестовый поход против еретиков-катаров на юге Франции был объявлен папой римским Иннокентием III (1198–1216).
(обратно)8
Педро II, король Арагона — одного из самых могущественных христианских государств в Испании. Погиб 12 сентября 1213 г. в битве с французами. Раймон VII был в браке с его дочерью Санчо Арагонской, сестрой его же мачехи Элеоноры.
(обратно)9
В битвах при Бувине и Ла-Рош-о-Муане, состоявшихся в 1214 г., французские войска одержали убедительную победу над коалицией, состоящей из английского короля Иоанна Безземельного, его зятя, императора Священной Римской империи Оттона IV Брауншвейгского и графа Фландрского Фердинанда Португальского, после чего Филипп II Август стал самым могущественным государем христианского мира.
(обратно)10
Имеются в виду король Арагона Яков (Хайме) I (1213–1276), взошедший на трон в восьмилетнем возрасте, и Генрих III (1216–1272), которому английская корона досталась, когда ему было девять лет.
(обратно)11
Имеется в виду прежде всего будущий святой Петр Ноласко (1189–1256), активный участник крестового похода против катаров, который был воспитателем Хайме Арагонского.
(обратно)12
Катары, которых еще называли альбигойцами по имени города Альбы, — религиозное течение Западной Европы в XII–XIII вв. Наиболее сильно было распространено на юге Франции, где даже имело своих епископов, а также в ряде городов Италии. Считалось наиболее опасным для римской церкви и было подвергнуто беспощадному уничтожению.
(обратно)13
Архиепископом Тулузы в это время был Фолькет Марсельскип (ум. в 1231 г.) — сын марсельского купца и известный трубадур. В 1200 г. постригся в цистерцианском монастыре Торонет в Провансе, где сделался аббатом. Был беспощадным жестоким врагом катаров и графа Тулузского Раймона VI.
(обратно)14
Конфирмация (от лат. confirmation — утверждение) — так называемое таинство миропомазания, один из католических обрядов, проводимых с детьми в возрасте от 7 до 12 лет.
(обратно)15
Арно-Амальрик (ум. в 1225 г.) — стал в 1204 г. папским легатом, то есть представителем Римского папы, архиепископ Нарбонн-ский с 1212 г., предводитель первого крестового похода против катаров.
(обратно)16
Резня в Безье произошла 22 июля 1209 г.
(обратно)17
На IV Латеранском соборе, состоявшемся в 1215 году, были установлены многочисленные карательные меры, направленные против еретиков.
(обратно)18
Катары полностью отвергали насилие, стараясь на деле соблюдать все заветы Христа. Их ритуалы были поразительно сходны с церемониями ранней церкви, а их духовенство, то есть те, кто проходил обряд крещения Духом (церемония называлась consolamentum — утешение), добровольно обрекало себя на очень тяжелые обязанности. Так, например, они должны были полностью воздерживаться от любых сексуальных связей, даже находясь в браке, и от любой животной пищи. Им позволялась только рыба, поскольку у нее холодная кровь и отсутствует духовный жар. Помимо этого, они соблюдали длительные посты на хлебе и воде и обязаны были почти все время молиться, читая «Отче наш» — единственную молитву, которую они признавали.
(обратно)19
Впервые объявил себя наместником Христа папа Иннокентий III (1198–1216).
(обратно)20
Ариане — религиозное течение, названное по имени епископа Ария (256–336), утверждавшего, что Христос являлся обычным человеком, которого бог-отец просто вдохновил, после чего он и стал проповедовать новую веру. Они отрицали и догмат о троичности божества.
(обратно)21
Монофизиты отрицали человеческую сущность Христа, оставляя за ним только божественное начало.
(обратно)22
Алексей I Комнин (1081–1118) — византийский император. Жестоко преследовал ереси павликиан и богомилов.
(обратно)23
В те времена в разных провинциях Франции язык достаточно сильно отличался. Особенно явно были заметны эти отличия, если сравнивать речь Севера и Центра (за исключением Лимузена и Пуату) с речью Юга, то есть Лангедока, Прованса, Гаскони, Бургундии и южной части Аквитании. На Юге это романский язык с диалектом «ок», отчего весь край иногда называли Окситанией или Романией. На Севере и в Центре господствовал диалект «ойль».
(обратно)24
Элеонора Арагонская — одна из жен Раймона VI, дочь короля Арагона Альфонса II (1152–1196).
(обратно)25
Бланка Кастильская — дочь короля Кастилии Альфонса IX, жена будущего короля Франции Людовика VIII, мать будущего короля Франции Людовика IX Святого.
(обратно)26
Новик — здесь: необстрелянный, неопытный, новичок (ст-слав.).
(обратно)27
Слы — послы (ст-слав.).
(обратно)28
Этот праздник на Руси в XIII в. отмечался 17 сентября.
(обратно)29
Соромно — стыдно (ст. — слае.).
(обратно)30
Здесь Хвощ цитирует одно из положений Русской правды, которое в современном переводе звучит следующим образом: «Если вора убьют у клети или во время какого воровства, за это убийцу не судить как бы за убийство пса».
(обратно)31
Ендова — низкая широкая чаша, род братины. От последней отличалась наличием носика для разлива напитка. Обычно они были медными, в богатых домах — из серебра.
(обратно)32
Изветник — здесь: доносчик (ст. — слов.).
(обратно)33
Корзно — княжеский короткий плащ. Как правило, был красного цвета. Зимние плащи для тепла подбивались изнутри коротко подстриженным мехом.
(обратно)34
Мстислав Удатный был женат на дочери половецкого хана Котяна Махве (в крещении Марии).
(обратно)35
Лето 6692-е — 1184 год от рождества Христова.
(обратно)36
Лето 6711-е — 1203 год.
(обратно)37
Во многих книгах, особенно художественных, когда изображают половцев, говорящих по-русски, то для правдоподобия непременно искажают многие слова, например вместо «князь» — «конязь», вместо «русич» — «урус» и т. д. Сделать это несложно, но тогда их речь была бы сильно затруднена для чтения. Поэтому автор предпочел этот акцент не выставлять так нарочито напоказ, щеголяя глубоким знанием половецкого языка, что было бы к тому же неправдой — с половцами жить, общаться и беседовать ему за всю свою жизнь как-то ни разу не довелось.
(обратно)38
Оместник — мститель (ст-слав.).
(обратно)39
Подробнее о тех событиях рассказывается в книге «Крест и посох».
(обратно)40
Хамкул — перекати-поле (тюрк.).
(обратно)41
Сестра Данилы Кобяковича была женой старшего сына Юрия Кончаковича.
(обратно)42
Кремник или детинец — так у славян называлось огороженное деревянными стенами укрепленное ядро города. Отсюда и более позднее слово «кремль».
(обратно)43
Черная сотня — так назывались городские стражники, отличавшиеся от дружинников, как солдат-первогодок от кадрового офицера.
(обратно)44
Эти события произошли в 1174–1175 гг.
(обратно)45
Облыжно — здесь: ложно (ст-слав.).
(обратно)46
Давид Юрьевич вспомнил здесь события, произошедшие 22 сентября 1207 г., когда он вместе с братьями Константина Глебом и Олегом выступил в роли одного из главных обвинителей шести рязанских князей перед Всеволодом Большое Гнездо, который повелел их схватить и продержал в темнице вплоть до самой своей смерти.
(обратно)47
Имеется в виду Спасский монастырь, основанный еще в XI в. благоверным князем Глебом Муромским — одним из первых русских святых, злодейски умерщвленным по приказу его брата — Великого киевского князя Святополка I Владимировича.
(обратно)48
Лето 6726-е от сотворения мира соответствует 1218 г. н. э.
(обратно)49
Ветчаный — здесь: ветхий (ст-слав.).
(обратно)50
Пестун — воспитатель из числа наиболее опытных и мудрых бояр, которых князья приставляли к своим малолетним детям.
(обратно)51
Гости — здесь: купцы (ст-слав.).
(обратно)52
Трудно сказать, ошибался ли Константин с определением возраста Юрия Всеволодовича. По одним источникам, тот родился в 1187 г., по другим — около 1188-го. Во всяком случае, если он и был к октябрю 1218 г. моложе тридцати лет, то всего на несколько месяцев.
(обратно)53
Изгой — здесь: князь, который лишился своего удела (ст-слав.).
(обратно)54
В 1216 г., после победы близ реки Липицы, одержавший верх и севший на владимирский стол князь Константин Ростовский дал в удел брату Юрию только маленький Городец Радилов, что на Волге.
(обратно)55
Андрей Юрьевич Боголюбский (1111–1174) — второй сын Юрия Долгорукого. Убит московскими боярами Кучковичами.
(обратно)56
Михаил Юрьевич (I пол. XII в. — 1176) — один из сыновей Юрия Долгорукого. Владимиро-Суздальской Русью правил недолго, чуть больше года. Скончался от тяжелой болезни. Его сменил следующий по старшинству брат — Всеволод III Большое Гнездо.
(обратно)57
Исайя. 11:1–5.
(обратно)58
Веницейские — венецианские, то есть из Венеции.
(обратно)59
Здесь имеются в виду множащиеся недоимки, которые взимались с огромными процентами.
(обратно)60
Ин. 1:1.
(обратно)61
Златокузнец — ювелир (ст-слав.).
(обратно)62
Золотный аксамит — вид шелковой ткани, вышитой золотой ниткой, изготавливаемой преимущественно в Византии.
(обратно)63
Стойно — будто (ст-слав.).
(обратно)64
Речь идет о двух славянских богинях судьбы: Доле и Недоле, то есть удаче и неудаче. Считалось, что они прядут нить жизни каждого человека. Только у Доли с веретена текла ровная золоченая нить, а у ее сестры получалась неровная, кривая и непрочная. Соответственно и участь каждого была: удачная, счастливая и богатая или злая и горемычная.
(обратно)65
К так называемому белому духовенству в православной церкви относились все церковнослужители низшего звена — от дьячков и дьяконов до архиереев, то есть настоятелей самых крупных православных храмов. От «черного», монашеского, они отличались, в первую очередь, тем, что имели право на женитьбу. Но зато только принадлежность к «черному» духовенству давала возможность дальнейшего продвижения по иерархической лестнице. Стать епископом, архиепископом, митрополитом и патриархом (последней должности на Руси в это время пока еще не было) мог только монах.
(обратно)66
Автор просит прощения за то, что не указал нужного соотношения азотной кислоты и глицерина. Была поначалу у него мысль, написать неправильно, но из страха быть обвиненным во лжи он и этого делать не стал. Немного подумав и вспомнив свою бурную юность, автор решил дать шанс каждому читателю-подростку или просто чрезмерно любознательному человеку дожить до выхода в свет его следующей книги и вовсе не указал никаких цифр. В конце концов, это художественное произведение, а не популярный справочник юного пиротехника-подрывника. И без того рассказано чересчур подробно.
(обратно)67
Дымящимся этот вид азотной кислоты назван потому, что выделяет беловатые пары.
(обратно)68
Так называемый «греческий огонь» был изобретен неким Каллиником в 673 г. и широко использовался Византией в ее бесконечных воинах, особенно в морских сражениях. Именно благодаря ему византийцы в X в. сумели отбить нападение русских дружин киязя Игоря. Действие «греческого огня» действительно сродни напалму. И тот и другой нельзя погасить практически ничем.
(обратно)69
Именно так называли в годы Великой Отечественной воины бутылки с горючей смесью или тем же бензином.
(обратно)70
Заводная — запасная (ст-слав.).
(обратно)71
Басыня явно лукавил, на что и намекнул князь. Дело в том, что киевские гривны в ту пору весили всего 140–160 граммов, а новгородские — 204 грамма. Потому Константин и компенсирует шесть изъятых у Басыни «киевок» только пятью «новгородками», как их тогда называли, тем более что даже в этом случае князь возвращал больше, чем было взято. Спутать же гривны действительно не мог даже слепой. Новгородские представляли собой длинные серебряные палочки, а киевские — монеты шестиугольной формы.
(обратно)72
Все числа в то время на Руси обозначались буквами. А — 1, В — 2, Г — 3… Десятки начинались с буквы I, которая в то время входила в русский алфавит. Соответственно К означала 20, Л — 30, М — 40, а N — 50… Сотни начинались с буквы Р. Вот почему на монетах Константина было указано: на четвертаке — КЕ кун (25 кун), на гривеннике — I кун (10 кун).
(обратно)73
В их число входили I, N, S (зело) — 6, Z (земля) — 7, фита — 9, а также те, что были первоначально взяты из греческого алфавита: омега — 800, кси — 60 и пси — 700.
(обратно)74
Изок — само это слово означает кузнечика. Здесь употреблено как одно из старинных русских названий июня.
(обратно)75
Ирий — так славяне называли свой рай.
(обратно)76
Начальные строки гимна Советского Союза.
(обратно)77
Имеется в виду автор гимна СССР Сергей Михалков.
(обратно)78
Эмирский престол — так как в Волжской Булгарии господствовал ислам, ее монархи официально именовались эмирами, то есть правителями, подчиняющимися багдадскому халифу. В народе же их по-прежнему именовали ханами или эльтабарами.
(обратно)79
Факих — мусульманский правовед.
(обратно)80
Этот обычай дошел до наших дней. В Средней Азии, да и во многих других мусульманских странах, гостеприимные хозяева до сих пор наполняют пиалу желанного гостя строго на один глоток, и лишь тогда, когда хотят намекнуть, чтобы человек побыстрее ушел, наливают до краев.
(обратно)81
Коран. 88: 21–22.
(обратно)82
Февраль и апрель 1185 г.
(обратно)83
Год Овцы по восточному календарю соответствует 1223 г.
(обратно)84
Правил — здесь: руководил делегацией, представляя свою страну.
(обратно)85
Табиб — лекарь, врач.
(обратно)86
Паки — здесь: опять (ст-слав.).
(обратно)87
В то время практически во всем мире жителей Византии называли ромеями.
(обратно)88
Тут Константина память несколько подвела. Иоанн Дука Ватацис взойдет на престол только через четыре года — в 1222 г. Править в Никее он будет до 1255 г.
(обратно)89
Константин подразумевает, что Литва начинала строить свою государственность в крайне неблагоприятных условиях, имея бедное население, скудные ресурсы и сильных соседей. Только благодаря своим талантливым лидерам — Миндовгу, правившему с конца 30-х гг. до 1263 г., Гедемину (1316–1341) и его сыновьям-соправителям Ольгер-ду (1345–1377) и Кейстуту (1345–1382) — эта народность сумела расшириться от моря до моря и поставить в 1386 г. — польским королем своего князя — сына Ольгерда Ягелло (1350–1434).
(обратно)90
Его супругу звали Ирина.
(обратно)91
Это султан Аладил. Примечателен тем, что при нем впервые армия стала пополняться мамелюками — молодыми людьми, купленными у горцев Кавказа и приученными к военной службе. Они составляли особый кавалерийский отряд.
(обратно)92
Это был Фома Моросини (ум. в 1211 г.).
(обратно)93
Сен-Жан д'Акра.
(обратно)94
Супругом сестры Балдуина Иоланты был оксерский граф Пьер де Куртнэ, прямой потомок короля Франции Людовика VI Толстого.
(обратно)95
Это был бургундец.
(обратно)96
«Двухсотые» — Вячеслав по старой памяти использует здесь привычный для себя термин, широко употреблявшийся в армии и внутренних войсках России и означавший убитых. Другой термин — «трехсотые» — использовался, когда речь шла о раненых.
(обратно)97
Караван-сарай — постоялый двор для торговых караванов в странах Переднего Востока, Средней Азии и в Закавказье.
(обратно)98
Корукчии — специальные охранные отряды на караванных путях (монг.). Созданы в 1204 г. Чингисханом в ходе реформирования всего войска.
(обратно)99
Хурджины — вьючные сумки, мешки.
(обратно)100
Он-баши, юз-баши, мии-баши — десятники, сотники и тысячники в монгольском войске (монг.).
(обратно)101
Черный дирхем — назывался так, потому что был медным.
(обратно)102
Кебтеулы — часть кешиктенов — личной гвардии монгольского владыки. Занимались преимущественно полицейской и правоохранительной деятельностью.
(обратно)103
Темник — командир в монгольском войске, возглавлявший отряд из 10 тысяч воинов (тьмы). Имел право на самостоятельные действия и мог воевать, выполняя индивидуальные локальные задачи.
(обратно)104
Сотрясатель вселенной — одно из льстивых прозвищ, которым наградили монголы Чингисхана.
(обратно)105
Калям — остро отточенный камыш, служивший вместо пера.
(обратно)106
Медресе (от араб. Мадраса — изучение) — средневековая религиозная школа в мусульманском мире. В те времена она готовила не только священнослужителей, но также правоведов, учителей и т. д.
(обратно)107
Маддах — в то время так называли в Средней Азии народных рассказчиков.
(обратно)108
Нукуз и Киян — мифические родоначальники монголов.
(обратно)109
Сульде — дух, жизненная сила, одна из душ человека, с которой связана его жизненная и духовная сила (монг.).
(обратно)110
Великое (иногда Хазарское) — в то время так называли Каспийское море.
(обратно)111
Хорезмское море — нынешнее Аральское.
(обратно)112
Ныне это город Карим, расположен он к югу от Бухары.
(обратно)113
По китайскому календарю год цзи-мао длился с 18 января 1219 г. по 5 февраля 1220 г. Весной древние китайцы считали время с февраля по начало мая.
(обратно)114
Одноглазый Субудай — когда-то в юности он получил несколько тяжелых ранений, отчего в зрелые годы мог действовать только одной левой рукой (правая, мышцы которой были перерублены, оставалась скрюченной), а видел лишь правым глазом, так как левый, выбитый, был зажмурен.
(обратно)115
Это была последняя решающая битва Чингисхана с могучим племенем тайджиутов, где на кону стояло само существование последних. Пощады никто не ждал, потому что о мстительности Чингисхана знала вся степь, ведь именно у тайджиутов просидел хан несколько лет в рабских колодках. Сражение было столь ожесточенным, что, вопреки обыкновению, Чингисхан сам бился в первых рядах своих воинов и даже получил рану в шею от вражеской стрелы, которую как раз и послал тайджиут Чжиргоадай. Попав в плен, Чжиргоадай честно сознался, что именно он ранил Чингисхана, но получил прощение. Именно Чжиргоадая, своего будущего знаменитого полководца, Чингисхан прозвал Джэбэ, что в переводе с монгольского означало «пика» или «стрела».
(обратно)116
Хур — музыкальный смычковый инструмент (монг.).
(обратно)117
1220 г.
(обратно)118
Еккл. 1:18.
(обратно)
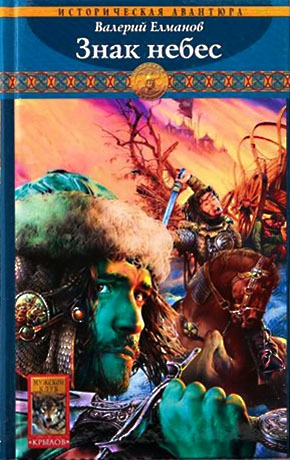

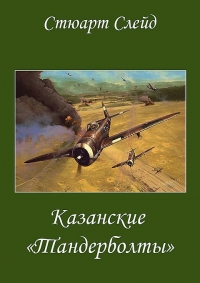



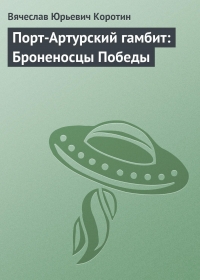

Комментарии к книге «Знак небес», Валерий Иванович Елманов
Всего 0 комментариев