Константин Радов Жизнь и деяния графа Александра Читтано Книга 4
Гримасы коммерции
В пятьдесят лет смотришь на женщин с иным чувством, нежели в двадцать. Или даже в тридцать. Полюбит — хорошо. Нет — не беда: в жизни найдется множество других занятий. Буйное пламя страсти обращается для человека семейного ровным теплом домашнего очага, для закоренелого холостяка — чередой бивуачных костров, которые ночь горят, а поутру остывающий пепел становится добычей ветра.
Но леди Феодосия любого мужчину, в коем еще теплится искра жизни, могла воспламенить, как пылкого юношу. Сохранившая девическую гибкость фигура не позволяла заподозрить в ней мать целого выводка ребятишек, от задерганного гувернерами десятилетнего Джона до крошки Елизаветы, посапывающей на руках у кормилицы. Взор, прежде живой и трепетный, обрел королевское спокойствие и властность. Великое дело — порода! Семисотлетнее дворянство сквозило в каждом ее жесте, в каждом шаге: не важностью и спесью, а естественностью и благородной простотой.
Переговоры о поставках принял на себя Джозеф Гаскойн — джентльмен со странностями, родной брат леди. Я искренне был ему признателен за ослиное упрямство в стремлении сбить цену на мой товар: любая затяжка работала на меня, позволяя дневать и… Нет, пока еще только дневать в изящном гринвичском особняке, угощая хозяев живописными рассказами о богатствах Уральских гор, о свирепом непредсказуемом нраве реки Чусовой, о волжских разбойниках, о суровости климата и тысяче других причин, не позволяющих уступить ни пенни. Десять лет назад компания Кроули послужила мне мостиком на европейские рынки: теперь ее доля в обороте уменьшалась год от года. Полосовое железо все больше уступало в русском вывозе луженой и простой жести, гвоздевому прутку и готовым гвоздям, рубленой и вязаной стали. Дело клонилось к моему превращению из поставщика в соперника, вначале по второстепенным позициям.
Убедившись в неуступчивости партнера, красавица пустила в ход самое сильное оружие. Покажите мне человека, способного отказать такой женщине, когда она желает его очаровать! Приватный ужин в домашнем кругу означал недвусмысленный шаг к сближению. Британская чопорность уступила место теплой фамилиарности, присущей скорее французским нравам. Мы беседовали, как старые друзья.
— Дорогой граф; сочувствую вашему желанию оставить все, как при Джоне, но ситуация в торговле железом изменилась в неблагоприятную сторону…
— My fair lady, вы превратно поняли мои намерения: попытка сохранить прежнее была бы верхом неразумия. Напротив, надо двигаться вперед — к более тесным связям. Почему бы не провести обмен активами, который сделает нас с вами полноценными совладельцами обеих компаний?
— Cher Alexander, дело Кроули — не акционерное, а семейное…
— Ничего не имею против. А вы считаете это препятствие непреодолимым?
Вдова взглянула, с долей удивления, мне в глаза и на секунду смутилась, убедившись в подлинном смысле сделанного предложения. Но быстро овладела собой и обещала обдумать сию проблему на досуге. Остаток вечера был занят беседой о пустяках, в коей интонации и улыбки значили больше, чем слова. Примерно через неделю представился случай напомнить об этом вопросе — леди Феодосия объявила, что намерена посвятить оставшуюся часть жизни благотворительности и воспитанию детей. Обычное дамское лицемерие: по сути, предложение мужчине усилить напор. Когда я так и поступил — наш tet-a-tet нарушила нянька; леди ускользнула на ее зов, зато появился братец Джозеф и непринужденно перевел беседу на коммерческие предметы.
Теперь пришел мой черед задуматься. Предложенные условия (не приходилось сомневаться, что брат с сестрой действуют согласованно) означали, по сути, передачу Тайболы в чужие руки — без надлежащего эквивалента, если не считать оным бывшие в употреблении женские прелести. Ничто так не охлаждает нежные чувства, как откровенная корысть.
Разумеется, в Лондоне я занимался не одними только ухаживаниями за прекрасной вдовой. Переоформление собственности на подставных лиц, дабы английские власти не имели законной возможности меня прижать, обновление тайных и явных связей с полезными людьми, экзаменация обучающихся на мой кошт юношей, — дел было много. Для умных разговоров и отдохновения ездил к Болингброку в новое имение, милях в пятнадцати к западу от столицы. И вот однажды, вернувшись от сэра Генри и все еще пребывая в философском настроении, получил от привратника записку, переданную в мое отсутствие незнакомцем. Она гласила: «Сын Атрея в опасности».
Что в Англии кому-то известно о «Менелае», уже само по себе было достаточно неприятной и угрожающей новостью. Слуги получили приказ докладывать немедля, буде податель письма явится снова. Несколько дней меня тяготило нарастающее беспокойство. Наконец, таинственный вестник почтил визитом. Он выглядел, как убогий клерк.
— Сто фунтов, сэр. — С ходу заявила сия конторская крыса. — Ваше Сиятельство не пожалеет, ибо сведения того стоят.
Потертый камзол и стоптанные башмаки ясно говорили, что названная сумма равняется доходу пришельца за несколько лет.
— Не спешите, сударь. Прежде хотелось бы убедиться в ценности и достоверности того, что вы скажете.
— Как угодно, сэр. Я начну бесплатно. Минувшей зимою в правлении Ост-Индской компании получили письмо из Амстердама.
— Вы служите в Компании?
— Нет, Ваша Милость: в Адмиралтействе. Консул сообщил о матросе-голландце, бежавшем с русского корабля, когда тот бросил якорь у берегов Африки. Милях в двухстах восточнее Капштадта. Колониальные власти заключили беглеца в тюрьму и чуть не казнили, но он оправдался тем, что команде не сообщили, куда пойдет судно.
— Как зовут матроса?
— Андреас ван Строт. Понимаю, что вы желаете меня проверить.
— Конечно. Илья, список!
Вроде бы имечко знакомое: но надо убедиться, что был такой на «Менелае». Секретарь пролистал списки компанейских служителей, кивнул и подал бумаги мне. Да, все верно. В дополнение гость назвал имена капитана и суперкарго, окончательно развеяв сомнения: если Лука многим известен, то об участии в плавании Михайлы Евстафьева никто на берегу не мог догадаться. Все деловые партнеры уверены, что он в Италии.
— Если господин граф желает услышать продолжение, это уже за деньги.
— Согласен. — Жест секретарю. — Так что было дальше с кораблем? Судя по упомянутой вами переписке, он ушел в море?
— Да, сэр. Ушел, как только исправил повреждения: видимо, не слишком значительные. — Клерк прислушался к звону золотых гиней в соседней комнате. Кажется, даже уши зашевелились. — Сведения о нем, достигшие Европы полгода спустя, ост-индианцы стараются хранить в тайне. Они обратились к Первому Лорду с предложением захватить судно на возвратном пути с Востока, однако Торрингтон ответил, что для этого надобны весомые юридические основания. Тем более сейчас, когда Его Величество стремится возобновить дружбу с московским двором. Самое большее, что возможно — остановить и досмотреть. Если при этом не будет оказано сопротивление, никаких претензий русским предъявить не удастся.
Информант явно гордился благородством и честностью своего начальства — даже в момент, когда сам он продает государственные секреты иностранцу! Но мне было не до любования диковинными вывертами человеческой натуры. При неблагосклонном, чтоб не сказать хуже, отношении Луки к англичанам, возникали большие сомнения в его способности разойтись миром, если капитан Royal Navy изъявит желание осмотреть судно. Особенно — когда в трюме товара на миллион. А уж офицер досмотровой партии из кожи вон вылезет, чтоб найти повод для захвата. Или создать, ежели не найдет.
— У вас все, дорогой друг? Разве это рассказ на сто фунтов?! Мне кажется, вы о чем-то умолчали.
Адмиралтейский канцелярист замялся.
— Просто боюсь ввести Ваше Сиятельство в заблуждение, потому что не все обстоятельства знаю достоверно. Когда бы Компания полагалась только на законные способы, ее директоры подняли бы шум в парламенте; раз это не так, значит есть планы решить проблему по-тихому.
— Какими силами?
— Трудный вопрос. Никому не известно, вернется ли «Менелай» в Ливорно, или пойдет в Санкт-Петербург. В английских морях не составит труда его встретить, а вот Гибралтар и Медитеррания… После подписания прелиминарных статей адмирал Уоджер ушел оттуда; если испанцы будут достаточно уступчивы, нынешним летом флот останется в Спитхеде. Наших кораблей на юге не будет.
— Вы предполагаете, что будут чьи-то другие?
— Последнее время в Лондон зачастили послы из Марокко. Абделькадер Перес, Мохаммед бен Али… Одного даже избрали членом Королевского общества.
— Счастлив иметь такого коллегу.
— Во время осады Гибралтара консул Джон Рассел и секретарь Брайтуэйт договорились с маврами о поставках провианта для крепости, а также кольев, фашин и габионов. У вице-губернатора Джаспера Клейтона хорошие отношения с тетуанским пашой Гамидом, а марокканцы — прирожденные корсары…
— Сие мне известно. Кроме общих соображений, что у вас есть?
— Только слухи. Новый султан Мулай-Абдалла воюет со своими братьями, оспаривающими наследство. Слабость власти развязала руки морским разбойникам. Мулай-Исмаилу они повиновались беспрекословно и не смели трогать суда, снабженные медитерранскими паспортами от нашего Адмиралтейства. Теперь начались нарушения трактатов. Не знаю, кто именно будет послан для переговоров о безопасности английских моряков, но в коммерческих кругах понимают необходимость определенной компенсации за их неприкосновенность…
— И в этом качестве желают подарить пиратам мой корабль? Я дам вам оговоренную сумму. С условием, что вы будете считать ее авансом, который надо отработать. Уточните сведения — и мы в расчете.
Слухи походили на правду. Главные морские державы давно научились использовать берберийцев для вытеснения из восточной торговли нежелательных соперников. Денежными подачками, дипломатическими трактатами, а при нужде — пушечными ядрами опытные укротители смиряли магометанских хищников. Щадя подданных сильных государств, те отыгрывались на беззубых гамбуржцах, неаполитанцах, генуэзцах и прочей шантрапе. Россия стояла в глазах корсаров не выше сих последних, и мне приходилось нести дополнительные издержки, используя для торговли с Италией быстроходные и хорошо вооруженные суда. Легкие шебеки и тартаны с ними не связывались, а более солидные противники — не могли угнаться. Впрочем, в последние годы относительно крупные корабли выбыли из африканских флотилий без равноценной замены: их содержание не окупалось добычей. Корсары обыкновенно несли не более двадцати пушек (а чаще — десяти), причем невеликих калибров. Марокканцы и раньше не могли похвастаться мощью: Сале, единственный защищенный порт на их побережье, мелководен. Даже двухсоттонники требуется облегчать при входе и выходе. Ну не смешно ли, что грозная слава сего разбойничьего гнезда столько лет поддерживалась менее чем дюжиной убогих суденышек?!
Когда старики Баженины закладывали первых «чудотворцев», за образец мы с ними взяли французский двадцатишестипушечный фрегат. Переделка корпуса под торговые нужды не повредила боевым способностям: напротив, некоторое приращение размеров предоставило канонирам больший простор. По опыту днепровских баталий с турками, я поставил на свои корабли гаубицы, к эскадренному бою мало пригодные. Втрое или вчетверо легче пушек равного калибра, они используют пропорционально меньший пороховой заряд. Дальнобойность, меткость и пробивная сила соответственно ниже. Не беда: нам в линии не стоять! На ближних дистанциях, по тонким корпусам легких судов, медленно летящие пудовые ядра действуют с огромной разрушительной силой. Бомбы — еще лучше. О картечных выстрелах в четыреста мушкетных пуль испытавший оные на китайских пиратах Лука отзывался самым хвалебным образом.
Из-за недостатка рук в торговых командах, число орудий было ограничено. Чугунные гаубицы делили палубу с муляжами из дубовых бревен — в случае нужды это позволило бы легко и незаметно удвоить батарею. Солидные жерла, подобающие скорее трехпалубному линейному кораблю, нежели торговцу, вызывали то трепет, то насмешки. Иные зрители уверяли, что все стволы деревянные — за исключением четырех бронзовых двенадцатифунтовок, монтированных на баке и юте. Берберийцы, наверняка имеющие своих шпионов в Ливорно, проверить эту байку почему-то не пытались. Я не жалел о том. Жалел о другом: что сверленые орудия не поспели к нужному времени, как и обученные канониры. Обычное на войне дело. Враг не ждет, пока ты приготовишься. Все компанейские корабли, до которых удалось дотянуться срочными распоряжениями, сошли с предположенных путей и собирались в Остенде. Капитан «Диомеда» Альфонсо Морелли, отличный моряк и бывший помощник Луки Капрани, прибыл ко мне в Лондон.
— Ваше Сиятельство, продажа груза в Амстердаме, вместо Санкт-Петербурга, влечет потерю прибыли, на которую мы твердо могли рассчитывать…
— Неважно. Сейчас надлежит думать о предотвращении потерь, гораздо более значительных. Ты, полагаю, знаешь или догадываешься, куда ушел «Менелай».
— Туда, где дважды побывал «Савватий»?
— Именно так. Если не будет неожиданностей, он должен вернуться через месяц-другой. До меня дошли сведения, что ему готовят неласковый прием. Надо встретить.
— Встретить у Капо-Верде или в проливе?
— Близ Гибралтара. На пути к островам легко разминуться. Ты самый опытный из капитанов, после Луки, — тебе и вести флотилию. Возьмешь, кроме своего корабля, «Зосиму» и «Савватия». «Иринарх» с «Аяксом» далеко, на «Германе» команда слабовата. С него заберешь всю артиллерию, по возможности без огласки, и всех матросов, кроме англичан и голландцев. У тебя они есть в команде?
— Ни одного. Немцы имеются, трое. С ними что делать?
— Сам решай, смотря по надежности: можно ли доверять им так же, как неаполитанцам и русским. Для боя команды желательно удвоить — за счет судов, которые с нами не пойдут. Грабь их дочиста!
— Все равно не хватит людей, Eccellenza! Равно как и пушек.
— Найдем. Это моя забота: я собираюсь в Дюнкерк. Там полно бывших приватиров с хорошими военными навыками. Оставь место для дюжины или двух. Навигационных учеников из Англии тоже заберем: будет мальчишкам хорошая практика. Недостающие пушки куплю или арендую. Что еще? Да, самое главное! «Диомед» с «Менелаем» — братья-близнецы. Различие в особенностях рангоута и покраски. Нужно добиться полного сходства. Воду и провиант бери на три месяца. Будь готов выйти через неделю.
— Недели мало, Eccellenza. Дайте хотя бы две.
— Десять дней — и ни минутой больше! Дальнейшее промедление оплатишь из своего кармана.
Тем же вечером я отправился в Гринвич — попрощаться. По тайному молению моего сердца, черт унес Джозефа Гаскойна, и леди Феодосия была одна.
— Неотложные дела призывают меня на континент. Завтра я взойду на корабль, и вновь появлюсь нескоро. Позволите ли вы надеяться, что будете иногда думать о вашем верном друге?
— Дорогой Александр, если б вы только знали, о скольких людях мне приходится думать и заботиться! О детях, о братьях, о сестрах Джона, их детях и моих племянниках… Обо всей «команде Кроули», в которой тысячи душ… Господи, как трудно жить в этом мире! Поверьте, если бы я была свободна…
Она порывисто встала, шагнула ко мне (тоже вскочившему, как подобает джентльмену). Привстав на цыпочки, впилась в мои губы жарким поцелуем. Потом оттолкнула.
— Уходите. Когда б вышние силы позволили мне быть просто женщиной, я с радостью связала бы с вами свою судьбу. Граф, вы командовали армиями и должны понимать, насколько не властен над собою тот, кому вручена власть над другими… Переговоры о поставках будет вести Джон Ханмер: не стоит смешивать чувства с бухгалтерским расчетом. Прощайте. Жаль, что мы не можем быть вместе.
— Прощайте, леди. Мне будет нелегко вас забыть.
Пожалуй, восхищение преобладало над всеми прочими чувствами на пути домой, в компанейскую контору. Удивительная женщина! Страстная по натуре, она в совершенстве научилась подчинять нежные чувства холодному чудовищу долга. Из нее получился бы генерал. Да не «бы», а уже получился — хоть и не на войне. «Crowley's Crew» стоит иного войска. Спросите о том флотских вербовщиков, не раз спасавшихся бегством, теряя дубинки, после попытки сцапать одного из сей дружной команды мастеровых и корабельных матросов. Свои компании я устраивал с оглядкой на этот высокий образец.
Дюнкеркские хлопоты стали воистину путем спасения от любовной печали, приладившейся грызть мое сердце (что вроде бы в таком возрасте уже и не подобает). Как можно предаваться унынию, когда моим лучшим людям грозит африканское рабство или смерть?! Дело пошло с неожиданной легкостью: не далее, как в прошлом году возобновившиеся нападения обнаглевших магометан на французских купцов побудили короля послать эскадру и шестидневной бомбардировкой снести половину города Триполи. Трактат был возобновлен, но ответных жестокостей опасались. Объяснение, что мои суда в Медитеррании нуждаются в хороших канонирах, легло на подготовленную почву. Нашлись и люди, и пушки — даже не слишком дорого. Поодиночке, дабы не привлекать внимания, корабли отправились к месту встречи у испанских берегов.
— Пали!
Пудовый чугунный шар вылетел средь дыма и пламени, стремительно обратился в точку и канул в волны сажен за десять от плавающей в полуверсте бочки. Матросы кинулись банить отпрыгнувшую гаубицу.
Почти месяц три корабля стерегли воображаемую линию тридцать шестого градуса. В позапрошлом году мы с Лукой Капрани продумали маршрут до мелочей. На возвратном пути, хранясь от пиратских нападений, он должен был держаться по возможности дальше от африканского берега до широты Гибралтара; потом круто повернуть на восток и двигаться таким образом, чтобы миновать пролив затемно. Поскольку качающаяся палуба затрудняет измерения, и самая лучшая астролябия не позволяет совершенно избежать ошибок, окончательными ориентирами служили бы мыс Трафальгар на испанском берегу и мыс Эспартель в Африке. Вечер перед прохождением надлежало встречать в пункте, из которого они видны оба (с мачты, естественно). Там мы и поджидали своих друзей, днем лавируя потихоньку к западу, а ночью дрейфуя под умеренным норд-вестом обратно. Держались треугольником со сторонами в десять-пятнадцать миль: дистанция позволяла различать сигналы, но суда не воспринимались как единый отряд — по крайней мере, с первого взгляда. Лишние, против обыкновенных торговцев, орудия были старательно спрятаны.
Время от времени треугольник поворачивался на сто двадцать градусов: корабли менялись местами. Когда не было посторонних глаз, на одном из них, самом удаленном от берегов, учиняли артиллерийскую экзерцицию. Альфонсо, привыкший в коммерческих плаваниях к экономии, приходил в ужас от сего безумного расточительства. Каждый выстрел — рубль с полтиной! Бортовой залп — двадцать рублей! Дюнкеркские канониры открыто усмехались на уверения, что их наняли для оборонительных целей. Черт с ними — пусть думают, что хотят! Очень скоро все разъяснится. Сразу по прибытии к проливу я послал подшкипера-неаполитанца закупить свежий провиант и потолковать с итальянскими рыбаками, промышляющими у здешних берегов. Если б Лука, против ожиданий, нас опередил и попал в засаду — сие не укрылось бы от них. Если проскочил… На всякий случай, зафрахтовав небольшое испанское суденышко, отправил гонца в Ливорно — на днях он вернулся и подтвердил, что «Менелай» там не появлялся. Значит — ждем!
Частые стрельбы не означали непременного желания сражаться. Лучше бы сего избежать. Аллах с ними, с магометанами: мне нужно лишь защитить драгоценный груз. Покамест в окрестностях пролива не наблюдалось наплыва корсаров. Старая фелюка в Танжере, да несколько рыбачьих лодок, — вот все, что мы видели на африканской стороне. Будет и дальше так — дождавшись «Менелая», спокойно проследуем в Италию. Появится сильный неприятель — не станем прорываться, а повернем на север и уйдем в Колу, обходя Британию миль за двести. Пороховой дым клубился над атлантическими волнами только затем, что человек предусмотрительный должен быть всегда готов к худшему.
Не только торговым матросам, но и дюнкеркцам требовалось упражнение в меткости. Приватиры мало практикуются: у них боевые припасы — за свой счет. Только расстреляв свыше тысячи ядер, я обрел уверенность, что люди в баталии не подведут. Полтора месяца в море (считая от Остенде) оказались полезны еще в другом отношении. На моих судах денежное довольствие было пониже, чем у англичан и голландцев, зато провиантское — обильнее. И все же по этой части обнаружилось много несовершенств. Бочки с запасами служили пристанищем вредоносных тварей. Мыши устраивали в них гнезда, размножаясь до бесчисленности, пакостили и гадили. Мерзкие белые личинки прогрызали ходы в морских сухарях, обращая оные в подобие сыра. Постучишь куском по столу — из дырок лезут жирные червяки. Питьевая вода в жарком климате быстро протухла, воняла болотом и кишела мельчайшей зеленой живностью. Для меня денщик процеживал ее через парусину и кипятил; капитанский слуга, кажется, тоже. Все остальные употребляли как есть. Достойно удивления, что умноженные для боя команды не полегли от поноса: больных насчитывались единицы. Но что будет через месяц, если Лука еще задержится?!
В ущерб сохранению тайны, пришлось по очереди отпускать корабли к испанскому берегу, дабы запастись свежей водой, купить фруктов и живых бычков на мясо. Однако проблема требовала генерального решения. Плавания у берегов Европы — это одно, путешествия через океаны — совсем другое. Ежели я хочу вести ост-индскую торговлю, не имея такого резерва моряков, как у англичан, то должен беречь людей. Просто взять и отписать добавочные деньги на матросский провиант недостаточно. Чистая вода на берегу бесплатна; в тысячах миль от суши она может оказаться дороже любых сокровищ. Главная трудность в хранении, как и с пищей. Можно, конечно, пресную воду получать путем дистилляции морской, а питаться выловленной рыбой. Надолго ли хватит человека при такой кормежке — иной вопрос. Относительно воды… Надо попробовать. Расширить камбуз, поставить большой перегонный куб, взять изрядный запас сухих дров… Или угля. Все дело в том, сколько фунтов воды можно перегнать в расчете на фунт топлива. Наверно, пять или десять — точно не скажу. Вернусь в Россию — прикажу испытать. Заранее трудно оценить, что лучше, но одно из двух: либо из моря воду дистиллировать, либо из бочек кипятить.
Теперь сухари. Глубоко мною чтимый Ван Гельмонт, помнится, писал: если открытый кувшин набить грязным нижним бельём и добавить туда пшеницы, то приблизительно через три недели в кувшине появится мышь, поскольку закваска, находящаяся в белье, проникает через пшеничную шелуху и превращает пшеницу в мышь. Не менее достойный Франческо Реди подобную возможность отрицал в принципе и утверждал, что сие было бы нарушением божественного порядка, в силу которого живые существа родятся от подобных себе. На первый взгляд, мыши в сухарных бочках свидетельствуют в пользу голландца; но нельзя исключить, что они забираются в них прежде закупорки либо прогрызают дыры, что не весьма трудно. Да, кстати: Реди на опыте доказал, что черви в гнилом мясе зарождаются из яиц, отложенных мухами, и никак иначе! Может, и в сухарях тоже? Во всяком случае, рассудить спор ученых мужей большого труда не составит. Велю сделать бочонок из белой жести, вместо дерева: железо мышкам не по зубам. Крышку завальцевать или даже запаять; еще бы с червями разобраться… Мухе нетрудно присесть на хлеб, пока он сохнет. Впрочем, если сухари обжарить над огнем на решетке — не думаю, что личинки это переживут.
Подобных мыслей возникало немало: записная книга наполнялась планами опытов. Если оставался досуг — в каюте дожидался взятый на случай долгого ожидания сундучок. Я неохотно читаю по-английски (тем более что заслуживающих внимания авторов обычно переводят на французский довольно быстро), но сочинение господина Дефо «Путешествие через весь остров Великой Британии» удостоилось исключения. Основательное, подробное описание природных богатств и выгодных промыслов каждого графства представляет немалый интерес для каждого, кто ведет коммерцию в Англии. Записки участников недавней обороны Гибралтара или дипломатов, вернувшихся из Мекнеса, тоже обещали прекрасное времяпровождение, только до них черед не дошел. Однажды в послеобеденный час, когда разомлевшая от жары вахта с ленцой уловляла парусами едва заметный ветерок, сверху раздался звонкий юношеский голос:
— Вижу семёрку!
Чуть не выскочил из каюты, как был — полуголым. Сдержался, надел рубашку, чулки и камзол, сунул ноги в подставленные денщиком башмаки, застегнулся, принял важный вид… Ну где же он?! Пришлось сдерживать нетерпение, пока Альфонсо постучится. Тоже, наверно, принимал официальный облик. Капитан доложил с явным волнением:
— Ваше Сиятельство, на грот-мачте «Святого Зосимы» поднят сигнал нумер семь. Сие означает, что «Менелай» появился в пределах видимости.
— Grazie, capitano. Мне известны значения сигналов. Кто наверху?
— Штурманский ученик Харлампий Васильев.
— Хорошо. Я поднимусь сам.
Не так уж часто команде случается видеть, как сиятельный граф и генерал-аншеф лезет по вантам. На «Диомеде» — и вовсе впервые. С неторопливой солидностью, в отличие от матросов, взлетающих на мачту, как испуганная кошка на забор. Ничего, не совсем еще старый: без передышки получилось, и не сильно запыхался. Неуклюже переполз с путенс-вантов на деревянную решетку грот-марса, поднялся с колен, принял рапорт штурманского ученика, забрал у него зрительную трубу и долго вглядывался в белеющее у горизонта пятнышко. Не разобрать ни хрена: глаза уже не те, что в молодости. Отдал инструмент обратно парнишке:
— Посмотри, самого «Менелая» не видно?
Он с напряжением впился в морскую даль, прижавши руку с трубою к мачте для твердости.
— Что-то есть… Только различить невозможно, Ваше Сиятельство. На «Зосиме» парусов прибавили. Лавируют к весту. И сигнал держат.
— А «Савватий»?
Харлампий повернулся, ловя трубою другую светлую точку, ближе к испанским берегам.
— Лег на правый галс, курс зюйд-зюйд-вест.
Все правильно, так и должно быть. Я заранее прописал числовые значения флагов и порядок действий по каждому нумеру. Система, изложенная в «Fighting Instructions» британского адмиралтейства и перенятая русским военным флотом, для нас не годится. Она предназначена для управления эскадрой в линейном строю, к тому же на гораздо меньших дистанциях. Громадные яркие полотнища, коими снабжены мои корабли, позволяют различать простые однофлажные сообщения за десять миль и даже дальше. При таком слабом ветре пройдет несколько часов, пока мы сможем уверенно опознать вернувшегося издалека собрата.
Старик Эол смеялся над моим нетерпением: вскоре воцарился штиль. Только поутру суда собрались вместе, легли в дрейф и спустили шлюпки: я созвал капитанов на совет. Первым поднявшись на борт «Менелая», обнял похудевшего и просоленного Луку, поздравил с успехом, осведомился о команде и грузе. Больных перемерло многовато, а так все в порядке.
— Еще, Eccellenza, китайцы мытарили долго. Мы под русским торговым флагом зашли, коего в тех краях от века не видали. Явился чиновник, с иезуитским патером за толмача, и давай жилы тянуть: мол, если с Россией имеется трактат о сухопутной коммерции, то морской быть не должно. Пока Микеле не разобрался, кому сколько дать — к торгу не допускали.
Микеле, сиречь Мишка Евстафьев, стоящий тут же рядом, виновато улыбнулся:
— Никак, Ваше Сиятельство, не поладить с ними без акциденций.
— Неважно, как. Главное, что поладил. Молодец! — Ободряюще хлопнул верного приказчика по плечу. Обернулся опять к Луке. — А кой черт вас в Африку занес?
— После шторма течь появилась. Не очень большая, но пускаться с нею в открытое море, где на тысячи миль ни клочка земли… Желательно было наклонить корабль, что лучше проделывать в безопасной бухте.
— Это африканский-то берег безопасный?
— В том месте — вполне. Как в навигационном смысле, так и в военном. Правда, один матрос пропал. Возможно, звери сожрали или дикари.
— Ты о ван Строте говоришь?
— Да, господин граф.
— К сожалению, звери побрезговали. Благополучно добрался до Капштадта и продал вас, как Иуда. Тайна сего предприятия раскрылась прежде времени. Затем и встречать пришлось.
— Виноват, Eccellenza. Не уследил. Просто не пришло в голову, что кто-то может дезертировать в Африке! По вашему распоряжению, матросам полагается неделя берега через каждые месяц-полтора, мы же к тому времени провели в море почти два: от самого острова Святой Троицы. Не того, что близ Венецуэлы, а другого, который возле Бразилии. Проходили рядом с землею Тристана да Кунья, однако по причине шторма я не стал приближаться.
— Ладно, об островах потом побеседуем. Капитаны уже у борта. Не будем терять время.
По веревочному трапу с деревянными перекладинами забрались на выбеленную беспощадным солнцем палубу шкиперы «чудотворцев». Никита Истомин — из флотских лейтенантов, с дозволения Петра Великого сменивших воинскую стезю на коммерческую. Тихон Полуектов взращен на моих кораблях: начинал штурманским учеником, дважды ходил в Кантон на «Савватии» с Лукой Капрани, потом надзирал за ремонтом в гамбургских доках. Молод еще в капитаны — но заполнявшие половину вакансий голландцы последнее время либо вовсе отказываются у меня служить, либо ломят втридорога. Их правительство пригрозило смертной казнью подданным, кои осмелятся водить на Восток иноземные суда. Приходится ставить недозрелых юнцов и надеяться, что выдюжат.
Обменялись приветствиями, втиснулись в каморку Луки. Кают-компания здесь не предусмотрена.
— Господа капитаны. Примерно два месяца назад я получил сведения о готовящемся нападении на «Менелая». Предполагалось, что враги атакуют неподалеку отсюда, и будут это, скорее всего, марокканские корсары. Однако на сей момент в пределах видимости ничего угрожающего нет. Хочу слышать ваши мнения о наилучшем образе действий: идти ли нам, как предполагалось изначально, в Ливорно — или же, не входя в Гибралтарский пролив, двинуться на русский север, в сторону Колы и Архангельска.
Спора не получилось. Все четверо единодушно высказались за Ливорно, уповая на достаточность сил для отпора и на обычный у этих берегов полдневный бриз, как единственный источник движения при тихой погоде. Попутного ветра для плавания на север пришлось бы ждать неопределенно долго: чего доброго, неприятелей скорее дождемся.
— Ладно. Приказываю полностью подготовить суда к бою. В авангарде пойдет «Диомед». Далее «Зосима», на дистанции ясной видимости сигналов; еще через милю-другую «Менелай» и «Савватий». В случае нападения на передовой корабль Никита окажет сикурс, а вы двое — действуйте по ситуации, но в драку не суйтесь! Ваша забота — сберечь груз.
Легкий западный ветер, согласно с течением, также идущим с запада, влачил нас потихоньку в Медитерранское море. Медленно, удручающе медленно! После долгожданной встречи одна гора с плеч свалилась, другая легла: дай Боже безопасно дойти до порта! Едва сдерживался, чтоб не приплясывать на шканцах от нетерпения. На юге, в легкой дымке, уже который час виднелись грязно-белые лачуги Танжера, постепенно переползающие со скулы корабля на раковину. В середине прошлого века Жуан Четвертый отдал сей порт Карлу Второму в приданое за своей дочерью. Английский король мечтал превратить его в столицу торговли, равную Константинополю — но благих намерений оказалось недостаточно. Город не имел естественной гавани, а долговременные и дорогостоящие попытки создать искусственную успехом не увенчались. Строящийся мол размывало штормом около тридцати раз: полмиллиона фунтов оказались выброшены в море. Подозреваю, верные подданные короля быстро пришли к выводу, что государство не потеряет ничего, если отпущенные деньги просто присвоить. Нельзя искушать людей бессмысленными тратами.
Со стороны берега злобной стихии помогали воины Мулай-Исмаила, кои прятались в изрезанных оврагами, заросших кустарником холмах и делали мишенью для своих длинных ружей любого, кто высунется из-за стен. В конце концов англичане просто бросили крепость, взорвав порохом все, что смогли. Двумя десятилетиями позже они отняли у испанцев Гибралтар, обладающий большой защищенной бухтой и удобный к обороне со стороны материка. Вот он показался из-за мыса Марроки…
— Там флаг подняли! С горы кому-то сигналят! — Юнга на мачте, сменивший востроглазого Харлампия, показал рукою в сторону британского порта. Зрительная труба приблизила невнятное пятнышко на гребне. Хм, в «Fighting Instructions» таких знаков нет. Ничего удивительного: чуть не каждый морской начальник вводит в дополнение к адмиралтейской собственную систему. Может, конечно, поднятое на вершине скалы полотнище с нашим караваном никак не связано — только чутье вопит о другом.
Альфонсо молчит. Ждет моих распоряжений? Повернулся; встретились взглядами.
— Сигнал «опасность» на мачту.
— Да, Ваше Сиятельство. Епифан, флаги! — Штурманский помощник резво исчез в люке.
Ставить людей к орудиям преждевременно. Пока непонятно, что нас ждет. Еще час или полтора прошли в мучительном ожидании. Потом сверху донесся мальчишеский голос:
— Вижу!
Acheronta movebo
Чрезмерная самонадеянность опасна. В баталии — опасна смертельно. Меру собственной сухопутной глупости я осознал почти сразу после того, как из-за Гибралтарской скалы выскользнули и устремились на пересечение курса «Диомеда» две хищно вытянутых шебеки с акульими плавниками парусов.
А может, глупость сия не сухопутная, а галерная: морем-то повоевать довелось — но на гребных судах! Вот и расставил корабли, не продумав тонкостей маневрирования. Надо бы соединиться с «Зосимой», дабы уравнять силы, — но ветер так слаб, что «Диомед» еле слушается руля. Лавировать к весту не сможем: потеряем ход и окажемся совершенно беспомощны. Неприятель зайдет с удобной стороны, не опасаясь бортового залпа, и сотворит все, что пожелает. На выбор, из пушек расстреляет, либо возьмет на абордаж. Латинские паруса корсаров позволяют держать гораздо круче; на крайний случай, у них и весла есть! Лечь в дрейф, чтобы дождаться сикурса на месте? То же самое и выйдет. Никита к бою не успевает, и в том вина не его, а моя. Неверно рассчитал должное удаление авангардного судна.
Есть только один способ уйти от неприятной встречи: повернуть влево на четыре или пять румбов и укрыться в Гибралтарской бухте. Сиречь в объятиях генерала Клейтона, коий по всем законам имеет широчайшие полномочия над судами, посетившими вверенный порт. Да, неплохо задумано! Изящно и просто. По части морской тактики я профан, в сравнении с настоящими мастерами.
— Илья, пригласи капитана и старшего артиллериста.
Оба в десятке шагов: можно бы крикнуть, не посылая секретаря. Но не люблю фамилиарности перед боем.
— Изволили звать, Ваше Сиятельство?
Альфонсо и старшина дюнкеркцев Филипп Гонтье хорошо понимают, в сколь опасное положение мы попали. И по чьей вине. Впрочем, право хозяина рисковать жизнью служителей для них бесспорно. Тем паче, когда он сам на борту.
— Господа, предстоит сражение. Вы готовы?
Вопрос чисто формальный. Если есть страх и сомнения — правильный ответ поможет от них освободиться. Неправильный… Кто осмелится его дать?
— Команда выполнит свой долг. Пушки заряжены, люди стоят по местам.
— Прекрасно. Мэтр Гонтье, вы полагаете предпочтительным сойтись с неприятельским кораблем бортами на контркурсах, или же перерезать его путь и обстрелять анфиладным огнем?
— Предпочитаю последнее, если такой маневр удастся.
— Капитан?
— Лишь бы африканцы не уклонились заранее. Сблизимся с врагом и повернем перед самым его носом.
— Чтобы получилось хорошо, маневр должен быть на грани столкновения. Не бойтесь обломать магометанам бушприт. Щадить свой корабль тоже не следует.
— Да, господин граф.
Требование кощунственное с точки зрения любого торгового капитана — однако Альфонсо слишком привержен традициям вассалитета, чтобы спорить. Француза моя решительность, похоже, только обрадовала: он опытный боец. Одних лет со мною или чуть постарше, с изрядной проседью в лихо закрученных усах. В юности ходил на промысел с Жаном Баром, коему приходился свойственником по первой жене.
Дистанция с неприятелем сокращалась. Юнга-наблюдатель на мачте постоянно докладывал о том, что видит. Последние сомнения в принадлежности встречных судов рассеялись, когда он сообщил, что на шебеках половина арапов, совсем черных. Бухари, как и следовало ожидать. Свирепые черные гвардейцы Мулай-Исмаила. Наименование оных (казалось бы, где Африка, а где Бухара) произошло от того, что слова присяги на верность султану позаимствовали из книги хадисов Мухаммеда аль-Бухари. Преданность этих воинов своему монарху была невероятна. Один французский дипломат поведал, как Мулай-Исмаил (старикашка с фигурой недокормленного подростка и безжалостным взглядом убийцы), получив в подарок отличную саблю, тут же подозвал одного из стражей и мастерским ударом отсек ему голову. Просто чтоб испытать клинок! Товарищи обезглавленного продолжали службу, не моргнув глазом — да и сам он склонил шею без малейших колебаний. После смерти хозяина сие войско рассыпалось на отдельные шайки, затмившие зверством самых лихих разбойников. Не приведи Бог попасться им в лапы живым.
Этих на испуг не возьмешь: стало быть, к потерям мало чувствительны. Холодным оружием владеют лучше моих матросов, числом тоже превосходят. Первое дело — не допустить на абордаж. Пушек на вражеских судах в совокупности больше, но каждое в отдельности уступит. По калибру полное преимущество за нами. Отсюда главные приоритеты боя: маневр и огонь с близких дистанций. А еще…
— Еще два басурмана! Правее, у африканского берега!
В голосе юнги — азарт, и ни малейшего страха. Мне бы так! С зюйд-оста, из-за горы Монте Ачо, показались еще два явно корсарских судна. Перебор: со всеми вместе заведомо не сладить. Одна надежда, что вторая пара слишком далеко. Пока придут — может, «Зосима» подоспеет. Все равно будет тяжело. А коли не подоспеет…
Если враг явно сильнее, и столкновения не избежать — бей первым.
— Рулевой, два румба левее!
Капитан начал действовать. Пираты слегка разошлись в стороны, как бы желая взять «Диомеда» в клещи; наше движение походило на запоздалую и неуверенную попытку спастись в Гибралтарском заливе. Ближайшая шебека должна была взять вправо, дабы не упустить жертву, — однако латинский парус хорош, пока дело не доходит до смены галса. Гортанные крики, беготня на вражеской палубе… Пушечный выстрел в нашу сторону: ядро чиркнуло по гребню волны перед самым форштевнем. Сие означает приказ лечь в дрейф и сдаться; Альфонсо словно того и ждал, чтобы разразиться серией команд. Руль на правый борт, матросы кинулись брасопить реи, — в первую минуту казалось, что мы решили подчиниться. Описав плавную дугу, корабль пересек неприятельский курс в двадцати саженях от нока длинного бушприта.
Орудия гремят поочередно: Гонтье приказал канонирам палить, когда мачты состворятся. Угол возвышения нулевой. Наша палуба выше, но легкий крен в подветренную сторону делает прицел убийственно точным. Промахов нет! Грохот выстрела — и мгновенно, без паузы, треск ломающегося дерева или… Наверно, иллюзия: но так и кажется, что слышу влажный шлепок при попадании в густую толпу. Тетуан совсем рядом; алчущих добычи набилось столько, сколько позволила грузоподъемность. Тяжелые чугунные шары оставляют кровавые просеки среди сгрудившихся врагов. Особенно громкий треск… Есть! Мачта сбита! Она валится на левый борт, погребальным саваном паруса накрывая живых и мертвых. Разноязыкий торжествующий крик взлетает над «Диомедом». Последний выстрел словно вколачивает осиновый кол в шевелящуюся под полосатым покровом враждебную плоть. Пятна крови начинают расцветать на грязной парусине, как алые маки весною в крымской степи.
Гляжу вперед и влево, где неспешно вырастает вторая шебека; но побежденный противник огрызается напоследок, всадив пару ядер нам в корму. Исполненный смертной боли крик раненого свидетельствует, что не впустую. Да, крепок враг! Немало мужества надо, чтобы наводить пушки на залитой кровью палубе, среди ошметков разорванных тел, — и навести оные точно! У меня же преобладающая часть команды прежде в бою не бывала. Вижу себя обязанным вмешаться:
— Не оглядываться! Те больше не опасны! Альфонсо, к повороту!
Двигаясь прежним курсом, через пару минут рискуем оказаться в столь же уязвимом положении против свежего врага, в каком был битый относительно нас. Лучше спуститься под ветер и обменяться залпами со средней дистанции. Результат будет не столь решительным, но с большой вероятностью в нашу пользу. Неприятель выйдет в наветренное положение — что ж, этому никак не воспротивиться.
Снова торопливый топот босых матросских ног, яростные слова команд, протяжный скрип рангоута. «Диомед» лениво поворачивается носом к востоку, кормою — к низкому предвечернему солнцу. Над вражеским бортом вспухает клуб порохового дыма, через секунду доносится звук выстрела. Потом палит вразнобой вся батарея. Лишь одно ядро сделало дыру в грот-марселе, да второе плеснуло рядом с бортом; падения остальных и видно не было. Еще бы: шебека идет под углом к океанской зыби, катящейся вдоль пролива. Валяет ее изрядно, пушечные стволы выписывают в воздухе замысловатые фигуры. Гонтье, замерший у двенадцатифунтовки на баке, терпеливо ждет. Отработанным в многочисленных экзерцициях маневром рулевой ловит курс по волне, убирая бортовую качку. Можно открывать огонь. Выстрел! Перелет. Или он метит по рангоуту?
— Вы очень меня обяжете, мэтр, прицеливаясь неприятелю в корпус.
— Avec plaisir, если угодно Вашему Сиятельству.
Француз не спешит. Переходит от одного орудия к другому, собственноручно наводит, выжидает момент, когда корабль замирает на волне, и стреляет. Канониры банят, заряжают и накатывают. Хладнокровие артиллериста приносит плоды: прежде, чем суда расходятся, враг получает четыре или пять пробоин. Из них две опасных, близ ватерлинии. В нас тоже пару раз попали, но повреждения незначительны. Пушечные ядра оставляют в обшивке аккуратные дырочки; тяжелые и медленные гаубичные делают, кроме пробоин, множество трещин, кои не так легко закрыть. Теперь каждая волна добавляет в трюм шебеки несколько английских центнеров морской воды. Это убавит ей шустрости, хотя не сразу.
А пока — враги вышли, относительно нас, на ветер. Выбор продолжения за ними, и выбор сей скажет о многом. Здравомыслящий разбойник, получив жестокий камуфлет, не станет испытывать судьбу и поищет добычу полегче; если не отстанут — значит, моя хитрость сработала и «Диомед» спутали с груженым китайскими товарами «Менелаем». Ради миллионного приза реисы не пощадят своих головорезов. Отходить к родному берегу им надо на правом галсе, как шли; в погоню за нами — перекладываться. Таращусь в зрительную трубу против солнца, выжимая слезы из слепнущих от нестерпимого сияния глаз. Ни шиша не понять. Поворачиваюсь к стоящему рядом капитану:
— Альфонсо, что-нибудь видишь?
Неаполитанец напряженно щурится.
— Похоже, спустили реи. Поднимают вновь! И весла выдвинули!
Стало быть, погоня. Пусть идут: у меня есть, чем встретить незваных гостей. Только беспокоит сикурс неприятелям с юга. Корсары движутся неожиданно быстро. Присматриваюсь: да они тоже помогают себе веслами! При слабом ветре это дает преимущество в маневре, упущенное магометанами в начале боя ни по чему иному, как по африканской лени.
Слева на траверзе — Punta de Europa с часовней Девы Марии. Дальше европейский берег круто поворачивает к норду. Бриз, подгонявший «Диомеда» доселе, стал неустойчивым: его едва хватило, чтобы пройти оконечность мыса. Порывы чередуются с полосами штиля, грозящего предать нас беспомощными в руки врага. Пираты опасно приблизились: шебека, обстрелянная на встречном курсе, в какой-то момент отставала почти на полмили; теперь до нее не более четверти. Другие вот-вот выйдут на пушечный выстрел. Ветер переменился на южный, и задуманный поворот им навстречу стал невозможен по навигационным причинам. Громить противников по отдельности не выйдет. «Зосиме» не успеть, это очевидно. Вдоль побережья должны крейсировать испанские фрегаты из Малаги, отстоящей на двадцать пять лиг, — но их появление в решающий момент боя крайне маловероятно.
Вокруг ретирадной двенадцатифунтовки возится дюжина канониров с веревками и рычагами, кантующих полуторатонную тушу. Марокканское ядро сбило катки лафета и рикошетом переломало ноги матросу-неаполитанцу.
— В сторону ее! Сюда — вон ту гаубицу!
Оставляя варварские царапины на гладко выскобленной палубе, раненую пушку оттаскивают ближе к мачте. Чугунная подруга встает на ее место.
— Мэтр, прошу вас дать бортовой залп, как только корсары окажутся в пределах досягаемости. Капитан, сразу после этого — меняем курс и уходим к норду. Действуем по методе против преследователей.
Время ожидания у входа в пролив минуло не впустую: придуманы и закреплены многочисленными экзерцициями несколько тактических схем. Ту, которая определяет приемы боя против догоняющего врага, я начал выстраивать еще раньше: наверно, со времени бегства из берберийского плена.
Спиною чувствую, каким усилием сдерживается мой вышколенный секретарь, чтобы не встрять без дозволения.
— Что, Илюша?
— Ваше Сиятельство, разрешите мину приготовить?!
— Разрешаю. Только не спеша. Давай-ка ее к пустому пушечному порту. Возьми обоих племянников на помощь.
Дед Василий из деревни Бекташево, ходивший за мною в тяжкой болезни, запрошлым годом преставился, — но долг благодарности я вернул сполна, открыв потомству старого знахаря путь наверх. Разумеется, в меру талантов и стараний каждого. Ребятишки после деревенской школы учились в Москве у Леонтия Магницкого, потом в петербургской Морской академии (покуда сукин сын Сиверс не выгнал), потом в Лондоне. Старший, Епифан, к девятнадцати годам выбился в штурманские помощники; младший пока в учениках. Вот они подняли из трюма длинный, похожий на гроб, деревянный ящик. Тащат на ют, стараясь по пути не стукнуть.
В эту самую секунду француз, сочтя дистанцию приемлемой, выпалил правым бортом. Не успел рассеяться дым — забегали матросы, корабль повернулся вослед уплывающему пороховому облаку. Эх, ветер бы посильней! Не оторваться, так хотя бы растянуть погоню, чтобы враги вступали в бой поодиночке. А при такой погоде — не выйдет. На какой-то момент показалось, что давняя история с берберийцами повторяется почти буквально: все тот же малодейственный обстрел из ретирадных орудий и неумолимо грозящий абордаж. Нет, гиены африканские! Сегодня добыча позубастей!
Илья стоит на коленях перед раскрытым ящиком, словно у тела дорогого родственника. Вопросительно смотрит — я жестом позволяю продолжать — и тали, закрепленные на бизань-гике, воздымают над палубой подобие рыбы из светлого металла, ростом с человека. Начиненную порохом игрушку осторожно спроваживают за борт, с опаской провожая глазами. Чем-то похоже на то, как волжские рулевые ловят щук на «дорожку», только сия приманка размером — для сказочного левиафана. Острый крюк сверху усугубляет подобие. Буксирный линь закреплен эксцентрически при помощи хитрой шлейки: это позволяет жестяной рыбе не влачиться в кильватере судна, а гулять в сторону градусов на тридцать.
Марокканцы уже близко. Шебека, что получила полдюжины ядер, приотстала. Зато согласованность маневров двух других сделала бы честь любому европейскому флоту. Заходят с обеих раковин, под углом, недоступным бортовым гаубицам. Довернешь на одного противника — подставишь корму другому. Но рано или поздно придется: иначе пираты сцепятся с нами раньше, чем боевой азарт их будет охлажден тяжкими потерями.
Море содрогается от глухого удара; громадный водяной столб вырастает в паре сажен от корсара, подкрадывающегося к штирборту. Бревноподобные весла разлетаются, как щепки из-под топора. Через мгновение понимаю: мина попала под лопасть, вместо корпуса! Вся фигура Ильи выражает крайнюю степень огорчения. Ничего; даже минутная заминка у неприятеля — нам на руку.
Капитан переглянулся с главным артиллеристом: немой вопрос на лице, по-итальянски выразительный жест, утвердительный кивок — мои помощники научились понимать друг друга без слов. Покосились, на всякий случай, в мою сторону — выдал им благосклонную улыбку.
— A sinistra!
Команда действует, как безупречно отлаженный механизм. Есть пара минут, чтобы переведаться один на один с ближайшим врагом. Уклоняясь влево, корабль пересекает курс преследователя. Бак оного попирает даже не толпа — а плотно сжатая тысячерукая масса. Закатное солнце раньше времени кровавит воздетые над головами ятаганы. Угрожающий рык, рвущийся из множества глоток, способен повергнуть в трепет даже бывалого воина. Лишь недреманный взор всемогущего начальства держит наших матросов в узде.
Орудия рявкают поочередно: чужую палубу выметает картечь. На сотне шагов смертельный веер достигает четырех сажен в ширину, и выжить в этой полосе невозможно. Мгновение назад там сверкали белые зубы двуногих хищников и сталь абордажных клинков — теперь мясной ряд. Но корсар даже не рыскнул на курсе! Через трупы своих, через кровавое месиво, оскальзываясь на разбрызганных мозгах, лезут вперед новые воины. Слишком их много: даже крупному калибру не пробить такую толщу плоти. И слишком привычна черная гвардия к смерти, чтоб устрашиться одного удачного залпа. Еще раз успеем выпалить, но хватит ли этого?
Надо рисковать. Из трюма подняли медную бочку на колесиках. Сбоку, при помощи блестящих трубок, к ней присоединен бочонок поменьше. Творение Василия Корчмина я основательно переделал. Сей внебрачный сын Гефеста считал в порядке вещей орошать вражеские корабли зажженной горючей смесью. Или, к примеру, инспектировать пороховые мельницы с дымящейся трубкой в зубах. Бог огня прощал своему любимцу самые рискованные шалости. Не надеюсь на подобное в отношении к себе: поэтому усовершенствованная адская труба просто поливает врагов нефтяным спиртом; а уж поджечь его на ведущем бой судне всегда найдется, чем.
Вновь гремят пушки. На сей раз противники отвечают нашему залпу. Треск дерева, крики раненых. Слава Всевышнему, бочка моя не задета! Меж кораблями тридцать шагов, двадцать… Доносится злобный вой, в котором нет уже ничего человеческого, ни даже зверского: так могут реветь лишь демоны из ада. Взлетели первые абордажные крючья. Я повернул рукоятку бронзового крана…
В недрах механизма кислота хлынула на кристаллы поташа, пенясь от рвущегося из недр субстанции воздуха. В мгновение ока упругость его в емкости возросла десятикратно. Под сим напором желтоватая, пахнущая нефтью, жидкость вышибла пробку и тугою струей окатила столпившихся на палубе шебеки воинов. Бочка опустела в пять секунд! Конечно, у вражьих артиллеристов нашелся горящий пальник… Побелевший от ужаса Альфонсо сам бросился к борту, за ним — матросы с баграми и запасным рангоутом, дабы отталкивать объятую пламенем шебеку; но наш рулевой каким-то чудом сумел развести корабль с сим плавучим костром.
За этими хлопотами я выпустил из виду остальные неприятельские суда. Рискнут ли враги продолжить баталию? Может, хватит с них?! Ужасная участь собратьев по разбою должна была устрашить и самых жестокосердных. Тщетные надежды! Пожравшее товарищей адское пламя лишь охладило страсть африканцев к абордажу. Зайдя с обоих бортов и поставив «Диомеда» в два огня, они принялись осыпать нас ядрами. Надо признать, марокканцы в умственном отношении стоят намного выше всех прочих мавров. Свирепством же — по меньшей мере, не уступают.
— Слава тебе, Пречистая Дева! — Закопченный Альфонсо вполне мог сравниться цветом лица с нашими противниками. — Не перекинулся пожар!
Он все еще был под впечатлением минувшего эпизода. Обстрел покамест не казался слишком опасным.
— Разумеется, слава! А ты разве сомневался в благосклонности небес?! Кстати, капитан: можем еще прибавить парусов? Мне кажется, вон тот корсар поднабрал воды и долго за нами не удержится. А с одним — справимся!
— Один момент, Ваше Сиятельство!
Но, похоже, предоставленный Фортуной кредит иссяк. Над головой оглушительно треснуло; капитан сморщился столь болезненно, словно переломилась его собственная кость. Я поднял голову: крюйс-стеньга «Диомеда», перебитая у самого эзельгофта, медленно и неотвратимо клонилась вперед. С гитарным звоном лопались крюйс-стень-ванты. Нок реи, словно великанская шпага, проткнул грот-марсель и, продолжая движение, распорол крепчайшую парусину на лоскуты. Острый расщеп бревна толщиною в человеческое туловище завис над нашими головами, грозя в следующую секунду обрушиться на них. Весь такелаж обратился в безобразное месиво; на оставшихся парусах мы не ушли бы и от самого пузатого торговца.
— Господин граф, пожалуйте в безопасное место…
— Это в какое? В канатный ящик, что ли?! Займись кораблем! Мэтр, оставьте при каждом орудии по четыре человека плюс подносчиков, остальных — на исправление повреждений!
Оставив Альфонсо распутывать гордиевы узлы, присоединился к артиллеристам. Одному Гонтье не управить огнем на оба борта.
— Бомбой… Заряжай!
Лет двадцать назад гвардейский капитан Читтанов мечтал сотворить чудо-оружие и возлагал большие надежды на каплевидные оперенные бомбы. Жестокая действительность опрокинула сии планы: либо цена выходит далеко сверх разумного, либо литье получается кривое. В последнем случае предсказать траекторию диковинных снарядов за рубежом двух-трех сотен шагов никакая гадалка не сможет. Однако место для них есть. Небольшое. Вот как сейчас, когда у врагов хватает ума не высовываться над фальшбортом — а дубовые доски его слишком крепки для картечин.
— Огонь по готовности!
Руки чешутся взяться наводить самому. Но сдерживаюсь. Хорошо практикованные канониры сделают лучше. Одна из иллюзий, часто возникающих при артиллерийской перестрелке — преувеличение действенности вражеского огня, в сравнении с собственным. Чужие-то ядра падают ближе! Кстати, совсем неплохо басурмане стреляют: перенесли прицел с рангоута на корпус и почти не промахиваются. Чувствуется европейская школа. Вообще, разбойничьи государства Африки поднялись за счет выходцев из Европы: сначала — изгнанных королем Филиппом морисков, потом — ренегатов всех мастей.
Корабль содрогается то от своих выстрелов, то от вражеских попаданий. Ядро влетает в группу канониров, накатывающих гаубицу: одного разрывает почти пополам, другому сносит голову. Брызги летят мне в лицо. С трудом сохраняю хладнокровие. Отвык: давно в бою не был. Стерши платком солоноватую массу, приказываю сложить останки к основанию фок-мачты и накрыть брезентом. Забираю двоих у Альфонсо на место выбывших: орудия должны работать в полную силу. Батарея другого борта тоже не обходится без потерь, оттуда волоком тащат по палубе раненых и на руках опускают в трюм. Не многовато ль сопровождающих? Дай малейшую поблажку — и уклонение от опасности охватит команду, как чума… Цепляю лишних за шкирку, пинками гоню обратно к орудиям. Сержантская обязанность, и кому-то она расписана по боевому регламенту, только этого «кого-то» в горячке боя не найти. Не военный у меня корабль! Оборачиваюсь в поисках…
— Епифан!
— Слушаю, Ваше Сиятельство!
— Ручное оружие есть? Становись часовым к люку. Вниз пускай только подносчиков зарядов, раненых и кто помогает неходячим. Этих с разбором и под запись, которые не вернутся — потом доложишь.
Слава Богу, команда терпит потери стойко. Люди не совсем необстрелянные: дюнкеркцы каперствовали почти все, из итальянцев и русских некоторым довелось поразбойничать под началом Луки Капрани. Разнородность не мешает взаимному пониманию. Палубный жаргон, в коем смешались lingua napoletana и поморска говоря, ныне впитал еще и французскую струю.
— La poudre! Порох давай! Plus vite, fils de pute! Presto!
— Сам ты б…ий сын, Гаспар! Non correre! Ствол сперва пробань, а то decapitato будешь! Башку оторвет нахер!
Простонародная бесцеремонность и соленые матросские словечки согласной работе не мешают. Гаубицы палят пореже вражеских пушчонок, и бомбы не всякий раз летят куда надо; но если уж попадают — тогда держись! Жестокосердные бухари крови не боятся, ни своей ни чужой; только ведь шебеки пиратские на упорный бой не рассчитаны! Изящные, женственные формы; тонкие борта; форштевень выгнут, как шея породистой арабской лошади, — все для скорости, для азартной погони за беззащитной добычей. А ежели добыча даст жестокий отпор? Тут понадобится тяжелый, прочный корабль с обшивкой, кою не всякой пушкой прошибешь. Но такой не будет достаточно быстр и поворотлив, и уж заведомо не сможет ходить на веслах.
Судя по нерешительности врагов, им достается еще крепче нашего. Ближе кабельтова подходить не рискуют. Или это хитрость: может, они ждут ночи, благоприятствующей темным делам? Солнце уже спряталось за испанские горы, ближняя сторона Гибралтарской скалы покрылась непроглядным мраком, с востока накатываются сумерки, и только вечерняя заря из последних сил обливает сражающихся кровью и золотом.
Я подозвал Гонтье.
— Мэтр, что у нас с боевыми припасами?
— Бомбы закончились, экселенц. Ядер много, но трудно их доставать: главный запас в балласте, а трюм заливает. Порох пока есть. Картечь тоже.
— Лихткугели в наличии?
— Конечно, мы же их не расходовали.
— Поднять на палубу, все. Последний шанс африканцев — абордаж в темноте.
— Будет исполнено.
В этот самый момент матросы, частью распутав, частью разрубив такелаж, спихнули за борт обломок стеньги. Освобожденный «Диомед» чуть приподнялся на волне, словно бы вздохнул облегченно. Паруса взяли ветер. Даже без крюйселя, корабль ощутимо прибавил ход, и насевшие на нас корсары это почувствовали. Один из них начал сползать с траверза на раковину, не прекращая, впрочем, огня. Другой не отставал, хотя вид у него был неважный. Паруса как решето; в борту не пробоины, а проломы; из шпигатов сочится кровь. Ну до чего ж, суки, упорные!
В густеющих сумерках орудия с грохотом изрыгали пламя в сторону врагов, еле различимых — черным по серому — и отвечающих такими же вспышками. Толку от сей пальбы, однако, становилось все меньше, по невозможности проследить полет ядер. Перестрелка стихла сама собою, лишь время от времени одна из гаубиц пробуждалась, и осветительный снаряд прочерчивал небо лиловой звездой. Пробовали бить под них залпами — но для прицеливания лихткугели наши оказались слабоваты.
— Отличный бой, Ваше Сиятельство. — На закопченном лице Гонтье впотьмах угадывалась улыбка. — Правда, я сам не слишком понимаю, как нам удалось уцелеть.
— Еще неизвестно, удалось ли. — Возникший из мглы Альфонсо был мрачен. — Пять пробоин ниже ватерлинии и дюжина — в пределах двух футов над ней. Плотник делает все, что возможно, однако помпы не справляются. Осадка возросла, несмотря на улетевшие тонны чугуна и пороха. Сейчас попробуем завести пластырь.
Я прислушался. Сквозь стоны раненых (коих более в трюм не спускали) снизу доносились торопливые судорожные всхлипы поршней.
— Что нибудь нужно, капитан?
— Люди. Позвольте взять канониров.
— Мэтр?
— А если нападение?
— Думаю, надо зарядить картечью и оставить по два человека на орудие. Сейчас вода опасней пиратов. Капитан, больше не дам! Не трехфунтовки, в одиночку не наведешь. Полагаю, шлюпок у нас не осталось?
— Все разбиты.
— Держи ближе к испанскому берегу, чтобы в крайности выброситься.
— Там скалы.
— Скалы ближе к Малаге, а здесь берег песчаный. Впрочем, я надеюсь, до этого не дойдет. За работу!
Ночью был безумный аврал. Чумазые матросы в неверном свете масляных фонарей без отдыха сражались за жизнь «Диомеда». Заведенный под днище парус убавил течь, но не устранил ее. Невзирая на все усилия, корабль медленно погружался. Ночной бриз веял от берега в море, а искалеченная бизань затрудняла маневр; если бы ситуация еще ухудшилась, мы принуждены были бы спасаться вплавь за несколько миль от берега, либо сдаться на милость врагов — порождений ада, заведомо оной лишенных.
Однако первые же признаки рассвета частично облегчили сию тревогу. Марокканцев поблизости не обреталось. Убрались они благоразумно в Тетуан или стали добычею рыб — аллах ведает. Когда быстро светлеющий горизонт расширился, на нем возникли силуэты трех кораблей, с разных сторон к нам направляющихся — но явно европейских.
Минут через десять стало видно, что с зюйд-оста приближается «Зосима», с зюйд-веста — английский фрегат, и с норда, на большем удалении — испанский. Благородные доны явились на звуки боя у принадлежащих им берегов; но очень уж не торопясь. Если бы не крупный калибр — сейчас бы нас крабы глодали.
— Альфонсо, прикажи поднять флаг!
— Какой, Eccellenza?
— Русский торговый. И положи корабль в дрейф.
Британцы подоспели первыми. Убрали брамсель, взяли фок и грот на гитовы, спустили кливер и вынесли бизань на ветер. Обстенили передние паруса. Спустили шлюпку. Ритмично взмахивая веслами, матросы в пять минут прохватили разделяющую нас пару кабельтовых. Строгий морской лейтенант потребовал шкипера. Не будучи уверен в хладнокровии неаполитанца, я предпочел вести разговор сам и вышел к борту в треугольной шляпе и мундире со звездами и лентами.
— Шкипер занят. После боя с пиратами у нас слишком много повреждений.
— А вы кто такой, мистер?
— Обращайтесь ко мне «сэр».
— Кто вы такой, сэр?
— Владелец судна, генерал русской службы граф Читтанов. Вас не затруднит взаимно представиться?
— Лейтенант Королевского Флота Джонс. Спустите трап, сэр.
— Зачем, лейтенант?
— Я должен осмотреть судно. Кстати: вам требуется помощь?
— Ваша помощь не требуется, равно как осматривать корабль вы не должны и даже не вправе. Совершенно незаконно заявлять подобные намерения, находясь в испанских водах и не имея ни малейших оснований подозревать нас в чем-либо.
— Вы находитесь в виду английской крепости, сэр. — Он указал рукою гнилой зуб Гибралтарской скалы на горизонте.
— Владения короля Филиппа значительно ближе. Или все побережье до Малаги перешло под руку вашего суверена? Сообщите капитану вон того испанского фрегата, он будет очень обрадован.
— У вас слишком много пушек для торгового судна.
— Вчера мы имели случай убедиться, что их слишком мало. Приходится защищаться от африканских корсаров самостоятельно, раз уж военные моряки страшатся встретиться с разбойниками и преследуют только мирных торговцев.
— Очень сожалею, сэр; но в случае сопротивления с вашей стороны я буду вынужден применить силу.
— Именно сейчас это в высшей степени неуместно, ибо через несколько минут начнутся похороны. После вчерашнего боя мы не в силах противиться фрегату Его Величества — однако представьте, как будет выглядеть атака мирного судна в момент печальной христианской церемонии. К тому же — на глазах многочисленных свидетелей. Подождите немного, и я постараюсь найти мирное решение наших с вами разногласий.
Разумеется, похороны можно было и отложить — но требовалось выиграть время, пока испанец и «Зосима» приблизятся и составят противовес наглому англичанину. Так что убитым предстояло сослужить еще одну, последнюю службу. Священников на корабле не было. По католикам заупокойную молитву читал капитан Альфонсо Морелли, по православным — боцман Игнатьев, по старообрядцам — какой-то пожилой бородатый матрос. Всем я шепнул на ухо, чтобы не спешили. Команда построилась (за исключением дежурной смены на помпах) и с надлежащим смирением слушала древние слова: единожды на латыни и дважды по-славянски. Зашитые в парусину тела скользнули в неродные воды, кто умеет — запели псалом, а я отошел в сторону для беседы с помощником капитана «Зосимы». Шлюпка как раз причалила с противоположного от англичан борта. Нетерпение просто жгло мою душу.
— Что с «Менелаем»?
— Все в порядке, Ваше Сиятельство. Миновал пролив ночью, беспрепятственно. «Савватий» сопровождает. Сейчас от нас на осте, с палубы уже не видно.
— А с мачты?
— С трудом. Подробностей не разглядеть.
— Так. Ладно. Сейчас возьмешь раненых, сколько сумеешь. Тихону передай: пусть подходит ближе и спускает все шлюпки. Надо снять команду.
— Ваше Сиятельство… Может, помощь оказать: удержим корабль на плаву до ближайшего порта…
— Нет. Я сказал, утонет — значит, утонет. Принимай раненых, распоряжусь.
Последнее «аминь» растаяло в воздухе; заждавшийся лейтенант с нетерпением барабанил пальцами по планширю своего баркаса. Еще бы ему не беспокоиться: испанцы уже взялись за весла, торопясь встрять в конфликт. По морским законам, право досмотра за ними.
— Джонс, я готов позволить осмотр корабля, но только по письменному предписанию от вашего капитана. Мои люди не станут противиться, однако предупреждаю: сей приказ будет опротестован в Лондоне, в Королевском суде.
— Сэр, только не пускайте испанцев! Я вернусь с предписанием через четверть часа.
— Договорились.
— Кстати, сэр: как называется ваше судно и куда оно следует?
— «Менелай». Уже никуда не следует: до Малаги вряд ли дотянем.
— Гибралтар ближе.
— Подумаю об этом.
Застоявшиеся британцы помчались за бумагой, сгибая весла. Альфонсо подошел ко мне:
— Разводить людей на работы?
— Нет. «Диомеда» спасать не будем. Подойдут шлюпки — всю команду снимем на «Зосиму». Матросов, что на помпах, гони наверх. Потом собственноручно выбьешь распорки, кои держат щиты на пробоинах. Если рука не подымется — давай я выбью.
— Ваше Сиятельство… Надо бороться до конца!
— Пойми: сейчас англичане думают, что это мы — «Менелай». Поднявшись на борт, они узрят явные признаки своего заблуждения, и станут преследовать настоящий.
— Не догонят: у Луки прекрасный корабль.
— Догонят, к сожалению. В южных водах, чтобы сохранить ход, надо чистить дно через шесть месяцев максимум. Лучше — через три. А Лука полтора года там болтался. Без доков, без кренгования. Так что догонят. И драться с ними не с руки, по малочисленности наших команд и уязвимости груза. Главное же, король Георг не простит, если мы утопим его фрегат. Все концы в воду — самое верное. Не горюй: на прибыль от китайского чая таких кораблей можно тридцать построить и оснастить. Или сорок, если удачно продам. Так ты идешь? Время не терпит!
— Испанцы нам не помогут?
— Разве потянут время еще немного, пока будут ругаться с соперниками. Вполне возможно, их капитан имеет от своего адмиралтейства такое же предписание, как английский коллега. Ну что, исполнишь приказ?!
— Да, Ваше Сиятельство. Хотя охотнее бы застрелился.
— Запрещено. Смертный грех. Ступай, с Богом!
Спустя полчаса обреченный корабль исчез под волнами, избежав осквернения подошвами английских башмаков, — а потяжелевший «Зосима» на всех парусах устремился в погоню и следующим утром настиг убежавших вперед собратьев. У настоящего «Менелая» ход был и впрямь неважный. Нас никто не преследовал. Видимо, заданную мною загадку британцы с ходу не разгадали: то ли драгоценный груз и впрямь исчез под волнами, то ли давно перегружен на другие суда и плывет неведомо где. Ущерб от интриг Ост-Индской компании я счел умеренным. Пустой корабль, тринадцать душ убитых, десятка два раненых. Больше всего досталось французам-канонирам, которые, собственно, не мои, и вообще наняты на один раз. Но претензий с их стороны не прозвучало: покойники по природе тихие, а живые кланялись и благодарили за щедрость. Выплаты вдовам, компенсация за раны, бонусы за меткую стрельбу — кажется, ничего не забыл. Филипп Гонтье, прощаясь, выразил живейшую готовность продолжать сотрудничество:
— Не будет ли еще для нас службы, Ваше Сиятельство?
— Боюсь подвести вас, мэтр, под королевский гнев. Если при дворе узнают о сих приключениях — неприятности воспоследуют. Либо запретят служить у меня, либо, угрожая родным, заставят шпионить. Поэтому принять могу только тех, кто готов полностью распрощаться с Прекрасной Францией.
Артиллерист помрачнел:
— Да, господин граф: от столичных крючкотворов можно ждать любых пакостей. Но все ж не забывайте о нас.
— Не забуду. Это было бы верхом неблагодарности с моей стороны.
При всем ожесточении боя, потери не превышали обыкновенную смертность от цинги, поноса и лихорадки в колониальных плаваниях. Так что возможный упрек в погублении христианских душ ради собственной корысти меня не тревожил. Единственной занозой, пронзившей до живого толстую шкуру генеральской совести, оказалась участь подштурмана Епифана Васильева. Где я поставил парня, чтоб не пускал малодушных в трюм, — там и воткнулся ему в живот острый, как копье, обломок фальшборта. Слабая надежда, что кишки целы, развеялась с приходом горячки; накануне Ливорно раненого посетило милосердное забытье. Меня охватила бессмысленная злость на светлый Божий мир и ясное итальянское небо, когда поутру заметил в приемной компанейской конторы бледного мокроносого Харьку. Мальчишка изо всех сил сдерживал слезы.
Недобрые вести не стоит отлагать на потом. Остановил жестом приказчиков и негоциантов, ожидающих с денежными вопросами, подошел.
— Брат?
— Помер, Ваше Сиятельство.
— Земля ему пухом. Достойный был юноша.
Харлампий шмыгнул носом, нагнулся и выставил пред собою потертый маленький сундучок из тонких досок, с ручкой для переноски сверху. В таких матросы хранят немудреные пожитки.
— Велел Вашему Сиятельству передать.
— Что там?
— Помните, вы нас учили в деревне? Ворону еще дохлую линейкой меряли… — Мальчик попытался справиться с подступающими слезами. — Вот он с тех пор и занимался… Тайком… Смеялись потому что… Тут опыты по летающим машинам записаны и трактат недоконченный…
Бледное полудетское лицо скривилось, мокрые дорожки пролегли по щекам.
— Прошу немного подождать, signori. — Серьезные люди закивали головами: да, да, Eccellenza, подождем… — Пойдем в сад. На вот платок, утрись…
При всем трагизме житейской ситуации, в душе я невольно усмехнулся Надо же! Ученый мир и не знал, что к двум титанам инженерной мысли добавился третий. Дедал, Леонардо и Епифан! Внутренно устыдившись насмешки в отношении покойника, да еще павшего за мой интерес, откинул крышку: ящик состоял из двух отделений. В одном несколько разлохмаченных тетрадей, в другом…
— Не сломайте!
Смутившись, что позволил себе неподобающий тон, Харлампий дрожащими руками извлек хлипкую конструкцию, склеенную из тончайшей китайской бумаги, ниток, соломинок и щепочек:
— Образ машины в препорции один к двунадесяти, сиречь сажень в четверти.
— И что же: это летает?!
— Да, ежели крылья прикрутить.
На свет появилось нечто еще более хлипкое, полупрозрачно-стрекозиное. Всё вместе выглядело слишком худосочно в сравнении с самой тощею птицей, да и махать крыльями не могло, не имея соответствующего механизма. Под моим недоверчивым взглядом парнишка скрепил отдельные части шелковой ниткой и легким движением пустил, что вышло, на воздух.
И случилось чудо. Уродец плавным скольжением преодолел десяток сажен, качнулся от дуновения из приоткрытой калитки, вильнул длинным сорочьим хвостом и застрял в розовом кусте на другом краю маленького сада. При всей неказистости модели, это был полет! Зная главные принципы явления, масштабировать его несложно. Выходит, какой-то сопляк в свободное от навигационной науки время разгадал тайну, непосильную для величайших умов?! А почему нет? Человек постигает мир Божий, разлагая сложные движения на совокупность простых; погибший юноша поступил в высшей степени здраво, что воспроизвел парение на неподвижных крыльях, вместо головоломной механики взмаха.
Как жаль, что его уже ни о чем не спросишь! Я привел «Менелая» в Ливорно, одолел вражеские козни, честно заработал сказочные богатства, — но радости нет и в помине. Мучат сомнения: не слишком ли дорого мне обошлась победа, и стоит ли сей выигрыш таких жертв?!
Игра на деньги
— И хо-о-одють, и та-а-ащуть! Батюшко Александр Иваныч, да рявкни ты на них! Пуще комарья надоели!
— Терпи, Матвеич! Отваживай, но вежливо: люди же ничего не просят. Наоборот, деньги всучить пытаются.
С первого дня по возвращении моем в Москву явилась нежданная проблема: факторию железоторговой компании начали осаждать толпы желающих войти в долю. Объяснения привратника (старого солдата, оставившего пол-ноги под Таванском), что восточная торговля ведется графом единолично и никакой связи с делами компании не имеет, во внимание не принимались. Купцы, чиновники, офицеры; иной раз даже мужики с туго набитым кошелем за пазухой, — все почитали меня новым воплощением царя Мидаса, единым прикосновением обращающим в золото любое дерьмо. Все набивались в интересаны. Мнение, что Россия исключительно бедна капиталами, стало казаться если не совсем ошибочным, то, по меньшей мере, преувеличенным и однобоким.
И в высшем кругу отношение было сходным: ну, разве что, генералитет у ворот не топтался. Единодушное чувство висело в воздухе — густое, как табашный дым в матросском трактире, — что не мешало бы графу и поделиться. Отказ обидел бы все общество разом, чего всемерно избегать надлежит не токмо сановникам, но даже и монархам.
С другой стороны — почему не поделиться, ежели за хорошие деньги? Еще недавно десять номиналов за акции Тайболы казались немыслимой ценой; теперь и двенадцать легко давали, по шести тысяч за пятисотрублевую бумагу. Имея долю в заводе свыше восьмидесяти процентов, я мог изрядную часть уступить без боязни. Железоторговую компанию, которой мы с Демидовым владели напополам, тоже предложил Акинфию частично продать, оставив себе по четверти: если не в одни руки, то не опасно. Пока партнер думал, начал разыгрывать свой главный козырь: индийский.
Отвизитировал высокопревосходительных столичных шулеров, оценил расклад. Как и следовало ожидать, Голицыны окончательно уступили ключевые позиции Долгоруким. Все государственные назначения и отличия ведались в семейном кругу новых властителей. Только иностранные дела, мало для них интересные, удержал за собою Остерман. Ну, и последней ипостасью сей троицы — не Живоначальной, зато начальствующей — умел сделаться герцог Лирийский. Сей незаконный потомок низложенного английского короля, сын французского маршала и посол испанский приобрел почти такое же влияние, как за два года до него — граф Рабутин. Саксонский министр Лефорт поведал, что герцог, вице-канцлер и фаворит имеют обыкновение прогуливаться вместе и ведут продолжительные беседы, о содержании коих можно только догадываться. Развратный невежественный юнец, холодный интриган-проходимец и заведомый агент чуждых сил — вот люди, ставшие у руля державы!
Впрочем, утверждать, что они действительно правят Россией, я бы не осмелился. В сем государстве все делается Божьей волей (или, гораздо чаще, попущением). Правители тешили честолюбие, решали свои приватные дела, делили грошовый бюджет, — а страна шла себе неторопливо наезженною колеей, как старая кляча, которой все равно, бодр ее возница или спит пьяный. Коли спит, даже и лучше: значит, за кнут не хватается.
И пес бы с ними, да только серьезная заморская торговля без государственной защиты немыслима. Один раз дерзость и точный расчет позволили сорвать банк; больше мои соперники так не осрамятся. Будет ли сия волчья стая равнодушно взирать, как чужаки похищают ее добычу?!
Главнейших персон долгоруковской фамилии на Москве не было: в составе целой армии охотников, с шестьюстами собаками, они сопровождали юного государя. Победные реляции о тысячах затравленных зайцев приходили с подмосковных полей. Тайный Совет, разом лишившийся кворума, не заседал. Один Остерман, с его подагрой и геморроем, предпочел канцелярские будни истреблению ушастых зверьков. Он прямо-таки светился притворной любезностью:
— Вас можно поздравить с успехом, дорогой граф? Рад, искренне рад! Рассказывают о миллионе, принесенном одним-единственным кораблем… Ужели правда?!
— Преувеличивают, барон. Хотя, если на рубли перевести… Только ведь большие деньги — большие заботы. Они пробуждают зависть и вражду: ей-Богу, я понимаю отшельников, кои раздавали богатства нищим и уходили душу спасать в пустыни.
— Но вы-то, надеюсь, не лишите нас своего общества? Позавидуют многие, это да; а враждовать не с чего.
— Речь о Европе. Здесь, в Москве, я готов принять в компаньоны всякого, кто имеет свободные деньги; сие угасит ажиотаж и обратит завистников на мою сторону. Однако над иноземными соперниками не властен. От учреждения Российской Императорской Ост-Индской компании с англичанами родимец приключится! Да и прочие рады не будут, не исключая моих фламандских друзей. Без совета с вами, дражайший Андрей Иванович, подобное дело начинать не смею. Хотя прожект хартии сочиняю в праздное время.
Очередная любезность застряла у вице-канцлера поперек горла. Побледнел он, будто ощутил внезапный приступ подагры. Или геморроя, Бог знает.
— Александр Иванович… Может, вам лучше остаться при старой системе торговли? Какие бы заманчивые виды ни открывались, они не стоят ссоры с морскими державами.
— Поздно! Рожденного младенца обратно во чрево не засунешь.
— Если вы о компании — так она еще не родилась.
— Но схватки уже начались. Русские люди узрели мой успех — и возжаждали легких денег. Слышите топот? Это будущие вкладчики. Они, как стадо диких слонов, затопчут любого, кто преградит им путь к вожделенному богатству. Меня, если не оправдаю надежд. Вас, коли сочтут помехой. Многие важные персоны составили себе изрядные состояния — а лежащие без дела сокровища вызывают неутолимый зуд. Лучше поссориться с иностранной державой, чем сами знаете, с кем.
Барон поморщился: пожалуй, намек был слишком прямолинеен. Господствующая фамилия вполне оправдывала свое прозвание. Даже с лихвой. Руки у них оказались не просто длинные, но и загребущие. Естественно, Долгоруковы пожелают выгодно вложить наворованные богатства, и впрямую противиться их алчности опасно. Хитрейший и осторожнейший Андрей Иванович такого делать точно не станет.
А что станет?
Однако на лицо собеседника уже вернулась непроницаемо-благожелательная улыбка. С видом простодушного любопытства он возобновил беседу:
— Скажите, любезный граф, собираетесь ли вы завести торговлю с Великим Моголом и другими индийскими царствами? Или намерены ограничиться Китаем?
— Вы предостерегали от ссоры с хозяевами морей: извольте видеть, меня тоже сие заботит. Китай силен и самостоятелен; никакая европейская держава не вправе препятствовать мореплаванию в его водах. Да и возможности не имеет. В Индии иначе. Власть падишаха ослабла; вассалы бунтуют. На побережье тесно от европейских кораблей, купцов и факторий. У англичан, голландцев и французов позиции сильные. Все они точат зубы друг на друга — хотя не нападают, до случая. Португальцы держат несколько пунктов, но никому не мешают, понеже торговли значительной не ведут. Датчане владеют Транкебаром; их не принимают всерьез.
— Разве? Зачем же тогда державы хлопочут об их устранении? Не далее, как нынешней весной, в апреле месяце, Англия с Голландией заставили короля Фредерика ликвидировать Датскую Ост-Индскую компанию.
— Ну, к этому времени она была просто ширмой для голландского купца ван Асперна, и к тому же обанкротилась. Иначе король не уступил бы так легко. В будущем стоит подумать о покупке датских владений в Индии — но нужен благоприятный момент. Разумею войну между европейцами: тогда каждая из сторон остережется нам вредить и умножать враждебные силы; теперь же соединятся и выкинут вон.
— Если до сего предполагаемого момента вы не намерены посылать корабли в Индию — зачем именовать компанию по этой стране? Только разжигать ненужное беспокойство.
— What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet! Китайская, Восточная, Азиатская… Или даже Южных Морей, как у британцев! Вооружаться против наших плаваний в Кантон никому из европейцев резона нет: еще и потому, что Российская империя с Китаем граничит и ведет караванную торговлю. Полагаю, одно другому не во вред — хотя морской путь быстрее и дешевле.
— А вы обсуждали сие с графом Рагузинским?
— Ну как же! Саву Лукича я почтил визитом в числе первых. Жаль старика: китайское посольство дорого ему обошлось. Пока путешествовал, дети умерли; жена молодая сбежала; ну, да венецианки верностью не славятся — у них иные достоинства… Сам из Сибири больной приехал. Шестидесяти лет пускаться в такие дали — большую смелость надо иметь.
— И как он смотрит на ваш прожект?
— С пониманием. Понеже меховая торговля в кризис пришла, нужда в перемене системы очевидна. Конечно, некая доля ревности присутствует… Знаете, барон, мы ведь с ним почти земляки — но никогда тесно не дружили. Скорей, глядели друг на друга, как на соперников. Однако граф — умный человек и опытный негоциант. Он понимает, насколько Китай велик. Пекин и Кантон — это север и юг державы, примерно как у нас Петербург и Азов. Совершенно отдельные области в торговом смысле.
— Как знать, как знать… Когда товар настолько ценен и легок, что семь тысяч верст вьючного пути коммерции не помеха — лишних две тысячи ничего не значат. Вы собираетесь просить о дозволении торговать кантонским чаем в России?
— Не обязательно. Груз «Менелая» скупили евреи из Ливорно: надо думать, для продажи в Англии через тамошних соплеменников. Меня эти покупатели устраивают — пока дают цену выше, чем христианские купцы. Конечно, парламент рано или поздно сию дыру в таможенном заборе заткнет. Разговоры уже ведутся. Но я надеюсь, что процедура затянется. Кстати, есть новость для вас: английские друзья пишут, что соглашение с Испанией и отпадение оной от Венского альянса — дело ближайших недель. Трактат давно был готов, однако все знали нелюбовь нового короля к отцовским министрам и ожидали крупных революций. Потому и не подписывали. Теперь уверяют, что Тауншенд и Уолпол снова в фаворе, особенно последний.
— Н-да, любопытно…
Сложенные домиком ладони барона пришли в движение, женственные бледные пальцы нервически заиграли, словно на невидимом клавикорде. Жест, означающий затруднение и напряженную работу мысли. Довольный, что посеял недоверие между Остерманом и де Лириа, я усилил атаку на этот пункт:
— Говорят, незадолго до моего приезда герцог ходатайствовал о дозволении использовать русский торговый флаг для плавания в Индию. Двум судам, якобы из Сен-Мало…
— Сей флаг не предназначен для прикрытия всяческих айндринглингов либо интерлоперов.
— Совершенно согласен. Решение оставить ходатайство без удовлетворения было единственно верным. Да и тридцать тысяч, которые он предлагал за эту услугу — просто несерьезная сумма. Не покрывает возможный позор. При вашей проницательности, вы, вероятно, догадались, откуда тянутся нити…
— Остенде?
— Именно так! Сей вояж затеял один из остендских директоров, который прежде звался Чарльз Пайк, а ныне известен как Шарль Пике. Корабли мне тоже знакомы: «Аполлон», сиречь бывшая «Эрцгерцогиня», и «Святая Тереза». Секретное предписание правления Ост-Индской компании… Я могу рассчитывать на вашу сдержанность?
— Разумеется, граф.
— Так вот, агентам в Бенгалии и капитанам компанейских судов приказано атаковать оные корабли при первой возможности, дабы захватить или уничтожить. Представьте, были б они под нашим флагом… Стерпеть и утереться — урон престижу империи, лезть в драку за чужой интерес — тоже не слишком разумно… Отдаю должное испытанной мудрости Вашего Высокопревосходительства. Но хотелось бы знать, Андрей Иванович: где предел уступкам, на которые следует идти, дабы не раздражать морские державы, и в какой мере мы готовы отстаивать против них уже не чужое, а свое? Сразу скажу: я всецело поддерживаю политику примирения с Англией; однако признать за британцами право указывать пределы русскому мореплаванию и торговле — не считаю возможным.
— Не нужно алармировать, дорогой генерал. Союз с венским двором есть вернейшая гарантия того, что в Европе нам будут оказывать должный респект. Даже если Испания отпадет. Однако надлежит действовать осторожно, избегая всего, что может обострить вражду.
— Никто здесь не собирается понапрасну, из чистого озорства, дразнить Париж и Лондон. Не мальчик, знаете ли. Но четверть века воинской службы убедили меня, что бесконечная ретирада — неподходящее средство для склонения неприятеля к миру. Равно как в дипломатии преждевременные уступки лишь умножают амбицию противной стороны.
— Генерал, вы намерились учить меня дипломатическому искусству?
— Никоим образом. Просто хочу быть уверен, что в случае заключения трактата с Англией вы не одобрите — и даже обсуждать не станете — никакие статьи, стесняющие нашу коммерцию в любой части света. Что наш государь, когда окончательно возмужает, не упрекнет нас с вами в малодушии и недальновидности. Восемьдесят лет назад король испанский выказал слабость; ныне цесарь обнаруживает намерение обменять индийские моря на признание Прагматической санкции; так хоть вы не будьте Исавом, готовым отдать право первородства за чечевичную похлебку!
— Помилуйте, Александр Иванович: разве я похож на Исава?!
— Нет, пожалуй: на хитроумного Иакова больше. Это меня и утешает. Беспокоит лишь приверженность ваша венскому двору, который, мнится, ступил на ложный путь и согласился пожертвовать восточной торговлей в обмен на пустые обещания. Неловко будет занимать для себя торговое место, с коего англичане только что согнали ближайших союзников. Зря Карл Шестой поддался: готов биться об заклад на любую сумму, что передача императорской власти по женской линии все равно без войны не обойдется.
— В последнем пункте не стану с вами спорить, такой оборот действительно вероятен. Впрочем, кардинал Флери неизменно стремится к сохранению мира. По-вашему, кто при дворе французского короля мог бы составить ему оппозицию в сем вопросе?
Беседа перешла на предметы, близкие сердцу Остермана, но не имеющие жизненной важности для меня. Потянув разговор, сколько требовала вежливость, я распрощался, выразив надежду на будущее плодотворное сотрудничество, великодушную помощь и прочая, и прочая, и прочая… Смысла в сих словесных узорах не обреталось ни на полушку. Что вице-канцлер содействовать в учреждении компании не станет, с самого начала было понятно. Мешать… Бог знает. При его осторожности, вошедшей в анекдоты, если будет — то чужими руками. Любое дело можно похоронить в канцеляриях, под ворохом пыльных бумаг, не выказывая противности открыто.
Наилучшим исходом переговоров я бы считал нейтралитет собеседника — но возможно ли на него надеяться, осталось неизвестным, ибо сей изощренный в кознях интриган, по обыкновению своему, никаких обещаний не дал. Скорее, мы с ним расставили некие вехи, обозначив позиции, которые не уступим, и границы, иже не след переходить, если не хочешь нажить смертельного врага. Грядущее таилось в тумане: подводных скал, способных пустить ко дну сей коммерческий прожект, имелось на моем пути предостаточно.
Кто мог послужить лоцманом? Мне был знаком на Москве лишь один человек, соединяющий совершенное знание приказных хитростей с высоким полетом мысли: обер-секретарь Сената Иван Кирилов. Тоже попович, как и Остерман, только не вестфальский, а московский, сделавший к тридцати трем годам карьеру почти столь же блестящую. Его действительное значение далеко превосходило видимый чин: как секретарь изъяснит дело важным персонам, так они и рассудят.
Но и секретарь моих надежд не оправдал. Труднее всего иметь дело с людьми бескорыстными, мыслящими и независимыми. На каждую вашу идею у них найдется иной вариант. Кирилов одушевлен был мыслью об изыскании северного пути на Восток: по его мнению, это устранило бы соперничество с европейцами, открыв для России моря, им недоступные. Он с нетерпением ожидал отчетов капитана Беринга, имеющих поступить в ближайшие месяцы. Ну, а ежели новую дорогу в Индию и Китай откроет казенная экспедиция — казна и должна получать бенефиции с нее! Где тут место приватным компаниям?! Из уважения к заслуженному генералу, обер-секретарь спорил не слишком буйно, — однако чувствовалось, что мои слова его не пробирают. Трезвые аргументы отскакивали от сих воздушных замков, словно картечь от крепостной стены.
В начале ноября, после двух месяцев скакания по лесам и полям, во стольный град воротился царь со всею свитой. Ближайшие к монарху места занимали сплошь Долгоруковы. Я попытался увлечь новоявленных властителей России соблазном богатства. Но и они, при ведомой своей алчности, отвечали на обольщения восточной коммерции как-то вяло: не отрицаясь от участия, принятие решений откладывали на будущие времена. Почему — стало ясно, когда распространилось известие о скорой помолвке княжны Екатерины Алексеевны с государем. Ходили слухи, что отец невесты присмотрел себе чин генералиссимуса, старший братец — «великого адмирала», князь Василий Лукич метит в канцлеры, на место престарелого Головкина. Взять под себя империю и разделить должности — вот что важно и срочно, а торговая компания не убежит! Время шло, дела не двигались. Шепоты «по секрету», закулисные интриги… Остерману грядущая смена начальства пришлась не по вкусу, он стал потихоньку забегать к Дмитрию Михайловичу Голицыну: вероятно, в должности добровольного курьера между Голицыными и четырнадцатилетним государем, не слишком-то жаждавшим надеть на свою шею ярмо брака. Цесаревна Елизавета образовала другой центр недовольства. Ее наметил было себе в трофеи (вместе с адмиральской должностью) молодой Иван Долгоруков, — но принцесса заупрямилась и отвечала, что не выйдет замуж за подданного. Полагаю, это было лишь отговоркой: находились подданные, которых сия очаровательная фея одаривала своим вниманием более чем щедро; однако все лизанькины фавориты, помимо телесной красоты, отличались природной порядочностью и скромностью. Наглецы и скоты у нее успехом не пользовались — а сукин сын Ванька двадцати лет от роду был уже настолько испорчен, что развлекался, насилуя дам, приходивших с визитами к его матери. Не потому, что больше не с кем: исключительно ради пикантности ситуации и наслаждения властью. По дружбе князя с государем, никто ему не смел и слова сказать. Что воистину удивления достойно, после отказа Елизаветы сей высокородный сатир посватался к Наталье Шереметевой, и она (умница, красавица и чистый бриллиант по душевным качествам) влюбилась в эту обезьяну, как в прекрасного принца. О, женщины! Вы непостижимы!
Не имея охоты барахтаться в помойной яме, именуемой высшим обществом, и осознав полную свою бездарность по части интриг, с первым снегом я укатил в гости к Брюсу. По выходе в отставку, фельдмаршал жил отшельником в подмосковном имении. Супруга его умерла прошлым годом, детей не было, племянник беспокоил не слишком часто. Затерянный средь латинских книг и астрономических приборов, Яков Вилимович являл собою вполне вероятный образ моего собственного будущего: увы, уже недалекого. Года летят, и старость (враг неумолимый!) начинает осаду: где-то там, на краю видимости, закладывает первую параллель. Придет время, и беспощадный неприятель ворвется в крепость. Постойте, не так быстро: я же ничего не успел! Но небеса пусты, и жалобы тщетны…
Давний мой друг и покровитель с живым интересом слушал как о новшествах в изготовлении пушек, так и о покорении восточных морей. Его советы полны были выстраданной житейской мудрости.
— Ты, Александр Иванович, отвращение свое к первенствующей ныне фамилии сдержи. Хотя б и были причины, помимо них теперь никакого дела не сделать.
— С ними тоже не сделать. Беда в том, что сибирским вице-губернатором сидит князь Владимир Владимирович, брат фельдмаршала. Понятно, с караванной торговли кое-что имеет. А Остерман, лиса хитрая, предложил Тайному Совету запросить его мнение об учреждении восточной компании, и до получения ответа никакой резолюции не принимать. Попробуй сам догадаться: скоро ли придет ответ и каким он будет?! Кого послушают: меня или родича своего?
— От кого будут ожидать больше денег, того и послушают. Твои прибытки многим на зависть.
— Да уж, с крестьян столько не слупишь! Подушного со всей империи сходит четыре миллиона…
— Три или три с половиной. Недоимки учти.
— Да, Яков Вилимович, верно. Оброки помещикам никто не считал, но, думаю, в совокупности поменьше будут…
— Как знать: в иных имениях рублей до двух с души доходит.
— Только в подмосковных торговых селах. По захолустьям — полтинник, и то много. Не в этом суть — а в том, что в умелых руках торговая компания больше дает дохода, чем целая губерния! В Остенде получали прибыток от миллиона до двух ежегодно. Горстка моряков, купцов и приказчиков. Хочется мне, чтобы хоть верхушка нашего шляхетства сию разницу на собственной мошне ощутила и пожелала оброк променять на дивиденды. Тогда придет время задуматься о неразумии российских законов.
— Ты все еще тешишься этой блажью? У нас не Англия. Дай мужикам волю — они станут жить, как волки в лесу. И так порядка нет, а без хозяйской руки совсем одичают.
— Так воля-то не для них, а для меня! Чтоб невозбранно нанимать любого, который нужен, не спрашивая владельцев! А кто не нужен — пусть живут, как угодно. Хоть шерстью обрастают — мне что за дело?!
— Не по-христиански, граф, рассуждаешь… Отеческое попечение должно быть.
— Три шкуры драть, да девок портить — вот и все попечение крестьянам от благородных. За очень редкими исключениями. Впрочем, черт с ними: я не спорить с тобой приехал. Дай совет: из отставных или отпускных артиллеристов кому поклониться, чтоб моих людей стрелять поучили? Самому некогда.
— Ты что, приватную армию хочешь набрать?
— Флот, Яков Вилимович. Давно уже имею. Полдюжины кораблей своих, да на паях с Демидовым столько ж. Еще два заложены: таких, что впору в линию ставить.
— Так одолжи у Гордона флотских канониров.
— Его канониры суть скопище пентюхов и охреянов: дельные все в турецкую войну от чумы вымерли. К тому же главный в Адмиралтейств-коллегии не он, а Сиверс; линейными же кораблями командует фон Верден. Оба мои недруги с давних пор.
— Ладно. Посоветую, кого вспомню. Завтра, на свежую голову: память уже не молодая.
Беседа вновь вернулась к китайскому торгу. Брюс поднялся, с трудом разгибая поясницу. Подошел к водруженному на отдельный столик двенадцативершковому глобусу.
— На Восточном море фактории христианских народов есть только в южной части оного. Исключая наш Охотский острог. Грех не использовать преимущество, дарованное России от Бога. Каким образом — я тебе, Александр Иванович, не советчик, ибо в коммерции не сведущ. Однако государь Петр Великий не зря на сии отдаленные края царственный взор свой обратил.
— Думал я о том, но как извлечь пользу — не нашел. Понимаешь, Яков Вилимович: есть два способа торговли с Китаем. Европейский и сибирский. На серебро и на меха. Прочие иноземные товары китайцам не надобны. Ну, кроме еще кораллов, да каких-то лекарственных корешков.
— На откуп меховую торговлю тебе не дадут?
— Сам не возьму. Невыгодно! Сава Лукич говорит, что в Пекине и Урге ныне мягкая рухлядь в большом избытке, и запроса на нее нет. Наши перестарались с вывозом, а богдыхан Юнь-Чжэнь воспретил носить платье на меху. Вероятно, с иезуитской подсказки: для удержания денег в государстве. Так что сибирские караванщики соболей чуть не даром отдают, себе и отечеству в большой убыток. У европейской системы — свои недостатки. Иметь бы хоть небольшой серебряный рудничок… Можно и обойтись, конечно: в Англии и Голландии серебра сроду не капывали, а в деньгах недостатка не имеют. И я не буду иметь, коли сохранится возможность китайский чай продавать в Европе.
— Тамошним государям, полагаю, тоже не нравится, что деньги от них уходят.
— В том и дело. Положение в высшей степени шаткое. Где имеют собственный торг с Востоком, стараются не пустить чужой товар всеми средствами. Более-менее лояльны купцы Италии и Германии, кои получат выбор: купить у меня или, скажем, у голландцев. Но за их благосклонность придется бороться с теми же голландцами не на жизнь, а на смерть. Или с англичанами, которые тоже теряют.
— Не слишком сгущаешь краски? Канониров учить собрался… Можно подумать, война!
— Война и есть, Яков Вилимович. За такие деньги — убьют и пардону не спросят. Главное, что мне нужно от наших властей — недвусмысленное заявление, что враждебные действия соперников повлекут репрессалии против их купечества в России.
— Ну-у-у, дорогой мой Александр Иваныч, этого ты от Остермана с Головкиным не добьешься!
— Надеялся добиться от Долгоруковых. Но, честно говоря, сомневаюсь в успехе. Ставил на людскую алчность — однако у этих лень преобладает даже над алчностью. Присосаться к казне и почивать на лаврах, вот их метода.
— Ты слишком нетерпелив. Пойми, двор озабочен другими делами. Большая охота кончилась, пройдет и царская свадьба. Вот когда все уляжется… Надо выждать. Блаженной памяти государь император Петр Алексеевич уж на что бывал скор — и то, случалось, грамот на заморскую торговлю купцы годами ждали.
— Он занят был. Отнюдь не ловлею зайцев, как ты знаешь. Хотя в предпочтении сих зверей челобитчикам есть определенный резон: зайцы убегут, а люди никуда не денутся. Последнее время совсем дураком себя чувствую. Ладно, служба моя здесь никому не нужна — но деньги!
Вернувшись в Москву, я убедился: война идет и тут. В мое отсутствие на компанейскую контору напали разбойники, убили Матвеича, перевернули все вверх дном. Сокровища, понятно, искали: не пришло татям на ум, что крупная коммерция — это не сундуки с золотом, а векселя и ассекурации. Шайка многочисленная (десятка два или три) и наглая беспредельно. Приказчики мои разбежались; городская стража из обывателей, с дубинами и трещотками, попряталась и притаилась; даже гарнизонная воинская команда предпочла не вступать в прямой бой с ворами, а пугать оных издали выстрелами в воздух. Так и ушли безнаказанно. В ответ на претензию губернатор Плещеев развел руками:
— Так сколько месяцев коллегия жалованье задерживает. Даром лезть на нож — дураков нету. Еще слава Богу, сами на похищение не кинулись. Прошлой весной, пока ты в Китай плавал…
— Я, Алексей Львович, в Китае не был. Дальше Испании не забирался.
— Да неважно. Словом, приключился пожар в Немецкой слободе. Гвардейские солдаты, коим велели тушить, стали вместо этого врываться в дома и грабить, грозя хозяевам топорами. Прямо на глазах офицеров! Думаешь, хоть одного наказали?
— Неужели так с рук и сошло?!
— Гренадеры все были замешаны. А капитаном у них…
— Князь Иван Алексеевич. Понятно.
— А то еще был случай: сержант крепостную пушку продал. Как только утащить сумели: все-таки восемьдесят пудов!
— Кому продал? Разбойникам?
— Им, родимым. И знаешь: никто пропажи не заметил! Случайно вскрылось, через год с лишним. Совсем нижние чины страх потеряли.
«А вышние — совесть», вертелось на языке; однако вслух произносить обидные речи было бы неполитично. Струхнувшие приказчики тоже избежали упреков. Никто не готовил их к вооруженному отпору; конторский особняк вовсе не приспособлен к отражению внезапных атак. У меня и мысли не было, чтобы в столице империи, под носом у главноначальствующих лиц, поставить не дом голландского образца, а блокгауз с бойницами вместо окон и сильным гарнизоном внутри! Отписал в Тайболу, дабы прислали людей из числа заводской стражи; большой амбар велел утеплить и приспособить под жилье.
Сие маловажное, по видимости, происшествие с разбойниками надолго привело меня в злобное и противуправительственное расположение духа. Шатость основ государства; утрата последних проблесков порядка и законности; губительная праздность властителей — сколько можно это терпеть?! Не пора ли что-нибудь сделать?!
Господство Долгоруковых держалось на князе Иване; моральных аргументов против его умерщвления имелось не более, чем против казни постельного клопа. В дыму и грохоте фейерверков, без которых в России не обходится почти никакой праздник, скрыть выстрел нетрудно. Сбить с пути розыск — тоже, после упразднения Преображенского приказа и Тайной канцелярии. Другое останавливало: будет ли от предприятия толк? Фаворит приобрел значение не трудами и талантами, а потворствуя дурным страстям плохо воспитанного отрока. Страсти эти никуда не денутся, потворщики новые моментально найдутся. Вокруг царя отирается целая шайка молодых бездельников самого гнусного пошиба. Как бы хуже не стало! Взять прицел выше? Здесь уже препятствия возникали, как морального плана, так и династического.
Я выиграл бы от смены государя лишь в одном случае: если б его преемницей стала Елизавета. Цесаревна относилась ко мне весьма дружелюбно, чему немало способствовали гостинцы из Китая. Тончайший, просвечивающий под блеклым осенним солнцем фарфор; великолепный шелк золотистого цвета, с драконами (и с разъяснениями, что сей цвет подобает лишь императору и ближайшим родичам его), — все это не оставило бы равнодушной ни одну женщину на свете. Конечно, подарки царю были еще дороже — однако не пробудили в его душе добрых чувств.
Главная проблема состояла в порядке сукцессии престола. По завещанию Екатерины, в случае бездетной смерти Петра Второго трон переходил вначале к старшей дочери и ее десцендентам, затем уже — к младшей. Анна Петровна умерла; если бы без наследников — шел бы черед Елизаветы; но в Голштинии жил полуторагодовалый Карл-Петер-Ульрих, которому и следовала российская корона после двоюродного брата. Разумеется, нынешний император мог переменить волю неродной бабки — но способны ли вы вообразить четырнадцатилетнего юнца, составляющего завещание?! Губить еще одного младенца последовательно — как-то чересчур… К тому же молодой царь вовсе не лишен был добрых качеств, а временами — благих намерений. Нравственной силы не хватало, чтобы сделать выбор между добром и злом. А у кого хватило бы в этом возрасте? Явно проступающие во внешности отрока черты великого деда подавали надежду на перемены по мере взросления (чего намного дольше пришлось бы ждать от маленького голштинца, и Бог весть сколько — от легкомысленной Лизеты). Да и смута по смерти последнего в мужеской линии потомка Петра Великого могла разразиться нешуточная.
Что обещало положить конец долгоруковскому засилью безо всякой пальбы, так это постепенный поворот в умах. Безмерными амбициями и нежеланием делиться властью господствующая фамилия стяжала всеобщую ненависть: им льстили в лицо и показывали кукиш в спину. Они возлагали надежды на брак с государем — но злопыхатели справедливо указывали на крайнюю холодность Петра в отношении к невесте. Княжна Екатерина платила жениху той же монетой, будучи влюблена в состоящего при цесарском посольстве графа Миллезимо. Толковали, что предполагаемая царица кончит монастырем, а родственники ее — Сибирью. Заносчивые князья презирали шепоты за спиной, не думая и не замечая, что идут путем Меншикова (кстати, из Березова пришло известие о смерти Светлейшего, приключившейся от грудной болезни). Они полагали, что могут пренебрегать общим мнением. Напрасно! Это громадная сила при любом государственном устройстве: разница лишь та, что в республике оно проявляется баллотировкой, в самодержавной монархии — тайными заговорами.
Помнится, в гостях у Болингброка приятель хозяина, поэт Александр Поуп, читал на память старинную пиэсу: там некий принц мучился сомнением, впутаться ему в грызню вокруг трона или предоставить событиям идти своим чередом. Нерешительность, как это обыкновенно бывает, не привела ни к чему хорошему. Однако, взвесив все резоны, я тоже склонился к выжидательной тактике. Вооружившись терпением, отложил решительные действия и смирился с задержкой грандиозных планов. На вопросы жаждущих вложить деньги в заморскую коммерцию — лишь разводил руками и многозначительно указывал вверх: как хочешь, так и трактуй. Трактовали большею частью здраво, и народной любви Долгоруким сие не прибавляло. А скоропалительное вмешательство в жизненные сроки августейших персон мнилось преждевременным и неуместным.
Но там, за гранью мира сего, рассудили иначе.
В тумане междуцарствия
Все расчеты и упования людские ничтожны перед волей судьбы. Еще недавно в Лефортовом дворце (где обитал государь после переселения в Москву) готовились к свадьбе — теперь к похоронам. Черная оспа превратила порфироносного отрока в хладный, покрытый коростою, труп. С первыми же признаками болезни началась атака на Долгоруких, вначале словесная. Их упрекали в подрыве здоровья государя через вовлечение в бесконечные охоты, пьянки и прочие несвойственные возрасту развлечения. Услышав сие от придворных сплетников, я разъяснил им свойства оспенного недуга — и тем, вероятно, способствовал выработке более зрелой версии обвинений. Стали говорить, что кто-то из фамилии продолжал являться ко двору, имея у себя дома больных оспой, и через то заразил императора.
Другие политически значимые персоны тоже не избегли жал змеиноязычной молвы. Цесаревна Елизавета перестала выходить в свет: то ли по нездоровью, то ли опасаясь разделить участь племянника (кстати, перспектива утратить красоту и остаться рябой пугает многих девушек хуже смерти). Тут же — молниеносно, как пожар по сухой соломе — распространился слух о ее беременности. Подумайте, дескать: может ли непотребная девица претендовать на трон?!
Голштинского принца очернить никто не пытался, потому что незачем. И так было ясно, что с ним явится в Москву батюшка-герцог — и снова начнет запрягать Россию в игрушечную тележку своих мелкопоместных интриг. Три года назад чуть в большую войну из-за него не вляпались — совершенно, по интересам империи, ненужную. Желания вновь усадить голштинцев себе на шею средь высших чинов заметно не было.
Грязномарательные сплетни завелись еще при живом царе, усиливаясь соразмерно тяжести его состояния. Когда стало ясно, что престол станет вакантным в течение часов, сановники сами, без объявления, потянулись в Лефортово. С притворной печалью на лицах, они готовились к междоусобной борьбе.
Обдумав свои возможности, я заранее отказался от всякой самостоятельной линии. Формально оставаясь иноземцем по вере и подданству, не имея ни влиятельной партии, ни войск в подчинении — на что можно посягать?! По темным и ненадежным известиям, Долгоруковы собирались учинить наследницей нареченную невесту государя, княжну Екатерину. Можно было догадаться, что поддержки они не найдут: все остальные сплотятся против них — и осилят. Чтобы сменить династию, надо обладать моральным авторитетом; нужны успехи не только в казнокрадстве и разврате. А самая сильная фигура… Чем ниже падала в глазах публики долгоруковская фамилия, тем выше поднимался Дмитрий Михайлович Голицын: ныне к нему готовы прислушаться и друзья, и враги. Пожалуй, за его плечом — самое безопасное место.
Заполночь вышли в огромную полуосвещенную дворцовую залу из внутренних покоев архиереи, совершавшие над умирающим юношей таинство елеосвящения.
— Государь император Петр Алексеевич почил с миром.
Разбрызгивая бриллиантами тусклые отблески свечей, сенаторы и генералы принялись креститься. Кто-то из Долгоруковых объявил, что избрание нового государя состоится завтра в десятом часу утра в палатах Верховного совета, куда приглашаются и синодальные члены. Духовные уехали, светские же остались — и началось предварительное совещание, без протокола.
Ловким маневром устранив духовенство, враждебная партия, кажется, избавилась от любых препятствий со стороны совести. Князь Алексей Григорьевич потребовал престола для своей дочери, потрясая некой бумагой, якобы письмом покойного государя, — однако вблизи смотреть не давал, да никто и не стремился. Смотрели в другую сторону, на фельдмаршала Василия Владимировича. Только он, будучи подполковником в Преображенском полку, мог бы поднять гвардию. Но самый уважаемый (и самый здравомыслящий) из фамилии хранил молчание, ни словом, ни жестом не выказывая поддержки родичу. Стало быть, среди Долгоруких нет единства?! Вздохнули с облегчением. Кто-то попытался вытащить из глубокого забвения монахиню Елену, сиречь Евдокию Лопухину, коротавшую старость в Новодевичьем. Не стали слушать: иноческий обет — не шутка. Наконец, заговорил Голицын. Сразу настала тишина.
Помня, что Дмитрий Михайлович не признаёт второй брак Петра Великого законным, я все же не ожидал, что он решится вот так рубить с размаху. В другое время, может, и не решился б, но теперь… Настал его час. Из уст князя лились не просто слова: скорее, готовые, глубоко продуманные статьи. Безжалостный звон меча Фемиды слышался в них. Формулировки, отточенные и блестящие, как орудие палача, напрочь отсекали от престолонаследия потомство Екатерины. Логически безупречная цепь рассуждений выводила на единственную персону, годную для занятия престола…
Анна?!
Мне это даже на ум не приходило! Большинству присутствующих, видимо, тоже. И все же Голицын был настолько убедителен, что у всех будто бельма с глаз упали. «Согласны!» «Что еще рассуждать?!» «Выбираем Анну!» — раздались дружные крики. Откуда-то появился прятавшийся дотоле Остерман (сие означало, что момент неопределенности благополучно пройден) и с радостью присоединил свой голос к общему хору. Смирившись с неизбежным, я тоже спорить не стал.
В самом деле, почему бы не Анна?!
Цесаревну, конечно, жаль. Хотя, возможно, для нее это к лучшему? Править империей — не женская работа. Тяжкая, кровавая и бесповоротно обременяющая совесть. Во всяком случае, для юной очаровательной девушки уж точно не подходящая. Вдовая герцогиня курляндская, конечно, тоже дама… Однако из многочисленных дам императорской фамилии — самая мужеподобная. Ростом на голову выше большинства кавалеров, мощного сложения, неглупая. И кстати — любительница пострелять из ружья!
Меня устраивает.
Князь Дмитрий Михайлович глядел триумфатором. Так привести к единому мнению все разнородные факции — великолепная политическая победа. Ганнибаловы Канны, если сравнивать с воинским искусством.
Во взоре победителя промелькнуло что-то непонятное… Какая-то затаенная мысль? На что там Ганнибал не отважился? Поход на Рим?!
— Передай мои поздравления супруге, Иван Ильич. — Громкий шепот за спиною отвлек на секунду. Два генерал-поручика: Семен Салтыков и знакомый мне еще с нарвской осады Дмитриев-Мамонов. Оба просто светятся от счастья, с трудом блюдя наружно траурный вид. В других частях толпы тоже начались шевеления. Сановники устали: ночь на исходе. Минута — и все разойдутся. Ну, что там припасено у князя Дмитрия?! Сейчас или никогда!
— Надо бы нам воли себе прибавить. — Голицын решился, наконец, высказать задуманное.
— Хотя и начнем, да не удержим. — Василий Лукич Долгоруков ответил так скоро, будто идея сия не была для него неожиданной.
— Право, удержим. Надо завтра же, написав, послать к Ее Величеству пункты.
Тем совещание и окончилось. Кто-то уехал из Лефортова, надеясь перехватить хоть пару часов сна за остаток ночи; кто-то остался здесь дожидаться близкого рассвета. Поутру не только внутренность дворца, но и окружающее пространство было заполнено людьми. Громадное число шляхетства съехалось праздновать свадьбу государя (назначенную на тот самый день, в который он умер). Теперь все они были здесь.
Расталкивая мелкопоместных зевак, слуги очистили мне путь. Но в святая святых, где заседал Верховный Тайный Совет, и превосходительствам ходу не было. Сенат, Синод и генералитет ожидали наравне с благородиями. Около десяти часов члены Совета вышли к собранию, и канцлер Головкин объявил, что корона российская, по единодушному решению их, следует герцогине курляндской, однако требуется согласие всего отечества в лице собравшихся чинов. Согласие не замедлило явиться — столь же единодушное, разумеется. Кое-кто потянулся к выходу, считая дело оконченным — их воротили. Владыке Феофану на предложение отслужить благодарственный молебен в Успенском соборе велено было подождать. Отцы нового порядка государственного испытывали явное смущение. Надлежало вывести сие детище в свет — но не хватало духу предъявить народу зачатого ими ублюдка. Они не осмелились официально обнародовать пресловутые «пункты», хотя кулуарно текст оных передавался из уст в уста и вовсю обсуждался.
На следующие две недели Москва уподобилась квашне с опарой. В недрах ее происходило тайное брожение. Твердо положив себе не лезть туда, где приобретать нечего, а потерять можно много, я все же не устоял. Испросил у Голицына приватную аудиенцию.
— Князь Дмитрий Михайлович! Мне, как иностранному подданному, невместно входить в иные дела — но после столь долголетней службы душа болит за империю. С искренней печалью созерцаю нарастающую вражду, могущую привести к дурным следствиям, и хотел бы выступить примирителем…
— С кем?! Какое примирение может быть с бунтовщиками, таящими сюбверсивные замыслы?! Долг и присяга обязывают вас немедленно доложить об их планах, если они стали вам известны!
— Помилуйте, ни о каких планах мне не ведомо. Речь о недовольстве ограничением власти Ее Величества, охватившем ныне широкие круги шляхетства, но ни во что определенное пока не вылившемся.
— Широкие круги? Вы преувеличиваете.
— Дай Бог, если так. По моим впечатлениям, решительное большинство офицеров, особенно гвардейских, отдает предпочтение самодержавствию. Бороться с подобными настроениями путем арестов и ссылок… Оставьте сие занятие тем, кому жизнь недорога.
— Александр Иванович, достойный офицер при любых обстоятельствах будет повиноваться своему фельдмаршалу.
— Если не получит иной приказ от начальства еще более высокого.
— Вы хотите оставить государственное устройство, как было при Петре Великом? Так не получится. Просто потому, что другого Петра Великого взять негде.
— Я хочу, Дмитрий Михайлович, чтобы борьба партий не переходила в ссылки и казни. Россия слишком бедна образованными и опытными в делах людьми, чтобы населять ими сибирские тундры.
— Думаете, я стремлюсь к иному? Всякий благонамеренный человек вправе надеяться на мою поддержку и защиту. Тех же, кто переходит пределы, установленные законом, наказывать можно и должно.
— Разумеется. Но что есть закон? Regis voluntas? Или salus populi? Уж не говорю о воле Божьей, ибо трактующих оную вкривь и вкось — легион. Поверьте: я не враг вам и князю Михаилу Михайловичу. Мне больно видеть, как множатся ваши зложелатели. А ведь из них большинство вполне можно сделать друзьями: надо всего лишь слушать их мнения и считаться с их интересом.
— Дорогой граф, я верю в вашу дружбу, даже если в знак оной вы на меня возводите напраслину. Укажите, коль вас не затруднит, кого и когда мне случилось прогнать, не выслушав и не дав должной резолюции?!
— Вероятно, никого; но речь не о личных добродетелях, в коих вам равных немного — а об институциях политических. Еще при государе Алексее Михайловиче на Руси был в ходу прекрасный обычай: созывать в трудное время, для совета с подданными, Земский собор. Не считаете, что в связи с нынешними событиями стоит его возродить?
Не похоже, что мне удалось убедить собеседника, но развеселить — безусловно. Лишь вежливость не позволила ему рассмеяться.
— Ну уж от вас, граф, не ожидал: экую замшелую древность из дедовских сундуков вытащили! Представьте, что мы исполним сие пожелание и призовем в помощь генералитету провинциальных подьячих и засидевшихся в имениях нетчиков. Что они нам с вами нового скажут?!
— Нетчики и подьячие, может, и ничего. А вот купцов и крестьян послушать, не в ущерб шляхетству, конечно… Зачем вы на меня, князь Дмитрий Михайлович, как на чудо заморское, глядите? В шведском риксдаге мужики представлены; у нас при избрании царя Михаила без подлого люда тож не обошлось. У поляков, правда, неблагородных никуда не допускают — но это не то государство, которое стоит брать за образец.
— Вам, Александр Иванович, фортуна благоволит в коммерции, а равно на поле брани. Вы поступите мудро, прилагая свои способности там, где понимаете толк, — и не мешаясь в гражданское правление.
На том и окончилась беседа. Воистину — хуже слепого, кто не хочет видеть! Умнейший, вроде бы, человек… Не нравится русская старина — возьми за образец английскую систему, или шведскую: все уже готово, ничего не надо придумывать! Нет, он лепит домодельного уродца, где самовластие священной особы монарха заменено самовластием кучки несвященных особ — а все остальные пребывают в прежнем рабстве!
Ну и черт с ними, — сказал я себе, — пусть пропадают! Однако вскорости показалось, что затея готова увенчаться успехом. Курьер из Митавы привез согласие Анны принять трон на всех условиях Голицына. Генералитет, вновь созванный в Лефортово, с угрюмым молчанием слушал радостные речи князя. Обещание императрицы «ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать» закрывало путь на вершину остальным честолюбцам. Вопрос, не жирно ли Долгоруким держать четыре места из восьми, вертелся у каждого на языке — но не слетал с него, ибо кругом стояли вооруженные гвардейцы, а в самом собрании был арестован Ягужинский за попытку учинить собственную, в обход Совета, корреспонденцию с государыней. Примечали, что старое соперничество Голицыных и Долгоруких исчезло без следа. Теперь они вместе охраняли от прочей публики ловко уворованную власть.
Когда на другой день обратился ко мне советник Татищев, один из вождей зачинающегося движения против «верховников», и предложил подписать протестацию на непорядочное устройство государства, я вновь отговорился иноземным происхождением — впрочем, бумагу его прочел.
— Василий Никитич, в твоих соображениях много разумного; сразу видно, что в Стокгольме не тратил время даром. Только вот у шведов четыре сословия призваны к обсуждению дел: дворяне, духовные, бюргеры и крестьяне; а у тебя — одно. «…На ваканции выбирать обществом генералитету военному и статскому и шляхетству».
— Духовные в сих делах — совсем не у места. Всякому чину — своя должность, правление же государственное от века поручено дворянству. О мужиках помещики пусть заботятся, а купечеству никто не мешает подавать прошения о своих нуждах через Коммерц-коллегию. Зело удивительно есть, Александр Иваныч, что тебе столь простые вещи приходится объяснять.
— Через Коммерц-коллегию… Да понимаешь, не припомню что-то в передней у князя Дмитрия Михайловича толп челобитчиков. А должны быть толпы, если б они там искали — и находили — помощь и защиту. Нужда в сем великая: если уж я не могу по своему запросу добиться резолюции, что говорить тогда о нечиновных?! Надобно место, где всякого состояния люди могли бы сказать о своих бедах — с надеждой, что правители их услышат. Пусть дворянство пользуется заслуженными преимуществами: нисколько не посягаю на них. Но справедливость и великодушие требуют дать и другим хоть каплю влияния на дела. Ладно, оставим попечение о помещичьих крестьянах владельцам — а черносошным почему бы не дозволить выбирать ходатаев за себя? Равным образом духовные лица — ну, если они здравомыслящие и просвещенные — и в светской жизни могут быть полезны. Кто-то должен напоминать вельможам о каре Божией.
— Ладно, уговорил. Найдешь просвещенных попов или политично мыслящих крестьян — сразу зови меня. В момент сей прожект похерю и другой напишу. Да только, мнится, девку с рыбьим хвостом отыскать легче.
— Ты разве с преосвященным Феофаном не знаком? А желаешь разумных мужиков увидеть — приезжай в Тайболу. Там у меня, считай, целый город, правит которым коллегия мастеров. Большинство из моих крестьян, жалованных или купленных. Уверяю тебя: по чистоте, порядку и доброму устройству хоть бы и с Голландией сравнить не стыдно.
— А без тебя они бы этакий парадиз сотворили?
— Туше! Нет, конечно. Трудов много вложено, и без кнута не обошлось. Но вот уже сколько лет сами справляются, не требуя плотной опеки. Русский мужик умен и переимчив, и при удобных обстоятельствах никакому европейцу не уступит.
— Да знаю. Сам в Катерининске начальствовал, если ты позабыл. Только обстоятельства наши почему-то всегда неудобные. К таковым и считаю нужным применяться, а не тешить себя беспочвенными мечтаниями.
Вот такая на Руси политика: самые светлые головы обеих партий всех, кто ниже шляхетства, в упор не видят и едва за людей считают. Как там Голицын сказал? «Надо бы нам воли СЕБЕ прибавить»? Честно сказал. Себе, кому же еще?! Двум фамилиям княжеским. Другие хотят воли тоже «себе», только их круг — чуть пошире. Сотая часть русского народа, примерно. Остальным — шиш, и даже менее того. Мир устроен просто: чтоб одним прибавить, надо у других отнять. Благородное сословие не чувствует ни малейших угрызений, торгуя согражданами (русскими и православными!) словно скотиной. Как объяснить, что это дурно?! Не понимают, хоть тресни! Лучшие из них не прочь порассуждать о строгом, но милосердном обращении с рабами. А большинство живет, как в раю, не ведая добра и зла. Этим только дай волю: станут людьми торговать не то что врознь от семьи — частями на вес!
Африка где-то близко. Не географически — нравственно. Магометане, как ни обидно, выше. Их закон дозволяет порабощать лишь иноверцев.
Одержимый печальными мыслями, бродил я по коридорам Лефортова дворца (куда езжал ежедневно, чтобы не дать подозрений в нелояльности), и в дальнем крыле, куда мало кто заглядывал, встретил фигуру, сему настроению созвучную. Опущенная голова, поникшие плечи; улыбчивые прежде губы искривлены скорбной гримасой; прекрасные голубые глаза полны недоумения и обиды.
— Ваше Высочество? Прости, Лизавета Петровна. Не в моей власти было тебе помочь.
— Александр Иваныч, миленький… За что они меня так ненавидят?!
Долго копившиеся слезы прорвали оборону приличий; рискуя оцарапать нежные ланиты о жесткое золотое шитье мундира, бедная цесаревна ткнулась носом в мое плечо. Рыдания сотрясали гибкий стан. Ну что за несдержанность, не подобающая августейшей фамилии?! Или впрямь девушка беременна? Не спросишь ведь…
— Полно, будет… Не плачь… Кто тебя обидел — Бог накажет…
Давно ли я катал прелестного десятилетнего ребенка на огненной машине вокруг клумбы в Летнем саду? Девочка выросла; умерли отец и мать; милая сестра вышла замуж, уехала в далекую Голштинию и тоже умерла там, на чужбине… Жалость и нежность подступили: захотелось утешить, обнять — не как женщину, которую желаешь, а словно как собственную дочь — непутевую, но любимую.
Дщерь Петра Великого всхлипнула еще раз напоследок — и совладала с собою.
— Мне не нужен трон. Никогда для себя не хотела, если бы предложили — не взяла б. Но зачем они так… Батюшка их возвысил…
Алые губки вновь начали дрожать и кривиться. Еще бы: до смерти обидно, когда из наследников разжалуют в бастарды.
— Это власть, цесаревна. Власть — пьяней вина и желанней любви; одержимые властолюбием забывают и долг благодарности, и все человеческие чувства. Ими движет один лишь холодный, бесчеловечный расчет. А шатость в престолонаследии… Мы часто слышим, что дворянство — опора трона. Но когда опора единственная, можно ли ждать устойчивости? Как человек на одной ноге, государство будет терять равновесие от малейшего толчка. В Европе давно это поняли…
На меня накатил приступ красноречия. Соображения о балансе между сословиями, о должности государя как верховного арбитра, о значении городских промыслов и торговли в государственной экономии — легко изливались словами, понятными даже двадцатилетней красавице. Как ни удивительно, оная красавица слушала: похоже, удары судьбы пробудили в ней дремавший доселе разум. Дети, которым все блага земные достаются по праву рождения, не чувствуют нужды в упражнении ума и воли. Только ледяная купель невзгод выявляет, кто из них годен к суровым испытаниям жизни.
— Не все потеряно, цесаревна. Люди знают, чья в тебе кровь, и никакой Тайный Совет сего не изменит. Ты моложе тетушки семнадцатью годами, крепче здоровьем… Уж не стану говорить, кто из вас красивей. Только надо многому научиться — и не забывать, что фортуна благоволит предусмотрительным.
Неуверенная, но благосклонная улыбка была мне ответом.
Сей разговор не преследовал дальних политических видов: скорее, в нем выплеснулась обида, сходственная с лизочкиной. Ненужность моя нынешним властителям чувствовалась на каждом шагу. Разве что взашей не гнали. Ответить переходом на сторону врагов Голицына? При всей обоснованности подобного шага, он все-таки отдавал предательством. «Чума на оба ваши дома», повторял я себе; а Татищеву при следующей встрече сказал, что готов служить России при любом устройстве правительства. Единственным лекарством от уныния служили приватные дела.
Изобилие свободных денег позволило развернуть ряд прожектов, отложенных ранее по недостатку средств. В Тайболе начали отлаживать новый способ сварки ружейных стволов. Никифор Баженин заложил для меня два новых судна по французским чертежам. Возобновились опыты с винтовальными ружьями.
За время моего отсутствия новоманерным фузеям (уцелевшим только в Низовом корпусе) был нанесен тяжкий, хотя и непредумышленный, удар. «Верховники» упразднили Преображенский приказ, сей мрачный памятник минувшей эпохи, не подумав (а вернее, просто не зная), что единственная лаборатория, изготовляющая «очищенную селитру», как раз при этом учреждении и состоит. В видах сохранения тайны, лишь двое мастеров владели секретом. Один из них сразу по выходе в отставку помер, другой исчез без следа: судя по дальнейшему, не перебежал на службу враждебной державы, а просто, наскучив неволей, спрятался. Это дворянину в России никак не затеряться — мужику запросто.
Так что пришлось самому восстанавливать полузабытые химические тонкости, а потом учить им новых работников. Как и двадцать лет назад, присущая русским людям беспечность доставила много хлопот: не обошлось без отравлений и взрывов. Зато обнаружились любопытные свойства ядовитой эманации, не замеченные мною раньше из-за чрезмерной целеустремленности. Она сильнейшим образом обесцвечивала краски и чернила, отбеливала бумагу и ткань, а в малом количестве оказалась превосходным средством от насморка. Ничего удивительного: многие яды оборачиваются лекарствами при надлежащей дозировке. Недрогнувшей рукою я лишил род человеческий этих благ, под смертною казнью обязав посвященных молчать. Для выработки надлежащей аккуратности заставил помощников очищать полученную субстанцию способом двойной перекристаллизации с нагревом раствора до кипения и охлаждением на льду — и был вознагражден. Смесь псевдо-селитры с размолотой серой и толченым кремнем теперь не портилась от времени! Ну, если в сухости держать, конечно.
Впрочем, срочной нужды в ударных воспламенителях армия не заявляла: после исчезновения оных новоманерные ружья переделали под кремневый замок и единственный зарядный вкладыш. Судя по докладам Левашова и Румянцева, оставшейся огневой мощи вполне хватало. Грешным делом, подумалось: может, и правильней будет отступить на столь удобную позицию? Делать оружие сравнительно дешевое и не требующее сверхъестественных усилий для поддержания в годном к бою виде. Кроме того, ожидали воплощения новейшие инвенции.
Во-первых, я готовил на испытание ружье де ла Шометта (куда деваться от гугенотов?!), запатентованное в Англии лет восемь назад. Казнозарядное, нарезное, довольно остроумной конструкции. Вопрос был, сколько оно прослужит в грубых солдатских руках. Во-вторых, мнилось возможным упростить и ускорить заряжание обыкновенных дульнозарядных штуцеров, используя эффект Лейтмана. О сем последнем стоит сказать подробней.
Санкт-Петербургская Академия, созданная Блюментростом и Шумахером по указу Петра Великого, мне тогда представлялась не скажу, чтобы совсем ненужным — но преждевременным и не вполне уместным заведением. Примерно как золотая пряжка на лохмотьях нищего. Чисто немецкий анклав, от профессоров до студентов, — какая польза России от обучения немецких юношей на русские деньги? Десяток школ, уровня Навигацкой, был бы полезней. Однако среди академиков и адъюнктов затесались несомненные таланты: Даниил Бернулли, Леонард Эйлер и ряд других, помельче. Профессор механики и оптики Иоганн Лейтман звезд с неба не хватал, зато интересовался штуцерной стрельбою и сделал ряд интересных наблюдений. Одно из них касалось продолговатых пуль.
Он заметил, что свинцовый цилиндр (длиною в два калибра и более) претерпевал в момент выстрела небольшое, но заметное сжатие по продольной оси и одновременно чуть утолщался. Этого хватало для вхождения в нарезы, если первоначальный зазор между пулей и стволом не превышал одной точки, сиречь десятой части линии. При надлежащей аккуратности изготовления того и другого, виделось возможным заряжать штуцер без пластыря и молотка — с такой же легкостью, как обыкновенный мушкет. Помимо прямого результата, успех означал бы мое торжество над Брюсом и Минихом (обоими сразу!), которые не оценили находку, хотя знакомы были с Лейтманом гораздо ближе. Уже ради этого стоило продираться сквозь жуткие дебри готического шрифта, коим отдруковал чудаковатый немец свой прошлогодний трактат.
Еще до Рождества, сразу после разбойничьего набега, я скупил соседние с компанейским домом владения. Весь квартал: чего мелочиться?! Лишние постройки снес, остальные приспособил для своих нужд. Архитекторы и строительные подрядчики вились, как пчелы вокруг сладкого, ожидая заказа на дворец с обширным парком. А вот им шиш! В середине участка, с письменного дозволения губернатора Плещеева, устроено было небольшое стрельбище. Короткое, шагов на двести. По периметру — жилье и мастерские для вызванных с завода оружейников. Работа пошла! В иные дни пальба стояла, как на поле брани: теперь и самый бесстрашный разбойник не отважился бы перелезть высокий забор.
Когда новая государыня въехала в Москву, я спохватился и велел притихнуть на время. Но было поздно. Нелепые слухи успели расползтись. Одни говорили: Читтанов готовит команду головорезов, чтобы перебить «верховников» прямо на присяге в соборе; другие, напротив, утверждали, что сей отряд предназначен для защиты Голицыных от их врагов. Моим оправданиям никто не верил. Даже императрица спросила на одном из первых официальных приемов: «С кем это вы, генерал, воевать собрались?» «С кем Ваше Императорское Величество прикажет», — вылетел мгновенно из моих уст придурковато-бравый ответ, и в ту же секунду всплыло в памяти, что объявление войны и заключение мира отнесено пресловутыми «кондициями» к компетенции Совета! Князь Василий Лукич готов был просто испепелить меня взглядом — однако огнеметательной силы недостало. Несколько дней и ночей прошли тревожно, в опасении ареста. Нет, тишина! Сторонники аристократического правления сами боялись нарушить резкими мерами шаткое равновесие. Во знаменитый день восстановления самодержавства я держался в стороне и ничего не подписывал — тем не менее, в память сей необдуманной фразы, причтен был к наиболее благонадежным. Правда, в новоназначенный состав Сената не попал: туда включили только российских подданных; из иноземцев — одного Остермана. Где уж мне состязаться в пронырливости с Андреем Ивановичем! Пришлось довольствоваться членством в Военной коллегии.
Зато пропозиции мои о торговле с Востоком приняты были августейшей повелительницей благосклонно. Пустота в казначействе давно приобрела характер злокачественной болезни: недаром первые указы новой императрицы касались именно финансов. Сбор податей и взыскание недоимок стали производить со всей жестокостью, возродив методу воинских экзекуций. Государыня обнаружила властный и твердый характер, коего никто не подозревал в митавской затворнице. Ласковое поначалу обхождение день ото дня становилось круче. Коль приказала рассмотреть и решить дело об учреждении торговой компании — положить под сукно высочайшее повеление не посмел бы никто.
Но если вы думаете, что в скором времени воспоследовала окончательная резолюция — вы не знаете, как в России дела делаются. Есть государственная мудрость — а есть государственная дурь. Вот сия последняя и поперла наружу при обсуждении в коллегиях и самом Сенате. Почему бы, дескать, не сделать столь выгодную коммерцию монополией короны? «Делайте», — отвечал я. — «Только на меня не рассчитывайте, ибо выйдет у вас, как с последним китайским караваном. Соболей, московской ценою в четыре рубля, за рубль с полтиной в Пекине отдают. И то удачей почитают, иначе моль даром съест».
Сие указание на степень коммерческих талантов чиновного люда несколько отрезвило радетелей казны. Главное же, сыскать в закромах отечества полмиллиона серебром на первое плавание не представлялось возможным. Без приватных вкладчиков — не набрать денег! Начались поиски компромисса. Все испортил приехавший из Камчатки капитан Беринг, доложивший, «…что тамо подлинно северовосточный проезд имеется, таким образом, что с Лены, ежели бы в северной стране лед не препятствовал, водяным путем до Камчатки и тако далее до Япона, Хины и Ост-Индии доехать возможно б было». Пошли споры, что легче преодолеть: полярный лед или враждебность держав. Северный путь, несомненно, заслуживал изучения; однако многие возмечтали о немедленной посылке по нему торговых судов, и сия химера отвлекла силы от главного фрунта, препятствуя нахождению согласия.
Пока мое дело ни шатко ни валко продвигалось в коллегиях, прежних властителей России постигла расплата за грехи. Сразу после Пасхи в Сенат был спущен высочайший указ, пославший Василия Лукича Долгорукова в Сибирь (пока еще губернатором), Михаила — на ту же должность в Астрахань, ненавистного всем Алексея Григорьевича с сыном Иваном и прочим семейством — в дальние деревни. Фельдмаршала Василия Владимировича не тронули. Неделя не прошла, как вдогонку первому указу полетел другой, более суровый. Не доехавшего до Сибири губернатора поворотили жить в дальних деревнях под крепким караулом. Успел ли он добраться туда — Бог весть, потому что третий гром разразился над падшей фамилией: велено ему было в Соловки. Однородцы, вместо начальства отдаленных провинций, получили казенные квартиры в Березове и Пустозерске. Вотчины княжеские попали в конфискацию.
При всем нерасположении моем к Долгоруким, их падение легло на душу тяжким предвестием. Царь Петр поступал иначе в гневе: сразу назначал высшую кару, после чего виновный вправе был надеяться на послабление и милость. Мужская традиция — снисхождение к побежденным, и даже грубые простолюдины чтут принцип «лежачего не бить»! Добивать упавшего — это по-бабьи. Наращивание опалы в три приема, по мере удаления наказуемых от столицы, говорило о страхе перед ними. Правитель же, обуянный страхом, опасен подданным. Не только злоумышленным — всем подряд. Черт знает, что там ему (или ей) помстится с испугу!
Голицыных царская немилость вроде бы миновала, однако прежнее значение у них отнялось. Приблизились к трону Салтыковы (родичи Анны по материнской линии), Дмитриев-Мамонов (женатый на ее младшей сестре), Черкасский и Ягужинский (много способствовавшие восстановлению самодержавства). Рядом с ними всплыли новые люди. Курляндец Бирон, хорошо сложенный и приятный лицом, пожалован был обер-камергером «за многие к нам оказанные верные, усердные и полезные службы». Что службы сии оказывались большею частью в опочивальне, знали даже московские кухарки. Вокруг фаворита мельтешили братья Левенвольде и вездесущий Остерман. К Бирону как-то сразу прилепился Исаак Липман, занявший при нем позицию личного банкира и негласного советника.
Вообще-то иудеи, по закону, в Россию не допускались — но этот приехал в свите герцога Голштинского, и ради будущего зятя Петр Великий сделал персональное исключение. Герцога черти унесли, а «придворный еврей» остался: императорская фамилия и двор нашли в нем удобного агента для деликатных финансовых комиссий. В то самое время в Бразилии открыты были богатейшие алмазные россыпи; бриллианты за несколько лет упали ценою вчетверо. Поскольку в Москву коммерческие новости всегда приходят с опозданием, Липман сделал на этом неплохой гешефт. Одна только царская семья купила у него камней на многие сотни тысяч, с придворными — может, и на миллион. Сам Остерман не гнушался маклерством в сей торговле, таская драгоценности то во дворец, то на заседания Тайного Совета.
Неправда, что деньги не пахнут: над утекающим из страны серебром веял явственный дух навоза, мужицких онуч и лошадиного пота. Армия и флот приходили в несостояние, а кровь державы, выжатая из народных жил, променивалась на бесполезные побрякушки.
Источник зла был, безусловно, не в Липмане: скорее, на Руси неладно что-то с правителями. С пониманием оными своего долга. Сие, однако, не умеряло моей антипатии к голштинскому пришельцу. Не имеющей отношения к вере, ибо для меня все равны: христиане, иудеи, язычники… Кроме магометан, конечно. Вот между Липманом и Шафировым — действительно тлела неприязнь, выросшая на взаимном отторжении евреев крещеных и хранящих веру предков. Мне же просто не нравилась его коммерция, потакающая своекорыстным и антигосударственным страстям правящего слоя России.
Впрочем, с Бироном у нас бы дружбы все равно не вышло, независимо от его финансового советника. Бывают люди, к которым с первого взгляда чувствуешь необъяснимую приязнь, к другим остаешься равнодушным, к третьим испытываешь омерзение. Все это без видимых причин: причины уже потом выдумываешь. Так вот, с курляндцем я ощущал полную духовную несовместимость. Даже, к примеру, взятку ему дать (а он это любит, вон цесарский посол двести тысяч талеров отвалил за содействие в подтверждении союза) — просто рука не подымалась. Унизительно как-то. Левенвольду, помнится, давал в долг без отдачи с легкостью: словно на постоялом дворе кинул монетку лакею. А этому… Возможно, причина заключалась в неколебимом чувстве собственного превосходства, которое фаворит прямо-таки источал всем существом. У любого нормального мужчины сие вызывает неодолимое желание дать не на лапу, а в рыло.
Кому я подлинно симпатизировал, так это сидящему в опустевшем Петербурге Миниху — невзирая на то, что партия сверленых чугунных пушек, поставленная с моего завода почти год назад, все еще не была оплачена. Мелочь, в масштабе бедствий, переживаемых армией. Размышляя о происхождении оных, я то и дело повторял, что минихов не мешало бы иметь побольше: педантичных, последовательных и трудолюбивых.
Воистину, удивления достоин был непорядок, царящий в родном ведомстве при наличии на самой макушке власти двух опытных и честных фельдмаршалов. Князь Михаил Михайлович, непревзойденный герой на поле боя, оказался совсем не так хорош в должности президента коллегии. Может, и был бы хорош — если бы сею скучною рутиною всерьез занялся. Василий Владимирович Долгоруков уделял внимание лишь гвардии, полкам московского гарнизона, да, по старой памяти, Низовому корпусу. Эта часть войска пользовалась привилегиями. Чуть хуже снабжались корпуса, расположенные близ границ и состоящие под командой влиятельных генералов (на Украине — Вейсбаха, в Ливонии — Ласси, в Петербурге — Миниха). Солдаты же, размещенные во внутренних провинциях, выше полковников начальства не имели, довольствие получали от случая к случаю и спасались от голода поденной работой. Строевые экзерциции начисто позабыли.
Брошенные без попечения полки изрядно терпели от комиссариатских служителей или от собственных командиров. Помехи воровству не было: коллегия начальствовала эпистолярно, не снисходя до инспекций на местах. Упорный труд не в чести у генералов и высших сановников, ибо награждают и возвышают у нас за иное. Что ж, никто не заставляет — но никто и не запретит мне делать, что должно. То засиживаясь канцелярскою крысой над бумагами, то проводя недели и месяцы в инспекционных поездках, занялся приведением раскиданных по стране войск в годное к бою состояние. Со сколькими влиятельными людьми отношения испортил, поймавши за руку их вороватых родственничков и просто клиентов — теперь уж и сам не вспомню, ибо несть им числа. Много ли проку вышло из моих стараний? Меньше, чем хотелось, по совести говоря. Что трудолюбие наказуемо, вскоре убедился сам.
Бывая в Москве лишь наездами, я прозевал учреждение нового гвардейского полка, поименованного Измайловским. Какое мне до этого дело? Так ведь выбрать солдат в него государыня повелела из ландмилиции! Войско сие мною создано и выпестовано по воле Петра Великого (а отчасти и поперек оной) — мне бы, по справедливости, комплектованием и заниматься! Нет — это поручено было Карлу Левенвольде, который набрал в офицеры одну немчуру! Подполковником (место полковника принадлежит царствующей особе) назначили шотландца Кейта.
Единственный случай получить военную опору в столице оказался бесповоротно упущен.
На скользком паркете
Обида, что «моей» ландмилицией распоряжаются без спросу, недолго жгла мне желчный пузырь: я все же генерал, а не лейтенант сопливый. Понимаю, что войска — не собственность. Добившись аудиенции у государыни, лишь вскользь выразил благодарность за высокую оценку моих питомцев и заговорил о желательности планомерных ревизий линейных и гарнизонных полков членами Военной коллегии. Сами члены, страшась лишних забот, не спешили обременить себя этой обязанностью. Императрица согласилась со мною и провела сию меру высочайшим повелением.
Действуя через голову президента, я многовато на себя брал; но дело в том, что Голицын, огорченный царицыным нерасположением, совсем бросил вожжи и ко двору являлся только по великой нужде. А у меня за время летних инспекций составилась неплохая команда военных аудиторов и ревизоров, которую незачем водить на коротком поводке: достаточно натравить, на кого следует, и поддерживать по мере надобности. Для этого не нужен Читтанов, любой другой генерал справится. Сам же планировал понемногу освоить и прибрать к рукам дела коллежские, взяв на себя управление всею военною махиной империи. Абсентеизм вышестоящих вполне позволял это сделать.
Мне не удалось в полной мере воспользоваться равнодушным попустительством князя Михаила Михайловича. В начале зимы с ним приключился удар, а через неделю фельдмаршал, еще недавно крепкий и бодрый, умер. Светские болтуны шептали, что презрение государыни сокрушило его сердце.
Место главы коллегии занял Василий Долгоруков (тоже не слишком близкий к трону и огорченный опалою родичей), а тон стали задавать вызванные с разных концов державы Румянцев и Миних. Особенно сей последний отличался неугомонной деятельностью. Воинская комиссия, учрежденная для лучшего устроения армии, стала его важнейшим плацдармом.
Отдельные пропозиции Миниха были вполне разумны, другие (большинство) маловажны, третьи приходилось опровергать. Скажем, в кавалерии он предлагал впридачу к драгунам создать кирасир, в пехоте же, напротив, ввести единообразие, устранив гренадерские и егерские роты.
— Христофор Антонович, — отвечал я, именуя генерала на русский лад, — кирасир бы иметь неплохо, да коней, в тяжелую кавалерию годных, в России вовсе нет. У здешних пород терпеливость к голоду и умение копытить снег предпочитается росту и силе. Купить в Германии лошадей на десять полков, кои вы желаете видеть в составе армии, наш бюджет явно не позволит. Да и ремонтеров потом — что, каждый раз в Европу посылать? Завезти племенных жеребцов, чтоб крыли калмыцких и татарских кобылок — получим метисов, и то не сразу. В полную силу они войдут годам к пяти возраста, значит… Считайте! Впрочем, устройство конских заводов на Украине и в Терской земле, где с кормежкой получше — извольте, готов поддержать.
— А Персию, Александр Иванович, где империя владеет провинциями, вы забыли?
— Нет, но не очень на нее рассчитываю. Карабагцы легковаты, как все восточные кони. И слишком умны: вряд ли удастся заставить их мчаться на сомкнутый строй неприятеля. Можно попробовать, с одним эскадроном. Выйдет — хорошо, нет — не беда. Устройство пехоты более важно.
— Несомненно. Введенное в этом роде войск разделение вносит ненужную сложность в экзерциции, уничтожает взаимную заменяемость оружия, боевых припасов и амуничных вещей, нарушает единообразный вид и мешает слаженности действий. Отбирая самых рослых и крепких солдат в гренадеры, мы ослабляем тем самым остальные роты.
— Веские резоны, уважаемый коллега. Но есть достойные внимания причины, побудившие блаженныя и высокославныя памяти государя императора Петра Великого сие разделение учинить. Обучить всех солдат обращению с ручными гранатами невозможно…
— И незачем. Это оружие слишком мало действенно, чтобы придавать ему сколько-нибудь важное значение.
Генерал-майор Гюйсен, голландец, тоже член коллегии, некстати решил мне помочь в споре:
— Позвольте не согласиться, экселенц. Герцог Бургундский при осаде Гента…
Хороший человек, но если начнет говорить… Чтобы не быть принужденным выслушивать описание всех баталий герцога (полной бездарности в военном плане), пришлось оборвать доброжелателя:
— Барон, зачем ходить за аргументами так далеко? Русская армия имеет собственный богатый опыт применения гранат, как с рук, так и посредством кохорновых мортир. На открытом месте их взрывы действительно слабы и не могут смутить обстрелянное войско. Зато в траншеях, где пороховому духу трудней найти выход, результат бывает вполне достойный. Собственно, — я вновь обернулся к Миниху, — судьбу гренадерских рот следовало бы решать по рассуждении, чего нам предстоит больше: полевых баталий или осад.
Собеседник изобразил на жестком, с крупными чертами, лице средней любезности улыбку:
— А егеря?
— А егеря доказали свою полезность при различных видах военных действий.
— Мне приходилось слышать иные мнения от генералов, имевших егерские роты под своим началом. В числе прочих войск, разумею.
— Не все умеют правильно их использовать. Что может сказать о достоинстве шпаги привыкший действовать топором? Кстати, коллега: может, вы поделитесь опытом, имеющимся по этой части в Священной Римской империи? Кесарь Леопольд сформировал роты метких стрелков раньше, чем Петр Великий.
— Scharfschützen? Двенадцать тирольских рот? Это скорее ополчение, чем регулярные войска. За пределами Тироля воевать не обязаны. Нет, я их не встречал. Только слышал.
— Зато я встречал. Будучи по ту сторону мушки.
Маловыразительное лицо Миниха оживилось нежданным интересом и вниманием:
— Ну и как?
— Незабываемо. Уцелел по чистой случайности, всех остальных офицеров выбили в считанные минуты.
— Himmelherrgott! Какое варварство!
— Вы возмущены?
— А вы нет?
— Ничуть. Не вижу ничего предосудительного в отстреле тирольцами нас, французских захватчиков.
— Возможно, законы войны сие не нарушает, но законы чести… Нельзя охотиться на офицеров, как на оленей.
— Увы, старомодные правила рыцарственности остались в минувших веках. Слишком заманчиво сделать негодным к бою целый полк, истребив лишь две дюжины человек. Ящик Пандоры открыт — и открыт не нами. Кстати, у шведов при Карле многие унтер-офицеры имели штуцера. Только пускали в дело не часто, уповая больше на рукопашную.
— Вероятно, не видели пользы в этом оружии?
— Бог знает. По моему долговременному опыту, штуцера — они же винтовальные фузеи, а по-солдатски просто «винтовки» — наиболее полезны в азиатских войнах. Против горцев, палящих из-за укрытий, или восточной иррегулярной конницы, этого бедствия степей. Дикие наездники носятся то поодиночке, то многотысячными толпами, стреляют из луков и показывают чудеса вольтижировки, перехватывают обозы и окружают колонны на марше…
— Разве кавалерия, не знающая строя, опасна регулярному войску?
— По крайней мере, она доставляет много неприятностей. Особенно при фуражировке. И крайне утомляет солдат, держа их в постоянном напряжении и под обстрелом.
— Стрелами?
— Большей частью. Хотя у некоторых и ружья есть. Но, скажу я вам, татарские луки против обыкновенных мушкетов не так уж плохи. Учитывая, что им целиться в плотный строй, а нам — в одиночек на полном скаку. Если оказывать каждому джигиту такое уважение, что останавливать марш и палить по нему целым плутонгом, за день и мили не пройдешь. Не оказывать — неприятель постепенно наглеет. Стрелы сыплются дождем, раненые множатся с каждой минутой… Разреженная линия стрелков с точным дальнобойным оружием закрывает весь этот балаган раз и навсегда. Ежели каждый враг, приблизившийся на триста шагов, получает пулю — поверьте, после двух-трех убитых они приближаться перестают. А на больших дистанциях луки бессильны. Винтовка — вот ключ к вратам Востока!
— Боюсь, вы увлекаетесь, дорогой граф. Турки сами имеют нарезные ружья в изобилии: насколько мне известно, некий род винтовальной фузеи у казаков именуется «янычаркой» или «яныченкой». Или вы говорите о своих «новоманерных» штуцерах? Уж простите великодушно, не усматриваю в них чудо-оружия.
— Помилуйте, я и не требую сего титула. Кому, как не мне, знать все их многочисленные несовершенства. А вы, вероятно, имели дело с изношенными экземплярами. Дело в том, что у этих ружей есть слабое место. Опытные образцы выдерживали триста выстрелов до износа втулки, сопрягаемой с зарядными частями; погнавшись за количеством, мы потеряли в долговечности. Примерно на треть или даже вполовину. Меткому стрелку, для сохранения навыка, надо упражняться, делая хотя бы по пять выстрелов в неделю. Лучше — больше, да куда уж там… Фузею, вдесятеро дороже обыкновенной, приходилось каждый год возвращать на завод для перешлифовки. Очень хлопотно, очень дорого, очень ненадежно.
— Вы мужественный человек, раз готовы признать неудачу.
— Неудачу? Хм… Не готов! Осмелюсь вам, Христофор Антонович, доложить, что колоссальный выигрыш в меткости, дальнобойности и частоте огня перевешивает все недостатки новоманерных ружей. При условии правильного и аккуратного использования оных, на что способен, безусловно, не каждый солдат. И даже не каждый офицер. Пока выучишь — семь потов сойдет и годовой запас матерщины истратишь. Могу согласиться лишь с тем, что изготовление сего оружия en masse и скороспешное, без должной подготовки, введение в практику было ошибкой. Моей ошибкой. Весьма дорогостоящей и внесшей немалый вклад в бедственное состояние русских финансов. В этом — грешен, батюшка!
— Не ко мне. Сей грех пусть Камер-коллегия вам отпускает.
— Замолю. Если с индийской компанией пойдут навстречу. Что хочу еще сказать… Вы ведь в Санкт-Петербург собираетесь возвращаться?
— Да, мне поручено Ея Императорским Величеством приготовить апартаменты к переезду двора в северную столицу.
— Передайте профессору Лейтману мое искреннее восхищение и глубокую благодарность. В его трактате о штуцерной стрельбе есть очень интересные наблюдения. Надеюсь, он не будет в претензии за их использование мною.
— Столь умный и великодушный человек, как Лейтман, будет только рад, что его труды послужат благу нового отечества.
— Однако небольшое вспомоществование на продолжение изысканий, полагаю, профессору не повредит. Иначе мне будет неудобно просить его воздержаться от публикации дальнейших результатов. Не всех, конечно: сугубо выборочно. Теоретическая часть и соображения о наилучшей форме нарезов вреда не сделают, ибо представляют полнейший вздор. Простите — это передавать, конечно, не нужно. Я как-нибудь сам изложу свои контраргументы поделикатней, в письмах…
— Что же вы полагаете неправильным в рассуждении о форме нарезов?
— Видите ли, увлекшись заботой об избежании засорения оных свинцом, Лейтман доходит до абсурда в предпочтении форм широких и плавных, так что финалом его рассуждения оказывается ствол эллиптического сечения; сей эллиптический цилиндр, скрученный по продольной оси, конечно, удобен в чистке — но плохо исполняет главную задачу. Разумею сообщение пуле вращательного движения. Как мне удалось установить на опыте, множественные мелкие нарезы гораздо предпочтительней, особенно если одна сторона оных пологая, другая же подобна ступеньке. В частности, при стрельбе сжимающейся пулей, созданной в развитие принципа, заимствованного мною из этого же трактата, глубина оных не должна превышать десятой части линии. С другой стороны, постепенное увеличение диаметра ствола вследствие чистки….
Таких заседаний было не одно и не два. Обсуждались мельчайшие подробности амуниции, штата, вооружения и тактики. Миних, не мучась фантазиями, склонял к добротным германским образцам, освященным опытом Евгения Савойского. Различия с привычным устройством русской армии были, большею частью, не слишком существенны: давно ли позаимствовали его оттуда ж?! Егерские роты (раз уж это австрийская инвенция) оставили, но не более чем в дюжине полков. У кесаря двенадцать — и у нас двенадцать! Тульский полк, целиком вооруженный новоманерными фузеями, постановили снабдить обыкновенными по принятой норме; буде кто пожелает дополнительным оружием оный обеспечить — дозволить, но на свой кошт. И на том спасибо! Авось, не разорюсь; тем более, скоро придет время новые образцы в полевых условиях испытывать.
В то время наиболее вероятным применением для армии мнилась отправка тридцатитысячного вспомогательного корпуса против испанцев и французов, в соответствии с Венским трактатом: либо на Рейн, либо в Италию. Для действий совместно с цесарцами, под генеральным командованием самого принца Евгения, полная тождественность войскового устройства была бы весьма кстати. Ну и, конечно, турецкая угроза нависала с юга, подобно грозовой туче: осенью тридцатого года за малым не разразилась война.
Давно уже дипломаты, путешественники и торговые агенты в донесениях из Константинополя твердили о глубокой и чистой ненависти, которую питают простые турки к своим начальным людям. Проповедники упрекали властителей в подражании неверным, отступлении от заветов Пророка, мздоимстве, предательстве и введении новшеств. Дескать, возможно ли ждать помощи от Всевышнего, когда в самих палатах калифа вино льется рекою, уподобляя магометан христианским собакам; когда в столице распахнули двери, уловляя грешников, сто двадцать домов разврата! Да постигнет отступников гнев Аллаха! Не слишком удачная персидская война подливала масла в огонь: вместо единоверных афганцев, по мнению толпы, следовало сразиться с проклятыми московитами.
До поры до времени мелкие вспышки удавалось заливать кровью; но в тридцатом году нарыв прорвало. Взбунтовались столичные янычары. Какой-то арнаут, в прошлом дравшийся против нас под Керчью, возглавил толпу и повел на дворец Топкапы. Султан Ахмет велел казнить ненавистных министров, но это его не спасло. На другой день бунтовщики низложили владыку правоверных и заменили безвестным доселе племянником. Государственными делами стал править голоногий албанец в одежде простого воина.
Было немного жаль Ибрагим-пашу Невшехирли. Его манера отрезать головы казнокрадам искренне меня восхищала. Великий визирь не питал расположения к России — однако был здравомыслящим человеком, с которым возможно иметь дело. Эти же бесы вырвались из бездны под знаменем шариата (сиречь изначального магометанского закона) и вражды к иноверцам. Что-то вроде стрелецкого бунта на оттоманский лад. Простодушные воины не скрывали своих планов: поход на север считался делом решенным и откладывался только потому, что сначала хотели очистить свое государство. Отступников заменить истинно верующими.
Но знатные турки недолго позволяли простолюдинам помыкать собою. Месяца через два после бунта беспечный арнаут и его сподвижники были схвачены и удавлены прямо на заседании Дивана, перед лицом султана Махмуда, возведенного ими на трон. Произошло это в тот самый день, когда они собирались объявить нам войну.
Донесения посла Неплюева и письма моего агента Марко Бастиани ясно показывали, что мир висел на волоске и удержался чудом. Даже по миновании мятежа, воинственное настроение турецкой черни оставляло мало выбора новому султану. Народ — это зверь, которого нужно гладить по шерстке. К счастью, персияне, свергнувшие иго афганцев, попытались вернуть захваченные турками провинции. Взоры неприятелей на время обратились в другую сторону.
Слава Богу! Мы были к войне до такой степени не готовы, что и не знаю, как бы выдержали первую кампанию. Потом, как обычно, дали бы врагу по шее — но далеко не сразу. Вначале б нахлебались крови и позора. Провианта нет, пороха нет, солдаты наги, босы и необучены… Деньги! Вот чего не хватало для приведения в боевую годность. Где взять недостающее, у каждого имелись свои мысли. Румянцев косил несытым взором на расходы двора; Матюшкин предлагал вернуть Гилянь персам за крупное возмещение; Миних посягал на флот.
— Полтора миллиона… — Суровый взор генерала обрел непривычную мечтательность. — Сорок полков содержать можно! Ладно, галеры оставим; а вместо корабельного флота возможно набрать еще одну армию, равную той, что мы держим на Украине! Тогда коалиция двух империй получит несомненное превосходство над Оттоманской Портой!
— Не могу с вами согласиться, любезный друг. (Беседа происходила в неприсутственное время, когда позволительны вольности в обращении). Даже одну армию такого размера в диких степях продовольствовать трудно, а две — невозможно. Враг превосходит числом? Взгляните на сей предмет иначе. Снабжение сколько-нибудь значительных турецких сил к северу от Дуная сухим путем невозможно. Заприте море — и всё, им конец! Вот почему на юге я предпочел бы сильную эскадру дополнительной армии. Что касается севера… Галеры могут успешно действовать лишь у финского берега, среди шхер. На открытой воде они против кораблей ничего не сделают. Следуя вашей пропозиции, мы отдадим Ливонию обратно шведам. Имея хотя бы фрегаты, они смогут высаживать десанты любой численности с нанятых торговых судов и делать в приморской полосе все, что угодно.
— Граф, у Сиверса в Кронштадте только восемь кораблей линии, безусловно годных к выходу в море! И еще три он готов пустить не дальше Ревеля. На юге, я слышал, дела гораздо хуже. Вы полагаете, сей итог стоит потраченных денег?!
— Нет, конечно. Поверьте, я отношусь к Сиверсу не лучше вас. Но без флота не обойтись, даже в обороне. Государства, которые отвернулись от моря ради увеличения армии, нам не пример: положение России иное. Священная Римская империя в крупных войнах пользовалась дружбой то Венеции, то Англии… Теперь в нашем союзе обе державы по преимуществу сухопутные. Такая однобокость опасна.
— Дорогой Александр Иваныч, почему вы служите не в Адмиралтействе?!
— Меня туда не пускают. Боятся, наверно. Если без шуток — там, конечно, требуется ревизия. Давайте вместе, всей коллегией… Или через Воинскую комиссию лучше? Словом, составим обращение к государыне с просьбой передать армии средства, которые флот пускает на ветер. Аргументацию беру на себя.
Тщательно подготовленная атака на Адмиралтейство отнюдь не имела целью оставить государство без кораблей. Совсем наоборот. Надо ж было привлечь внимание к безобразному положению в сем важнейшем ведомстве! Опираясь на достоверные цифры, я с математической точностью доказал: за те же деньги корабельную линию можно иметь в два раза длиннее. В два — это по самой скромной мере. Авторитет всей коллегии нужен был для громкости залпа. Действительно, услыхали! Скандал начался такой, что не замять.
Вослед Воинской, сочинили Военно-Морскую комиссию. Во главе стал Остерман, после смерти Апраксина потихоньку примерявший на себя негласную должность ходатая при дворе по флотским делам. В полную силу комиссия заработала после переезда двора в Петербург, но еще раньше стали собирать мнения и ревизовать расходы. Открылось столько всякого… Заранее стало ясно: Сиверсу не усидеть!
Не питая иллюзий относительно деловых и нравственных качеств правителей России, следовало все же заметить: в сравнении с меншиковским или долгоруковским временем, порядка стало больше. Воры новые слегка поприжали воров старых. Видимо, из тех соображений, что страна бедная и на всех не хватит. Немецкий черенок, привитый Петром на осину русской государственности, пошел в рост. Анна сама изрядно онемечилась за двадцать лет жизни в Митаве, и со своими курляндскими и ливонскими прислужниками предпочитала говорить по-немецки. Сии прислужники обнаружили немалую ловкость в устройстве приватных денежных дел. К примеру, после Меншикова остались крупные вклады в амстердамских и лондонских банках, на которые долго не удавалось наложить руку. Банкиры уперлись: только самому вкладчику или, после смерти, законным наследникам. И вот, пожалуйте: в знак милости и великодушия Ее Величество освободила из ссылки потомство опального князя, и Александра Меншикова стала невестой… Чьей, вы думаете? Правильно, Густава Бирона, родного братца фаворита!
Гость из германского захолустного герцогства чувствовал бы себя при московском дворе, как дома. Но сама хозяйка твердой почвы под ногами не ощущала. Или ее напугал турецкий пример? Весною тридцать первого года она возобновила уничтоженную в прежнее царствование Канцелярию тайных розыскных дел, поручив оную генералу Ушакову. Как встарь, заскрипели по темным углам перышки доносителей. Зазвучало, вгоняя в дрожь правых и виноватых, «слово и дело».
Тогда же из Вены пришло известие об окончательном решении спора Карла Шестого с Георгом Вторым Великобританским. Неспособность императора произвести на свет наследника мужеского пола дорого обошлась фламандским купцам: ради утверждения преемства по женской линии, он выдал их английским соперникам головою. Остендской компании дозволено было послать в Индии еще два корабля — но только однажды. «For once only, two ships». Суда предыдущей посылки травимы были подобно коту, забежавшему на псарню. «Святую Терезу», прибывшую в Бенгалию под флагом Речи Посполитой, без церемоний атаковала и взяла на абордаж англо-голландская купеческая флотилия. Наваб (наместник Великого Могола) возмутился было нарушением нейтралитета своего порта, но его недовольство заткнули деньгами. «Аполлон», под прусским флагом, благополучно вернувшийся из Китая в Гамбург, подвергся аресту по настоянию грозивших войною морских держав. Владельцы, дав крупную взятку, исхитрились под покровом ночи вывезти груз.
Ловкий Остерман совсем было остановил движение моего восточного прожекта — с редким изяществом. На вице-канцлера ничто не указывало, дело просто топили в бесконечных согласованиях. Но мне-то ведомо было, из какого корня сии канцелярские тернии растут. Осторожный дипломат избегал всего, что могло дать повод неудовольствию держав, почитая свою трусливую политику верхом государственной мудрости. Все равно, что в крещенский мороз гасить огонь в печи, дабы не случилось пожара!
Ничего не оставалось, как снова поклониться императрице. Авось, с третьей попытки дело выйдет!
— Ваше Императорское Величество, сейчас или никогда! — Если бы я с такой страстью ее на любовь уговаривал, Бирону точно б вышла отставка. — Негоцианты, доселе находившие пристанище под цесарской кровлей, рассеялись по Европе в поиске новых защитников. Самое время могучему русскому орлу взять их под свое крыло! Мы полтора года занимаемся разговорами, как лучше разделить шкуру неубитого медведя, а между тем соседи норовят нас опередить. Датчане на место прежней Ост-Индской создали новую компанию под именем Азиатской; в ней участвуют люди и деньги, убежавшие из Фландрии. Теперь купить у них индийские владения, как я хотел в прошлом году, не выйдет. Не отдадут, ибо самим нужны. У шведов тоже намечается нечто: в Стокгольме видели Кэмпбелла. Сей британский изгнанник был душою Остендской компании.
— У тебя и в Стокгольме шпионы есть?
— Это не мои. Английские. А мне уже из Лондона пишут. Сообщают, что шведская хартия подана в Королевский совет и вот-вот поступит на апробацию к Его Величеству Фредерику. Сим ясно видимо, что королевства, во всем Российской империи уступающие, не боятся злобы англичан. Тем придется умерить притязания: насильством препятствуя вольной торговле, они рискуют поссориться с половиной Европы. Все, что нужно — это всемилостивейшее повеление Вашего Императорского Величества об учреждении русской компании для торга с Востоком.
— А что же прошлый наш указ не исполнен?
— Полагаю, по нераспорядительности и упрямству некоторых господ.
— Мне говорили, что напротив, дело в твоей несговорчивости.
— Помилуйте, государыня: когда уговаривают включить в хартию пункты, безусловно губительные для успеха всего предприятия, могу ли я быть сговорчив?! Ладно, некий царедворец хотя бы пирогами в младые лета на базаре торговал; эти ж коммерческой практики еще менее имеют, а пытаются старого венецианца в сем искусстве наставлять.
— С венецианами как раз надо ухо востро держать, иначе не в барышах, а в проторях останешься. Прожект сей мало сходится с государственной пользой. Апробуючи хартию на всей твоей воле, я казну немалых доходов лишу.
— Доходы еще получить надо. Впрочем, есть способ сдвинуть баланс в пользу Вашего Императорского Величества.
Бывают случаи, когда разбогатеть мешает жадность. До Анны с трудом доходило, что казенная доля должна быть умеренной — иначе вкладчики не захотят рисковать деньгами, да и служители компанейские будут без живости работать. Не мужики на боярщине, интерес требуется. Однако я был бы полным кретином, если бы пошел во дворец, не имея запасной позиции для благополучного отступления. Поразмыслив и порассчитав заранее, нашел, как удовлетворить государыню.
Торговать с Китаем без приватных финансов можно было лишь «по-сибирски». На мягкую рухлядь. Так вот, при внимательном рассмотрении сей вариант оказался не столь безнадежен, как на первый взгляд. Во-первых, строгость запрета на меховые одежды убывала (как всегда в подобных случаях) с увеличением расстояния от столицы. В Пекине, где стоял наш сибирский караван, указ богдыхана исполнялся с жестокостию, а в Кантоне в то же самое время высокопоставленные мандарины без стеснения носили платье с меховой оторочкой — и это несмотря на жаркую погоду. Во-вторых, дурацкие указы, даже не будучи отменены, с течением времени действуют все слабее и, наконец, забываются. Нам ли, русским, этого не знать?! В-третьих, ценность мехов относительна. В России и Европе соболь — король. Китайцы же предпочитают бобров и лисиц: особенно ленских, именуемых «крестовками», а также черных. Получить прибыль очень просто: надо возить товар, на который есть запрос.
В-четвертых… Беринг привез много любопытнейших сведений о Камчатке и Сибири — но что мне пронзило сердце, так это хлебные цены. Пуд муки (в Москве — примерно двугривенный) на полдороге, в Красноярске, стоит от двух с половиной до четырех копеек, а в Камчатке — ТРИ РУБЛЯ!
Представьте: пятипудовый мешок ценою равен крепостному человеку. Не самому лучшему, но вполне способному к работе!
Система торговли начала складываться.
Первый пассаж — из России в Камчатку с провиантом. Еще бы лучше где-нибудь на полпути сыскать простодушных дикарей, знающих земледелие. Тогда из России железо. Впрочем, сие звено никогда не поздно добавить.
Второй пассаж — из Камчатки в Кантон с мехами. Казенными, большей частью — раз Анне так угодно.
Третий — из Кантона домой! С чаем, фарфором, шелком и прочая, и прочая…
Что самое замечательное, любая попытка иностранцев помешать корабельному ходу будет выглядеть вопиющим, немыслимым, диким беззаконием, попирающим общепринятое морское право. Ну, ходят корабли из одного русского порта в другой. Почему вокруг Африки? Страна такая… Пройти двадцать тысяч миль, не приставая к берегу? Thank you, no! Попробуйте сами, джентльмены…
А в довершение прелестей компанию назвать — Камчатской!
Перенос центра тяжести на казенный товар потребовал и других перемен. Изначальная моя идея выстроить акционерное общество на английский или голландский лад шла поперек русских нравов. Сенаторы ее отвергали даже не разумом, а чутьем — как псы, почуявшие волчий дух, обнажают клыки и топорщат шерсть на загривках.
Там, где правят деньги, люди обезличены и уравнены. Они — лишь приложения к кошелькам. Собрание, в коем равный голос имеют генерал, какой-нибудь купчишка и, не дай Бог, мужик, разбогатевший неведомо чем (может, и разбоем) еще можно вообразить в Европе — но в Москве?! Сие непотребство вызывало бессознательное отторжение.
То ли дело теперь: государыня-матушка и ближние люди. Без чужих! Вокруг сей затравки все остальное компанейское устройство кристаллизовалось довольно легко. Весьма своеобычное, однако… Почему бы и нет? Крокодил не похож на льва, но тоже не голодает.
Недовольство многих, желавших вложиться в азиатскую торговлю и теперь обманутых в ожиданиях, мнилось возможным перенацелить с моей персоны на иную мишень. Разве я не боролся за их интерес до последней возможности? Сдался, лишь когда с высоты трона дали понять: либо компания будет для избранных, либо ее не будет вовсе. Никого не стану ругать. Ни на кого — жаловаться. Буду рассказывать, как Ея Императорское Величество в неизъяснимой мудрости своей просветила меня касательно государственной пользы. Умные поймут, а дураков нам не надобно.
После высочайшей апробации исправленного прожекта противники мои сникли. Один только Ягужинский, генерал-прокурор и глава недавно возобновленного (непонятно, за каким лешим) Сибирского приказа, побрыкался еще маленько — да крыть было нечем. Последний сухопутный караван принес одни убытки. Началась суета среди сановников, чтобы влезть в интересаны: первый, разумеется, записался обер-камергер Бирон. Еще недавно у него денег не было (на цесарскую взятку он купил мызу Вартенберг в Силезии), а тут вдруг — откуда ни возьмись… Без Липмана не обошлось, это точно. Бог с ним. Пускай еврейский капитал послужит благу России. Моим вкладом, помимо денег, стал корабль: один из двух, кои достраивались у Баженина. В Тулоне пятидесятивосьмипушечный «Диамант» еще не успели спустить на воду — а его собратья, сделанные по тайно срисованным чертежам, уже покачивались на волнах. Корпус такой же, только вместо дуба — лиственница с сосною, да нижней батарейной палубы нет. За ее счет увеличили трюм и прибавили калибр пушек наверху. Суда эти именовали иногда торговыми фрегатами.
Государыня довольна была моей уступчивостью. Бирон предвкушал прибыль от совместной коммерции. Остерман оценил маневры, призванные снизить враждебность морских держав к новой компании. Ветер явно дул в мои паруса. Знаком высочайшего расположения стало назначение в Сенат, о чем я давно мечтал. Не ради тщеславия — ради дела. Вакансии открывались: за год правления Анны четверо сенаторов волею божией помре, пятого умчали на Соловки под караулом. Достоинство сего присутственного места — в единособранной силе правления. Там сводятся вместе дела армейские и флотские, чего нигде больше нет. У себя в коллегии мы лишь впустую щелкали зубами на чужие ассигнования, и даже великолепный (прочь ложную скромность!) промемориум о нерациональных расходах морского ведомства единственным формальным последствием имел выговор за вторжение в чужие дела. Неофициально — конечно, иначе.
После воцарения Анны Сенат стоял так высоко, как сроду не бывало. Петр Великий был умудрен в делах правления и всюду совал свой нос; при его преемниках Тайный Совет перетянул власть на себя; устранив оный, не слишком опытная государыня нуждалась в государственном уме сенаторов и частенько действовала, как боярыня в карете: скажет слугам, куда везти, и сидит смирно. Сама за поводья не дергает. Если б еще холопы не пихались задницами на облучке…
Впрочем, в военном департаменте Правительствующего Сената пихаться особо было не с кем. После прошлогодних утрат остались в нем два старика-фельдмаршала, оба не слишком деятельные. Долгоруков ворчал и дулся за опалу родственников. Часто сказывался больным и неделями не ходил в присутствие. Князь Иван Юрьич Трубецкой тоже не принимал службу близко к сердцу. Главные заслуги его восходили к низложению царевны Софьи. При первой осаде Нарвы попавши в плен в чине генерал-майора, он восемнадцать лет провел в Стокгольме. Выписал туда жену, был принят ко двору Карла Двенадцатого и вернулся в Россию почти чужеземцем. Все интересное пропустил, чины получал на праздники и коронации. Сильно заикался; был горд, но добросердечен. Оказывая сим ходячим руинам надлежащее почтение, возможно было многое взять на себя.
В первую очередь — стратегические планы будущих войн. Что за незадача: догола обдирая народ ради армии и флота, Россия всегда оказывается не готова и первую кампанию против серьезного неприятеля проигрывает вчистую. Даже когда ход — на нашей руке. Нарва и Прут убедительно сие доказали. Случайности, скажете? Случайность, повторяемая раз за разом, обращается в традицию. Коренящуюся, несомненно, в темных глубинах народной души, кои надлежит выжечь неумолимым светом беспощадного разума.
Итак, в чем мы нуждаемся? На севере — разве что в отмене Зундских пошлин. Территорий новых не надобно. Ливонских выходцев при дворе столько, что впору задуматься, кто кого завоевал: Россия Ливонию или же Ливония Россию? Итальянцы, которые еще при Иване Третьем Кремль построили и позже много пользы принесли, не пользуются и десятой долей сего влияния. Даже меня к ним причисляя, по рождению.
Коли шведы захотят вернуть потерянное — того, что мы имеем, для обороны достаточно. Возможно, стоит усилить Выборг и Кексгольм, а то завод в Тайболе небезопасен. Сам завод тоже хорошо бы укрепить, но на казенный кошт — неприлично. На свой — тоже нельзя. Если двор будет в Петербурге, иметь в ста верстах от столицы приватную крепость… Государыне, знаете ли, всякое могут нашептать. Подожду пока. Время терпит. Нынешняя Швеция — лишь бледная тень прежней могучей державы.
Далее, Польша. Золотой идеал наших благородных мечтателей. В военном смысле — размякший от гниения труп. Содержит регулярное войско размером в одну неполную дивизию. Конный сброд «посполитого рушения» можно в счет не брать: в минувшую войну его гоняли и наши, и шведы. Такое же дворянское ополчение, как было в России при отце Петра. Прошлый век. Устарело безвозвратно.
Государство сие славится свободой и веротерпимостью — по тем законам, которые писаны. Однако голова и тело в нем живут врозь. Шляхетский najazd не по королевскому указу совершается. Едва успели похоронить Петра Великого — ошалевшие от счастья и уверенные, что Россия не вступится, кинулись магнаты и шляхта на казачьи земли. Послушать беглецов с Правобережья — волосы дыбом встают! Тысяч двести ушло на нашу сторону, хотя у нас (уж поверьте) жизнь — не мед! В унию загоняли кнутом и саблей. Храм на поле боя при Лесной, поставленный над гробом тысяч православных, павших за отечество, униаты отняли! Я старый вольнодумец, и на восточную церковь смотрю без восторга. Но видит Бог: случись мне оказаться в тех краях с войском — униатского попа, который это сделал, прямо в алтаре повешу. Верю, что Господь мне простит.
Русских поляки презирают — как разбойник ограбленного им растяпу. Ненавидят и боятся — ибо растяпа вырос и сильно в плечах раздался. Того и гляди, свое назад потребует. А там добра — до чертовой матери. От границы верст на пятьсот лежат бывшие русские земли. В бумагах моих, сгинувших в Тайной канцелярии, был анонимный памфлет, напечатанный по-польски, под названием «Прожект ликвидации Руси». В нем трактовалось, как бы малороссиянам и белорусцам втеснить польский язык и римскую веру. От сего пашквиля прямо воняло иезуитами. Судя по дальнейшему — слова «волков христовых» начали обращаться в дела.
Надо б изобрести, как при ближайшем междуцарствии вековую несправедливость исправить — но не вижу путей. Еще при Алексее Михайловиче русский дворянин был во-первых, русский — теперь во-первых, дворянин. Поляк благородного происхождения ему роднее православного хлопа. Боже упаси на права сословия посягнуть! А у соседей что жбан — то пан. В одной восточной половине Польши вдвое больше шляхты, чем в целой России. И по грамотности наши против них — чурки осиновые. Соединить в одном государстве, да в правах уравнять — которые осилят?! Пока людьми считают одних дворян, а мужиков держат за скотину, Речь Посполитую нам не одолеть, как бы слаба она ни была в военном отношении. Пес с нею, пусть пока живет.
На юге Турция, и при ней Крым. Враги наследственные. Злоба их против нас крепка и выдержана, как старое вино. При Петре мы крымцев славно прижали. Ныне от Богородицка до самого лимана стоят на Днепре городки: у каждой переправы. В другую сторону от Каменного затона до Азовского моря — земляной эскарп, с палисадами на важнейших участках и полковыми крепостями через двадцать верст. Линия охраняется денно и нощно, казаками и ландмилицией. Не скажу насчет мыши — или там пеших лазутчиков — а конный чамбул не проскочит. Вместо украин русских и польских, татары добывают живой товар в Грузии и Черкесии. Но смирились ли они?
С Прутского похода прошло (Господи, как время летит!) двадцать лет. С Таванского докончания — шестнадцать. Младенцы, рожденные после той войны, готовы стать воинами. Горячая кровь кипит в юных жилах, степной ветер кружит обритые головы. Старики бают сладкие сказки о былом: о могучем, богатом, счастливом Крыме; о славном хане Девлет-Гирее; о лихом коне, острой сабле и верном луке; о вереницах двуногих скотов, гонимых удалыми джигитами на городские базары; о чистом звоне серебра и упругих бедрах златовласых пленниц… Обо всем, чего лишены молодые по злобе врагов. Другие могли бы поведать о смертоносном русском свинце, о свирепом прищуре узких калмыцких глаз, о рвущих простреленные легкие водах Гнилого моря… Могли, если б восстали из мертвых. Рассказанное о войне живыми — всегда полуправда. Судя по доношениям с границы о ходе происходящих по временам незначительных стычек, в Крыму возросло поколение, готовое воевать. Чтобы обрушиться на линию всею силой, ханскому войску не хватает лишь приказа султана — и поддержки его войск. Ибо легкая кавалерия одна немногое может.
А что султан Махмуд? Он смотрит на политические конъюнктуры. Окажется его держава безопасна со стороны Персии, а венский кайсар и русская падышах-ханум связаны войною в Европе — не упустит отомстить неверным старые обиды и вернуть эйялеты, потерянные незадачливым дядюшкой. Если на то будет воля Аллаха. Что ж, пророком быть легко: пока принц Евгений жив и здоров, воли Аллаха на то не будет. Савоец в свои шестьдесят семь еще вполне бодр. Только вряд ли это надолго. Остальным приближенным Карла Шестого, да и самому императору я бы доверять не стал. Надо строить независимую стратегию.
Империя наша устремляется к теплым морям вдоль русских великих рек, Дона и Днепра. На этих путях (или на продолжении оных) стоят, как рыцари на поединке, две пары городов: Керчь с Азовом и Очаков с Таванском. Первые могут уязвлять друг друга лишь длинным копьем флота; у другой пары дистанция мечевая, если не кинжальная. Очаков и его tete de pont Кинбурн суть последнее уцелевшее звено сухопутной связи между Портой и Крымом. Условно «сухопутной», ибо устье Днепра не уступит шириною Керченскому проливу. Переправа через него татарского конного войска требует времени столь продолжительного, что всякая внезапность неизбежно будет утрачена. «Крымский юрт яко змий с перебитым хребтом: живе, а жалити не може», сказал об этом старый мой приятель Петро Щербина. Война может начаться двояким образом: либо турки пожелают исцелить своего домашнего гада, взяв Таванск, либо русские — разрубить окончательно, заняв Очаков. Но девять к одному, что начнется она здесь, где обе крепости ключевые по значению.
Войска на линии состоят из ландмилиции, гарнизонов и пяти малороссийских казачьих полков, именуемых, для отличия от гетманских и согласно подчиненности, губернаторскими. Правобережное казачество, главным образом, в них и влилось. Ландмилиция тоже хорошо пополнилась польскими малороссиянами, но туда казаки неохотно идут: больше хлопы, бежавшие от панщины. В тылу линии, где густота селений позволяет иметь квартиры и провиант, стоит армия генерал-аншефа Вейсбаха, силою до тридцати полков, драгунских и фузилерных. Хозяева сих селений, гетманские и слободские казаки, тоже числятся воинами — только воинская справа их давно ржавеет в пыльных чуланах. Безопасность от набегов окончательно превратила грозную когда-то силу в мирных земледельцев. По справедливости, надо б их уравнять с великороссами в подушном окладе и рекрутских наборах, но политика обязывает льготить приграничные провинции и выжимать все соки из срединных.
Для подкрепления, амуничного снабжения и продовольствия воинских сил, в верховьях судоходных рек надлежит иметь в довольном числе дощаники и ластовые суда. Заранее делать нет смысла, ибо сгниют. Места постройки, приписные плотники, леса — все определено в прошлую войну, все готово. Единственно, можно создать запасы сухих досок: тогда время от получения приказа до отправки первых караванов будет исчисляться не месяцами, а неделями.
Надобна военная флотилия на нижнем Днепре: прамы, галеры, скампавеи, чайки… Легкие суда еще можно провести через пороги, а крупные — увы. Только на месте строить. Нужна верфь, где-нибудь у Каменного Затона или на Хортице. Вот это дело долгое, и заняться им следует уже сейчас. Еще дольше и намного трудней вытащить из нынешнего жалкого положения азовский морской флот, без которого порядочной наступательной войны просто не выйдет. Полезно будет и малое число кораблей, но если в казне хватит денег для значительного увеличения сил — откроются виды небывалые и просто чудесные.
Ни для кого не секрет, что преобладающая морская мощь разом решила бы все наши проблемы на Черном море. Для покорения Крыма достаточно его блокировать: хан, запертый на полуострове и отрезанный от метрополии, принужден будет замириться. Мы сможем навязать ему любой трактат, избегнув при этом сухопутного вторжения и не потратив ни одного солдата. Установление господства над устьями Дуная, сильный десант возле Браилова и угроза Фокшанскому дефиле сразу отрежут Молдавию со всеми прилежащими крепостями, вынудив турок без боя оные оставить. Мечты, мечты! К сожалению, далекие и почти несбыточные. У России моря разъединенные. Будь балтийский флот оснащен и выучен хотя бы как датский — можно бы перевести оный в союзные Брундизий или Неаполь и атаковать турок с другого бока; но в нынешнем состоянии не дойдет.
А на юге у нас даже гавани путной нет. У Таганского рога мелко; в Азове и того хуже. Устье Днепра заперто турецкими батареями. Начатый мною мол близ устья Кальмиуса за шесть минувших лет моряки так и не сподобились достроить. Верфи перенести из Воронежа и Таврова на море (нужда, коей очевиднее быть не может) — и то поленились! Давно, еще при жизни Апраксина, пустили в ход отговорку: дескать, татары могут прорваться и сжечь недостроенные корабли. Почему-то с тех пор ни разу не прорвались; а что для легкой конницы не только бастионный фрунт, но и полевые укрепления представляют неодолимую преграду, так азбучные истины сухопутной войны адмиралам не указ.
Так что первым делом — корабельная гавань и верфь у Белосарайской косы. Лес надо заготовить немедля, особенно принципальные деревья, и навесы для хранения сделать. Три года сушки, потом по два корабля в год… Нет, по два мало. Надо по четыре — тогда к сороковому году сравняемся с турками. Если они не спохватятся. Ныне у султана флот в упадке: казну высосали персидская война и нескончаемые праздники и раздачи, коими Ибрагим-паша пытался смирить народное недовольство. Потери в керченском бою не восполнены, а выбывающие по старости корабли замещаются с большим опозданием. Мои люди в Городе за сим очень пристально следят.
По деньгам, азовское корабельное строение встанет в миллион, с рассрочкою лет на десять. Приемлемо: государыня на платья и украшения больше тратит. Пушки? Осмелюсь предположить, что старые годятся: со сгнивших петровских кораблей. Содержать и учить людей — вот это дорого, даже если иметь один штат на два флота. Дорого и бестолково, если учить будут нынешние флагманы и капитаны. И если не уменьшить смертность в командах. Не успеют выучить, ан матросик-то и помер! Другого давай! Пожалуй, Миних пошутил прозорливо: как бы не пришлось на службу в Адмиралтейство переходить!
Первая трещина
— …Смертию казнить!
Да что за наказание Божье?! За правдивые слова, пусть сказанные в запальчивости и повышенным тоном, отрубить голову заслуженному генералу?! Или сенаторы поголовно со страху обгадились?!
Сукин сын Румянцев, нет бы ему маленько потерпеть! Я успел бы укатить на юг и не принял участия в этом нелепом судилище. Мало, что за какую-то хамскую выходку (дескать, с каких это пор потомки курляндских конюхов дерзают указывать русским генералам?) разбил физиономию фаворитову братцу, так и Самой нагрубил! Давно ли она его поставила подполковником Преображенского полка (вместо фельдмаршала Василия Владимировича, к немалой обиде последнего), подарила восемьсот душ и двадцать тысяч деньгами? А теперь он, видите ли, недоволен беспутным расточительством двора! Верни деньги — тогда и говори о расточительстве.
— Повинен смерти!
Скоро моя очередь. Нет, я, конечно, тезоименца своего понимаю и полностью с ним согласен. Но вслух-то зачем?! Пользы от этого — не будет!
— За оскорбление Царствующей Особы, яко по регламенту Петра Великого определено, смертная казнь.
Больше половины высказалось. Единодушно. Кавдинские фуркулы русской знати. Примерная порка одного из лучших генералов — своего своими, как солдат пропускают сквозь строй. Навряд ли казнят, приговор выносится с запасом. Но те, кто на троне и вокруг, боятся. У страха глаза велики: любой пустяк принимают за бунт. Могут и не помиловать. На месте Бирона…
Бирону было бы выгодно казнить. Повязать кровью тех, кто его все равно не любит. Его и повелительницу.
Мне-то что делать?!
Мне наплевать на мужиковатую сорокалетнюю тетку, вцепившуюся в случайно павшую на голову корону смертной хваткой, до крови из под ногтей; на ее курляндского жеребчика; на толпящихся у ног хозяйки придворных в лилового и канареечного цвета камзолах — сих вечно голодных птенцов, с мерзким писком разевающих желтые пасти в ожидании подачки. Не эти, так другие. Их просто приходится терпеть, как скверный климат или домашних насекомых. И соблюдать правила игры, которая не нами началась и не нами кончится.
Но сказать смерть, за мелкую и вздорную вину, боевому товарищу…
Словно бы меня стало двое. Читтанов-умный и Читтанов-дурак. Один говорит: смирись… интересы дела… польза отечества… Другой: иди в ж…, не могу больше!
— Господин генерал-аншеф, ваше мнение?
— Полагаю, преступник виновен — но лишь в непредумышленном деянии, при кратковременном помрачении разума. В здравом уме он бы не дерзнул на такое. Лишив чинов, наград и регалий, отослать в дальние деревни под строгий караул.
Вы видели, как зимою, в мороз, трескается на северных морях лед? Вот так между мною и остальными с шорохом пробежала тонкая черта, обратилась в полосу, дымящуюся хладным туманом, и стала расширяться, унося прочь от засранного, но жилого берега в безмолвные пустые пространства.
Внешне ничто не изменилось. Коллегия, Сенат, новоучрежденная Камчатская компания — заседания, дела и встречи. Только опаска, словно от прокаженного или оспенного больного, появилась у многих. У некоторых, кстати, наоборот. Случалось встречать такие взгляды (молодых офицеров, большей частью), кои равноценны были присяге. Персонально мне данной, а не короне. Смертную казнь, сказанную Сенатом Румянцеву всеми голосами без одного, государыня и впрямь заменила ссылкой. Молва приписала сие смягчение вашему покорному слуге, хотя на самом деле это заслуга Остермана. Опальный генерал был любим войском — а братья Бироны нет. Возмущение против коварных иноземцев, якобы нарочно раздразнивших вспыльчивого героя, чтобы столкнуть с императрицей, поднялось немалое. Казнь должна быть публичной, площадь окружена гвардией — где гарантия, что гвардия будет спокойно смотреть? Хитроумный Андрей Иванович все это рассчитал и нашел способ убедить Анну. Одновременно мне предписали немедля отправиться на крымскую границу (куда я и так собирался с инспекцией, но не столь быстро).
Ладно, как-нибудь обойдется. У меня вовсе нет намерения становиться вождем всех недовольных. А проводить лето в Москве — удовольствие сомнительное. Здесь не только политическая атмосфера отравлена вредоносными миазмами, но и атмосфера обыкновенная, которой дышат. Двести тысяч народу производят изрядное количество дерьма, помоев и всяких отбросов, которые в простоте выкидывают на улицы или в реку. Удивительно, что рыба еще не вывелась: недавно сам видел, как ребятишки под мостом поймали стерлядь. Будь древняя столица по-настоящему большим городом, с полумиллионом населения или выше — мы бы вообще задохнулись. Но таковых в Европе всего три: Константинополь, Париж и Лондон.
Всю дорогу оглядывался. Попутные всадники, догоняющие карету, вызывали неприятное волнение. С Анны станется послать офицера с указом об аресте вдогонку, как Долгоруким. Нет, пока обошлось. Нужен им граф Читтанов: миллионы, ожидаемые от восточной коммерции, вынуждают мириться с мелкими вольностями в поведении. Слава Богу, полномочия не урезали. Сиверс, думаю, в Петербурге беснуется, что азовский флот велено ревизовать армейскому генералу, заодно с крепостями и войском.
Как раз войско я осматривал не слишком пристально. Старый генерал Вейсбах, матерый вояка, чином был мне равен, а по сроку производства — старше. Оскорблять его недоверием не имелось ни причины, ни корысти. Сравнительно с полками, расквартированными во внутренних губерниях, Украинский корпус выглядел прилично, и беседы шли больше о том, чем помочь и о чем походатайствовать в столице.
Главная квартира стояла в Богородицке: приятно было видеть, как вырос город, созданный мною на месте незначительного земляного укрепления. Посады и слободы распространились далеко за пределы бастионного фрунта, отмеренного когда-то с большим запасом. На городском базаре звучала разноязыкая речь — однако крупные сделки совершались в тишине торговых контор, во множестве угнездившихся на главной улице. Стекло, железо, лес, зерно, уголь. Не только на местные нужды. Здешний скобяной товар ходил в Польшу почти до Кракова, успешно состязаясь с австрийским; стеклянную посуду иноземцы тоже брали (кому венецианская не по карману). С углем Фома Гриффит поставил дело так, что сие топливо стало дешевле дров — заставив жителей благословлять Создателя, мудро сотворившего залежи оного в местности почти безлесной. Хлеб уже три года подряд родился замечательно. Если бы не запрет на вывоз — можно б хорошо заработать в Константинополе, одновременно поставив турок в зависимость от нашей пшенички. Но, по старомыслию московских властей, избытки прели в скирдах или задешево продавались в Гетманщину на винокурение. Имея в распоряжении немалые средства, казенные и собственные, я не упустил удобный момент и заложил хлебные магазины с расчетом на продовольствие пятидесятитысячной армии. Буде и следующий урожай окажется столь же хорош, запасы рассчитывал удвоить, а потом каждый год обновлять, чтобы не сгнили.
Вместе с Вейсбахом и вызванным из Азова командором Козенцем (после удаления Змаевича — старшим в тамошнем адмиралтействе) сходили по Днепру за пороги, присмотреть место для верфи. В Таванске с комендантом полковником фон Герцдорфом обсудили будущие фортификационные работы по усилению сей важнейшей крепости. Эти планы — в коллегию и Сенат. Такие прожекты слишком дороги, чтобы решать помимо столицы. На местные доходы их не поднять. Однако скромные пошлины и аренды вполне способны покрыть иные нужды, не менее насущные. Хотя армия и флот живут обыкновенно как кошка с собакой, попытался сговорить главноначальствующих лиц на общее дело.
— Господа, новая война с турками неизбежна уже потому, что нынешние границы не устраивают ни нас, ни султана. Когда? Уверен, французы постараются подвигнуть Порту к враждебным действиям при любых беспокойствах в Европе, дабы связать нам руки. Хочу обратить ваш взор на новую угрозу…
Вейсбах, на правах старшего по возрасту и сроку службы, достаточно бесцеремонно прервал меня:
— Тахмасп-Кули-хан приносит султану довольно хлопот, чтобы отвратить оного от дурных намерений относительно нас.
— Спаси его Аллах, если оттянет неминуемое столкновение. Но я не стал бы слишком надеяться ни на сего персидского разбойника, ни на пьяницу-шаха. Только на собственные силы. Уступая неприятелю числом, мы уповаем на превосходство регулярного войска над нестройными восточными толпами. Так вот, появилась опасность, что турки переймут европейский воинский порядок. Цесарский генерал-фельдцейхмейстер граф Бонневаль предложил им свои услуги. Вы с ним не знакомы, генерал?
— Не имел чести. Я перешел в русскую службу, когда он был еще во Франции, а его ссора с военным министром Шамильяром только начиналась.
— А я встречал в Брюсселе, лет семь назад. Это человек безудержно храбрый и весьма искушенный в марсовом искусстве. Правда, в высшей степени вздорный и неуживчивый. Поладит ли он с османами, трудно сказать. Однако рассчитывать следует на худшее: есть возможность, что султанские топчилары к будущей войне окажутся выучены не хуже имперцев или французов. У нас же артиллерийская школа, некогда бывшая в Богородицке, зачахла от недостатка денег. Зная положение в столице, обнадежить присылкой умелых офицеров с севера тоже не могу. Надо учить здесь, на месте. Сэр Ричард, флот ведь в равной мере нуждается в хороших канонирах? Почему бы не преодолеть извечную разобщенность и не внести некую долю в сие начинание?
Козенц покачал головою с явным сомнением:
— Без дозволения Адмиралтейств-коллегии ничего сделать нельзя. Уговорите адмиралов — возражать не стану.
— Постараюсь переложить сии уговоры на Ее Императорское Величество: тогда Сиверс будет обезоружен. Но прежде, чем идти во дворец, надо счесть здешние нужды и возможности. Нетребование денег из казны почитаю первым условием благосклонного приема сего ходатайства. Как с харьковской славяно-греко-латинскою школой, ставшей достойным монументом князю Михаилу Михайловичу и преосвященному Епифанию. Оба основателя преселились в небесные чертоги, а дело их живет, благодаря разумному устройству финансов.
— А не лучше ли будет артиллерийские и навигационные науки, вкупе с инженерным делом, прибавить к пиитике и риторике, изучаемым в Харькове?
Вейсбах, богемский уроженец, умел счесть каждый пфенниг и не желал трудить своих коней, если возможно проехаться в чужой карете.
— Полагаю, сие было бы полезно, хотя не в замену новых учебных заведений, а в дополнение к ним. Скудость в образованных офицерах и чиновниках чрезвычайная. Ваши полки еще прилично укомплектованы: к примеру, в Низовом корпусе мне доводилось встречать поручиков и даже капитанов азбучно неграмотных. Приказал выучиться, конечно… Только ведь чтение, письмо и счет — этого сержанту хватит, а офицеру мало. В ландмилицких поселениях сколько у нас народу грамоте разумеет?
Собеседники мои переглянулись с едва заметной усмешкой по поводу настырности гостя, упрямо влезающего в дела, не ему порученные. Дескать, губернатора азовского, Егора Иваныча Пашкова, спроси. Впрочем, вопрос был скорее риторический: сразу по приезде я посылал доверенных людей на линию с целью получить правдивый, неначальственный взгляд на положение дел.
— Вероятно, не меньше, чем в Гетманщине? — Предположил капитан-командор из чистой вежливости.
— Среди взрослых меньше, и намного. Трое или четверо на сотню, как по всей Великой Руси. А вот из отроков лет четырнадцати-пятнадцати — больше трети, в некоторых полках и половина! Не всякий посад — да наверно, сэр Ричард, и не всякое английское графство может сим похвастаться!
— Вы правы, экселенц: не всякое. В Англии есть глухие места.
— При самом создании ландмилиции блаженной памяти государем Петром Алексеевичем, я вписал в регламент полковые цифирные школы и поголовное обучение. То есть, ребят — поголовное, девок — на усмотрение родителей. Даже при том, что желаемое исполнено лишь частично, нам есть кем наполнять классы навигаторов и артиллеристов, равно как и любые другие, кои угодно будет учредить! Можно выбирать лучших, одного из десятков, без риска исчерпать источник, потому как семьи многочадны и детей, твердящих ныне азы, в полковых селениях много. Уже сейчас количество годных в солдаты превышает штат, а когда нынешние десятилетние войдут в боевой возраст, превысит оный вдвое. Если не случится глада и мора, от чего Господь да избавит, в нашем распоряжении окажутся тысячи грамотных, твердых и верных людей, с малолетства знакомых с оружием и возросших под сенью полкового знамени.
«…Всем обязанных графу Читтанову и беспредельно преданных ему», — закончил тайный голос внутри меня. Не вслух — но всякому, прошедшему хотя бы тривиум политики, мысль сия будет явна. На каком шаге мне постараются подставить ножку? Обученные люди нужны, и школы создать не воспрепятствуют. Тем более вдали от столицы, где аргусы наши бдят не очень старательно. Удастся ли пристроить выучеников? Смотря куда. За места в гвардии и при дворе отпрыски благородных семей готовы зубами грызть друг другу глотки. В армейских полках посвободней, однако мирное время не позволит быстро продвинуть в офицеры вчерашних школяров. Сия привилегия только будущему Шляхетскому корпусу дарована. В артиллерии и флоте препятствий не обретается: там всегда некомплект, и кем попало его не заткнешь. Знающих — с руками оторвут, не спрашивая дипломов от Герольдмейстерской конторы.
— Кстати, сэр Ричард, как вы отнесетесь к мысли открыть, помимо артиллерийского и навигаторского, кораблестроительный класс? У вас и так много учеников, многие из них сами стали превосходными мастерами — но почему бы не поставить дело на более широкую основу?
— Сие искусство постигается только долголетней практикой.
— Не вижу препятствий. Воронежские и тавровские верфи так или иначе нужно переносить на море; пусть при них и будет сия школа. Ваш бесценный опыт — капитал, который надо беречь и приумножать. Сорбонну или Оксфорд мы тут не устроим, однако ж с Морской академией Санкт-Петербургской потягаться можем вполне.
Англичанин задумался: видно, что идея его захватила. На склоне лет людей иногда посещает желание перехитрить небеса и часть себя сохранить на этом свете: свой ум, вложенный в чужие головы, например. Похоже, наметился союз с фигурой не особо чиновной, но важной по влиянию среди моряков.
Сей стратегический альянс был окончательно закреплен по пути в Азов, когда я пригласил командора в свою карету. Намерение убедить императрицу в необходимости ассигновать миллион для строительства на юге двух десятков смоллшипов встретило в нем горячего сторонника. Последние шесть лет латали старье, и даже на то денег не хватало: в настоящее время азовский флот имел два корабля годных и третий в тимберовке. В порядке ответной любезности капитан-командор согласился изменить конструкцию своих пятидесятипушечников сообразно моим пожеланиям: везде, где возможно, заменить деревянные шканты, кницы и нагели железными деталями. Камбузная печь, прежде выполнявшаяся из кирпича, тоже подлежала клепке из листового металла. Как легко догадаться, заказывать это все (а также инструменты и корабельные гвозди) Адмиралтейство должно было в Тайболе. Немалый подряд: на каждый кораблик полторы тысячи пудов железа, и весьма дорогостоящего! Приватная выгода очевидна — и государственная тоже не упущена, ибо суда получатся надежней.
Зато расчеты мои по срокам Козенц безжалостно похерил. Четыре корабля в год — невозможная цифра, из-за нехватки опытных мастеров, коих нельзя заменить вчерашними крестьянами. Два — и то сомнительно. Взамен того, сухой и жаркий климат Приазовья делает излишней трехлетнюю выдержку древесины: половины срока вполне достаточно. Пустить в ход новую верфь можно хоть на будущий год, если принципальные деревья (дубовые бревна, идущие на киль и другие важнейшие части) перевезти из Таврова не самосплавом, а на плоскодонных баржах. Для предохранения от гнили британец согласился испытать каменноугольную смолу, в надежде, что оная окажется посильнее обычной.
Заразившись азартом мастера, я решил: гулять, так гулять! — и на первый корабль ассигновал собственные деньги (с естественным условием контроля над расходом оных). Богатый человек просто обязан приносить иногда подобные искупительные жертвы, дабы приглушать зависть и поддерживать доброе отношение к себе. Хотите верьте, хотите нет, но мне иногда кажется, что людская ненависть и злоба имеют непосредственное действие, не объяснимое рационально: они подрывают здоровье человека, на которого направлены, и лишают удачи в делах. Причем действенны лишь сантименты со стороны соплеменников. Враги отечества пусть ненавидят.
Превращение из ходатая в заказчика делало непререкаемыми мои пожелания по улучшению конструкции, кои в противном случае подверглись бы суровой критике в Адмиралтействе. Конечно, дозволение государыни на строительство все равно требовалось — но дареный конь, сами знаете, в хозяйстве на особых правах. А когда преимущества нового станут явны, обосновать возврат к старому будет непросто. Под сей резон, навязал корабельному архитектору еще несколько новшеств, ожидавших своего часа со времени возвращения «Менелая». Первое — водяные бочки из белой жести (в деревянном каркасе, чтоб не мялись). Кстати, как довелось узнать, голландцы еще лет сто назад, плавая в тропиках, использовали мартаваны — огромные сосуды из обожженной глины. В них тоже вода не тухнет; но уж больно, дьяволы, тяжелы. Второе — вертикальный подъемник с воротом для доставки зарядов из крюйт-камеры на орудийные палубы. Сие позволило бы исключить беготню вверх-вниз во время боя и сократить подносчиков. Третье — единый калибр. В нижнем деке двадцатичетырехфунтовые пушки, наверху такие же гаубицы. Заменив последними длинные восьми- или девятифунтовки, мы ничего не потеряем: если волны так велики, что нижние порты невозможно открыть, вести огонь издали бесполезно. Капитан-командор, заикнувшийся о чрезмерном весе батареи, выслушал целую лекцию о достоинствах сверленых орудий, которые значительно легче литых, но по баллистике оные превосходят — за счет малого зазора между ядром и стенками ствола. С таким вооружением корабль четвертого ранга по весу залпа будет равен третьеранговому.
Правда, сверленые пушки требуют хорошей литейни. Иначе ядра выходят кривые. Липские заводы, состоящие в ведении Адмиралтейства, к исправлению безнадежны. Сразу надо думать, где расположить мастерские, чтоб иметь рядом уголь и водные пути (для удобного подвоза демидовского чугуна с Урала). Хорошо бы свой выплавлять, но ведь не поставишь доменные печи в голой степи. Англичане давно уже (лет семьдесят, пожалуй) задумываются о переходе на кокс и пытаются добавлять его к древесному углю; пока что предел их достижений — смешанное топливо. Я тоже пробовал — и понял, что с наскока сего не сотворить. Нужен иной состав шихты и усиленное дутье. Тратить немалые деньги на новые опыты? Не сейчас. Есть множество более насущных нужд: без дополнительных вложений шагу не ступишь. За какое звено ни возьмись, тянется вся цепочка.
Швырять деньги безоглядно возможности не имелось. Хотя товар, привезенный «Менелаем», был полностью продан и оплачен, добрая половина выручки застряла в банке Сан-Джорджо. Дело в том, что главный доход генуэзские банкиры издавна получали от кредитования испанских королей. Разойдясь с контрагентами в итоге накопившихся счетов, нынешний монарх объявил, что ему дополнительно причитается два миллиона испанских песо, и послал самого крутого из своих военачальников истребовать оные. Адмирал Блас де Лезо с шестью кораблями вошел в гавань, выдвинул пушки и навел оные на город. С кем-то другим еще поторговались бы, потянули время — но этого знали. Сей флотоводец, прозванный «пол-человека»: однорукий, одноногий и одноглазый, — имел нрав неукротимый, и решительности в нем хватило бы не на половинку адмирала, а на дюжину целых. Деньги отдали моментально. Незваный гость удалился, объявив, что честь испанского флага спасена.
Честь — честью, однако некоронованные вкладчики пострадали. Не отрицаясь от выплат, банкиры настоятельно просили о ретардации года на два или три. Никоим образом не заинтересованный в банкротстве Сан-Джорджо, я согласился. Как и все прочие: видимо, больше ни у кого из партнеров банка не нашлось под рукою линейной эскадры.
Сочтя все затраты, пришлось отказаться от денежного участия в строительстве нового порта близ устья Кальмиуса. Пусть государыня сама справляется. Надо бы ее поощрить, выбрав подходящее имя для крепости. Анненбург? Анненштадт? Или лучше Анненхафен? Как-то не звучит. Имя сие не угодно Фортуне: мои новейшие беломорские корабли, названные «Св. Анна» и «Св. Екатерина» (Прасковье не хватило) потребовали после постройки усиления каркаса. То ли баженинские мастера согрешили, то ли Франсуа Кулон-младший, у коего мои люди списали чертежи. А может, замена дуба на сосну и лиственницу вышла боком. Ни соловецкие чудотворцы, ни гомеровские герои этаких бабьих капризов себе не позволяли.
Губернатор азовский Пашков (вообще-то вице-, но унизительную приставку часто опускали, понеже старшего начальника, при нынешнем пренебрежении отдаленными провинциями, в Азове лет пять как не было) встретил с предупредительным вниманием и опаской, справедливо полагая, что дальнейшая карьера его будет сильно зависеть от моего доклада императрице. Впрочем, для серьезных претензий к Егору Ивановичу просто не было почвы: армия и флот не в его ведении, а податные сборы в губернии невелики. При всем желании, много не наворуешь. Больше всего меня интересовали отношения с туземными народами.
Пространство меж низовьями Дона и Кавказским хребтом делят три племени: ногаи, черкесы и калмыки. Долгое время первейшей фигурой в сих краях был неутомимый смутьян Бахты-Гирей, коего безуспешно старались истребить и мы, и крымцы. Лихой татарин никак не давался в трату, лишь недавно его черкесы зарезали. Впрочем, исчезновение упорного врага не пошло на пользу русскому влиянию. Пока он был жив, сменявшие друг друга ханы ничего не могли поделать с беспокойным и строптивым родичем; кубанская степь оставалась ничейной территорией без твердой власти. Ныне Крым уверенно подчинил разрозненные ногайские орды и добился по крайней мере формального вассалитета черкесских князей, обретающихся меж Кубанью и Черным морем. Известно было о пересылках с кабардинцами и калмыками, с целью отрыва оных от России и привлечения на враждебную сторону.
Пашков недоумевал, почему я с ходу затребовал сведения о малозначительной, по его мнению, ярмарке на Кагальнике.
— Егор Иваныч, мы с Григорием Чернышевым шесть лет назад, сей торг устраивая, отнюдь не о наполнении казны хлопотали. Вернее, не в первую очередь. И не о купецких прибытках. И уж тем паче — не о бездельной корысти твоих мытарей. Дело о том шло, как бы кочевых ногаев от хана оторвать и привязать к России. Чтоб ихние мурзы предпочли торговлю набегам, на место лука и сабли ходили к нам с овчинами и бараньей шерстью, да конские табуны гоняли. А если ты, друг любезный…
— Напраслина, Ваше Высокопревосходительство. Сроду из таможенных денег копейки не брал.
— Не брал, так не брал. Если Вашего Высокородия подчиненные, утратив страх Божий, дерут неуказные поборы в свой карман с любого, кто на торгу явится, и всех инородцев распугали… Не спорь, Егор Иваныч, у меня доношения о том не первый год копятся. В казну из сих денег меньше попадает, нежели на содержание таможни идет — так что прямой резон торговлю учинить вольной, а чиновников… Чиновников лишних найду, куда деть. Сенат я уведомил, в резолюции не сомневаюсь.
— Господин генерал, не по-христиански как-то, люди все же… Дети у всех…
— Так и я не зверь. Живота лишать не намерен. Даже суд заводить не стану, ибо досугом на сию волокиту не располагаю. Просто переведу в другие края, с понижением в чине.
— Куда, коль не секрет?
— В Охотский острог. Дивное местечко. Тоже на берегу моря. В общем, лишних у тебя заберу.
Борьба с казнокрадством подобна прополке огорода: столь же скучна и столь же нескончаема. Совершенно искоренить плевелы невозможно, они прорастают вновь и вновь. Стоит ослабить усилия — и самые мудрые замыслы не принесут плодов. Подобно сему, ленивый земледелец вырастит вместо полезного урожая трехаршинный бурьян. В промежутках меж показательными экзекуциями, утомившись от разбора дел, я езжал к флоту, в Белосарайскую крепость или в Троицкую у Таганьего рога.
Моряков назойливое внимание начальства (к тому ж не своего, адмиралтейского, а сухопутного) отнюдь не радовало. Тем более, начальство совало свой длинный нос в такие дыры, куда не склонны заглядывать адмиралы.
— ….. мать! У тебя нужник плавучий, а не корабль! Воняет, как на турецкой галере!.. — Срамил я капитана, лазая вместе с ним в глубинах трюма. — Что, матросам до гальюна не дойти?!
— Много с поносом, Ваше Высокопревосходительство. В гошпиталь отправляем, когда на целую шлюпку наберется.
— Устрой корабельный лазарет, отдели больных от здоровых — иначе вся команда сляжет. В гарнизонах и ландмилиции с гастрическими лихорадками бороться умеют. Средства известны: питье кипяченое или кислое, мытье рук с мылом, баня. Так чего же флот отстает?! Ждете, пока начнут взыскивать за неоправданные потери? Регламент о сбережении здоровья до вас довели? Так исполняйте, бесово племя!
— Слушаюсь, Ваш-шпр-с-ство!
По роже видно, что сие послушание — до тех пор, пока генерал не уедет. Когда-то в бутурлинской дивизии правила здоровой жизни вбивались шпицрутенами. Не только солдат и унтеров — пришлось и офицеров иных посечь. Но вбили крепко. Здесь так не сделаешь: уже потому, что начинать пришлось бы с капитанов. Приличия не позволяют. А по-хорошему не доходит. Может, вычеты из жалованья ввести за чрезмерную смертность в командах? Так для этого надо жалованье хотя бы платить, вовремя и полностью, — о чем морские офицеры уже мечтать забыли. Через капитан-командора новые порядки не ввести. Козенц хорош как инженер и корабельный архитектор, однако не одарен силой принуждения и начальственной въедливостью. К тому же, наша с ним дружба имеет предел прочности, который я чуть не перешел недавно, назначив ему в помощь своих приказчиков. Старик обиделся и пришел ругаться со мною.
— Если, Александр Иванович, ваши люди лучше меня знают, как корабли строить, так не лучше ли им сие и поручить?!
— Помилуйте, сэр Ричард: они совсем по другой части, хотя и бывали на верфях Дептфорда. Разве вы не считаете полезным точный учет всех расходов, с последующим рассмотрением, на чем возможно сэкономить? Есть у них и еще умение: выжать из работников гораздо больше труда, нежели обыкновенно. Без кнута, за счет маневра деньгами. Известно же, что урочная работа идет намного веселей, чем поденная.
— Если корабельные плотники начнут спешить, ничего доброго из этого не выйдет.
— Голландские и английские работают втрое скорее здешних, а результат, согласитесь, не так уж плох. Насчет разницы в инструменте — знаю. Обеспечу самым лучшим.
Безукоризненная почтительность новых помощников и неплохое знание английского языка, обретенное за время учебы в Лондоне, постепенно примирили главного мастера с присутствием соглядатаев. Но малейшее давление на него (неважно, по какой части) могло вновь пробудить задремавшую обиду. Ввести в чужой епархии свои порядки — дело совсем не простое. Тем более, распоряжения мои касательно предохранения от болезней плохо сходились с привычками моряков, как русских, так и британских. Англия издавна оплачивает свое богатство и морское могущество матросскими жизнями — щедро, не торгуясь. Даже торговых шкиперов не смущает утрата четверти команды за одно плавание в западные или восточные Индии. На военных кораблях, где теснота больше, а кормежка хуже, к переходу в иной мир относятся еще более философски. Взять, к примеру, недавнюю блокаду Порто Белло, когда вице-адмирал Хозьер потерял две трети своих людей от морового поветрия и сам разделил их участь. В том же двадцать шестом году Чарльз Уоджер, крейсируя с эскадрой в виду Ревеля, досыта накормил эстляндских раков английскою мертвечиной: каждый день дюжины длинных, наспех зашитых парусиновых мешков спускали за борт под торопливую скороговорку корабельных священников.
У нас в России традиция наплевательского отношения к жизни и смерти нижних чинов примерно такова ж. Но вот беда: что сходит с рук Royal Navy, для русского флота губительно. Нет у него неисчерпаемого резерва опытных моряков. Здесь каждого матроса надлежит долго и трудно учить, а выученного — беречь, ибо замены ему взять негде. Будучи сам судовладельцем, я в полной мере прочувствовал сию трудность, и на своих кораблях отчасти оную преодолел. Гастрические лихорадки удалось победить; только второй бич моряков, цинга, по-прежнему собирала свои жертвы.
Кое-какие успехи в борьбе с нею имелись. Главный доктор московской гошпитали Николай Бидлоо всю прошлую зиму испытывал на пациентах всевозможные снадобья, рекомендованные коллегами (разве что купоросной кислотой, как иные мудрецы учили, больных не поил) — и некоторые лекарства дали результат. Сначала открылось, что облегчение скорбутным больным приносит особое пиво, сваренное по немецкому рецепту на осиновой коре, сосновых шишках и можжевельнике; еще лучше действует свежая телячья кровь; и наконец, сильнее всего — трава, у поморов так и называемая «скорбутной». Вот только эффект этих средств оказался неустойчивым: сегодня помогает, а завтра — нет. Травку мне аж в Мезенском уезде из-под снега выкопали, потом целый месяц до Москвы везли. Вначале она показалась прямо-таки чудодейственной, но при первой оттепели, оттаяв и малость полежав, лечебную силу разом утратила. То же самое с кровью: оную нужно пить еще теплой. Похоже, что лекарственная субстанция весьма нежна, и получить какие-нибудь декокты или пилюли, годные к продолжительному хранению, навряд ли удастся. Что в сем случае прикажете делать морякам, путешествующим в южных морях? Аптекарский огород на палубе развести или в трюме хлев устроить?
Можно, конечно, и устроить. Живой скот моряки частенько берут в плавание, не довольствуясь солониной. Но быстро пускают в суп: дело хлопотное. А чтоб иметь средство от цинги на всем протяжении пути в Камчатку — надо держать телят живыми, елико возможно. Кровь выцеживать малыми порциями, знакомым каждому лекарю способом флеботомии. Резать — только при повальной болезни команды. Скорбутную, иначе ложечную, траву хорошо бы высадить на островах в южном океане, климат которых близок к беломорскому: Тристан-да-Кунья, Новый Амстердам или Святого Павла… Более гостеприимные места европейские державы, к сожалению, уже расхватали. Россия на сей пир явилась к шапочному разбору. Мы уступаем первопроходцам по всем статьям, и чтобы попытаться встать наравне — должны значительно лучше соперников использовать наши скудные ресурсы, денежные и человеческие.
Сия задача не выходила у меня из ума, даже во время иных занятий. Я готовил коммерческие баталии с голландцами и англичанами, и не брал в расчет внутренних интриг (считая свою победу в оных окончательною). Но вскоре письма из Москвы принесли тревожные вести.
«Сибирские караванщики», во главе с Ягужинским, воспользовались моим удалением (оплошность с кораблями тоже припомнили) и взяли частичный реванш, заключив противоестественный союз с Адмиралтейством. Наверно, неосторожно было оставлять адмиралов за бортом новоучрежденной компании. В отместку Гордон и Сиверс, позабыв на время вражду, стали действовать вместе — и добились, что снаряжение «Святой Анны» в Камчатку императрица передала их ведомству. Новая экспедиция капитан-командора Беринга тоже осталась за ними. Доставку припасов для оной разделили между морем и сушей, на случай неудачи первого компанейского плавания.
Должен сознаться, определенный резон в такой предосторожности был. Наши датские соперники только что потерпели сокрушительное фиаско. Судно Азиатской компании «Золотой Лев», вышедшее из Копенгагена в Транкебар, шторм выбросил на западный берег Ирландии. Серебро, предназначенное для закупки восточных товаров, удалось спасти, но… Пока тянулась неспешная юридическая процедура признания датчан законными владельцами денег — двенадцать тяжеленных сундуков, сложенных в замке лендлорда, жители вынесли и раздуванили. Явная причастность к похищению знатнейших фамилий графства: Кросби, Фицджеральдов, Бленнерхассетов и прочих, вкупе с открытой враждебностью британцев к чужой торговле, лишала судебное разбирательство благоприятной перспективы.
У других соседей тоже не все пошло гладко. Корабль «Фредерик король Швеции» перехватили в проливе между Явой и Суматрой голландцы и отвели в Батавию. После долгих переговоров отпустили — дождавшись, однако, пока сезонные ветры станут неблагоприятными. Из-за нерасчетной задержки в пути перемерла половина команды «Фредерика», а остальные вернулись в Гетеборг едва живыми. Мнится, лишь боязнь репрессалий короля против голландской коммерции помешала батавским властям честно пустить шведов на корм акулам.
Не имелось причин полагать, что русский корабль в тех краях встретят любезней. Как только «Менелай» проскочил?! Разве за счет внезапности. Но если хозяева настороже, то узкий пролив скрытно миновать невозможно. Ночью он опасен из-за многочисленных островов и подводных скал, а днем просматривается насквозь. И до столицы нидерландской Ост-Индии — всего лишь восемьдесят верст. По рассказам знающих людей, в Батавии и близ нее всегда найдется с полдюжины кораблей, боевою силой равных фрегату. Без пушек нельзя вести прибыльную торговлю в морях, изобилующих китайскими и магометанскими пиратами.
Учитывая обстоятельства, мы с Лукою Капрани сочинили иной маршрут для «Святой Анны». Если не подходить к берегам Китая на пути в Камчатку (а нам это делать незачем), то шлейф островов, тянущийся от Азии к зюйд-осту, лучше пересечь на тысячу миль восточнее, где голландское влияние уравновешивается португальским. Ничейная полоса, не имеющая четких границ, служит пристанищем народу, с коим неплохо было бы подружиться. Именуют сих людей топасцами.
Происходя от сожительства португальцев с туземными женщинами, топасцы исповедуют христианство и считают себя белыми. Как большинство бастардов, они щедро одарены здоровьем, силой и храбростью. Внутреннее устройство сообщества напоминает русский казачий круг. На острове Тимор эти своевольники совершенно покорили туземцев, отразили ряд голландских экспедиций и выгнали португальского губернатора; их атаман Гаспар да Коста находится буквально в шаге от превращения во владетельного князя. Так почему бы не помочь ему сей шаг сделать?! Наверняка он располагает запасами провианта и нуждается в оружии: нам бы такой союзник весьма пригодился.
Теперь далеко идущие планы повисли в воздухе. Капитан майорского ранга Шпанберг, по рекомендации Адмиралтейства назначенный Ее Величеством на «Святую Анну», следовать моим предначертаниям не обязан. Лука, оскорбленный предложением пойти к Шпанбергу в лейтенанты, наотрез отказался от участия в плавании, и половина команды — следом. Самонадеянный капитан только рад был избавиться от «читтановцев», с коими отношения у него взаимно не сложились. Он восполнил некомплект военными моряками до полного фрегатского штата и доложил о готовности. Протесты мои опоздали: пока курьеры скакали по бескрайним степям, «Анна», покинув архангельский порт, растаяла в осенних туманах.
Достигнет ли она вожделенной Камчатки? Душу омрачали предчувствия грядущих бед. Не только грозящих кораблю. Если государыне внушили, будто восточную коммерцию можно устроить без меня — это дурной признак. Очень дурной.
Танцы над пропастью
Андрей Иванович Ушаков смолоду был дворянином почти бездушным. У него находился в нераздельном обладании с братьями — смешно сказать — один крепостной мужик. На пятерых-то помещиков! Двадцати лет отроду взятый Петром Великим в гвардейцы, крепкий и смышленый юноша сделал неплохую карьеру. Он выучился грамоте, чтобы писать доносы, и в должности тайного фискала употреблялся государем для самых сокровенных дел. После Петра, быв замешан в интриги Толстого, имел достаточно ловкости и политического такта, чтоб избежать отправки на Соловки либо в Низовой корпус. При Анне вышел в генерал-аншефы и подполковники Семеновского полка (лет двадцать допрежь не видавши вооруженного неприятеля). А с возобновлением Тайной канцелярии приобрел значение исключительное.
Незадолго до возвращения моего с юга генерал-лейтенант принц Гессен-Гомбургский, молодой человек с бараньими глазами, доложил о поносительных словах фельдмаршала Долгорукова в адрес императрицы. Смертный приговор, в знак особой милости замененный заточением в Шлиссельбурге, и вечная каторга нескольким молодым офицерам за недоношение окончательно дали понять, что неприкосновенных у нас нет. Жаждущие вскочить на чужое место или отомстить личному врагу за обиду строчили доносы — и вся эта грязь стекалась в Канцелярию. Глава оной, обладая правом решать, что почесть пустяками, а что — государственным преступлением, и соответственно докладывать императрице, сделался вершителем судеб. Невзирая на малое число подчиненных служителей, он вошел в узкий круг персон, наиболее приближенных к Ее Величеству. Все знали: Андрей Иванович служит верно и взяток не берет — что не помешало ему, при скромном и нерегулярном жалованьи, стать одним из богатейших людей России. Как собаке, чтоб не теряла азарта, умный охотник бросает шматок мяса с кровью, отрезанный от добычи, так генералу-от-застенка монархи, начиная с Петра, жаловали часть достояния жертв. Или же просто дозволяли к присвоению.
На бабьем страхе и неуверенности Ушаков вырос в колоссальную фигуру — единым часом, будто поганый гриб в лесу. Наряду с ним, от опалы князя Василия Владимировича выиграл Миних. Ставши президентом Военной коллегии, он открылся с невидимой дотоле стороны. Прежде ольденбуржец изображал из себя деятельного администратора, чуждого политических амбиций; теперь в нем пробудились таланты придворного угодника. Императрица встретила Рождество в Москве, а на Святках возглавила великое переселение в северную столицу. Пышная встреча, с потешной баталией — взятием снежной крепости, выстроенной на льду Невы — властительнице России чрезвычайно понравилась. Генерал-губернатор не зря старался: не всякий настоящий штурм вознаграждается так щедро. Как только правительство утвердилось в Санкт-Петербурге, ему был пожалован генерал-фельдмаршальский чин.
На новоявленного соперника стали с опаскою поглядывать Бирон с Остерманом, лишь недавно сбывшие с рук Ягужинского. Буйный (особенно во хмелю) генерал-прокурор имел неоспоримые заслуги перед Анной и претендовал на первенство при дворе, сталкиваясь с обоими так, что искры летели. На фаворита даже, по рассказам, обнажил шпагу. Помня важную роль Павла Иваныча при восстановлении самодержавства, царица наказала его не слишком сурово — всего лишь отправила послом в Берлин. Исчезновение с политической сцены сего актера (в амплуа то ли героя, то ли шута) для меня имело двойственный смысл. С одной стороны, как глава Сибирского приказа, он яростно выступал против морской торговли с Китаем — с другой, служил элементом равновесия. Кому генерал-прокурор был враг, тому обер-камергер и вице-канцлер оборачивались друзьями. По крайней мере, в условном смысле, коий сохраняет это слово в политике. С поражением Ягужинского, союзники против него больше не требовались, и заинтересованность во мне двух первостепенных дельцов аннинского царствования исчезла. Вступить с ними в альянс против Миниха? Нельзя: вражда с президентом коллегии поставит крест на всех долговременных планах обустройства южных рубежей. Пусть лучше мое значение при дворе пострадает, чем турок в грядущей войне стращать голым задом!
Нет, с Минихом нужен союз. Хоть его чины не шпагой добыты — он, по крайней мере, толковый инженер и управитель. Какой из него полководец, бой покажет. Война всех расставит по своим местам. Ждать недолго.
Укрощение собственных амбиций оказалось верным тактическим приемом. Бурхард-Кристоф, конечно, честолюбец, и со всяким возможным соперником готов грызться волком — но когда предполагаемый соперник добровольно смиряется и принимает второе место при нем, он охотно прячет клыки. Начинает воспринимать советы и прислушиваться к разумным доводам. А если генералитет, в пределах своей компетенции, выступает единым строем… Кто сможет сопротивляться?! Даже пропозиции по флоту прошли без сучка, без задоринки. Сиверса сковырнули легко: слишком много грехов за ним накопилось. С назначением на его место не спешили, важнейшие вопросы все равно решались в комиссии Остермана. Вице-канцлер, считая морские дела своей вотчиной, вторжение в них Военной коллегии принял за личную обиду — но не решился встать в заведомо проигрышное положение и спорить против разумных, обдуманных мер. Всё утвердили: и перенос верфей, и белосарайский порт, и новые школы. По кораблестроительным планам прения затянулись, но двигались в верном направлении.
Главной моей морской викторией стало возвращение в Азов Змаевича. Единственный адмирал, который на опыте убедился в насущной необходимости мер по сбережению здоровья нижних чинов — и способен вбить сие убеждение даже в самые тупые умы. Характер у него для этого достаточно тверд, и кулак достаточно крепок. В Астрахани столь высокий начальник стал лишним: после заключения Рештского трактата, вернувшего персам Гилянь, флот на Каспийском море сократили вполовину.
Русская уступчивость в Азии моментально отозвалась в Европе снижением градуса вражды со стороны англичан. Угроза британского эмбарго, привычною тучей висящая над моими промыслами чуть не с самого их основания, в кои-то веки рассеялась. Дело процветало; отлаженная система коммерции чеканила деньги с размеренностью монетного двора. Внутри империи тоже открылась хорошая статья дохода: по причине умножившихся разбоев государыня особым указом дозволила, «когда купечеству или шляхетству потребно для опасения от воровских людей», продажу по вольным ценам не только пистолетов и фузей, но даже пушек. Гораздо выгодней, нежели иметь дело с казной, которая не платит годами. Завод в Тайболе обрастал новыми мастерскими, большею частью оружейными.
Вот только уверенности в ясном и безоблачном будущем — не было и в помине. Я не обольщался тактическими успехами. Анна злопамятна и не забыла мое своеволие в деле Румянцева. Еще в январе, сразу по приезде в Санкт-Петербург, на высочайшей аудиенции повеяло от нее таким крещенским холодом… Сие не означало немедленных последствий. Государыня, ко всему прочему, умна. Пусть ограниченно, по-женски — однако ее разумения довольно, чтобы считаться с мнением если не народа, то хотя бы гвардии и офицерства. После опалы фельдмаршала Долгорукова недовольство в этих кругах достигло опасной степени. Не хватало вождя. Теснить авторитетного генерала, подталкивая оного к занятию сей позиции, было бы слишком опрометчиво со стороны двора. Арестовать без повода — еще хуже.
С другой стороны, вступить на стезю конспираций — как раз и означает дать врагам этот самый повод. Внешне храня безупречную лояльность, я кожей чувствовал двоякого рода ожидающие взгляды: одни мечтали стать под знамя мятежа, другие — при малейшем намеке на заговор, первыми успеть в канцелярию Ушакова. Помимо желания и против воли, меня стремились сделать героем чужой пиесы. Какого рожна?! Империя ничего не выиграет от замены одной шайки интриганов другою, а потерять может многое. Риск свалиться в новую Смуту, к вящей радости соседних держав, слишком велик, чтобы играть подобными вещами. И главное, в чью пользу конспирировать? Голштинского младенца, имеющего предпочтительное право на трон? Да Боже упаси! Легкомысленной Елизаветы? Удерживать ее под своим влиянием я не смогу и три дня. Все, на что она способна — служить игрушкой придворных партий. Только князь Дмитрий Михайлович мог бы унять неизбежную после революции анархию и взять бразды правления в свои руки — однако помирить его с принцессой и сам Господь не в силах. Это же Голицын разжаловал дщерь Петрову из наследниц в незаконнорожденные.
Нет, господа! Служить живым тараном для вас, прошибая собственным лбом крепостные стены?! Найдутся занятия интересней и выгодней. Конечно, будь хоть малейший шанс на воплощение выстраданных мыслей о смягчении рабства, о правильных отношениях сословий — стоило бы рискнуть. Но я не настолько наивен. Внушать гвардейцам подобные идеи — как стае волков проповедовать благость поста. На другой же день после успеха заговора начнется дележ имений, раздача крепостных душ… Попробуешь помешать — самого сожрут, не поперхнувшись.
Поэтому — нет. Окончательно. Никаких конспираций. Смирение и труд. Живут же, скажем, Ласси или Вейсбах: честно, спокойно, не претендуя на политическое значение. Почему ж у меня так не получается?! Дотерпеть бы до войны, тогда уже точно не тронут.
Впрочем, и в мирное время нашлись средства упрочить свое положение. Деньги, при умелом использовании, отворяют почти любые двери. Даже врата рая, если верить церковникам. Будучи весьма сомнительным христианином, я стяжал титул поборника православия, ассигновав преосвященному Феофану несколько тысяч на проповедь среди черкесов и передав в обучение дюжину воспитанников из черкесских рабов. Для пущего соблазна заговорил с архиепископом о желательности создания при Синоде сообщества наподобие римской Конгрегации пропаганды или датского Миссионерского коллегиума.
— Россия, святой отец, на большом протяжении соседствует с народами иноверными или прямо языческими; для вразумления оных надлежит действовать не одною силой оружия, но и добрым пастырским словом. Датчане за последние полтора десятка лет основали тринадцать миссий в Лапландии — а в той стране, как я знаю, владения их короля с землями, подвластными императрице всероссийской, толком не разграничены. Кто первым окрестит лопарей, тот и будет их господином. Возобновление христианства на Кавказе, пришедшего в упадок под натиском магометан, еще важнее. Если средств казны недостаточно, давайте обратимся к частным пожертвованиям: готов первым подать пример в сем благородном деле.
Подобными авансами удалось приобрести неожиданного для матерого вольнодумца союзника — придворным же лютеранам весьма неловко было бы действовать против православного архиерея. Тем не менее, вице-канцлер нашел-таки способ отвлечь меня от государственных дел, озаботив собственными проблемами.
Досель вывозная пошлина с железного товара, установленная еще Петром Великим, платилась по весу — пятачок с пуда. За минувшие годы состав экспорта переменился. В Европу шли цементированная сталь, гвозди и белая жесть — втрое, впятеро, а то и вдесятеро дороже простого железа. Не всё делалось в самом заводе: скажем, гвоздильный промысел стал зимним крестьянским приработком по всей округе от Тихвина до Копорья; изрядное число мастерских держали бывшие мои люди, отпущенные на вольные хлеба. Сложилась своего рода гильдия, сидящая на общем потоке заморских денег и зависимая от Тайболы. Вся она оказалась под ударом: Остерман подготовил указ о взимании пошлины в процентах от стоимости товара, быстренько протащил бумаги через Коммерц-коллегию и передал в Сенат, шепнув кому следует, что прожект предварительно одобрен императрицей.
Остановить указ могла бы только Сама. Преодолев отвращение, я подкатился к Бирону, чтоб посодействовал с аудиенцией. Однако Анна оказалась глуха к доводам разума. На аргументы о предпочтительности ввозных пошлин перед вывозными государыня лишь кривила губы презрительно:
— Ты любишь, граф, других поучать о государственной пользе — так изволь оной пользе сам послужить. Или своя рубашка ближе к телу?
— Ваше Императорское Величество, мне для отечества серебра не жалко. Только при таком обложении иные товары окажутся прямо убыточными, и придется их выделку свернуть. Луженую жесть, к примеру, делают помимо нас англичане и саксонцы. Ни копейки нельзя к продажной цене набавить, соперники тут же перехватят торг. А внутри России столько не купят.
— Ништо, сладишь. Расходы свои подожми. Говорят, у тебя иные мастера полковничье жалованье получают.
— Вполне заслуженно, Ваше Величество.
— Мужикам сие невместно. Жируете. Нет, чтоб казну поддержать в трудное время…
Печальный вздох всколыхнул необъятный стан императрицы. Блеснули на увядающей груди бриллианты — чистые, как слезы детей, у которых отняли кусок хлеба, чтобы купить эти камушки.
Убедить Анну пойти на попятный и отказаться от денег я не сильно надеялся. За деньги она медведя заломает и зайца догонит. Сей разговор, скорее, был прелюдией. Смиренно поблагодарив за мудрый совет, выразил готовность с повышенными платежами справиться — ежели мне будет дано высочайшее дозволение на экспорт оружия и частей оного. Разумеется, не во враждебные или соседственные с империей державы. И чтобы Коллегия дел иностранных не претендовала на выдачу разрешений по каждой партии мушкетов или каждой стране: если угодно, пусть составит список государств, в кои продажа запрещается. В довершение почтительнейше напомнил, что с вывезенных ружей тоже пойдет плата: по сто рублей с каждой тысячи, самое меньшее.
— Ладно, припиши к Андрея Иваныча прожекту. Пускай Коммерц-коллегия снова рассмотрит, потом Военная и Сенат. Коль не найдут причин отказать, так и я не стану. Ступай, с Богом.
В случае успеха (который, после напутствия государыни, казался несомненным) выгода обещала перекрыть все убытки от козней Остермана. Занятно будет посмотреть на физиогномию вице-канцлера. Хотя с него станется изобразить радость и дружелюбие. Дескать, с самого начала на то рассчитывал, веря в ваш ум и удачу…
Возможные возражения и дополнительные условия меня не пугали. Своей армии фузей не хватает? Пожалуйте, готов поставлять ружейных стволов сколько угодно! Вернее, сколько казна сумеет оплатить, по принятой в Туле обыкновенной цене. Замки — это лучше к тулякам; сам намерен покупать у них или в Шеффилде. Или в Льеже: посмотрю, где выгодней. А окончательную сборку мушкетов устрою в Англии. Не всех; но изрядной доли, чтоб можно было под английским титулом отправлять оные в колонии. Стеснения, в угоду туземным промышленникам налагаемые парламентом на иностранные изделия, изобретательному негоцианту не помеха.
В этих видах, придется существенно расширить склады и мастерские на берегу Бристольского залива, записанные на моего приказчика Джошуа Уилбура. Для всех несведущих он полновластный хозяин: выросшую на месте бывшей медеплавильни деревню окрестные жители так и прозвали, на местном наречии, Уилбур-пентреф (а русские мастеровые, соответственно, Вилбуровым или Вилбуровкой). Кстати, при новых пошлинах лудить листовое железо корнуолльским оловом дешевле окажется там же, на валлийских берегах. Сотни две-три работников надо перевезти отсюда. Можно б, кроме незаменимых, на месте нанять — но сие дороже и чревато раскрытием секретов. Мне есть что скрывать, как от британских властей, так и от собратьев по промыслу.
Однако вывоз мастеровых не будет доброжелательно воспринят Ее Величеством. Послать оных под претекстом обучения или под видом матросов? Только хуже сделаешь. Количество привлечет внимание, попытки скрыть — возбудят любопытство. Тайны же, среди русского простонародья, умеют хранить одни раскольники. У прочих — как вина хлебнул, так вся душа наружу. А эти наглухо закрыты. И в смысле честности любому гугеноту фору дадут. Адептов двоеперстия среди моих приказчиков немало: после продажи Шафирову доли в Персидской компании, изрядная часть служителей перешла оттуда на английское направление. Иногда сомнения брали, кто кого использует: я староверов, или староверы меня, ибо в их действиях порою угадывались (без явных доказательств) собственные замыслы, отдельные от компанейских нужд. Со стариной Уилбуром они подружились и явно обнаружили в нем родственную душу. Сей проповедник равенства, если не величал короля Георга антихристом, то лишь в силу презрения к власть имущим. Не уверен, что поморские старцы об этой дружбе ведали: закосневшие в догмах начетчики всех чужестранцев без разбору верстают в слуги сатаны. Скорее, младое поколенье, выбравшись из-под дедовской опеки, принялось искать Божью правду по своему разумению. В Англии за то кнутом не дерут, и пытошными клещами над ухом молящегося не щелкают. Какая новая ересь родится из стачки русских старообрядцев с английскими квакерами, один Господь знает. Важно другое. Вместо «земли поганой», на коей лежит хвост диавола, Британия готова предстать убежищем для гонимых за веру. Тысячи беглецов из России находят приют в Литве и Турции; так почему бы расколоучителям не указать им вместо этого путь в Бристоль? И людям хорошо, и мне выгодно!
В общем, из Тайболы достаточно взять малое число инженеров и опытных мастеров; рядовой состав выучить недолго. Если набрать людей в Речи Посполитой, в раскольничьих слободах на Ветке — хрен кто докажет, что это бывшие русские подданные.
Кроме отбора мастеров для Вилбуровки, на заводе ожидало меня еще одно дело. Винтовальные фузеи Лейтмана и де ла Шометта опробованы были в стычках с лезгинцами на Кавказе, и надлежало решить дальнейшую их судьбу. Оставить оные оружейными куриозами, или же рекомендовать Воинской коллегии для вооружения егерских рот? В войсках, как ни странно, наивысшую оценку получила система Лейтмана: самая простая, и даже примитивная. Обычная дульнозарядная кремневка, с пулей большого удлинения, входящей в нарезы за счет сжатия при выстреле. Нехитрое приспособление для обкатки пуль обеспечивало очень точную их подгонку по диаметру; помеху создавал лишь пороховой нагар. Капитан Тульского полка Иван Лаврентьев, привезший отчет об испытаниях, упорно защищал полюбившееся оружие:
— Первая пуля, Ваше Высокопревосходительство, заряжается легко; вторая потруднее; а третью впору молотком забивать. Так ведь ствол прочистить недолго! Иметь при себе три ветошки: влажную, сухую и промасленную…
— В бою, через каждые два-три выстрела?! Думаешь, неприятель ждать будет, пока ты канитель разводишь?
— Не всем одновременно вставать на чистку, господин генерал; и только пока стрельба идет на большой дистанции. Если же неприятель в этот самый момент атакует, солдаты вот какую штуку придумали. Часть патронов делают с пулями чуть меньшего калибра, на пятую часть линии примерно. Заряжаются легко, нагар не мешает, меткость выходит как у обыкновенной фузеи.
— Если не хуже.
— Может, и похуже. Но в ближнем бою сие не важно. А перестрелка издаля — дело неторопливое. Главное, что никакой тонкой механики нет: значит, и ломаться почти что нечему.
Мне, как инвентору, больше нравилось оружие с «тонкой механикой», однако резоны в пользу простоты тоже были внятны. В порядке компромисса, Лейтмановы штуцера допустили к употреблению, наряду с иными видами нарезных ружей. Опыт покажет, которые лучше. Бои с лезгинцами не вполне убедительны, понеже сии дети природы не дают правильных баталий.
Среди хлопот государственных и коммерческих, незаметно подкралась весна — и в гостиной компанейской фактории явилась улыбчивая, как майское солнышко, принцесса Лизета.
— Александр Иванович, миленький, помогите! — Веселое личико скривилось в умильно-жалобную гримасу.
— Что случилось?! Кто посмел обидеть Ваше Высочество?
— Штатс-контора денег не дает! Говорят, нету в казне. Небось, для Бирона всегда находятся! А мне за прошлый год положенный пенсион еще не выплатили! Людей кормить нечем, и даже соли не выдали!
— Н-ну, дорогая Лизавета Петровна, мне совесть верноподданного не позволяет стерпеть, чтоб ваши камер-юнкеры ели пустую похлебку без соли! Помогу, конечно, в меру возможности.
— Ах, вы такой добрый! Право, неловко…
— Да не стесняйтесь, милая.
— Еще у меня дом в Сарском совсем развалился. Коль не поправить, придется все лето в Санкт-Петербурге сидеть…
Я спрятал усмешку. Да, девушка… А к большому двору тебя не зовут? Или сама не хочешь? Конечно, у тетки на глазах амуры крутить неподобно, и без того слухов о твоих приключениях довольно ходит…
— Пустяки, право слово. Только не обессудьте, все деньги у меня в обороте — лучше артель плотников дам, с нужным материалом.
Не слишком обрадовалась. Похоже, усадьба — только предлог.
— А если надо на мебель там и прочее обзаведение, так тыщонку-другую найду. Через недельку примерно, как средства освободятся.
— Спаси вас Бог, Александр Иваныч! Так я пришлю Петю?
— Шувалова? Конечно, и сами заходите! Видеть вас — истинное счастье! Позвольте поцеловать в щечку.
Чмокнув мимолетно в ответ, легкокрылая фея упорхнула. Несколько тысяч за целомудренный поцелуй — дороговато выйдет! И вообще, дружить с бывшей цесаревной вредно и опасно. Шпионов вокруг нее, как блох на бродячей собаке. Малейший знак пробуждения политических амбиций будет немедленно уловлен, стократ преувеличен и сообщен Ушакову. Юноши знатного происхождения, имевшие дерзость ей понравиться, очень быстро отправились в дальнюю дорогу: кто в Персию, а кто в Париж… Может, поэтому дочь императора привыкла утолять любовную жажду не из хрустального бокала, а из солдатской кружки. Все равно не впрок: был у нее семеновский гренадер, и того закатали в Камчатку! Теперь шепчутся о каком-то малороссиянине, самого простого происхождения… Впрочем, много и лишнего говорят. Сплетники выдумали, будто я тоже состоял с ней в близкой связи. Глупцы! Дело даже не в возрасте: тридцать лет разницы — не помеха. Просто у нас с Лизой амурные пристрастия извращены на один лад. Она тоже ищет любовь на самых низших ступенях сословной лестницы. Друг другу мы в этом смысле неинтересны.
Нет никакого сомненья, что денежная помощь царевне будет сосчитана, оценена и рассмотрена через самый большой микроскоп. Надо мною тоже довлеет пристальное внимание «тайных». Не только на службе: там — само собой. Но и мастера на заводе, и слуги в фактории рассказывали о цепкоглазых ярыжках, набивающихся в друзья, чтоб вызнать всю подноготную моей коммерции. Рассказывали те, кто верен графу Читтанову больше, чем государыне: а были, наверняка, и другие. Обязательно были. После возвращения с юга, беспрестанно ощущаю смутный неуют. Так обитатель осажденной крепости задницей чует опасность. Слышен стук — значит, ведут подземную мину.
Тайные баталии за близость к престолу подобны баталиям обыкновенным в том отношении, что генералы редко схлестываются меж собой врукопашную. Каждый влиятельный сановник окружен пешками и фигурами, как шахматный король; правильная атака позиции начинается обычно с краю. Авдитор Карасев по должности едва ли мог считаться моим человеком, но по сути — это я его притравил на вороватых полковников. И вот, явившись однажды в присутствие, слышу: сей верный сторожевой песик, хранитель казенного интереса, взят под арест в Тайную канцелярию. За что? Никому не ведомо. Его прямой начальник, генерал-авдитор Федор Центаров (прозванный в Коллегии Центавром, отчасти по созвучию с фамилией, отчасти по сути: полу-человек, полу-скотина, и никогда заранее не угадать, повернется он к тебе человечьим лицом или конской жопой) трепетал от одной мысли спросить о подчиненном у страшного Ушакова. Пришлось самому. Скользнув по мне равнодушным взглядом удава, без малейшей тени враждебности, Андрей Иваныч вежливо пояснил:
— Согласно Высочайшего указа, Ваше Сиятельство, дела о государственных преступлениях разглашению посторонним лицам не подлежат.
— Посторонним — разумеется, но я все же советник Воинской Коллегии, а речь идет о служителе оной. К тому же, зная Карасева, никак не могу поверить в его зломысленность: скорей готов заподозрить оговор или недоразумение.
— Не волнуйтесь, граф, разберемся.
— Надеюсь на вашу беспристрастность.
Ах ты, змей поганый! В самом деле я надеюсь, что ты истощишь терпение небес и сдохнешь в мучениях. Но сейчас делать нечего. Скандалить бесполезно. Если жаловаться — то исключительно императрице. В сии материи даже Бирон напрямую не вступается. Только через нее. Однако прежде надо узнать, в чем дело — а этого-то и нельзя! Строго запрещено. Впрочем, кто жил в России (и особенно служил), тот на утверждение, будто прямая есть кратчайший путь меж двумя точками, лишь улыбается снисходительно. Закон суров, но его можно обойти, — вот здешнее правило. Долго ли, коротко ли, а нужный человек нашелся.
Впрочем, скорее коротко, чем долго. Гвардии майор Степан Шепелев, двадцать лет назад служивший в моем полку квартирмейстером, при Петре Втором был у семеновцев, де-факто, полковым командиром. С приходом Анны он питал надежду на подполковничий чин и закрепление в сей прекрасной позиции, — но долгожданные дары судьбы достались, вместо него, Ушакову. Майор затаил злобу на Андрея Иваныча (да и на государыню, заодно). На правах старшего по чину из всех Шепелевых, он железной рукою правил многочисленным кланом; какой-то двоюродный или троюродный племянник его состоял в Тайной канцелярии копиистом. Так у меня появилась лазейка во вражескую цитадель.
Дело Карасева выглядело дурацким анекдотом. По пути со службы авдитор оступился или споткнулся на щербатой санкт-петербургской мостовой и негромко, себе под нос, ругнулся: «Б…дь!» Тут же подскочил некий похмельный субъект в дырявом камзоле и возопил: «Ты КОГО б…дью назвал, вор?! Слово и дело!!!» — «Ах ты, рвань кабацкая! А в харю?!» — «Караул, убивают!» Когда полиция свела обоих на гарнизонную гауптвахту, со слов доносчика оказалось, что Карасев выкрикивал упомянутое слово, глядя в сторону императорского дворца и потрясая кулаками. Ушаковским служителям сего хватило, чтобы воздеть бедного чиновника на дыбу и усердно допытываться подтверждений.
Qui prodest? Кому выгодно? Уличенные авдитором казнокрады и многочисленная оных родня только что «виват» не кричали. С них сталось бы нанять ярыгу: в любом кабаке можно найти пропойцу, согласного разок стерпеть кнут, чтоб месяц или два хлестать водку от пуза. Испорченность нравов в России вполне позволяет заключить под стражу честного человека, дабы не мешал грабить казну. Но действовать взятками через Ушакова?! Немыслимо! Не то, чтобы он был честен по натуре — однако имеет причины не искать акциденций на стороне. Если у Анны хоть малейшее подозрение возникнет, что главу Канцелярии можно перекупить — угадайте дальнейшую судьбу Андрея Иваныча.
Кто-то помельче распорядился без его ведома? Или просто стихийный выброс государственной дури? Да нет, пожалуй. Решение напрашивалось, но я не спешил с окончательными выводами: очень уж мрачная рисовалась картина.
Помочь мнимому «оскорбителю величества» не вышло: сведения, полученные от майора, надлежало хранить в тайне, да и без оных воззвать к милосердию государыни случая не нашлось. Анна не дала мне аудиенции. Письмо, переданное через камергера, можно было с равным успехом выбросить в нужник. При всей смехотворности обвинений, авдитора сослали в Охотск. Приговор сильно уронил меня в глазах нижестоящих, ибо со времен Ромула способность защищать клиентов была и остается главным достоинством патрона.
По всему выходило, что истинная цель — не Карасев. Майор был того же мнения. Кривя изуродованное шведскою пулей лицо, Степан Андреевич изливал накопившуюся желчь:
— Вот не верю я, что князь Михаил Голицын сам по себе помер. Очень уж вовремя! Потом — Румянцева загнали за Можай, Долгорукова упрятали в крепость… Из тех, которые могли бы поднять гвардию, один остался…
— Кто?
— Ты, батюшка! Потому тебя до судорог в кишках и боятся! Семеновцы бы с охотой за тобой пошли…
— Я никогда не нарушу присягу, ты же знаешь. Сей путь ведет не к процветанию державы, а к ее погибели.
— Я-то знаю… А они? Эти бляжьи дети не станут спрашивать, ХОЧЕШЬ ли ты взбунтовать войско. Им довольно того, что ты МОЖЕШЬ. Пока генерал Читтанов здесь и на свободе, кому-то сон нейдет и бланманже встает колом в горле! Гляди, честность и благородство доведут до сумы и тюрьмы!
Старый товарищ зрил в корень. Корысть — узда, позволяющая управлять подданным. Тайные прегрешения, могущие стать явными, подобны шенкелям. Умеренно вороватый чиновник покорней и удобней в делах правления, нежели необузданный правдолюбец. Я же в беспримерной дерзости своей ничего у Анны не просил, воображая, что, наоборот, императрица нравственно обязана мне за новые источники богатства, открытые для империи и для нее лично. Вот дурак-то! Рабами она умеет править, может к ним быть сурова или милосердна — но свободный человек ей кажется чужд, непонятен и опасен. Для деспотов раболепство и верность суть одно.
Даже Петр, при всей жестокости нрава, смотрел на мир как-то вольнее и шире. Племянница частенько твердит о верности государственным заветам великого дяди, только искренне ли? Все помнят, в какой гадюшник превратилась царская фамилия после смерти Алексея Михайловича. Вражда Монтекки и Капулетти — детские шалости в сравнении с тем, что творилось при русском дворе. В лице Анны Иоанновны Милославские, после долгих лет унижения, восторжествовали над Нарышкиными. Кунсткамеру первый император создал для собирания монстров «како в человеческой породе, так и в зверской и в птичьей», а на днях его собственная восковая фигура, в подлинном мундире и с настоящими волосами, заняла почетное место в сей коллекции. Вот интересно: государыня по простоте душевной дядюшку к монстрам определила, или с тайным лукавством?
Только теперь я понял, как ошибался, приписывая немилость Ее Величества исключительно усилиям Остермана или Бирона, с неразлучным Липманом. Женщина на троне совсем не обязательно безвольная кукла в руках придворных. Враждебные интриги не могли бы иметь успеха, когда б не дурное предубеждение царицы к графу Читтанову. Тактику охоты на очередного волка в генеральском мундире определяют, несомненно, придворные псы; но дозволение на травлю исходит от Анны. Указания Ушакову никто иной не смеет давать.
Бежать, сдаваться или драться? Как прикажете действовать, имея во врагах царствующую императрицу? Всего бы правильнее пасть в ножки, пресмыкаясь и уверяя в лояльности. Так ведь не дура: сумеет отличить актерство от подлинных сантиментов. Почует, что ни страха непритворного, ни почтения искреннего в просителе нет. Пристойного выхода не находилось, и оставалось следовать тривиальному правилу: если не знаешь, что делать — не делай ничего.
Дни шли за днями, укрепляя робкую надежду, что продолжения, может, и не будет; что неспособность защитить Карасева и вызванное оною бегство малодушных из моего лагеря умиротворили врагов; но сразу по наступлении майского тепла начали двигать гвардию. Смысл этих движений открывался лишь под углом противудействия возможному мятежу. Семеновский полк, в коем я пользовался наибольшим влиянием (принцесса Елизавета, кстати, тоже) получил приказ выступить из города на маневры. Ушаков, как подполковник, распоряжался экзерцицией и лично бдил, чтобы ничего не случилось. Измайловцы (среди которых симпатизировали мне только нижние чины) сопровождали императрицу, изволившую на лето выехать в Петергоф; над этими надзирал сам Миних. Остались в городе одни преображенцы, заведомо не склонные поддерживать графа Читтанова. Число моих сторонников среди них, в лучшем случае, позволяло следить за мнениями.
Еще раз повторю: никаких планов учинить революцию в пользу Лизы мы с нею не строили. Просто-напросто, участь любой царствующей особы, не имеющей бесспорных прав на престол — пугаться химер, порожденных собственной нечистой совестью. Будь в руках Тайной канцелярии прямые улики, разве б опасного заговорщика оставили на воле?! Но меня не арестовали. Точнее, арестовали не меня. Очередную жертву вечно голодная Сцилла тайного сыска выхватила в ближнем окружении.
Однажды старший приказчик железоторговой компании Илья Васильев, уехавший по делам в Тайболу, на место не прибыл и назад не вернулся. Через шепелевского племянника стало известно: ушаковцы перехватили его прямо на дороге и увезли в Канцелярию. Имея благую привычку присматривать за доверенными людьми, я знал, что никаких собственных грехов за Илюхой, хоть тресни, не найдешь. Значит, опять по мою душу.
Поднимут парня на дыбу и начнут спрашивать. Рано или поздно заговорит — а знает он много и может дать весомые показания на меня. Одни шашни с раскольниками, по русским законам, на смертную казнь тянут. Надо выручать. Но каким образом?! Все персоны, способные принимать решения, из столицы, как нарочно, отъехали. Да не «как», пожалуй: именно что нарочно. Намеренно подталкивают к бунту. При безнадежном соотношении сил. Какие бы чудеса храбрости ни творили верные мне люди — Преображенский полк их сметет, не оставив ни малейшего шанса.
Прыжок в окошко
— Дорогу! Ослеп, морда чухонская?! Генерала не видишь?!
Рослый преображенец в зеленом кафтане виновато моргает, освобождая путь. Раззолоченная в пух и прах карета, постукивая колесами по деревянному настилу Петровского моста, въезжает на Заячий остров. Сбоку, поодаль — родные звуки строевых команд, дружная пальба плутонгами. Не зря старался! Экзерциции теперь с прицельной стрельбой: в гвардии регулярно, в армейских полках — по возможности. Справедливости ради, сознаюсь, что сию заслугу должен разделить с государыней, которая сама любительница пострелять. И мастерица, бесспорно: бьет птицу влет (пулей, не дробью!) почти без промаха. За два года ее царствования сбыт штуцеров в России увеличился раз в пятьдесят. А все почему? Двор задает моду, подданные обезьянничают. Не только кавалеры, но даже дамы и девицы взялись своими нежными ручками за оружие. Изящное ружьецо небольшого калибра стало желанным подарком на день ангела.
Ей-Богу, жаль, что у меня с Анной не сложилось. Даже не так: жаль Анну, в ней были хорошие задатки. Когда бы обстоятельства позволили их развить… Но сожаления о несбывшемся бесплодны. Еще упорней, чем петергофских ворон и чаек, истребляет она любую угрозу собственной власти: не только действительную, но и возможную, или вовсе мнимую. Прямая спина и открытый взгляд — явные признаки врага престола. А что прикажете делать тем, у кого хребет не гнется?! И ничего с государыней не сотворить. Ей просто нет замены! Чтобы держать в повиновении высокородную свору, на престоле нужна не «душа-девица» а «монстра». Большая война неизбежна — Лизанька ее, что ли, поведет?! Или голштинский младенец? Исчезновение Анны было бы гибельно для страны. Да и «исчезнуть» ее непросто: страсть императрицы к стрельбе столь велика, что во дворце постоянно расставлены возле окон заряженные ружья, и даже в карете всегда под рукою пара штуцеров. Она сама кого хошь застрелит.
— Тпр-р-р, милые! Приехали, Ваше Сиятельство!
— Жди там, в сторонке. Будь наготове, упряжь не ослабляй. Никуда без приказа не суйся!
Обернулся. А вот и обер-комендант спешит, генерал-майор Есипов.
— Рад приветствовать Ваше Высокопревосходительство! Чем обязан?
— Здрав будь, Григорий Данилыч. Без чинов: я по делу, да не к тебе. Тайной канцелярии секретарь, коего Ушаков на хозяйстве оставил, где обретается?
— Тут, Александр Иваныч. В застенке. Генеральский кабинет ему не по чину. Вызвать прикажешь?
— Сам к нему зайду. Дело зело деликатное. Ступай пока, Данилыч. Понадобишься — пошлю человечка.
Трубецкой бастион, где я сидел одиннадцать лет назад, ныне занят разросшимся Монетным двором, посему тайные канцеляристы ютятся в Зотовом и в бывшей Главной аптеке. Собственно, их переезд в северную столицу еще не завершился: половина служителей пока в Москве. Петербургское обиталище имеет вид хаотический и полу-походный. Как и говорил шепелевский племянник, дверь заперта, а часового снаружи нет. Охрана только при арестантских казематах: в крепости и так полно солдат.
Стучу. Теперь ногой, погромче. Чу! Шабаршат внутри.
— Кто такой, чего надо?
— Отворяй! Слово и дело государево!
Скрипучая створка чуть приоткрывается под тяжелой рукою. Ладонь — так, с небольшую лопату. Плечи соответствуют. На шее можно дуги гнуть. Ноги, правда, кривые и короткие. Экое чудище! Завидной крепости создание Божье.
— Где секретарь Возгряев? Веди к нему.
— Сюда извольте.
Ишь ты, оно и говорить умеет! Судя по обличью, сей мужичище — Федор Пушников, палач при Канцелярии. Пропустил меня вперед, будто из вежливости. Брякнул засовом. Перед входом в застенок просунул вперед лапищу, отворил толстую, обитую войлоком, дверь. Вошел следом и встал за спиною.
За столом — потертый жизнью чиновник с чернильными (а не кровяными) пятнами на пальцах. Глаза как два тусклых шила, отравленных злобой. Сбоку примостился молодой детина гвардейского роста, с юношескими прыщами по глуповатому верноподданному лицу. Для гостей стулья не предусмотрены, только дыба в сторонке. Пока вакантная. Подобрав широкую епанчу, усаживаюсь непринужденно на край стола.
— У тебя в каземате мой человек. Ни в чем не виновный. Советую во избежание вышней кары исправить сию досадную ошибку и вернуть его законному владельцу.
Словно божественное вдохновение подхватило меня могучею волной и понесло неведомыми путями. Был разветвленный, заранее обдуманный план; таилась в складках плаща подложная грамота императрицы; но встретились взглядом — и все расчеты полетели к черту. Этого зверя надо брать иначе. Пришло чувство, какое иногда (очень редко!) испытываешь в бою, заранее предугадывая все движения неприятеля и молниеносно оные опровергая.
В глазах секретаря на долю секунды мелькнул страх (не привыкли здесь к такой наглости), потом ярость, потом злорадство. Голос прямо-таки сочится ядом:
— Как только будет представлен надлежащий приказ Его Высокопревосходительства генерала Ушакова…
Осекся. Новая волна страха и злобы. Им же под смертной казнью запрещено что-либо разглашать, даже имена взятых в крепость! Здесь мой приказчик, точно здесь.
— Что, проболтался? Ладно, попрошу государыню тебя не казнить. Бери ключи — и пойдем!
Не перебор ли?! Вон как глаза выпучил! Если он прямо сейчас насмерть задохнется от бешенства, то разрушит все мои импровизации. Нет, выправился!
— Другие от ареста бегают, а ты сам пришел?! Вяжите его!
Да-да, вяжите. Только сказать — проще, чем сделать. Думаешь, это ножны на шпаге? Это матерчатый чехол, он не мешает колоть — и могучая грудь здешнего ката пронзается с нежданной легкостью. Ах ты, Федя, Федя, бык бешеный, разве можно так рьяно бросаться вперед?! Всем сердцем наделся на клинок, острие прочно застряло в твоем крепком, как дубовый столб, позвоночнике, и где я возьму другую шпагу? А парень шустрый, успел обхватить меня со спины, и силен, как медведь, но пистолет уже просунут под мышку, дуло глядит ему в брюхо — выстрел, сквозь одежду, совсем негромкий. Надо же, сколько дыма! Ого, у тебя тоже шпажонка есть?! А ежели вот так?!
Поворот рычага, механизм с тихим лязгом поворачивает цилиндр, ставя против ствола заряженную камору и взводя курок.
— Шпагу на стол.
Снаружи доносится приглушенный залп. Молодцы преображенцы! Под такой аккомпанемент мое соло сойдет без последствий. Ко всему прочему, окон в застенке нет, а дверь нарочито плотная, чтоб тайны наружу не выходили… Однако, воняет же тут! Через пороховую гарь — и то слышно.
— Обделался, что ли? Шаг назад, спиною к стене.
Ох, и дрянная же сталь! Вертел какой-то, а не оружие! Удар милосердия воющему от ужаса и боли раненому канцеляристу: что делать, парень, ты выбрал хреновую службу. Вытираю секретарскую шпагу, с трудом обламываю на ладошку от гарды, подаю остаток побелевшему хозяину:
— Воткни обратно в ножны.
Наступив на грудь еще содрогающемуся в агонии палачу, со скрипом вытаскиваю собственный клинок.
— Дьявол, надо ж было так засадить! Зачем вы на меня напали?
— А-а… Ик…
— Тихо, тихо! Я ведь пришел поговорить. Денег предложить, коль угодно. А ты что, дурак, сделал? Тебе Андрей Иваныч приказывал меня вязать? Арестовать, убить, что угодно?
— Н-нет…
— А почему не приказывал, знаешь? Знаешь, что своему генералу все планы изгадил?! Вот теперь он точно тебя не помилует. Давай, застрелю: всё милосердней будет.
— Н-не н-н-надо.
— Да чего ж так бояться? При вратах ада состоишь, сколько народу на плаху отправил — а дрожишь перед смертью, как сопливый рекрут в первом бою. Ладно. Будешь меня слушаться — живым оставлю и от Ушакова спасу. Кто еще из ваших здесь, в крепости?
— Н-ни-никого. В разгоне все. Кононов с Поплавским поехали в дом комиссара Левашова поличное вынимать, Набоков с бумагами в полицеймейстерскую канцелярию послан, Хрущов при Его Высо… ик… при Ушакове, и еще трое при нем же.
— Это где?! Место!
— В Гачинской мызе, Ваше…
— Вернутся когда?!
— Когда господину генералу отпустить угодно будет…
— Да не ушаковские! Которые в городе!
— Набоков через час али больше, другие к вечеру.
— Ладно, подождем. Тебя как звать-то?
— Степаном…
— Вот что, Степушка. — Я подпустил в голос ласковости и теплоты. — Дай-ка мне допросные листы по Васильеву. Или Ушакову успел отправить? Только не лги, милый, тут для добывания правды полный кумплект.
Секретарь судорожно вздохнул:
— Намеднишные отправил, а свежие туточки. — Он закопошился в рассыпавшихся по столу бумагах. — Извольте, Ваша Милость.
— Благодарствую, любезный. Покуда читаю, смени хоть подштанники, что ли. Обмойся: вон там бадья с водой.
Наскоро стал просматривать корявые строчки, перескакивая с места на место и кося вполглаза на боязливо обнажившегося секретаря. Сия крыса загнана в угол. Если подоспеет нежданное подкрепление «тайных» и меня повяжут, он все равно пропал: за трусость и разглашение дел быть ему без головы. А за отдачу протоколов такой легкой смертью не отделается. Одно спасение — прямо тут меня прикончить. В углу, где засранец плещется, как раз всякие пыточные снаряды сложены: кнуты, клещи для вырывания ноздрей и непонятные, но устрашающие железки для калечения иных членов. Зато, ежели не решится, воля его перегорит окончательно: он будет как воск в моей ладони.
Подняв глаза на пленника, я улыбнулся. И это вершитель тайных дел?! Да у него каждое побуждение на роже написано!
Убрав блудливые пальцы от соблазнительной кочерги, несчастный натянул дрожащими руками чулки и панталоны.
— Пойдем, Степа. Надень епанчу и шляпу, возьми ключи. Застенок запри, а то мы с тобой насвинячили. Держи себя, как обыкновенно. Не суетись. Ты по высочайшему повелению должен забрать арестанта и доставить… Куда доставить, дело сугубо тайное. Не вздумай куролесить. Пистолет видишь?
— Ага.
— Как нужно отвечать генералу?
— Вижу, Ваше Высокопревосходительство!
— Он хитрой инвенции, на пять зарядов. Никто не приметит, что нацелен в тебя под полой. Пуля в живот — знаешь, что такое? Хотя откуда тебе… Как на колу помирают, видал? Вот, примерно похожая смерть. Придумай, как распорядиться, чтоб твои подчиненные не обеспокоились. Желательно до завтрашнего утра, когда мы оба будем далече.
— Надо Ваньку Набокова дождаться. Велю ему передать остальным, будто Ушаков велел всем в Гатчино быть, а те двое уже уехали.
— Поверят?
— Мне-то? Поверят!
Под ручку, как лучшие друзья, выползаем наружу. Малость подозрительно, при такой разности чинов. Впридачу, от одного воняет порохом — ну и что, а чем еще пахнуть боевому генералу? От другого, несмотря на обмывание, дерьмом — так не розами же благоухать при такой должности…
Караульный офицер заикнулся было о запросе на перевод арестанта по надлежащей форме, но был с ходу опрокинут:
— Тебе что, государыня императрица уже не указ?! — Потрясал я фальшивой грамотой. — О Персии возмечтал, али о Камчатке? Молись, чтобы только переводом в армию отделаться!
Илью здесь уважали. Отдельный каземат, два солдата прямо внутри, ручные и ножные железа. Грубая хламида пропиталась на спине сочащейся кровью, левая рука обмотана тряпкой. Ногти вырвали, я уже знал из протокола. Верный слуга упирался, как старовер, и пока не успел сказать ничего важного. Лицо, искаженное мучительной гримасой, вспыхнуло внезапным счастьем:
— Ваше Сиятельство… Век за вас буду Бога молить!
— Цыть! За Ея Императорское Величество моли — да не радуйся прежде времени. Может, по разбору дела, еще и голову отрубят. Велено пред высочайшие очи представить.
Оборотившись к офицеру, я скомандовал:
— Расковать, вымыть, переодеть, привести в божеский вид! Полчаса на все, ТАМ ждать не будут! Бегом!!!
Явившийся в разгар кутерьмы подканцелярист Набоков заставил на мгновение сжаться мое сердце: парень был умный. Однако ж, и он не усомнился в натуральности происходящего. Все походило на то, как если б генерал Читтанов пробился-таки к императрице, и та возжелала сама разобраться, кто прав, кто виноват. Бывает с нею такое. Тогда нервозность секретаря вполне понятна: высшее начальство, как всегда, выкрутится, а подчиненных обратит в козлов отпущения, принудив отвечать за мнимое своевольство. Беда, словом!
И вот золоченая карета шестериком хромает по неровным, разбитым улицам северной столицы. Рядом со мною — дрожащий секретарь Возгряев. Напротив — Илюха, с кровожадной мечтой во взоре: лишь мое присутствие мешает ему вцепиться здоровой рукою в глотку своему vis-a-vis. На запятках — два гвардейских солдата. Совсем не взять охраны было бы подозрительно.
Так. Вот она, церковь Успения. Через протоку, на островке, пороховой магазин. В затоне у берега — крутобокая морская лодка с шестью гребцами и рулевым. Если бы мимо проходил какой-нибудь чиновник из Коммерц-коллегии, изрядно удивился б: чего это ради компанейские приказчики, шкиперы торговых судов и ученые инженеры оделись по-простому и взялись за весла? Но шляться в присутственное время не положено, да и кому какое дело?! Я генерал! Пожелаю — майоров и полковников на весла посажу, и никуда не денутся! Мои люди: хочу — с кашей ем, хочу — масло пахтаю!
— Ступайте в бот. Иван, отдельно их рассади, чтоб не загрызли друг друга. Служивые, вот вам на водку.
— Премного благодарны, Ваше Высокопревосходительство!
— Панфил, домой! На завтра держи коней в готовности!
— Слушаюсь, Ваша Милость!
По-юношески резво прыгаю через борт. Удивительная, давно забытая легкость звенит во всех членах — словно бы лет двадцать упало с плеч. Как воин, скинувший тяжкую броню: подпрыгну — улечу. Воля! Счастье жить по правде, не оглядываясь на власть и закон. Какие еще сомненья, что я казацкого роду?! Суденышко выплывает в Неву.
— Вперед!
Последняя преграда — наплавной мост с полицейской заставой в проходе для лодок. Ловят беспаспортных и не очищенные таможней товары. Однако генералу, путешествующему по казенной надобности, полиция препятствовать не смеет. Только спросят, как регламент велит, куда моя милость изволит следовать.
— В Кронштадт!
— Счастливого пути, Ваше Высокопревосходительство!
Титул неправильный. Он мне уже не принадлежит: брошен, как ненужный хлам при выступлении армии из квартир. И черт с ним!
— Прибавить ходу! Веселей греби!
Весла пенят Неву. Идем отлично: галерные матросы позавидуют. Мои люди и кормлены получше, и в застенок очень уж не хотят. Здесь только те, кто слишком много знает — и кого круто взяли бы в оборот, если б я бросил их в России. Все пошли со мной добровольно; семьи спрятали по глухим деревням или переправили заранее на корабль. Какой корабль, спросите? Какой надо! Который ждет в финских шхерах, в условленном месте.
Выходим в залив. Ветер встречный. Плевать! Все равно ставим мачту: высоченную, составную из двух частей. Натягиваем штаги. Опускаем тяжелый шверт. Узкие треугольные паруса дают преимущество в лавировке перед любым судном. И скорость неплоха. Котлин миновать — потом уже никто не догонит!
Кое-где по сторонам виднеются рыбачьи лодки; навстречу ползет груженый плашкоут из Кронштадта. Не опасны. Бояться надо будет, если быстрая скампавея выскочит из галерной гавани и помчится по нашему следу. Обнаружили «тайные», что их одурачили, или еще нет? Иметь фору до утра было бы чудесно, однако сильно рассчитывать на нее не стоит. Впрочем, ищеек Ушакова ожидает еще одно препятствие.
Отношения между армией, флотом и Тайной канцелярией представляют некий треугольник — отнюдь не любовный! Оставим в стороне гвардию, чтобы не усложнять; так вот, сухопутные и морские служители смотрят друг на друга с неприязнью и пренебрежительной ревностью. Единственно, в чем они сходятся — это в сокрытой ненависти к «тайным». Бог весть, с чего: вроде, не так уж много офицеров и нижних чинов прошло через застенок. Но если в галерную гавань прискачут ушаковцы и потребуют немедля предоставить им судно — можно быть уверену, что веские причины не позволят выйти в море не то что галере, а и крохотному ялику! До тех пор, пока с самого верху не прозвучит громогласный приказ, грозящий за неисполнение тяжкими карами. А это опять же время, время…
Меняются галсы. Минуты слагаются в часы. Погони все нет! Когда бесконечный северный летний вечер плавно переходит в синюю полночь, кронштадтские узости остаются далеко за кормой. Ветер отходит на четыре румба. Идем без лавировки, почти в галфвинд. Есть компас, карты и опытные моряки: так что ж не уступить расслабленности, после напряженного дня? На правой скуле слабо тлеет у горизонта ночная заря, слева плещут в борт нестрашные волны — вроде бы, совсем не похоже на бегство из Африки. Там была бесконечно чужая страна. Здесь — родина, потерянная отцом и вновь обретенная мною, через непомерные труды и пролитую за нее кровь. Но есть общее. Обе земли стоят на рабстве. В конечном счете, все мои несчастья, начиная от ссоры с Петром, берут начало в этом ядовитом источнике. Русское государство устроено просто и логично. Как крепостной мужик — раб своего помещика, так сей последний — раб государя. От пяток до макушки, до высших сановников — один принцип. Почему-то всевозможные немцы прекрасно в эту систему вписываются, а меня она отторгает, как чужеродное тело. Сколько ни притворяйся покорным, наметанный хозяйский глаз рано или поздно разглядит: другие слуги его (или ее), а этот хрен знает чей. Или вовсе ничей: сам себе хозяин, и делает, что считает нужным! Опасный человек! Если сия чума распространится — не окажется ли, что им и царь не надобен?!
На другой день, ближе к вечеру, добрались до пункта рандеву. Старик «Менелай» на якоре, дружелюбная разбойничья рожа Луки Капрани, приветственные крики, объятья. Снялись немедля: сейчас фельдъегери скачут, загоняя лошадей, с приказами для ревельской эскадры. Как бы не перехватили в горле залива! Только миновали траверз Гангута, и стих азарт парусной гонки — подкрался украденный в Петербурге секретарь Тайной канцелярии.
— Ваше Сиятельство, спасите!
— В чем дело, Степа?!
— Они меня утопят! Прямо посреди моря за борт скинуть грозятся! Про рыб рассказывают…
— Каких еще рыб?!
— Ну, этих… С бабьим именем… Акулины, вот!
— Аккулы, что ли? Так они тут не водятся.
— Слава те, Господи! Меня им обещались скормить. Дескать, как доплывем до места, где они есть, так и бросят…
— Не верь. Просто пугают. А чтоб тебе спокойней было, могу под замок посадить, в штурманскую каюту…
— Сделайте Божескую милость, что хотите для вас…
— Хочу. Знаешь, что хочу? Напиши-ка мне, покуда плывем, обо всех делах Канцелярии. О некоторых я знаю — по ним и проверю твою правдивость. И еще, отдельно — соображения о моем деле. Кому и зачем оно понадобилось.
— Ваше Сиятельство, я токмо сполнял, что прикажут. А в сих высоких материях ни сном, ни духом…
— Что слышал, о чем догадывался, все возможные хипотезы. Пиши! Не то в общем кубрике оставлю!
По усердию и добросовестности страдальца видно было: генерал Читтанов явил себя достаточно властным и жестоким, чтоб совершенно вытеснить в его сердце генерала Ушакова. Да и сказки о зубастых «акулинах» произвели впечатление. Однако… Он написал, я прочел — и понял, зачем собратья Возгряева по дознавательному ремеслу скрывают свои подвиги во мраке ночи. При беспощадном свете Божьего дня, таинственная и ужасная Канцелярия предстала смешной и убогой. Действительно, тут без тайны нельзя: срамно тратить казенные деньги на жалкий вздор, коим в ней занимаются. Ни одного подлинного заговора, ни малейшего признака действительных злоумышлений! Сплошь «второй пункт»: сказанные спьяну или сдуру слова, которые с большей или меньшей натяжкой можно почесть оскорбительными. Мнительная бабья обидчивость — ничего больше!
С «читтановским делом» — еще хуже. Все корни и нити скрыты; даже чиновник, занимавший одну из ближайших позиций при Ушакове, правды не знал и мог только строить догадки. Одна из них показалась мне любопытной.
— Давай-ка, братец, соображения о зависти обер-камергера Бирона к моим доходам от промыслов и торговли разверни подробней. И о значении Липмана в сей интриге — тоже. А опасения двора касательно царевны Елизаветы поминать не надо: это пустое. Об интересе петербургских англичан Шифнера и Вульфа войти в торговлю русским железом тоже пока умолчи. С ними по суду не разобраться.
Попытки с четвертой или пятой, Возгряев сочинил годный к употреблению документ. Я собственноручно перевел написанное на латынь, а по прибытии в Амстердам не пожалел драгоценного времени, чтобы посетить нотариуса и заверить у него сию эпическую поэму. Баталии за европейское имущество моих компаний неизбежны; надо заранее озаботиться наличием боевых припасов.
Остановка в Голландии, собственно, затем и нужна была, чтобы крепко взять в свои руки склады железа и сбытовые конторы в Амстердаме и Льеже, усилив правления последних привезенными с собою людьми. Бристоль и Ливорно, бывши и так достаточно верны, опасений не вызывали. Одновременно начались поиски покупателей на сии активы: находясь во вражде с императрицей, торговать русским металлом невозможно. Укрепление за собою как можно большей части корабельной флотилии стало еще одним первоочередным делом. Беда в том, что наиболее ценную часть оной составляли отнюдь не корабли, а заботливо выпестованные команды. Те моряки, кто имел семьи в отечестве, большей частью стремились вернуться — и у меня не было ни юридических, ни моральных оснований им препятствовать. Следовать куда угодно за хозяином соглашались либо оторванные от корней бродяги, либо неженатая молодятина.
На фоне сих тяжких потерь блестящий успех возымели лондонские встречи, куда главным уговаривателем отправился Илья Васильев. Живые впечатления застенка и свежие следы пыток на теле служили сильными аргументами; к тому же, изрядную часть моих людей в Англии составляли зеленые юнцы, посланные для обучения в навигационные школы либо на железные заводы Кроули. Благодаря Илье, одних только русских у меня под командой оказалось сотни полторы, а вместе с неаполитанцами, венецианцами, немцами и прочими народами — две с лишним! Вроде, не так уж много для генерала, привыкшего распоряжаться тысячами и десятками тысяч. Но (переводя на военные ранги) в этом скромном числе непропорционально большую долю составляли, так сказать, офицеры и унтер-офицеры от торговли и промыслов. Добавь рекрут — получишь из роты полк.
Где б еще их взять, этих рекрут. Вербовщики-староверы, засланные в слободы на Ветке, рапортовали о полном провале миссии. Меня подвело слабое знание религиозных нюансов: оказывается, старообрядчество расколото еще и внутри на враждебные толки; поповец с беспоповцем общего языка не найдут. Веткинские жители во всем слушались настоятеля Феодосия — а с ним договориться не удалось. Похоже, крепостные бегут за границу только для того, чтобы сменить помещичью кабалу на иную, добровольную. Резервный план, предполагавший сманивание на мой английский завод белорусцев, малороссиян и свежих беглецов из России в Литву, тоже не сработал: польские евреи, коим отводилась в нем ключевая должность, пронюхали о неудаче с раскольниками и безбожно задрали цену на свои услуги. Чем втридорога платить евреям за вербовку русских, дешевле вышло бы нанять англичан.
Или похерить старые предначертания? Выстроить коммерцию, соразмерную наличным силам. Разумеется, не сходя с утоптанной площадки: в Европе любое дело, на коем возможно заработать, давным-давно подгребли под себя местные хитрецы и чужих в него не пускают. Обработка металлов, мореходство — тут у меня имеется маленький, с трудом отвоеванный плацдарм. Однако прежние прожекты стали трудноисполнимы: хотя бы потому, что тайбольский завод не в моих руках. Поставки с него возможны лишь через перекупщиков, на невыгодных условиях. Создать же в Британии нечто подобное… Пупок развяжется! И соперничать по ценам все равно не удастся: с тем расчетом Тайбола и задумана.
От грустных коммерческих размышлений меня отвлекла проснувшаяся наконец-то российская дипломатия. Борьба за собственность началась. Правда, чрезвычайный и полномочный посол в Гааге Александр Головкин, сын канцлера, действовал весьма нерешительно, на каждый шаг испрашивая у отца указаний; зато юный Антиох Кантемир, лишь за полгода до сего назначенный резидентом ко двору Георга Второго, оказался сильным противником. Наложение секвестра на спорное имущество казалось весьма вероятным. Пришлось вступить в бой самому и срочно отплыть в Лондон.
Членство в Королевском обществе формально не дает привилегий. На деле, это один из немногих способов сделаться своим в закрытом для посторонних кругу. Если вы удостоены такой чести, общеизвестное британское высокомерие уступает место предупредительной любезности. Министры, судьи, высшая знать королевства… Многие из них становятся вам «fellows»: ежели не друзьями, то коллегами и товарищами по ученым занятиям.
Впрочем, сэр Роберт Эйр, главный судья королевства по гражданским делам, натуральной философией не увлекался; да если б и увлекался, она бы вряд ли его подвигнула к искажению закона. Все, на что хватило знакомств и связей — ускорить слушания, дабы избежать волокиты.
Мой двадцатитрехлетний оппонент почти не владел местным языком. Сие упущение нисколько не затрудняло молодого князя, понеже суд в Англии со времен Вильгельма Завоевателя велся по-французски. Не на легкомысленном языке парижских салонов: на тяжелом и старомодном нормандском диалекте, унаследованном от давно минувших веков. Билль о переводе судопроизводства на английский как раз обсуждался парламентом, и похоже было, что ветхая традиция доживает последние дни. Нам ее, однако, еще хватило.
Кантемира я слушал с большим интересом: главным образом потому, что резиденту в сей инвективе принадлежали одни словесные украшения. Аргументы (если это так можно назвать) были, несомненно, формулированы Остерманом с одобрения Анны. Доверчивый человек пришел бы в ужас: государственный преступник… злоумышления против царствующей особы… оскорбление величества… подлый и коварный заговор… надежные свидетели единодушно подтверждают… Что за чудовище этот граф Читтанов! Ну прямо Брут какой-то! Гармодий и Аристогитон в одном лице!
Сочинитель сатир, враг врагов просвещения, переводчик Фонтенеля, — князь Антиох по духу и умственным симпатиям мог бы сделаться моим вернейшим союзником, если б неумолимые обстоятельства не развели нас на разные стороны в сокрытой войне. Обвинительная речь его блистала подлинным красноречием — но увы, в гражданском процессе нет обвиняемого! Одутловатое, кажущееся добродушным, лицо судьи почти ничего не выражало. Только брезгливая складка губ с каждою риторической фигурой становилась тверже.
Сэр Роберт дотерпел до конца.
— Уважаемый граф, а вы что скажете по существу спора?
— Ваша честь, перечень моего имущества я подал секретарю суда, он должен быть в деле.
Судья заглянул в бумаги и кивнул. Его явно ободрило, что хотя бы один из тяжущихся намерен обойтись без упражнений в элоквенции.
— С вашего позволения, продолжу. Из представленного вам списка часть, находящаяся в России, конфискована указом императрицы. Справедливо или нет, неважно: подобная практика полностью соответствует тому, что в Российской империи считают законом. Но, поскольку мой оппонент желает распространить конфискацию на корабли, находящиеся в портах королевства Великой Британии, а также на собственность моих торговых партнеров, которую ошибочно считает моею, возникает вопрос о соответствии такой меры британскому праву. Готов подтвердить под присягой, что никакой суд ни в какой стране не принимал определений по этой части. Что же касается мнимых мятежей и заговоров…
— Полагаете, эти обвинения имеют отношение к делу?
— По крайней мере, мой юный соперник придает им значение первостепенное. Посему считаю своим долгом ответить, хотя бы вкратце.
— Извольте, граф. Только недолго!
— Все, что сказано о моих преступлениях — ложь и оговор.
Мгновенно воспламенившийся Кантемир вскочил с места:
— Вы назвали меня лжецом?!
Однако судья тяжелым взглядом так и придавил его к жесткой скамье.
— Я не позволял вам говорить, сударь. Сядьте! Вы уже имели возможность высказаться. — Он повернул голову ко мне. — Продолжайте.
— Князь горячится напрасно, потому что сам он виновен разве что в неопытности и простодушии. Показания, на которых выстроены сии обвинения, не могут считаться достоверными. В России принято пытать при дознании не только подозреваемых в преступлениях, но и свидетелей. В политических делах — обязательно! Между тем, давно известно: etiam innocentes cogit mentiri dolor. Боль заставляет лгать даже невинных. Отдайте любого человека в руки умелому палачу — и через неделю бедняга сознается в чем угодно. Подтвердит, что именно он убил Цезаря или предал Христа. Или устроил Пороховой заговор, а Гай Фокс пострадал невинно. Оговорит хоть самого себя, хоть отца родного. Уж тем более не станет щадить графа Читтанова, находящегося в безопасности за границей. Здесь присутствует бывший служитель тайной полиции, способный пролить свет на истинные причины постигшей меня немилости.
Сидящий рядом Возгряев угодливо привстал и поклонился. Однако сэр Роберт лишь равнодушно скользнул по нему взглядом. Видно было, что он уже все решил и не чувствует нужды вытаскивать на свет Божий грязные тайны санкт-петербургского двора. Через полчаса процесс завершился: Кантемир и те, кто стоял за ним, получили немалый афронт. Я тоже удержал за собой не все, что хотел. Флотилию железоторговой компании судья предписал разделить с Демидовыми. Бог с нею, и на половину-то моряков не хватит. Кинув пенни уличному мальчишке за то, что привел наемную карету, отправился со своими спутниками в гостиницу.
— А старик грозен. — Секретарь Тайной канцелярии явно испытывал облегчение. — На Петра Андреича маленько похож. Вот токмо розыск вести они тут не умеют. По-настоящему, надо бы нас с князюшкой обоих на дыбу поднять, да выспросить хорошенько.
Михайла Евстафьев, пятнадцать лет (из тридцати, прожитых на сем свете) топтавший английскую землю, покосился на него, как благородный лорд на лакея, громко испортившего воздух во время парадного приема. Самовольно начинать разговор в присутствии графа — что за моветон?! Но я не рассердился.
— Христос с тобою, Степа. Здесь так не поступают. Народ богобоязненный, и клятва на Библии не пустой звук. Тем паче, этот суд только имуществом ведает. До государственных преступлений ему дела нет.
— Тьфу! Ханжи корыстолюбивые! Как может истинному христианину не быть дела до богопротивных деяний?! — Он смутился, вспомнив, что пресловутые «деяния» приписывались его коллегами как раз собеседнику, и перевел речь на иное. — А теперь, Ваше Сиятельство, какую службу мне изволите определить?
— Никакую. После суда ты мне больше не нужен: иди, куда пожелаешь. В Амстердам, если угодно, могу доставить.
— Ну как же… Завезли и бросили?!
— Бро-о-осили… Ты вроде не девка — да в Амстердаме и девка не пропадет, найдет работу хоть рукам, хоть чреслам, смотря к чему у ней склонность больше. Жалованье выдам — за все время, что при мне обретаешься; а дальше сам! Хочешь — корабли разгружай, хочешь — в Ост-Индию записывайся. В колониальные войска всех берут, должность определяют по умениям. Платят прилично.
Незачем смущать бывшего секретаря излишними подробностями. Батавию не зря именуют «кладбищем европейцев». Голландская Ост-Индская компания каждый год отправляет на восток тысячи людей для пополнения своей приватной армии. Отправляет, не спрашивая о подданстве и вероисповедании. Как в топку ньюкоменовой машины бросает. Иные и впрямь возвращаются богатыми, но их — единицы. Не больше, чем нужно для поддержания кругооборота дураков, добровольно лезущих в пекло.
И мне тоже рекруты надобны. Однако именно этот, охотно прилепившийся к новому хозяину, сукин сын вызывает неодолимое отвращение. Самая мерзкая порода. У таких две ипостаси: раб и тиран. Один лик обращен к господину, другой — к слабейшим и низшим. Им совершенно чужд тот строгий, но доброжелательный, дружелюбно-семейственный дух, который я многолетними трудами выработал и утвердил среди своих людей. Любое проявление доброты они воспринимают как слабость и попустительство. Принять такого к себе — что в ямской тройке крокодила запрячь на место пристяжной.
Не то, чтоб моя команда не нуждалась в шпионах или палачах: куда же без них?! Но этого не возьму и в самую поганую службу. Не позволю сему вонючему хорьку отравлять своими миазмами здоровую нравственную атмосферу. Здесь людям крепости нет, разбегутся — не соберешь! Сам не заметишь, как один останешься.
Новые начинания
Призрачный, колеблющийся зеленоватый свет пронизывает сорокафутовую водную толщу, бледным лучом проникая в крохотное, с ладошку размером, стекло. Там, снаружи, кишмя кишат мелкие рыбешки. Одни проносятся на краю видимости серебристыми стрелами, другие вальяжно, как бездельники-придворные, прогуливаются, демонстрируя сверкающие яркими красками бока. Близкое дно покрыто разноцветными кораллами. Цепочка пузырьков, выбиваясь через свинцовую обечайку окна, стремительно убегает вверх, чтоб соединиться с родной стихией.
— Глянь, чудо морское: воздух выходит!
— Ништо, Ваша Милость. Весь не уйдет! Выше стекла довольный пузырь останется.
— Знаю, что останется. Где чеканить, запоминай!
Мой спутник пытается извернуться так, чтобы меня не задеть (что при диаметре водолазной бочки в полтора аршина весьма затруднительно). Косматая и бородатая его башка во мраке, лишь чуть смягченном тускло-зеленым отблеском, навевает мысли не то о нептуновых прислужниках, не то — о русских водяных. Мы оба стоим босыми ногами на жердочках, по пояс в воде, одетые лишь в тонкие полотняные штаны и рубахи; но декабрьская водичка приятно тепла.
Кой черт меня занес на эту галеру, да еще так близко к экватору?! Лучше, наверно, по порядку.
Изрядно помыкавшись между Лондоном и Амстердамом в заботах об устройстве имущественных дел, я, наконец, доплыл до Бристоля, а там — и до Вилбурова. Собрал всех своих на совет. Всех, кого можно. Кого нельзя — у тех запросил мнения почтой, как нам дальше жить и чем зарабатывать на хлеб. На сдобный калач, ибо меньшее никого не устроит. Мне и калач неинтересен: не хлебом, как говорится, единым… Зацепившись, вроде бы, за тот круг, в коем решают мировые судьбы, вдруг оказаться разжалованным в средней руки заводчики и судовладельцы — разочарование страшное. Плевать на славу и почести; единственное, что ценно во власти — возможность потихоньку, помалу, на волосок, на толщину паутинки, двигать мир в угодную мне сторону. МНЕ угодную. Не кому-нибудь иному. Большие деньги, в принципе, могут заменить чин в этом деле, но только ОЧЕНЬ большие. Сопоставимые с доходом одной из ост-индских компаний или средней руки европейского герцогства. Даже мечтать не стану: все равно неисполнимо. Бывают люди, способные и без денег обойтись: духовные вожди, подвижники, ересиархи. Лютер, Лойола, Аввакум. Или великие ученые, калибра Ньютона и Галилея. Мне до таких — как до звезды небесной.
Или это просто упадок духа, накативший после вынужденного бегства из России, а на самом деле я все могу? Выяснить не удалось, потому что вместо приунывшего капитана за дело взялась команда. Да хорошо взялась! Что там Crowley's crew леди Феодосии?! Наши посильнее будут! Не зря тратил на ребятишек деньги, время и душевные силы. Иван Онучин, моя правая рука по заводу, открыл разговор.
— В свете последних сообщений из Тайболы… Вы позволите, Александр Иванович?
— Да, Ваня, можно. Рассказывай все.
— Так вот, нынешние немцы оказались умнее Меншикова и не стали резать куру, несущую золотые яйца. Текущие дела по-прежнему решает совет старших мастеров, вакантные места в котором заместили нашими помощниками, а для генерального руководства вызван с Урала генерал-поручик фон Геннин. Доля господина графа взята в казну, остальные акционеры пока при своих. Что примечательно: сразу после сей перемены вывозные пошлины на железный товар без лишнего шума вернули к прежней величине. Остермановская Комиссия о коммерции единодушно решила, что повышение оных было ошибкой. Теперь надо внимательно смотреть за судьбою акций, принадлежавших Его Сиятельству: если они будут переданы в подарок или задешево проданы известной персоне, то… В общем, кому выгодно — тот и сделал.
— Бирон, что ли?
Мишка Евстафьев прямолинеен. Заграничная фракция моих приказчиков всегда отличалась от внутрироссийской: им присущи крамольная склонность называть вещи своими именами и открытое неуважение к придворной санкт-петербургской шайке.
— Увидим, Михаил. Пока рано для окончательных выводов. Что имеет значение — завод работает, однако прежние способы коммерции для нас закрыты. Не секрет, что европейские конторы служили главным образом для перекачки прибыли за границу…
— Ошибаешься, господин Онучин! Когда б мы не обеспечивали сбыт, вам бы вовек из нищеты не выбраться!
— Нет, уважаемый господин Евстафьев! Ни хера ты не понимаешь…
— Ну-ка, тихо оба! Не время старые ссоры меж заводскими и торговыми, как телятя солому, пережевывать. Сейчас это все утратило значение. Иван, продолжай.
— Слушаюсь, Ваше Сиятельство. Раньше бристольская фактория девять десятых выручки получала от перепродажи нашего железного товара, и кое-что, по мелочи, делалось на здешнем заводе. Медный лист, проволока, гвоздей немного. Теперь главный источник денег утрачен. Полагаю, наиболее выгодным, с учетом опыта и умений наших мастеров, может стать изготовление металлических крепительных частей для морских судов. В настоящее время только Адмиралтейство и ост-индская верфь в Дептфорде заказывают оные на заводах Кроули. Прочие судовые строители делают их в убогих кузницах, выходит дорого и непрочно…
— Путаешь, братец! Когда б выходило дороже, чем у Кроули…
— Разумею, дорого в том смысле, что несоразмерно с добротою изделий. Не претендуя на казенные и компанейские заказы, мы имеем возможность занять сей рынок, изготовляя готовые наборы скреп наиболее часто встречающихся размеров и разновидностей. Вывозя их в Голландию, где строится до тысячи торговых судов ежегодно… Если возьмем хотя бы половину доступных объемов, здешний завод придется расширить вдесятеро. Уже сейчас пора закладывать дополнительные мастерские, казармы для работников и коттеджи для мастеров.
— Разрешите?
Федька Угримов, один из моих гребцов в день бегства. Был старшим мастером в токарном отделении.
— Да, Федор?
— Хочу добавить, Александр Иваныч: в Тайболе мы полностью приготовились к деланию железных частей для азовских смоллшипов. Измыслили ряд новшеств. У болтов старого образца просто конец расклепывают; но коли расшатается — всё. Исправлять зае… замучаешься. Ежели соединять на винтах с гайками, оные всегда можно подвернуть, сколько надо. А главное, резьбу делать одинакую, чтоб любая гайка к любому болту того же калибра подходила! Тогда мы по этой части полную монополию возьмем! Во всей Англии, если не во всей Европе!
— Знаю, была об этом речь — еще там, в России. Дорого. Сумеем цену вогнать в разумные пределы — тогда, конечно, мы на коне. Рубим в лапшу панически бегущих соперников. Не сумеем — нас рубят. Будем пробовать, но сначала помаленьку. Василий? Ты что хочешь сказать?
— А еще, Ваше Сиятельство, кницы! Иван Рамбург и Гаврила Окунев прошлый год привезли из Франции в Санкт-Петербург целую кучу новейших корабельных планов. Только что построенный шестидесятичетырехпушечный «Le Fleuron» против английских и голландских образцов намного совершенней. Железные кницы, диагональная внутренняя обшивка… Удивительно, что раньше никто не додумался: заведомо понятно, что диагональные связи делают набор прочнее…
— А корабль — дороже. Кстати, железные кницы англичане пробовали употреблять еще в прошлом веке, да что-то они не прижились. Подозреваю, и тут все дело в стоимости.
— Дерево тоже встает недешево. В России на адмиралтейские верфи дуб доставляют из Казанской губернии, с реки Суры, за две тысячи верст. Но и там его запасы не бесконечны. Советник Адмиралтейств-коллегии Баранчеев сказывал, прямых дерев лет на тридцать достанет, а кривулин, кои на кницы по лекалам выбираются — много, если на пять! Здешние древоделы о своих трудностях нам не докладывают, однако… Мню, деревянные части могут в скором времени оказаться дороже металлических.
— Надо разведать и посчитать. Вот, ты и займись. Поедешь в Лондон, на Дептфордскую верфь, потом в Голландию. Прежде, чем начинать прожект, надлежит счесть все до пенни. Еще какие предложения? Полуектов? Слушаем тебя, Тихон.
— Мне, Александр Иванович, как моряку, сии мысли кажутся разумными и выгодными, но больше всего запал в душу ваш недавний рассказ об октанте с двумя зеркальцами, коий придумал Джон Гадлей для определения высоты светил. Зело полезная вещь. Нельзя ли с инвентором договориться, да и начать такие делать в здешних мастерских? Люди умелые, справятся. А еще бы лучше как-нибудь изменить конструкцию, чтоб можно было свой патент взять, да и грести потом деньги за чужую работу! Сей прибор может продаваться тысячами, понеже для штурмана он незаменим.
— Ладно, подумаем. Еще кто?
— Можно мне?
— Давай, эээ…
— Григорий Новокщенов, ваша милость. Здешний я, из Вилбуровки. Давно тут живу.
Вот теперь, кажется, припоминаю. Лет десять назад отправлял молодых ребят на учебу, вроде был и такой среди них. С тех пор ничего о нем не слышал, ни хорошего, ни дурного. Но Англия крепостному парню явно на пользу: выглядит местным жителем, причем хрен угадаешь, какого состояния. Подмастерье, приказчик, студент из небогатых — что-то неопределенное.
— Осмелюсь доложить, сэр, что Господь не дал монополии на умные мысли людям из Тайболы.
Онучин скривился (явный подкоп под него!), но не осмелился при мне оборвать нахала. Ничего, борьба мнений полезна. Как и соперничество, в разумных пределах.
— Давай по делу, если есть, что сказать.
— Ваше Сиятельство изволили сделать машину для рубки медных гвоздей из проволоки. По железу она работать не может: режущие кромки тупятся в минуту.
— Ничего нового из твоих уст пока не прозвучало.
— Я придумал, как на ней делать железные гвозди.
— С этого следовало начинать. Давно придумал? Почему мне сразу не доложили?
— Сэр Джошуа запретил использовать мою инвенцию.
Уилбур набычился, колюче поблескивая упрямым взглядом из-под седых кустистых бровей:
— Сэр Александр, такое новшество могло нам повредить. Никто не позволит непонятным чужакам сотнями разорять гвоздильщиков или кузнецов и морить голодом их семьи. Не только чужакам — местным уроженцам тоже не позволят. Мое имя не защитит мастерские, если мы начнем безудержную экспансию. Нас терпят, пока мы никому особенно не мешаем…
— Объясните, пожалуйста. Я полагал, Англия — страна закона.
— Именно так. Когда влиятельные персоны захотят нас погубить — они это сделают по закону. Понадобится — вытащат из архивов изъеденный червями билль времен Плантагенетов или проведут в парламенте новый. Поймите, у этой страны есть хозяева, и закон — юридическое выражение их воли. Мы с вами не принадлежим к здешним властителям. Тому есть дюжина причин, и каждой из них в отдельности достаточно, чтобы воспретить вход в сей узкий круг. Хотя бы непринадлежность наша к господствующей церкви…
Если он оседлает своего конька и начнет обличать англиканских епископов, его уже не остановишь. Надо было срочно вышибать старину Джошуа из наезженной колеи.
— А семья Кроули принадлежит к хозяевам?
— Да, но они к этому шли три поколения! Их дело росло постепенно, и семья так же, шаг за шагом, врастала в высшее общество. То, что леди Феодосия контролирует торговлю железом во всей восточной Англии, воспринимается как естественный закон. Если на западе королевства компания подобного масштаба возникнет прямо на глазах — это воспримут как дерзость и не простят. Люди не любят перемен, особенно же нетерпимы к чужому успеху.
За моей спиной начались многозначительные переглядывания. Даже мастеровые знали: «наш-то сватался ко вдове Федосье Кроликовой, да мужнина родня ее не пустила». Вдову, при этом, крепко уважали за нечастое сочетание красоты и ума: навроде Василисы Премудрой из сказки.
— Значит, надо привлечь хозяев жизни на свою сторону, включив их в акционеры или сделав торговыми партнерами.
— Я думал об этом, Exellence. Сейчас, с утратой Тайболы, мы слишком слабы. Нас не примут всерьез и оценят слишком дешево, не учтя умственный потенциал.
— Только что вы говорили, что когда мы развернем свои возможности — нас испугаются и возненавидят.
— Говорил, и готов повторить. Нужно найти точку равновесия между этими крайностями, тогда-то и привлекать партнеров. Возможно, через год или два, если коммерция будет успешно расти. Но после краха Компании Южных Морей для учреждения каждого акционерного общества нужен отдельный парламентский билль.
— Легко обойти через Голландию: там ничего подобного не требуется.
Было еще много предложений, хотя не все из них запомнились. Подобные совещания весьма полезны: они дают управителям компании свежие идеи, а тем, кто не входит в руководящий круг — чувство причастности. Может быть, ложное, но сильно поднимающее лояльность. Знаете, есть определенное соответствие между устройством государственным и внутрикомпанейским. На Руси я правил своими людьми вполне самодержавно, в Англии — смягчил манеру до ограниченной монархии, а на дальнейшее время задумался, не учредить ли республику. Дело в том, что в коммерческой стратегии мои мнения еще чего-то стоили, а что касается тактики — генерал Читтанов безусловно проигрывал своим приказчикам, набравшимся английского опыта. Не раз возникали споры, в коих мне доводилось признать свою неправоту.
И под самый конец, когда уже все притомились, развеселил публику Харлампий Васильев.
— Дозвольте мне сказать! Предлагаю построить водолазный колокол, чтоб добывать жемчуг и кораллы! Поручить Ефиму Прокопьичу Никонову!
Послышались смешки, мужские шутки о том, каким девицам и в обмен на какие услуги предполагает юный прожектер дарить добычу; но парень нисколько не смутился и подвел неплохое коммерческое обоснование. Действительно, и китайцы принимают коралл наряду с серебром, и в Европе на него цены поднялись, с тех пор как легкодоступные запасы в медитерранских водах выбрали без остатка. А на больших глубинах, ныряя с поверхности, много не наломаешь. Расчет обещал, по меньшей мере, безубыточность, затраты выходили ничтожные, и я дал добро на постройку. Дал — и забыл о том.
Однако, через недолгое время, промозглая английская осень разбудила дремавшего в моем теле врага: грудную болезнь с несносным утомительным кашлем. Привычные снадобья, вроде волчьего сала, помогали, но не радикально, а умный и дорогой врач лишь подтвердил то, о чем пациент и сам догадывался: что местная зима его может совсем убить. Рекомендуется жаркий и сухой климат.
Что ж, нет ничего проще! Самый дряхлый из моих кораблей, «Святой Савватий», как раз пришел в Бристоль из Испании и готовился плыть обратно. Оставив указания приказчикам, что делать в мое отсутствие (не очень-то им, по правде говоря, и нужные), взял, в дополнение к основному грузу, водолазный прибор, взял Ефима с Харлампием и велел отправляться.
Разгрузились в Кадисе; но и там осень настигла, с опозданием против британской на месяц. Дальше куда? Изначально собирался в Неаполь, однако явилась мысль, что в Италии зимний сезон недостаточно тепл и сух. Зато в южной стороне, на таком же примерно расстоянии, есть острова вечного лета, где ноябрь — самый приятный месяц в году. Кончается период дождей, земля цветет и плодоносит, солнце чуть умеряет обычное неистовство. Идем на Капо Верде! Ветер норд-ост, благоприятный. Недели полторы плавания (кружным путем, подальше от марокканских берегов) — и хмурое осеннее небо стало очищаться от туч, потом засияло, как в июльский полдень. Вскоре неровные, изрезанные морщинами долин, серо-коричневые горы выросли из морской пучины. Тропик рака остался за кормой: так далеко на юг мне еще забираться не приходилось.
Коррехидор Франциско де Оливейра, правитель островов, с трудом поддерживал habitus «честной бедности». Португальский король Жуан Пятый, самый богатый монарх Европы, не слишком щедр был на жалованье, надеясь, вероятно, что колониальные чиновники как-нибудь сами прокормятся. Однако с каповердианских обитателей брать было нечего: средь пышной южной природы нищета царила столь же беспросветная, как в самой худой смоленской или тверской деревне. Нищета и голод.
Голые черные ребятишки вились вокруг моих матросов, слетаясь на брошенный кусок морского сухаря стайкой голодных воробьев. Даже «бранкос» — белые, составляющие здесь род аристократии, живут не богаче, нежели обыватели какого-нибудь русского уездного городка. Их несколько сотен (на тридцать или сорок тысяч негров и мулатов, именуемых «претос» и «пардос»), и делятся они на два сорта. Приезжие из метрополии считаются вроде как «побелее» местных уроженцев. Чиновники и гарнизонные солдаты глядят свысока на «моргадос» — здешних помещиков, особенно если у сих последних затесался в родословной какой-нибудь разбогатевший на торговле рабами полукровка, «бранко-де-динхейро», «белый-по-деньгам», как тут называют это сословие. Те отвечают полной взаимностью босым воякам с нечищеными мушкетами…
Городок Рибейра-Гранде, столица колонии, знавал лучшие времена. Половина зданий лежала в руинах: лет двадцать назад Жак Кассар, знаменитый французский приватир, зашел сюда по пути в Америку и не оставил камня на камне. Не помог и форт Святого Филиппа, возведенный на горе, саженях в пятидесяти выше поселка. Французы легко овладели укреплением. Блестящие действия десанта: есть чему поучиться! Восстановлением разрушенного власти метрополии не занимались. После открытия в Бразилии золота, а позже — алмазных россыпей, все прочие португальские владения стали никому не интересны и перешли в разряд второстепенных. Небольшому народу трудно освоить слишком обширные пространства.
Зато гостеприимство жителей в изумление вводило. Понятно, заморский граф для коррехидора и его супруги, стосковавшихся по столичному обществу — подарок судьбы. Но и матросы наслаждались положением богатых иностранцев. Мало, что богатых — первосортных по цвету кожи. Пылкие мулатки привечали их даже без денег, а уж с деньгами… Пару раз довелось послать прямо-таки спасательные отряды, чтоб разыскать зацелованного до полусмерти искателя приключений. Отдохнув после плавания и осмотревшись, я начал понимать, что мне грозит то же самое: благородные хозяева довольно откровенно сватают мне старшую дочку, прелестного ребенка лет пятнадцати по имени Беатриса. Богатый, титулованный, вдовый — а что «жениху» за пятьдесят перевалило, наплевать! Болеет — так, наверно, еще лучше: скорей наследство оставит…
Представляю разочарование хозяев, когда выздоравливающий гость предпочел юной Беатрисе де Оливейра все тех же мулаток, а потом и вовсе перебрался с берега к себе на корабль. Однако… Иного выхода не было. Они до меня добрались! Утратив право отговариваться дурным самочувствием от приглашений почтить своим присутствием званый обед то в одном, то в другом белом семействе, я просто сбежал от желающих зазвать меня в гости и тем подтвердить собственную знатность и высокое положение!
А еще через несколько дней «Святой Савватий» поднял якорь и ушел к необитаемым островам в полусотне миль от Рибейра-Гранде. Столичный городок не имел приличной бухты, а нам требовалось спокойное место: желательно, совсем без волны. Водолазным колоколом очень трудно пользоваться, когда его болтает вместе с судном.
Обретя достаточно телесных сил, чтобы лазать под воду, я делил время меж царством Нептуна и пропущенными по недостатку времени выпусками научных журналов: «Philosophical Transactions», «Acta Eruditorum», «Journal des savants»… Истинное пиршество духа! Сколько же я не отдыхал? Лет десять? Пятнадцать? Изображал собой обозную клячу в походе: копил богатство, боролся за власть… Не хрен ли с ними? Может быть, беспощадно вышвырнув меня из омерзительного общества интриганов и властолюбцев, судьба хотела сказать: «брось, это не твое»?
Единственное, о чем стоило пожалеть — что в юные годы ремесло живописца мне не далось. Найти хорошего художника и притопить футов на тридцать у заросшего кораллами скального обрыва (живым, естественно, в колоколе). Если сумеет передать своей кистью хотя б десятую часть открывшихся красот — стяжает славу, достойную Леонардо и Рафаэля. А с чем сравнить тихий восторг, когда, окруженный изумительно прозрачной водою, зришь себя парящим над хрустальной бездной? Плавный переход оттенков от изумрудного к сапфировому при удалении от берегов, красочный мир чуждой жизни в ее родной стихии… Ничего не буду рассказывать, ибо слова бессильны. Плывите, господа, ныряйте: сами все увидите!
Замечу только, лучше смотреть через стекло. Можно и без него: как ни странно, соленая морская вода раздражает глаза меньше пресной. Но без стекла искажается перспектива и расплываются контуры предметов. Парусный мастер, оказавшийся заодно неплохим шорником, стачал по моему указанию кожаный намордник: с одной стороны подобие оконца от колокола, другая густо смазана пушечным салом и прилегает к лицу. Ефим Никонов, еще при Петре вымышлявший, для выхода подводных моряков наружу, «камзол со штанами» из тюленьих шкур и «бочонок с окошками против глаз» на голову, сначала ругался и плевался, потом оценил замечательную простоту решения. Даже усы сбрил, чтоб самому попробовать.
Добыча кораллов, с такими приспособлениями, удесятерилась против обычных способов. Выходят на дно из колокола двое: один с ломом, другой с сетками для сбора добычи (то и другое, конечно, привязано). Минуту поработают — возвращаются, чтобы отдышаться. Через полчаса или час, когда воздух становится спертым, колокол поднимают и вниз идет другая пара. Потом опять меняются, по кругу. Конечно, содержание семисоттонного корабля добытым не окупается, но это всего лишь опыты. Регулярный промысел должен выглядеть иначе. Судно значительно меньшего размера, несколько колоколов, опускаемых с попарно соединенных вельботов или туземных лодок. Нанять и обучить черных — среди них есть отменные пловцы, готовые нырять хоть целый день за еду и одежду, понеже денег низшие слои островитян не употребляют…
Постойте, а лодок ведь тоже не употребляют! И не только низшие. За все пребывание на островах видел только одну: в усадьбе губернатора. Лежащую на берегу, судя по виду, не первый год. Прибрежные воды изобильны рыбой; мои матросы добывают оную когда и сколько пожелают: хоть сетью, хоть на крючок. Жители, похоже, ни рыбачить, ни суда мастерить не умеют. Ладно, негры — но португальцы, вроде, морской народ?! Они-то как сумели разучиться? Странно…
Недели через две «Савватий» вернулся к острову Сантьягу за свежим мясом и фруктами: негоже близ населенных мест питаться крупой и солониной, как посреди океана. Матросам — три дня берега, дабы успели растратить вожделение, напиться и проспаться. Шумно обсуждая прелести туземных красоток и вкусовые достоинства качупы и джагациры, свободная часть команды продефилировала по эспланаде, мимо угрюмых мулатов из колониальной милиции, коих собирают алармом при появлении любого судна на горизонте, и рассеялась среди хижин «пардос». На борту остались одни штрафованные, да начальство.
Кому из местных землевладельцев надлежит поставлять провиант на корабли, решает сам коррехидор: иначе бы он совсем в нищету впал. В ожидании счастливцев, на которых в этот раз указал его начальственный перст, мы присели за маленький столик на террасе, в тени драконова дерева. Угодливый мулат выставил кувшин местного вина и закуску. Потягивая благородный напиток (очень приличный, для этакой глухомани), я заговорил о доходах, которые может извлечь колония из морских глубин:
— При изобилии соли, которая здесь очень дешева, рыболовство не только позволит покончить с голодом на вверенных вашему попечению островах, но и создаст дополнительную статью вывоза; со своей стороны, готов вложить деньги в устройство совместного промысла по добыче кораллов, могущего принести подлинное процветание…
Де Оливейра слушал, молчал, и с каждой секундой крепло ощущение, что меня не понимают. Доселе трудностей не было: латынью местный правитель владел неважно, однако португальский язык столь же близок к итальянскому, как полтавский диалект русского к московскому; ну, может, чуть подальше. При желании, договориться можно. И вдруг — предлагаешь человеку денег заработать, а от него никакого отклика! Хуже, чем никакого: выражение лица сделалось, как у старой девы, услышавшей непристойное предложение.
Оборвав бьющую мимо цели речь, с недоумением уставился на коррехидора. Тот видимо, понял, что гость говорит непристойности не со зла, а по глупости, и снизошел до тупого иностранца:
— Да если на острове будет хоть одна, самая плохонькая лодка, ее придется стеречь всем гарнизоном: иначе эти твари украдут ее и уплывут! На соседний остров, в Африку, на дно морское, к дьяволу в ад — куда угодно! Они бегут даже на английские корабли, везущие негров на плантации Барбадоса: там рабов хотя бы кормят!
Я поднял очи ввысь, дабы убедиться: над нами драконово дерево, а не березка. Родным русским духом повеяло. Так вот зачем торчат на берегу вооруженные мулаты! Здесь тоже главное назначение администрации — денно и нощно бдить, чтобы мужики не убежали. И точно так же сословная корысть рабовладельцев противоречит общему благу: свой медный грошик дороже казенного рубля. Тут — среди несметных морских богатств не велят иметь лодки, там — не пускают переселяться с болот и суглинков на пустующие черноземы… Императрица и помещиков дуростью превзошла: запретила переводить крестьян между имениями одного владельца, прямо Навуходоносор в юбке!
В общем, черных в Рибейра-Гранде нанять не получится. Можно купить — но это совсем иная система. Первоначальные вложения слишком велики, надсмотрщики тоже стоят денег, и разделить годных работников с негодными чрезвычайно сложно. Черт с тобой, коррехидор: если мне понадобятся кораллы, буду их добывать своими силами.
— Мне очень жаль, сеньор Франциско. Повернувшись к морю задом, колония теряет сотни тысяч мильрейсов, изрядная часть которых — ваши личные потери. Впрочем, не смею настаивать. Насколько понимаю, это идут наши поставщики?
Загрузившись живым скотом и превосходными апельсинами (ей-Богу, даже лучше неаполитанских!), мы оставили влекущую фальшивым уютом обитель рабства и отправились вновь к безлюдным клочкам суши, диким пристанищам птиц и громадных морских черепах. Испробовали еще одно подводное ремесло: очистку корабельного днища без кренгования. Не слишком производительно, но в крайности — почему бы и нет? Скорей, такая сноровка может пригодиться для устранения повреждений ниже ватерлинии. Или для причинения оных вражеским судам — за что ратовал, по старой памяти, Никонов. Возможны и другие применения. С детства помню, как в восемьдесят седьмом году прославился на всю Европу капитан Вильям Фиппс, при помощи артели ныряльщиков и примитивного колокола-бочки поднявший сокровища с утонувшего испанского галеона. Однако, после крушения планов большого кораллового промысла, все эти идеи казались не слишком интересны.
Затрудняюсь сказать, что именно подтолкнуло меня воздеть глаза к небу и вспомнить забытые изыскания: то ли ежедневное зрелище множества чаек, режущих послушный воздух узкими крыльями, и летучих рыб, постигающих десятки сажен на прозрачных плавниках, то ли неизбывное желание оторваться от опоганенной рабским духом земли и улететь с нее к чертовой матери. Три года назад, в Ливорно, Харлампий всерьез обещал мне продолжить не оконченный умершим братом трактат о полете, да как-то, видно, недосуг было… Но, будучи спрошен, парень не смутился:
— Александр Иванович, позвольте запасные паруса на опыты взять…
— Если Тихон Афанасьич возражать не будет. В корабельных делах главное слово за капитаном. Только зачем тебе?
— Сделаю змея, чтоб пудов десять поднимал. Тот же парус, только положенный набок.
— А не лучше ль соорудить увеличенное подобие бумажной птицы, кою ты мне в саду фактории показывал?
— Лучше, но и труднее несравненно. Я думал о том. Чтоб изготовить ее достаточно легкой, потребуется много такого, чего здесь нет: бамбук, шелк, что-нибудь для пропитки оного… Сложные расчеты и долгие испытания… Змей чем хорош: можно построить из корабельных материалов и проверить правила подобия относительно поднимающей силы. Без такой проверки — боюсь, за птицу браться преждевременно.
— Разумно. Я бы сказал, разумно не по возрасту. Ладно, попрошу Тихона Афанасьича помочь тебе.
Молодой капитан оказал надлежащую поддержку — и через несколько дней на песчаных холмах близлежащего пустынного островка развернулось невиданное действо. Дюжина матросов с трудом удерживала под свежим ост-норд-остовым трейдвиндом громадный, рвущийся в небо воздушный змей. Вот он захватил ветер, пошел вверх…
— Трави помалу!
Гарпунный линь толщиною две трети дюйма заскользил в мозолистых ладонях. Видно стало, что натянутый под углом к горизонту парус несет не только себя: привязанный к деревянной распорке, в небо поднимался мешок с камнями. Четыре пуда. Ровно Харькин вес. Вытравили пол-бухты троса, новомодным октантом измерили угол, сосчитали высоту. Двадцать сажен, выше корзины на мачте «Савватия». Все по расчету. Возможность поднять наблюдателя доказана.
— Ва-а-аше Сиятельство…
— Ладно, разрешаю. Только над водой. Обидно будет, если расшибешься.
Выбрав линь, матросы не без труда совладали со своевольной парусиной и снова пустили змея в небеса. Теперь вместо мешка — худая мальчишеская фигурка, привязанная под мышки. Руки вцепились в веревку, тело при порывах ветра качается, как язык колокола… Вот поднялись выше приземных завихрений… Слава Богу, ровнее пошел. Машет рукой, показывает вверх! Кричит — не слышно, что. Пол-бухты, как с мешком… Опять вверх показывает? Добро, сегодня твой день.
— Трави на всю!
Полотнище змея видится в небе носовым платком, человек под ним — козявкой. На первый раз хватит.
— Выбирай!
Похоже, ветер на высоте сильней, чем у земли: еле стащили с небес отчаянного воздухолаза. Замученного, с кровавым рубцом, натертым на лопатках, и безмерно счастливого. Самому, что ли, попробовать? Нет, не сегодня. Солнце уже близко к закату: совсем не заметили, как день прошел!
— Ну что там, далеко видать?
— Лучше, чем с мачты! Но по всему горизонту как будто дымка…
— Пыль африканских пустынь. Ветер-то с матерой земли дует.
— Ага. Еще корабль видел, к норду и чуть вестовей. Сюда идет, похоже. Далеко. Миль двадцать, наверно.
— К норду? Или из Нового Света, или марокканцев сильно боится.
— Или долготу потерял, отклонившись к весту. А теперь определился по островам.
— Тоже возможно.
Пока небесный паритель превращался, усилиями ловких матросских рук, в сверток парусины и связку жердей, в душе разгорался слабый огонек тревоги. Разгорелся — и тут же погас. Беспокоиться нет оснований: суда берберийцев не годятся для дальних вояжей, а европейские пираты, еще недавно многочисленные, полностью истреблены. После окончания великой войны множество бывших приватиров и военных моряков, привыкших к легким деньгам, избрали преступную стезю; однако державы действовали решительно. Испанский король направил к американским берегам аж самого адмирала де Лезо. «Пол-человека» не посрамил своей репутации, истребляя разбойников с рациональной жестокостью и блестящим успехом. Африканские воды очистил британский капитан Шалонер Огль, разгромив пиратов в настоящей морской баталии и получив за сей подвиг рыцарское звание. Окрестности Капо-Верде уже лет десять считаются безопасными.
Южная ночь накрыла землю черным парусом, с пулевыми дырочками звезд. Уговаривая себя, что не стоит пугаться каждой тени, я тщетно пытался заснуть. Свистел в снастях африканский ветер, жалобно поскрипывал рангоут. Вселенная равнодушно взирала на меня сквозь отверстый пушечный порт, непременную принадлежность каюты. Только под утро удалось забыться неглубоким, наполненным беспокойными видениями сном. Казалось, только смежил веки — и тут же подскочил от чужого прикосновения.
Путешествие поневоле
— Бога для, простите, Ваше Сиятельство! — Митька Уваров, мой денщик, дерзнувший встряхнуть хозяина за плечо, очевидно тревожился, как бы не пострадать за непочтительность, — капитан велел доложить…
— Кто?! Что?!
Проснувшись окончательно, я выгнал из головы остатки сумбурного сна.
— Велел, так докладывай.
— Голландский индиец. Салютует флагом. Прикажете отвечать?
— Умыться принеси! Бегом!
Выйдя на шканцы, поздоровался с Тихоном, взял у него подзорную трубу и навел на пришельца. Не меньше тысячи тонн, две палубы, сорок пушек… А на «Савватии» восемь, причем канониров едва наберется на четыре. Хотя час рассветный, на палубе голландца больше народу, чем во всей моей команде, малочисленной даже по меркам торговых судов. У меня нынче один матрос на двадцать пять тонн водоизмещения, тогда как в военных флотах обычная пропорция — около двух тонн на душу, у ост-индцев — три-четыре. Такой корабль вмещает до трехсот служителей, против неполных трех десятков у меня. В случае стычки, сопротивление бесполезно.
Впрочем, какой резон голландскому капитану на нас нападать? Это как если бы на улице Амстердама солидный негоциант, прогуливающийся с супругой и детьми, вдруг кинулся на прохожего. Тем паче, гость ведет себя вежливо: первым салютовал. Киваю утвердительно капитану — и красно-белое полотнище, под коим ходит ныне моя флотилия, ползет вниз. Флаг вольного города Любека. Плохая защита — но более солидная, увы, недоступна. У сильных держав за малую мзду покровительства не купишь.
Незваный гость входит в бухту, явно намереваясь бросить якорь с нами рядом. Делать торговцам здесь нечего — значит, у кого-то дело ко мне. Иду в каюту, дабы облачиться в парадный мундир и взять шпагу…
— ….. мать!!! Что ты делаешь, ирод?! Щас столкнемся!
Крепкая морская ругань, треск дерева, палуба прыгает из-под ног; с нависшего над «Савватием» борта сыплются, как горох, вооруженные люди, яростно орут по-голландски…
Что они кричат?
«Пираты, сдавайтесь»!
Это кто здесь пираты, мать вашу так?! Встаю с четверенек, оборачиваюсь во гневе — и получаю по голове чем-то тяжелым. Свет меркнет в глазах.
А-а-а… Что это было?!
Дьявол, как башка болит! Повешу сволочей! Вот только выберусь из этого дерьма — непременно повешу! Самая нужная часть тела для члена Королевского Общества! Чем же это так приложили? Абордажною саблей плашмя?
Ощупываю здоровенную и очень болезненную шишку. Волосы слиплись от крови.
— Ваше Сиятельство, очнулись?!
— Тихон, что за херня?! Это правильные голландцы, то бишь компанейские? Или разбойники какие?
— В том-то и дело, что не разбойники. Настоящие солдаты «Ферейнихте компании» нас атаковали. Только вот… Понимающий человек не с первого, так со второго взгляда без ошибки отличит пиратский корабль от честного — а с извинениями к нам никто не торопится покамест. Попутали нас с кем-то, Александр Иваныч. Корабль этот, «Платтенбург», я помню, видел в Амстердаме, и капитана старого знал. Не по-приятельски, но все же… Данила Овербек — моряк изрядный, его все знали. Ныне вместо него другой, Геррит ван Винкель, а из какой задницы он выполз, одному Богу известно…
— Погоди-ка. С кем «Савватия» можно спутать, кроме его систершипов? Чего глаза прячешь?! Или Лука не всё мне рассказал, что творил в прошлую мою опалу? Ты был тогда на «Святом Януарии», так что выкладывай.
— Да я не ведаю, о чем он говорил Вашему Сиятельству, о чем — нет. А что и знал, так забыл.
— Память девичья? «Не помню, кому дала»? Брешешь, голубчик. Ты как раз перед тем в штурманы из учеников вышел. Первое плавание в новом чине — да и не помнишь?! Были у него стычки с голландцами?
— Серьезных — не было. Пару раз брал с ихних судов откуп за оборону от турок…
— О которой они отнюдь не просили. Это вам вымогать деньги с купцов казалось легко и весело; а купцам… Точно в те разы ван Винкеля не встречали? Что задумался? Мало я учил, что посеянное тобою зло к тебе же и вернется?!
— Не в этом дело, Александр Иваныч. Из разговоров понял: они уверены, что мы опять в Ост-Индию собрались..
— Один хрен, без благовидного предлога напасть бы не решились. Это тебе не дикие алжерийцы. Мы платим за ваши с Лукою старые грехи.
Я огляделся кругом. Тесная штурманская каюта «Савватия», очищенная от имущества прежних обитателей. Тонкий солнечный лучик пробивается через щель закрытого порта. За дверью топчется и сопит кто-то тяжелый.
— Двое сторожат. Солдаты. Сказать, чтобы позвали начальство?
— Погоди, Тихон. Дай в себя прийти. Матросы наши где?
— Заперты в трюме. Убитых нет: несколько поломанных рук, да разбитых голов. Как Ваше Сиятельство с ног сбили, я велел прекратить сопротивление. Или надо было драться?
— Бесполезно. Ты правильно распорядился. Сообщаться с людьми позволяют?
— Нет. Сразу постарались, чтоб голову команды от тела отделить.
— Выблядки Сатаны! Свою б отделил, чтоб не болела. Ш-ш-ш, вроде голос знакомый!
Прислушались. Но прежде, чем вспомнили голос, его обладатель сам вперся в каюту, выглядывая с торжеством и опаской из-за широкой спины краснорожего голландца.
— Возгряев, сука! Дурак я, что не утопил тебя в Темзе!
— Отменно правильно ваша милость себя характеризует. Деньги где?!
— В…! — Повернулся от холуя к новому его хозяину. — Капитен? Ик виль эн приват гешпрек.
Маленькие свинячьи глазки моряка свирепо блеснули — и бывший тайный канцелярист, заткнувшись на полуслове, упятился вон из каюты. Тихон, взглянув на меня, тоже пригнулся и нырнул в низковатую дверь. Его там приняли, взявши за локти. Чья-то рука просунулась внутрь, поставила табурет и убралась обратно. Расположившись по-хозяйски, ван Винкель уперся в меня своими бледно-голубыми гляделками и на вполне сносном французском вопросил:
— Так где вы прячете награбленное, граф?
Вот интересно, он и впрямь верит, что граф Читтанов занялся морским разбоем, или прикидывается? Очевидно одно: не найдя ожидаемых сокровищ, капитан станет искать виноватых. При этом, в зеркало посмотреть… Нет, нет! Такое не в природе человеческой! Похоже, я поспешил счесть себя самым большим дураком на этом судне. За сей титул развернулась нешуточная борьба.
— Вас обманули, хеер.
Любуясь игрой багровых тонов на лице собеседника, я принял самую вальяжную позу из доступных сидящему на полу и продолжил:
— Господин, который подбил вас на столь опрометчивый поступок, вероятно уверял, что «Савватий» направляется в Ост-Индию и, следственно, набит серебром. Можно одним выстрелом убить двух зайцев: самому стать богатым человеком и Компании оказать любезность, устранив опасного соперника. Ну, а что касается неувязок с законом — большие деньги и тут помогли бы справиться. Главное, солдаты и матросы с «Платтенбурга», набив карманы чужими талерами, уверовали бы в преступность прежнего владельца сих монет крепче, нежели в чудеса Христовы. На любом суде они с искренним убеждением показали бы что угодно: что граф Читтанов пират, что он кушает христианских младенцев на завтрак, что они просто вынуждены были его ограбить, дабы защитить свою жизнь и вверенное «семнадцатью господами» имущество.
Капитан молчит. Недвижен, как скифский каменный идол на степном кургане. Растерян или просто задумался? Бесцветный взгляд ничего не выражает. Все равно, пока слушает — надо говорить! Посеять сомнения означает спастись. Переведя дух, усиливаю нажим:
— А без денег вам нечем крыть. Даже голландский колониальный суд, сколь бы он ни был снисходителен к верному слуге Компании, потребует доказательств моей преступности, которых нет и взять негде. Надо же блюсти приличия перед лицом европейских держав. Что португальский король обидится за учиненное в его владениях самоуправство — это пустяк, но ведь англичане и французы тоже не станут молчать! Совсем не потому, что испытывают теплые чувства ко мне: просто, если вы дадите им такую прекрасную возможность вымазать голландских соперников дерьмом, они ее ни в коем случае не упустят! Вас самих представят пиратами, и господам в Амстердаме придется дезавуировать действия своего капитана. Я и мои люди приложим все усилия, чтобы так и случилось. Если же вывести нас из игры, не останавливаясь перед погублением двадцати семи христианских душ, то задумайтесь: вправе ли вы надеяться на молчание и верность своих матросов? Капитан не может исправлять должность так, чтобы никого из команды не обидеть…
— Hou je bek dicht, ouwe sok! Заткнись, старый чулок! Я иду на Кап, а там пусть губернатор решает, что с вами делать!
Моя речь явно привела ван Винкеля во гнев: вскочив с необыкновенной для такой туши легкостью, он яростно пнул безвинный табурет, вышел вон и от души хлопнул дверью. Черт с ним, пусть ругается. Главное, непосредственная угроза миновала. А что теперь будет с Возгряевым — так этого аспида ничуть не жалко. Что заслужил, то и будет.
К моему удивлению, злокозненный интриган легко отделался. Уже на следующий день, шествуя под конвоем в гальюн, я узрил его на палубе средь компанейских солдат, всего лишь с лиловым синяком под глазом и с умеренным недостатком в зубах. Воистину, голландский капитан до самых кишок проникся мудростью Писания: «блажен, кто и скоты милует»!
Впрочем, ост-индское мягкосердечие отнюдь не распространялось на меня и моих людей, оставшихся в строгом заточении даже по выходе обоих кораблей в море. Не испытывая недостатка в служителях, ван Винкель назначил на «Савватия» призовую партию для управления судном и капральство солдат для охранения пленных. Дисциплину наемники Компании блюли не слишком строго, и постепенно мне удалось разговорить некоторых из них. Противника надо знать — иначе проиграешь.
Как выяснилось, «Платтенбург» отплыл с острова Тессель месяца полтора назад, вместе с другими восемью судами, имея назначением Батавию. Шторм в Бискайском заливе раскидал караван, однако никого это не смутило: в таких случаях ост-индцы добирались в Капштадт мелкими группами и поодиночке, там давали отдых командам, чинились, поджидали друг друга, — и отправлялись далее на восток. Зайдя на остров Сантьягу для пополнения запасов воды, капитан услышал о графе Читтано, непонятно зачем болтающемся со своим кораблем в архипелаге. Звук этого имени разбередил старые обиды. Действительно, лет десять назад голландец, бывши в Медитеррании, имел случай испытать на себе сомнительные приемы Луки Капрани. Теперь, обладая подавляющим превосходством, он не удержался от искушения взять реванш — тем более, среди свеженабранных солдат нашелся русский, аттестовавший себя бывшим доверенным слугою графа. Сей переметчик упирал на справедливость возмездия, соблазнял легкостью дела и сказочными богатствами. Кто же знал, что там нечего брать, кроме горсточки серебра из скудной корабельной казны…
День шел за днем, неделя за неделей. Подгоняемый свежим трейдвиндом, «Савватий» резво бежал курсом зюйд-вест. В полосе штилей довелось поскучать, изнывая от нестерпимого зноя. Дождавшись, наконец, ветерка, пошли на зюйд: по моему расчету, корабль уже был ближе к Америке, чем к Африке, и значительно южнее экватора. «Платтенбург» все время держался рядом, на дистанции верного пушечного выстрела. Если даже взять верх над призовой командой, как потом уйти от погони?
Разумеется, я с самого начала думал об освобождении; но тюремщики не делали ошибок и явно имели опыт работорговли: все способы, употребляемые для защиты от возможного бунта негров, применялись и к нам. Лишь переманив кого-то из охраны (или из матросов) на свою сторону, можно было надеяться на успех. Однако, стоило мне наладить отношения с потенциальным помощником, как его убирали. Всех, кто выказывал хоть малейшее дружелюбие к нам, меняли на угрюмых ненавистников. Метода Тайной Канцелярии по предотвращению сговора узников со стражей явственно проступала в сих действиях. Возгряевым воняло за версту.
Сам бывший секретарь не считал нужным соблюдать правила, с его доклада установленные для других. Видя мое бессилие, он постепенно осмелел, начав изводить бывшего хозяина тупыми оскорблениями. Впрочем, парировать сии потуги не составляло труда. Как-то раз, при очередном таком посягательстве, шпион и попался на крючок.
— Помнишь, как твои мужики аккулами мне грозились? Теперь сам в ихние зубы попадешь, после того, как с виселицы снимут!
— Вместе попадем, безо всякой виселицы. Возможно, живыми.
— Врешь, вор! Тебя рыбы сожрут, а я в индейских землях начальствовать буду!
— Глупый ты, Степа. Погляди, каких матросов ван Винкель на «Савватия» отрядил. Авось, поймешь.
Недруг запнулся и умолк, с опасением косясь на голландцев. Клюнул, ёрш склизкий! Сейчас главное — не пережать. Ни слова больше, пока первым не заговорит!
Через день или два, в минуты недолгой прогулки по палубе, коей мне удалось добиться у тюремщиков, сукин сын подкрался сбоку и прислонился рядом к фальшборту. Заложив руки за спину, я делал вид, будто не замечаю его.
— Ты… Это… А чем нехороши матросы?
С превосходительной… Нет, с высокопревосходительной улыбкой продолжаю любоваться бескрайним морским горизонтом. Прям чувствую, как мерзавца корежит от разнородных чувств.
— Ваша милость, так чем матросы-то не нравятся?
— Капитан самых негодных сюда сплавил. Половина больных, с начинающейся цингою. И прочие… Азияты всякие, из белых — сплошь мозгляки… Словом, которых не жалко.
— И что?
— А ты еще не понял? Суд грозит скандалом и крупным штрафом; а ежели приз в море пропадет, никто о нем и не вспомнит. Как раз входим в широты, где сильные шторма бывают.
Знающего человека так дешево не купить, но этот… Главное, посеять сомнения, а дальше он сам их растравит. Как нарочно, шторм не замедлил: через день или два сильный норд-вест нагнал тучи и поднял крутую волну. Не в силах уснуть, стукаясь поминутно всеми частями тела о стенки каюты, я радовался душою, представляя метания Возгряева. К утру непогода усилилась, и стало не до того. Брызги воды находили щели в стенах нашего с Тихоном узилища, корпус скрипел так страшно, будто вот-вот рассыплется. Если утонем — мне это будет расплатой за скупость. Последняя тимберовка делалась в Гамбурге, пять лет назад… Надо было еще раз в док поставить… Хотя, кто же знал?! Я не планировал такого дальнего плавания…
Чуть слышно за шумом бури, звякнул замок. Голландский подшкипер де Ренье, потомок французских гугенотов и старший призовой команды, вцепился в дверной проем:
— Капитан, сейчас не время для вражды… Вы лучше знаете свое судно, и русские матросы требуют вас… Иначе не слушаются. Даже на помпы не встают. Извините, граф: вам придется остаться…
— Врешь, братец. Матросы хотят видеть нас обоих. Так?
— Простите, Ваше Сиятельство. Я не могу…
— Без меня никто не двинется с места. Тихон, сядь!
— Ладно, только дайте слово чести…
— Хрен тебе! Кто беззаконно лишает свободы мирных мореплавателей, сам чести не имеет и ставит себя вне христианства. Пока шторм, никого не трону — а там видно будет!
В этот момент накатилась особенно большая волна. Пенный гребень обрушился на палубу, взбесившимся белогривым табуном пронесся по ней и походя внес подшкипера в арестантскую каюту. Если б не Тихон — приложило бы мордой об стенку.
— Черт с вами, Exzellenz! До окончания шторма еще дожить надо!
Мокрые с головы до ног, мы с Полуектовым буквально свалились на головы своих матросов, бесплодно сжимавших кулаки в смрадной темноте трюма.
— Здорово, братцы! Спаси Господь, что постояли за нас с капитаном. Афанасьич, командуй!
— Слушай, ребята! Кто в вящей силе — бегом на помпы. Антоха — ты со своими смени голландцев у руля и на палубе, а то с ног падают…
Тихон моментально приставил всех к делу. Де Ренье не мешал, равно как побежденная морскою болезнью стража. Вчерашние недруги превратились в единую команду, занятую борьбой за спасение.
Только я набирал камни за пазуху. В буквальном смысле, под видом поисков течи лазая по затопленному интрюму и выковыривая из балласта подходящие куски коралла. Харлампий таскал их на жилую палубу и тайком от голландцев прятал в увязанные матросские гамаки. Запасши сего оружия в достатке, мы с ним выбрались из недр корабля в обитаемую часть и в канатном ящике отыскали бледного, как смерть, Возгряева.
— Теперь понял, какую судьбу тебе ван Винкель уготовил? Меня слушай, не то пропадем. Где топоры и прочий корабельный инструмент? Надо иметь под рукой. Не исключено, что мачты рубить придется.
— Под замком в боцманской каморке, ключи у сержанта Бильдера.
— Добудь. На меня не ссылайся! Придумай уместный резон, ты же умный.
— Не извольте беспокоиться, уж немчуру-то как-нибудь обманем!
Буря, по крайней мере, не усиливалась — это уже было хорошо, потому что мы к ней притерпелись. Больших течей не обреталось: «Савватий» вбирал потихоньку воду всем своим ветхим корпусом, сотнями незаметных щелей. Рук для откачки теперь хватало. Держась за леера, вылез на палубу — там тоже несли вахту мои матросы, только рулевым остался голландец. Он уверенно держал курс по волне. Свирепый ветер напрягал до каменной твердости лишь два паруса: штормовую бизань и фока-стаксель, ликованные по всем шкаторинам, — но корабль мчался по бурному морю, как стрела.
— Ваше Сиятельство, вот! Токмо вернуть надо: я сказал, надобен инструмент помпу поправить…
— Боцман где? Семеныч! Ты у себя в кладовой без фонаря разберешься, на ощупь, так что пойдем.
Сжимая драгоценный ключ, полезли опять под палубу, во мрак и смрад. Опасаясь пленников, стража редко пускала их наверх, и нужду справляли в бадью. Еще в начале шторма содержимое оной расплескалось по сторонам. Твари ост-индские, я их это вылизать заставлю!
Собрали все, что может сойти за оружие, припрятали… Теперь — ждать! Пусть хоть немного поутихнет. Да и устал я, честно говоря. Матросы бодрей — они привычны к тяжелой работе и, в большинстве, моложе меня вдвое. Где там денщик? А, на помпе? Черт с ним…
— Харька?! Натяни гамак. Там, в дальнем углу, без камней который. Разбудишь, коли что важное.
И, наплевав на штормовую качку, мокрый и грязный имперский граф уснул сном праведника под рев бури и торопливое чавканье помп.
Мне снилась зима. Настоящая, русская, с морозом и снегом. Кибитка, запряженная лихою тройкой, весело мчится, раскачиваясь на ухабах, рослый возница свищет по-разбойничьи, без пощады охаживает лошадок кнутом. Оборачивается… Это же царь Петр! Да сердитый какой!
— Чего разлегся?! Почто я тебя приближал?! Ну-ка, полезай в хомут!
— Не полезу, я вольный человек и вовсе пассажир!
— Врешь, у меня этаких не водится! Ты конь, и должен ходить в упряжке!
Гляжу на себя: в самом деле, конь! Царь замахивается, чтобы ожечь меня кнутом; шарахнувшись в испуге, оскальзываюсь передним копытом и выпадаю из возка. Чудная повозка мгновенно исчезает в снежной круговерти…
— Не ушиблись, Ваше Сиятельство?
А, это я из гамака во сне вывернулся… Умел запрягать покойный император! Сколько лет прошло, а во рту привкус, будто от шенкелей… Та-а-ак, что тут делается? Холодно как! Впрямь зима настала?! Куда ж это нас занесло, что воздух снегом пахнет?!
Прошла целая ночь. Вылезши на палубу, обнаружил, что буря немного ослабла: ветер дул сильно и ровно, утратив злобную свирепость. Море… Такого я еще не видел! Волны стали положе, зато изрядно прибавили в размере и мощи. Словно холмистая степь пришла в движение. Вспомнилось бегство из берберийского плена: подобно как медитерранские валы нависали над утлой рыбачьей лодкой, так здешние — над семисоттонным кораблем! Накатываясь с кормы, волна плавно поднимала «Савватия» на гребень, и тут же он начинал скольжение вниз, ко дну колышущейся и зыбкой долины, а в полуверсте неумолимо вырастала новая водяная гора… Не опасно, но все равно жутко. Бробдингнег, да и только! Неправы те, кто надеется обнаружить в южных широтах обширный материк: сам океан говорит, что его пространства безбрежны…
Посреди сих впечатлений, сзади послышались шаги, и тяжелая ладонь легла мне на плечо:
— Ступайте в каюту, Exzellenz.
Повернувшись так, чтобы стряхнуть руку, я в тон пришельцу, тоже по-немецки, ответил:
— Ступайте в задницу, сержант.
Бильдер был тупым гессенским наемником, не видевшим моря до поступления на компанейскую службу. До него еще не дошло, как меняет диспозицию нахождение «Платтенбурга» в сотне сажен — или в сотне миль, соответственно. А ныне голландского корабля на горизонте не наблюдалось. Бог весть, уцелел ли он вообще. Более того: полдюжины солдат, состоявших в распоряжении сержанта, стрелять не могли. В штормовую ночь никакие ухищрения не позволили бы сохранить порох сухим. Надо было спускаться в крюйт-камеру и открывать новый бочонок; но этот пункт стерегли и непременно бы мне доложили.
За спиной скрипнула палуба. Покосился — мои встают рядом. Сержант засуетился руками, схватился было за тесак, висящий на поясе, передумал и потянул из-за пазухи колесцовый пистоль. Выстрелит или нет? Сие осталось неизвестным, ибо прежде, чем Бильдер взвел курок, на него обрушился град камней. Два или три попали в голову. Немец грохнулся на палубу, обливаясь кровью: оглушенный или убитый, не разобрать.
Я поднял пистолет, выпавший из ослабшей руки. Со всех сторон стекались люди. Через минуту над недвижным телом стояли с одной стороны голландские наемники и матросы, судорожно сжимающие короткие абордажные сабли, с другой — угрюмые русские с топорами и кофель-нагелями в руках. Нас больше. И мужики крепкие да жилистые, посильнее тех. Но без серьезных потерь ост-индцев не одолеть. Попробуем решить дело миром.
— Ренье! Вы добивались от меня слова чести. Вот оно: положите оружие, и вам не причинят ни малейшего ущерба. Обещаю человечный трактамент и доставку всех желающих в Капштадт, так скоро, как только возможно.
Еще какие-то секунды две толпы, два многоруких чудища, глядели друг в друга. В ком больше нравственной силы и готовности идти до конца? Так матерые волки сходятся нос к носу, скалят зубы, — вдруг, безо всякой драки, слабейший поджимает хвост, уступая место сопернику. Вот и здесь: словно незримый ангел махнул крылом, и вчерашние пленники стали хозяевами положения, а призовая команда — молящими о милосердии пленниками. Де Ренье постарался соблюсти приличия:
— Вы не опасаетесь, граф, что ваше судно будет задержано?
— В отличие от капитана ван Винкеля, губернатор де ла Фонтен — порядочный и, главное, умный человек. Он не станет делать опрометчивых шагов, несущих тяжкий политический вред Компании и Голландским штатам. Позвольте вашу саблю.
Проводив голландцев под палубу, я подошел к компасу — да, направление ветра изменилось. Дует с веста, румб или два к зюйду.
— Шканечный журнал поищите!
Надо разобраться, где мы находимся. Увидеть бы солнце или звезды… Журнал нашелся, но последняя запись в нем принадлежала руке Тихона и сделана была накануне захвата. Ренье попросту следовал за «Платтенбургом», не утруждаясь самостоятельной прокладкой курса и определением координат. Навигационных инструментов вовсе не нашлось: по-видимому, ван Винкель их присвоил и утащил к себе. Я велел привести пленного подшкипера, дабы выразить ему свое неудовольствие. Потомок гугенотов отвечал с присущим доктрине этой секты фатализмом:
— Африка большая, Ваше Сиятельство. Двигаясь на восток, мы непременно будем иметь удовольствие на нее наткнуться.
— Особенно приятно вылететь ночью на скалистый берег. Или проскочить мимо Капа, если буря увлекла «Савватия» слишком далеко на юг.
— Если не уверены в мастерстве своих навигаторов — освободите меня и позвольте вести корабль.
— Спасибо, обойдусь без ваших услуг.
— Как Вашему Сиятельству будет угодно.
Оскорбительная усмешка блуждала на лице пленника. Презрение к сухопутной нации, взявшейся не за свое дело, легко читалось за формальной вежливостью. Вернув наглеца под замок, я поручил Харлампию сделать из реек несложный угломер — и через пару дней, когда солнце стало проглядывать сквозь разрывы облаков, совместно с капитаном определил, что «Савватий» находится между тридцать шестым и тридцать седьмым градусами южной широты: на два или три градуса южнее Капштадта! Хороши б мы были, последовав совету де Ренье! Определить долготу в такой ситуации и сам Эдмунд Галлей бы не сумел — если б нам вдруг не улыбнулась Фортуна.
На тысячи миль вокруг простиралось бескрайнее море. Тем неожиданней прозвучал крик: «Вижу землю»! Действительно, забравшись на решетку марса и присмотревшись, удалось различить меж облаков на южном горизонте пологий конус одинокой горы. Тристан-да-Кунья, точно как Якобзон описывал. Лет восемьдесят назад голландцы хотели создать на сем удаленном острове пункт снабжения для идущих в Ост-Индию кораблей, но Капштадт оказался удобней. Я недолго колебался: на Тристане есть пресная вода, которой у нас в обрез. До Африки хватит — однако без избытка. Хорошо бы пополнить запас, чтоб меньше зависеть потом от голландского коменданта. Не следует давать соперникам дополнительное оружие против себя.
Курс изменили; свободные от вахты матросы, стосковавшиеся по земле под ногами, высыпали на палубу и с вожделением взирали на крохотный клочок тверди, час от часу растущий. Вот уже можно разобрать, какая это громада: вершина теряется в облаках, зеленый бархат склонов чередуется с обрывами и скальными осыпями вышиною в версту. Удобной бухты нет (потому остров и остался ничейным), но с севера имеется подходящее место для высадки. Гигантские волны на эту сторону не достают, и берег пологий. Бросили якорь. Тут даже запертые в трюме голландцы принялись стучать, требуя выпустить на волю. Успокоил: всех пущу на берег, но в свой черед. Если не терпится — помогайте готовить бочки. Даже ночь не остановила! Наутро спустили баркас; смешанная команда нашла на берегу подходящий ручей, и пошла привычная работа. Снова, как в шторм, вчерашние враги перемешались. Только мы с Тихоном превозмогли желание прогуляться по травке: не дай Бог, пленникам вздумается использовать сию оказию, чтобы снова захватить корабль! Можно навсегда здесь остаться, среди тюленей и непуганых птиц. Меня такая судьба не прельщает.
За три дня запаслись водой, наловили рыбы, набрали птичьих яиц (чаячьих, нестерпимо воняющих той же рыбой). Оставалось снять береговой лагерь, с шатром из старого паруса для ночлега, как предпоследней ходкой баркаса прибыл боцман Семеныч, виновато ссутулился и доложил:
— Возгряев пропал.
— Прикончили-таки? Куда ж ты смотрел, черт старый?!
— Нет, вашсясь. Не кончили. Токмо собирались. Вы ж запретили изменщика трогать, а терпеть эту гниду матросам нет сил. Я уж задним числом узнал: бросили жеребий, кому его, значит… Ну, а потом пострадать, стало быть, от вашего гнева…
— Вот сучьи дети: себя не пожалеют, лишь бы гада прищучить!
— Истинно так, вашсясь! Да он, паскудник, как-то пронюхал — и дал деру! Расщелин много на склоне, папоротом заросли. Спрячешься — полком не найти!
— Ладно. Ежели до заката к берегу не выйдет — так и пес с ним. Некуда его деть на корабле: к голландцам посадишь — тоже удавят за измену. Знаешь, что? Отвези-ка на остров топор, лопату, нож, пару мушкетов, бочонок пороха, коробку кремней, пуда два свинца и рыбацкие снасти. Прямо в шатре оставь; да не снимай его, коль беглец не найдется. Бог с ним, с парусом. А матросам скажи, чтоб не брали греха на душу. Погоди-ка, еще книжку дам. Английскую — ну да ладно, по-голландски он вроде выучился, значит, и английский поймет. Хорошая книжка: о жизни и приключениях моряка Робинзона Крузо. Вощеной бумагой оберни, чтобы не промокла.
Бывший секретарь из укрытия не вылез, и я приказал его не искать. Прокормится. Тюлений жир и чаячьи яйца на вкус — редкая мерзость, но питательны и доступны в изобилии. Коли помрет — так разве с тоски, что некого предавать или пытать. «Савватий» взял курс на Капштадт. Словно освободившись от бремени, он ходко шел в полный бакштаг, делая по двести миль в сутки. Не более, чем через неделю, вдали показался африканский берег. Ренье, вновь извлеченный по такому случаю из бывшей штурманской (а ныне арестантской) каюты, местность опознал и, хоть не принес формальных извинений, впредь выказывал нам с Тихоном искреннее уважение. Было за что: не всякий ост-индский капитан способен выйти к назначенной цели настолько точно, да еще с таким примитивным навигационным снаряжением. В предвкушении близкой свободы, подшкипер по-французски экспансивно выражал свои чувства:
— Видите ту ровную горизонталь? Это Тафельберг, Столовая гора! Город стоит у ее подножия. Ночью входить в гавань не следует, но уже завтра утром…
— Жаль, но я вынужден вас разочаровать, cher ami. Капитан!
— Да, Ваше Сиятельство!
— Отведите корабль на такое расстояние от берега, чтобы его нельзя было заметить, и станьте в дрейф. Пошлите на салинг самых глазастых матросов. Мы не войдем в порт, пока не передадим почту на судно, идущее в Европу.
Пришлось подождать. Капштадт лежит на важнейшем морском пути, но здесь не бывает такого оживления, как в Зунде или Ла-Манше, где порой случается видеть по нескольку кораблей в один момент. Каждый год чуть более полусотни судов огибает южную оконечность Африки с запада на восток, и немного меньше (за вычетом погибших и оставшихся в Азии) возвращается обратно. К счастью, поток их неравномерен. Сезон с декабря по март считается наиболее подходящим для плавания в Европу, и путешественники спешат воспользоваться благоприятными ветрами. Уже на третий день ожидания парусиновый мешок с депешами удалось переправить на французское судно, следующее из Пондишери в Сен-Мало.
— Александр Иваныч, а большая у здешнего начальника губерния?
— Да не шибко. Помимо этого порта, три-четыре укрепленных деревни, да несколько сотен ферм. Хуторов, по-русски. Степь верст на двести вроде как завоевана, только границ в ней не проведено. Туземцы тут квелые: сюда бы наших крымцев или калмыков хоть с полтыщи, они бы всем показали, где раки зимуют! Не пугайся, Харька: никто не собирается на самом деле кочевников переселять и ханства основывать. Просто мечтаю, как бы здорово было запустить голландцам ежа в штаны.
— А в городе много жителей?
— Белых — тысячи полторы или две. Всяких народов: голландцы, французы, немцы… Даже евреи есть: вон их синагога, Ренье показывал. Черных или смешанной крови — думаю, в несколько раз больше. Обычно слуг больше, чем господ.
— Все равно маловато, чтобы губернатором величать. Может, комендантом правильней? Как он по-голландски именуется? Opperhoofd? Верхняя голова?
— Ха-ха-ха! Верховный глава, дурень! Кстати, не он ли там в шлюпку садится? Скоро узнаем, какая это голова: верхняя или нижняя.
Нагло вклинившись между голландских судов, «Савватий» стоял на якоре против маленькой пятибастионной крепости, обращенной воротами к морю. Стены из валунов на известковом растворе, высотою в три человеческих роста; длина куртины восемьдесят или девяносто шагов. Фасы бастионов, правда, просторные: шагов около пятидесяти. По европейским меркам — мелочь, едва ли достойная правильной осады, по колониальным — сойдет. Компания жалела денег на фортификацию, и это убожество строили лет двадцать. Потом вошли во вкус, посчитали укрепления недостаточными и добавили еще пару береговых батарей, способных не только палить по кораблям, но и обстреливать с флангов вражеский десант, буде он высадится прямо в бухте. А где ему еще высаживаться? За пределами бухты прибой таков, что уцелеть в нем… Ну, может, и есть шансы, но очень слабые.
Портовый чиновник, подплывший на баркасе, чтобы спросить, какого черта нам, собственно, нужно в чужих владениях, был уведомлен, что губернатору надлежит немедленно прибыть на борт судна, дабы принять голландских подданных, волею обстоятельств на нем оказавшихся, узнать о преступлениях, совершенных одним из капитанов Компании и решить вопрос о сатисфакции, следующей за нанесенный им ущерб и оскорбление, причиненное Священной Римской империи в лице имперского графа Александра Читтано. Соответствующее послание для главы колонии было передано в запечатанном конверте.
Де ла Фонтен не заставил себя ждать. Принятый с подобающими рангу почестями, он внимательно выслушал меня, переговорил с выпущенными на волю соотечественниками. Пока шлюпка, в два рейса, переправляла их на берег, он продемонстрировал виртуозное мастерство крючкотвора.
— Граф, вы имеете полное право жаловаться на действия капитана ван Винкеля; однако властям колонии, и мне в том числе, он неподсуден. Надлежит обращаться в головную контору Компании в Амстердаме, в чем я, со своей стороны, готов оказать всяческое содействие и переслать вашу жалобу с ближайшей почтой. Либо, если угодно, можете подать ее по прибытии в Европу, лично или через своего адвоката.
— Я это непременно сделаю, но время! Полгода на пересылку документов туда и обратно, и Бог знает сколько на разбор дела, причем ответчик должен присутствовать — не будут же его судить заочно?! Ван Винкель тоже отправится в Амстердам?
— К сожалению, я не вправе менять капитанов: он должен вести корабль в Батавию.
— И когда же вернется оттуда? Если вернется?! Меня ограбили: навигационных приборов нет, корабельная казна расхищена, провианта осталось меньше, чем на месяц. Заведомо на обратный путь в Европу не хватит. Что делать? Пустить команду побираться или идти к ростовщикам?
— Уважаемый граф, карантинные правила не дают мне возможности позволить кому бы то ни было с вашего корабля высадиться на берег. Если угодно, я пришлю одного из местных банкиров прямо сюда.
— Помилуйте, хеер: вы только что свезли на землю почти два десятка человек с этого же самого судна!
— Они служители Компании, и для содержания их в карантине выстроены специальные помещения. Строжайше запрещено допускать туда посторонних. Кстати, одному из наших людей причинено тяжелое ранение головы, повлекшее серьезное расстройство ума…
— Сержант Бильдер? Вы заблуждаетесь: там нечему было расстраиваться. А вот один из моих матросов в результате нападения умер. Загноилась сломанная рука. За это, по-вашему, тоже никто не ответит?! Виновники рядом: вот он, «Платтенбург», в сотне фатомов! Они так и уйдут в Батавию, безнаказанно и с награбленным на борту?! Или мои деньги уже спустили в борделях и кабаках вашего города?
— Не горячитесь, граф. Да, уйдут — и не далее, как послезавтра. А вас я настоятельно прошу не покидать порт до этого времени, чтобы возмущение не подтолкнуло вас к необдуманным действиям. Мне совершенно не нужны какие-либо неприятности на пути следования каравана. В случае нарушения сих указаний, береговым батареям будет приказано открыть огонь. Равным образом, попрошу не спускать шлюпки. Примите искренние уверения в глубоком к вам почтении и пожелания удачи в отстаивании ваших прав перед Амстердамским жюри. Честь имею, Ваше Сиятельство.
Приподняв шляпу и слегка поклонившись, гугенот ловко перебрался по веревочному трапу в свой баркас и отбыл на берег. Спутники мои глядели в ожидании. Я вздохнул:
— Учитесь, братцы. Европа! Высокий класс: всё вежливо, всё по закону, и сидишь, как обосранный!
— Что делать будем, Ваше Сиятельство? В долг брать?
— Хрен им! Нет, Тихон. Не хочу. Один раз попросту, разбоем, ограбили. Теперь еще дважды собираются: сначала через своего еврея на процентах, потом — при закупке провианта. Возможно, наши же деньги нам и ссудят!
— А куда мы денемся?!
— Найдем, куда. Пришли-ка мне в каюту Ефима Никонова и Архипа.
— Старшего канонира?
— Кого ж еще? Команде — отдыхать, кроме вахты.
Капитан удалился, не ведая, что именно он заставил меня принять решение. Это в его глазах, минуту назад, я прочел сочувствие и жалость — те сантименты, коих истинный вождь не вправе вызывать у верных соратников ни при каких обстоятельствах. Взять, скажем, казаков: атаман должен быть крут, жесток, удачлив, щедр и справедлив, — и Боже упаси оставить вражду не отомщенной!
Африка и Европа
— Щипчики подай! И держи проволочину…
— Нате, Ваша Милость.
— Отведи шептало, а то рук не хватает.
— Слушаюсь.
— Оп! Вот теперь хорошо.
Я разогнул спину, любуясь результатом. Механизм, сляпанный на скорую руку из трофейного пистолета сержанта Бильдера и моих карманных часов, вышел неказистым, но безотказным. Главное, пружина отличная: завода почти на двое суток хватает!
— Теперь идите вниз, возьмите бочонок с порохом и уравновесьте в морской воде. Не за бортом! Должны быть пустые бочки сорокаведерные, в такую и налейте. Оставьте два или три фунта плавучести. Да глядите, порох не намочите!
Дождались вечера. Взведенная адская машина заняла свое место в самой сердцевине трехпудового заряда. Осторожно, почти не дыша, мужики вставили донце (Боже упаси, чтоб не стукнуть!), засмолили, с несказанной нежностью вынесли готовую мину на палубу и опустили в море.
— Давай, ребята. Пошли.
Двое матросов, лучших пловцов из всей команды, перевалились через фальшборт и соскользнули по канатам в воду. У обоих на плечах веревочная упряжь и тонкий линь, собранный кольцами. Подплыли… Повозились впотьмах возле бочонка и потянули его прочь, обходя соседнюю «Флору», к чутко дремлющему «Платтенбургу».
— Ну как, Ефим? Лихоманка не бьет? Не передумал сам идти? А то, давай, я?
— Нахрена, Ваша Милость? Я все ж маленько помоложе. Не беспокойтесь, сделаю в лучшем виде!
— Кафтан накинь, а то замерзнешь прежде времени. Африка, называется! Ночью голышом не походишь, а уж водичка…
— Ништо! Не холодней, чем у Котлина была, когда у нас с вами колокол оборвался…
В напряженном ожидании прошло полчаса. Вроде невеликая дистанция, а попробуй-ка оную преодолеть с неуклюжим бочонком на буксире. Ефим перекрестился и полез за борт. Одетый в рубаху из небеленого полотна, чтоб не заметили голландские вахтенные, поплыл размеренными саженками. Взошло воровское солнышко: луна, рогами в землю, вылезла из-за гор на востоке и чуть обозначила черные громады кораблей. Не заблудится. Но под водою — все равно, что в угольной шахте без фонаря. Там — только на ощупь.
Густою смолой тянулось время. Рука по привычке дергалась к часовому карману — ан нет, часики-то уплыли! Вещь памятная, подарок мастеров из Тайболы — дескать, мы и такое можем! Но для возврата долгов — не жалко. Мне отмщение, и аз воздам! Воздам, суки! Так легко вам было избежать гибели: принести извинения и вернуть чужое. А лучше — вовсе не брать. Мне отмщение… Не говорите о милости Христовой. Когда-то, давным-давно, мой учитель синьор Витторио рассказывал о поразившем его распятии в одном из римских храмов. Иисус был изображен не изможденным страдальцем — атлетом! Могучие руки перевиты мускулами. Богатырь во вражеском плену. На лице: «Вырву эти гвозди — хрен вас кто спасет!» Вот какой бог нужен солдатам!
Тихий плеск у борта. Мокрая голова, с сосульками волос, показалась над планширем. Вторая… Третий где?! Будем полагать, что просто отстал…
— Ну как, Ефим?
— Закрепил насмерть! На двух коловоротах, у самого киля… Чуть не сожрали на обратном пути: какое-то чудище кругами ходило… Аккула, верно… Ежели Федька не приплывет — стало быть…
Бегут секунды, и надежда, что матрос Федор Кукушкин уцелел, становится все более призрачной. Мрак и ужас выползают из адской бездны, овладевая постепенно людьми… Сбить, немедленно сбить эту смертную тоску!
Перекрестившись, я поднял взор в ночную звездную высь:
— Блажен, кто жизнь отдаст за други своя. Неважно, что стало с плотью: душа его ныне с небес на нас взирает.
Мужики дрожат, что зубы слышно. Замерзли, или со страху — лекарство одно.
— Всем по пол-пинты рома! Не жмись, Семеныч! Знаю, что последний. Ради такого дела не жалко.
Рано поутру «Беркенроде», «Флора» и «Платтенбург» подняли якоря, вышли из бухты и повернули на юг, к мысу Бон Эсперанца. Только у берегов Европы и Северной Африки, примерно до Канарских островов, ост-индцы стараются ходить большими караванами: дальше опасность нападения снижается. Из Капштадта в Батавию корабли отправляют по два-три. Адская машина сработает следующей ночью, а в это время суда расходятся на несколько миль, дабы случайно не столкнуться в потемках. Глухой взрыв под днищем с такой дистанции могут и не услышать…
— Доброго здоровья, Александр Иваныч.
— И ты будь здрав, Ефим. — Я обернулся на вчерашнего героя, с трудом продирающего заплывшие глаза и косматого свыше обыкновенного. — По виду, у тебя не на пол-бутылки рома похмелье. Молодых, что ль, делиться заставил?
— Пошто заставлять? Добром поделились, парни уважительные. Да не с перепоя страдаю! Всё думаю, не грех ли мы творим?
— С голландцами-то? А что остается? Нас избили, ограбили, заперли в собственном трюме… Если бы губернатор дал управу на обидчиков, я бы их пальцем не тронул! А он в правосудии, под благовидным претекстом, отказал и предложил выбор: сдохнуть с голоду или идти в долговую кабалу. Неужто после этого мы не вправе посчитаться с виновными?!
— Там ведь, заодно с виновными, и невинных полно! Простые моряки, приказчики всякие… Один, сам видел, с женой…
— Невинных, Ефимушка, там нет. Кто видит, как творят зло его собратья, и сему не противостоит — уже виновен, хотя и меньшей мерой. В Голландии крепостных не водится, силой служить не заставят. Отыди ото зла — сотворишь благо. Несогласные с ван-винкелевым грабежом запросто могли списаться на берег в Капштадте. Смирились — значит, приняли его сторону. Так что, их воля — их доля!
— Всё одно, на сердце неладно. Триста душ, считай, погубил! Ром-то и вправду был последний?
— Последний, коль Семеныч не утаил. Терпи, брат! А насчет погубления душ… Скажи, вот может за целые сутки в воде заряд промокнуть?
— Не должон, купорили на совесть, но всякое бывает…
— Или, к примеру, если корабль большим ходом идет, бочонок сорвать потоком может?
— Ну, коли очень большим…
— Сие все в руце Божией, не так ли?
— Ну, положим…
— Так, значит, Он и судит: сработает мина, или нет. — Я нелицемерно перекрестился. — Господи, да будет воля твоя…
У всякого, кто колеблется меж верой и неверием, бывают минуты, когда хочется видеть над собою мудрое всепрощающее лицо.
На другой день, уведомив губернатора, мы покинули негостеприимный Капштадт. Обошли мыс — и двинулись на восток! Почему туда? Именно на этом берегу находили приют многие мореплаватели, от Васко да Гамы до Луки Капрани. В достатке удобных бухт, и есть возможность добыть провиант охотой или меной с туземцами. Западная сторона гораздо хуже.
Пройдя миль двести и обретя уверенность, что вышли за предел власти де ла Фонтена, бросили якорь в месте, именуемом голландцами Mosselbaai — «Залив мидий», а португальцами — Angra dos Vaqueiros, сиречь «Залив коровьих пастухов». Оба названия внушали надежду на доступный харч. Однако ракушек русские люди считают гадостью и согласны употреблять только под угрозой голодной смерти, а тех самых пастухов что-то не видать было. Сойдя на берег с небольшим вооруженным отрядом и прогулявшись по окрестностям, я обнаружил несколько убогих лачуг и рядом с ними — загородку из жердей, явно служившую загоном для скота. По свежему навозу и следам копыт, можно было предположить поспешное бегство туземных жителей вместе с их главным богатством.
Матросы моментально загорелись азартом преследования. Убегающее на четырех копытах свежее мясо (когда на судне и пованивающая солонина-то отпускалась половинной порцией) манило их, как стаю волков. Никакой рассудительности: так бы и сунулись в холмы, заросшие колючим кустарником! Совсем забыли, что европейское оружие в подобном ландщафте обесценивается. Преимущество на стороне того, кто лучше знает местность, а это отнюдь не мы.
Посему, сочтя предпочтительным (а, пожалуй, и единственно возможным) мирный путь, я решительно пресек голодные порывы двуногих хищников и повелел вернуться на корабльь, в порядке извинения за причиненное туземцам беспокойство повязав на ограду кусок парусины аршина в три, да пару ниток коралловых бус, которые на «Савватии» изготовляли все подряд в свободное от вахты время. Благо, материал для них лежал в трюме тоннами.
Разумная политика вскорости принесла плоды. На другой же день востроглазый Харька углядел на берегу полуголую смуглую фигуру, при всей видимой дикости вооруженную мушкетом. Очень хорошо: стало быть, торговля с иноземцами жителям не в новинку. Отправиться ли самому на переговоры, или послать кого помельче? Туземным вождям негоцировать с графом и полным генералом не по чину; однако, осрамившись с захватом «Савватия» голландцами, я должен вновь и вновь убеждать людей в моем праве их вести за собою. Да и подружиться с дикарями нужда великая: скоро совсем оголодаем! Подумавши, принял соломоново решение: назначил послом известного торговой хитростью парусного мастера Фому Зайцева, одолжил ему треуголку и камзол, а сам, одевшись попроще, сел рулевым. Присутствуя инкогнито, достоинства не роняешь, а вмешаться можешь всегда.
Берег встретил настороженной тишиною и неизбывным ощущением чужого взгляда, следящего каждый шаг пришельцев. С показной беспечностью расположившись у шлюпки (а на самом деле готовые в секунду схватиться за снаряженные к стрельбе штуцера), матросы смиренно ждали. Фома, ставши на открытом месте примерно в сотне сажен, размахивал пустыми руками и выкрикивал приветствия на всех знакомых языках: раз европейцы плавают в этих водах более двухсот лет, почему бы прибрежным жителям не научиться хоть дюжине самых употребительных слов? Старания мастера оказались не втуне. Раздвинув ветки, выбралась на свет Божий чудная фигура в набедренной повязке, драной жилетке с медными пуговицами и дырявой матросской шляпе, украшенной великолепными страусиными перьями. Персона сия бесстрашно последовала за нашим товарищем к лодке, приподняла нелепый головной убор и произнесла: «Хуедах!» (что значит «добрый день» по-голландски). Грызя отменно крепкими зубами твердый, как наждак, морской сухарь (больше попотчевать было нечем), туземец заговорил: со зверским акцентом, но вполне понятно. Он объвил, что рад встретить таких же белых людей, как он сам (цвет его кожи был, скорее, оливковым), что он хозяин всей здешней земли, а зовут его Яков! Из дальнейшей беседы выяснилось, что перед нами бастард, рожденный местной дикаркой от голландского матроса. Юные годы он провел в услужении в Капштадте, потом вернулся в материнское племя и сделался вождем — вероятно, благодаря украденному в городе огнестрельному оружию. Когда взаимное доверие утвердилось, по знаку «хозяина Африки» вылезли из кустов еще трое или четверо дикарей с ружьями и присоединились к скромной трапезе. Посиделки кончились приглашением в гости, в ту самую деревню, возле которой мы уже побывали днем раньше.
«Morgen», ответил я, отбирая у Зайцева нить разговора. «Завтра утром». Теперь было понятно, что именно захотят получить от нас туземцы. Порох, свинец, возможно — новые ружья: сии товары для них имеют прямо-таки жизненную важность; главное теперь — не позволить им догадаться, что сами мы настолько же сильно нуждаемся в свежем провианте. Для отвода глаз, я завел беседу о покупке слоновой кости и страусиных перьев, в обмен на бусы и кораллы в кусках. О порохе первым должен заговорить покупатель: сие поднимет конечную цену в несколько раз.
Опущу подробности торга, щадя твое терпение, любезный читатель. Скажу лишь, что через несколько дней на берегу стоял дым коромыслом: коптилось мясо срау двух дюжин быков, и местное зерно, похожее на просо, десятками мешков грузили в трюм «Савватия». Матросы, отъевшиеся на свежатине, так раздухарились, что за нитку кораллов валяли по кустам местных баб, коих поначалу, при всем мужском голоде, за предмет любострастия признавать не желали: уж больно они здесь страшны. Вождь благосклонно взирал на породнение народов, особенно же — на приращение богатства подданных, с нашими со всеми дружил и отзывался на «Яшку». Помимо ружей и припасов к ним, в его собственность перешли две бронзовых корабельных пушки: хошь врагов устрашай небывалым у африканцев оружием, хошь — на украшения перелей. Власть предводителя (весьма далекая от самодержавства) сильно окрепла. Вообще, в нравах народа здешнего что русский, что итальянец с легкостью найдут нечто свое, родное. Рассуждают туземцы так: если, допустим, жрать нечего — значит, вождь не годен. Надо принести его в жертву, боги умилостивятся и пошлют еду. Что для сытости и благополучия не мешало бы хоть немного поработать — этим детям природы в головы не приходит.
Недели через полторы, подарив на прощанье довольному Яшке мой старый камзол с золотым шитьем и матросские парусиновые штаны, мы расстались с нежданно гостеприимным африканским берегом и взяли курс домой, то бишь в Европу. Черт ее знает, дом она или чужбина, но в сравнении с Африкой как-то подомашнее будет. Одно время, тревога меня одолевала: как мужики воспримут расставание с отечеством. Ничего, спокойно пережили! У русского крестьянина поле зрения ограничено обществом его соседей, которое так и именуется: «мир», — как будто за околицей вселенная обрывается в бездну; матросу сельский мир заменяет корабельная команда. К тому ж я никого не держал: которые сильно были привязаны к родимому очагу, беспрепятственно уплыли в Петербург или Архангельск. Со мною остались большей частью или бессемейные бобыли, или молодые ребята, еще ни в какую почву крепких корней не пустившие. Чем для них Вилбуровка хуже Тайболы? Разве что девок русских нет: начнут жениться на местных, и не далее как в следующем поколении горсточка русских растворится среди англичан и валлийцев. Впрочем, это будет уже без меня.
Обратный путь до Капо Верде был утомителен. Хоть судно и подконопатили маленько, работа на помпах отнимала все силы. К тому же, в команде началась цинга, доселе моих людей почти не трогавшая. И так наличным составом едва справлялись, а когда добрую треть матросов поразила мерзкая немочь, совсем туго стало. Обычные меры против заразительных болезней лишь создавали дополнительные трудности, ничуть не препятствуя распространению недуга. В гавань Рибейра-Гранде приползли едва живые. Отправился, первым делом, к коррехидору — но узнал, что за время моего отсутствия де Оливейру сменил другой чиновник, Франциско Корреа. Впрочем, сей незнакомец отнесся к нищенствующему имперскому графу вполне благосклонно и содействовал в получении кредита под залог партии слоновой кости (шесть дюжин бивней я все-таки вывез из Африки). На мое желание прикупить (а лучше одолжить на время) сколько-нибудь рабов, в помощь команде, глава колонии посоветовал отправиться на остров Брава, где положение совсем иное, нежели на Сантьягу. В силу гористого рельефа, там нехватка земли и переизбыток рук. Никто не станет мешать вольному найму.
Пребывание на твердой земле обещало постепенно уврачевать наши недуги, но времени, чтоб дожидаться полного выздоровления больных, не было: французская газета двухмесячной давности, случившаяся у коррехидора, извещала о смерти Августа Второго. Сие давно ожидаемое событие грозило чредой военных бурь не одной только Польше, но и всей Европе. Так что, посетив Браву, завербовав около десятка молодых мулатов и оставив на попечение жителей троих матросов, кои не пережили бы морское путешествие, я положился на милость Фортуны — и велел Тихону проложить курс на Бристольский залив.
Истинно говорится: кому война, кому мать родна. Это как нарочно про меня сказано. Бодрящий запах пороха внушал надежды; даль грядущего распахнулась, открывая невиданные возможности. Российская империя уж точно не останется в стороне от борьбы за престол в соседней державе, а годных к делу генералов у нас всегда нехватка. Мнительность Анны, вражда Бирона и ревнивое честолюбие Миниха закрывают мне путь в Петербург — однако лишь до первой конфузии на поле боя. Случись такое — и глухой ропот войска сделается громким и явным, противиться ему императрица не рискнет. Грех, конечно, желать неудачи своему отечеству… Пусть Миних побеждает всегда и везде; но ежели вдруг обгадится — надобно быть готовым. Буде же обстоятельства не возблагоприятствуют, что помешает найти применение своим талантам в Италии или на Рейне? Сии страны явно не останутся в покое: Изабелла испанская крепко держит под каблуком безвольного супруга и мечтает при первой оказии отвоевать у цесарцев Неаполь для старшего сына. Король Франции непременно поддержит претензию своего тестя, Станислава Лещинского, на польский престол, что совершенно неприемлемо для венского двора, равно как и для петербургского, Британия же имеет с Веной оборонительный союзный трактат…
Конфигурация военных альянсов побуждала вспомнить дни моей юности, когда собирались делить испанское наследство. Франция с Испанией против Священной Римской империи с союзниками. Даже виднейшие полководцы двух великих держав уцелели. Состарились, правда: Евгению Савойскому семьдесят лет, Виллару — аж восемьдесят! Кардинал де Флери, первый министр Людовика Пятнадцатого — ровесник престарелого маршала. Воистину, это будет война старцев. В свои пятьдесят с небольшим я против них — мальчишка! Что еще надлежит помнить и принимать во внимание, так это исключительную осторожность и миролюбие как Флери, так и его британского коллеги Роберта Уолпола. Пока сии персоны остаются у власти, Лондон и Париж предпочтут действовать чужими руками: будут слать эмиссаров и сорить деньгами в Варшаве и Стокгольме, плести интриги в Берлине, Петербурге и Константинополе. Слава Богу, что дружба Франции с Британией оказалась недолговечной: действуя заодно, два самых богатых государства Европы могли бы безо всякой войны навязать свою волю кому угодно. Левенвольде, помнится, жаловался, что посол Людовика в Речи Посполитой употребил до миллиона ливров на подкуп магнатов — и тем дал партии Лещинского решительный перевес над сторонниками португальского инфанта Мануэля, коего поддерживают венский и петербургский дворы. Противопоставив французскому золоту английское, можно бы уравнять позиции — однако Уолпол бережлив до скупости; он не раскроет кошель, пока не убедится, что сего требуют коренные интересы британской державы.
А русский интерес в отношении Польши? Он-то чего требует? Только ли недопущения Станислава на королевский трон? Не пора ли вернуть присвоенные соседями земли — хотя бы малую часть из оных? Увы! Стоит лишь заикнуться о том, и шансы навязать полякам своего кандидата исчезнут вовсе. Союзники в одночасье обернутся врагами. Единственно, можно взять с будущего короля обещание не притеснять православных (ничего не стоящее, ибо подлинным притеснителям на монаршую волю плевать) — да еще, пожалуй, попросить Мануэля, чтобы замолвил словечко перед старшим братом, королем Португалии, о поддержке русского мореплавания в Ост-Индии. Нужен даже не трактат (на коий моментально окрысятся все морские державы), а просто джентльменское соглашение. Отдых команд, заготовка воды и провианта, кренгование, — все это вне защищенной гавани крайне рискованно и часто невозможно. Благосклонное отношение колониальных властей в тех крепостях, кои португальцам удалось сохранить на Востоке, могло бы облегчить наши первые, самые трудные, шаги.
Впрочем… Это может иметь значение только в том случае, если я вернусь и восстановлю свое положение при дворе Анны. Бирон (со своим личным банкиром Липманом) в сих коммерциях мало заинтересован. То есть, он бы охотно занялся восточным торгом — если бы это занятие не требовало никаких усилий, никаких умений, никакого напряжения мысли и воли. Ныне же в России без меня сей труд никто не осилит и даже, смею думать, не попытается. Зачем добывать деньги таким изощренно-сложным способом, когда под рукою имеется казна?! И хитроумный Остерман будет охотнее торговаться о признании за государынею императорского титула, нежели о воплощении химерических идей, волновавших некогда покойного государя да опального генерала — а более, увы, никого.
Нестерпимо жаль бросить без продолжения столь многообещающее дело. Располагая моряками, уже совершившими несколько плаваний в южные моря, грех употреблять оных для скучного и малодоходного каботажа у берегов старушки-Европы. Вот только… Нужна покровительствующая держава; нужен флаг. Без этого мои корабли будут либо захвачены соперниками, либо задержаны местными властями в Кантоне. По китайским понятиям, не иметь над собою начальства — тяжкое преступление, равное убийству или разбою. Верный слуга богдыхана не станет иметь дела с вольными людьми, бесконечно ему омерзительными. Но кого же избрать в патроны? После малодушной сдачи Карлом Шестым Остендской компании, среди возможных неофитов восточной торговли остались только итальянские княжества и республики, да еще, пожалуй, Речь Посполитая. Не спешите смеяться. Если в Варшаве взойдет на трон португальский принц — то почему бы и нет?! Данциг, конечно, не может тягаться с Лондоном или Амстердамом — но вряд ли уступит Сен-Мало или Гетеборгу. Во всяком случае, ничто не мешает мне одновременно послать свои пропозициии, скажем, венецианскому дожу и претенденту на польский престол. Причем, во втором случае шансов на успех явно больше: дожем ныне сидит восьмидесятилетний Карло Руццини, опытнейший и осторожнейший дипломат, избегающий любых поводов для конфликта с державами; в противность ему, инфант Мануэль, помимо того, что молод, успел зарекомендовать себя в глазах всей Европы, как бесстрашный искатель приключений. К тому же, я в силах оказать ему чрезвычайно важную услугу.
Венский и Петербургский дворы готовы тратить миллионы и посылать стотысячные армии, чтобы поддержать в Польше своего претендента — однако победу в сей партии возможно получить несравненно дешевле. Достаточно убрать с шахматной доски вражеского короля. Прищучить Лещинского либо в подаренном зятем шато под Орлеаном, либо на пути в Варшаву (что, по-видимому, проще). Но здесь возможны трудности особого рода. При всей щепетильности в вопросах чести, я не чувствую никакого морального препятствия к регициду (возможно, потому, что родился в республике); в то же время, открытие сих замыслов грозит навлечь на меня единодушное проклятие всего благородного сословия Европы. Тайна, полнейшая тайна! Даже главный бенефициарий всего дела не должен знать определенно о моей роли: пусть догадывается, коли пожелает. Коронованные особы вдвойне ценят помощь в темных делах, если помощники, ко всему прочему, не отягощают излишним грузом их августейшую совесть.
За размышлениями о политике, время летело быстро. «Савватий» скрипел и тек, грозя совсем развалиться, но так и не нашел случая исполнить свои угрозы. Длинная воронка Бристольского залива, зеленые береговые холмы Уэльса, — слава Богу, мы на месте! Вилбуровка изрядно выросла в мое отсутствие, заслужив у окрестных жителей уважительное название «Уилбуртаун». Преждевременно, пожалуй. Только в такой глухомани селение в сотню с небольшим домов может считаться городком. И то — принимая в счет обширные мастерские с новой плотиной. Старина Джошуа, хмуря кустистые седые брови, доложил о делах. Его политика работать на вывоз, избегая соперничества на местном рынке, принесла полный успех: корабельное крепительное железо расходилось на голландские и французские верфи превосходно; хмурился же управляющий потому, что спрос позволял утроить отпуск товара уже в самое ближайшее время, а недостаток оборотных средств не допускал этого сделать. Кредитов и так было набрано… В общем, опасное количество было набрано: малейшее колебание, связанное с грядущей войной, могло вызвать панику заимодавцев и все обрушить.
— Как хотите, Exellence, а тысяч двадцать нам нужно лишь для того, чтоб не бояться внезапного краха. Для роста, если мы желаем сами занять открывшийся рынок, не меньше ста.
— Ста тысяч талеров?! Или фунтов?
— Фунтов, сэр. Понимаю, что это много — но если есть возможность вести прибыльную коммерцию в таком масштабе, глупо было бы столь выгодный шанс упустить.
— По соглашению с банком Сан-Джорджо, я должен получить у них свои деньги в рассрочку на восемь лет. Можно занять под этот договор у евреев в Ливорно, но условия будут очень тяжелыми. Потеряем не только проценты… Кроме того, не все измеряется в золоте… Помните, о чем мы говорили прошлым летом?
— Привлечь больших людей с деньгами и связями? Возможно, уже пора. Нам есть, что показать будущим компаньонам… Но имейте в виду, сэр: малейшая оплошность — и Вы лишитесь всего. Эти ошибок не прощают.
Следующие месяц или два, главным моим занятием сделались светские беседы с крупными денежными воротилами. Сначала в Бристоле, потом в Лондоне. Главное — не выказать самому чрезмерную заинтересованность. И ни в коем случае не спешить. Впрочем, капризы и промедление тоже неуместны: кокетство в этих кругах не любят. «Я добился успеха, но вместе мы сможем достичь еще большего. Предлагаю партнерство… на разумных условиях», — вот верный тон. Потом начались ответные визиты. Пришлось пускать (куда же деваться?!) и в мастерские. Помню, как некий солидный джентльмен, увидев работающую гвоздильную машину, повернулся всем корпусом (шеей вертеть не позволял толстый слой жира, составлявший множественные подбородки) и с восхищением промолвил: «Да это ж настоящий монетный двор!»
Очень быстро выяснилось, что на серьезных вкладчиков не стоит рассчитывать, если они не получат реального доступа к рулю. Здесь не Россия: возможности приложения капиталов весьма многообразны, и никто не желает быть младшим компаньоном без решающего голоса. Держаться, как за якорь спасения, за пятидесятипроцентную долю значило бы похерить все мои грандиозные планы; пришлось пойти на хитрость. Некоторую часть активов распределил между своими людьми, в порядке вознаграждения за труды и для побуждения к дальнейшим стараниям; формально утратив возможность править единолично, я всегда мог бы собрать за собою большинство.
Не всех возможных партнеров такой вариант устроил, однако желающих войти в совместное дело нашлось довольно — особенно после того, как леди Феодосия Кроули подписалась на четвертную долю в новом акционерном обществе. Чтобы обойти препятствия, созданные британским законом, компанию учредили в Амстердаме; к уилбуртаунскому заводу, исполняющему в сей упряжке должность коренника, впрягли пристяжными еще несколько мастерских в западной Англии, купленных незадорого.
Оформление этих действий потребовало изощренной юридической казуистики: в королевстве Великой Британии имущественные права иностранцев (и, соответственно, иностранных компаний) сильно ограничены. Чрезграничный кредит, впрочем, не запрещен, на сколь угодно кабальных условиях. Для поверхностного взгляда, английские мастерские просто сидели по уши в долгах у голландской компании — на суммы, заведомо превосходящие их собственную стоимость. Однако, преодолев с величайшим трудом все рытвины и буераки британского права, я с пронзительной ясностью ощутил, насколько мне нужны собственные юристы. Не прикормленные из англичан, а русские, которых моим партнерам будет намного трудней перекупить. После недолгой переписки со здешними религиозными авторитетами, вызвал на приватную беседу пятерых юношей пообразованней из своей команды и предложил им отправиться в Оксфорд, в университет.
— Об этом, ребята, в заводе не болтайте, но вот какая помеха есть. Туда допускаются только лица англиканской веры. Разницы с православием в догматах почти никакой: так, несколько богословских тонкостей. Перекрещивания не требуют; архиепископ Кэмпбелл признал русскую и английскую веру равноспасительными. Просто во время учебы придется ходить в тот же храм, что и все. Сам не вижу разницы, на каком языке Христа славить; но заставлять не буду. Пусть каждый сам решит. Только не тяните: неделя вам на раздумья. Хватит? Что, Харлампий?
— Сразу можно ответить? Я согласен.
— Хорошо подумал?
— Чего тут думать? Бог один для всех! Раздоры в христианстве чинят попы из корысти и честолюбия; мне до этих склок дела нет. Отрекаться от православия не надо, значит все в порядке.
Глядя на Харьку, еще двое согласились сразу и один — через несколько дней, посоветовавшись со старшими. Так у меня появились стипендиаты в Оксфорде. А чего стесняться?! По умственным талантам моя команда стояла не только выше (бесконечно выше!) обыкновенного российского уровня, но и на европейском фоне выглядела более чем достойно. Изрядную долю ее составляли юноши, прошедшие многократный отбор еще на родине, в школах разных ступеней, и добившиеся права завершить обучение в Англии; а уж туда отправлялись только лучшие из лучших. Правда, в образовании их был сильный перекос в сторону механики и навигационных наук, в ущерб латыни, праву и медицине; но сию диспропорцию можно было исправить лишь постепенно.
За всеми этими хлопотами, я чуть не прозевал драгоценного зверя, на коего открыл охоту: ничего не было готово, когда гонец от моего агента во Франции привез известие, что Станислав Лещинский, тесть французского короля и претендент на корону Речи Посполитой, покинул резиденцию в Шамборе, близ Орлеана, и уже проехал Ле-Ман в сторону Ренна.
— Какого дьявола он едет на запад? Польша в другой стороне!
— Не знаю, Eccellenza. Может, следы путает? Франческо будет ждать его между Орлеаном и Версалем, а он сядет на корабль — и все, ариведерчи!
Леонардо Торре, тощий и малорослый неаполитанец — нарочно такого выбрали в курьеры, чтоб лошадь меньше уставала — виновато переминается с ноги на ногу. Пока он пересекал пролив на люгере бретонских контрабандьеров, а потом скакал по горным тропам Корнуолла, хитрый поляк мог заехать в своей карете черт-те куда. Перекрыть своими людьми все дороги целой французской провинции никак не выйдет; остается предполагать, что Станислав действительно выбрал морской путь. Через Ренн можно ехать в Сен-Мало или Брест… или в любую из множества рыбацких деревень и крошечных городков между ними — в коих, впрочем, претендент и его свита не смогут найти подобающих рангу удобств. Не Петр Великий: в крестьянской избе ночевать не станет. Итак, два города. Два морских порта. Один — по преимуществу военный, другой — торгует с колониями… Нет у меня там никого. Кале или Дюнкерк были бы лучше… Что ж делать, противник вовсе не обязан действовать так, как мы от него желаем…
— Час отдыхай. Задницу сильно сбил?
— Потерплю, Eccellenza.
— Поедешь обратно. Планы меняются. Отвезешь письма Гвидо и Франческо.
Русские плохо пригодны для шпионства, по крайней мере во Франции. Там каждый из них — диковина, видная за десять лье. А вот итальянцы давно примелькались. Да и ремесло тайного убийцы достигло на полуострове высот, о которых вся остальная Европа даже мечтать не смеет. Написав и зашифровав письма (всегда это делаю собственноручно, так надежней), послал вестника смерти обратно на континент. Если дело пройдет успешно — соперник Мануэля исчезнет при загадочных обстоятельствах, и в Польше беспрепятственно воцарится младший брат португальского короля — юношей сражавшийся против турок под знаменами Евгения Савойского, умница и храбрец, с которым я успел завести корреспонденцию и почти дружбу. История переменит свое русло.
Купец из Пизы
— Dio porco! Как могло случиться, что этот cazzo одурачил вас, словно младенцев?!!!
— Простите, дон Алессандро! Фальшивый Лещинский был в самом деле неотличим от настоящего — по крайней мере, издали. Одежда, парик — все подлинное! Карета, кучер, лакеи… Рост, фигура, лицо — в точности как у хозяина! Судя по всему, этого слугу заранее готовили для подобного случая. А мы действовали в спешке, и не имели в замке ни одного соглядатая — кто должен был о том позаботиться, Eccellenza?!
Действительно, сей грех — не на Франческо. Понятно, мой мастер тайных дел хочет перевести графский гнев на собрата по неудаче… Однако в чем упрекнуть Гвидо Морелли? Он торговый агент, а не шпион! То есть, шпион, конечно, тоже — но совсем неопытный. Надо успокоиться и разобрать конфузию по пунктам. Тогда можно надеяться, что дальнейшие действия будут удачней.
— Ладно. С кем не бывает?! На первый раз прощу. Когда вы распознали подмену?
Убийца смущен: еще чуть — и покраснеет, как девушка.
— Мне стыдно, Eccellenza… Но надо говорить правду. Нас водили за нос до самого конца. Двойник уцелел не потому, что мы прекратили охоту. Я хотел применить ваш африканский способ к его кораблю, внеся изменения согласно обстоятельствам: подкупил служителя в морском арсенале — однако при погрузке пороха чертовы французы услышали тиканье часов в бочонке.
— Это можно было предвидеть. И нужно. Хотя сама идея хороша. Надо только обдумать иные способы дать нужную задержку воспламенителю. Скажем, кислота, медленно разъедающая стопорную проволочку… Или маятник, приходящий в движение от морской качки… Так, значит, вы думали, что упустили подлинного претендента?
— Да, господин граф… Я бесконечно виноват…
— Ну, оплошность с адской машиной не имела и не могла иметь тяжких последствий, потому что дело уже было испорчено. Подлинный Станислав в это самое время мчался через Германию на облучке чужой кареты, под видом кучера. Только в будущем… Не вздумай еще раз так меня огорчить: всякая доброта и терпение имеют предел.
— Я никогда не посмею злоупотреблять вашим великодушием, дон Алессандро.
Имелись причины не наказывать строго сплошавших «охотников». Во-первых, мои собственные представления о Лещинском оказались ложными: откуда знать, что шляхетский гонор не помешает ему притвориться хлопом?! Соответственно, и распоряжения были ошибочны. Во-вторых (и это, пожалуй, главное), в разгар охоты почта принесла известие, обесценившее всю затею. Вена и Петербург лишили своего благоволения принца Мануэля и договорились посадить на польский трон сына покойного короля, саксонского курфюрста Фридриха-Августа. В отличие от бесшабашного инфанта, имеющего за душою только честь, шпагу и долги, сей толстомордый немец твердо стоял на ногах и был человеком практическим: мог употребить собственные деньги и собственных солдат для борьбы за трон. Но мне воцарение саксонца не дало бы ровно ничего. Слишком флегматичный для смелых авантюр, он ни за что не станет поддерживать мои прожекты и нарываться на ссору с морскими державами. Убивать Станислава, чтоб расчистить дорогу этому мопсу? Не стоит трудов! Я не дал команду к ретираде лишь потому, что она все равно бы опоздала. Так что, с практической точки зрения, потери от неудачи были нулевыми.
Если б даже мой интерес в польском деле сохранялся — так или иначе, ничего нельзя было сделать. Пришло время, когда тайный стилет уступает ристалище честному мечу. Сие оружие не по плечу одиночке, представляющему лишь себя самого, а не одно из могучих государств, готовых помериться силой с такими же левиафанами. Что оставалось?! Только смотреть, скрывая горечь во взоре, как Петр Ласси с многочисленным корпусом переходит литовский рубеж и, не встречая сопротивления, неторопливо продвигается к Варшаве. На другом краю Европы, испанские войска то и дело выгружались малыми отрядами в генуэзских портах, маршировали на восток и скапливались в герцогстве Пармском, где правил семнадцатилетний первенец Изабеллы и Филиппа, долговязый и длинноносый дон Карлос. В няньках при нем — то бишь, пардон, в советниках состоял знакомый мне по Петербургу герцог Лирийский, несколько лет назад с исключительным успехом исполнявший там должность посла.
Юный испанский принц вовсе не собирался атаковать стальные когорты Евгения Савойского с одними лишь своими соплеменниками. Франция, похоже, преодолела двадцатилетний период расслабленности: в тени старых поколений, покалеченных войною либо пресыщенных ею, поднялась свежая дворянская поросль, жадная до подвигов и славы. Испытанное миролюбие кардинала Флери принуждено было уступить дружному напору общества; многочисленные полки собирались на Рейне и в Провансе. Ходили слухи, что и Карл-Эммануил Сардинский уже присоединился к франко-испанской алианции. Союз двух империй, Священной римской и Российской, имел против себя практически равные силы.
Нарушить равновесие могла бы Британия — если бы министры Уолпол и Тауншенд повели себя честно и решились-таки исполнить заключенный года два назад союзный трактат с Карлом Шестым; либо Оттоманская Порта, кою французская дипломатия старалась отвлечь от войны в Персии и науськать на европейских врагов. Однако, эти державы не спешили к бою. Я тоже не торопился отдать симпатии той или иной стороне, ибо в Россию мог вернуться лишь на волне общего недовольства военными неудачами, а во вполне возможной баталии между Вилларом и принцем Евгением, уважая сих полководцев и будучи лично знаком с обоими, предпочел бы остаться зрителем. Единственно, в части обладания Неаполем скорее склонялся на сторону дона Карлоса, против императора — ибо Лука и прочие мои неаполитанцы о правлении немецких вице-королей слова не умели сказать, чтобы не выругаться. В пользу Испании располагала и прошлогодняя война ее с турками.
Какая разница между родственными бурбонскими дворами! Франция питает самые нежные чувства к османам, а эти их р-раз — и по башке! Султан, конечно, сам виноват: с чего он решил, что ему простили захват Орана и Мазальквивира, совершенный алжирским беем Мустафой бен Юсуфом двадцать пять лет тому назад? У испанцев долго не доходили руки до сих маловажных городков: что может значить Оран в сравнении с такими потерями, как Брабант, Фландрия, Милан и Неаполь? Тьфу, медный грош против золотых дублонов! Но после бесславной осады Гибралтара королевская чета приняла суровые и дорогостоящие меры для приведения в порядок армии и флота. Как проверить, подлинно ли они возымели успех? Только в настоящей баталии, и лучше не против европейцев, а то, не дай Бог… Опять позору не оберешься!
Для снаряжения армады употребили те самые миллионы, кои адмирал Блас де Лезо содрал с генуэзских банкиров. Дюжина линейных кораблей, десятки фрегатов и шебек, сотни транспортов и вооруженных торговых судов… Герцог Монтемар с двадцатисемитысячной армией высадился под прикрытием судовой артиллерии, разгромил примерно равночисленных мавров, усиленных янычарами, а оба города взял на капитуляцию — вся война окончилась в одну неделю. Теперь, год спустя, те же самые полки, под тем же командованием, почтили своим присутствием берега Италии. Конечно, императорская армия лучше турецкой — что ж, еще интересней выйдет ожидающее нас зрелище! Я всемерно старался поскорее окончить свои дела в Англии и Голландии, чтобы занять место в первом ряду; да, кстати, и врачи опять рекомендуют на зиму юг…
И вот недружелюбные атлантические волны сменились медитерранскими, сохраняющими даже глубокой осенью отблеск прозрачной синевы. Бури и холода здесь бывают, но они — ненадолго. Слава Всевышнему, дорога на сей раз обошлась без приключений. «Менелай», после индийского вояжа основательно тимберованный и еще не успевший обветшать, бросил якорь в хорошо знакомой гавани Ливорно. Уроженцев Неаполя, то бишь добрую половину команды, я отпустил к семьям; русские и каповердианцы обошлись кратковременным гостеприимством портовых кабаков и зазорных девиц. Кстати, мулаты с острова Брава довольно быстро обучились матросскому ремеслу. Единственным их пороком оказалась нестойкость к европейской зиме. Когда итальянец кутается в плащ и ругает дьявольский холод, а русский усмехается в бороду: «да разве ж это холод?!», теплолюбивый островитянин цепенеет от ужаса и подхватывает смертельную простуду. Однако для южных морей эти ребята вполне хороши. При начале колонизации Капо Верде португальские короли переселили на архипелаг изрядное число марранов, сиречь крещеных евреев; от них и от чернокожих рабынь ведут род нынешние «пардос». В климате слишком жарком, чтобы поощрять трудолюбие, негритянская леность возобладала у этого народа над еврейской предприимчивостью. Тем не менее, в умственном отношении они далеко превосходят прочих африканцев, а лень не составляет проблемы: сей грех моментально изгоняется боцманским линьком.
После России, итальянские расстояния кажутся смешными. От Ливорно до Специи не более семидесяти верст морем, оттуда до Пармы — примерно столько же в карете, через невысокие в этом месте Апеннинские горы. Два дня, если не очень спешить. Де Лириа принял старого знакомца безо всякой задержки. После обязательных фиоритур вежливости с обеих сторон, министр построил на лице сладчайшую улыбку и осведомился, не желает ли любезный граф поступить на службу к герцогу Пармскому.
— Я почел бы сие высочайшей честью, однако к гражданскому правлению призвания не чувствую, а среди военачальников, служащих Его Светлости, боюсь затеряться: насколько мне известно, в штабе герцога Монтемара одних генералов девятнадцать, помимо него самого. Это вчетверо больше, чем требуется для наличного числа солдат.
— Приятно и удивительно встретить столь выдающуюся скромность в сочетании с не менее высоким воинским талантом, а равно — с превосходной осведомленностью. Смею Вас заверить, недалекое уже будущее откроет самое блестящее поприще для всякого, кто пожелает стать на сторону законного наследника лучшего из итальянских королевств в борьбе против врагов, воспользовавшихся временной слабостью Испании…
— Простите, что прерываю Вас, любезный друг; но хочу сказать, что вижу возможность сделаться полезным, оказывая добрые услуги Его Светлости герцогу Карлу без вступления в прямую службу. Меня вполне устроит положение волонтера при штабе. Как Вы, вероятно, догадываетесь, жалованье значения не имеет.
В бочку дружелюбия, выставленную собеседником, влилась очевидная ложка настороженности. Еле видимая тень пробежала по безмятежному челу. Не стану объяснять: пусть сам догадается, что граф Читтанов не вполне утратил надежду на возвращение в Россию. Если представится такой случай, будет в высшей степени неуместно оказаться связанным формальными обязательствами с враждебной коалицией. Моя задача — сродни ремеслу канатного плясуна. Не говоря «да» и «нет», удержать правильный баланс и пройти по тонкой веревочке. Вот сейчас дипломат должен спросить, о каких «добрых услугах» идет речь.
— Нисколько не сомневаюсь в Вашем благожелательном усердии, дорогой граф, однако не изволите ли Вы пролить более яркий свет на упомянутые возможности?
— Охотно. Корпус Монтемара получает боевые припасы из арсеналов Его Величества короля Испании. Естественно, снабжение осуществляется морем. Если Британия все-таки вступит в войну на стороне императора, перебои с порохом неизбежны.
— Не вступит. Уолпол так сильно желает остаться в стороне, что для оправдания собственного бездействия придумал и ввел в дипломатический лексикон новый термин: он заявил, что союз с Веной чисто оборонительный, а император, вступив в Польшу, совершил агрессию.
— Сэр Роберт все-таки не король. Да и короли нередко бывают принуждены уступить желаниям подданных. Поверьте, в коммерческих кругах Англии алчная зависть относительно испанских владений в Америке настолько сильна, что министрам рано или поздно придется пойти ей навстречу. Или освободить место другому правительству, более хищному и решительному.
— Несчастна страна, где царствует узурпатор!
— Увы, вернуть на британский трон прежнюю династию возможности не усматриваю — а от нынешней можно ожидать любых неприятностей. В моих силах предотвратить одно из возможных бедствий, устроив крупное пороховое заведение в Парме или, еще лучше, в Тоскане, близ Ливорно. Там стоят ваши гарнизоны; да и герцог Тосканский, если не заблуждаюсь, настроен благожелательно к своему кузену.
— Более, чем благожелательно: не далее, как в прошлом году он признал его своим наследником и опекуном, не убоявшись гнева императора. С этой стороны препятствий не будет. Только разъясните, пожалуйста, вот что. Уголь можно добыть везде, серой Италия снабжает всю Европу, — но где Вы намерены брать селитру? Или это секрет?
— Нет. Во всяком случае — не от Вас, дорогой друг. Предвидя нынешнюю войну, я во благовремении закупил в Амстердаме большую партию индийской селитры. Около двадцати тысяч квинталов.
— Да это больше годовой потребности крупного государства! Хватит на целую войну!
— Пожалуй. Если война не затяжная. По меньшей мере, на хорошую кампанию, с несколькими сражениями и осадой полудюжины крепостей. Касательно перевоза из Голландии в Ливорно задержки не предвижу; мастера есть; если будет соизволение Его Светлости, куплю мельницу с хорошим запасом водяной силы и в два-три месяца перестрою для порохового дела.
— Я представлю Вас герцогу. Так скоро, как окажется возможно.
Дон Карлос еще не был тогда полновластен: ему оставалось два или три месяца до совершеннолетия. Однако советники, заботясь о благополучном продолжении карьеры, не акцентировали на этом внимание. Получив высочайшую аудиенцию, я узрел пред собою высокого, тонкокостного и очень худого юношу. Кровь Бурбонов, Фарнезе и Виттельсбахов, перемешанная в августейших жилах, одарила инфанта своеобразной и запоминающейся внешностью. Самой заметной частью герцогской персоны был нос, почти орлиный, но отягощенный на конце довольно-таки толстенькой бульбой. Не родись его обладатель принцем — сгинул бы под градом насмешек. Впрочем, Сирано де Бержерак утверждал, что большой нос есть признак ума, храбрости и благородства, причем величина сего органа состоит в прямой пропорции с этими похвальными качествами. Юный властитель Пармы не опроверг смелое предположение остроумного француза, впридачу выказав еще и достойное королевского отпрыска воспитание. В гладкие, отшлифованные до блеска ритуальные фразы он как-то умудрялся вложить искреннее чувство и глубокий смысл: искусство, для меня непостижимое! Главное же, дон Карлос разумно взирал на свое положение: вот сейчас родители дали ему армию, чтоб сыночек завоевал себе королевство; но после, сделавшись самостоятельным монархом (присоединение Неаполя к Испании не предполагалось), нужно будет завести собственную. А стало быть — и собственные пороховые мельницы, оружейные мастерские, амуничные мануфактуры и прочее. Кроме того, понадобятся деньги; так почему бы не задуматься об учреждении компании для торговли с Востоком? Пока — только задуматься, исполнение — дело будущего. Сначала надо стать королем.
Так моя пороховая коммерция получила герцогскую поддержку. Однако глупо было бы сделать оную единственной статьей торговли. Серьезная война — это же золотое дно! Она поглощает всевозможных припасов на многие миллионы талеров, и если получить доступ к поставкам оружия не так-то просто, то провиант, фураж и небоевую амуницию интендантства готовы брать у кого угодно. Почему бы не у меня? Кому, как не мне, знать до тонкостей все армейские нужды? И кто помешает вести поставки всем воюющим армиям одновременно? Ну, разве что для соблюдения приличий выставляя своих агентов независимыми коммерсантами. И потом… Это ведь только в начале войны, пока тыловые магазины полны запасных мушкетов, пороха, свинца, ядер, бомб и прочего, интенданты ведут себя, как разборчивая невеста: только с законным супругом, да только после свадьбы… Боевых припасов всегда бывает мало, сколько ни наготовь. А ежели кончатся — тут уж не до разборов, кто официальный поставщик по указу, а кто нет. Надо сначала зацепиться за снабжение армий какой-нибудь багателью, вроде солдатских фляжек или кашеварных котлов, а там, в удобный момент, подгрести под себя все, что удастся.
Первые баталии дали решительный перевес бурбонскому альянсу. По крайней мере, на западе Европы. Судя по расположению войск, цесарцы не ожидали, что война возгорится так скоро: кто же начинает кампанию в октябре?! Однако альянс открыл воинские действия, невзирая на близкую зиму. Карл-Эммануил Сардинский атаковал Милан с пятьюдесятью тысячами савойцев и французов, тогда как императорских войск во всей Ломбардии насчитывалось лишь двенадцать тысяч. Король молниеносно взял город, блокировав фельдмаршала Вириха фон Дауна в цитадели. Герцог Бервик, командуя главной французской армией, занял Лотарингию и овладел предмостными укреплениями на правом берегу Рейна. Противостоящий ему Евгений Савойский, обнаружив троекратное численное превосходство противника, вынужден был уйти в глухую оборону. На этом успехи французов и окончились: к северу от Альп пришла пора становиться на зимние квартиры, а в Италии, хотя климат еще дозволял повоевать, камнем преткновения стала Мантуя.
Эта фортеция, помимо того, что сама по себе крепка, оказалась предметом бесконечных раздоров между союзниками. Напрасно престарелый маршал Виллар, прибывший в Ломбардию, чтобы возглавить войска коалиции, призывал к дружному наступлению на неприятеля: сардинский король, верный традиционной политике баланса, опасался чрезмерного усиления Франции, а герцог Монтемар и дон Карлос тоже не спешили присоединить свои полки к осадному корпусу. Их вполне устраивало, если французы с имперцами свяжут друг друга и позволят испанской армии овладеть Неаполем, не опасаясь угрозы с тыла. Что же касается меня — симпатизируя инфанту, я все же не принимал его судьбу слишком близко к сердцу. Гораздо важнее, сколько на этой войне удастся заработать.
Очень удачно, что в первую военную зиму испанцы выбрали для расквартирования Тоскану. В любом другом месте пришлось бы начинать с нуля, а здесь — уже семь лет действовала моя фактория, снабжавшая всю Медитерранию русским железом в обмен на вино и оливковое масло. Правда, последнее время русский товар уступил место шведскому и английскому — но налаженные торговые связи, вкупе с умением вести миллионные обороты, никуда не делись. Зная в совершенстве все комиссариатские хитрости, я мог в недолгое время обучить им своих приказчиков и тем добиться превосходства над многочисленными соперниками, слетевшимися на запах денег, словно мухи на мед. Испанские войска тут принимали, как дорогих гостей, понеже они честно за все расплачивались американским серебром. При здешней скудости, это был воистину дар Божий.
Удивительно и непостижимо, но Флоренция, когда-то прекраснейший и богатейший город Италии, теперь поражала путешественников неприкрытой бедностью и страшным количеством нищих. Прилично одетому человеку нельзя на улицу выйти, чтобы не прицепились попрошайки. Хуже, чем в Москве, ей-Богу! Следы былого величия, щедро рассеянные повсюду, только усугубляли впечатление. Привыкши считать лицом герцогства зажиточный вольный порт Ливорно, я с удивлением и грустью взирал из окна кареты на облезлые палаццо, помнившие лучшие времена.
Мне и прежде было известно (как и всей Европе), что герцог Джан Гастон Медичи не вполне здоров душевно. Смолоду впав в содомию, он не породил потомства, затем что не смог преодолеть отвращения к женщинам: по воле родителей женился на немецкой принцессе, но вскоре (чуть ли не из-под венца) сбежал от супруги, чтобы проводить время со старыми дружками. Ныне, перевалив возрастом на седьмой десяток, старый греховодник содержал на жалованьи целую орду молодых ребят, числом более трехсот, вхожих во дворец во всякое время. Некоторые бедные семьи сделали из этого промысел. В любой траттории обсуждали интимные привычки герцога и рассказывали о представлениях в духе Нерона, которые он разыгрывал со своими любовниками. Последний из рода Медичи предпочитал роли страдательные: требовал, чтоб его ругали, унижали и даже обкрадывали. Его любимый сюжет — шайка из десяти-двенадцати молодцов подвергает несчастного герцога насилию. Прочие подданные, не входящие в сей избранный круг, видели своего властителя крайне редко и, как правило, пьяным до изумления: скажем, блюющим из дворцового окна.
Не имея счастья быть флорентийцем и не привыкши уделять внимание каждой встреченной на пути куче дерьма, я избегал доселе всякого соприкосновения с хозяином Тосканы и его приближенными. Однако тот, кто хочет вести коммерцию в крупном размере, непременно обязан протоптать дорожку ко власть имущим. Джулиано Дами, старый фаворит герцога, помимо того, что ведал придворными развлечениями, держал все нити в своих руках и за умеренную мзду готов был разрешить любые проблемы. Мне хватало самообладания, чтобы платить, улыбаться и поддерживать светский любезный тон, хотя с каждой минутой, проведенной в сем обществе, запас терпимости все более истощался. О, я понимаю кровавых тиранов! Как много встречается людей, вызывающих нестерпимое желание воткнуть позолоченную вилку им в глаз, а потом перерезать горло столовым ножом! Увы, нельзя: такова уж доля негоцианта. Хранить благожелательный облик, преодолевая судорогу усталых от бесконечных улыбок лицевых мускулов. В конце концов, Господь не поручал мне заботу о всеобщей нравственности — пусть о том печется римская церковь, без соизволения которой в Италии и шагу нельзя ступить! Что ж она-то молчит? Или считает, что четыре папы из фамилии Медичи замолили все бывшие и будущие грехи династии, конец которой уже близок?!
Если обуревают кровожадные порывы, лучшее средство сохранить здравый рассудок — заняться какими-нибудь смертоубойными инвенциями. И сам успокоишься, и результат изысканий будет много выше обыкновенного. Как ньюкоменова машина работает благодаря жару в ее топке, так человеческий ум обретает полную мощь, когда в душе горит пламя страсти. По крайней мере, у меня — так. Строящийся пороховой завод оказался удобным местом для опытов со взрывными устройствами, коих я испытал великое множество: больших и крошечных, хитровыдуманных и простых… Вершиной совершенства стал способ, позволяющий вызвать взрыв вообще без каких-либо механических воспламенителей. К обычному пороху просто добавлялся состав, безобидный в сухом состоянии, но легко вбирающий влагу из воздуха и через малое время после этого самопроизвольно вспыхивающий. Редко так случается (будь то на корабле или в ином месте), чтобы открытый бочонок с порохом сразу расходовали до конца; остаток обычно закупоривают и хранят вместе с остальным запасом. Ну кому придет в голову, что вместе с влажным дыханием морского бриза в крюйт-камеру вползла беспощадная огненная смерть?!
Палаццо Питти в виде дымящихся развалин, с разорванными в клочья трупами обитателей, являлся пред моим внутренним взором всякий раз, когда требовалось о чем-либо просить незаменимого Джулиано Дами. Но сукин сын все же был полезен, и обещания свои исполнял; поэтому картина сия оставалась лишь игрою воображения. Однако вскоре, ближе к концу зимы, возникла такая ситуация, в которой старый содомит ничем не мог помочь, сколько денег ему ни сули. Стараясь всемерно расширить коммерцию на военных поставках, я взял крупный подряд на провиант для корпуса Монтемара — и обнаружил, что все запасы муки и зерна (не только в Тоскане и Парме, но даже и во вражеском Неаполе) скуплены евреями из Ливорно. Эти хитрованы, обнаружив, что испанцы вовсе не намерены вводить инквизицию или иным образом их притеснять, зато готовы платить за все необходимое полновесным серебром, возблагодарили Господа и крепко вцепились в доходные статьи, на которые и я претендовал. Дать по рукам соперникам силами властей возможности не было: еще в самом начале своего правления герцог Джан Гастон отменил все ограничения, наложенные на иудеев его предками, чем стяжал величайшую любовь и признательность этого народа. Они давно проложили во дворец не узкую тропинку, как у меня, а настоящую дорогу, и теперь явно стакнулись меж собою. Прежние мои компаньоны по чайной афере улыбались старому знакомцу и провиант продать соглашались — но дороже моей контрактной цены. Все правильно: на что им чужеземный граф, если можно взять всю прибыль самим? Сбор нового урожая начнется только в июне; до этого рассчитывать не на что, ибо война вызвала дороговизну съестного во всех близлежащих странах. За исключением Порты Оттоманской.
Обнаружив, что дешевый хлеб можно найти только в Константинополе или Смирне, я призадумался. Кой-какие торговые связи в турецкой столице у меня сохранялись; другие можно было возобновить; но переписка требовала времени. Не успеть. Отправить приказчиков? Нет гарантии, что справятся, если возникнут серьезные препятствия. А может, самому? Всяко лучше будет! Не под своим именем, конечно: зачем волновать турок известием, что их столицу почтил визитом сам Шайтан-паша?!
Сказано — сделано! Не прошло и недели, как граф Читтано отбыл по делам в Англию, а на торговое судно, идущее из Генуи в Константинополь, взошли несколько средней руки торговцев и среди них — Алессандро Джованетти, пизанец. Что сей негоциант носит чужую личину, любому умному человеку было ясно. Жители италианских государств слишком различны по нравам, внешности и языку: опытный путешественник определит, где родился и вырос его визави, едва лишь тот скажет «buon giorno»! Однако венецианец, выдающий себя за обитателя иного города, не составляет диковины. Туркам вообще наплевать, откуда неверные собаки приехали: деньги платят, и ладно; а христианские купцы понимающе усмехнутся.
Венеция славится в Европе, как вольная и просвещенная республика. Смотря в чем: это по части блядства она вольная. И просвещенная, отрицать не стану. А что касается торговых и таможенных правил — такого тиранства и несправедливости ни один персидский сатрап не выдумает! Все устроено, чтобы самые доходные отрасли коммерции сделать монополией избранных — той кучки старинных семейств, которая господствует в Сенате и правит городом. Прочим оставляют объедки с господского стола. Ведется эта политика с такой изуверской последовательностью, что простодушный разбой русских губернаторов, сравнительно с нею, вспоминается как милая шалость.
Штормило изрядно. Хорошо! Бурная погода — лучшая защита от мавританских корсаров, чьи валкие низкобортные суда большой волны не держат. Только в Архипелаге, близ острова Лесбос, море подуспокоилось, и тут же привязались две греческих фелюки, которые долго шли параллельным курсом. Явно с недоброю целью; однако напасть их капитаны так и не решились. Они отстали, когда на правой скуле показался мыс Баба. Узости Дарданелл, тесный предбанник Пропонтиды — и вот он на горизонте, Константинополь! По-турецки — Константиния или Исламбол (сиречь Исламополис, город ислама). Мы благополучно вошли в Золотой Рог, заплатили установленный обычаем бакшиш дефтердару и перебрались в город, снявши для жительства мансарду у здешнего армянина.
— Ваше…
— Чш-ш-ш! Меня зовут синьор Алессандро. Пора бы уже запомнить!
— Скузи, синьор! Думаете, хозяин понимает итальянскую речь?
— Не исключено. Здесь наш язык весьма распространен. Даже если нет — привыкай. Купец, не умеющий хранить коммерческие секреты, обречен на разорение.
Васька Пахомов, мой новый секретарь, сменивший на сем посту Харлампия, виновато кивнул; опытный Марко Бастиани покровительственно улыбнулся парню:
— Учись, Базилио, постоянно следить за собою. Расслабленность опасна, особенно во враждебной стране.
Чуждый и враждебный дух и впрямь ощущался. По-первости, от завывания муэдзинов чуть не в дрожь кидало: так и вспоминался африканский плен! Представьте, этакой смычок по нервам пять раз в сутки! Взгляды горожан выражали то высокомерное презрение к франкам, то неприкрытое желание содрать деньгу (а иногда — оба этих сантимента вместе). Я чувствовал себя лазутчиком в неприятельском тылу, хотя наружно смятения не показывал и хладнокровно занимался делом.
Хлебушек в оттоманской столице был: возили сюда из Валахии, из Египта, даже из России. Это, кстати — мой! Два с половиной года назад мною заложены были крупные провиантские магазины в Богородицкой провинции и продвинута в Сенате резолюция о продаже оборотных запасов, по мере обновления оных. Если Бог избавит от недорода, дозволялся и вывоз. Как раз прошлой осенью первую партию лежалого зерна сбыли туркам. Впрочем, это была лишь капля в море провианта, вливающемся в утробу огромного города, по числу жителей вдвое (а может, втрое — кто считал?) превосходящего Москву и Петербург, вместе взятые.
Подвох заключался в здешних торговых обычаях. Чтобы содержать в покое буйную чернь, турецкие власти заботились о поддержании низких цен на съестное. Ввозить хлеб в столицу разрешалось свободно, а вывозить — шиш! Только по грамоте от дефтердара (сиречь казначея), ведающего торгами и таможнями. Ну, это я знал заранее и готов был к надлежащим расходам. Однако, по ходу дела выяснилось, что сей чиновник не может принять решение сам, без совета с баш-дефтердаром (то бишь главным казначеем), а тот — с еще более высоким начальством. А чем выше чин, тем лучше аппетит! Может, у них там цепочка до визиря протянется — сколько же серебра уйдет на подношения этим кровопивцам?!
Марко разыскал Никодима Псароса, прежде служившего моим торговым агентом здесь, в Константинополе, но после истории с «Агамемноном» вынужденного отойти в тень. Не только из-за смерти капудан-паши: дело зачахло от бесправия и беззакония. Злохищным нравом турецкие чиновники не уступят русским собратьям, а наплевательской наглостью к закону — пожалуй что, и превзойдут. На прибыль может рассчитывать только та компания, которая пользуется деятельным покровительством дружественной туркам державы. Послы и консулы оных крутятся, как белка в колесе, обороняя свое купечество от азиатского произвола. Ежели вновь заводить легальные торги — то под английским или французским флагом.
Грек высказался резко и определенно:
— Они вас разорят, синьор, а дела не сделают! Дозвольте сказать мнение, как сию коммерцию лучше устроить…
Собственно, я и сам уже додумался, что надо искать дружбы греческих контрабандьеров. Но предложения Никодима, привычного к здешнему хаосу, шли гораздо дальше. Он советовал учинить систему торговли на скупке добычи у морских клефтов — тех самых пиратов, кои нас чуть было не ограбили недавно. Можно договориться и о прицельной охоте на суда, везущие провиант в столицу. На мешках с пшеницей не написано, откуда они; а взять товар за полцены, без пошлин и принудительных даров, не в пример выгоднее! Понятно, что у самого советчика многие друзья и родичи промышляли, меж иных дел, морским разбоем. Я тоже не ощущал нравственных препон — по крайней мере, в отношении извечных неприятелей. Если турки не дают возможности вести обыкновенную коммерцию, пусть не обижаются на коммерцию вооруженную! Надлежало лишь обдумать и обсудить с исполнителями подробности, найти посредников с безупречной репутацией, определить удобные перевалочные пункты, выстроить устойчивый к разбойной алчности и греческому лукавству порядок передачи денег — словом, решить все те мелкие частности, кои способны принести смелому замыслу блестящий успех или бесславную погибель.
Псарос запросил две недели на переговоры с клефтами. Труды по моей части прожекта — диктовка писем и встречи с нужными людьми в кофейнях — отнимали не так уж много времени; оставался досуг и для неспешных прогулок по городу. Личина ко мне как будто приросла: простоватый купец из Пизы, застрявший в турецкой столице из-за ненасытности сановных взяточников, ни у кого не вызывал подозрений. Душевная судорога ослабла, звериное чувство враждебности перешло в человеческий регистр, и прирожденное любопытство пробудилось в душе со страшною силой. В первую очередь — любопытство к здешней фортификации.
Пусть злая судьба не даст мне ворваться на эти кривые улочки во главе победоносной армии: я готов вытерпеть величайшее несчастье своей жизни с достоинством древнеримских стоиков. Рано или поздно явится полководец, который все же сделает это! Не знаю, какого племени он будет, но скорее — русский. И вот тогда бесплотный дух генерала Читтанова (если за гробом есть место для подобных эманаций) вознесет к Господу свое «ныне отпущаеши»! А пока — почему бы не провести основательную рекогносцировку и не сочинить план атаки, который, может быть, вдохновит будущих героев?!
Стена Феодосия оставила двойственное чувство. Исполинское сооружение, но — построенное за тысячу лет до появления пушек, достойных внимания. Пропорции доартиллерийской эпохи: восемь сажен высоты и две — толщины. Тесаный известняк, легко сокрушаемый чугунными ядрами. Притом — уже изрядно изглоданный временем. Брешь-батарея в дюжину двадцатичетырехфунтовок за пару суток сделает десятисаженный пролом! Такую стену даже не нужно пробивать насквозь: достаточно трещин, проникающих вглубь до середины, и она рухнет под собственным весом, наполовину засыпав расположенный перед нею ров. Употребление артиллерии для обороны сих укреплений не может быть действенным: башни выдвинуты вперед недостаточно, чтобы фланкировать куртину.
Нет, главная опора османов — не крепостные стены, а твердость и отвага воинов! И страшная их многочисленность, само собою. Город, построенный в сем беспримерном по выгоде расположения месте, просто обречен быть великим. Кто бы им ни владел. Нет другого пункта, откуда столь же удобно держать в подчинении обширные провинции, расположенные в трех частях света. Многолюдство, богатство, мощь — все это было при греческих императорах и возродилось в новом обличьи при султанах. Ежели сравнить с Петербургом… Там — восемь тысяч гвардии и шесть тысяч в четырех армейских полках. Здесь — одних столичных янычар, схожих с нашими гвардейцами по боевым качествам (и по дурной привычке вмешиваться в политику), около сорока тысяч! А есть еще артиллеристы-топчилары, есть матросы и абордажники-левенды военного флота… Есть жители, кои в случае осады не преминут вооружиться: тысяч семьдесят, считая всех годных к бою магометан. Прибавьте провинциальные гарнизоны, которые можно быстро перебросить морем. От Кафы, Аккермана и Очакова при попутном ветре только три дня пути. В общем, при внезапном (в меру возможности) нападении и полной морской блокаде можно надеяться, что число защитников города составит «всего лишь» тысяч полтораста, из них примерно половина — умелых воинов. Сколько на другой стороне? Считайте. По штату в регулярных войсках Российской империи (без гарнизонов и ландмилиции) сто одиннадцать тысяч шестьсот двадцать один человек. На самом деле, конечно, меньше. Обычный некомплект в полках — от четверти до трети. При этом собрать в одном месте и вывести на бой можно, в лучшем случае, две трети наличных сил. Итого — на каждого нашего трое турок. Или двое, в предположении, что русская армия будет включать надлежащую пропорцию иррегуляров. А при атаке укреплений (каких бы то ни было) крайне желателен численный перевес…
Значит ли это, что задача не имеет решения?
Отнюдь не значит.
Город такой величины чрезвычайно уязвим в части снабжения, даже в мирное время. Вот, если мои коммерческие планы исполнятся — посмотрим, велик ли у Константинополя запас прочности по провиантской части. Подозреваю, что без моря, одним гужом, столь значительные массы съестного перевезти невозможно. Хотя Париж как-то существует… Но там есть Сена и каналы; надо бы разузнать на досуге, насколько значителен их вклад. И еще, кстати: Иль-де-Франс и прилегающие провинции прекрасно возделаны и славятся плодородием. Вокруг Парижа в пределах сорока лье (обычная дистанция для магазинной системы снабжения) собирают довольно хлеба, чтобы прокормить парижан. Здесь рядом Фракийская равнина — изобильнейший край, воистину земля, текущая млеком и медом. И все же ее недостаточно: это один лепесток, а не целый венчик, как во Франции. Тем не менее, первое дело любой армии, вздумавшей осадить Константинополь — сей лепесток от середки цветка оторвать и употребить его ресурсы на собственные нужды. Тогда, коль блокирующий флот зевать не будет, многолюдство турецкое из преимущества обратится в слабость. Начнутся раздоры, дележ недостаточных припасов… Янычары, конечно, всех осилят. Нельзя надеяться, что дракон пожрет себя сам. Однако истощить его перед решающей схваткой просто необходимо — а уж ломать чудищу хребет все равно придется вооруженной рукой. И делать это всего правильней тут!
Оборотная сторона стратегической выгоды от занятия ключевой позиции — размеры потерь при утрате оной. Россия просто не имеет такого центра, отдача коего неприятелю означала бы погибель государства. Санкт-Петербург? Сколько веков без него жили… Москва? Поляки брали, и где они теперь? И татары брали… Брали и жгли! Дотла, до голых печек на пепелище. Французы свой Париж тоже теряли во времена Орлеанской Девы. По Варшаве все, кому не лень, оттоптались — как с гуся вода! Христианские страны более аморфные, что ли… Без ярко выраженного средоточия сил. Если же турок выбить из Константинополя — их держава просто рассыплется. Это будет удар в сердце; а бесчисленные войны на окраинах — не больше, чем кулаки почесать! Вот только потребная мощь удара запредельна: совсем не в нашу меру.
Есть способ, чтобы осадной армии уравнять силы с осажденными: привлечь на свою сторону соплеменников и единоверцев, состоящих под властью султана. В Румелии оных впятеро больше, нежели турок; и даже в столице христиане многочисленнее. Они покорствуют лишь по малодушию, присущему подлому люду: их воинское сословие частью истреблено османами в завоевательных войнах, частью изменило вере отцов и перешло на сторону победителей. Но славяне и греки не совершенно лишены доблести. При надлежащем устройстве составленные из них отряды смогут контрбалансировать магометанскому ополчению и даже, возможно, войскам провинциальных пашей. Если б заранее подготовить офицеров из этих народов… Мечты, мечты! Из русских-то офицеров недостает!
Ну, и самое главное: в бою не всегда решает число. И даже не всегда — храбрость (коей туркам не занимать). Оружие, тактика и выучка — вот в чем сила европейцев, и в чем надо наращивать перевес! У меня есть драгоценный опыт по этой части, есть множество идей, пока не опробованных… Одна беда — армии нет! Но сие не воспрещает работу мысли. Взять, скажем, уличные бои, в которых, при слабом оборонительном периметре, должна решиться судьба города. Надо ли объяснять, что применение в них артиллерии может с лихвой перевесить нехватку солдат? Картечь вдоль улиц, бомбы в занятые неприятелем дома, ядра для сокрушения баррикад… Штурмовые отряды силою до роты, с пушкой (или двумя) на веревочных отвозах, чтоб перекатывать, куда надо, руками… Противиться с одними фузеями и ятаганами будет невозможно. Одна беда: имеющиеся типы орудий на такие действия не рассчитаны. Полковые трехфунтовки тяжеловаты для здешних горбатых и немощеных улиц. К тому же, они не способны стрелять гранатами, поскольку для пушечной стрельбы пустотелый чугунный шар недостаточно прочен. Кохорновы мортирки тоже не годятся: у них свое, особое предназначение. Может, сотворить что-то наподобие легкой гаубицы? А будут ли выпущенные из нее ядра пробивать стены домов? Или все же взять полковую пушку за образец и предельно облегчить? Сверленый ствол поможет это сделать, но до какой степени?
В общем, нашлось много вопросов, над которыми стоило задуматься. Посиживая в кофейне у основания Галатской башни, исполинским фаллосом вздыбившейся в голубое весеннее небо, я щурился на город и прикидывал, как его лучше штурмовать.
Восток и Запад
— Алтмыш кёпеклерин бабаси!
С высоко поднятою головой и тенью улыбки на губах, спокойный, как английский министр под нападками оппозиции, шагаю по базару и не оглядываюсь на беснующегося торговца.
— Что он кричит, синьор Алессандро?
— Что я отец шестидесяти собак. Турецкие ругательства славятся выдумкой и живописностью.
— И вы ему это спустите?
— Собаки — умные и благородные животные. А человек — всего лишь злобная обезьяна, как сказал Гарвей. Оглянись, и ты убедишься. Если серьезно, меня его ругань просто не задевает. К тому же, лавочник в своем праве.
— Почему?
— Сколько мы с ним торговались? И вдруг, когда он уступил все, что можно, и осталось ударить по рукам — покупатель поворачивается и уходит! Я его тяжко обидел. Но если хочешь узнать настоящую цену, надо или так, или дождаться, пока другой кто-то купит. Уйти вернее: ежели недоторговались, то самая распоследняя цена — которую продавец выкрикивает тебе в спину. Разумеется, Вася, мне вовсе не нужен товар, который сам намереваюсь в Константинополь поставлять. Просто мелкие купецкие хитрости: учись, пока можно.
Разговаривая таким манером о коммерции, мы вышли из-под крыши Эски-безестана: просторного павильона, по названию старого, но обновленного четыре года назад по указу растерзанного мятежниками визиря Ибрагим-паши, — и попали в ту часть столичного торжища, которая у турок называется «Ясырь-базар». Лучше бы обойти кружным путем! Приехавши сюда по делам, незачем будить в душе застарелую злобу.
Даже мне хладнокровие стоило изрядных усилий. А юный мой секретарь так просто рот разинул, пожирая глазами выставленных на продажу девиц. Те, кажется, ничуть не страдали от своего рабского состояния: сидели кучками, хихикая и болтая между собой, дорогие — на персидских коврах, дешевые — на простых кошмах из грубой шерсти. Степенные бородатые турки ходили вдоль рядов, прицениваясь. Ощупывали товар, смотрели зубы, как у кобылиц, плевали в лицо и растирали пальцем: вдруг хитрый торгаш нарумянил девку, тщась обмануть правоверных? Впрочем, «неверные псы», именно кобелиная их часть, тоже среди покупателей присутствовали.
— Синьор Алессандро, а мы имеем право… Ну, купить кого-нибудь?
— Рабыню, что ли? Да запросто! Кроме черкешенок. Сей народ считается магометанским, а христианину или еврею нельзя владеть правоверными. Вообще-то, турку — тоже. Их закон совершенно запрещает держать единоверцев в рабстве. Но стоит об этом заикнуться, как моментально вспоминают, что нечестивые горцы свиней едят, камням и деревьям поклоняются… Словом, замерзелые язычники! Здешние кадии вполне постигли русскую поговорку «закон, что дышло». И логику учили не по Аристотелю.
— А… можно мне жалованье взять вперед? Я отслужу!
— Тебе что, галатские гречанки уже наскучили? Не хватит твоего жалованья: разве на какую старую уродину. Молодая красивая рабыня стоит до шестисот пиастров — четыреста рублей на русские деньги! Это ж с ума сойти! В России ты купишь целую деревню в десяток дворов, с мужиками, бабами и ребятишками…
— Мне не надо с мужиками…
— А коли одних девок — то целый табун, и будешь в нем жеребцом! Не тем местом думаешь, Васятка! Все мозги на семя изошли! Возьми себя в руки и держи крепко — да не уд срамной держи, а сердце любострастное: уйми его, подбери сопли и поступай, как зрелый муж!
Парень, пристыженный выговором, вроде унялся; впереди уже маячили ряды, где продают рабов-мужчин и детей; но тут-то он и встал, будто грудью на оглоблю наткнувшись. Я глянул, закипая в раздражении — и тоже на секунду впал в паралич.
Полячка или русская, несомненно. Одна на весь базар среди смуглых темноглазых соседок, как белая голубка среди воронья. Прекрасна ликом; но если бы даже нет — она не создана для рабства! Стыд и отчаяние во взоре, и проблеск надежды в ответ на наше внимание… Крепким подзатыльником привел Василия в чувство, потом за шкирку его — и вперед! Под многоголосый девичий смех — к выходу. Со стороны выглядело так, будто строгий отец вразумляет излишне охочего до женского полу сына.
— Пустите!
— Молчи, дурак! Мы целы и на свободе, пока на нас внимания не обращают.
— Виноват, Эччеленца! Пустите, право: я уже в разуме.
— Точно?
— Точно.
— Смотри у меня!
Юноша одернул тесноватый в плечах камзол, поправил сползшую на нос шляпу, взглянул с опаской (не прибью ли я его сразу?) и вновь принялся за свое.
— Ваше… Синьор Алессандро, может все же выкупим девку? Хоть десять лет согласен без жалованья служить, за один корм!
— Экой ты кобель! Такой покупкой наведем на себя множество глаз, да и не можем мы выкупать каждую пленницу!
— При чем тут кобель?! И не надо каждую…
— А какую надо? На которую твоя похоть укажет?
— Никакая не похоть! Я, может, богоугодное дело хочу сотворить… Христианскую деву избавить от страданий!
— Ах ты, рыцарь, б…ь, на белом коне! Тогда найди постарше и поневзрачней, которую берут для работы. Красавица же, купленная за бешеные деньги — драгоценная игрушка. У нее будут и собственные комнаты, и личная служанка, и всяческое баловство и угождение, а чтоб ей плетку заслужить… Очень постараться придется!
— А душевные страдания?!
— Как у любой девицы, выданной за нелюбимого. Или вовсе за старика, вдовца какого-нибудь. Знаешь, таких сколько? О чем русские бабы песни поют?
Здравыми и разумными рассуждениями успокоив и Василия, и себя, занялся делами — но какая-то царапина в душе саднила. Поболела бы и зажила, мало ли в мире мерзостей, кои приходится терпеть. Однако глубокой ночью (не спалось, дьявол!) услышал приглушенный звяк в соседней комнате. Мне ли не знать, как звучит оружие?! Бесшумно соскользнул с постели, заряженный пистолет из-под подушки сам лег в руку… Дверь настежь, отскочить из проема… В струящемся сквозь окно лунном свете замер мой верный слуга, полностью одетый и примеряющий на пояс шпагу. Мою, между прочим, шпагу!
— Куд-да, сукин сын?! — Рукояткой пистолета ему промеж глаз.
Роняя стулья, секретарь грянулся на пол. На шум прибежал взъерошенный спросонья Марко, тоже с оружием в руках, следом его слуга с дубиной, а за их спинами — хозяин дома с масляным светильником и еще какие-то люди, тоже не с пустыми руками. Ажиотаж явно чрезмерный.
— Успокойтесь, друзья. Ованес-джан, у тебя в доме найдется крепкий чулан без окон, с запором снаружи? Мой человек провинился.
— Для гостя — все, что угодно! Прямо под лестницей. Сам разберешься, дорогой?
— Конечно. Давай ключи.
Через пять минут все затихло. Разоружив шмыгающего кровью Васю (кроме шпаги, два пистолета за поясом и один в кармане, все заряженные!), спросил:
— Ты что, сучий выблядок, удумал?! Мнишь, этого хватит, чтобы справиться с базарной стражей? Там ее столько, что впору полком штурмовать!
— Я хотел только разведать…
— С этаким-то арсеналом? Отроду тупой, или от любви дураком сделался? Шпионить ходят не с пистолем, а с тугим кошельком. Посиди взаперти. Остынь, может ума наберешься.
Закрыв влюбленного остолопа в холодном чулане, велел сварить кофе (ночь все равно пропала) и задумался. Люди у меня разбаловались безбожно, а что сделаешь? Не кнутом же учить: не Россия. Захотят уйти — не остановишь. По английской методе, надо иметь избыток желающих (и годных) на всякое место, тогда у хозяина бывает выбор, а у работника — страх. Сие, увы, недоступно. Опять же, просто выгонять служителей я не вправе, потому что сам их уговорил со мною здесь остаться, вместо возвращения домой… Но я не мог заранее знать всё о каждом. В деле, как на току: зерна отделяются от плевел, достойные люди от пустых. Нужен какой-то резервуар для отсеянной человеческой шелухи. Имение, что ли, купить, да наказывать разжалованием в крестьяне? Так многие сами захотят. Да еще девка эта…
Царапина на сердце, сделанная девичьим взглядом, заныла сильней. Или что там может болеть? Немудрено в моем возрасте, после бессонной ночи.
— Марко!
— Да, синьор?
— Что так быстро? Тоже не спишь? Служба тебе на утро. Надо найти одну невольницу и разузнать, кто она, откуда и сколько стоит…
С рассветом, помощник мой отправился на Ясырь-базар, а сам я — к еврею-банкиру. Обменял вексель на целый мешок серебра, вернулся в дом Ованеса. Марко уже был на месте.
— Докладывай. Нашел девку?
— Э-э-э…
— Да что ты мнешься?! Такой старый хрен с козлиной бородкой и бельмом на правом глазу ее продавал…
— Продавца нашел, а девки у него уже нет. Вчера, к концу дня, пришел в девичий ряд кызлар-агасы — глава черных евнухов — со свитою, и трех лучших невольниц купил для султанского харема.
— Н-да… Теперь не угадать, что ей на роду написано. Власть и почет, или босфорские воды и мешок с камнями. Девка-то норовистая. Вот, держи ключ. Ваську выпусти. Скажи, чтоб не шебутился: во дворец Топкапы попала — все равно что умерла.
Кто привык посылать на верную смерть самолично выпестованных воинов, тот не страдает подолгу от исполнения судеб. Больно, да. Но только один миг. Как зуб вырвать. К тому ж, намечена была встреча с главарями клефтов.
Для сохранения тайны лучше было бы все сношения с разбойниками вести через Никодима Псароса (чего он и сам страстно желал). Однако в этом случае все выгоды, обещаемые делом, оказались бы в руках моего агента. А не в моих. Чтобы придержать за фалды слишком прыткого соратника, надлежало свести знакомства помимо него. Морские атаманы тоже свой интерес понимали, так что Никодим, глубоко спрятав недовольство, устроил нам совместный обед.
Внешне все было в высшей степени прилично. Сидят за столом солидные купцы, рассуждают о товарах: что, сколько, почем… С какой стати мне интересоваться, чьей кровью будет окроплен купленный хлеб? Но имелось в сей беседе второе дно. Человек умный, чуткий и бывалый, присмотревшись к собеседнику, всегда может оценить, насколько тот опасен и много ль у него мертвецов за спиною. Присутствует нечто в облике и манерах: наверно, это и есть «каинова печать», отметившая, согласно Библии, первого человекоубийцу. Смиренные богословы поныне спорят, что она собой представляла — и несут, большей частью, немыслимый вздор, потому что сути не видят. А кто видит… Ну, по крайней мере, можно было надеяться, что моих приказчиков не попытаются попросту ограбить, вместо обоюдовыгодной торговли.
Вернувшись в наше скромное обиталище, позвал секретаря (не брать же его на важную встречу, когда у парня глаз почти совсем затянуло лиловым синяком) — но тишина была мне ответом. Сбежал-таки, ублюдок! И шпагу, зараза, прихватил.
Остаток дня оказался скомкан: мы с Марко, взяв самые необходимые вещи, быстро и тайно переменили квартиру. Когда Василий попадется страже (а юный глупец несомненно попадется), вытрясти из него всю подноготную не составит труда. Здесь это умеют. Ночь прошла опять в беспокойстве.
А наутро городской базар, исполняющий также и ту должность, которая в Европе принадлежит газетам, гудел, как потревоженный улей. Все обсуждали беспримерную наглость неверных: один из этих сынов греха, да покарает их Аллах, покусился на жен самого султана! Молодой нечестивец сумел перелезть через хорошо охраняемые стены дворца и почти пробрался в сераль, представляющий крепость в крепости. Пользуясь тем, что янычарам приказано было схватить злодея живым, двоих заколол насмерть и одного ранил; и на том жертвы не кончились, потому как проклятый сын шайтана продолжал биться даже с отрубленной рукой, не давая перетянуть культю и, свалившись в конце концов без сил, умер от потери крови. Караульным отсекли головы за оплошность.
О, женщины, что вы делаете с нами?! Один-единственный взгляд, даже словом не перемолвились, — и человек бросается на верную смерть, позабыв долг и службу! А я… Нет, я-то не брошусь. И возраст не тот, и шкура загрубела — но стыдно за свое бессилие, как давно не бывало.
Независимо от сантиментов, надо было уносить ноги. Не только потому, что бедного Васю многие видели со мной: народное отношение к «франкам» драматически накалилось и стояло на грани погрома. Почти как зимою двадцать восьмого, когда Маттео Беллинцони застрелил капудан-пашу.
Новые компаньоны помогли нанять фелюку. За двойную, против обычной, плату, потому что день святого Георгия, который левантийцы считают началом безопасной навигации, был еще далеко. Вплоть до начала мая случаются жестокие шторма. Но человеческая злоба внушала нам больше опасений, нежели буйство стихий. Торговые суда, идущие из Константинополя в Медитерранское море, турки обыскивают трижды: один раз на выходе из порта и дважды — в Дарданелльском проливе. Нас, однако ж, никто не задержал, ибо щедрость во взятках открывает все пути на Востоке. Бакшиш — всему голова! Тем не менее, путешествие оставалось крайне опасным. Только в Спиналонге, венецианском форпосте на Крите, смогли мы вздохнуть свободно.
После войны Священной лиги, за Венецией осталась Морея с близлежащим островом Эгина и три фортеции на маленьких островках у берегов Крита: Суда, Грамвуса и Спиналонга. Турки давно точили на них зубы и не атаковали только потому, что оставили на будущее: желание вернуть Азов превозмогло. Порта втянулась в кровопролитные и утомительные войны с Россией. Затем разрушение Персии отвлекло взор султана к востоку. До незначительных архипелагских анклавов у него руки так и не дошли. По совести, республика была обязана сохранением сих владений русским — и больше всего генералу Читтанову — но платила черной неблагодарностью. Драконовские торговые правила воспрещали всякую постороннюю коммерцию. Даже в приватном порядке договориться с комендантами не удалось.
Отсутствие подходящих перевалочных пунктов создавало серьезные трудности. Посылать свои корабли к самым малоазийским берегам — слишком опасно; пригласить друзей-разбойничков доставлять товары прямо в Ливорно — еще хуже. Там не будет способа заставить их сбывать добычу именно мне. Любой желающий перекупит, дав дороже.
Махнув рукой на несговорчивых кондотьеров, я привел в действие запасной план.
— Воды набрал? Поднимай якорь, ставь паруса. — Старый капитан Захарий Димитракис молча кивнул. Он понимал итальянский, как и прочие языки прибрежных народов; говорить же не любил ни на каком. — Идем на Лампедузу!
Еще лет двенадцать тому назад Лука Капрани на «Святом Януарии» играл здесь в догонялки с медитерранскими корсарами и сторожевыми фрегатами европейских держав; он-то и нахвалил мне уединенный остров с маленькой, но удобною бухтой. Необитаемый, по причине отсутствия воды, никому не нужный и, по сути, ничейный. Правда, сицилийская фамилия Томази в прошлом веке получила от испанских королей княжеский титул по этому бесплодному клочку суши. За целое столетие князья ди Лампедуза не глянули в зубы дареному коню: остров не посетили и не имели с него ни сольдо. Лишь пираты изредка сходили на эту землю, да, может быть, беглые рабы.
Теперь я последовал по их стопам. Надо же убедиться собственными глазами в пригодности места для моих нужд!
Первым делом послали молодого матроса с моей подзорной трубой на самую высокую скалу, доступную человеку. Обычно берберийцы не выходят на промысел в это время года — но береженого Бог бережет. Парень отсигналил, что море чисто до самого горизонта.
Остров лежал перед нами, как нацеленный на запад наконечник стрелы (кривой, тупой и зазубренный), верст около десяти длиною и три-четыре в самом широком месте. По лезвию берега ржа проела фестоны крошечных бухт. Самая поместительная из них, на юго-восточной оконечности, могла дать приют двум или трем судам (в ней мы и бросили якорь); еще несколько годились только для лодок.
Колючая трава, не полностью прикрывающая камни; какие-то жестколистные кустики, — даже весною сей убогий кусочек пустыни, со всех сторон окруженной морем, не радовал взор цветением. Слоистые известковые скалы, трещиноватые и пористые, как губка… Еще бы, откуда тут быть воде?! Скудные зимние дожди не насыщают почву: влага уходит вглубь, моментально впитываясь.
У берега можно было видеть следы прежних высадок: то развалившийся очаг из плоских камней, то треснувшую бочоночную клепку, то выветренные кости, всего скорее человеческие… А вот в стороне явно тесаные плиты; такие древние, что помнят, наверно, Ганнибала или Сципиона…
И удивительная тишина. Не просто безлюдье — и живности почти нет! Лишь изредка пролетит морская птица, да ветер шевельнет жесткую траву.
— А знаешь, Марко, — я нарушил молчание пустыни, — ставлю гинею против шиллинга, что найду на острове воду. Что скажешь?
— Как будет угодно Вашему Сиятельству: сказали, значит найдете.
— Дело не в том, кто из нас сиятельство. Вот смотри, дождевые воды куда уходят?
— Через трещины стекают в море.
— У самого берега — да; а в середине острова? Должны остаться в порах камня. Поскольку пресная вода легче морской, она будет сверху. Камни и песок препятствуют перемешиванию. Выкопать колодец, имеющий дно точно на уровне моря… Не глубже: чем глубже, тем солоней!
— Если будет колодец — здесь точно кто-нибудь поселится. Скорее всего, магометанские корсары.
— Само собой. Нет смысла что-то делать на пользу врагам.
Далековато на запад и слишком близко к Африке; однако, за неимением лучшего, бухта для рандеву с греками годилась. Перебравшись в Мессине на неаполитанское каботажное судно, отправил Димитракиса с депешами обратно в Архипелаг — и карусель завертелась! Турецкое зерно, доставленное в Италию, само по себе не покрыло бы даже четверти взятого подряда, но… Откуда другим об этом знать?! В торговле имеются свои хитрости. Цену можно вздуть (или сбить) путем сговора, только устойчивость оной будет в обратной пропорции к отклонению от равновесного положения. На сильно извращенном рынке чуть-чуть, одним мизинчиком, подтолкни — самые малодушные (или самые дальновидные, по обстоятельствам) начнут перебегать в противоположный стан, и все рухнет! Вот он, мизинчик-то, из Турции и протянулся! Мои собратья по промыслу, тосканские евреи, устрашившись, что скупленные ими провиантские запасы залежатся до нового урожая и обесценятся, начали избавляться от хлеба. За неделю цена упала на треть! Контракт удалось исполнить своевременно и с прибылью.
С пороховой мельницей тоже неплохо получилось. Дон Карлос при ликовании народных толп занял Неаполь в самый день моей прогулки по Лампедузе. Однако цесарские гарнизоны крепко держались в Капуе и Гаэте, а пороха для осады, как всегда, не хватало. Сколько ни дай — испанцы всё возьмут и заплатят, не торгуясь. Сопровождая герцога Монтемара в походе на юг и быв свидетелем его славной, хотя бесхитростной, победы над принцем Бельмонте, я завел прочные деловые связи и надеялся, ежели война продлится, взять на себя изрядную часть поставок оружия и амуниции. Дело выглядело достаточно верным, чтобы заранее разместить заказы в Англии.
Еще одна удача, совсем неожиданная, была оборотной стороною чужой беды. Давно ли ветковские раскольники, бежавшие из России в Литву, прогнали моих вербовщиков и отказались переселяться в Англию? Теперь от них пришли ходоки просить о помощи! А причина в том, что императрица Анна, воспользовавшись военным случаем, отправила на Ветку бригадира Сытина с пятью полками, дабы вернуть беглецов силой. Иноков староверческих разослали по монастырям на покаяние, мирян — в места прежнего жительства либо на поселение в Ингерманландию. Всего тысяч сорок вывели из Литвы. Однако самые ловкие (и самые непримиримые) убежали. Шатаясь меж двор по Речи Посполитой и страшась вернуться в разоренные слободы, они, по словам старцев, нигде не находили покойного места и с великим сокрушением вспоминали отвергнутую милость.
Из трех раскольничьих послов два были действительно старцами, а третий… Бороду сбрить — может, и помоложе меня окажется. И взгляд хитрый: видно, что купчина. Похоже, на него возложили заботу, как добраться до Италии и найти графа Читтанова, а те двое больше пекутся о духовной непорочности братий по вере.
По этой линии я и начал вбивать клин между ними. Иначе нельзя, уж больно упрямые попались деды. Непременно желали всю свою паству поселить в одной слободе — или в нескольких, но рядом, как на Ветке было. Пришлось долго и терпеливо объяснять, что Англия, равно как Италия, совсем не подобны Литве: найти в этих странах свободную землю для нескольких тысяч крестьян заведомо не удастся. Купить имение такой величины — даже моего богатства недостанет, к тому же прежних жителей не выгонишь: ни один король или герцог такого не позволит. В Уилбуртаун, к заводу, могу принять только тех, кто мне годен, желательно семьями — с непременным условием, чтоб в семьях были девки на выданье и чтоб отцы согласились отдавать их замуж за никониан или беспоповцев. Кого не устраивает, тем тоже место найду. Но очень далеко, за морем.
Казалось бы, о чем тут спорить? Гости добирались через Германию и Ломбардию; своими глазами видели, как тесно в Европе живут. Однако попрощаться с несбыточными мечтами старики-начетчики не спешили, надеясь, вероятно, на Бога. Купец мыслил более здраво, понимал необходимость делового расчета и готов был торговаться. В конце концов, получилось его уломать, чтоб не оглядывался на старых долдонов и полностью взял переселение избежавших плена ветковцев на себя. При моем финансировании, разумеется.
Среди всех занятий человеческих коммерция наиболее близка войне. Однако уступает ей по азарту. С ревнивой завистью следил я за действиями Ласси и Миниха в Польше, жадно ловил новости о баталиях, гремевших в Ломбардии и на Рейне. Пока ни малейшей щелочки не открывалось, в которую б можно было влезть. И вдруг, средь безнадеждия и печали, получил предложение вступить в службу! От кого? Ни за что не угадаете! Приехал в Ливорно джульфинский купец Азария Гемурчян, сделал мне визит и поведал: хранитель престола царя царей, величайший в свете воин Тахмасп-Кулы-хан желает видеть прославленного генерала Шайтан-пашу во главе одной из своих победоносных армий, сражающихся против турецкого султана!
Черт побери! В Азии меня ценят выше, чем в Европе. Сначала усмехнулся, потом задумался. А не совершить ли внезапный трюк? Войны европейцев между собою мало трогают мою душу. Кто бы ни победил, всё ладно. Укрощение турок — совсем другое. Это profession de foi, символ веры. Сейчас мой приятель Клод Бонневаль, под именем Ахмет-паши, ставит султану артиллерийскую школу по лучшим европейским образцам. Почему бы не сделать то же самое для персов? Некогда Тамерлан, разгромив Баязида, приостановил турецкий натиск на христиан. Кулы-хан, хорасанский разбойник, вполне способен повторить сие благодеяние.
Кстати, замечательные возможности могут открыться для коммерции. Моя самая большая головная боль — найти монарха, готового оказать покровительство торговле с Востоком. Но кто сказал, что компания торговая должна непременно квартировать в Европе?! Почему не наоборот? Я улыбнулся гостю:
— Скажите, любезный друг, регента не смущает неверный во главе армии? Или он потребует произнести шахаду и обрезаться?
Армянский путешественник не совсем чисто говорил по-итальянски, с трудом подбирал слова, но к ответу на этот вопрос, видимо, приготовился заранее.
— Повелитель далек от фанатизма. Как всякий воин, он больше верит в острую саблю и верного коня, а поклоняться Создателю каждый из его рабов может по своему разумению. Однако, чтобы пользоваться доверием войска, лучше переменить веру. Достаточно всенародного возглашения об этом, втайне можете исполнять любые обряды.
— Объявить, что верую в Аллаха? Увы, я не готов лгать в угоду невежественной толпе. Терпеть не могу римскую иерархию, и вообще плохой христианин — только магометанским духовным симпатизирую еще меньше. Моя мечта — жить в государстве, где духовенство не вмешивается в мирские дела.
— Такое невозможно.
— Россия при Петре Великом подошла достаточно близко к этому идеалу. У царя были офицеры-магометане. Христиане всех мазхабов — само собою. Вера карьере не мешала. Укажите вашему повелителю на сей высокий образец. И обязательно поблагодарите от моего имени. Скажите, что у меня покамест иные планы, но в будущем все возможно…
Нет, путь Алкивиада мне чужд. К персам не побегу. Хотя помечтать о возвращении в круг вершителей мировых судеб иногда приятно. Просто есть некая тонкая грань, до которой можно применяться к обстоятельствам, а дальше… Не могу, и все! Предел, его же не прейдеши.
Проводив Гемурчяна, занялся раскольниками. Достаточно сложное дело. Во-первых, выстроить в Уилбуртауне две дополнительных слободы: одна для постоянных жителей, другая для временных. Деньги на это изъять из своих оборотов, а не компанейских, ибо за всех дольщиков решать не вправе. Но согласовать действия с ними все-таки нужно. Определить, которые из служителей заводских займутся сортировкой переселенцев: кого оставить, кого послать на край света. Договориться с Джеймсом Оглторпом (основателем колонии Георгия), приготовить инвентарь и провиант, зафрахтовать суда для перевоза через океан (или выделить свои). С последним можно не спешить, а вот договариваться лучше заранее. Не потому, что Оглторп откажет: его помощники ищут по всей Европе, какую бы еще гонимую секту завлечь в свой прожект. Однако, прежде чем высадить на дикий берег такую прорву людей, надо место выбрать, лагерь подготовить и прочее. По опыту ландмилиции, пионерную партию желательно отправить хотя бы за год до основной массы. С этим уже опаздываю. Много хлопот с вывозом колонистов, а еще надо устроить ввоз. Представьте: перебросить тысячи душ из Литвы в Уэльс, на другой край охваченной войною Европы. Аникей Половников, купчина-старообрядец, обещал найти беглых единоверцев, направить на верный путь и снабдить хлебом на дорожку. В Кенигсберге их примут мои люди (которых надо туда еще послать), возьмут на довольствие и отправят палубными пассажирами в Бристоль. Почему Кенигсберг, а не Данциг? Данциг в осаде, там Миних Лещинского ловит. Почему Георгия, а не что-нибудь иное? Колония молодая, места много и порядки правильные.
Оглторп мне нравится не тем, что он член парламента и филантроп, а что в практичной и меркантильной Британии этот человек умудряется сохранять какой-то старомодный идеализм. Восемнадцать лет назад, когда случилась война императора с турками, он, еще совершенный юнец, прервал обучение в Оксфорде и, словно крестоносец былых времен, отправился в чужие края воевать за правое дело. Не охладев к добродетели с возрастом, сей рыцарь, как только попал в парламент, пустился на защиту обездоленных: ратовал за улучшение быта матросов Royal Navy и разоблачал ужасы долговых тюрем. «Честных бедняков», запутавшихся в долгах и не имеющих ни пропитания, ни работы, он предложил, выпустив из тюрьмы, отправлять в Новый Свет. Дать каждому большой участок плодородной земли, не подлежащий купле-продаже. Устроить самоуправление под верховной опекой Совета Попечителей. Помимо должников, привлечь на тех же условиях с континента всех гонимых за веру. Не допускать среди колонистов ни крайней бедности, ни чрезмерного богатства. Негров не ввозить, рабовладение запретить. Одобрив сии пропозиции, Георг Второй даровал хартию новой колонии, названной в его честь и вклинившейся между признанными британскими владениями и испанской Флоридой. Первый корабль с поселенцами отправлен был прошлой весной.
Все это широко обсуждалось в британском обществе и я, помнится, сразу подумал, что неотчуждаемые и необлагаемые пятьдесят акров (то бишь примерно двадцать десятин) очень хорошо сошлись бы с понятиями русских крестьян о справедливости. Подумал без всякой дальней цели. А с появлением раскольничьих посланцев мозаика сразу сложилась: вот куда надо отправлять тех, кто не годится на корабли и заводы! Место уникальное: оно сочетает здоровый климат и близость к Вест-Индии. Имея на побережье поселок с удобным портом, можно делать неплохие дела!
Конечно, для торговых авантюр надлежит войти в пайщики и в совет колонии, иначе своевольничать у американских берегов не позволят. И желательно вступить в «вольные каменщики». Оглторп, насколько я знаю, занимает в сем тайном обществе видное место и придает масонским связям большое значение. Трудностей быть не должно: с главою «Великой ложи Лондона и Вестминстера» мы хорошо знакомы по Королевскому обществу; он предлагал мне участвовать еще при самом основании ложи, в семнадцатом году. Это не кто иной, как Жан Теофил Дезагюлье, в то время — секретарь великого Ньютона. Кстати, уважаемый коллега преуспевает в науках: нынешний год он издал солидный том под названием «Курс экспериментальной философии». А еще удостоен был Коплеевской медали, присуждаемой за лучший эксперимент. Запамятовал, что именно отметили: скорее всего, наградили по совокупности заслуг. Вот предыдущего лауреата опыты помню. Очень забавные. Старый красильщик сукна и любитель науки Стивен Грей заряжал электричеством самые разные вещи, в том числе живого мальчика, подвешенного в позе летящей птицы на множестве веревочек. Кусочки бумаги так и липли к веснушчатому носу. Грей также показал способность электрической силы распространяться по шелковой или конопляной нити на расстояние до восьмисот футов. Дезагюлье назвал субстанции, проницаемые для сего флюида, кондукторами, а непроницаемые — инсуляторами.
Нехорошо, что я со своей коммерцией совсем отошел от научных занятий. На заседаниях Королевского Общества бываю раз в несколько лет, и даже последние номера «Философических трансакций» лежат неразрезанными. Надо, надо напоминать о себе! Надо употреблять все средства, чтобы держаться в стае. Смешно, конечно, когда взрослые солидные люди начинают играть в тайные общества, условные знаки, градусы посвящения… Это именно игра, и смысла в ней нет, кроме одного: придумали, чем еще разделить «наших» и «не наших». Мой отказ вступить в ложу был четко аргументирован: генерал царской службы не вправе без позволения монарха входить в какие-либо общества, конечные цели которых скрыты от непосвященных. Сейчас препятствие исчезло; когда буду в Лондоне, выберу момент, чтобы поговорить с «великим мастером». Но если в «подмастерья» или в «ученики» запишет — шиш ему, а не «ученик»! Ишь, выдумали! Может, еще за водкой сбегать?!
В любом случае, самый верный путь к упрочению моей репутации в английском обществе лежит через Общество. Королевское, разумею. Надо иметь, что предложить высокому собранию. С этим туго. Рассказать о ловле кораллов с помощью водолазного колокола? Сей прибор не нов. К тому же, предпочтителен показ, а не рассказ. На воздушном змее полетать? Ветры в средних широтах совсем не те. Атлантический трейдвинд у Капо Верде дует ровно и мощно; в Англии ветер, достигающий подобной силы, злобствует, рвется и мечется, крутясь в неистовых вихрях. Есть более простые способы убиться.
Были кой-какие мысли о продолжении опытов Грея. Первая идея, посетившая меня при виде электрических искр, которые ученый красильщик извлекал из различных предметов прямо стариковскими пальцами, касалась возможности взрывать порох посредством оных. Искр, а не пальцев: в конце концов, ружейный замок служит как раз для их высекания. Минувшей зимою, нянчась с разнообразными воспламенителями на новом пороховом заводе, попробовал — не вышло. Бросил пока. Думаю, слабоваты были искорки: у Грея лучше получались. Однако не вызывает сомнений, что вопрос лишь в придании рукотворным перунам надлежащей силы. Повторив греевские опыты (с увеличением, если нужно, масштаба), это все можно решить. В случае успеха, вырисовывается новый способ взрывания мин. Вместо фитиля, протягиваем нить кондуктора к пороховому заряду, натираем шерстяной рукавицей стеклянный шар — и готово! Какие-то сложности, вероятно, будут, однако генеральная схема ясна. Если хорошо обставить, можно привести зрителей в совершенный восторг. Военное применение? Вряд ли. Не при нашей жизни. От изобретения пороха до сколько-нибудь приличных пушек лет триста прошло. Конечно, если удастся сделать устройство, годное к полевому использованию — будет резон держать оное в секрете. Только это маловероятно. Долгая жизнь отучила меня от нетрезвых надежд.
А вот сотворить нечто для показа — гораздо проще. Создать ажиотаж, подарить инвенцию королю Георгу… Это сразу откроет в Англии любые двери! Уж я бы сумел извлечь выгоду из такого положения. Всю выгоду, до капли!
Но далеко идущие планы пришлось отложить. Почта с Востока принесла нежданное известие: султан Махмуд открыто примкнул бурбонскому альянсу и объявил войну обеим империям. Чужая война стала моею.
Ловец человеков
— Это он? Вы точно уверены?!
— Oui, monsieur. Merci!
Приняв новенький луидор, пройдошистый greffier ловко скользнул между ожидающими приема просителями и растворился в закоулках министерских апартаментов. Преодолев сомнение, я подошел к невзрачному господину, ссутулившемуся в простенке у окна, за мутными стеклами которого — жара, шум и несносная вонь летних парижских улиц.
— Мой капитан, позвольте занять минуту вашего времени?
— Что Вам угодно, месье?
— Помочь в вашем справедливом деле, ничего более. Все, кому памятна война за испанское наследство, прекрасно знают, что герцог Вандом был бы принужден к позорной капитуляции, если б вы не прорвали блокаду Каталонии…
— И не потратил на эту акцию двести тысяч из собственного кармана! Слово монарха надежней любого векселя, но увы, король-солнце преселился в вечность, а министры его наследника… За тридцать пять лет морской службы я изучил ругательства всех народов, но для этих людей не могу подобрать достойных эпитетов! Королевская казна должна мне, в совокупности, более миллиона…
— Знаю, дорогой друг! Но полагаю, что бесконечными прошениями нельзя ничего добиться. Они списали вас со счетов: не рассчитывают на пользу и не боятся вреда. Нужны не совсем обычные методы… Давайте поговорим об этом в иной обстановке. Знаете кофейню «Каир» у Люксембургского сада? Если вы и сегодня ничего не добьетесь у кардинала — не сочтите за труд заглянуть. Спросите графа Читтано.
— Непременно, дорогой граф! В наше время так редко встретишь понимающего человека…
— Надеюсь на взаимное понимание. А пока — позвольте откланяться.
Кажется, клюнул! Но будет ли от него толк? Если б не подсказал ушлый писарь — никак бы не угадать, что этот плешивый кляузник и есть знаменитый Жак Кассар, имя которого двадцать лет назад внушало ужас на обоих берегах Атлантического океана! Последний, после смерти Жана Бара, великий приватир прошлой войны. Наверно, единственный, кто способен превратить разрозненные шайки морских клефтов в боеспособную флотилию.
Около месяца назад, сразу по получении известия о вступлении турецкого султана в европейскую войну, я кинулся из Ливорно в Неаполь, дабы прояснить позицию моего главного партнера и покровителя, свежевоцарившегося Карла Третьего. Обстоятельства сложились так, что он (и ваш покорный слуга, вместе с ним) оказался через посредство Франции в альянсе с турками. Положение, неприемлемое для меня, и в равной мере — для юного монарха, искреннего и истового христианина. Кстати, глубокая приверженность вере не смягчала его враждебного отношения к Римской курии. Даже напротив — и немудрено. Верующему человеку просто невозможно сносить корыстолюбие и разврат, царящие среди италианских духовных. Подозреваю, что для успешной карьеры в Риме надо быть тайным атеистом. Так вот, на мои вопросы министр Карла герцог де Лириа (прямая беседа с королем была бы не по чину) ответил, что Его Величество изволил заявить: «союзник моего союзника — не мой союзник». Сия аллюзия к известному правилу о вассалитете означала отсутствие возражений с его стороны на случай, если мне вздумается учинить какие-либо приватные действия против турок — разумеется, с условием не использовать для оных неаполитанский флаг, территорию или морские порты. Что ж, прекрасно! Заверив герцога, что в таком случае не вижу препятствий к продолжению поставок пороха и амуниции на королевскую армию, я принялся исполнять план, родившийся во время путешествия моего в Константинополь. Одним из важнейших его звеньев был поиск человека, искусного в морской войне. Лука, возможно, обидится — но по здравом размышлении, думаю, поймет, что управлению целой эскадрой надо учиться, взять же урок у хорошего мастера никому не зазорно. Кассара отправили в отставку с чином capitaine de vaisseau, но по сути его уровень как минимум командорский, а скорее — адмиральский. В чем причина такого ущемления, Бог весть: то ли склочный характер, то ли низкое происхождение…
Состарившийся герой морских баталий явился в кофейню, когда я уже отчаялся его узреть. Отложив почту, которую разбирал, сидя в отдельном кабинете для важных персон, встретил гостя самым любезным образом. По мрачности облика видно было, что ни малейшего успеха он не имел.
— Они просто не слушают меня!
— Капитан, в ваших силах заставить их услышать. Идет война. Дайте министрам понять, что в случае неудовлетворения сих законных притязаний способны принести ущерб гораздо больший…
— Я не стану сражаться против Франции и моего короля!
— Этого никто и не предлагает. Но у Вашего отечества появился союзник, сомнительный с точки зрения религии… Вы не находите турецкий альянс безнравственным? Кардинал в должности первого министра, действующий заодно с врагами Христа… Какое бесчестье!
— Не дело подданных — судить о решениях монарха.
— Если верные и честные подданные воздерживаются от суждений, король впадает во власть лукавых интриганов, кои его обманывают, пользуясь молодостью и неопытностью. Вам, без сомнения, ведомо, что нынешняя система альянсов — детище государственного секретаря Шовлена, движимого бессмысленной враждебностью к Венскому двору. Я согласен, что приобретение Лотарингии весьма желательно, но это можно было бы осуществить, не прибегая к столь одиозным союзам. Может быть, министерство добьется исполнения сих далеко идущих планов, однако побочным результатом станет ненависть к Франции во всем христианском мире. Ненависть и страх, ибо поддержка магометанского наступления на Европу ничего иного вызвать не может.
— Не забывайте, граф, что среди мальтийских рыцарей, вот уже несколько веков неустанно сражающихся против неверных, большинство — французы.
— И это прекрасно: они защищают христианство и честь нации, даже когда парижские власти о сих ценностях позабыли. А если б Вы тоже вступили в Орден? Война с турками не считалась бы изменой королю?
— Я родился в купеческой семье, восьмым ребенком, и осиротел еще в детстве. Пришлось идти в море ради хлеба насущного. Какое рыцарство, граф?!
— Не обижайтесь, капитан. Я тоже поднялся к чинам и титулам из нищеты. А люди, которые нуждаются в Вашем руководстве, и вовсе не могут надеяться на покровительство Ордена, поскольку принадлежат к восточной церкви. Мальтийцы не станут помогать христианам, отрицающим главенство Папы. Однако народ, давший миру Платона и Аристотеля, вправе рассчитывать на благодарность просвещенных людей…
Разумеется, с одного разговора завербовать столь ценную персону не удалось. И все же какая-то незримая связь, основанная на глубинной общности судеб, образовалась между нами. Еще не дружба — но некий взаимный интерес. К тому же, Кассар обрел слушателя, пред коим удобно ругать чиновников и жаловаться на судьбу. Старый моряк ходил в министерство, как на службу. Потом нередко составлял мне компанию за обедом: я с радостью замечал, что день ото дня его ненависть к власть имущим становится крепче и ядовитей.
Однажды он пришел злой и задумчивый. Спросил, вместо кофею, бутылку анжуйского, по-плебейски опрокинул в глотку пару бокалов и сказал:
— Знаете, граф, мне все труднее сдерживаться, чтоб не разбить этому престарелому ханже Флери его гнусную физиономию. Чем окончить свои дни в заточении, уж лучше поехать с Вами и сделаться пиратским адмиралом. Давайте обсудим денежную сторону дела.
Среди коммерческих народов евреи из Ливорно наиболее славятся умением торговаться за каждый грош. Готов подтвердить, ибо не раз вел с ними дела. Но иудейские хитрецы показались бы сущими детьми в сравнении с этим французом. Не будь я венецианцем по рождению, ободрал бы меня мошенник, как липку! И все же дело сладилось: не легко и не быстро, но ко взаимной сатисфакции.
Примерно в это же время в городе Палермо к Фернандо-Марии Томази-и-Назелли, князю ди Лампедуза, мальтийскому кавалеру, испанскому гранду и главному городскому судье, пришел незнакомец и предложил продать остров. Тот самый, который «ди…». Судья крайне удивился, кому и зачем понадобился затерянный в море кусок пустыни, скорее тяготеющий к Африке, чем к Италии: подобное предложение прозвучало впервые за сто лет, прошедших с тех пор, как один из королей Испании пожаловал его предку княжеский титул по этому бесполезному во всех прочих отношениях клочку суши. Вначале князь предположил, что именно титул интересует пришельца: тот был одет с вызывающим богатством преуспевающего негоцианта. Шелк, дорогое сукно, толстая золотая цепь, перстни на пальцах… Но многое разрушало образ. Слишком загорелая, продубленная солнцем и ветром кожа, характерная моряцкая походка, неаполитанский выговор, а самое главное — глаза. Судья был опытен и с одного взгляда отличал тех, кто привык ходить рядом со смертью. Скорее, гость походил на удачливого пирата, вовремя оставившего опасный промысел и остепенившегося с возрастом.
Незнакомец пояснил свои намерения. Он представлял торговую компанию, желающую устроить на Лампедузе сторожевую станцию для охраны судов от берберийских разбойников. Все стало понятно: бывший капер или пират — самая подходящая персона для такого занятия, остров же расположен очень удобно. Вот только пресной воды нет, и бухта игрушечная: одному кораблю просторно, два или три можно втиснуть, большему числу придется стоять на открытом рейде. Серьезным державам такая гавань не надобна. А сомнительные личности всех наций и вер, ежели пользовались Лампедузой, никогда не спрашивали позволения и уж тем более не платили ни гроша; но должен же кто-то быть первым?! Денег у гранда и кавалера было меньше, чем титулов. Мелькнуло подозрение, что противодействие разбойникам — скорее всего, прикрытие контрабанды в крупных масштабах, однако рассказ гостя о пережитых когда-то страданиях в магометанском плену (вместе с главой компании, графом Читтано) успокоил судью. Граф действительно был известен непримиримостью к врагам Христовым. Его посланец подтвердил, что противокорсарские планы продиктованы более религиозным долгом, чем корыстными соображениями. С чисто коммерческой точки зрения — откупаться дешевле, нежели воевать.
Благородный гранд вздохнул, прощаясь с меркантильными планами: после таких заверений совесть рыцаря и кавалера не позволяла требовать денег с борцов за веру. Он предложил пользоваться его владением бесплатно и не помышлять о покупке. Синьор Капрани (так звали пришельца) поблагодарил, но отказался: дескать, хозяин намерен построить на острове форт для защиты бухты и желает гарантировать себя от притязаний со стороны прежнего владельца, равно как возможных его наследников.
От продажи князь все же отказался, ввиду возможных осложнений с испанской короной и тонкостей наследования титула; зато договор о бессрочной аренде был заключен почти даром. Взамен оплаты князь предложил сделать пожертвование орденскому братству вспомоществования бедным, коего был президентом. Дополнительные условия состояли в обязанности арендатора сражаться с магометанами (на что возражений не последовало), а над фортом поднять флаг с княжеским гербом: золотым леопардом в лазоревом поле.
Изучив отчет Луки о переговорах, я оценил сдержанность и дальновидность нового партнера: не всякий способен отвергнуть сиюминутную корысть ради смутных политических видов. Подписав соглашение, Томази ди Лампедуза превращался (не затратив ни единого сольдо) из титулярного князя во владетельного. Но как отнесутся к перемене сильные мира сего? Впрочем, это теперь наша с ним общая забота, тем более что статья с подвохом, заранее вымышленная мною на случай такого оборота дел, вошла в договор без малейших изменений. Подвох состоял в фактической нерасторжимости аренды. Формально князь мог в любое время выставить меня с острова, предупредив за три месяца и возместив стоимость построенного. Однако — что мешает вложить в строительство суммы, далеко превосходящие все активы князя? Или, еще проще, всего лишь обозначить такие суммы в отчетах, отдав подряды подставным компаниям, мне же и принадлежащим? Конечно, лучше обойтись без подобных уловок. Все равно Лампедузу в случае серьезного нападения удержать невозможно: любая из морских держав с легкостью вышибет меня оттуда, послав один-единственный линейный корабль. Ценность сего острова — в легализации греческих морских разбойников (и захваченных оными богатств) перед лицом европейского закона: каперские свидетельства от христианского князя полностью переменят их правовой статус. Кстати, юридический чин Фернандо-Марии очень уместен. Надо предложить ему назначить призовой суд в своих владениях, тогда комар носа не подточит! На переводе пиратской добычи в разряд законного товара можно делать миллионы!
По урегулированию неизбежных осложнений с державами, предварительные планы имелись. Только совершенный кретин может полагать, что какие-либо морские шалости в Медитеррании возможны без покровительства британцев. Хотя бы тайного. Мои обширные деловые связи в Лондоне позволили вступить в переписку с достаточно влиятельными людьми и обнаружить их заинтересованность. Дело в том, что за предшествующее десятилетие французские купцы из Прованса заметно потеснили в Леванте английских коллег. Хотя союз меж двумя странами расстроился, миролюбивое министерство Уолпола не спешило воспользоваться всеобщей войною для искоренения торговли соперников. Что ж, англичане никогда не чурались иных способов действия. В пристойной форме, не называя вещи своими именами, мне дали знать, что готовы на многое закрыть глаза, если действия клефтов будут нацелены правильно. При этом условии, сильнейший флот Европы и всего мира вмешиваться не станет. С Карлом Неаполитанским взаимное согласие достигнуто — следственно, Испания, где правят его родители, тоже в стороне. Второстатейные державы всё понимают и никуда не полезут без консультаций с главнейшими; остаются французы и турки. Последние, собственно, и составляют главный предмет моей заботы: по части обращения с ними, есть множество идей. А вот как обезопасить себя от Франции?! К тому же, надо щадить чувства Кассара, не желающего причинять вред соотечественникам (исключая королевских министров). Воистину, непростая задача. Имеет ли она решение?
Да, безусловно!
Начнем с того, что собрать всех морских клефтов под единым флагом заведомо невозможно. Собственно, само слово «клефт» означает «вор», и оно вполне соответствует природе этих разбойников, большинство из которых чуждо любых политических или религиозных сантиментов. Если Кассару удастся приручить хотя бы четверть или треть оных — сие будет громадным успехом. Остальные заведомо останутся в прежнем «диком» состоянии. Возможно, некоторые встанут и на сторону турок, ежели капудан-паша пообещает платить за службу. Замерзелая турецкая гордость делает сей оборот мало вероятным, и все же… Итак, делая основную ставку на организованную флотилию, надобно помимо нее установить тайные связи с «дикими» клефтами и время от времени подбрасывать им сведения о движении французских торговых судов — таким образом, чтобы, не позволяя Кассару и другим французам заподозрить меня в двойной игре, исполнить пожелания британцев. Открыто же надлежит не только отмежеваться от «диких», но и, возможно, объявить им прямую войну. Играя за обе стороны сразу, всегда можно добиться результата, наиболее выгодного мне. Полной гарантии от вмешательства французского флота подобная тактика не обеспечит — однако даст широкое пространство для маневра.
Не будет ли такое двуличие предосудительно с точки зрения чести? Никоим образом! Вполне допустимая военная хитрость. Безбожный союз Луи Пятнадцатого и его министров с Портою Оттоманской ставит их вне христианства: противу Франции теперь дозволено всё. Самая многонаселенная, богатая и сильная в военном отношении держава Запада вступила в сговор с первенствующим государством Востока — зачем, позвольте спросить?! Ради приобретения Лотарингии? Для утверждения королевского тестя на варшавском троне? Это мелочи. Никакая выгода, меньшая, чем всеевропейское господство, не окупит бесчестья, принятого на себя «христианнейшим» королем. Странно, что Англия ведет себя столь пассивно: уж Уолпол-то должен понимать угрозу! Да, я знаю, что в пору англо-французской любви и согласия он обещал поддержать Лещинского на польском троне; так ведь сейчас положение иное! Вообще, Европа остается свободной лишь до тех пор, пока галлы и бритты находятся меж собою в контрах, ибо совместными усилиями они способны навязать свою волю кому угодно. Двенадцать лет длился противоестественный роман Лондона и Парижа, и все это время Россия находилась в положении тревожном и опасном. Ныне Британия отстранилась от континентальных дел — но Франция тут же стакнулась с османами, что грозит моим единоплеменникам еще худшей бедою.
Если в Варшаве утвердится Лещинский, он примется соблазнять Речь Посполитую возвращением Киева и Смоленска; турки вспомнят про Азов и днепровские городки; шведы тоже в покое не останутся. Их король Фредерик прославился, правда, отнюдь не задиристостью, а иными петушиными достоинствами. Сей монарх принадлежит к разряду существ, кои не плодятся в неволе: оба его брака остались бездетны, хотя бастардов проказник наделал предостаточно. Гессенец поразил благочестивых шведов сначала тем, что поселил фаворитку во дворце, чуть ли не в соседних с королевой апартаментах; потом и вовсе начал водить к себе девок, подбирая оных на улицах — молодец, конечно, в шестьдесят-то лет. Политические дела решаются без него: не в королевском окружении, а в риксдаге. Учитывая присущую выборным чинам продажность, следует ожидать, что при надлежащих ассигнованиях французские агенты легко приведут к власти партию войны.
Замыслы мои против турок, при исполнении оных, будут полезны для Отечества, но это — удары по пальцам, а не в сердце. А сердце враждебной коалиции здесь, в Париже. Только надо иметь в виду, что тыкать в оное острым железом — хуже, чем бесполезно. Любой, кто придет на смену кардиналу Флери, превзойдет старика воинственностью. Нынешнее правительство ввязалось в войну не столько своею волей, сколько угождая настроениям дворянства. Стало быть, об изменении сих настроений и надлежит стараться.
Я сам почти француз. Юность моя прошла в Латинском квартале. Воинская карьера начиналась под знаменами Людовика Четырнадцатого. Посему с полной определенностью готов заявить: апелляции к разуму этого народа успеха не возымеют. Нельзя опираться на то, чего нет. Пусть не обижаются почтенные буржуа: речь не о них, а о политическом классе королевства. Когда важнейшие дела решаются на бегу, между театральной ложей и будуаром любовницы, когда серьезный тон вызывает зевоту, а рассуждения о благе государства — ироническую усмешку, властителями дум становятся шуты и комедианты. Иные из них и впрямь наделены изрядным талантом, как тот улыбчивый молодой человек, с коим довелось встречаться в Англии, у Болингброка… Как бишь его звали? Он предпочитал именоваться псевдонимом Вольтер, хотя от рождения носил другую фамилию. Интересно, где он сейчас?
Навел справки — и выяснил, что неугомонный шутник, которого жертвы остроумия уже и били, и в тюрьму сажали (всё без толку), вновь сыскал себе приключений. Его письма о Британии, изданные пару месяцев назад, Парижская судебная палата приговорила к сожжению, как книгу «соблазнительную, противную религии, добрым нравам и почтению к властям». Как обычно бывает в подобных случаях, действия властей только разожгли интерес публики, а голландские типографы с азартом кинулись зарабатывать на вольных идеях (вполне, на мой взгляд, безобидных). Автор подлежал аресту, но спасся бегством, найдя приют в отдаленном имении одной симпатичной и очень неглупой дамы, маркизы дю Шателле. Родив законному мужу троих детей, сия дщерь Афины Паллады сочла супружеский долг исполненным и со страстью предалась тому, что ее подлинно увлекало — математике и натуральной философии, не чураясь, впрочем, любовных отношений с равными по разуму. Надо сказать, маркиза не единственная доказывала миру умственные достоинства своего пола: в позапрошлом году юная Лаура Басси стала профессором анатомии Болонского университета. Под впечатлением сих успехов Франческо Альгаротти, равно талантливый в науках и куртуазных галантностях, сочинил книгу «Ньютонианство для дам» и напечатал с посвящением Фонтенелю.
Но вернемся к нашему беглецу. Русскому человеку смешно слышать, что преступник, осужденный столичным судом, вместо Бастилии отправляется в сельскую глушь (куда не досягают полномочия парижских крючкотворов) и преспокойно там живет, никем не тревожимый. У нас бы живехоньнько за ним драгун послали. Здесь же единственной пыткой для амбициозного сочинителя, привыкшего блистать в салонах, служила провинциальная скука. На нее я и сделал расчет. Отдал в письме заслуженные почести его книге, перебрал общих знакомых в Англии, ввернул пару свежих парижских сплетен и поведал немало забавного о своей недавней поездке в Константинополь. Большей частью, истории эти касались взгляда магометан на Европу, и Францию в особенности. Рассказал, как некий турок именовал кардинала Флери «великим муллой неверных»; как недоумевают люди Востока, почему французский народ, столь мудрый и просвещенный, отвергает истины, возвещенные пророком; ну и, конечно, не обошлось без анекдотов на тему обрезания и гаремных радостей. И в завершение — совет, как посмеяться над правительством безо всякой опасности для себя. Известно, что успех «Персидских писем» барона де Монтескье породил множество подражаний, часто не лишенных таланта. Года два назад появились «Письма турка из Парижа», сочиненные мушкетерским офицером Пулленом де Сен-Фуа и стяжавшие, благодаря превосходному слогу и своеобразному юмору, внимание благородной публики. Кто мешает прибавить к ним еще несколько эпистол, а затем пустить новым, «дополненным» изданием?! Сен-Фуа это ничем не грозит: находясь с армией в Ломбардии, он может легко и убедительно опровергнуть любые обвинения.
Мои расчеты полностью оправдались. Просто удивительный дар у этого человека! Блистательная сатира (сочиненная едва ли не за один вечер) весьма скоро была напечатана в Амстердаме и впорхнула в парижские салоны осиным роем летучих острот — а насмешек, как говорили древние, боятся даже бесстрашные. Прозвище «великого муллы» так и приклеилось к первому министру; что замечательно, вся эта инсинуация не стоила мне ни единого су. Беда только в том, что повлиять на политику она уже не могла: к этому времени враждебные сантименты в отношении русских прямо-таки затопили столицу. Их вызвали новости с востока. Миних после затяжной осады овладел Данцигом и вынудил к капитуляции, среди прочих неприятелей, трехтысячный французский корпус. Сдаться англичанам или цесарцам было бы не так обидно; но «этим грязным варварам»?! Газетные страницы дышали ненавистью. Вообще, французам присуще высокое мнение о себе самих, иногда заслуженное, иногда — нет, и часто оборачивающееся презрением к прочим народам.
Какая бы вражда ни стояла между мною и окружением императрицы, а за Россию стало обидно. Однако попытку собственными силами, взявшись за перо, отразить гнусные клеветы, не смею назвать удачной. Это в Лондоне анонимные политические памфлеты имеют за собой вековую традицию и могут влиять на мнения; легкомысленные парижане ищут в первую очередь развлечений. Автор, пишущий старомодным языком, в стиле научных трактатов, обстоятельно, тяжеловесно, не знающий новейших bon mots, не вправе рассчитывать на внимание. Ну не Вольтер я, что поделаешь! Зато усилия эти привлекли недоброжелательное внимание, и однажды Франсуа Тенар, сын моего университетского приятеля (уже, к сожалению, покойного) и секретарь судебной палаты, тайно сообщил, что меня готовятся арестовать по обвинению в убийстве.
— Votre Excellence, они нашли какого-то марсельца, бывшего торгового капитана…
— Его имя Этьен Пажес?
— Совершенно верно.
— Что ж, семнадцать лет назад я действительно застрелил двух матросов на его судне. Но это было в бою с берберийцами, а мерзавцы задумали измену и первыми на меня напали. Что же он молчал столько времени?
— Полагаю, капитана никто не поощрял доселе, теперь же им понадобился повод…
— Им — это кому?
— Простите, Ваше Сиятельство, не всех людей можно называть вслух. Вы, конечно, понимаете, что дело в политике: что-то стало известно об авторстве неких сюбверсивных сочинений, что-то — о причинах недавнего отъезда знаменитого капитана Кассара в Италию… Во всяком случае, на Вашем месте я бы не слишком рассчитывал на правосудие. Еще неизвестно, пойдет ли дело обыкновенным судебным порядком или…
— Lettre de cachet?
— Весьма вероятно. Бастилия — ненасытный монстр, пожирающий даже заведомо невинных. В просвещенном государстве не должно быть такого.
— Наверно. Но пока, увы, есть. И от степени просвещенности, мне кажется, никак не зависит.
Не рискнув испытывать судьбу, я в тот же день тайно покинул Париж под видом английского негоцианта. Злобы к властям не было: скорей огорчение. Две страны есть во вселенной, кои любимы мною более прочих, обе мне в различной мере родные: Россия и Франция. Они состоят ныне в непримиримой вражде, но сходятся в одном: их правительства жаждут упрятать меня в застенок. И вот, извольте: приходится, чтобы спастись, бежать в Англию, которую уважаю за порядок, закон и удобство, но в глубине души терпеть не могу. Если наш мир сотворен Богом, откуда в нем эта сатанинская издевка?
По прибытии в Уилбуртаун грустные сантименты отступили перед обрушившейся на меня массою дел и новостей. Известия о ходе войны обнадеживали: вступление Порты в польскую войну не дало перевеса бурбонскому альянсу. Причина в том, что лучшие турецкие войска были заняты отражением атак Надира на Тифлис и Гянджу; в Европе султан мог использовать наступательно лишь крымских татар и не слишком многочисленный хотинский корпус под командой молдавского ренегата Колчак-паши. Хан послал в Польшу калгу Фатих-гирея с большою ордой, дабы отвлечь русских и помочь французскому претенденту, но сии гости явились на пир к шапочному разбору. Данциг уже открыл ворота Миниху, а Станислав Лещинский бежал в Германию. Крымцы, вместе с запорожцами Орлика, дошли до окрестностей Лемберга и там рассеялись, грабя и вырезая окрестные села безо всякого разбора, стоят их владельцы за Августа или за Станислава. В Париже мне довелось слышать немало рассуждений о том, как сотни тысяч неустрашимых турецких всадников явятся на помощь королевскому тестю, и всё дворянство польское, дотоле устрашенное русской силой, дружно встанет под его знамена… Кретины! Что понимают эти салонные вояки в восточных делах?! Они хоть видели живого казака или живого татарина? Да, впрочем, и французская армия, окажись она вдруг в отрыве от своих провиантских магазинов, будет щадить жизнь и собственность аборигенов отнюдь не больше татар. Разумеется, польское дворянство встало — и очень дружно — на защиту своих имений, отчаянно при этом бомбардируя киевского генерал-губернатора Вейсбаха слезными мольбами о помощи. Престарелый воин, в душе которого исконная немецкая любовь к порядку укреплена была полувековым опытом воинской службы, утешал просителей словесно, но с места без приказа из Петербурга не двигался. Речь Посполитая все глубже погружалась в хаос.
В Стокгольме королевская дипломатия тоже не преуспела — из-за Индии. Осенью прошлого года новорожденная шведская Ост-Индская компания заложила факторию на Коромандельском берегу, как раз посередке между британским Мадрасом и французским Пондишери. Бог знает, как они там рассчитывали уцелеть и на что надеялись. На разлад в стане врагов? Индийские купцы обеих наций всегда жили как кошка с собакой, невзирая на любые изгибы политики метрополий. Но с появлением третьей силы непримиримые соперники вдруг воспылали друг к другу братской любовью и послали против шведов соединенный отряд: все постройки спалили, товары конфисковали, а схваченных на месте преступления подданных английского короля выслали на родину в кандалах. Поскольку сии беглецы и контрабандьеры составляли, можно сказать, душу шведской компании, ее коммерция понесла страшный ущерб. Оскорбленные шведы требовали сатисфакции, французское министерство не могло ее дать без согласования с лондонскими партнерами, а старина Уолпол хладнокровно отклонял все претензии, почитая интересы заморской торговли более важными, чем дружба с любой из европейских держав. С Россией он тоже предпочитал договариваться о таможенных льготах, нежели устраивать нашествие на нее всех соседей сразу, как о том мечтали в Париже. Теперь уже было ясно всякому, что затея сия, казавшаяся поначалу крайне опасной, полностью провалилась.
Почти в то самое время, когда я прибыл на берега Альбиона, корабль с Востока принес еще одну приятную весть — и нежданного гостя. Матрос Федор Кукушкин года полтора, как считался утопшим (или, возможно, съеденным морскими чудищами) в гавани Капштадта, при минировании «Платтенбурга». И вдруг он явился собственной персоной! Парень просто-напросто заблудился в ночном море и выплыл вместо «Савватия» на похожий по очертаниям голландский «Меерлуст». Ему хватило ума не болтать лишнего и представить себя дезертиром с русского судна (обыкновенное дело что в торговом, что в военном флоте). Понеже капитан не испытывал недостатка в матросах, то и застрял наш Кукушонок в Африке. Перебивался поденной работой, пас скотину у колонистов, а когда губернатор Фонтен устроил экспедицию для расширения компанейских владений, нанялся в обозные служители. Там немец-начальник настолько допек мелочными придирками, что Федор взял да и удрал к диким, вместе с вверенной воловьей упряжкой и всем добром, что на ней навалено. Ну, «дикие» на деле оказались не столь уж дики, ибо это было племя того самого Яшки-вождя, у коего мы гостили в заливе Мосселбай. Ост-индцы туда и полезли-то, желая пресечь подобные визиты и взять под свою власть удобную бухту, не слишком далеко от Капштадта отстоящую. Не столько самим нужна, лишь бы другим не досталась. Там они построили форт; упрямые же туземцы не согласились покориться и откочевали верст на триста к востоку вдоль морского берега — и с ними наш скиталец.
Яшка в свое время много чего у меня накупил: и мушкеты, и абордажные сабли, даже пару легоньких пушек, — поэтому выбирал место для поселения по своему вкусу, не глядя, занято оно или нет. Из негров ему никто не мог противиться. Но хитрый мулат понимал: сия благодать — только до той поры, пока есть порох. Тайную торговлю с голландцами губернатор всегда стеснял, а ныне совсем пресек; так где брать волшебный состав? Куда бежать, ежели кончится?! Съедят же, в самом прямом смысле съедят! Вот и явилась у него мысль, чтобы Федю (а принадлежность его к моей команде выяснилась сразу) послать к Великому Вождю Читтанову с предложением постоянных поставок слоновой кости и львиных шкур, а равно любых других произведений африканской земли, в обмен на столь же постоянное снабжение порохом. Долго ли, коротко ли — удалось словить английское судно, ставшее на якорь для забора пресной воды, и подрядиться матросом до Лондона. Мой торговый агент аж глаза выпучил, когда давно отпетый утопленник предстал его очам живой и здоровый, черный от африканского загара!
Поговорил я обстоятельно с блудным вассалом, и выяснил: новая деревня Яшкина стоит, всего скорее, на берегу залива Алгоа, хорошо известного мореплавателям со времен Васко да Гамы и по навигационной удобности уступающего лишь гавани Капштадта. Земля, по словам Кукушкина, добрая и плодородием от Господа наделенная. Скот пасти можно круглый год, под хлеб тоже годится. Только посевы надо беречь от потравы, а стада от зверья, коего несчитано. Да еще с востока, из-за реки, дикари набегают: вот эти уж подлинно дикие, и породы не такой, как яшкино племя. Здоровенные черти, громадного роста и совсем черные. Кабы не ружья, нашим бы против них не устоять.
Усмехнулся про себя: быстро обживается русский человек между чужих народов. Один год в Африке — и среди туземцев появились «наши»! Но заманчиво, очень заманчиво… Без больших денежных расходов можно получить точку опоры на средине морского пути в Китай и на двух третях расстояния до Индии. Да какие там расходы — даром получить, и даже с приплатой! Место не занято — значит, никому оно покамест не нужно. У голландцев есть Капштадт, у англичан Святая Елена, французы старательно колонизуют остров Бурбон. Матерый берег большей частью бесхозный. Кстати, в Африке, в отличие от восточных и западных Индий, изрядная часть факторий до сих пор ведется приватным порядком. По крайней мере, начать можно и так. Когда-нибудь государственное покровительство понадобится, но далеко не сразу. Будем надеяться, к тому времени либо дон Карлос Неаполитанский войдет в силу, либо российская императрица вернет беглому генералу свою благосклонность: мне найдется, что ей предложить.
Что касается пороха для нашего африканского приятеля — так почему не продать? Слава Богу, у меня свой пороховой завод, второй по величине в Италии. Первый — в венецианском Арсенале, второй у меня. Испанскую и франко-савойскую армии снабжаю открыто, цесарскую — через посредников, под английской фирмой. Теперь, после акцессии Порты к бурбонскому союзу, поставки французам думаю свернуть. А то нехорошо, совесть-то не казенная. Конечно, Африка весь избыток не поглотит, но хоть малая часть туда уйдет.
Итак, решено! Я приказал, чтоб готовили к плаванию «Савватия» — не того, прежнего, а построенного минувшей зимою в Англии и перенявшего имя от проданного на дрова старичка, — и занялся устройством ветковских раскольников, кои начали прибывать из Литвы. Дело непростое уже потому, что большинство пришельцев иных занятий, кроме землепашества, не знали и не желали знать, мне же их требовалось пристроить в завод или на корабли. Отчасти противоречие смягчалось тем, что в разгар лета пахать и сеять все равно нельзя (и мужики это понимали), а в Уилбуртауне требовались всякие работники, в том числе без ремесленных умений. Гостей встречал вежливый служитель, вел в трапезную, где ожидал их простой, но сытный обед. После этого старший приказчик объяснял людям, что деньги, потраченные на вывоз из Речи Посполитой, надо бы отработать — хотя всё на их совести, заставлять никто не будет. Которые отказываются, могут уйти прямо сейчас, вольному — воля. Но пусть знают, что в таком разе Его Высокографское Сиятельство не станет более принимать никакого участия в их судьбе. Те же, кто останется, в разумные сроки погасят долг (по расчету, до полугода), а потом смогут выбрать род занятий: стать мастеровым, матросом или землепашцем. Первые два занятия доступны без обременений (надо только научиться), а вот с землею в здешних краях туго. Придется плыть за море в Новый Свет, впятеро дальше, чем плыли сюда от Кенигсберга — и перевоз соразмерно дороже. Примерно шестьдесят рублей с души на русские деньги: здесь это годовое жалованье простого работника. Год — это если не есть, не пить. Коли усердно работать и в трактир не заглядывать, за два-три года можно скопить на дорогу и обзаведение. Без обмана: тут никого с оплатой не дурят, все по справедливости. Граф не торопит с ответом: сегодня вам баньку истопят, устроят на ночлег в рабочей казарме; подумайте не спеша, а завтра с утра решайте. И чтоб уже слово твердое было: как бумагу подпишете, ходу назад не останется.
В первой партии отказчиков набралось многовато. Кирьян Аржанников, тот купчина-старовер, который собирал переселенцев по литовским дебрям, похоже, наобещал им лишнего. Ехали с надеждой, что вот сейчас отец-благодетель (это я, стало быть) всеми благами их осчастливит — и вдруг такой афронт. Опять на хозяина работать, и каждая копейка в счет! Тем более, суммы назывались совсем уж, по крестьянским понятиям, дикие. В России крепостной мужик стоит, со всеми потрохами, рублей двадцать; ну, если молодой, крепкий и без изъяна — то и в тридцать оценят. На шестьдесят — это должен быть богатырь, красавец, трезвый, работящий, ангельского нрава и всяким художествам обученный. И то еще дорого. Нет таких цен. А тут — с каждого по стольку насчитывают! Это с одинокого бобыля; ежели с семьею — то еще дороже! Большинство, впрочем, было как раз одиноких. С бабами и ребятишками от драгун не больно-то побегаешь; бригадир Сытин после разорения Ветки всех, кто тяжел на подъем, угнал домой в Россию.
Но которые все же прибывали в Уилбуртаун с женами, чадами и домочадцами — легче соглашались на мои условия и оседали в городке, по поговорке «от добра добра не ищут». Большинство бобыльствующих тоже, по недолгом размышлении, смирились с судьбой. Оставшихся упрямцев и крикунов я посадил на корабль и отправил назад в Литву, чтоб не мутили английскую воду: скандалы по поводу нежелательных иноземцев мне нужны менее всего. Кирьяну же написал, что готов прибавить за переселенцев гульден с души, с условием брать в зачет только подписавших контракт. За смутьянов впредь буду вычитать из следующих ему субсидий. Взыскующие лучшей доли должны ведать неколебимое правило, установленное не мною, а Творцом мира сего. Правда и воля есть на свете, но могут быть куплены лишь упорным честным трудом. Кто хочет счастья даром — пусть пропадает, и хрен с ним.
Издержки вольности
Всякий, кто ведет по-настоящему большие дела — такие, кои вовлекают в движение многие тысячи людей, — должен помнить, что эти мириады не пешки на шахматной доске, а живые существа, одаренные разумом и волей. Они преследуют собственные цели. Если не озаботиться заблаговременно согласованием их интересов с планами начинателя, разрушительные столкновения неизбежны. Но даже и хорошо продуманный прожект редко бывает избавлен от всевозможных кунштюков, порождаемых человеческою натурой.
Вот так и затеянное мною переселение староверов породило сопутствующие подводные течения, отклонившие линии судеб далеко от намеченного курса. Первою ласточкой сих перемен стал мелкий данцигский торговец Соломон Гольденштерн, сумевший убедить моих секретарей, что достоин личной беседы с господином графом. На аудиенции, сразу после обыкновенных изъявлений вежливости, визитер поинтересовался: верно ли, что Exzellenz готов платить по шесть гульденов за любого бродягу, завербованного в переселенцы? Увы, отвечал я; у почтенного негоцианта неверные сведения. Во-первых, не по шесть, а по пять; во-вторых, отнюдь не за любого. Впрочем, требования сводятся главным образом к умению и готовности работать. Кроме того, лица римской веры не годятся. Униаты — равным образом. Кстати, если интересуетесь, иудеи в колонию допускаются. Только… Не взыщите, любезный: за ваших единоверцев платить не буду. У них слишком большой талант к торговле, не в моих интересах множить себе соперников. Коли пожелают, пусть плывут в Америку на свои средства.
Собеседник ничуть не огорчился отказом платить за его единоплеменников. По нетерпеливому блеску глаз видно было, что сие не мешает ему рассчитывать на прекрасный гешефт. Вот интересно: два года назад, когда Мишка Евстафьев вел с тамошней общиной переговоры о точно таком же посредничестве в деле вербовки работников, с него заломили совершенно несообразную плату. А теперь сами пришли. Что изменилось?
По долговременному опыту коммерции, я всегда стараюсь не допустить своих партнеров до преимуществ монопольного положения; так и здесь наличие двух отдельных тропинок из Речи Посполитой в Англию не позволило бы вербовщикам слишком задирать цену на свои услуги (тем более, что довольно трудно представить польских евреев и русских староверов сговаривающимися против меня). Но тут явно было что-то еще. Пять гульденов едва способны покрыть издержки по сопровождению переселенцев из Мстиславского воеводства до Кенигсберга или Данцига. Нашлись годные люди прямо на месте? Тогда это могут быть только…
Прямой вопрос не оставил Гольденштерну пространства для маневра. Да, дезертиры. Да, Exzellenz, из корпуса Миниха. Человек двадцать скрываются в самом городе, еще тридцать или сорок прячутся по окрестным селам. Захотят ли плыть в Англию? Да они счастливы будут! Над ними висит смертная казнь…
Пришел мой черед крепко задуматься. Как всякий офицер, я питал искреннюю и глубокую ненависть к презренной породе беглецов с поля боя, не раз подвергал пойманных трусов аркебузированию или гнал их на верную смерть, подкрепив со спины надежными штыками. С другой стороны… А сам-то ты кто, беглый генерал Читтанов?! Тоже ведь отошел от службы без абшида! В регламентах прямо сказано: «все, которые оставят службу, не взяв письменного отпуску, будут вменены в дезертиры». Так что не плюй в зеркало! Оказии всякие случаются. Особенно свежим рекрутам, бывает, приходится туго. Молодой парень, выдернутый из родной деревни, пребывает в смятении, а тут на него налетает куча начальников — один грознее другого — и каждому надо угодить! Не только офицер, но даже сержант или фельдфебель, если вдруг невзлюбит, может превратить его жизнь в сущий ад. Следует учесть и то, что осадная война вокруг Данцига велась Минихом в соответствии с требованиями науки, не оставляя места личной храбрости или трусости. Всего скорей, тут преобладают другие мотивы.
— Ладно, давай твоих бегунцов. Но кого принять, кого нет — буду разбираться с каждым отдельно.
— Как угодно Вашему Высокопревосходительству! Так мы, значит, договорились — по шесть гульденов?
— Уши в порядке, любезнейший? Сказано — по пять, и ни штивером больше!
Первая партия беглых солдат прибыла вскоре, и опасения, не купил ли я на собственные деньги тяжкую заботу, быстро развеялись. Кроме двух или трех негодных, остальные при правильном обращении могли бы служить без нареканий. Причиною преступления была не собственная их развращенность, а скорее неискусство армейских начальников по части управления людьми. Извечную методу «кнута и пряника» каждый офицер норовит усовершенствовать в том смысле, чтобы пряник съесть самому, а кнут оставить подчиненным. Однако в таком виде система не работает. Как, впрочем, и наоборот: одними благодеяниями народ разбалуешь. Нужен правильный баланс между поощрением и наказанием, применительно к ситуации: в мирной обстановке я предпочитаю уклон в сторону доброты, а на войне упряжь лучше затянуть потуже (но тоже в меру, без излишеств).
Большинство дезертиров назначены были в пополнение корабельных команд. Собственных судов не хватало, половина моей торговли шла на зафрахтованных — что, знаете ли, не всегда удобно. Два корабля, под тысячу тонн каждый, строились на английских верфях. Можно бы и готовые купить, только вот кого на них поставить? Британские подданные не годятся, потому как планы по использованию флотилии не сопутствуют видам их правительства. Расчеты на неаполитанцев, вопреки всем усилиям Луки Капрани, тоже не оправдались. В тех краях матросов вербуют среди жителей рыбацких деревень, кои малолюдны. Почему не в самом Неаполе? На первый взгляд, кандидатов в моряки много. Из четверти миллиона городских жителей, добрая половина не отягощена никаким имуществом, способным удержать человека на суше. К несчастью, тамошнее бедное сословие составляют большею частью лаццарони — ленивая, покрытая лохмотьями сволочь, гораздо более склонная воровать или попрошайничать, нежели трудиться. Иногда они подряжаются на поденную работу — но редко обходится, чтоб наниматель не проклял тот день и час, когда связался с этими разбойниками. Вот и я, после нескольких драк с поножовщиной, произошедших на моих судах, решительно от них отказался. В общем, рекруты, убежавшие от Миниха, в Уилбуртауне оказались более чем кстати.
Лиха беда начало: спустя недолгое время через раскольничьи каналы весть о привольном и безопасном убежище докатилась до тех людей, на которых заранее никоим образом нельзя было рассчитывать. Прибыла депутация с Кубани, от казаков-некрасовцев. Не от самого атамана — напротив, без его ведома. Насколько удалось понять, с началом войны крымский хан потребовал службы от неверных бунтовщиков, нашедших приют в его землях. Поскольку же за минувшие двадцать пять лет в таманские городки сбежалось изрядно всякого народу, в том числе совершенно невоинственного и взыскующего лишь спокойной жизни и вольности в вере, — произошел новый раскол. Старых казаков Игнат Некрасов удержал в повиновении, а новопоселенцы выбились из-под его власти и теперь блуждали на распутье: то ли царице Анне Иоанновне пасть в ножки и просить дозволения вернуться в Россию, то ли отдаться в службу графу Читтанову, про которого всякие сказки бают — и дурные, и хорошие. Одни говорят, что чернокнижник и с дьяволом накоротке, другие мало что не святым рисуют. Послали бывалых людей, чтобы разведать. Через Молдавию, Трансильванию и Польшу пробрались оные в Кенигсберг, а оттуда мой приказчик переправил их в Британию. При встрече эти послы имели дерзость не только крестное знамение сотворить, но и обрызгать меня святой водою — и лишь узрев, что сия жидкость не причинила вреда испытуемому, бухнулись на колени с мольбой о прощении. Вот дурачье суеверное! Кстати, такие шутки могут быть опасны: если бы кому-то, сведущему в науках, потребовалось провести подобное испытание с заранее определенным результатом, то добиться этого нетрудно. Надо всего лишь святую воду подменить слегка разбавленной купоросной или селитряной кислотою.
Раскольничьего попика, который прыгал предо мною со склянкой, разумеется, моментально скрутили. По смиренному фатализму его поведения внятно было, что дурень решился «пострадать за опчество», вызвав на себя графский гнев. Собственно, главная часть испытания только начиналась. Ходоки с колен не подымались, а глазами зыркали: насколько крут и суров окажется будущий хозяин, и стоит ли под него, такого, идти. Прикажет отходить долгогривого кнутом — значит, жесток чрезмерно. Розгами, или еще каким детским средством — стало быть, слаб. Такому возможно сесть на шею и ездить, как на осляти. Зная досконально мужицкие нравы и деревенские хитрости, я выбрал (учитывая место нахождения), английскую «cat-o-nine-tails»: пускай гадают, с чем знакомым соотнести заморское дранье, и насколько оно в меру вины оскорбителя.
На том сей нелепый акцидент и окончился. Посланцев, как приказано было, провели по всему городку, показали и коттеджи мастеров, и казармы временных рабочих, дали поговорить с людьми. Полагаю, что самым острым их впечатлением стало смешение вер. Тут тебе и старообрядцы всех толков, и никониане, и «латины», и совсем уж неведомые квакеры, — все живут мирно, дружелюбно, никто свои догматы силой не навязывает. Все сыты, только мера богатства разная. Старожилы, как правило, много зажиточнее новиков, главный же корень различий лежит в степени мастерства и полезности работника.
Мужики, однако, держались скрытно. Ничем не выказывали своих чувств. Понятно, что будущее решение подлежало еще обсуждению на сходе (с горячими спорами, а возможно, и с мордобоем) — но я со своей стороны сделал все, что было уместно, для приведения послов к полезному согласию. Возможность получить в свое распоряжение еще несколько сотен душ значила много. Тем более, перевоз их с Тамани мог стать весьма легким и дешевым — если использовать прикормленных мною греческих контрабандьеров. Ну, а императрица всероссийская должна быть только благодарна опальному графу: сманив людей у Игната Некрасова, он сократит число изменников, готовых сражаться против русских войск заодно с турками и татарами.
Даже без этих пасынков России, переселенцев в Уилбуртауне скопилось уже изрядное число, причем некоторые из них вписывались в сложившееся при заводе сообщество совсем плохо. Раскольники вообще отличаются пониженной уживчивостью: не поголовно все, но в значительной части. Вырвав же оных из-под власти суровых начетчиков, я еще не успел наложить на их волю достаточно крепкую узду собственного изготовления. Мои средства поддержания порядка оставались весьма ограниченными: казнить никого нельзя (по крайней мере, открыто), и даже наказания на теле могли применяться лишь в тех пределах, в которых наказуемые согласны были терпеть их добровольно. Почуяв свободу, многие из крестьян вовсе забыли долг повиновения и христианские правила. Скорее всего, «старая вера» служила для таких лишь удобным предлогом, чтобы дать деру от слишком крутых владельцев. Были среди них и расчетливые хитрецы, которые бойко и напористо преследовали свои цели. С последней партией ветковцев прибыла многочадная семья (душ пятнадцать, половина детей уже взрослые), возглавляемая мелким козлобородым старикашкой, коий лукавством пролез ко мне на прием и спросил, а нельзя ли им прямо сейчас отправиться в «егорьеву землю», если он наперед оплатит перевоз деньгами. Прикидывались нищими, и нате вам! Участившиеся стычки переселенцев и старожилов показывали, что для сохранения надлежащего спокойствия в городке не стоит чрезмерно увеличивать число «гостей», катающих тачки на плотине. А что делать с такими, как этот плюгавый патриарх со всею его фамилией? Спровадить бы за море поскорее, да ведь на голый берег с малыми детьми не высадишь!
Собственно, пионерная партия переселенцев была готова, и включить в нее всех потенциальных смутьянов возможность имелась. Предварительная договоренность об отправке корабля с Бенджамином Мартином, непременным секретарем Попечительского совета колонии Георгия, ни к чему обе стороны не обязывала, но что могло бы ее уничтожить, когда основатели колонии искали по всей Европе, кого бы еще завлечь в свое предприятие? Принимали любых еретиков, вплоть до антитринитариев, воззрения коих лишь с изрядной натяжкой могут быть признаны христианскими. Тем большим оказалось мое удивление, когда при следующей встрече секретарь, помявшись, сообщил, что Попечительский совет отказал в допущении моих людей, причем именно под религиозным претекстом!
— Вы ведь, сэр, принадлежите к римской церкви?
— Но я не собираюсь сам переселяться в Георгию! Все мои колонисты исповедуют восточное христианство различных толков!
— Тем не менее, Совет посчитал Ваш казус подходящим под запрет на поселение папистов. Вы, безусловно, знаете, что это правило порождено исключительно политическими причинами. Испания оспаривает у нас побережье к северу от Флориды, она с большой вероятностью попытается уничтожить колонию военными средствами. Недопустимо иметь среди защитников даже малую часть людей, относительно которых могут быть подозрения в симпатии к врагу.
— Разве я проявлял когда-либо особую приязнь к испанцам?
— Сэр… Простите великодушно, разве Карл Неаполитанский — не родной сын испанской королевской четы?
— Господи, неужели мои связи с этим монархом признаны настолько значимыми? Я сам никогда не придавал им большой важности. Да и к религии отношусь вполне философски: не берусь угадать, которая из христианских конфессий наиболее соответствует замыслам Великого Архитектора. Боюсь, что уважаемые попечители преувеличили мою приверженность Риму. Что же делать? Посоветуйте, дорогой друг!
— Простите, Ваше Сиятельство… Если Вы не привязаны к Риму душою — то почему бы не порвать с ним формально? Присоединяйтесь к ecclesia anglicana, и проблема исчезнет сама собою!
— Кхм! Знаете, молодой человек, как бы мало я ни был привержен вере, в которой рожден, все же менять оную из корыстных соображений не считаю благородным деянием.
Секретарь смутился; кажется, еще и покраснел. Рожденный в семье торговца мануфактурой, Мартин получил неплохое образование и даже сочинял трагедии в классическом стиле. Он почти безупречно следовал нравам, принятым в высшем обществе, и только изредка досадные просчеты выдавали в нем плебея. Впрочем, меня не слишком заботили его переживания. Понятно, что «папизм» — лишь предлог. Есть разница между своими и чужими, которую воспринимают не разумом, а скорее чутьем. Не в происхождении дело: Дезагюлье по крови француз, но это не помешало ему сделаться бОльшим англичанином, чем многие натуральные англосаксоны. Графа Читтано принимают, охотно ведут с ним выгодные дела, но… Британцы сближаются со мною лишь до определенной грани. Они всегда чувствуют, что я не их стаи.
В общем-то, шаги, которые следует предпринять, если желаешь влиться в круг «своих», понятны. Главное — правильно вести себя и подчиняться принятым нормам. Искренне подчиняться, с душою. Речь даже не о законах: во Франции, скажем, дуэли запрещены. Но всякий, кто дорожит репутацией, с легкостью нарушает королевский закон и следует другому, неписаному.
В Англии такого тоже полно. Это страна традиций, и жители ее не только бережно хранят традиции, унаследованные от предков: они на каждом шагу создают новые. Вот так прямо на моих глазах вырос обычай, когда знатные и богатые люди соединяются в тайные общества и называют себя «вольными каменщиками» (почему не землекопами или золотарями?). А я — сначала смеялся над детскими играми взрослых, потом побрезговал записаться в «подмастерья» при Дезагюлье в чине «мастера»… Ну в самом деле, с какой стати мне считаться ниже его? Равным — пожалуй, соглашусь. Но никак не ниже! А теперь… По некоторым сведениям, весь Попечительский совет Георгии состоит из «каменщиков», и заселение новой колонии обратилось во франкмасонскую затею.
Можно бы, конечно, попытаться как-то с попечителями поладить. Однако, даже в самом благоприятном случае, установление дружбы с ними обещало быть небыстрым. У меня же под задницей стремительно накалялась сковородка, на разожженном собственноручно огне. Злоба между старожилами Уилбуртауна и набежавшими из литовских дебрей простаками усиливалась день ото дня. Наверно, я переоценил способность команды вбирать в себя свежих людей. Какая-то часть в самом деле прижилась — но скорее меньшая. Прочие, не привыкши работать под чужим загадом, с отвращением катали тачки или тесали камень — отбывали постылую боярщину. завистливо поглядывали на богатство умелых мастеровых и ворчали, что те их, дескать, объедают. Заводские, в ответ, зло смеялись над лодырями и неумехами, кои пришли на готовенькое и хотят жалованье вровень, изо всех ремесел освоивши только два: жрать и с…ть. Недостаток женщин еще добавлял жару. Эта беда не составляла новости: миль на двадцать вдоль побережья все рыбацкие вдовы подходящего возраста либо повыходили замуж за моих работников, либо выстроили каменные дома на заработанные известным промыслом деньги. За каждую годную девку и раньше разыгрывались баталии с членовредительством, но теперь молодые драчуны разделились на две шайки, — надо ли объяснять, по какому признаку?!
Спасала пока лишь общая вера в недолговременность сего положения. Только скажи, что новопоселенцы тут застрянут надолго (Боже упаси — навсегда), и обе половины взбунтуются. Сор будет вынесен из хаты, усмирять толпу придется британским властям и моим здешним партнерам. Осложнения воспоследуют тяжкие. Для успеха задуманных дел — вероятно, смертельные. Требовалось немедля найти место, куда сплавить людей неподходящей породы: тех, кои с охотой готовы крестьянствовать, а к заводской и вообще артельной работе годятся плохо. В Америке более ни одна колония не могла обеспечить подходящих для них и для меня кондиций, свободными же оставались только Патагония, да еще неведомое северо-западное побережье, до коего добираться — как до Луны. О Патагонии даже навел справки. Плохое место. Мало, что климат слишком холодный и сухой; впридачу соседствующие дикари, именем арауканы, настолько свирепы, что губернатор чилийского генерал-капитанства Габриэль Кано-и-Апонте принужден держать против них до четырех тысяч войска. Ну их к бесу — тогда уж лучше Африка. Яшка-вождь просил помощи? Просил. Вот он ее и получит, людно и оружно!
Не скажу, что решение отправить доверившихся мне людей в Африку, славную гибельными лихорадками, опасным зверьем и еще более опасными туземцами, принимал с легким сердцем и спокойной совестью. Зато постарался послать с пионерной партией самых бойких, беспокойных и драчливых. Весь завод вздохнул с облегчением.
К чести русских мастеровых, никто не бросил ни единого проклятья вослед уходящему в бескрайний простор кораблю. Переломанные носы и выбитые зубы если и вспоминали, то беззлобно: чего не бывает между своими! Искренне желали путешественникам попутного ветра и благополучной жизни в краях новых, диких и дальних, — главное, чтобы подальше отсюда.
Невзирая на неудачу с колонией Георгия, попытка сия не осталась без пользы для меня и моих подданных. У «каменщиков» нашлось, что перенять. Член Попечительского совета Стивен Гейлс, доктор богословия и замечательный естествоиспытатель (сочетание редкое, но возможное), озаботившись сбережением здоровья колонистов во время плаваний, придумал снабдить корабли устройствами для освежения воздуха в жилых кубриках. Признав идею здравой, я оную не только присвоил, но и усовершенствовал. Если у Гейлса вахтенные матросы качали меха, вроде обыкновенных кузнечных, то у меня на новом «Савватии» — крутили ветродуйные колеса, наподобие китайских веялок, образцы коих не раз привозили европейские купцы из Кантона. Вращательное движение дает в этом случае лучшую отдачу. Помимо удаления вредоносных миазмов, артифициальный ветер смягчает жару, что в жарком климате не менее важно.
А еще (увы, с запозданием — после отплытия будущих африканцев) из моей амстердамской фактории прислали очередную партию книг. Всем торговым агентам, помимо основной службы, вменено было в обязанность собирать издания, претендующие внести нечто новое в науки, ремесла и мореплавание. Чаще всего, авторы мололи полнейший вздор, но время от времени в сей куче мусора попадались жемчужные зерна. Вот как сейчас: трактат, поименованный «Observationes circa scorbutum», сиречь «Наблюдения о цинге», совершенно рассеивал мрак, окружающий зарождение сего недуга, и делал его происхождение ясным, как Божий день. Господи, какой же я кретин! По аналогии с гастрическими лихорадками, предполагал источником цинги некую избыточную вредоносную субстанцию, и даже не подумал, что болезнь может вызываться дефицитом субстанции необходимой! Мозаика бесчисленных фактов сложилась в четкую картину: спасает от хвори нечто, содержащеея в живых растениях Теперь эта разгадка казалась очевидной. Глянул еще раз на титульный лист: сочинение доктора медицины Иоганна Фридриха Бахстрема, издано в Лейдене в нынешнем тридцать четвертом году. Вызвал секретаря.
— Отпиши немедля в голландскую контору. Пусть разыщут этого человека и наймут в мою службу. Врачом или кем пожелает, на любых условиях. В пределах разумного, конечно. Если запросит жалованье вдвое или втрое против обычного — дать, ежели больше — тогда списаться со мною.
Вышколенные служители кинулись исполнять, что велено — однако Бахстрема не застали. По одним сведениям, он получил выгодные кондиции где-то в Литве и уехал туда, по другим — оставил Лейден затем, что вызвал негодование ученых коллег экстравагантностью своих религиозных воззрений. Это в веротерпимой-то Голландии! Впрочем, как выяснилось, у него и раньше случались подобные казусы. Подробную справку мне предоставили. Немец-лютеранин, родившийся в Польше, сын ремесленника. Учился в Галле и Йене. Служил в Академическом гимназиуме города Торн учителем польского языка, одновременно — пастором у своих единоверцев; был ими изгнан за неортодоксальные проповеди. Самостоятельно мыслящим людям в богословии не место. Та-ак… Куда же изгнанник побрел? Ого, в Константинополь! Перевел Библию на турецкий язык и пытался оную напечатать, устроив для этого типографию?! Если наш мудрец остался жив после своей авантюры — наверно, он очень быстро бегает! Проповедь христианства среди турок… Миссионер легко отделается, если ему просто отрежут голову. Малейшей тени подозрения достаточно. Да, это должен быть человек совершенно бесстрашный. В том числе (что составляет величайшую редкость) умственно бесстрашный. Во врачебном сообществе царят консерватизм и верность традициям, а Бахстрем, перебежавший в медики из богословов, и тут пренебрегает всеми устоявшимися теориями. Неудивительно, что книга о цинготном недуге сочтена не стоящей критики. Мало сказать, что не признана коллегами — она ими просто не замечена.
Дав поручение продолжить поиски доктора-авантюрьера (с умеренным усердием, без экстраординарных трат), сочинил широкий план опытов по предохранению корабельных команд от цинги. Свежая зелень, свежая зелень… Где ж ее взять посреди океана?! Оранжерею на палубе не разведешь! А если разведешь, то жить ей до первого шторма. Нет, в ограниченных размерах это возможно: растить, скажем, поморскую «скорбутную траву» в легких переносных ящиках на компосте, упрятанном в парусиновые рукава; при ухудшении погоды убирать в трюм. Только на всю команду сей травки заведомо не хватит. Мнилось более авантажным сбережение свежих плодов при помощи сахарной патоки или спирта — и действительно, наибольший успех принесла именно эта метода. Сицилийские апельсины, плотно уложенные в дубовый бочонок и залитые крепчайшим ямайским ромом, сохраняли целебные свойства на всем протяжении самых дальних плаваний. Правда, для излечения заболевших требовался дозис лекарства, способный быка с ног свалить — однако пациенты не роптали. Для предотвращения же недуга матросам давали после вахты по одному плоду и по чарке получившейся настойки; выдача сия начиналась во второй месяц пребывания в море. Впрочем, это я сильно забегаю вперед, подобный рецепт был введен в действие лишь по итогам долгих изысканий.
А пока вся моя флотилия, исключая «Савватия», пребывала в таких краях, где морякам цинга отнюдь не грозила. Как только на иссушенном летним медитерранским солнцем необитаемом островке жара сменилась приятной зимней прохладой, в единственной годной для крупных судов бухте бросил якорь трехмачтовый корабль. Сотни людей муравьями разбежались по берегу. Выровняв, при помощи пороха, вершины прибрежных скал и устроив надежные брустверы, они втащили туда на канатах морские двадцатичетырехфунтовые пушки. В ложбине, пересекающей самую широкую часть острова (похоже, здесь в древности бежал ручей), днем и ночью, часто переменяясь, долбили шурф. Прошли до уровня моря — и пористый известковый камень сделался влажным, затем сквозь него начала сочиться вода. Пресная вода, которой тут сроду не бывало! В колодезь опустили английский шахтный насос, а наверху для приведения оного в действие собрали из приготовленных заранее частей ветряной привод голландского фасону. Понеже штиль в этой части моря бывает редко, слуги Эола тотчас принялись за работу. Живительная влага потекла по желобу в подставленные бочки. Наполнив их все, матросы в полчаса разобрали ветряк и спрятали в скальной расщелине; о людском присутствии теперь напоминали только уставленные на бухту пушечные жерла — да поднятый на запасной стеньге громадный флаг с золотым леопардом в синем поле. Древний призрак обрел кровь и плоть: под освященным вековой традицией знаменем впервые появились подданные. Вооруженные до зубов и, большей частью, говорящие по-русски. Так родилось на свет княжество Лампедуза.
Новорожденный младенец первым делом пачкает пеленки; новорожденное государство, как водится, принялось пачкать бумагу. Князь Фернандо-Мария — первыый в роду, кто почтил визитом сие владение, — орудовал пером со сноровкой опытного крючкотвора. Рескрипт о назначении вечным наместником острова имперского графа Читтано. Объявление войны Порте Оттоманской. Толстая пачка приватирских патентов. Указ об учреждении призового суда, во главе с лиценциатом права Джузеппе Росетти, обедневшим отпрыском одной из знатнейших итальянских фамилий. Формальности надлежало соблюсти, дабы морские клефты получили законное право сбывать добычу в христианских портах, не опасаясь титула пиратов. Будут ли эти акты (и само существование княжества) признаны всеми соседственными государствами? Так мне и не надо, чтоб всеми. Первый князь Томази ди Лампедуза получил титул из рук Филиппа Четвертого Испанского — теперь королевские наследники не могут забрать сей дар назад, не подвергнув династию бесчестью. Стало быть, признание со стороны Испании и Неаполя уже в кармане. Этого, в общем-то, достаточно. Прочие — как хотят. Жаль только, что мои венецианские компатриоты слишком дрожат перед турками. Принадлежащая республике Морейская провинция была бы, как убежище клефтов, много превосходнее Лампедузы.
Впрочем, и так неплохо получилось. Спустя недолгое время, дары Востока сначала тонким ручейком, затем с каждым месяцем все изобильнее потекли на торги в Бари, Неаполе и Ливорно. Чрезвычайная выгода сей коммерции действовала подобно силе магнита. Архипелагские греки одарены разнообразными талантами: все они отчасти рыбаки, отчасти мелкие торговцы, отчасти контрабандьеры и разбойники. К чему сильнее влекут обстоятельства, тем и займутся. Ныне, обретя выгодные каналы сбыта награбленного, этот храбрый и многочисленный народ дружно повернулся к разбою, подобно тому, как стрелка компаса, ничьею рукой не понуждаемая, сама собой обращается на север. Воинственным промыслом занялись не одни только капитаны, взявшие у меня приватирские патенты; путем бесчисленных ухищрений множество «диких» клефтов пыталось урвать свой кусок, нападая на турок и христиан без разбору и грабя кого попало (не исключая собратьев по ремеслу, если оные зазеваются). Жак Кассар и состоящий при нем флаг-капитаном Лука Капрани всемерно старались упорядочить и подчинить сию стихию — но лишь с частичным успехом. Едва ли десятая часть архипелагцев выказала готовность встать под команду француза, да и те исполняли только приказы, кои находили выгодными для себя.
В этом я не усматривал большой беды. Отсутствие средств понуждения, присущих настоящему государству, препятствует организации людских масс по привычному армейскому образцу; многочисленность и разнородность вовлеченных в движение толп затрудняет создание сплоченной шайки, подчиненной воле атамана. Что ж, есть другие способы — более косвенные, коли угодно, — но в конечном счете позволяющие любой бунт обуздать и запрячь в полезную работу. Контролируя скупку добычи, а равно поставки клефтам оружия и пороха, по мере нужды примиряя и стравливая, спасая и губя, возможно оставаться в тени и в то же самое время управлять этой силой, по внешности дикой, непокорной и далеко превосходящей частные средства любого отдельного человека.
Не одна только денежная выгода была побуждением в сем прожекте. Большая европейская война (в которую, по французской интриге, вмешались и турки) манила меня, как юношу — соблазны любви. Но вот незадача: ввиду злопамятности санкт-петербургского двора, в армии обеих империй опальному генералу хода не было. Сражаться же против своего отечества (а равно против союзников оного) сам не хотел. Хотя звали. О, как еще звали-то! Вообще, много куда звали. Больше всего завиральных политических идей рождали земляки-италианцы, и почти каждому прожектеру требовался умелый военачальник, который бы пробил дорогу к власти, получил свои два сольдо и без следа растворился в воздухе. Вроде бы ваш покорный слуга не давал повода подозревать себя в крайней глупости либо чрезмерном бескорыстии; так почему же сии мечтатели возлагали на меня столь фантастические надежды? Не все подобные истории удавалось избыть без вреда.
Должен признаться, что путь назад в русскую службу я искал. Искал со всем возможным усердием. Возгоревшаяся со стороны Порты Оттоманской война оживила чаяния на милостивое прощение: в России вдруг обнаружилась фатальная нехватка генералов. То есть, вообще-то генералы имелись в изобилии, но вот таких, коим можно поручить войско, не опасаясь конфузии… Миних и Ласси заняты в Польше, престарелый Вейсбах слаб здоровьем, Василий Долгоруков в тюрьме, Румянцев в ссылке… Кого на оттоманов послать? Между тем, многие помнили, что граф Читтанов как раз на битье турок и заслужил репутацию. Свои шансы стоило хотя бы разведать. Еще ранней осенью, до отъезда из Англии, я завязал тайную корреспонденцию с возможными моими сторонниками в Петербурге и возобновил сношения с Кантемиром, русским посланником и недавним оппонентом в лондонском суде. Переговоры обещали быть долгими и сложными: никакой дипломат и никакой сановник ничего в сем деле не решал. Одна лишь императрица всероссийская, ежели бы пришла в здравый рассудок, могла вернуть меня на прежнее место — причем для гарантии от попадания в застенок прощение следовало объявить публично, а не келейно. Так, чтоб его нельзя было отменить без тяжкого урона для монаршей чести.
Известно, с другой стороны, как мало коронованные особы склонны принимать подобные обязательства, ограничивающие их державные права. Анна пошла бы на такое лишь в последней крайности. А ежели не сама императрица — кто иной в России мог служить поручителем моей свободы? Миних — пожалуй. Но не станет: ему не нужны соперники в марсовом искусстве. Ушаков? Даже не смешно. У людей этого рода не бывает чести. Бирон? Еще хуже. Потомок лакеев и сам по духу лакей, небрежением слепой Фортуны попавший в случай и безмерно вследствие сего обнаглевший… Назвал бы жеребчиком — да грех коней обижать: скорее, осел-производитель, грязными копытами влезший на кружевную постель… Отнюдь не золотой, воспетый Апулеем… Хотя нет, вру! Истинно золотой — по той цене, в которую он империи обходится!
Короче говоря, защитой от дворцового коварства ничье слово стать не могло. Но кое-что другое — вполне. К примеру, существенные политические и военные выгоды, кои невозможно получить без меня. Вот, скажем, поклонюсь я императрице медитерранской греческой флотилией и, может быть, несколькими островами… Неужто не купится?! При этом отстранить графа Читтанова или заменить иным генералом ни малейшей возможности не будет, понеже всё рассыплется в прах… Насколько верны сии расчеты — испытать, однако, не удалось. Мой приятель, маркиз Скипионе ди Маффеи (болонец, обитавший на тот момент во Франции), поведал в письме о политическом прожекте, коий оживленно обсуждался среди парижских итальянцев: согнать с трона Тосканы старого герцога, слабоумного пьяницу и содомита Джан-Гастона, и заменить… Тут мнения разделялись. Одни мечтатели предлагали иных, симпатичных им, принцев, другие же хотели восстановить во Флоренции республиканское правление, как было до Медичи. Маркиз интересовался моим взглядом на сей предмет. Все это — в форме праздной светской беседы; однако при таких разговорах лучше отойти подальше, дабы не оказаться втянутым, против воли, в чужую игру. Впрочем, кривить душою и не требовалось. Народоправство, отвечал я, требует от народа доблести и добродетели, если же их нет — монархия заведомо предпочтительней. Нынешние тосканцы, если даже каким-то чудом получат свободу, не смогут оную сохранить. Европа в политическом смысле — дикий лес, полный хищного зверья; гулять по нему, не опасаясь за целость шкуры, могут львы или, на худой конец, волки; баранам же надобна не свобода, а добрый и умелый пастырь. Правящий герцог, разумеется, не отвечает сему высокому идеалу — но, в любом случае, этот вопрос будут решать великие державы, а отнюдь не народ. Для собственной пользы флорентийцев, им не следует забывать простое правило: подданные обязаны повиноваться, какая бы обезьяна ни сидела на троне.
Ди Маффеи не делал тайны из нашей с ним переписки; мои слова широко разошлись сначала по парижским салонам — а затем и дальше, ибо во всех континентальных столицах подают к ужину те блюда, кои в Париже кушали на завтрак. Даже война сему подражательству не помеха. Притащили засохшие цветы красноречия и в Петербург… И все надежды на милость императрицы лопнули, как мыльный пузырь. Дьявол, ну вот ни капли я не думал о ней, когда диктовал ответ маркизу! Ни сном, как говорится, ни духом… С какой стати она приняла «обезьяну» на свой счет?!
В зеркало, что ли, посмотрела?
Под эгидой
— Ах, какие ножки!
— А почему три?
— Да хрен их, баб, поймет! Ты в середку глянь: промеж ног-то чего?!
— Ух, и страшилище! Глаза прям как у боцмана Степаныча, когда его крепко рассердишь… А вместо волос, гляди-ко, змеи! Жала-то выпустили…
— Да уж, под таким флагом — и пушек не надо! Берберийцы, как увидят, сразу обо***тся. Еще бы знать, кто сие придумал!
— Есть люди особые, геральдейщики называются. Их ремесло — гербы да знамена всякие рисовать. К нашей кумпании раз пристал один в трактире… Пьянь голимая!
— Точно. Эдакое иначе, как в белой горячке, не нарисуешь.
— Да ладно тебе. Может, просто с женой поругался, да и сочинил на нее олегорию. Иносказательную картину, по-ихнему.
— Лучше б кулаком поучил: так человечней. Грешно столь жуткою харей честной народ пугать.
Подъем флага на торговом судне — совсем не то, что на военном корабле. Здесь дисциплина поддерживается менее суровая, и никто не заставляет матросов молчать ради торжественности момента. Можно заставить, только незачем. А флаг и впрямь забавный. Юный дон Карлос отказал мне в использовании неаполитанских цветов для дальних морских плаваний (равно как и династических бурбонских лилий), зато даровал право употреблять красно-желтое полотнище с эмблемами королевства Сицилии: трискелионом, сиречь фигурой трех бегущих ног, выходящих из одной точки, и головой Медузы Горгоны. Ноги женские, голенькие, очень соблазнительные; а в соединении оных, где взор ожидает встретить вящий соблазн — он внезапно встречает лик древнего чудища с безумными глазами, в окружении разверстых змеиных пастей. Голова Медузы и впрямь удалась. Очень талантливый попался живописец — однако с прекрасным полом сей художник явно не в ладах. Возможно, принял учение церкви слишком близко к сердцу.
Впоследствии матросы, по простонародной грубости, прозвали сей символ «***доглавием», а еще — «аннушкой». Ей-Богу, я тут не при чем. Более того. Блюдя приличия, велел капитану за последнее именование линьками потчевать: негоже приучать народ к безнаказанному оскорблению высоких особ, даже если оные отчасти того заслуживают. И все равно, истребить злословие не удалось. Простолюдины, ведь они как дети, — а устами младенца известно, что глаголет.
Отдав нужные распоряжения, Тихон Полуектов обернулся ко мне:
— Что прикажете, Ваше Сиятельство?
— Поговорить надо. Давай-ка в твоей каюте сядем.
Спустились со шканцев в капитанские апартаменты. Тихонов слуга Жозе, из каповердианских мулатов, подал кофей и, повинуясь взгляду хозяина, скрылся за дверью, осторожно притворив ее.
— Молодец, хорошо слугу вышколил.
— Есть у кого учиться, Ваше Си…
— Т-с-с-с. По-домашнему. Без чинов и титулов.
— Да, Александр Иваныч.
Взяв в руки чашки, пригубили превосходный напиток, наслаждаясь изысканной ароматной горечью. Промокнув губы шелковым платком, я не торопясь сложил оный и уместил за манжету. Молодой шкипер с достоинством, не выказывая ни малейших признаков нетерпения, ждал моего слова.
— Ян де Грис. Имя тебе ведомо?
Тихон с мучительным напряжением наморщил лоб: если граф спрашивает, значит, должно быть ведомо.
— Ладно, не тужься: помогу. Из служителей Остендской компании, да почиет она с миром.
— А-а-а, вот теперь вспомнил! В бытность мою еще штурманским учеником, он в Восточные Индии отправился. На «Принце Евгении», кажись.
— Точно, на «Принце». А теперь вернулся и много чего порассказал. Где было складочное место компанейщиков в Бенгалии, помнишь?
— Фактория Банкибазар на рукаве Ганга, милях в тридцати от моря.
— Так вот, эта фактория, оказывается, цела и невредима. Земля и постройки числятся теперь за императором; британцы не посмели оскорбить союзника захватом или разрушением оных. Главное же, люди в Банкибазаре остались. Вместо Александра Юма, там сейчас заправляет Франсуа де Шонамилль с командой антверпенских евреев, а это не тот народ, который легко уступит выгодную коммерцию англичанам. Де Грис избегал чрезмерной откровенности, но, по некоторым признакам, контрабандный оборот у них немалый.
— Я слышал, Ва… Я слышал, Александр Иваныч, что англичане с голландцами сию факторию с воды блокируют, уже года три без передыху. А сухим путем воевать ее не смеют, потому — не их земля. Индейский царь может обидеться.
— Всенепременно обидится, они всегда это знали и даже пытались использовать. В самом начале, когда Императорская компания в тех краях только появилась, шайка людей европейского обличья разграбила и сожгла деревню по соседству. Представь, при этом они размахивали имперским знаменем и кричали: «Виват императору! Мы немцы!» Однако бенгальский наваб, хотя магометанин, но умный человек, и в немцев, сожигающих тамошние деревни, не поверил. Сие дело давнее; просто для примера тебе. Помни, что английские ост-индцы ни пред какой мерзостью не остановятся, лишь бы торговым соперникам навредить. Так вот, насчет блокады. Блокаду держать — денег стоит, поэтому, не поймав за последний год ни одного вражеского судна, они почли за лучшее оную прекратить.
— Позвольте вопрос, Александр Иваныч: там, вроде, английские фактории совсем близко? Возобновить можно в один момент.
— До Калькутты пятнадцать миль, форт Уильям — чуть дальше. Но, я так понимаю, ты уже почуял, к чему наш с тобой разговор клонится?
— Гадать не хочу. Желаете что поручить — скажите прямо. Простите, Александр Иваныч, за невежливость.
— Не за что прощать. Ты в своем праве, когда отклоняешь косвенные подходы. Ладно, слушай. Было бы очень выгодно и полезно для всего нашего сообщества послать корабль в Индию. Селитра нужна. Старым запасам уже конец виден, а в Европе по разумной цене сей товар не взять. Только втридорога, ввиду военного времени. Если нынешним годом дело не сладим, пороховой завод либо закрывать придется, либо в убыток работать. Ты у нас идешь в Африку с колонистами — так чтобы обратно порожним не тащиться, есть резон удлиннить плечо. Не так уж сильно, кстати: отсюда до залива Алгоа три тысячи испанских лиг, а от Алгоа до Индии две или две с половиной. Смотря как считать. Если не уверен в своих силах — могу тебя в европейских водах оставить, а послать Луку или Альфонсо…
— Я уверен, Ваше Сиятельство. А в Бенгалию, если уж перебирать капитанов, никто из нас не ходил.
— Это ничего. Дорожка наезжена. Карты, лоции, судовые журналы ост-индцев — для навигации всё имеется. Главные сложности будут иного рода.
— Да, понимаю. Англичане…
— И не только. Вообще, как я понимаю, столкновений с укрепившимися в сей коммерции европейцами проще всего избежать, если действовать быстро. Очень быстро. Вот смотри. У англичан и голландцев там достаточно торговых агентов из местных; о появлении чужого корабля они сообщат немедленно. Один день. Проверить новость, обсудить, принять решение. Еще один, как минимум. Отдать приказ своим капитанам… Это мигом. Как думаешь, у них корабли в какой готовности? Сколько придет до выхода?
— Ну, команды обычно на берегу — кроме вахты. Собрать людей, привести такелаж и оружие в порядок, взять порох, воду и провиант…
— Пятнадцать миль, и стоять на пресной воде. Чего там брать-то?
— Все равно, раньше двух-трех дней по получении приказа не выйдут. Не сидят же они в засаде, с полным кумплектом людей на борту… Кто-то, случайно, может оказаться в готовности — но тогда ему выходить с нами один на один. Если можно, пару дней обождав, получить перевес в количестве, то ни один капитан в таком положении спешить не станет. Найдут веские причины, чтобы промедлить.
— Значит, четыре или пять дней. Имея порожний корабль, готовый к погрузке товар на берегу и неограниченное число туземных работников с лодками — успеешь?
— Нет, Ваше Сиятельство. Просто потому, что так нельзя. Люди после нескольких месяцев в море — они же взбунтуются к чертовой матери! Девок захотят повалять, береговой пищей отъесться, да хоть просто по травке походить, вместо палубы… Законные желания. Им положен отдых, а начальство устроит круглосуточный аврал, без берега. Взбунтуются точно. Не удержу, и никто не удержит.
— Во-от, почему я и завел разговор. Надо все подобные тонкости обдумать. Требуется место, где отстояться после перехода от Африки, дать роздых команде и привести корабль в порядок. Желательно — чтоб там не было европейцев, а туземцы были. Причем более-менее мирные. Если оттуда можно послать человека в Банкибазар, совсем хорошо. Все бумаги по индийским морям в твоем распоряжении. Подбери несколько пунктов. Де Грис скоро приедет: посоветуйся, он Индию хорошо знает.
— Александр Иваныч, а насколько ему доверять можно?
— Полагаю, этак примерно на девять десятых. Процент от дела ему обещан высокий — хотя в пределах разумного, человек свою меру знает. Старым компаньонам он приведет покупателей — значит, с Шонамилля тоже что-то возьмет. Англичане столько не заплатят, ежели наши планы им раскроет. Но на всякий случай дам тебе двоих молодцов от Франческо. Возьмешь матросами, однако работой не перегружай. У них еще другая служба будет.
Тихон молча кивнул в знак согласия. Вообще, парень был понятливый и послушный, проблески дерзости от него и легкий нажим от меня имели скорее ритуальное значение. На этом мир стоит: хозяин всегда желает получить от работников максимально возможную выгоду, те же в ответ всячески стараются сократить свои усилия и умножить вознаграждение. Главное, чтобы спор не выходил за рамки приличий, а итоговый баланс устраивал обе стороны. Со многими другими бывало гораздо труднее Алчность и честолюбие создают сильный побудительный мотив далеко не для всех. Многие предпочтут скромную, но спокойную жизнь без чрезмерного напряжения физических и духовных сил. Даже среди моих людей, большею частью пробившихся из самого низкого состояния ценою неимоверных усилий, явилась склонность по достижении определенного достатка на сем успокаиваться. Подвигнуть сих любителей покоя к новым подвигам на графской службе мог разве лишь страх. Страх наказания, голода, нищеты или иных бедствий, которым невместно подвергать своих верных вассалов; А без этого — как заставить их шевелиться?!
Кого заставлять совсем не требовалось — так это Соломона Гольденштерна, широко развернувшего вербовку работников для меня на просторах Речи Посполитой. Дезертирами дело не кончилось. Казалось, далее все заглохнет, ибо доставка в Данциг переселенцев из русских воеводств Польши заведомо обошлась бы дороже, нежели я за них платил, — но этот ловкач устроил так, что люди сами брали на себя все расходы, да еще и с лихвою! Конечно, сие стало возможным лишь благодаря татарам. Крымцы, разорив Волынь и Галицию, беспрепятственно ретировались с добычей — а тысячи крестьян, согнанных ими с родных пепелищ, брели по широким шляхам в поисках безопасного пристанища или ютились по углам в жилищах таких же убогих бедняков. И вот, вообразите, в шинке или на постоялом дворе еврей-хозяин нашепчет о вольной земле за морем, где нет ни панов, ни ханов… Большинство не поверит, однако найдутся и такие, кои вытрясут из тайных захоронок далеко упрятанные злотые.
Народ этот был совсем иного нрава, чем великорусские старообрядцы. В западной Малороссии (кою поляки, назло проклятым схизматикам, именуют Малопольшей) на протяжении уже нескольких веков идет естественная сепарация жителей по склонностям к покорности или бунту. Строптивые бегут на юго-восток, в казаки; робкие остаются на месте и дозволяют себя верстать в холопи. Сверх того, паны сих последних настолько застращали, что на заводе в Уилбуртауне переселенцы из тех краев по-первости, завидев цехового мастера, снимали шапку и кланялись в пояс, оставаясь в согнутом положении, пока начальство не уйдет. Иные и на колени бухались. Насилу объяснили им, что не следует этого делать: поминутно бросая работу ради внешних проявлений почтения, они лишь раздражают старших.
Довольно скоро стало заметно, что сей третий элемент своим безропотным послушанием и готовностью терпеливо ждать исполнения обещанного изрядно смягчил напряжение в заводском поселке. Противоречие между старожилами и новоприходцами приняло более сложную тройственную форму, дав управляющему возможность маневра. Что же касается моей африканской фактории, на такой дистанции от Европы разница между велико- и малороссиянами теряла всякое значение. Полагаю, местные дикари-людоеды тоже не уделяли внимания столь тонким гастрономическим различиям.
Примечательно, что в первый год турецкой войны среди беглецов совершенно не было солдат. Ну, или почти совершенно. В целой русской армии дезертиров считали, самое большее, десятками (а через пару лет — уже тысячами). Дерзаю верить, что столь благосчастное состояние войска — прямая заслуга вашего покорного слуги. Незадолго до бегства из России, будучи советником Военной коллегии и посещая по службе Богородицкую провинцию, я заложил в приграничных крепостях магазины, содержащие запас провианта на полную кампанию для наибольшей армии, которую империя способна выставить на юге. Между прочим, употребил на сие, пополам с казенными, собственные деньги (которые так и не успел вернуть, по причине торичеллиевой пустоты в подвалах российского казначейства). Не только хлеб — осадные парки, боевые припасы, литейные и кузнечные заводы, верфи для строения боевых кораблей и ластовых судов, — все приготовлено было моими стараниями (и отчасти моим иждивением). Чертежи всех турецких крепостей, до самого Дуная, сухопутные карты и морские лоции, оборонительные и наступательные планы с расчетом потребных сил и средств — тоже мои, при посильном участии Вейсбаха, Герцдорфа и Козенца.
Не обидно ли, что плоды упорных долговременных трудов предстояло пожать другим людям? Да не слишком: дело житейское. Так часто в сем мире бывает. В особенности на войне божественную справедливость искать бессмысленно. Кто приносит наибольшую жертву на алтарь победы? Не тот ли, кто отдал в баталии свою жизнь? А много ль вы видели покойников, поднимающих кубок на викториальных пирах?! Эта радость не для них, да и посмертная слава — не Бог весть какое утешение… Пожалуй, только одно заслуживает столь высокой цены: надежда изменить мир согласно своим идеям и желаниям. Стать сопричастным Творцу. С тех пор, как во мне пробудился голос крови — русской крови, волею судьбы текущей в жилах прирожденного венецианца, — благо отечества стало моей господствующей страстью. Оно не всегда совпадает с интересом царствующих персон и даже (страшно сказать) может расходиться с устремлениями империи. Редко, но может. Вот, скажем, имперская политика требует Курляндии и Голштинии, — но коренной России борьба за эти немецкие провинции скорее принесет вред, чем пользу. Той России, о которой я мечтаю, не нужна Курляндия. Ей нужны теплые моря.
Ну, а если к вольному морю не пускает турецкий султан — значит, его надобно сокрушить. Важно, чтоб это было сделано, а кто сие сотворит — не очень важно. Читтанов или Миних, какая для истории разница?! Что подлинно причиняло досаду, это не слишком бойкие действия русской армии на турецкой границе. Лучшие полки (и лучшие генералы) застряли в Польше, где партизаны Лещинского учинили Дзиковскую конфедерацию. При всей неспособности иррегулярных шляхетских хоругвей устоять в честном бою супротив правильного войска, сия гидра о тысяче голов никак не давала повернуться к ней задом. У вражеской партии нашлись опытные военачальники: старый ненавистник России Иосиф Потоцкий и великий подстолий литовский Ян Тарло. Непобедимый меч, выкованный Петром Великим, словно бы рубил воздух. Одерживая верх в каждой стычке (хотя бы и с десятикратно многочисленнейшим неприятелем), русские оглядывались — и видели, как только что разбитый враг вновь смыкается у них за спиною. Суровые карательные меры могли бы истребить анархию, но слишком разорять страну, отписанную союзному саксонскому курфюрсту, Анна не разрешала. Миних и Ласси оказались в необходимости дробить свои силы и гоняться за конфедератами по всей Великопольше: одержать решительную победу и загнать «великого подстолия» под стол (или под лавку), где ему, судя по чину, надлежало пребывать, никак не удавалось.
Над Украинской армией, расквартированной близ крымских границ, начальствовал старый генерал-аншеф Вейсбах. Он располагал (вкупе с ландмилицией и казаками) вполне достаточными силами для блокады Перекопа и осады Очакова — однако не двигался вперед, тоже будучи вынужден оглядываться на Польшу. Необдуманные действия некоторых его офицеров еще умножили хаос в прилегающих к границе воеводствах.
Полковник Полянский (уж не знаю, с ведома генерала или без оного) еще во время осады Данцига разослал жителям польской Украины грамоты, призывающие вооружиться против сторонников Лещинского. Малороссияне, утесненные польской шляхтой, с готовностью откликнулись — но, как водится, перетолковали смысл призыва на желательный им лад. Сотник приватной армии князя Любомирского, прозванием Верлан, взбунтовал свою сотню, произвел сам себя в полковники и объявил, что ему дан именной указ императрицы Анны Иоанновны истреблять ляхов и жидов, после очищения от которых край будет присоединен к Российской империи. Полыхнуло от границы до самого Лемберга. Бунт, хоть и в чужом государстве, но прямо на фланге действующей армии… Неприятно и, главное, непредсказуемо. Пришлось отряжать войска на усмирение собственноручно вызванного возмущения, участники коего, к тому же, крайне компрометировали императрицу своею дикостью и кровожадностью. Понятно, что она не инспирировала бунт и не приказывала никого истреблять; но французы с готовностью ухватились за лживые сказки. Писаки подняли дикий визг о готовых вторгнуться в Европу ордах варваров. Вкупе с распространившимися слухами о ведущихся в Вене переговорах насчет посылки русского вспомогательного корпуса на Рейн, сие оказало действие на многие незрелые умы. Друзья из Парижа сообщали: в тамошних салонах представляют моих соплеменников наподобие гуннов, как их изображали древние авторы, турок же и крымских татар рисуют благородными рыцарями в сверкающих доспехах. И этот город претендует на титул интеллектуальной столицы мира?! Совершенно безосновательно! И вообще — разумность рода человеческого сильно преувеличена. Интерес: денежный, политический, какой угодно, — как правило, подчиняет себе разум, отклоняет суждения от истины (как подложенная в нактоуз железка — стрелку компаса), и предвосхищает выводы. Исключения крайне редки. Почти всегда игра идет краплеными картами.
Впрочем, поляки доселе считают, что гайдамацкий бунт был частью обдуманной интриги злокозненных русских. Совершенно отвергать подобную вероятность я, пожалуй, не стал бы. Возможно, Полянский знал, что делал. Возможно, за ним еще кто-то стоял. Но это не императрица, нет. И не ее окружение. И, само собой, не Вейсбах — генерал был прямолинеен, как двуручный меч. И не престарелый гетман Данило Апостол, незадолго до сего умерший. Хотя… Иные замыслы могут жить и после смерти начинателя. Если имел место далеко идущий план, то ниточки должны вести в нашу Малороссию. Там не забыли о Правобережье и не перестали мечтать о соединении с ним под скипетром русских царей — даже если сами цари подобной цели не ставят. Достойно внимания, что гайдамаки практически не имели столкновений с армейскими полками, без боя оттеснившими бунтовщиков дальше к западу. Это еще не доказательство: им все равно бы не удержаться, да и приграничные поветы ограблены уже дочиста, — надо идти туда, где есть добыча. Но все же, все же… С их стороны картина событий могла выглядеть и так: вот они очистили Киевское воеводство и Брацлавщину от иноверцев, передали под защиту регулярных войск; сами же погнали волну огня и крови на Волынь и в Подолию. Дескать, ежели государыня не дура, то придумает способ землицу за собой оставить. А что не поддерживает их открыто — это хитрость, секрет от врагов. Одаренные житейской ловкостью, но неискушенные в большой политике люди вполне могли таким образом рассуждать.
Однако в Петербурге не зря стремились ограничить вовлеченность в польские дела, и без того чрезмерную. Уход части войск Украинского корпуса на запад вынудил ослабить кордоны на границе с Крымом. Неприятель, как и следовало ожидать, моментально этим воспользовался.
На Днепре ниже порогов считают восемь более или менее удобных для переправы мест: одно, при самом устье, в турецких владениях, остальные семь — в русских. Сии последние прикрыты артиллерией крепостей, выстроенных волею Петра Великого по моему плану. Кроме Таванска, фортеции эти откровенно слабы и не рассчитаны на осаду с применением артиллерии, однако против татарской конницы вполне достаточны. Конечно, перебраться через реку можно и между ними, но многочисленные русла, старицы и болота настолько замедлят врагов, что расположенный за линией резерв успеет подать сикурс гарнизонам и парировать нападение. Без малого двадцать лет хорошо продуманная система обороны полностью себя оправдывала. Вот и теперь, невзирая на объявленную войну, турки и татары не тревожили русские рубежи. Даже зимою, когда плавни замерзли, лишь редкие всадники одвуконь осмеливались пересечь границу — скорее всего, изменные казаки, шпионящие для магометан. Весна поначалу тоже не принесла тревог. С неторопливой немецкой планомерностью Вейсбах готовил летнюю кампанию, уверенный в превосходстве правильного оружия над крымскою ордой. Если он притнимал оную в расчет, то исключительно в плане защиты обозов.
Носаковская крепость на крымском берегу Днепра, ничем в цепочке береговых укреплений не вылающаяся, лениво дремала под ласковым весенним солнышком, когда с востока показалась темная масса. Приблизилась, и стало слышно мычание и блеяние, щелчки кнутов, матерные крики погонщиков — очередной гурт скота из множества гонимых по первой траве в Таванск. Скотинке предстояло наполнить своею плотью бочки для армейской солонины. Довольно-таки многочисленный отряд казаков маячил за стадом, со стороны степи. Все как положено: ногаи близко.
Унтер, начальствующий над караульными, недовольно сплюнул: эти уйдут, а комендант опять солдат погонит с гласиса навоз убирать. И чем ему, чертову немцу, скотье дерьмо мешает?! Лежит себе и пушечным ядрам летать не препятствует… Гуртовщики подъехали к самым воротам. Их старший, с густой проседью в бороде и взглядом травленого волка, процедил щербатым ртом:
— Начальство позови!
— За каким ***м?!
— Сакму свежую видели, коменданту доложить надобно.
— Шиш тебе — не подобает Его Высокоблагородие из-за всякого пустяка беспокоить!
— Ну, тогда в крепость пусти. Сами скажем.
— Совсем охренел? Не положено!
— Не серчай, служивый. Нам бы, это… Вина хлебного купить.
— Так бы сразу и говорил. А то — са-а-акма… Скоко надо-то?
— Бочонок.
— Анкер в три ведра — пять рублев встанет.
— Побойся Бога! Винишко, поди-ка, черкасское?
— Не ндравится — не пей. Вино доброе. Послать к маркитанту?
— Коли доброе, так сторгуемся. Попробовать бы.
Унтер свистнул — в мгновение ока молодой солдатик, отставив к стене фузею, метнулся куда-то вглубь крепости, за служебные постройки, и вскорости возвратился, сгибаясь под тяжестью бочонка, аппетитно булькающего на плече. Караульный начальник крепкими, как клещи, пальцами расшатал пробку; на сие священнодействие подтянулись и часовые. Пробовать станут — вдруг и им нальют?! Народ уже сглатывал слюну, как внезапно главный гуртовщик махнул рукою — и его подручные взяли караул в ножи. Только один солдат и убежал. Ему бы крикнуть — да с перепугу голос отнялся. Уже от казармы оглянулся: в распахнутые настежь ворота со свистом и гиканьем летел тот самый отряд, что виднелся со стороны степи. Какие, нахрен, казаки?! Кричат-то по-татарски!
Всех, кто имел смелость высунуться, изрубили в лоскуты. К несчастью, «белая кость» гарнизона избрала жительство подальше от «черной», презирая запах солдатских онуч. Вот и оказались блокированы: солдаты — в казарме, а офицеры — в своих квартирах, на другом краю крепости. Были бы вместе, так отбили бы фортецию у слабейшего числом врага. Но тут, пока сообразили, что делать, уже стало поздно: из-за гряды прибрежных холмов хлынула такая сила, что вся степь почернела от всадников. Русские держались, пока у татар не нашлись умельцы, чтобы стащить с бастиона пушку и сделать первый выстрел. Тогда сдались: мазанковые стены — не защита.
Враги всех увели в плен для продажи туркам, а внутри крепости разрушили и сожгли, что возможно было. Нуретдин Фетих-Гирей со значительным войском, переправившись через Днепр, пожег казачьи городки, заставил старика Вейсбаха вместо наступления на Очаков гоняться за неуловимой конницей в собственном тылу и ушел через польские владения безнаказанным. Дурная традиция, по которой Россия каждую войну обязательно начинает с конфузии, вновь подтвердилась.
Кто-то, быть может, спросит: откуда я знаю подробности событий, при коих заведомо не мог присутствовать? От очевидцев, милостивые государи. От того самого солдата, который убежал. Тимошкой Птицыным его зовут. Он, конечно, трусоват; воин из него никакой — зато бегунец знатный. Попавши, вместе со всей толпою, в Константинополь, и тут нашел способ дать деру! Прибился к единоверным грекам, попросил, Христа ради, помочь. Те задумались, было, что выгодней: вернуть раба обратно за вознаграждение или продать куда-нибудь еще, — но кому-то пришла в голову светлая мысль, что граф Читтанов, наверно, заплатит больше. Тимохины известия и впрямь дорогого стоили. Разведав дополнительно о русских пленных, я выяснил их дальнейшую судьбу.
Рабов не распродали врозь, как обычно делают, а взяли у крымцев на казенный счет, заодно с частью ранее пригнанных галичан, и заперли в давно уже пустовавшем невольничьем доме при терсане, сиречь турецком адмиралтействе. Учитывая, что в Золотом Роге поспешно снаряжали восемь больших галер, назначенных в Архипелаг для борьбы с греческим разбоем, следовало в самое ближайшее время ожидать встречи с единоплеменниками на медитерранских морях.
Общеизвестно, что численность и сила турецкого галерного флота полностью зависит от притока русских невольников. Именно русских, и никак иначе, поелику рабы из иных наций гребной работы не выдерживают. В предшествующие годы, когда привезенный в столицу ясырь состоял большею частью из грузинцев и черкесов, были попытки усадить оных на галерную скамью. Но даже самые крепкие мерли, как мухи. Из негров, правда, некоторые годятся — однако, опять же, не всякой породы. Среди азиатских племен лишь сами турки достаточно выносливы; только где им взять довольное число преступников, заслуживших столь тяжкую участь? Некоторое число турок можно и нанять: анатолийские земледельцы настолько себя не жалеют, что иной раз подряжаются в гребцы (по тридцать-тридцать пять пиастров за сезон, на казенных харчах), обаче на целую флотилию повольных наймитов все ж не наберется. Да и казна у султана не бездонная.
Жак Кассар, незамедлительно мною вызванный в Мессину для совещания, встретил новость весьма хладнокровно:
— Mon general, как галера уйдет в открытом море от корабля, взяв курс левентик, так и капитан парусника сможет избежать встречи с галерами, если Господь не покарает его внезапным штилем. Тем более, praemonitus praemunitus. Предупрежденный вооружен, это одна из немногих поговорок древних, застрявших в моей памяти со школьной скамьи.
— Ну, а если поставить обратную задачу?
— Какую, Excellence? Чтобы корабль был настигнут галерами, или те, в свою очередь, не сумели бы от него скрыться? Хм… Так Вы хотите отбить галерную шиурму? Благородное желание, но вряд ли осуществимое. В абордажном бою мы не сможем выстоять против турок, в артиллерийском же — покрошим в фарш тех, кого желаем спасти, наравне с магометанами.
— «Мы не сможем выстоять…» Имеете в виду наши наличные силы, или же греческих клефтов как таковых?
— А что, есть возможность получить иных воинов?
— Немецкие наемники Вас устроят?
— Вы еще спрашиваете?! После греков, это… Даже не придумаю, с чем сравнить! Как новенький фрегат против дырявой шлюпки! И много?
— Сколько пожелаем. И, соответственно, оплатим. Вы знаете, что имперские солдаты, оборонявшие здешнюю цитадель, до сих пор не эвакуированы?
— Но князь Лобковиц подписал капитуляцию почти два месяца назад! Неужели императору не нужны люди на севере?!
— Де Лириа уверяет, что Вена не может найти денег на перевозку солдат. Лобковиц, в свою очередь, жалуется, что это испанцы строят препоны, не желая видеть бывший гарнизон Мессины под Мантуей. Бог знает, кто из них прав, но только люди измучены неопределенностью и бесконечными задержками жалованья. Они охотно согласятся на кратковременную и весьма выгодную авантюру. Не все, конечно, — ну и пусть; всех нам было бы слишком много. Полагаю, мы можем рассчитывать примерно на треть, как при сдаче Капуи в прошлом году. Там, если помните, две тысячи немцев из пяти с половиной перешли на службу к бывшему неприятелю. Я также заранее послал людей в Сиракузы и Трапани: имперские гарнизоны, продолжающие удерживать эти пункты, находятся в безнадежном положении и капитулируют со дня на день.
— Прекрасно! В Неаполе Вы уже договорились?
— Мне дали понять, что дон Карлос не будет против. Ему сейчас пленные не нужны, и единственное желание короля — чтобы их черт унес. Унес, по возможности, куда-нибудь подальше от Ломбардии, где война все еще продолжается.
— Простите, Excellence, если мой вопрос покажется бестактным…
— Не стесняйтесь, дорогой друг.
— Ваше Сиятельство одарено от Бога редким талантом соединять разнородные и, на первый взгляд, несоединимые принципы: честь и корысть. Вот и сейчас, вначале я подумал, что освобождение галерных рабов может быть весьма выгодным, имея в виду пополнение моей флотилии обученными солдатами и опытными канонирами. Без этого не перепрыгнуть пропасть, отделяющую пиратские шайки от регулярных команд. Среди турецких христиан найдется немало храбрецов, но совсем нет людей, имеющих понятие о дисциплине.
— Да, капитан. Именно о регулярстве я и стараюсь.
— Так вот, не хочу сказать ничего плохого о русских солдатах, но нужны ли они нам, если Фортуна отдает в распоряжение Вашего Сиятельства неограниченное количество немцев? Нет, разумеется, честь призывает нас биться за освобождение христиан из-под власти неверных; но где выгода? Не будет ли правильным в таком случае, если Ваше Сиятельство примет все издержки этого плана на свой собственный кошт?
— Лучше все-таки возложить их на общий. И вот почему. Кроме того, что немцы дороги, слишком чувствительны к любым заминкам с оплатой и всегда готовы перебежать к более щедрому нанимателю, восточным христианам они чужие. Немецкий отряд, как бы хорош ни был, не может послужить ядром кристаллизации, тем скелетом, на который постепенно нарастет мясо из местных жителей. Это как железная рука Гёца фон Берлихингена: превосходный инструмент, но живая плоть все-таки лучше.
— Поправьте, если я ошибаюсь — но, насколько мне известно, запад и восток не столь уж несовместимы. Скажем, у вас в русской армии удалось привить европейские начала на туземное древо. Вспомните, сколько там иностранных офицеров. В том числе, кстати, и французов.
— Капитан, мне ли не знать, с какими трудностями приживались в России сии начала?! У нас с вами нет ни той власти над людьми, коей располагал Петр Великий, ни того времени, которое понадобилось ему, чтобы добиться успеха. Поэтому идти напролом — не наш путь. Иногда обходный маневр позволяет достичь желанной цели ценою несравненно меньших усилий. По своим средствам, мы многократно уступаем самому вшивому германскому либо итальянскому герцогству. Чтобы со столь скудными ресурсами играть пусть малую, но самостоятельную роль в беспощадном мире политики, потребны весьма нетривиальные ходы. Быть умнее врагов и соперников, вот единственное спасение. Кстати, о немцах…
— Слушаю, mon general.
— Присмотритесь. Вполне возможно, кто-то из них заслуживает приглашения на постоянную службу. Но принимать будем очень выборочно. Не только по воинским умениям, но и по способности хранить тайны. Чем еще хороши русские — они здесь всем чужие. Всем, кроме меня. Их верность предопределена безусловно. А сообщество наемников, это как деревенские кумушки: что знает один, моментально разносится по всей Европе. Мало ли какие акции предстоят в будущем, не обязательно против турок — да, впрочем, турки тоже не глупы и не слепы. Сейчас мои вербовщики соблазняют имперских солдат самыми нелепыми сказками. Официально, они просто отправятся на купеческих судах в Триест — а где устроить им пересадку и как приготовить к будущему бою, мы в ближайшее время обсудим. И вот еще что… Среди наших шпионов в Константинополе, по приметам, есть телятки, которые двух маток сосут. Слава Богу, что я их покамест не убил. Пригодятся.
Странствия «Одиссея»
Кассар накаркал: кара Господня, в образе внезапного штиля, пала на нас в самый неподходящий момент. Несносная жара, редкая даже для летней Медитеррании, охватила беспомощно дрейфующее судно, словно это горшок с кашей, поставленный в русскую печь. На море нестерпимо было смотреть: гладкая поверхность его блистала тем же ослепительным светом, который лился с голого, забывшего про облака, неба. В полдень реомюровский термометр, лично знаменитым естествоиспытателем изготовленный и присланный мне в подарок, показывал тридцать с лишним градусов в тени. Если б не ветродуйные колеса, вращаемые без передышки, несчастные трюмные сидельцы точно перемерли бы от духоты и зноя. Либо взбунтовались, невзирая на свойственную немцам привычку к воинской дисциплине.
В трюме воняло немецкой казармой, зато на палубе царил русский запах смолы и свежего дерева. Недосушенного, зато дешевого — чисто голландский подход к судостроению. Флейт, купленный в Амстердаме минувшей весною и нареченный «Одиссеем», изначально планировалось употребить для перевозки колонистов, посему из всех моих судов он оказался наиболее приспособлен, чтобы, вдобавок к четырем дюжинам душ команды, вместить в себя до полубатальона солдат. Правда, в крайней тесноте: обычно лишь негров грузят так плотно. Однако путь с Лампедузы в Архипелаг впятеро короче, нежели из Африки в Вест-Индию, ветер при начале плавания был попутный, и я надеялся избегнуть опасных поветрий.
Вначале все так и шло, по плану. Сведения о намерении клефтов полностью перекрыть каботажный путь вдоль берегов Анатолии, подброшенные капудан-паше Сулейману через греков-двоедушников, побудили его сосредоточить галерную флотилию в проливе между анатолийским берегом и островом Хиос. Затем известие о прибытии графа Читтано на Самос, для совета с главарями разбойников, дало магометанам надежду захватить сего опаснейшего врага, и их морские силы двинулись к югу. У острова Фурни приготовлена была засада, чтобы этих охотников превратить в дичь, только вот… Все клонилось к тому, что принимать сражение я буду вынужден прямо в открытом море.
К счастью, турецкие фрегаты, тоже в Архипелаге присутствующие, утратили ход подобно «Одиссею». Встреча с ними была бы весьма неприятна. Флейт по своей конструкции изначально не предназначен для боя, и не способен нести значительную артиллерию. Конечно, дюжину пушек я втиснул, большею частью на шканцы и фордек, — но калибр оных оставлял желать много лучшего. Главные приготовления делались для стрелков: прочный фальшборт, окованный железным листом; такие же пуленепробиваемые ограждения на марсах и надстройках, с амбразурами для обстрела шкафута; многозарядные пакловские фальконеты во всех удобных для ведения огня точках. Всякий, кто рискнул бы на абордаж, неминуемо должен был понести страшные потери. А там — контратака скрытых до поры резервов с нижней палубы, ради чего специально прорезали широченные люки и приготовили удобные трапы. В короткое время пребывания на Лампедузе, немцев усиленно натаскивали именно на ближний бой.
Уж скорей бы… Чтобы освежить измученных жарою солдат, я велел малыми партиями выводить оных из трюма и прямо на палубе обливать забортной водою. И себя тоже — с единственною привилегией, что имперского графа обливали не морской, а пресной. Но теплая, как парное молоко, влага мало помогала. Наконец, к вечеру юнга-наблюдатель крикнул с мачты, что, вроде бы, видит неприятеля. Впрочем, уверенности не было: быстро сгустившиеся сумерки скрыли горизонт непроницаемою завесой. Тревога об опасностях, кои принесет рассвет, отчасти возмещалась радостью, что жестокое солнце наконец-то скрылось. Повеял легкий бриз: не скажу прохладный, но хоть не как из раскаленного кузнечного горна. «Одиссей» лениво двинулся к югу. Где-то там, в лабиринте скалистых островов, прятались тартаны и фелюки Кассара. Семь потов с меня сошло, пока сумел убедить француза, что его место не на корабле-приманке, а во главе клефтов, ибо никого иного они слушать не станут. Воистину, мастерство не пропьешь: когда дошло до дела, этот сутулый плешивый кляузник обернулся крутым и разумно-жестоким командиром, за короткое время заставив самых отъявленных разбойников глядеть на себя с уважением и страхом. Вроде пожилой человек, старше меня, — а боевой азарт в нем такой, что греки прозвали его «туркофагос», сиречь «пожиратель турок». При этом личной вражды к османам у старого приватира вовсе не было. Просто нрав такой хищный. Лев тоже не держит зла на антилопу. Он вонзает ей клыки в горло не потому, что ненавидит — напротив, потому, что любит. Любит мясо, любит живую кровь. Вкусно потому что. Ну, а Кассар любит деньги. И знает, как их добыть каперским промыслом. В считанные месяцы он выстроил целую систему. Судно еще только грузят, а клефтам уже известно, куда и с каким товаром оно пойдет; уже решено, который из капитанов его будет брать — или не будет, если купец заранее готов платить. Кто возьмет неположенную добычу или не поделится, с кем надо, положенной — отправится на дно морское. Минувшей весною немало народу совершило сие путешествие, и не всем грекам новый обычай понравился. Зато прибыль тех, кто соблюдал правила, возросла многократно. Свои миллионы, зажатые французской казною, мой компаньон еще не доправил на турецких союзниках Парижа — но был к тому на верном пути.
— Ваше Сиятельство, какие будут распоряжения на завтра? — Никита Истомин, капитан флейта, прервал ход моих мыслей.
— Пока ничего. Полагаю, бой будет завтра, но вряд ли с самого утра. Если ветер не стихнет, где мы окажемся к рассвету?
— Где-то между Икарией и Самосом. До расчетного пункта не дотянем, но с горы Коракас нас непременно увидят и отсигналят командору.
— Хорошо. Постарайся отдохнуть ночью. Завтра ты нужен мне бодрым.
— Не извольте беспокоиться. Я не подведу.
— Да верю, верю.
Понятно было, что парень волнуется. В серьезной баталии он до сих пор не бывал — хотя с юных лет к тому готовился. Никита из числа морских офицеров, кои с разрешения Петра Великого пришли в железоторговую компанию для навигационной практики. В военном флоте свежепроизведенный лейтенант имеет надежду стать капитаном лет через двадцать беспорочной службы, и то при наличии протекции либо счастливых обстоятельств; а тут корабль получали через полгода-год, при наличии знаний и способностей. По Адмиралтейству переведенцы числились в отпуску. Когда граф Читтанов объявлен был государственным преступником, держать этих людей на службе компании стало невместно, и они все вернулись в Россию. Да и нужды в них особой в тот момент не было, ибо торговую флотилию мне, по решению лондонского судьи, предписано было разделить с Демидовыми. Прищлось половину кораблей отдать, вместе с моряками.
Только Истомин задержался на несколько месяцев в Данциге, приболев по пути. После выздоровления, уже отправил багаж на русский пакетбот, и сам чуть на него не сел — но в команде оного нашелся приятель по Навигацкой школе. Он-то и рассказал по секрету, что всем ранее прибывшим выслугу на компанейских судах, в противность указу, не зачли, а самое худшее — Никиту вписали уже в изменники и дезертиры, отчего старого отца его хватил удар. Старик умер и похоронен, матери давно уж на свете не было, жена года за два до этого умерла родами… Ни единой родной души в отечестве не осталось, крепостных — и то отняли! Маленькое имение в Калужском уезде отошло в казну. Молодой капитан, презрев обычную сдержанность, с горя напился и в компании моряков с пакетбота высказался так про императрицу, что, протрезвев, сам испугался. Возвращаться домой стало нельзя. Ежели донесут (а донесут непременно), Сибирью не отделаешься: самое меньшее, язык урежут и ноздри вырвут. Оставив багаж в трофей однокашнику, Истомин добрался до Вилбуровки, а потом два года ходил подшкипером у Альфонсо Морелли, в ожидании собственного судна.
Рассвет принес то, что ожидали — то бишь турок, на пяти больших галерах. Три совсем близко, не далее пары миль, еще две подотстали. Лишь только спасительный мрак перестал скрывать наше присутствие, сии хищницы обернули острые носы в сторону «Одиссея» и, мерно взмахивая веслами, словно стервятники крылами, устремились на добычу. Капитаны ближайших не стали ждать запоздавших товарищей — стало быть, мои приготовления остались в тайне. Галера такого класса несет шиурму примерно в две сотни гребцов, дюжины полторы-две матросов и пушкарей-топчиларов, пятьдесят-семьдесят солдат. Учитывая, что команда флейта, даже крупного, обычно не превышает трех-четырех десятков душ, османы могли рассчитывать по меньшей мере на пятикратное превосходство. Если б не триста солдат у меня в трюме! Впрочем, врукопашную с этими молодцами не стоит схватываться и при таком соотношении: турецкие морские левенды, сиречь солдаты-абордажники, непревзойденные мастера биться холодным оружием. Вкупе с природной храбростью и магометанским фатализмом, это делает их опасными противниками и для вдвое многочисленнейшего христианского отряда. Когда толпа умелых воинов прет напролом, одушевленная боевой яростью и презрением к смерти, что может ее остановить?! Только лишь та самая смерть, коя к людскому презрению взаимно равнодушна.
Зашли, как требует морская тактика, с кормы и носа. Бухнули по разу неприятельские погонные пушки — одно ядро пришлось по рангоуту и одно в корпус — но, слава Богу, никого не задело. Наши погонные и ретирадные в ответ картечью — с тем же, похоже, успехом. В таком бою артиллерия почти бесполезна. Полетели абордажные крючья. Еще с ночи мы вывесили вокруг всего корабля прочные сети, при помощи запасного рангоута отдалив их на сажень от борта: врагам потребовалось лишь несколько секунд, чтобы располосовать их своими ятаганами, но эта ничтожная заминка обошлась им дорого. Прозвучала команда — и притаившиеся за сплошным фальшбортом стрелки, поднявшись в полный рост, разрядили в атакующих свои штуцера. Уверенно и спокойно, как в тире: ни малейшая волна не возмущала морскую гладь, к тому же я отобрал для сего действа самых опытных и хладнокровных бойцов. Почти все начальники турецкие, и вообще все, кто выделялся богатой одеждой и властными манерами, легли на месте. Сие, однако ж, не остановило вражескую атаку и, вроде бы, даже не замедлило оную. Сразу сотня свирепо орущих головорезов с обезьяньей ловкостью полезла на палубу «Одиссея», и если высота надстроек в оконечностях судна позволила сбросить в воду сих кровожадных акробатов, то шкафут, сиречь среднюю часть палубы, я и не надеялся удержать на первой стадии боя. Менее сажени над галерными бортами: сущий пустяк для обученной абордажной команды. Пальнув еще по разу в набегающих турок и не вступая в рукопашную, стрелки отступили на подготовленные к обороне фордек и шканцы. Несколько человек, увы, замешкались — что ж, бой есть бой. Наступил ключевой момент баталии.
Надстройки «Одиссея» заранее ограждены были (в том числе и со стороны шкафута) прочными шитами из железных листов на дубовых досках в две трети человеческого роста. Пуля их не брала. Таким образом, мои люди могли безнаказанно поражать врагов. То, что пара сажен у самой стенки не простреливалась, не составляло проблемы: турки, лезущие на ют, легко расстреливались с бака, и наоборот. Кроме того, на марсах корабля, где нижняя часть мачты соединяется со стеньгой, а равно по углам надстроек, стояли барабанные фальконеты Пакла, способные делать по девять выстрелов в минуту, с запасом зарядов на семь минут скороспешной пальбы. Сознаюсь в прегрешении: я не заплатил держателям патента ни пенни, понеже и сам не получил с этой инвенции никакой прибыли. Сложная и капризная механика делала сие оружие слишком дорогим, чтобы рассчитывать на массовый спрос, а тайные опыты в моей оружейной мастерской при тосканском заводе не дали ни малейшей надежды на удешевление. Напротив, ряд усовершенствований, совершенно необходимых, чтобы сделать оружие надежным, сделал его цену вообще заоблачной. Ну и Бог с ним: по крайней мере, опытные образцы, вместо того, чтоб попусту ржаветь, в настоящий момент громили турок. Дюймового калибра пули, в четверть фунта каждая, разили нехристей с небес, как гнев Господень. Что случалось с человеком при попадании в голову, даже матерые вояки не могли видеть без содрогания. А внизу, между превращенных в редуты надстроек, бушевал свинцовый ураган: отложив ненужные более штуцера, стрелки взяли в руки короткие тяжелые мушкетоны, снаряженные картечью. На пространстве в тридцать шагов, забитом плотной толпою неприятелей, каждый выстрел находил множество жертв. Чтобы поддерживать плотность огня, из трюма непрерывной цепочкой поднимались свежие бойцы, подавали в линию обороны готовое оружие и становились заряжать отстрелянное. Гренадерский плутонг, встав третьим рядом за спинами товарищей, по команде обер-фельдфебеля Краузе запалил фитили и швырнул чугунные шары в гущу турецких абордажников. Так им, добавить жару! Только недружно, черт… Словно в ответ на эту мысль, одна граната с дымящей втулкой влетела назад, тут же рвануло… Два или три солдата упали, зажимая раны… Еще летит! Рослый капрал прикладом мушкетона, словно игрок в лапту, подбивает летящую на него смерть, отправляя гранату за борт. Пальба на мгновенье прекратилась, обер-фельдфебель с ужасом смотрит, что наделал.
Вот на такие случаи старший командир и нужен в бою. Увы, офицеры из пленных немцев в мою службу идти не больно-то соглашались, в довольном числе у меня только унтера. За хорошие деньги подрядился один капитан, Фридрих Нойманн, но его пришлось оставить с гарнизоном на Лампедузе, а начальство над корабельною партией взять на себя. Ладно, не впервой: еще в бытность сопливым лейтенантом доводилось мне оставаться единственным офицером в роте. Теперь, тридцатью годами старше и опытней, уж как-нибудь с двумя ротами справлюсь.
— Продолжать стрельбу!
Оцепенение длилось едва ли пять секунд, но этого хватило, чтоб неприятель вновь перешел в атаку. Нескольким туркам удается ворваться на шканцы, перемахнув щиты. Один снес голову ятаганом ближайшему солдату, но тут же получил от другого сноп картечи в упор. Лезут еще: Никита Истомин с размаху лупит шпагой по чьим-то рукам, вцепившимся в защитный барьер, брызжет кровь, летят отрубленные пальцы… Совсем рядом со мною над ограждением появляется зверская усатая рожа с бешеными глазами и клинком, зажатым в зубах — шпага будто сама вылетает из ножен и с хрустом пронзает щетинистый вражий кадык. Едва успеваю ее извлечь обратно из падающего тела, чтоб не остаться безоружным и не осрамиться пред нижними чинами. Оглядываюсь — слава Богу, уже все в порядке: турецких смельчаков застрелили. Это у нас на шканцах все в порядке, а вот фордек явно в беде: там рукопашная.
— Огонь! Фойер, швайне!
Но руганью делу не поможешь: все, заранее приготовленное, уже разряжено, теперь нас ограничивает скорость заряжания, и залп выходит позорно жидким. Гляжу наверх: на марсе грот-мачты фальконет умолк. Ствол задран в небо, бочка проломлена ядром. Не одни мы стрелять умеем. Так, что еще у меня есть?!
— Гренадеры!
Краузе глядит на меня, как преступник у эшафота — на палача. Кретин, сейчас не время вздыхать о мелких оплошностях!
— Ты не обер-фельдфебель, а обер-арш! Арбайтен, швайнефикер!
Смешивая немецкие слова с итальянскими и русскими, командую достать гранаты — поджечь фитили — и ждать! Ждать, пока не догорит до втулки. Только потом бросать. Не приведи Бог, кто бросит раньше… Шпагу наружу (с не успевшей засохнуть кровью) — клинок перед носом чрезвычайно обостряет понятливость. Взрывы гремят на шкафуте, обратно не прилетает ничего.
— Теперь сами. Унабхениг цу хандельн, ферштее зи?
Вроде бы, фельдфебель пришел в себя. Начал командовать, как надлежит по чину. Надо мне освежить немецкий, совсем разучился им говорить. А еще имперским графом считаюсь. Срамота! Но это как-нибудь после боя. Сейчас же положение обоюдоострое. Свалка на баковой надстройке продолжается, ежели не вмешаться — турки, пожалуй, одолеют. Две приотставших галеры уже близко. Миля, полторы. Десять минут. Потом враг получит подкрепление.
Если до того момента не сбросить с корабля первую абордажную партию — очень хреново может получиться. Чтоб полностью ввести в дело моих немцев, мне нужно распространить бой на палубы вражеских галер. На корабле слишком тесно: тут я могу развернуть едва ли треть отряда. Ежели османы запрут нас на «Одиссее», они за счет лучших рукопашных умений просто вдавят мой авангард в трюм. И всё! Независимо от наличия резервов, прорваться обратно наверх уже не удастся. Это будет полная конфузия.
Надо атаковать. Прямо сейчас.
Планируя бой как по преимуществу огневой, я отнюдь не поскупился на холодное оружие для солдат. Частью шпаги, частью — абордажные сабли. Что ж, вот и пригодятся. Кто поведет? Конечно, лучше бы самому, но… Нет, драться — еще куда ни шло, только вот прыгать со шканцев на шкафут… Лестницы-то сломали, чтоб ими турки не воспользовались. Скакать горным козлом уже не по возрасту и не по чину. Можно спуститься на уровень главной палубы и выйти из надстройки через дверь, сняв подпирающие ее дубовые брусья — но только за спинами тех, кто прыгнет с надстройки, ибо через дверь не атакуют. Блокировать оную и сдержать за нею сколь угодно многочисленный отряд можно самыми ничтожными силами. Два-три правильно действующих воина остановят хоть полк. Для атаки нужно, чтоб одномоментно десятки ринулись, и чем больше — тем лучше. Да чтобы в первом ряду покрепче был народец, вроде вот этих гренадер…
— Фельдфебель, твои орлы шпагами действовать могут? Konnen Sie Schwerter zu kampfen?
Почему-то теперь немецкие слова приходили легко, без затруднений. А минуту назад прямо заклинило. Для старческого беспамятства — вроде бы еще рано. Скорее, нервы. Разволновался в горячке боя, аж давно знакомый язык из ума вылетел. Господи, позор-то какой! Хорошо, если никто из моих не заметил. Стоит мне выказать слабость, и «Chittanov's crew» разбредется врознь. И вообще, это у субтильных барышень бывают «нервы», а боевые генералы даже слова сего знать не должны! Видимо, просто отвык. Война, ведь она привычки требует. Долгие перерывы между сражениями расхолаживают.
Краузе поморгал водянистыми голубыми глазами: «да, да, конечно».
— Надо помочь нашим на фордеке. Wir mussen unsere Kameraden helfen. Контратакуем, и враг побежит. Gegenangriff, und der Feind wird zuruckweichen.
На самом деле уверенности в подобном обороте у меня не было, однако численный перевес после обстрела, проредившего турецкие ряды, вполне мог компенсировать восточное превосходство в искусстве резать глотки себе подобным.
— Ja, Exzellenz.
— Командуй. Erstens, leeren Sie den granatentaschen. Dann vortreten! Сначала опустошите гранатные сумки. Потом — вперед!
Густо полетели гранаты, шкафут заволокло пороховым дымом. Кажется, ничто живое не могло уцелеть в этом аду — но я все же приказал стрелкам дать залп, и только потом махнул рукою фельдфебелю: давай!
— Vorwarts!
— Р-р-р-а-а!!! — Ободряя себя неистовым криком, гренадеры перевалились чрез ограждение. Оскальзываясь в лужах крови и спотыкаясь о трупы, выстроились в неровную линию, выставили шпаги — и пошли теснить неприятеля.
— Abspringen! Folge ihnen! Прыгайте за ними!
Стрелки уже сами, без понуждения, сыпались с надстройки. Подталкивая товарищей в спины, из трюма торопливо лезли солдаты: нестерпимо сидеть в тревожном ожидании, когда наверху идет бой. Линия гренадер превратилась… Ну, не в глубокий строй — скорее в толпу — яростную и смертельно опасную. Турки, оставшиеся на шкафуте, в мгновение ока были смяты, заколоты и растоптаны. Те, что ворвались на фордек, обнаружив себя меж двух огней, стали кидаться за борт. На галерах, не затрудняясь их спасением, рубили канаты и пытались оттолкнуться от «Одиссея» — а вот шиш вам, ребята! Теперь уже наши кошки взвились в воздух, цапнули острыми когтями анатолийский дуб — всё, махать сабельками бесполезно: там первые две сажени от крюка идет не пеньковый линь, а тонкая цепь из каленой цементированной стали. Такую и дамасским клинком не возьмешь! Стрелки выстроились вдоль борта… Залп! Заряжа-а-ай! Feuer! Уцелевшие матросы и надсмотрщики галерные полезли под скамьи. Которые с перепугу метнулись в досягаемость гребцов, тех выволакивали и давили. Просто руками давили, сладострастно рыча от наслаждения. Над скамьями с прикованной шиурмой поднялся дикий торжествующий крик. Мои солдаты, кто по веревкам, кто прямо так, прыгали на вражескую палубу, добивали противящихся — минута, и галера захвачена. Другая, у левой раковины корабля, продержалась не дольше. А вот та, что принайтована была с бака, успела расцепиться.
— Scharfschütze, gehen Sie schneller zu dem Bug! Штуцерники, быстро на бак! Оружие зарядить! Aufladen!
Кстати, а где турецкое подкрепление?! Пора бы уже оному быть. Я поднял взгляд. Одна из отставших галер заканчивала разворот, другая вполне его совершила и на полной скорости уходила прочь от «Одиссея». Весла вздымались и падали в лихорадочном ритме, какой и самые крепкие гребцы едва ли смогут поддерживать более получаса, хоть насмерть их забей. А вдали, справа и слева, почти незаметные на фоне береговых скал, спешили наперерез туркам легкие суденышки Кассара. Тоже на веслах, ибо штиль — но, увы, вдвое или втрое уступая галерам в скорости.
— Не успеют. — Истомин, возникши за правым плечом, с ходу прочел мою мысль. — Разумею, наши не успеют.
— Никита, цел? Не ранен? Хорошо! Тех прищучить — может, и не успеют, а вот которые сейчас под нашим бушпритом корячатся… Будет хоть малейшая возможность — постарайся корабль к ним бортом повернуть.
— Понял, Ваше Сиятельство. Любое дуновение поймаю.
— Выполняй.
Мой капитан принялся собирать матросов, сам же я поспешил на фордек. Чтоб выйти из кормовой надстройки на шкафут, пришлось не только снять подкрепляющие дверь дубовые брусья, но и растащить в стороны кучу трупов с обратной стороны. Оглядев палубу, восхитился неприятельской отвагой: судя по числу тел, левенды продолжали атаковать, даже потеряв убитыми и ранеными свыше половины бойцов. Беспримерное в наш корыстный век мужество! Прекрасные воины, воистину цвет турецкого народа!
Запах пороха, крови, дерьма из разорванных кишок. Optime olere occisum hostem? Авл Вителлий был редкостным уродом, если он и вправду это сказал, — то, что труп врага хорошо пахнет. Впрочем, любому опытному офицеру такое амбре привычно и не мешает делать свое дело. Выстроил стрелков, распределил цели. Галера валандалась саженях в десяти от нас; весла шевелились будто в агонии, вразнобой. Турки отчаянно пытались восстановить дисциплину. Гребцы упорствовали, некоторым удалось вырвать цепи, — их лупили плетьми на убой, прямо по головам; кое-где вместо плетей мелькали уже и сабли.
— Feuer!
Грохнуло нестройно и жидко. В ярости обернулся к штуцерникам:
— Vas ist das?!
Из ответного лепета понял только, что опасаются попасть в тех, коих стараемся освободить. Кретины! Через минуту-другую храбрецов вырежут, уцелеют одни трусы, а на кой черт мне эти животные? И вообще, уж лучше возможная смерть от дружеской пули, чем верная — от турецкого ятагана.
— Das ist egal. Стреляйте, Господь различит своих. Огонь!
Вот теперь хорошо. Когда дым уплыл, видно стало, что рукопашный бой оборвался. Магометане отступили на нос, к погонному орудию, оставив с полдюжины трупов лежать на помосте меж скамьями. Там же корчилось несколько раненых. Гребцы тоже замерли, даже не порываясь добить сих несчастных и овладеть оружием. Ничего, теперь без них справимся.
— Канониры, картечью заряжай! Никита, шлюпки на воду!
Под дулами пушек османы побросали клинки. Однако, как только посланная мною партия поднялась на судно и расковала невольников, разъяренная толпа — дикий, косматый, вонючий, кровожадный зверь о ста человеческих головах — ринулась на ненавистных мучителей. Кто из турок не успел или не решился сигануть за борт, обрел в их руках страшную смерть.
— Извольте рассудить, Ваше Сиятельство, — оправдывался начальствовавший над призовой партией подшкипер Анфимов, — если б я даже приказал колоть бунтовщиков, нас бы просто смяли, и вся недолга. Не ведаю, что теперь делать.
— Черт с ними. По правде, надо бы всех перепороть. чтоб запомнили: никого нельзя убивать без моего приказа, тем паче — сдавшихся в плен. Да слишком их много. Без большой крови не сладим.
— Так что теперь прикажете, господин граф?
— Принимай галеры. На каждую возьми с «Одиссея» по десятку матросов и полуроте немцев. При нужде, сажай немчуру на весла вперемешку с бывшими невольниками. Объясни, что всем нам прямой интерес побыстрее унести ноги от здешних берегов. Турок, кои не утонули, из воды выловить, сковать — и в трюм. Пригодятся на обмен или выкуп. Думаю, на убежавших галерах осталось, самое меньшее, сотни две наших. Это если состав шиурмы везде одинаковый. По твоему взгляду, на взятых судах — солдат из Носаковской фортеции какая доля?
— Точно не скажу: мундирные вещи мало у кого сохранились. А по обличью русских половина или немногим больше, остальные — всякий сброд. Греки, турецкие славяне, черкесы, арапы…
— Ладно. Придем на Лампедузу, там разберем. Объяви предварительно, что всех зову в мою службу, но которые не пожелают — неволить не стану.
После краткого совещания с прибывшим на мой корабль Кассаром (весьма недовольным: турок он и впрямь упустил), я сделал дальнейшие распоряжения. Вся флотилия, не теряя драгоценного времени (ибо поднялся ветер с норда, именуемый архипелагскими жителями «мельтемья» и возникающий иногда в ясную погоду по необъяснимому капризу небес), легла на курс зюйд-вест, коим следовала до ночи. Затем, пользуясь темнотою, суденышки клефтов рассеялись в хаосе Кикладских островов, а «Одиссей» и трофейные галеры довернули на три румба правее и вскоре благополучно покинули Архипелаг через широкий пролив между Критом и Мореей.
Форты Лампедузы встретили подобающим случаю салютом. На другой день, рано утром, мои наемники согнали бывших рабов на ровный плац, с великими трудами созданный Фрицем Нойманом среди каменистых склонов. Русские сами, без понуждения, встали в подобие правильного строя; остальные, расположившись живописными кучками по нациям, дивились на вчерашних соседей по галерной скамье, как… Знаете, вот люди смеются над обезьянами, видя в них карикатуры на самих себя; но и взаимно, человек для обезьяны должен быть просто невероятно, дьявольски смешон! Чтобы вот из таких мартышек сделать солдат — пришлось бы полностью повторить весь титанический труд Петра Великого, приложенный для создания русской армии. И то еще, может, не хватило б. Я, конечно, всем найду место (и дело) в своей команде, но люди, понимающие воинскую дисциплину, сейчас мне стократ ценней привычных к самовольству.
— Здорово, братцы!
— Здра-жла-ва-шство!
— Молодцы, службу не забыли. А меня-то помните?
Замялись солдатики. Не потому, что память плоха — просто армейская мудрость не велит лезть поперед всех перед высшими чинами. Бог его знает, чем излишнее усердие может обернуться. Только чуть погодя откуда-то из заднего ряда донеслось:
— Помним, Ваше Высокопревосходительство!
— Ну, коли помнишь, так выйди сюда вперед. Кто таков будешь?
Сквозь ряды протиснулся рослый мужик лет тридцати пяти.
— Второго Богородицкого гарнизонного полка сержант Егор Косоруков. Четыре года назад Ваше Высокопревосходительство изволили на линию приезжать. Тут, почитай, половина таких, кто уже в ту пору служил — токмо сказать робеют.
— А ты не робеешь?
— Никак нет! Ваше Высокопревосходительство всем известны, как начальник справедливый и без придури — уж простите за грубое слово.
— Бог простит. Раз ты так прям, скажи: пойдешь ко мне в службу?
— Виноват… Я бы со всей охотой, да нельзя: государыне императрице Анне Иоанновне присягал.
— Так и я государыне-матушке не изменял. А что обер-камергер Бирон меня оболгал перед нею, то надеюсь, что сия неправда развеется, как дурной воздух, извергнутый из его вонючей ***ы. Смею думать, что и в опале приношу пользы отечеству больше, нежели Бирон, вместе со всею его родней. Чести служить России этот курляндский прыщ у меня не отнимет. Вот, нынче Ее Величество с турками воюет — а я, по-вашему, шутки шучу?! Вас кто у нехристей отбил?! Ну, так скажи: кто верней служит, граф Читтанов или те ваши начальники, кои Носаковскую крепость неприятелям сдали?! Отвечай!
Боек был Косоруков, да только не тягаться сержанту с матерым генералом, знающим, сколько надавить голосом, чтобы у человека поджилки затряслись, а сколько — чтобы обгадился, не сходя с места.
— Выходит… Выходит, что Ваше Высокопревосходительство вернее служит…
— За чем же дело стало? У меня и с жалованьем задержки нет, и кормежка — в гвардии такой не видали! Вчера-то как, распробовали?
— Премного благодарны Вашей Милости, век за вас будем Бога молить — просто обрыдло на чужбине. Домой, в Россию, охота!
Строй, и без того неровный, зашевелился. Солдаты оживились:
— Домой…
— На Русь-матушку…
— Своя черствая корка слаще чужого пирога…
— Хоть пешком уйдем…
Если кто и думал иначе, то молчал, не в силах противиться общему порыву. Порыву понятному и благородному, но совершенно противному моим интересам. Это настроение надо было немедля ломать.
— Отсюда пешком вы точно не уйдете, потому как мы с вами на острову. Положим, я силой никого не держу, кроме пленных турок: пожелаете, отвезу в ближайшую христианскую землю и даже кусок пирога, который вам несладок, дам на дорожку. А дальше? Дальше-то что? Ежели от Неаполя, так надо пройти пять царств, чтоб до России добраться. Неаполитанское, папское, венецианские земли, римскую империю, польское королевство. Кормиться чем будете? Разбоем?! С этим у них строго. Глазом не успеете моргнуть, как снова на галерах окажетесь, только что не на турецких. Впрочем, большой разницы нету.
Вроде кое-кто начал задумываться. Однако сразу распрощаться с глупыми мечтаниями народ был не готов. Белобрысый мужик, длинный, костлявый и жилистый, обиженно возразил:
— Все ж христиане… Помогут, небось?
— Христиане, только папежской веры. Как польские ксендзы. Много от них добра православные видят? А? Не слышу?! Нет, конечно, если в их веру перекрестишься, то… Но тогда зачем тебе Россия? Что у нас за отложение от православия бывает, знаешь?
— Как не знать…
Мужик притих — видно, представил себя на дыбе. Давить, давить еще — и будет успех!
— Ну, ежели на меня вдруг накатит приступ доброты, может случиться и такое, что я вас доставлю на корабле прямо в Венецию. Поближе маленько: не пять государств пройти, а только три. Однако толку не будет, ибо народ в сем городе скаредный. Даром ничего не дадут, скажут — заработай.
— Пущай. Заработаем и пойдем на Русь.
— Зарабатывают там ровно столько, чтобы с голодухи ноги не протянуть: скопить денег на дорогу даже не мечтайте. А чужакам и самая дешевая поденщина бывает за счастье, ибо в Венеции своих голодранцев довольно.
— Может, Ваша Милость…
— Ни шиша моя милость просто так не даст, потому что я тоже венецианец. По крови русский, а по рождению — венецианец. И ровно то же самое вам скажу. Разница только в том, что заплачу больше. Вообще, солдат здесь в военное время получает вдвое или втрое против поденщика. Или можем договориться, что вы мне отслужите столько, чтоб вашего жалованья хватило нанять голландский корабль до Санкт-Петербурга, — как сойдете на берег, сразу же государыне в ножки и падете. Выпросите у матушки прощение разом за все.
Человеческая толпа, как правило, шумит — и ее гул передает общее настроение. Скажем, сердитые или одобрительные тона легко различаются; они заразительно действуют на людей, доселе нейтральных, и подчиняют оных слитному движению массы. Сейчас людской оркестр звучал вразнобой, свидетельствуя о неопределенности и сомнении. Что ж, полдела сделано. Общая решимость немедля отправиться назад в Россию, по меньшей мере, поколеблена. Осталось найти такой подход, чтоб еще сильней повернуть намерения освобожденных в сторону моей приватной армии. Еще немного — и я их уговорю.
Господи, насколько же проще жить под царской властью!
И снова вперед вылез Егор Косоруков.
— Ваше Высокопревосходительство?
— Что, Егорушка?
— А сколько, примерно, надо отслужить, чтобы нанять корабль хватило?
Вот молодец! Если б я заранее нанял его разыграть приготовленную пиесу для склонения народа к службе — и то бы лучше не вышло. Сразу перевел мое предложение в практический план.
— Полгода, до Рождества. Можно на пару месяцев дольше, тогда в Петербург с деньгами приплывете. Все равно море там раньше Благовещения не растает.
— А что за служба будет?
— Обыкновенная служба, солдатская. Стрелять, в кого начальство прикажет.
— В турок, что ли? Али в кого еще?
— В турок, это непременно. Может, и еще в кого: бывают и христиане такие, что намного хуже турок. Вам сие слышать дико, после турецкого плена, так поверьте на слово. Одно скажу точно: против своих не пошлю. Егор, старше тебя чином никого нет? Офицеров нет?
— Нету, Ваше Высокопревосходительство. Турки хоть нехристи, а к благородным господам почтение имеют. В городе всех оставили, на выкуп.
Казадось, вот-вот можно будет праздновать победу над императрицей: ее солдаты станут моими. На полгода? Ага! Есть способы сделать так, чтобы через эти полгода они сами не захотели никуда ехать. Но тут откуда-то из глубины строя раздался недоверчиво-враждебный голос:
— Господ-то выкупят… А нас в этом пекле адовом оставят! Сдохнуть на своей земле — и то не дадут!
— Кто сказал?! А ну, покажись! — Однако, если бы даже говорун открыл себя, затыкать его было уже поздно. Вражда и зависть к высшему сословию, это ключ от шкатулки Пандоры. Любой выпад противу дворянства способен освободить легион бесов, запертый в народной душе. Толпа, минуту назад шатавшаяся в неустойчивом равновесии, стронулась и покатилась, словно с горы:
— Предали нас офицеры!
— Кругом измена!
— Не верим никому, одной царице-матушке!
— Всё ей доложим, как в Питербурх приплывем!
— Домой!
— Сажай на корапь, твоя милость!
— В Россию хотим!
В Россию они хотят… Я тоже хочу, и что?! Самому явиться в застенок Ушакова? Нет уж, пусть без меня скучает Андрей Иваныч. Спорить с людьми сейчас бесполезно — но есть у меня еще один козырь, коий непременно должен сыграть.
— Косоруков!
— Слушаю, Ваше…
— Распоряжайся, сержант. Веди людей на благодарственный молебен об избавлении от агарянской неволи.
Солдаты давно уже косились на тройной шатер, поставленный в стороне от главного лагеря, с православным крестом в навершии — однако бродить, где попало, галерникам не дозволялось. Кругом немцы-часовые, кои по-русски выучили только три слова: «стой», «назад» и «на***». Были сомнения, не повредит ли такая суровость делу совращения в мою службу, — но я решительно их отмел. Нельзя манить солдат потачками и послаблениями, это гнилая политика, и она когда-нибудь непременно выйдет боком. А уж перспектива иметь у себя на острове неуправляемую орду в полтыщи исстрадавшихся по воле душ, без офицеров, без надсмотрщиков, даже без атаманов… Господи, спаси и помилуй! Вот выцеплю в толпе тех, кто способен командовать остальными, назначу от себя начальниками, выстрою иерархию, — тогда можно будет вожжи-то и поослабить.
Отец Радослав, сербской нации, служил душевно. В Бристоле моим работникам хватало грека, однако сюда для встречи бывших пленников я велел непременно найти славянского попа. Причем хорошего, а не какого-нибудь замухрышку. Увидят мужики правильную, привычную литургию — это им будет сильнейшее побуждение, чтобы остаться. Но только прежде, чем батюшка добрался до «аминя», ко мне протиснулся посыльный от Ноймана и прошептал:
— Exzellenz, die türkische Flotte!
В осаде
Я отнял от глаза зрительную трубу. Турки приблизились уже довольно, чтобы позволить себя сосчитать — даже с моим немолодым зрением. Флотом сие назвать, пожалуй, перебор… Однако для нас хватит с лихвою. Большой линейный корабль (новый, французского маниру), четыре фрегата и около дюжины всякого торгового хлама, реквизированного у безответных купцов под войсковые транспорты. Каждый из фрегатов заметно сильней «Одиссея», корабль же по весу залпа превосходит его раз в двадцать. В ходу новенький флейт мог бы потягаться с неприятелями, но это на открытой воде. Если они заградят выход из бухты, любая попытка вырваться на волю окончится для моего единственного судна превращением в пылающую руину. Трофейные галеры? Нет, и они не уйдут. Да и нельзя ослаблять силы на острове, в предвидении турецкого десанта.
Черт возьми! Почему турки оказались у Лампедузы так быстро, на другой день после меня?! По расчетам, капудан-паше Абубекиру требовалось недели две, чтобы узнать о происшедшем бое и отдать надлежащие приказы. Или он заранее предвидел все наши действия? Невероятно. Может в ближнем моем окружении — турецкий шпион? Или французский? Да нет, некому было предать. Впрочем, возможен и такой ход рассуждений со стороны врагов: дескать, незачем беспокойного графа ловить в море, раз он обязательно вернется на Лампедузу. Ладно, что османы хоть не опередили нас: могли бы встретить у острова… Или они следили издалека и пропустили намеренно, чтобы вернее запереть? Сие вполне осуществимо: кого встревожит мирная фелюка на горизонте?
Может, галеры в Фурнийском проливе нарочно отдали мне на съедение? С Абубекира станется: пожертвовать двумя сотнями воинов для военачальника такого масштаба — пустяк! Проглотил граф Читтанов наживку, да и попался на крючок, как глупый кровожадный аккул…
Нет, вздор! Не стоит изображать противников глупцами, но и приписывать им всеведение нет оснований. Всяческие случайности в море и на войне происходят регулярно, таков уж закон бытия, — а нападение на остров, ставший главным перевалочным пунктом греческих клефтов, даже не случайность: турки просто обязаны были оное учинить. Кое-какие приготовления на случай осады мною сделаны. Провиант завезен с изрядным запасом, хотя и для гарнизона, меньшего числом. Боевых припасов тоже довольно. Вот фортификацию запланированную не успел сделать: недостало людей и времени. К бою годны лишь батареи, прикрывающие бухту Порто Веккио и соседние с ней. Но есть на острову еще места, доступные для лодок, — вот там, что называется, конь не валялся. Если, как резонно предположить, купеческие суда в турецкой флотилии под завязку набиты янычарами, то надо немедля принимать меры для отражения высадки оных. И, конечно, игры в солдатскую вольность с освобожденными пленниками отныне прекращаются. В строй, всех в строй! Нет худа без добра: в отношении вербовки Абубекир-паша, сам того не ведая, сыграл мне на руку.
— Дозвольте отбыть на корабль, Ваше Сиятельство? — Никита Истомин, преисполненный беспокойства за любимый флейт, только что не подпрыгивал от нетерпения. — Люди уже в шлюпках.
— Ссади. Оставь одних гребцов, напиши своему подшкиперу, чтоб…
— Мое место на корабле!
— Твое место там, где я прикажу.
— Виноват, Ваше…
— Молчи и слушай. Распорядись, чтобы все пушки свезли на берег. И всех людей. Оставь на страже двух или трех надежных матросов, судно подготовь к взрыву. Сейчас «Одиссей» бесполезен. Если пригодится — то разве в качестве брандера. Поэтому воевать будешь на суше…
— Я не умею на суше, Ваше Сиятельство!
— Сумеешь. Помогу в меру сил. Из носаковских солдат составь две роты. На одну тебя назначаю, на другую — подшкипера твоего, Анфимова. Помощником к нему — Егора Косорукова. Себе выбери в поручики, кого хочешь…
— А можно мне Косорукова?
— Нет. Ты и так справишься, а вот Анфимов — не знаю. Парень толковый, но командовать как будто стесняется. Беда наша в нехватке офицеров. У немцев на всю толпу один Нойман, а уж у русских… Иметь бы полный штат — бывалых, обстрелянных… Эх, и умыли бы мы турок кровью! А так почту за счастье, коли в правильном бою хотя бы треть силы от регулярного войска покажем. Посему, первое дело — воспрепятствовать высадке и до настоящей баталии на открытом месте не доводить. Вся надежда на инженерные хитрости, да засады. Пришли-ка мне, э-э-э…
— Кого, Ваше Сиятельство?
— Пришли мне Степаныча, боцмана, да пяток матросов покрепче. С оружием. Да нескольких солдат, из невольников, кои по-турецки хорошо разумеют. Ну, и всех инородцев, кроме пленных турок. С кирками и лопатами: неча им без дела сидеть. Равно как и солдатам. Задай всем жару, чтоб забегали, как ошпаренные! Пушки корабельные поставь на полевые лафеты: вон Илья идет, сейчас спросим, сколько оных в цейхгаузе.
Илья Васильев, заведовавший на Лампедузе береговыми батареями, помнил в своем хозяйстве каждую мелочь, а порученных людей держал с разумной и умеренной строгостью, как и настоящий офицер не всякий сумеет. В целом же артиллерийская часть была устроена у меня на старинный лад: примерно как полвека назад, когда в европейских армиях орудийная прислуга считалась скорее ремесленниками, чем солдатами. Хотел сначала, по старой памяти, нанять французов из Кале — да только в разгар европейской войны отыскать умелых канониров, сидящих без контракта, оказалось столь же невероятно, как найти на улице золотой самородок. А из своих ежели учить, так лучше мастеровых: они уже привычны к огню и железу. Как правило, кто может делать пушки, тот и палить без промаха способен. После щедрых, на грани расточительности, учебных стрельб настоящими ядрами появилась уверенность, что низменная юго-восточная часть острова надежно защищена. Противоположная оконечность его, лежащая за пределом досягаемости наших орудий, имеет берега высокие, скалистые и обрывистые. Десанту оная недоступна — исключая две маленькие бухты. О них-то и болела душа.
— Осмелюсь доложить, Ваше Сиятельство: пушки готовы, канониры на месте, печи для нагрева ядер разожжены. Прикажете калить?
Я прикинул дистанцию и силу ветра.
— Рановато еще. Примерно через час начинай, с Богом. На трехфунтовки с «Одиссея» полевые лафеты найдешь? И упряжь?
— Да, Ваше Сиятельство.
— Сделай немедля, после не до этого будет. Никита, стволы наложишь сам. Забирай всех мулов, кроме одного для моих разъездов.
— Не хватит тягла на всю батарею.
— На которые пушки не хватит, будешь на отвозах руками катать. К бою будь готов на завтра, к рассвету. Но прежде того всех — и двуногих, и четвероногих — под вьюк! Дальний пороховой магазин знаешь?
— Да, ваше…
— Там бочонков двести подпорченных. Порох слежался: заводские согрешили при очистке селитры. Надо не позже полуночи весь этот запас втащить на гору возле Кроличьей бухты. Тебе все понятно?
— Все.
— Исполняй.
— Слушаюсь!
— Теперь с тобой, Илья. Помощь требуется?
— Людей бы еще с полсотни…
— Бери. Хошь у Фридриха, хошь у Никиты, но только простых солдат. Унтеров и матросов с «Одиссея» не трогай. Огонь по плану, как мы обговаривали.
— Ваше… Александр Иваныч, а может, ближе к берегу подпустить, чтоб на якорь встали? И тут я их…
— Не дури. Ты с ними еще не воевал. Этот народ на драку крепкий. Потери хорошо терпят; могут сесть в шлюпки, да заместо бегства на тебя и навалиться. Так что открывай огонь на предельной дистанции, как планировали. Мне время надобно, чтобы им встречу подготовить.
Восседающий на тощем хребте длинноухой скотины сиятельный граф являл, должно быть, презабавное зрелище в глазах бывших галерных рабов, — иные даже не давали себе труда спрятать ухмылку, — однако меня сие не трогало. Лишь бы работали. А если вдруг кто-то усомнится, что приказы смешного русского паши обязательны к исполнению, то матросы с «Одиссея» мгновенно таковое заблуждение развеют благодетельною затрещиной, для упорствующих — не пожалеют и приклада. Ну нету на острове коней, носиться же чуть не сутки вдоль берега на своих ногах и потом еще сражаться… Возраст уже, знаете ли, не тот. Не двадцать лет и, к сожалению, даже не тридцать.
Солнце клонилось к закату, когда я, наконец, разметил, где копать или долбить каменистый грунт, распределил уроки работникам и приказал оных накормить перед тяжкой страдою. Сделать до рассвета надлежало многое. К счастью, ночь обещала быть ясной — и лунной. В это же самое время с востока донесся первый, приглушенный расстоянием, пушечный выстрел. Турки, явно не торопившиеся сегодня, вошли в пределы досягаемости моей артиллерии, и батарея на Тонком мысу первой приветствовала незваных гостей. Вот хлопчатным семечком вспух еще один клуб порохового дыма и только секунд через пятнадцать донесся ослабленный звук; ядро с такой дистанции даже в зрительную трубу не получалось увидеть.
— А ну, за работу! Коли лениться станете — снова на галерах у турок окажетесь! Там и отдохнете.
На ходу давясь солдатскою кашей и рассовывая за пазуху морские сухари, бывшие невольники разбежались грызть неподатливую почву; замешкавшимся назначенные из них же старшины добавляли резвости пинками. Обратно к магометанам, конечно, никому не хотелось, — но ежели человек привык работать из-под палки, то без понуждения усердствовать не будет. Тем более в жару. Расхожее мнение гласит, что южные народы ленивей северных — а вы попробуйте поработать в летний нестерпимый зной, и сразу поймете, что этому есть уважительные причины. Правда, с приближением вечера беспощадное солнце умерило свой пыл. Подул освежающий ветерок с норда, коий придержал вражескую флотилию, заставив ее лавировать. Кто бы ни возглавлял сию эскадру, он не был невеждой в морской тактике: не стал двигаться галсами в сфере действия береговых батарей, бьющих зажигательными ядрами, а вышел из досягаемости оных и приказал лечь в дрейф с подветренной стороны острова, на умеренном удалении от берега. Только на другой день, примерно к полудню, видавший виды двадцатичетырехпушечный фрегат первым из турецких кораблей бросил якорь в полуверсте от берега, на траверзе бухты Конильи, сиречь Кроличьей.
Сама эта бухта, именуемая по прикрывающему оную с востока скалистому островку, точно так же именуемому Кроличьим или просто Кроликом (Бог весть, почему — вовсе он не похож очертаниями на пушистого зверька, которые в здешних местах к тому же не водятся), доступна только для небольших лодок по причине мелководности. С окружающих скал хорошо видно, что даже в сотне шагов от берега глубина едва по пояс взрослому человеку. Вода удивительно прозрачна, дно — чистейший, почти белый песок. Здесь нету рек, несущих всякую дрянь, и до недавнего времени вовсе не было людей, с их неистребимой привычкой гадить под себя и обращать Божий мир в помойку. Грех на мне пред Создателем сей красоты — мало, что своих сюда привел, так за нами еще и турки притащились!
Так вот, сей заливчик имеет форму правильного полукруга или, скорее, подковы, чуть больше ста сажен в поперечнике, — причем боковые края скалисты и только в глубине бухты ровное песчаное дно плавно переходит в песчаный же берег. Далее склон хотя и крут, но все же позволяет при большом старании залезть вверх, на плато, человеку с грузом за плечами и мушкетом в руках. Саженях в двухстах к западу лежит еще одна бухточка, кою называют Птичьей — весьма похожая, но более узкая и неудобная; ну и еще дальше, верстах в полутора, к морю выходят два узких ущелья, прорезанных в минувшие века высохшими ныне ручьями. Человек, не обремененный поклажей и обладающий ловкостью мартышки, в принципе способен по ним пробраться — поэтому там посажены штуцерные стрелки на случай проникновения турецких лазутчиков.
Больше на остров высадиться негде, не подвергая десант и сами корабли действенному огню тяжелой артиллерии. Кроличья и Птичья тоже состояли в планах фортификации, да руки не дошли: просто не хватило людей и времени. Очевидно было, что любой мало-мальски опытный военачальник сразу обнаружит дырку в моей обороне и постарается оной воспользоваться.
Так оно и вышло. Дав холостой выстрел из пушки для привлечения внимания, капитан фрегата спустил шлюпку. На носу ее рослый турок размахивал белым платком. Все понятно: надо же перед высадкой промеры сделать.
— Трифон! — Я подозвал подшкипера Анфимова, пришедшего ко мне на подмогу с новоформированною ротой. — Поди-ка, встреть гостя. На гору сюда не пускай, держи у самой лодки. Нечего ему тут разнюхивать. Он, понятное дело, предложит сдаться. Отвечай, что сам ничего решить не можешь, и требуй грамоту для передачи начальству. Еще говори, что время на размышление нужно. Весь завтрашний день! Но это с запросом; ежели согласятся на сутки от нынешнего часа, то уже хорошо. Фузею оставь, офицеру не положено. Шпаги хватит. Возьми с собою еще двоих: солдата с фузеей и толмача. Да помню, что разумеешь по-турецки! Толмач все равно нужен: он добавит тебе времени, чтобы обдумать ответы. Сам не показывай, что ихнюю речь понимаешь. Ну-ка, вид бравый прими! Нос чуть пониже, так только прапорщики задирают, и то свежепроизведенные. Держись с важностью, но без излишка. Вот, теперь хорошо.
Конечно, полномочий серьезных у турка не было. Ни грамоты, ни письменных принадлежностей не было тоже. Чтобы не лез на гору, пришлось багинетом пригрозить — ясно, что приплывал разведать. Но, судя по тому, что капитуляции неверных он с легкостию согласился ждать до утра, к решительным действиям вражеская флотилия все еще не была готова. И это радовало, потому что за предыдущую ночь приготовить магометанам задуманную встречу не вышло. Слишком крепкий камень пошел под разрушенным и трещиноватым наружным слоем. Поставил долбить шурфы вторую перемену работников, уже из солдат, — и все равно не был уверен, что успею до заката.
Однако ж, успел. Остались только работы, которые можно выполнить и при луне. Удалось даже дать людям роздых, не утомляя их раньше времени, понеже известно, что османы не любят воевать в темноте. За все время, что знаком с этими противниками, помню лишь один случай их ночной атаки: в одиннадцатом году на Пруте, при свете фейерверка.
Наутро вся эскадра неприятельская собралась перед устьем бухты. Убедившись, что «неверные собаки» отнюдь не поджали хвост, а, наоборот, оскалили зубы в виде батареи трехфунтовок, торчащих меж камней берегового обрыва, крохотная фигурка на корабельных шканцах взмахнула рукою, и крепкий борт из анатолийского дуба окутался дымом. Пару секунд спустя, одновременно с громом залпа, ударили ядра: вразнобой, куда попало, — скорее на устрашение, чем на поражение. Я бы, на месте турок, приказал канонирам палить по очереди, чтобы иметь возможность пристреляться. Впрочем, это неважно при таком соотношении сил в артиллерии. Вот если б подтащить тяжелые пушки с батарей Порто Веккио… Но беда в том, что корабль в море гораздо подвижней, чем крупнокалиберное орудие на суше. Даже при неблагоприятном ветре. Пока толпы людей и скотов рвут жилы, волоча двухсотпудовую тяжесть по каменистым тропам Лампедузы, враг успеет отлавировать туда, где оборона ослаблена — и нанести нам удар в самое сердце. Нет уж, пусть лучше здесь высаживаются!
— Первая — пали!
Одна из моих пушек грохнула ответно. Ядро, чиркнув пару раз по волнам, стукнуло врага где-то под фок-мачтой. Нет, бесполезно! По крайней мере, на такой дистанции. Даже обшивку не пробило.
— Ничего, ребята! Сейчас лодки пойдут, у них борта потоньше! Заряжай!
Но лодки заставили себя ждать. Сначала корабль и три фрегата (четвертый держался мористее: видимо, следил за горизонтом) принялись долбить нашу позицию ядрами, дав не меньше дюжины залпов. Никакого действия, кроме нравственного, сие не имело, ибо попасть с уровня воды в траншею, сделанную на высоком берегу, можно лишь из мортиры или гаубицы, а мортирных лодок у неприятелей не было. Только одному неосторожно высунувшемуся солдату щеку посекло брызгами камня; да и его это скорее разозлило, чем напугало. И вообще, бесполезность вражеских усилий всех раззадорила.
— Эй, ахметки! Хватит припас переводить!
— Лезьте сюда, боитесь, что ли?!
— Идите, уж мы вас приголубим! Соскучились по ласке, хаммам-огланы?!
Впрочем, лучшие перлы солдатской словесности просто нельзя передать письменно: бумага сгорит со стыда. Пока турки продолжали бестолковую пальбу, а мои мужики подбадривали себя руганью, с выстроившихся второю линией войсковых транспортов спустили шлюпки. Венецианские стекла зрительной трубы услужливо приблизили далекого неприятеля… Нет, все-таки не янычары. Те поголовно бреют бороды, а среди этих есть бородачи. Какие-нибудь местные войска, из архипелагских крепостей или с греческого побережья.
— Канониры, к пушкам!
Вражеская канонада умолкла: десант уже был между кораблями и берегом, а пехота всегда очень нервно относится к желанию своих артиллеристов пострелять у нее над головой. На суше за такое могут и хари начистить, а уж в атаку под дружескими ядрами точно не пойдут. Долго ли ошибиться с наводкой?! Или там порох отсыреет…
— Первая — пали! Вторая… Третья…
Густо идут шлюпки. Нарочно не промахнешься. Конечно, действие такого калибра слабенькое: один-два убитых или раненых и дыра в обшивке размером в кулак, — даже при удачном попадании. Но вот дистанция сократилась…
— Картечью заряжай!
Торопятся мои пушкари. Правильно торопятся! Сейчас турки подгребут к берегу — достань их тогда! Никакое орудие не может стрелять с обрыва вниз, прямо перед собой.
— Трифон, фузилерам — огонь плутонгами! Распоряжайся! Канониры, ну-ка погуще, в последний раз!
Больно хлестнув неприятелей свинцовой метлой, трехфунтовки умолкают. В дело вступают фузилеры. Саженях в двадцати от берега вражеские лодки уткнулись в дно, и вся султанская рать попрыгала наружу. Спеша укрыться под берегом от обстрела, рвутся вперед, разбрызгивая хрустальной прозрачности воду. Наш огонь плотен, и много магометан падает, — но гораздо больше достигает спасительной полосы под обрывом, куда не залетают пули. Склон бугристый и выпуклый; их там ружейным огнем не достать. Но это предусмотрено.
— Гренадеры! Фитили поджигай! Бросай, по готовности! По пять гранат!
Чугунные шары прыгают по склону. Из слепой зоны доносятся их негромкие, сравнительно с пушечной пальбою, хлопки. Однако ж, сего довольно, чтобы выгнать укрывшихся обратно к воде. Дьявол, да сколько же их! И все по нам стреляют! Пули то вышибают облачка пыли из каменистой почвы, то свищут над головами; а вот солдат опрокинулся навзничь, шапка отлетела прочь, мертвое лицо пробито. Наповал. Если б не вырытая наспех траншея — ни за что бы не выстоять под таким огнем, а пока есть надежда. У моих на виду только голова и плечи, и то пока целятся; турки же стоят открыто, они уязвимее десятикратно. На что эти черти рассчитывают? Полчаса такой перестрелки, и численное преимущество их растает…
А, вот! Не все, оказывается, отступили, убоявшись гранатных разрывов. Кто похрабрей, полезли в гору! Из-за камней и бугров на склоне то там, то здесь выглядывают зверские рожи. Пока этих смельчаков мало, но они пролагают путь другим, отыскивая впадины, в коих можно схорониться. Все-таки полевая фортификация не то, что долговременная; не зря перед крепостными бастионами гласис выравнивают, чтоб даже мыши не спрятаться. Вопрос, смогут ли неприятели подобраться на близкое расстояние силою, достаточной для атаки, и в то же время оставить внизу такую массу стрелков, которая до самой рукопашной стычки не даст нам головы поднять… О, нет, уже не вопрос. К берегу спешит вторая волна шлюпок с десантом — видимо, грузились с кораблей, со скрытого от нас борта, пока авангард захватывал плацдарм у воды, — и, насколько я могу различить, это как раз и есть янычары. Надеяться остановить их с гарнизонными солдатами, только что освобожденными с турецких галер… Было б со мною вместо них две роты моего Тульского полка, или любого из гвардейских… Да хоть бы этих погонять с полгодика, тогда пожалуй. А сейчас — нет. Не требуй от людей больше, чем они могут дать, и ты никогда в них не разочаруешься.
Канониры стараются изо всех сил, но турки слишком быстро проскакивают опасный участок, чтобы понести заметный урон. Пушки надо спасать: еще пригодятся.
— Быстро, на запасную позицию! Вася, останься.
Где упряжкою тощих мулов, а где и руками на отвозах, трехфунтовки тащат ко второй параллели, отрытой шагах в пятистах за спиною. Чтобы ввести врага в заблуждение, из опустевших амбразур высовывают обманки: сверленые бревнышки, зачерненные сажей. Фузилеры, выждав удобную дистанцию, дают по моей команде несколько прицельных залпов и тоже уходят назад; гренадеры получают приказ полностью опустошить свои сумки. Видя, что остались последними, торопятся. Отдельные разрывы сливаются в частый треск, словно в роскошном фейерверке…
Василий Артамонов, лучший мой пиротехник, исполнявший, по надобности, должность и бомбардира, и минера, выжидательно смотрит.
— Растягивай. Пора.
Несколько тонких проволок занимают предусмотренное место вдоль траншеи: одна по брустверу, другая в глубине, третья прихотливо извивается… Они слегка ржавые, и на рыжеватом известковом камне совсем незаметны. Там, где вчера вечером был самый глубокий шурф, торчит из щебенки медная трубка; в ней тоже проволочки и бечевки.
— Гренадеры, отходить во вторую линию! Живей, живей!
Прогнав последних солдат (ну их к лешему, вдруг что-нибудь заденут) скручиваю проволоки между собой и аккуратно тяну за бечевку, взводя глубоко закопанный механизм. Есть щелчок. И второй так же. Зачем два? Для верности. Осечка в сем деле недопустима. Гляжу на Васю — парень до крови закусил губу и чуть не плачет. Однако молчит: понимает, что нельзя говорить под руку. А теперь уже можно.
— Ва-а-аше Сиятельство, ну зачем сами-то?! Я тут на что?!
— Ладно, не ворчи. Давай бегом, пока турки не сцапали.
Василий прав, конечно. Генералу не подобает без нужды рисковать собою. Ну что тут скажешь? Бывает. В народе говорят — бес попутал. Возраст, наверно, такой. Седина в бороду…
Кинув прощальный взгляд на уходящие в землю проволочки, внезапно соображаю, что не мешало б эту часть прикрыть — и по наитию набрасываю сверху свой камзол — богатый, с золотым шитьем — прикрутив оный за пуговицу к той самой проволочке. Вот теперь всё!
— Ты еще здесь?
Молчит, только смотрит, как на дурака. Где ж ему быть? Нешто он графа бросит под носом у турок?!
— За мной.
Ныряю в извилистый апрош. Давай Бог ноги! Стесняться некого. И вообще — сегодня я молодой! Хотите рецепт от старости? Он прост: опасность! Почаще ставьте на карту свою жизнь, а главное — займитесь таким делом, ради которого не жалко ею рискнуть!
Молодость — молодостью, а бегать я все же отвык. Запыхался, достигнув траншеи, изрядно. Хватая воздух, рявкнул на высунувшихся с ружьями солдат:
— Кончай глазеть! Укрыться! Все в норы!
Вовремя. Только успели залезть в ниши, сделанные по моему приказу якобы на случай мортирного обстрела, как земля вздрогнула и качнулась. Скользнул под каменный козырек, торопливо затыкая уши, — но могучий гром ударил словно по всему телу. Так, наверно, муху бьют полотенцем. Уподобляясь дальше несчастному насекомому, забился в глубину щели, и тут вокруг стали падать камни. Мелочь — дробно, картечью, а где-то рядом семипудовой бомбой бухнула тяжелая глыба. Господи, отведи от людей православных! Ладно, в бою: такова солдатская доля; но видеть смерть своих солдат от собственных оборонительных инвенций… Окончательно в Тебя верить перестану!
Каменный град утих, зато траншею окутала пыль. Густая, как пуховое одеяло. Наверно, целый обоз камня, измельченного в тонкий прах, пополам с пороховою гарью, повис в воздухе. И тишина, словно во сне. Словно и не в бою. Или это уши не слышат?
Нет, вроде уши в порядке. Звуки постепенно прорезались сквозь удушливую пелену: народ загомонил, закашлял, заматерился. Почти нечувствительный ветерок начал сносить редеющую тучу в сторону моря. Продышался через платок, набрал воздуха:
— Слушай меня! Сержантам проверить людей, все ли живы и целы! Немедля доложить!
К счастью, Всевышний не подвел: убитых не было. И серьезно ранен только один, коему отлетевший камень сломал плечо и пару ребер. При надлежащем лечении — оклемается. Контуженных поболее, дюжины две; но почти все — несильно. Зато у турок…
Накрывший нашу траншею камнепад был слабым отголоском ужасов, открывшихся взору с высоты берегового обрыва. Хрусталь и бирюза бухты превратились в мутное месиво цвета кофе с молоком; на мелководье из этой жижи во множестве торчали камни. Еще больше валялось мертвых тел и кусков оных, часто смятых до бесформенности и покрытых вездесущею пылью, будто сто лет в чулане пролежали. Не вдруг угадаешь, что вот это еще минуту назад было людьми: весьма бодрыми и жаждущими нашей смерти.
Когда завеса, рассеявшись, открыла даль, стало видно: кое-кто уцелел. Несколько лодок, то ли не дошедших до полосы сплошной погибели, то ли спасшихся по капризу Фортуны, довольно споро уплывали к застывшим в оцепенении кораблям. На флангах, где удар оказался послабей, некоторые из тел еще шевелились.
— Трифон! Пошли-ка людей глянуть. Может, найдутся годные для допроса.
— Остальных добить?
— Как хочешь. А первое дело тебе сейчас — расчистить траншею первой линии. В середке, где кратер образовался, там новую сделать. Не думаю, чтобы турки вновь полезли… Чтоб здесь и сегодня полезли. Однако, если оставим пробел в фортификации, можем их вызвать на такой шаг. Да, промежду этих забот, не забудь солдат накормить. Обед через два часа, по распорядку.
Впрочем, сразу восстановить траншеи и апроши не вышло. Турецкие корабли, едва приняв на борт немногих спасшихся, открыли по берегу огонь из всех орудий и не унимались дотемна. Совершенно бесполезное дело — стрельба ядрами по укрытой пехоте; тут мортиры и бомбы нужны. Наверно, обстрел следовало восприять как выражение чувств моего оппонента — кстати, опять оставшегося неизвестным. Приведенные ко мне «языки» выглядели относительно целыми, однако при взрыве все оглохли (или умело притворялись, что оглохли). Грамоты же из них никто не разумел, даже турецкой или арабской, посему возможности объясниться не нашлось вовсе никакой. Лишь через несколько дней, будучи посажены к ранее взятым турецким пленным, они то ли пришли в себя, то ли сочинили какой-то язык жестов, — в общем, мне доложили, что на той стороне начальствует карлиельский мутеселим Гассан-паша. Был с ним еще янычарский ага Мехмед из Месолонгиона, однако сей последний, всего скорее, разделил участь своего войска. Строго говоря, Гассан не имел никакого права титуловаться пашою, ибо мутеселим — это вице-губернатор провинции, занятый по преимуществу сбором податей. Чин не генеральский, и даже вовсе не военный. Только отсутствие в провинции губернатора, сиречь санджакбея, и недостаток присмотра вышестоящих персон могли позволить вконец обнаглевшему статскому казначею присвоить обязанности воинского начальника и совершать походы по своему усмотрению. Разве взглянуть на дело в рассуждении убытков, причиняемых казне султана греческими клефтами… Тогда, конечно, фискальному ведомству прямой резон вооруженной рукою уничтожить пиратское гнездо, коим они считали мой остров. И корабли, посланные для борьбы с разбоем и контрабандой, для сего использовать. Но подчинять оные гражданскому чиновнику? Этакого безобразия не слыхано даже у турок. Всего скорее, мутеселим прельстил капитанов богатой добычей, не ставя в известность капудан-пашу Абубекира. А Мехмед-агу, мир его праху, наверняка подкупил. Вся экспедиция — исключительно местная затея, предпринятая без ведома Константинополя. Даже обидно: дальше так дело пойдет — со мною начнут воевать коллежские асессоры и губернские секретари. Ну, то есть, их турецкие эквиваленты.
Самозваный паша, однако ж, оказался упорным. Оно и понятно, в его положении. Оттоманская Порта дает много воли провинциальным властям, дозволяя оным грабеж и бесчинства против обывателей, — зато карает за упущения без жалости. Победа или смерть — смерть мучительная и позорная, под рукой палача, — вот выбор, который встал перед Гассаном после жестокой конфузии в бухте Конильи. Турки держали тесную блокаду, вели не слишком точные, но раздражающие обстрелы, пытались разведать слабые места в обороне. Их вспомогательные суда так и сновали между окрестностями Лампедузы и матерым берегом, обеспечивая флотилию припасами и подкреплениями, К нам же за все время сумели прокрасться лишь две небольшие фелюки. Шел день за днем, неделя за неделей. В моем гарнизоне появилась цинга. Что толку от знания, как бороться с недугом, если все царство Флоры на острове представлено сухими колючками?! Даже неприхотливым мулам не по зубам: бедных животных пришлось пустить под нож. Мясо — в котел, свежую кровь — больным. Ревизуя скудные запасы провианта, я нетерпеливо ждал осени. Любой шторм, даже не очень сильный, вынудит врагов искать безопасную гавань; скорее всего, это будет Месолонгион или иной пункт в турецкой Греции. А что потом? Навряд ли султанские моряки позволят себя принудить к продолжению сей бесплодной авантюры.
Нестерпимо долго тянулся сентябрь. Любое облачко на горизонте вселяло надежду, но легкомысленные ветры ее каждый раз развеивали. Лишь через день или два после Воздвижения свежий, порывистый норд-вест нагнал тяжелые тучи. Хлынул животворный дождь, жадно выпитый пересохшею почвой. Неприятельская флотилия исчезла за дождевой пеленою, чтобы вновь опоганить горизонт своим присутствием сразу по прояснении небес. Когда ж их, наконец, черт унесет?! Положение у меня было прескверное. Треть народу слегла, еще столько же еле волочили ноги. Несколько самых слабых уже умерли. Провиант подходил к концу, боевых припасов тоже осталось меньше, чем хотелось бы. Пройдет неделя, много две — приходи и бери нас голыми руками. Турки, измученные, вероятно, не меньше, упрямо держались за островом, с подветренной его стороны. Решатся ли на новую атаку, при любом исходе последнюю в этом году?
Все их поведение говорило за то, что решатся. Представьте, какой камень свалился с моей души, когда вдруг все неприятельские корабли, после малопонятных маневров и сигналов, поставили паруса и, не давши себе труда принять правильный строй, взяли курс к востоку. Однако не успели они скрыться из виду, как прибежал посыльный с наблюдательного поста на северной стороне острова и доложил:
— Ваше сиятельство, с норда четыре линейных корабля и посыльное судно! Сюда идут! По виду европейские, но флагов пока не видать.
Спаси Христос нежданных визитеров за то, что спугнули Гассана, — да только среди государств, способных отрядить в море эти силы, друзей у меня нет. Единственный европейский монарх, ко мне благосклонный, Карл Неаполитанский, военного флота не имеет. Его родители, королевская чета Испании… С их стороны можно рассчитывать на вполне добросовестный нейтралитет; хорошо бы, если б эскадра оказалась испанской. Британцы… Были с ними кой-какие тайные договоренности, но вряд ли о сем уместно вспоминать. Оказанная услуга ничего не стоит. А вот нарушение турецкого каботажа мне точно припомнят: лондонские купцы восприняли действия клефтов как угрозу всей (в том числе и европейской) коммерции в восточной части Медитерранского моря. Скорее всего, тоже нейтралитет — но враждебный. Венецианцы, бывшие мои сограждане… Недовольны тем же, чем и англичане, но чувства их гораздо сильнее, потому как все торговые интересы республики в этой самой восточной части и заключены. Однако дожу Карло Руццини восемьдесят один год, и его долгая жизнь целиком прошла на дипломатической службе. Он не ходит прямыми путями: сам не совершает резких движений и другим не дает. Вражда, но тайная, под маской беспристрастия, — лучшее, чего я могу ждать от венецианцев. Франция, моя вторая родина… Вот это враг явный, не скрывающий своих устремлений. Состоящий в прямом союзе с турками. Вряд ли пришли французы: тогда б Гассану незачем было бежать.
Пока мои люди занимали места по боевому регламенту, чужие корабли в ровной кильватерной колонне обогнули остров с востока, повернули круто к ветру и завершили маневр точно против устья Порто Веккио. Грохнула на флагмане пушка, исполняя ритуал морского приветствия. Пополз вверх по фалу лилейно-белый флаг.
Все-таки французы.
Прощание с золотым леопардом
Французская эскадра с уверенной и самодовольной наглостью, присущей сильным, легла в дрейф прямо в сфере действия моих береговых батарей. Знали, что я стрелять, без спросу о намерениях, не стану. Не стану, конечно — хотя ядра накалить приказал. Один из кораблей сразу показался знакомым: действительно, это оказался пятидесятивосьмипушечный «Диамант», краденые чертежи которого вдохновили баженинских мастеров на мои торговые фрегаты, «Анну» и «Екатерину». Остальные три, более крупные, с ходу узнал «в лицо» Никита Истомин. «Дюк Д'Орлеан», «Феникс» и «Эсперанс», все однотипные, по семьдесят четыре пушки. Вице-адмиральский флаг на фор-стеньге «Феникса». Хотя нет, пардон! Этот чин у французов именуется иначе, а именно «генерал-лейтенант морских сил». И кто бы это мог быть? Неужели…
Вот шлюпка скользнула вниз по борту флагмана, заплясала на крутых волнах. Крохотные фигурки, с обезьяньей ловкостью в нее перебравшись, слаженными ударами весел направили суденышко к берегу. Непросто грести при таком беспокойном море. Прекрасная выучка матросов, высокий класс! А это что, обман зрения? Или там в самом деле на румпеле Жак Кассар, собственной персоной?!
— Митька! — Денщик пулей метнулся на зов. — Вон туда, прямо на берег, стол и пару скамей для матросов. А для нас, благородных, стол и стулья здесь поставь. Вино, закуску…
— Вина полведра осталось, не больше.
— Ну, и нечего ему киснуть! Давай всё. Последний мул еще не протух?
— Не успел, вчера забили. Жестковат только.
— В уксусе размочи, да отбей хорошенько. Сделай жаркое. Да матросам каши, из общего котла, от пуза. Кстати, им тоже вина подай: чтоб и подумать не смели, будто у нас какие нехватки.
Любезный друг Жак вышел на берег, улыбаясь. Обычно не люблю фамилиарности, но в этот раз мы с ним обнялись.
— Mon cher ami, неужто король произвел Вас в адмиралы?
— Увы, дорогой граф. Но он сделал нечто, еще лучшее: приказал разобраться и вернуть мои деньги!
— Что, всю сумму?!
— Э-э-э… Может, и не всю. Но я надеюсь на изрядную часть. Будет создана комиссия специально по моему делу…
— Тогда не спешите радоваться. Вам ли не знать парижских крючкотворов?
— Нет, сейчас им не отвертеться. Мне дали твердые заверения в поддержке те, чьему слову можно доверять.
— Вы имеете в виду главу сей эскадры? Это, как я понимаю…
— Дюге-Труэн.
— Но каким образом?! Он же был в Бресте, готовил новую экспедицию против России?
— Когда почтеннейший тесть Его Величества короля Франции высочайше изволил бежать из Данцига, переодевшись в крестьянское платье, экспедиция потеряла смысл. Ваш Миних там задал жару бедному Ламотту де ла Перузу! Примите мои поздравления: у русских есть прекрасные генералы!
— Да, неплохие.
— Так вот, граф. Когда кардиналу Флери стало ясно, что участь Польши решена, и там ничего не сделать, особенно флотом, Дюге-Труэн в Бресте стал не нужен. Кардинал счел его наиболее подходящей персоной, чтобы отправить сюда, к нам. Видите ли, мы со стариною Рене знакомы без малого сорок лет, со времен Аугсбургской лиги, и никогда не имели повода для ссоры. А Вы, граф, застали ту войну?
— Только последнюю кампанию. Я участвовал в самой бесславной из ее баталий: бомбардировке Брюсселя.
— Вам не о чем сокрушаться, ведь не Вы командовали французской армией. Сожжение города — на совести Буффлера и Виллеруа. Но я отвлекся. Итак, Флери возымел надежду, что его посланец сможет уговорить меня оставить турок в покое и вернуться к мирной жизни…
— Насколько могу судить, надежда оправдалась?
— Мой дорогой компаньон, мы вместе в этом деле. Хотя наш контракт и предоставляет мне возможность выхода из сей коммерции в любое время, полагаю недостойным воспользоваться дарованным правом в столь трудный для Вас момент. Надо решить этот вопрос совместно.
— Если мы оба представляем одну сторону, то ничего решить не можем. Или Вам делегированы Дюге-Труэном какие-то права для такого решения? А может, самим министром? Вы мой компаньон, или их?!
— Ваш, конечно. Всего лишь хочу передать предложения кардинала, изложенные мне Дюге-Труэном. Они вполне разумны: Флери искренне стремится к миру.
— Дорогой друг, когда я слышу от кого-либо уверения, что он за мир, первое и самое искреннее мое побуждение — плюнуть в лживую, лицемерную рожу сего миротворца. Потому что все за мир. Любой антропофаг предпочел бы, чтоб жертвы не сопротивлялись, не воевали с ним, а мирно залезали в печь для жаркого, натершись перед этим чесноком и посыпавши себя перцем и солью. Мирно и добровольно посыпавши. Посему второе, более зрелое желание в ответ на призыв к миру — спросить: «а на каких условиях?»
— А разве наши обстоятельства позволяют обсуждать условия? Мы с Рене друзья, но если договориться не удастся — он исполнит свой долг, предусмотренный присягой Его Величеству. Будет в меня стрелять, и вспомнит о нашей дружбе не раньше, чем я прикажу спустить флаг.
— Митька, Илью Васильева позови.
Илья долго ждать не заставил, понеже находился поблизости, на батарее.
— Слушаю, Ваше Сиятельство.
— Ядра нагреты? Покажи одно командору.
Собственноручно ухватив клещи для заряжания, мой начальник артиллерии притащил светящееся алым ядро.
— Благодарю, отнеси назад.
Кассар едва сдерживал улыбку. Похоже, острота ситуации его забавляла. Я от души улыбнулся в ответ:
— При наличном отношении сил, вполне допускаю, что Ваш старый приятель одолеет нового. Но можете быть благонадежны: это обойдется ему недешево. Хотя бы один корабль я точно сожгу, да и другие получат повреждения. Впрочем, если предложения Дюге-Труэна не содержат ничего предосудительного для чести, полагаю вполне возможным их рассмотреть. Только не надо играть в эти глупые игры, изображая, будто держитесь моей стороны. Какое там «совместное решение»? Вы свое решение уже приняли, с властями французскими примирились, и теперь пришли как посредник от них. Сие ничуть не умаляет моего к Вам уважения, а дружеские чувства надеюсь сохранить, даже если, как старина Рене, начну в Вас стрелять. Верите мне?
— Да, любезный граф: верю и Вашей дружбе, и готовности стрелять. Но согласитесь, что последнее будет не лучшим способом действий для всех нас.
— Для всех вас? Да, безусловно. Даже для кардинала, учитывая, как сильно общество настроено против турецкого союза. Уверен, что Флери настоятельно советовал генерал-лейтенанту по возможности избегать совместных действий с оттоманским флотом. Кстати: Дюге-Труэн сносился с Гассаном?
— Мне ничего об этом неизвестно.
— Значит, сносился. Иначе не объяснить действия мутеселима. Позволю себе предположить, что старина Рене обещал турку разорение Лампедузы, но с условием, что тот не будет путаться под ногами. Совместная с магометанами акция была бы воспринята парижскою толпой, хм… Ну очень недружелюбно. Как если бы кардинал склонился к дьяволопоклонству. Так что Вам велели передать?
— Остров придется оставить. Поддержку греческих клефтов — прекратить. Отозвать все каперские патенты, выданные именем князя. Немецких наемников уволить, вернув в те места, где они наняты. Пленных турок отпустить, всех и без выкупа. Галеры тоже вернуть.
— Больше ничего? Что ж… По первому пункту — без возражений. По второму… Да, в общем, тоже. Мы с Вами подожгли Архипелаг, дальше пламя распространится и без наших усилий. По третьему в принципе согласен, однако лучше это сделать в менее демонстративной форме. Поздней осенью и зимой греки в море не ходят. Нынешний сезон уже заканчивается, а все патенты выданы до конца года. Можно их просто не возобновлять.
— Я передам Ваше пожелание.
— Merci. А вот дальше начинаются проблемы. Понятно, что Флери хочет затруднить немцам возвращение домой, чтобы в случае возобновления военных действий они не оказались в Ломбардии или на Рейне; но я-то обещал по окончании контракта доставить их в Империю!
— Ну, граф, при Вашей изобретательности это сущий пустяк. Что помешает сегодня высадить наемников в Неаполе, а завтра посадить на торговое судно, зафрахтованное до Триеста?
— Что помешает?! Не что, а кто: неаполитанский король! Кстати, верный союзник Вашего уважаемого монарха. Зачем ему неприятельские солдаты, да еще прямо в столице?! Тем более, мы оба прекрасно знаем, что немцы, едва ступив на сушу, потребуют вина и девок, и, после такого долгого поста, бесчинств не миновать. Этот пункт должен быть изменен. Ну, и последнее. Турок я держу исключительно для обмена. Вы помните, мы упустили две галеры в Фурнийском проливе, и с ними сотни две русских, которые мне нужны.
— Конечно, помню. Это же я их упустил. А магометан у Вас сколько?
— Было полсотни, сейчас уже меньше.
— Всех не выменять, при такой пропорции. К тому же, Вы понимаете, Гассану тоже надо бросить какую-то кость.
— Чтобы не посадили на кол, ему нужен хоть маленький успех? Черт с ним, готов пойти навстречу. Турок отпущу бесплатно — а своих выкуплю. Но если капудан-паша будет злонамеренно завышать цену, сделка не состоится! Готов дать ровно столько, сколько он сам заплатил за этих рабов татарам.
— Ну, дорогой граф, это не больше половины настоящей цены.
— Зато галеры даром отдам. Пусть Дюге-Труэн еще раз на турок надавит. Скажет, что ночи уже холодные, и единоверцы их могут умереть от простуды.
— Все одновременно? — Жак рассмеялся. — Да, так бывает. И галеры могут сгореть, столь же внезапно. Votre Excellence, не думаю, что будет легко, но в вопросе о пленных обещаю сделать все возможное. Мне действительно очень жаль, что Фурнийский бой оказался не полностью удачным. Надо искупить этот грех.
— Буду Вам безмерно благодарен в случае успеха. Еще одно: я готов дать слово чести, что эти русские, получив свободу, не обратят оружие против подданных Его Султанского Величества. По крайней мере, год. То есть, всю следующую кампанию.
— А против кого обратят?
— Французам тоже не о чем беспокоиться. Было б совсем хорошо, если бы турки потребовали с меня письменное обязательство не отправлять освобожденных рабов на родину в течение этого самого года. Иначе императрица Анна снова пошлет их воевать.
— А если Порта выставит больший срок: два или три года?
— Излишне. Слишком многие убегут, чтобы пробраться в отечество самостоятельно. А год… Год согласятся потерпеть. Потерпят, привыкнут, да, глядишь, и приживутся. Лучше даже так: выкупить, кто заранее согласится пойти в мою службу. Которым галерная банка больше нравится, могут невозбранно на ней оставаться вплоть до заключения мира.
— Я понял Вас, Excellence. Позвольте откланяться: надеюсь сегодня же привезти ответ генерал-лейтенанта.
Разумеется одним днем не обошлось: шлюпка Кассара сновала между флагманом Дюге-Труэна и берегом с регулярностью пакетбота, а мои артиллеристы спали, прикорнув у орудий; но, в конце концов, получилось уладить дело к общему согласию. Вот за что я люблю французов, так это за легкость нрава и талант политично разрешать конфликты. Даже горечь капитуляции они умеют так сгладить, что оппонент, дискутируя об условиях за дружеской беседой под хорошую выпивку, совсем не чувствует себя ущемленным. Военное превосходство их эскадры было подавляющим. Кроме того, перекупив моего компаньона, французское министерство полностью подорвало архипелагский прожект. Зная все убежища клефтов, Кассар мог легко их уничтожить или выдать туркам. Однако не погубил и не выдал — а большая часть предложенных мною компромиссов была принята.
Сразу по подписании трактата «Одиссей», сопровождаемый «Диамантом», перевез на Мальту всех цинготных больных, а обратным ходом доставил несметное количество свежих фруктов: в начале октября их там отдают почти бесплатно. Мерзкий недуг исчез, и впредь не появлялся. Затяжные и крайне утомительные переговоры о выкупе пленных, для которых из Константинополя приплыл на французском корабле секретарь капудан-паши Ахмет-эфенди, тоже завершились успешно. Ахмет был венецианским ренегатом, и раньше звался Марко; а уж с венецианцем я всегда договорюсь. Это порода людей, любой из которых за деньги отца родного продаст, не то что пару сотен лично ему не нужных чужаков. К тому же, зимою галеры ставились на прикол, и терсане, сиречь адмиралтейство османское, тяготилось необходимостью кормить гребцов-дармоедов. Учитывая крайнюю нужду сего ведомства в средствах, выкуп удалось ограничить разумною суммой.
При посредстве армянских купцов и под гарантию французского посла де Вильнева, мои мешки с серебром перекочевали в казну капудан-паши, а русские пленники, претерпев по пути жестокую бурю и чуть не погибнув, прибыли в Бари. Сразу по получении нами известия об этом, окончилось историческое бытие княжества Лампедуза. Лазурное знамя с золотым леопардом сползло по флагштоку и упокоилось в сундуке до лучших времен, а немногочисленный гарнизон, оставив воинский строй, принялся усердно ломать все, что недавно строил. Уцелевшие от баталий запасы пороха употребили для сноса береговых укреплений. В самую последнюю очередь взорвали колодец.
«Одиссей» и «Менелай» приняли людей на борт, оставляя покинутый остров в его первобытной дикости и пустоте. Французская эскадра, средь бурь и штормов геройски следившая мою верность договору, отсалютовала холостыми выстрелами и, ни минуты не медля, взяла курс на Тулон. Махнула шляпой со шканцев флагмана сутулая фигурка.
То был последний раз, когда я видел Кассара. Милость Людовика не пошла ему впрок. Втянутый в бесплодные дрязги о возмещении расходов двадцатилетней давности, он спорил, горячился, дошел до оскорблений персон, приближенных к трону, был взят под стражу и кончил свои дни в тюрьме. Дюге-Труэн, большой, шумный и веселый мужчина, умер от сердечного приступа еще раньше. Увы, такова наша жизнь: нужно всегда быть готовым держать отчет перед той силой, коя вложила в недолговечное человеческое тело пытливый и беспокойный дух.
Настроение было похоронное. Даже капитан «Менелая» Лука Капрани, при всей своей загрубелости, почувствовал и попытался меня подбодрить.
— Ваше Сиятельство, не переживайте. Все правильно сделано. Попытайся мы сохранить Лампедузу, с первым весенним теплом увидели бы там турецкие силы, вдесятеро большие, чем у Гассана. Между великих держав — только успевай уворачиваться! Как мышь в конюшне. Чуть зазеваешься, сразу придавят копытом.
— Знаю. Все равно жалко. Слушай, вот если архипелагских греков вербовать на корабль — они себя как показывают? У тебя, вроде бы, есть несколько?
— Дело морское понимают, а вот с дисциплиной — беда… Обламывать приходится.
— Если их пополам перемешать с солдатами? Ну, теми, что с галер? Срастутся они в команду?
— За год или два мы переварим кого угодно, вплоть до диких негров. Но только при надлежащей пропорции. Не меньше трети старых матросов, а новики — чем разнородней, тем лучше. Главное, чтоб шайкам одноземельцев не давать сплачиваться, а их вожаки чтоб не смели противопоставлять себя корабельным чинам. Не только капитану, даже боцману. За первую такую попытку — линьки, за вторую — веревка. А что, у Вашего Сиятельства в планах новые суда?
— Я тебе разве не говорил? Хотя, мы же долго не виделись, пока ты был флаг-капитаном у Кассара. Не только в планах, но уже достраиваются. К будущей весне можем удвоить морские силы.
— Прекрасно! С такой флотилией — даже без Лампедузы всех каботажников турецких платить заставим, а ежели капудан-паша на нас двинется, в Архипелаге меня сам дьявол не поймает.
— Нет, Лука. Были бы против нас одни турки… С нашими французскими друзьями, кроме писаного соглашения, есть еще одно, негласное. Я согласился полностью прекратить поддержку клефтов при условии, что никакие сведения о них не будут переданы османам. Если не прекращу — сам понимаешь. Есть ли там хоть одно убежище, которого не знает Кассар?
— Он человек чести и не предаст тех, кто ему был верен.
— К любому из нас можно подобрать ключик, в этом и состоит искусство управления. К нему подобрали.
— Что ж нам, в простых торговцев обратиться? Люди не поймут: доходы не те.
— Думаю, надо искать новые источники денег и постепенно уходить отсюда. Из Медитеррании, и вообще из европейских вод. Здесь нам не рады…
— Это везде так будет.
— Ты не дослушал. Здесь те, кто нам не рад, стократ превосходят богатством и силой. Возьмутся за нас всерьез — не выстоять.
— До сих пор как-то уцелели.
— Потому что были, как мышь, если вернуться к твоему сравнению. А стоило перерасти этот размер, как тут же привлекли к себе внимание. Вот, французы первые пробудились: они самые чуткие. Послали эскадру из Тулона. Щелкнули нас по носу: пока легонько. Можно сделать вид, что не поняли предупреждения, но… Последствия, всего скорее, будут фатальны. Надо искать покровительства серьезной державы, либо уходить туда, где не дотянутся. Хотя… При желании, везде дотянутся. Нам позарез нужен сильный покровитель.
— Простите за неуместный, может быть, вопрос… А король Карл, как Ваше Сиятельство считает, недостаточно силен?
— Лука, понимаю твои чувства, как неаполитанца — но не может быть сильным королевство, в котором две трети имущества принадлежит церкви, и потому свободно от налогов. Армию и флот содержать не на что. Если бы Карлу родители не помогали…
— Он хороший король, народ его любит.
— Хороший, спору нет. Однако защитить нас от французов или турок — или, не дай Бог, англичан — средств не имеет. Была у меня надежда, что отец Карла, а вернее, мать, ибо на деле правит Испанией королева, выкажет интерес к восточной торговле. Испанцам она запрещена Вестфальскими трактатами. В Китай галеоны ходят вокруг света, чрез Пацифическое море, а это неудобно. В самый раз было бы использовать Неаполь как клиентское государство-посредник…
— И что же?
— Ничего. Совсем ничего, говорящего хоть о малейшем внимании к сей коммерции. Хотя я писал, делал пропозиции через де Лириа и других персон… Испанцы сыты. Они откусили в Новом Свете больше, чем могут прожевать. Как следствие, их не соблазнить даже самым аппетитным кушаньем. Особенно сейчас, когда разгорелась война с Португалией на бразильских границах. Другие же государства нас под патронаж не возьмут. Почему — ты знаешь.
— А императрица Анна по-прежнему на Ваше Сиятельство гневается?
— Увы. Она женщина, чувства довлеют.
— Кхм… Я, конечно, не имел чести знаться с коронованными особами, но простые бабы, даже севши верхом на черта, рано или поздно с него слезают.
— Есть люди рядом с троном, которые умело поддерживают раздражение государыни против меня. Боятся, что я их подвину.
— Так может, этих людей…
Лука сделал жест, будто сворачивает шею цыпленку.
— Не поможет. Их место моментально займут другие, еще худшие. И вообще, надо сначала разобраться в новейших конъюнктурах. За последние полгода отстал от жизни.
За полгода действительно переменилось многое. Еще в июне месяце, когда я штилевал и страдал от жары у берегов Самоса, Тахмасп-Кулы-хан с небольшим сравнительно войском совершенно разгромил восьмидесятитысячную (иные говорили, что стадвадцатитысячную) османскую армию. Поражение турок было полным: их командующий Абдулла-паша Кёпрюлю погиб в сражении, простых воинов тоже немало перебили, а еще больше разогнали. Только восемь тысяч из них удалось собрать. Гянджа, долго и безуспешно осаждаемая персами, после известия о конфузии сразу сдалась; ее примеру последовали Тифлис и Эривань. Успехом Кулы-хан был обязан умелому применению легких пушек, именуемых на Востоке «замбурак». Оные крепятся на верблюжьем седле посредством шарнира. Когда надо стрелять, верблюда заставляют лечь, и пушкарь-замбуракчи палит прямо со спины флегматичного животного. Пятьсот таких фальконетов решили судьбу турецкой армии. Сия битва заставила призадуматься о способах употребления полковой артиллерии: не будет ли разумным, вместо рассеяния по всему фрунту, собрать оную в сильные батареи, быстро маневрирующие на поле боя?
В продолжение несчастий дома Османа, пришел в движение Украинский корпус Вейсбаха. Отогнав, посредством драгун и казаков, прорвавшегося русским в тыл калгу Фетих-Гирея, и отбив захваченную крымцами Носаковскую фортецию, старый генерал вернулся к исполнению заранее обдуманного и обеспеченного всем необходимым военного плана. Он осадил Очаков. Несмотря на многие улучшения, сделанные французскими инженерами, старая крепость не сдержала мощных усилий и в надлежащий срок пала. Генерал-поручик Леонтьев, коему Вейсбах поручил защиту коммуникаций по Днепру, не только исполнил свою задачу, но и взял Перекоп. Возвращенный их астраханской опалы Змаевич воспользовался отвлечением неприятельских сил на другие пункты и занял Керчь: благо, что ни Керченская, ни Еникальская крепость так и не подверглись исправлению со времен нашего с ним, десятилетней давности, похода. Ждали только Миниха с главными силами, чтоб с двух сторон обрушиться на Крым. Однако Польша, это как смоляное чучелко из сказки про медведя: взявшись за нее, легко не отклеишься. Тем более, цесарцы, теснимые французами на Рейне, потребовали сикурса (на что имели право согласно союзному трактату). Ласси во главе вспомогательного корпуса из лучших русских полков совершил блестящий по исполнению марш и занял позицию у Гейдельберга.
Министр Флери оказался в сложном положении. С одной стороны, он обещал Блистательной Порте не мириться с Веной, пока Россия будет в войне с турками, тем самым избавляя магометан от опасности совместного удара двух империй; именно это обязательство и подвигло султана к вмешательству в польские дела. С другой стороны, страшно было: а ну как не один корпус, а вся русская армия встанет на Рейне рядом с цесарцами?! Тогда навряд ли удастся защитить не только вновь завоеванное, но и старые французские провинции. В итоге приняли половинчатое решение, заключив прелиминарный трактат о прекращении военных действий к северу от Альп. На прочих же театрах мир остался благим пожеланием.
Профранцузские силы в окружении султана Махмуда были посрамлены. Возмущение новым предательством неверных привело к многочисленным опалам и казням тех, кого считали виновными в проведении дружественной Парижу политики. Великий визирь Гюрджю Измаил-паша, обрезанный грузин, был заменен султанским зятем Сеид-Мехмедом — преданным своему тестю и господину, но совершенно ничтожным как правитель. Ужас объял уютный дворец Топкапы: на востоке наступают персы, впервые с Кира Великого поймавшие такой кураж; на севере, того и гляди, покажутся русские полки; а еще дальше вот-вот повернется лицом к старому врагу грозная по прежним войнам Священная Римская империя. Правда, Евгений Савойский стар и тяжко болен — а вдруг, попущением Аллаха, возьмет и выздоровеет?! Кулы-хан каждый день хвастался, что скоро встретится с союзниками на Босфоре.
Хвастался он не по глупости или самодовольству: такие люди словечка не скажут спроста. Вы пока подумайте, зачем он это делал, а я тем временем расскажу еще об одном начавшемся тогда противостоянии — не столь кровавом, но не менее значительном.
Вот уже больше ста лет в умах британских железоделов витала идея перейти при выплавке металла с недостаточного в сей стране древесного угля на имеющийся в изобилии каменный. Попытки делались, но в лучшем случае получалась такая дрянь, что плюнуть, да выкинуть; а в худшем — печь задыхалась, и чугун в ней застывал, вводя опрометчивого заводчика в страшные убытки. Дальше всего продвинулись по этой части в городке Колбрукдейл. Там применяли смешанное топливо, в коем пять долей из восьми составлял кокс, одну — торф, остальное — обыкновенный уголь. Из состава шихты не делали особой тайны: главный секрет здешних мастеров заключался не в топливе, а в способе приготовления литейных форм для чугуна. Лет пятнадцать назад я не щадил издержек, чтоб все сие выведать, и тогда еще завел при Колбрукдельском заводе шпионов. Как оказалось, один из них жив и поныне, все так же любит деньги и готов поведать прелюбопытнейшую новость.
Оказывается, Абрахам Дарби-младший, сын и наследник основателя дела, совсем еще молодой человек, сумел-таки подобрать состав шихты и режим дутья, позволяющий вести доменную печь на одном только коксе! Подробные сведения об этом всем, равно как образцы руды, кокса и местного известняка, добавляемого в качестве флюса, были обещаны. Я приказал Франческо Марконато, ведавшему в моей компании секретными делами, щедро вознаградить ретивого англичанина и договориться с ним о дальнейших стараниях. А сам задумался.
Не более половины потребного Англии железа производится там же, на острове. Все остальное ввозится, главным образом из Швеции и России. На три миллиона в год, считая русскими деньгами. Если колбрукдельский чугун окажется годен для передела — смертный приговор сей коммерции вынесен. Если нет… Всего лишь отсрочен. Найдут способ, рано или поздно. Акинфий Демидов ничего пока не подозревает, однако первый аккорд похоронного марша по его уральским заводам уже прозвучал. Нет, внутрироссийские поставки за ним останутся; только экспорт уйдет. Самое выгодное, самое вкусное в этом деле. Стоит ли мне сюда влезать? Не знаю пока, посчитать надо. В Уилбуртауне доменных печей не обретается, хотя углем южный Уэльс изобилует, железные руды тоже есть… Вложения, конечно, нужны серьезные. Положим, часть привозного металла удастся вытеснить — только что будет с ценами?! И как окоротить желающих пойти по моим следам? Чертова Британия! В ней слишком много шустрых и предприимчивых людишек; монополию удержать не удастся. Какая жалость, что пришлось бежать из России! Там на этом чугуне, поставивши завод где-нибудь в верховьях Кальмиуса, можно бы сказочные деньги заработать! Это ядра, бомбы, дешевые пушки, — и литейня раз в тридцать ближе к армейским магазинам, нежели у Демидовых! Да и по окончании баталий… Умение выплавлять металл в безлесной местности может принести наибольшие выгоды именно там, на юге империи. Ядра и бомбы в военное время, посуда и печное литье — в мирное. То и другое — для турок и подвластных им народов. Чугунные котелки и сковородки, заместо медных, могут разойтись на Востоке… Миллионами — самое меньшее! А скорее, десятками миллионов.
Почему я так уверен, что новый способ вскорости вытеснит традиционный? Все очень просто. Завод железоделательный, чем крупнее, тем он выгодней. Расход топлива на пуд железа выходит меньше, а выработка на каждого мастерового — больше. Тогда, спросите вы, какого черта Демидовы рассыпали печи по всему Уралу, будто горох из мешка? Так уголь же! Практика показывает, что для сохранения прибыльности плечо перевозок древесного угля не должно превышать одного дня пути. Это гужом; судоходные реки и каналы меняют дело, но составляют большую редкость в богатых железом провинциях. Не зря сей промысел зовется горным. Отсюда легко рассчитать: если мы желаем вести дело на протяжении веков, годовое потребление топлива придется ограничить сотой частью того, что находится в дневной доступности (ибо дерево растет до годности в дело почти сто лет). Можно иначе поступить. Увеличить размеры завода, сократив срок его жизни, — а потом, сведя весь лес в окрестностях, бросить строения и плотины и перебраться на новое место.
Работая же на коксе из каменного угля, вполне реально подобрать для доменных печей такое расположение, где подобных ограничений не будет. Совсем никаких ограничений, кроме спроса, — гони металл хоть миллионами пудов! А если еще море недалеко, и есть возможность вывоза… Да можно полмира чугуном завалить! Не слишком ли рано я капитулировал, прекратив борьбу за возвращение в Россию?!
В Уэльсе, желательно поближе к Уилбуртауну, надо поставить небольшую печь, для пробы и обучения работников. Или готовую прикупить. А в настоящем, большом, масштабе — разворачиваться в Азовской губернии. Знаю там место, где есть и руда, и уголь — саженными пластами, и неглубоко. Предубеждение императрицы против меня в принципе возможно преодолеть — при условии, что в мою пользу будет действовать ее любовник. В народе есть поговорка про ночную кукушку, коя всегда дневных перекукует. Ну, а мне потребен петух, который всех перекукарекает. Бирон заведомо негоден, с ним никак не поладить — стало быть… Оч-чень выразительный жест недавно у Луки получился!
Дело сие надлежит вести неторопливо и вдумчиво, чтобы ни малейшая тень подозрения на меня не пала; а начать следует с восстановления старых связей в Санкт-Петербурге. Готовясь к бегству, я их оборвал, чтобы не ставить под удар невинных людей, — теперь же, по успокоении, можно и назад отыграть. Никто не будет следить слишком пристально за всеми английскими либо итальянскими негоциантами. Андрей Иваныч Ушаков и его тайные канцеляристы усердствуют в разборе пустопорожней кабацкой болтовни, подводя всяческую пьяную дурь под артикул об оскорблении величества. Тем временем, иноземные шпионы вольны творить в резиденции и при дворе абсолютно все, что угодно. Таким положением грех не воспользоваться.
Продвинуть своего человека в фавориты императрицы возможности нет: во-первых, слишком много будет желающих; во-вторых, прихоти сорокалетней женщины непредсказуемы — особенно после потери прежнего друга. По-первости может, с расстройства, всех отшить. Потом, конечно, кого-нибудь приблизит. Моим людям нужно заранее установить хорошие отношения с максимально широким кругом претендентов. При поголовной продажности высшего слоя, это будет нетрудно и не так уж дорого. А те, кто будет заниматься Бироном… Надобна совершенно отдельная команда, и два отряда моих агентов должны как можно меньше знать друг о друге. Желательно — вообще ничего. Еще неплохо бы, чтобы нанятые асассины сами имели превратное мнение, кто и зачем их подрядил. А, кстати, кто бы мог? Турки, с коими Россия в войне? Не их манера. Разве каких магометанских сектантов на сию роль подыскать. Французы? Только не правительство. Иезуиты, вообще-то, могут. Бирон — лютеранин, а Россия бесцеремонно вела себя в Польше, где иезуитское влияние велико… Оставить иезуитский след — вполне убедительно получится. Еще убедительней — дать зацепку на внутренние склоки. Большая часть российской знати ненавидит фаворита искренне и горячо; когда бы не страх от Ушакова, да не привычная покорность царской власти, — не зажился б курляндец на этом свете! Так что ложную версию (даже не одну) можно приготовить заранее и Тайной канцелярии подсунуть. Как человеку чести, мне подобные игры претят — однако, имея дело с заведомо бесчестными противниками, приходится опускаться на их уровень. Или так, или сдаться без борьбы.
Вот какие мысли вызвала к жизни скромная весточка о новых способах работы Колбрукдельского завода в графстве Шропшир. Логика может показаться странной — но, по-моему, она тривиальна. Когда впереди маячат Большие Деньги, а кто-то стоит на пути… Лучше бы ему убраться подобру-поздорову!
Чуть не забыл… Хотел же рассказать про Тахмасп-Кулы-хана — зачем он раздувал щеки и пучил глаза, напуская на себя грозный вид. Это при том, что воин он и в самом деле великий, и вроде бы не нуждается в таких уловках. Дело в том, что хитрый персиянин уже тогда возмечтал сделаться шахом, и для поднятия реноме ему позарез требовалось увенчать блестящие победы над турками столь же великолепным миром. Вот, чтобы подвигнуть османов к переговорам, он и выставлял себя самым опасным их противником. В чем и преуспел. Султан Махмуд без долгих споров вернул персам все, что было завоевано в предшествующие двенадцать лет ценой огромных издержек и жертв. Зато Оттоманская Порта обрела возможность повернуть свои немалые силы на север, против Российской империи.
Новые потери
Холодный валлийский дождь размеренно стучал по жестяной крыше. Ньюкоменов паровой насос вздыхал за стеною, как плененный великан. Свечи едва теплились, словно задыхаясь от нехватки воздуха, бессильные разогнать наползающий из темных углов полночный мрак. Лица моих соратников казались от этого еще угрюмей.
— Ну, что? Рассказывайте, как вы всё потеряли.
Михаил Евстафьев вздрогнул, как от пощечины, но возразить не посмел. Всё или не всё — какая разница?! Главное, потеряли. Контроль над уилбуртаунским заводом уплыл к английским партнерам, собравшим в своих руках более половины паев, а он и другие мои люди ничего не смогли противопоставить враждебной интриге.
— Старик… Господин управляющий никому не сказывал, что страдает от грудной жабы, — мы и не ждали беды. Тем не менее, с племянником, должным ему, за неимением детей, наследовать, имелись все необходимые договоренности. Однако, тот, по несчастью, умер еще раньше дядюшки, о чем мы до последнего момента не знали. Вновь объявившиеся сукцессоры уступили принадлежавшие покойному мистеру Уилбуру четыре процента акций Заандамской кредитной компании, коей фактически принадлежит завод, не нам, как изначально планировалось, а Кроули и Пранкару. Кто из них замыслил сию комбинацию…
— В компании Кроули сейчас, как в британской монархии — леди Феодосия царствует, но не правит. Решения по текущим делам принимают ее братья, в первую очередь Джозеф Гаскойн. Продолжай, Миша.
— Слушаюсь. Так вот, я полагаю, что главная роль все-таки принадлежит семейству Гаскойн, потому как Греффин Пранкар, усердно лезущий на первый план, всего лишь средней руки железоторговец, и маловероятно, чтобы он смог настолько увеличить свою долю на собственные средства. Тем более, паев, принадлежавших Уилбуру, все равно бы не хватило нашим противникам до половины. Вот тут мы бесконечно виноваты, Ваше Сиятельство. Проглядели измену…
— Твое дело — изложить факты. Кто и насколько виноват, как-нибудь сам разберусь.
— Простите, Ваше Сиятельство. Когда минувшей весною Гришка Новокщенов спросил позволения прикупить еще акций к своему паю, мы поступили по утвержденному Вами правилу — уведомили Ваше Сиятельство, и только по получении апробации дозволили.
А вот это уже дерзость — делать виноватым меня! Хотя… Отчасти, может, он и прав: слишком я увлекся медитерранскими авантюрами, поручив здешние активы приказчикам. Недостаточно закаленным для этого. Взять хоть его самого: с молодых лет парень в Англии; по одежде, манерам и разговору от природного британца не отличить; в спокойное время коммерческие дела вел безупречно. Но вот к моментальному превращению респектабельных компаньонов в хищную стаю, рвущую добычу на куски, оказался не готов.
— Продолжай, я слушаю.
— По недосмотру, разрешение на скупку было дано без точного указания количества акций.
— Ну, а то, что он тратит суммы, в десятки раз превышающие личные средства, никто не заметил? Франческо, ты-то куда смотрел?!
— Простите, Eccelenza: я как раз был в Колбрукдейле. К тому же, здесь кредит легко доступен, а этот cazzo — далеко не первый, кто начал искать прибытки для себя помимо компании. В предыдущих случаях Вы изволили взирать на подобное снисходительно.
— Случай случаю рознь. Вот это как раз — не помимо.
— Виноват, Eccelenza. Отслужу. Принести его голову?
— Не торопись. Дальше, Михаил.
— После внезапной смерти мистера Уилбура…
— Погоди. В естественном характере смерти можно быть уверенным?
— Не знаю. Во всяком случае, доктор Макбрайд ничего не заподозрил. Теперь, через три месяца после похорон, мы тем более ничего не узнаем.
— Ладно, оставим в покое старину Джошуа. Помогли ему наши оппоненты, или же просто дождались случая — теперь уже не столь важно. Итак, после его смерти…
— Перед собранием шарехолдеров условились выбрать по два советника от нас и от англичан, а в управляющие — меня. И вдруг они выставили соперником Пранкара…
— Кто именно?
— Не помню. Какой-то мелкий пайщик. От Вашего Сиятельства и ото всех наших прокурация на баллотировку дана была мне. Тут Гришка вышел и объявил, что отзывает поручение на свою долю. Аспид ползучий!
— А до этого никаких притязаний не заявлял?
— Открыто — нет. Я вообще-то знал, что он завистлив, но больше опасался, как бы не оклеветал меня перед Вашим Сиятельством. Или не воспользовался какой оплошностью. А он, иуда, вон что задумал… Пошли на голоса — англичане все за Пранкара, и этот тоже… Сосчитали — их верх! Что делать?! Вынесли б хитрозадых на кулаках, да они, верно, заранее все рассчитали. Против обычного, явились на баллотировку всею толпой. А нас двое, вот, с Иваном…
Молчавший доселе Иван Онучин все так же молча кивнул. Сегодня обер-мастер был еще сдержанней обычного. Несостоявшийся управляющий продолжал:
— Мы пошли, остановили колеса. Собрали народ перед конторой: работники-то в большинстве русские. Вот тогда сей гад яд свой змеиный и изблевал! Про Вас неподобающее молвил…
— Ну-ка, перескажи.
— Не смею, Ва…
— Я тебя уговаривать должен?!
— Слушаюсь. Говорил, будто Ваше Сиятельство работникам недоплачивать изволит, а новый управляющий им сразу денег прибавит. Что, дескать, господин граф на военных поставках да на скупке награбленного у греческих разбойников миллионы гребет, а про них, сирот убогих, забыл. Что, мол, российский интерес у Вас только для виду и на словах обретается, чтобы сподручнее с них три шкуры драть…
— Хватит. Понятно. А вы-то двое, что же — молчали?!
— Как можно? Всемерно сию ложь опровергали. Да только…
— Что?
— Подлинно наших, кто с самого начала при Вашем Сиятельстве, сейчас на заводе и пятой части не наберется. А новоприходцы на льстивые речи поддались. Не все, но довольное число для явного раскола. Старообрядец еще один тут вылез… Толковал, что Русь Господом Сатане в вотчину отдана, и надобно про нее забыть… И прочие неподобные речи…
— Так. Значит, мастеровые тоже разделились? Не люб им старый хозяин? Ладно. Кому не люб, навязываться не стану. Кстати, оплату управляющий прибавил, как обещано было?
— Прибавил. Бог весть, надолго ли: скорее всего, по миновании беспокойств ниже прежнего урежет; но пока держит.
— Урежет, несомненно. Только глупцы могли на такие обещания купиться. Пусть хлебнут лиха, авось что-нибудь поймут. А «подлинно наших», как ты их соизволил именовать, в беде не брошу.
— Да вроде пока беды особой нет. Пранкар все же человек разумный, а те, кто за ним стоит, вовсе не хотят все разрушить. Им охота прибыльное дело под себя забрать, а не руины. Тем же вечером, когда страсти маленько улеглись, Пранкар и Эткинс, приказчик Кроули, сами пришли к нам для разговора. Предложили, чтобы все шло по-старому вплоть до приезда Вашего Сиятельства, когда можно будет принимать важные решения. Мы сразу Вам отписали, и вот…
— И вот я здесь? Да уж, пришлось поторопиться. Бросить дела на юге… Действительно все по-старому пока?
— Ну, почти. Разве что, на другой день одному из крикунов, кои против нас шумели, раскаленная болванка упала на ногу, — ей-Богу, мы с Иваном никого не подговаривали. К тому же, по разбору дела, виноватых вовсе не нашлось. И еще Гришка, главный иуда, сбежал. Верно, опасаясь, чтоб уже на голову чего не свалилось.
— Куда сбежал? — Я повернулся к Франческо.
— Недалеко, Ваше Сиятельство. Мои люди быстро его нашли. Он в Ньюпорте, в гостинице.
— В какой именно?
— Там одна. Зачем больше в городишке с полутора тысячами жителей? Вот если бы он в Бристоле прятался, то пришлось бы побегать. А сейчас можно упокоить его в любой момент, только прикажите.
— Не спеши, еще раз тебе говорю. Думаешь, он по глупости прячется там, где затеряться невозможно?
— Я почти незнаком с ним, Eccelenza: не знаю, насколько он умен.
— Весьма и весьма. Полагаю, не дурнее нас с тобой. Была у меня мысль его приблизить, для деликатных коммерческих дел… Разумеется, сам Гришка не знал об этих планах. Даже хорошо, что он предал сейчас — потом вреда было бы гораздо больше. Видать, недооцененным себя считал. Те, кто за ним следит, итальянцы или местные?
Франческо едва заметно поморщился: мало, что хозяин оскорбляет подозрениями в скудоумии, так еще заставляет раскрывать свои тайны в присутствии других вассалов. Тем не менее, верность пересилила.
— Местные. Парни с юга были бы слишком заметны.
— И все же я думаю, он их уже распознал. Или не он…
— А кто?
— Помнишь, ты после путешествия на Восток рассказывал, как индийские вельможи охотятся на тигра с козленком? Привязывают скотину на полянке, а сами с заряженными ружьями садятся в засаду. Тебе сей изменник, скрывающийся там, где каждый человек на виду, не напоминает жертвенного козла?
— Так что же делать? Неужели Вы его простите?!
— Нет, конечно. Но действовать прямолинейно и предсказуемо было бы наихудшим выбором. Наши партнеры, английские совладельцы Уилбуртауна, поставили своего управляющего. Значит ли это, что им больше нечего желать?
Я уставился на Евстафьева с Онучиным. Приказчики переглянулись; теперь заговорил молчавший прежде Иван:
— Их интерес — отнять нашу часть. Без малого половина паев остается в руках Вашего Сиятельства и прочих, кто стоял у начала сего дела. Покамест британцы не могут ни регламент компании изменить, ни дополнительный выпуск бумаг учинить, чтобы лишить нас влияния. Как они будут дальше атаковать — ума не приложу. Это меня и беспокоит.
— Правильно, что беспокоит. Но почему бы им просто не выкупить наши доли? Я бы продал. По разумной цене, конечно.
— Они-то захотят получить по неразумной! Лучше всего — даром.
— Верно мыслишь. А как им это сделать?
— Вы знаете, как?! Не томите, Ваше Сиятельство!
— Ну, самая верная метода — то, что французы именуют «chantage». В нашем случае наивыгоднейший способ действий для них заключается в том, чтобы вызвать противника на действия, наказуемые по закону, и потом угрожать разоблачением. Если самого графа запятнать не удастся, то хорошо бы подловить его людей — тех, коими он дорожит. Гришкина смерть еще одним для них хороша…
— Чем же?
— Следующие ему тридцать серебреников, полагаю, только обещаны, но не даны. Если же даны, то не в полном объеме. Поскольку он не дурак и высоко мнит о себе, то и награду, наверно, запросил весьма солидную. Немалая выгода — избавиться от обязанности оную выплачивать. Его наверняка обнадежили защитой, однако исполнять сие навряд ли собираются. Более того… Франческо!
— Да, Eccelenza?
— Прикажи-ка своим людям присматривать за нашим иудой, чтобы никто другой его не прибил. Сочетание выгод получается такое, что компаньоны вполне могут поторопить события. Вызвать подозрения против нас, якобы желающих мести. А потом нанять лжесвидетелей, чтоб меч Фемиды рубанул, кого им нужно. Что, Миша, смотришь с недоверием?
— Неужто леди Феодосия способна на такую низость?!
— Леди Феодосия? Конечно, нет! Но вот ее служители… Низость — для низших! Знаешь, как это бывает? Королева скажет: «Хочу владеть этим городом. У меня на него бесспорные права; кроме того, я буду умеренной и милосердной правительницей». И прикажет генералу оный завоевать. Генерал скажет: «Завоюю этот город и проложу себе путь к славе. Но для успеха надо, чтобы штурм поддержали изнутри». И вызовет начальника шпионов. И так далее. Цепочка длинная; у начала ее можно не задумываться, что там на другом конце. Королеве неинтересны скучные подробности: кто кого предал, кому выстрелили в спину, сколько горожанок изнасиловали при штурме, скольким младенцам размозжили головы или выпустили кишки… Она даже разгневается, если вдруг о чем-то подобном услышит. Поэтому ей и не доложат. Она никогда не свяжет свое желание владеть городом и милосердно им править с мерзостями и жестокостями войны. Таков общий принцип благородного сословия: когда поставленные цели требуют неблагородных методов, вся грязь перекладывается на нижестоящих.
— А Вы, Ваше Сиятельство? Разве перелагаете на служителей подобные вещи? Или я чего-то не знаю?
— Дерзишь, братец. Я стараюсь действовать честно и без чрезмерных зверств. Как на войне, так и в коммерции. Не всегда удается… Что ж, такова жизнь. Нельзя быть слишком рыцарственным, если противник использует подлые приемы.
— Простите, ради Бога. Совсем не имел в виду Вас задеть. Просто для себя… Хочется провести нравственную черту, которую заступать непозволительно.
— Да ты у меня философ! Делай, что приказываю — не ошибешься. Для начала, составь реестр, кто из работников в день переворота стоял на нашей стороне, кто на вражеской, кто колебался или вовсе не участвовал. Потом… Думаю, в самые ближайшие дни Эткинс и Пранкар закинут удочку насчет выкупа моей доли. По дешевке, разумеется.
— И что Вы ответите?
— Не спеши. Нельзя заранее знать, какие карты на руках у партнера. Могу только сказать, что дело не будет легким и быстрым. В наихудшем случае — вытрясу с них отступного, сколько получится, заберу всех верных людей и переведу в другое место. Работа найдется. Но, скорее всего…
— Что, Ваше Сиятельство?
— У нас достаточно возможностей для контратаки. Долговой груз на компании большой. Пока что процентные выплаты покрываются с легкостью, но может возникнуть ситуация, когда прибыль резко упадет… Или же такую ситуацию можно создать. Уронив акции, вызвать разочарование английских вкладчиков и рознь между ними; расколоть их единый строй, учинить панику и скупить утраченную долю через подставных лиц… Не прямо сейчас, нет. Сейчас они настороже. Нужно затянуть конфликт и дождаться подходящей политической конъюнктуры. Девять десятых корабельного железа идет отсюда на французские и голландские верфи. При втягивании Британии в нынешнюю войну, вероятность чего достаточно велика, сбыт упадет катастрофически.
— Но тогда… А сумеем ли мы справиться с этим упадком, вернув себе компанию?
— Вот почему следует все хорошенько обдумать, а потом уже действовать: расчетливо и осторожно. Как ты сам заметил, чтобы вместо прибыльного дела не получить руины. И еще. Совсем не случайно отъем завода произошел именно сейчас. Год… Нет, уже почти полтора тому назад… Помните, что в Петербурге стряслось?
— Торговый трактат между Британией и Россией разумеете?
— Слава Богу, не совсем тупые. Именно его! Подписали оный посол Георг Форбс и канцлер Остерман, да не по канцлерову разумению. Три года он вел переговоры, сначала с Клавдием Рондо, а потом — с Форбсом, однако дело к концу не шло. Почему, спросите? Из-за безмерной наглости англичан, желавших получить право транзитной торговли сквозь Россию с Персией. Нет, Остерман соглашался — но при условии, что русские купцы взамен получат право торговли с британскими колониями в Новом Свете…
— Да под такую привилегию негоцианты бы тысячами со всей Европы в русское подданство набежали…
— Конечно. Ну, и еще там были разногласия по поводу ввозных пошлин — только это уже о том, английское или прусское сукно пойдет на мундиры русской армии, раз уж своего не хватает. Так вот, бодались они безо всякого продвижения, пока сэр Георг не нашел подхода к самой императрице — а через кого сие делается?
— Бирон?
— Разумеется. Через Бирона; его не объедешь. И посыпались указания канцлеру, в чем уступить британцам… Вышло, что во всем. Даже путь в Персию им открыли, что вообще неслыханно. А Форбса императрица, когда уезжал, звала в свою службу. В генерал-адмиралы русского флота. Он, правда, отказался. Пятнадцатью годами раньше у него был неудачный опыт, когда отец нынешнего короля послал его к союзнику, императору Карлу Шестому, строить корабли на Адриатическом море. Сам-то цесарь хотел… Но цесарский двор нежеланного пришельца разжевал и выплюнул. Уехал с позором, ровно ничего не сделав. Видно, с тех пор служить на чужбине и зарекся.
— Сколько он отвалил курляндцу, интересно?
— Думаю, немало, но сие неважно: тут взяткой вряд ли что сделаешь. Анна скупа и за свою корысть держится крепко. Нужны изощренные аргументы, чтобы государыню убедить. Бирон таких не выдумает — не по его это части. Вообще, если бы императрица желала употребить таланты своего любимца с пользой для державы, ей следовало б учредить коннозаводское ведомство и поставить фаворита главою. Кони — это да; коней он знает и любит. А в денежных делах мало что понимает, и шагу в них не ступит без совета со своим личным банкиром, евреем Липманом. Применительно к коммерции, эта пара являет собою сказочного кентавра, в коем от Бирона — туша, ноги с копытами, да уд срамной; а голова с мозгами — липмановская. Умная голова, что есть — то есть…
Помощники внимательно слушали, не вполне понимая, зачем им все это рассказывают, но терпеливо дожидаясь, пока запутанная тропинка повествования приведет к чему-то, имеющему прямое до них касательство. Я собственноручно налил полный стакан ключевой воды из прозрачного caraffino (на вино и пиво в заводе мною же был установлен строжайший запрет), промочил горло и продолжал:
— Так вот, наша с вами судьба вполне могла послужить одной из разменных монеток в торге вокруг сего трактата. По надежным известиям, императрица спрашивала о выдаче из Англии меня, братьев Веселовских — ну, и вас всех, за компанию. Форбс отговорился, что главных фигур на острове нет; да если бы и были, по народным правам выдать никого невозможно. Дальше мы вступаем на зыбкие мостки умозрительных предположений. Смотрите. Еще больше, чем терять деньги, императрица не любит, когда ей в чем-либо отказывают. Не получив сатисфакции в сем пункте, могла ли государыня уступить сэру Георгу во всем остальном? Или он до безумия очаровал ее своими мужскими достоинствами? Но тогда, пардон, не было бы никакого трактата: наш кентавр соперника затоптал бы! Не означает ли это, что кто-то придумал иной способ наказания беглых холопов? Казнить — нельзя; схватить и выдать — нельзя; а что можно?
— Разорить?!
— Именно! Способ вполне банкирский. Конечно, в англо-русском трактате об этом ни слова; однако устное обещание отнять у графа Читтанова средства, на которые он содержит своих людей и привечает беглецов из России, наверняка было дано. Иначе непонятно, по какой причине мои давние добрые партнеры, семейство Кроули-Гаскойн, вдруг вот так вызверились.
— А обыкновенная алчность не может служить причиной?
— Сомнительно. Они хорошо знают меня — и знают, что коммерческая война со мною есть приключение опасное и, скорее всего, убыточное. Подозреваю, их кое-кто подтолкнул. Не забывайте, что компания Кроули, как поставщик Адмиралтейства, критически зависит от казенных заказов и, вследствие сего, уязвима к давлению с этой стороны. Ну, а Форбс… Не имея в морском ведомстве никакой официальной должности, он, тем не менее, пользуется там огромным влиянием. Только дурные отношения с первым министром Уолполом не позволяют ему претендовать на самые высшие посты. Кстати… Надо подумать, нельзя ли из этой вражды извлечь пользу. И да, братцы: все, что здесь говорится, предназначено только для вашего сведения и разглашению не подлежит.
Наверно, ежели строго блюсти секреты, не стоило открывать своим людям политическую подоплеку событий. Но, во-первых, мне нужны слушатели, — привычка такая, с детства, — лучше всего думается, когда рассуждаю вслух перед кем-то, ловящим каждое мое слово. Собеседник может быть и воображаемым, но живой лучше. Во-вторых, тот, кто желает иметь соратников и последователей, а не тупых исполнителей, должен рассказывать подчиненным больше, чем необходимо им для отправления службы. В-третьих, не стоит презирать мнения низших: даже такой умный и одновременно деспотичный человек, как Петр Великий, не гнушался советоваться с подданными. А уж мне, как говорится, сам Бог велел. Беседа в каморке при мастерской затянулась почти до рассвета. Наутро, злой и невыспавшийся, принял я нового управляющего и приказчика леди Феодосии. Оба отчаянно трусили, хотя старались сего не показать. Еще бы: прискакал русский варвар и медитерранский разбойник в одном лице, требовать назад свое имущество. Возьмет, да и отрежет им головы! Какую б выгоду ни получили от этого закулисные лондонские игроки, воскресить верных слуг они не смогут.
Варвар и разбойник, однако ж, сдержал кровожадность и в энергичных выражениях объяснил собеседникам: те, кто выступил против него, совершили роковую ошибку и большое свинство. Они впали в грех вероломства, за что их, несомненно, ждет кара — как на том свете, так и на здешнем. Единственное, что в некоторой мере смягчает вину — то, что они преступили лишь закон нравственный, но не уголовный, и в этом смысле вправе рассчитывать на взаимность.
Поняв, что прямо сейчас их убивать не собираются (а обещание будущих кар негодяев не страшило), эти два сукиных сына немедля вообразили себя победителями и вновь обнаглели. Как я и ожидал, они предложили выкуп моей доли, с большим дисконтом против биржевой амстердамской цены. Рассмеявшись и посоветовав, для начала, поднять сумму раза в четыре, пошел в завод: смотреть работы и беседовать с народом. Управители тащились хвостом, не смея препятствовать. Боялись, наверно, что граф мастеровых взбунтует… Кретины! Говорил-то я с работниками по-русски. Англичане же только глазами хлопали, напряженно вслушиваясь в непонятные звуки чужого языка.
Отношения высшего сословия с простолюдинами часто сравнивают с союзом всадника и лошади. Знаменитый кардинал Ришелье ставил соплеменников еще ниже, говоря: «народ — это мул…». Некоторый смысл в этом есть. Устремления знати и черни, как правило, не совпадают. Благородный сеньор желает въехать на белом коне в поверженный город. А конь? Его желания кого-то интересуют? Ну, попастись там на зеленой лужайке, кобылку резвую покрыть… С другой стороны, здравомыслящий хозяин потребности скакуна всенепременно учитывает — а то, чего доброго, ослабнет с голоду и подведет в самый важный момент. Или, напротив, брыкаться начнет, да и сбросит наездника. Бывало такое с неумелыми ездоками. Умелый же плетью и шпорами без нужды не пользуется, зато не прочь иной раз поговорить с четвероногим другом. Если б тот еще мог ответить… Представьте, как замечательно бы это было: «Серко, перепрыгнем этот ров?» — «Да запросто, хозяин!» Или же: «Не осилю, давай-ка лучше обойдем»…
К сожалению, в сих беседах вполне подтвердилось обстоятельство, мешающее перейти в немедленную контратаку против захватчиков. Преданных мне людей, готовых идти за своим господином куда угодно, невзирая на потерю в заработке, нашлось не столь уж много. Среди тех, кто несколько лет назад вместе со мною зачинал дело в Уилбуртауне, их была изрядная доля. Но они не могли увлечь за собою разношерстную толпу раскольников, дезертиров и беглых хлопов с Подляшья. Этим важнее верный кусок хлеба, а там — хоть трава не расти. Глупо вздыхать о неблагодарности, понеже сие есть коренное свойство человеческое. Сам виноват: увлекся медитерранскими приключениями, бросил завод без надлежащей опеки, — что же теперь удивляться, что имя графа Читтанова для большинства работников пустой звук?! Хочешь быть для вассалов отцом родным, так не давай им чувствовать себя сиротами! Ясно стало, что ответную пакость англичанам надлежит готовить аккуратно и вдумчиво, исподволь. Успокоив нового управляющего притворным миролюбием и готовностью ко всяческим компромиссам, я забрал с завода лишь малое число мастеров, нужных для новой чугунолитейной мастерской, имеющей быть основанной неподалеку; прочим же объяснил, что надобно применяться к обстоятельствам. Кстати, способ вершения дел голосами пайщиков оказался русским мужикам вполне понятен. Мирской сход действует похожим образом; неудовольствие порождало лишь то, что англичане баллотируют по деньгам, а не по душам. Ну, да и черт с ними. В прочность сих решений не верили: сегодня мир одно приговорит, завтра (ну, там через год или два) — совсем другое… Что у наших британских партнеров хватка на деньги — как у голодного бульдога на кусок мяса, и что этот кусок, коли понадобится, они готовы рвать хоть из живого тела заводских работников, пока еще отнюдь не очевидно было.
Раз не проходит атака «через низ», я возымел намерение разведать пути «через верх» и, по завершении неотложных дел, отправился в Лондон. К сожалению, моего старого приятеля, виконта Болингброка, на острове не было: в прошлом году, проиграв очередную политическую баталию несокрушимому министру Уолполу, он с расстройства уехал на континент и поселился в шато д'Аргевилль близ Фонтенбло. Да если бы и был, его связи могли вывести разве что на скучающих в сельских имениях ворчунов-тори, а не на ушлых вигских политиканов, заправляющих в столице. Потревожить Дезагюлье и прочих знакомцев по Королевскому обществу? Увы, все они записались в «вольные каменщики» — и настолько сплотились, что в сем кругу невозможно стало рассчитывать на благожелательное отношение и поддержку, не будучи членом их ложи. Упустив удобный для вступления момент, бежать за ушедшим караваном было заведомо поздно. Ввиду столь малоавантажных для меня обстоятельств, затраты времени и сил на поиски новых союзников оказались весьма велики, результаты же — более чем скромны. Полосу неудач, начатую потерей Лампедузы, никак не удавалось прервать. Тягостное впечатление. производимое бесплодными поисками политической опоры, усугубилось еще одним, по видимости незначительным, но весьма болезненным для меня эпизодом. Дело в том, что хаос и разлад проникли в тот круг моих подданных, который доселе мнился надежным, словно крепостная стена: смута завелась между молодыми воспитанниками, всем своим настоящим и будущим обязанными мне. Один из оксфордских стипендиатов был изгнан из храма науки за пьянство и дебош, другой же просто исчез неведомо куда. К вящему огорчению, это был не кто иной, как Харлампий Васильев, из всех студентов подававший наибольшие надежды. С какой стати он бросил учебу и пропал, где его искать и как наказывать, ежели вдруг найдется? Все сие оставалось покрыто мраком. Лишь по прошествии месяца или двух нанятые мною сыщики доложили, что юноша, весьма похожий на искомого, служит помощником стряпчего (атторнея, по-местному) на восточной окраине Лондона, в приходе Госпитальных полей.
Ни госпиталя, ни полей, однако ж, не обреталось в сей унылой трущобе, выстроенной полвека назад бежавшими из Франции гугенотами. Судя по окружающим лачугам, поначалу многие из пришельцев были совсем нищими. Впоследствии первопоселенцы здешние, благодаря своим ремесленным умениям и трудолюбию, перебрались в более веселые места, а слободу заселили ирландцы — народ, коий в глазах коренных лондонцев стоит почти вровень с африканскими неграми. Наемная карета, запряженная парой разномастных лошадок, жалобно скрипела, попадая колесами в полные грязи колдобины на немощеной улице, кучер-англичанин стоически терпел, и только чрезмерная скованность позы выдавала его тайное недовольство маршрутом: дескать, достопочтенному сэру виднее, но он бы лично не советовал благородному джентльмену раскатывать по таким неприглядным и опасным местам. Стайка чумазых детей-попрошаек бежала за убогим экипажем, расплескивая босыми ногами помойные лужи и наперебой требуя денег. Я бросил пенни старшему из них и сказал адрес; воодушевленные ребятишки всем скопом бросились указывать дорогу, в надежде на дальнейшую поживу. Вскорости они привели нас к небольшому домику с мансардой, выглядевшему чуть поприличнее соседних развалюх, и принялись с удвоенным азартом требовать вознаграждения. Кинув еще монетку — одну на всех, «на драку-собаку», как говорили их ровесники у меня в деревне, — велел слуге постучаться и сказать, что хозяину требуются услуги стряпчего.
Входная дверь на мгновение приоткрылась, в притворе мелькнул чей-то любопытный глаз и что-то белое, с кружевами. Пробежали, удаляясь, резвые ножки. Потом послышались торопливые мужские шаги: не каждый день здесь появляются клиенты, ездящие в карете, хотя бы и пароконной упряжкой. Створка распахнулась уже полностью, и мой воспитанник, выросший без меня во взрослого детину, замер соляным столбом.
— Ну, здравствуй. Что-то ты, братец, остатки вежества растерял. Или я чем тебя обидел?
— З-з-д… Здравствуйте, Ваше Сиятельство. Простите, Бога ради: растерялся. Пожалуйте в дом.
— Это что, твой дом? Собственный или наемный?
— Наемный.
— Ну, и какого беса ты здесь, а не там, где должен быть?!
— Я бесконечно виноват перед Вами. Но у меня была веская причина так поступить.
— Та причина, которая из-за портьеры подглядывает?
Юноша резко оборотился; однако за преградою из дешевой некрашеной холстины, отделявшей, всего скорее, кухню от жилой комнаты, уже никого не было. Он судорожно вздохнул, словно купальщик на Крещение перед шагом в ледяную воду:
— Да, господин граф. Студентам не дозволяют жениться, а мне понадобилось.
— Прямо до зарезу понадобилось?
— Ага.
— А мне отписать? Рука бы отвалилась?
— Я писал… Только не посмел отослать.
— Что, стыдно было?
— И это, и… долго бы вышло все равно. Мы ждать не могли. Милка от матери с отцом ко мне сбежала.
— Милка?
— Ее Эмилия зовут.
— А отец у нее кто?
— Абингдонский лесничий.
— Абингдон — это милях в трех к югу от Оксфорда? Там же леса нет.
— Лес вырубили, а должность осталась. Традиция! В тех местах благородные лорды на болотную дичь охотятся: значит, кто-то должен оную охранять.
— Лучше б свою дочь охранял. От таких, как ты, браконьеров. Может, все же, вернуть ее родителям?
— Мы повенчаны.
— Да… Любовь зла! — Я окинул критическим взором каморку с оклеенными какой-то дрянью кривыми стенами и покатым щелястым полом. — Ты не считаешь, что твоя избранница достойна лучшего? Образование открыло бы тебе путь наверх, а что теперь?
— После пяти лет в помощниках, дозволяется держать экзамен на стряпчего…
— Пять лет? А ты их выдержишь? Рай в шалаше имеет свойство быстро заканчиваться. Сейчас лето, а сквознячок здесь гуляет. После первой же зимы у вас обоих будет чахотка, в английском климате это верная смерть.
Харлампий упрямо, по-бычьи, нагнул голову. Видно было, что от тягостных мыслей он и без меня страдал, но отгонял их, не желая взирать отверстыми очами на грубую реальность. Сжав кулаки и глядя почти что с ненавистью, беглец возвысил голос:
— Лучше умереть вместе, чем жить поврозь!
— Дурак, прости Господи! Ты ее за этим из семьи украл?! Чтоб уморить голодом и нищетою? Уж не пеняю, что меня предал: и ладно бы из выгод, так ведь нет — чисто по глупости!
Английский закон не позволяет вернуть беглого слугу силою или наказать телесно, но уж словами отхлестать — это было мое законное право, и я им воспользовался от души. С каждою фразой парень вздрагивал, как под кнутом. Бог знает, сколько бы продолжалась экзекуция, но кухонная завеска распахнулась, и юное создание в домашнем платье и чепчике с кружевами впорхнуло на помощь возлюбленному, готовому то ли разрыдаться, то ли кинуться в драку.
— Харли, мой дорогой! Не слушай этого злого человека, прогони его!
Совсем еще молоденькая девочка, лет шестнадцати, с хорошо заметным животиком — месяц пятый, если не шестой, — не красавица, но довольно миловидная. Скорее кельтского типа, без этой лошадиной стати, принесенной на остров саксами. Я улыбнулся, приподнял шляпу и тоже перешел на английский:
— Граф Читтанов, к вашим услугам. Действительно очень зол сегодня, но тут уж вам с Харли придется потерпеть. Что молчишь, оболтус?! Представь мне свою жену.
— Ваше Сиятельство, это Эмили.
— Я так и подумал. Рад знакомству, леди.
Эмили сделала неловкий книксен, пробормотав что-то невнятное и глядя на гостя так, будто пред нею стоит матерый крокодил — и во всю пасть улыбается. Что, однако ж, не помешало ей предложить хищнику чаю. Нянча в ладонях щербатые глиняные кружки, мы с Харлампием мерялись терпением. После нравственной порки, ему надлежало смиренно просить о приеме обратно ко мне, на любое место, которое хозяину благоугодно будет предоставить провинившемуся холопу. Но в парне, как видно, гонор взыграл. Понимая, что действую неправильно, ибо разбалованные чрезмерной добротою слуги обязательно садятся своему господину на шею, рассказал о положении в Уилбуртауне, о начатой строением новой чугунолитейной мастерской, о нужде в грамотных людях, чтобы вести счета и улаживать юридические вопросы. Нет отклика. Делает вид, что не понимает намеков. Ладно, черт с тобою.
— Ну что, сыне блудный? Вернешься в число наемников моих, иль будешь дальше наслаждаться жизнью в этом свинарнике?
— Нет, господин граф. Не вернусь.
— Помнишь, что ты не один?
— Я справлюсь. Все, что нужно моей семье, добуду сам.
— Вольному — воля. И все же, почему?
— Вам честно или вежливо?
— Правду говори. Обижаться на тебя — много чести.
— Для Вас люди — что деревянные куклы в театре марионеток. Вы хорошо с ними обращаетесь, бережно, умело. Но я хочу по своему разумению двигаться, без этих ваших ниток!
— Дурачок. «Этих ниток» на мне, думаешь, нет? Да их на каждом из нас навязано — пучками! Сам же изучал право. Закон — что такое? А церковь? А родственные связи — это уже не нитки, а целые арканы! Иной раз даже удавки. Да, порой бывает не шибко приятно. Вот, Петр Великий, бывало, так за ниточки дергал — поневоле запляшешь! И все же вспоминают его добром, ибо твердая рука лучше, чем слабая или неловкая.
— Никакой над собою не хочу.
— Твой стряпчий, у которого ты в помощниках, наверно, ангел небесный. Были же ангелы-бунтовщики, почему не быть ангелу-пройдохе? Ну, да Бог с ним. Тебя в университет зачем послали? Наполнить знаниями вместилище твоего разума? А ты его чем наполнил? Всяким дерьмом! Так вот, милый мой, я не Геракл, и чистить сии авгиевы конюшни не подряжался. Наверно, этой дурью надо переболеть смолоду, как оспой, чтобы потом не опасаться, — а коли помрешь, то, значит, не повезло. Буде придешь в здравый рассудок, имей в виду: мой поверенный в Лондоне, Иеремия Литтон, получит предписания на твой счет. Его контора — на Брикстон-роуд, у голландской часовни. Прощай или до встречи, как выйдет.
Уже у двери, мне вдруг вспомнилось кое-что.
— Бумаги брата — где? Епифанов трактат о летающей машине?
На харькиной харе обозначилось пробуждение какой-то мысли. Потом появилось выражение решимости.
— Пятьсот фунтов.
Рассмеялся я совершенно искренне, без усилий.
— Прости, дружок, за невольную клевету: думал, ты у англичан и впрямь ничему не выучился. А оказалось, вон как! Только ведь коммерческая наглость сама по себе к успеху не приводит. Надо хотя бы считать уметь. Смотри. Основные мысли и принципы сей инвестигации тайны не составляют. Наибольшая их часть принадлежит великому Леонардо, немного — мне, немного — твоему брату. Ты сам хоть какую малость добавил? Нет, иначе б давно похвастался. Как на воздушном змее летать, так первый, а как головой работать — так шиш.
— Там результаты множества опытов и расчетов.
— Это восстановить проще всего: под моим руководством любой ученик повторит сии опыты, самое большее, за год. Ну, или дюжина учеников — за месяц. С оплатой по шиллингу в день, сколько им уйдет? Восемнадцать фунтов, так? Приборы и материалы для опытов — пусть еще столько же. Тридцать шесть. С прибавкою на помин души Епифана, сорок.
— Пятьдесят!
— С языка снял. Жалеючи твою Эмилию, что ей такой муж достался, так и быть, соглашусь на полусотню. Хватит хотя бы зиму пережить.
Минуты спустя, знакомый матросский сундучок, весь покрытый пылью и паутиной, занял место в багажном ящике кареты. Что побудило вспомнить о нем, после столь долгого забвения? Накативший приступ мизантропии. Захотелось обрести крылья, чтобы взмахнуть ими — и улететь от людей к чертовой матери. Парить над облаками, подобно птице, и срать с высоты на них на всех.
Земля и небо
Если дела у вас не ладятся, все валится из рук, преследуют неудачи — есть два способа бороться с этой напастью. Можно проявить твердость характера, упереться и делать свое дело, презирая козни враждебных сил и надеясь их таким образом одолеть. «And by opposing end them». Благородно, ничего не скажешь. Либо остановиться и подумать: может, я что-то делаю неправильно?
Чувство, что пауза для размышлений необходима, посещало меня все чаще и чаще. Похоже, ошибка крылась не в текущем планировании или тактических расчетах, а в глубинных, фундаментальных постулатах, определяющих стратегию моих действий. Следовало предельно отстраниться от мелочных забот, чтобы поставить оную на пересмотр.
Покидая Российскую империю, я постарался увлечь за собою как можно больше своих людей (да и чужих, что греха таить), дабы в изгнании создать себе опору из соплеменников — слегка разбавив русских, для пользы дела, местными уроженцами. Подобные общины не представляют чего-то небывалого: целый народ еврейский уже семнадцать веков так живет. Если же рассматривать исключительно христиан, то новейшая эпоха дала нам два образца преуспевающих изгнанников: французских гугенотов и английских якобитов. Правда, время слегка размыло их сообщества: младые поколенья больше привержены тем странам, где родились. Но что мои люди начнут разбредаться врознь уже через три-четыре года, — по сути, сразу, как только освоятся в Европе, — этого я не ожидал. Надеялся, что уж на мой-то век их верности хватит.
В чем просчет? Самое очевидное объяснение лежит на поверхности: русский народ сложился в единое целое под давлением нужды и опасности, на земле скудной, суровой и подверженной набегам кочевников. Отщепенцу либо изгою там не выжить. Лучшие свойства сего племени пробуждаются в пору бедствий, в обстоятельствах чрезвычайных и прямо погибельных. Царь Петр, наверно, знал эту особенность и умел своих подданных в такие обстоятельства ставить. А я, дурак, что натворил? Дал людям благополучие, достаток и безопасность… И еще рассчитывал, что это их сплотит! Совсем наоборот получилось.
В Англии… Воздух там, что ли, отравлен миазмами алчности? Далеко не худшие по умственным дарованиям люди вдруг решают, что им выгодней отколоться и ловить Фортуну в одиночку. Более того, не останавливаются перед явной изменой. Изменой не мне одному: это еще б можно понять (в душах простолюдинов русских живет большая злоба на благородных). Нет, у них явное стремление откреститься от прежних братий и расплеваться с ними раз и навсегда!
Италия таит другую опасность. Мое приватное войско, размещенное под видом купеческой стражи в Тоскане и в неаполитанских владениях, разложилось от праздности. Насколько трудолюбив бывает русский мужик у себя дома в страдную пору, настолько же он становится ленив, когда жизнь это позволяет. Пошто перетруждаться? Кормежка дармовая обеспечена, вино дешево, девки тоже. Плоды всякие кругом на деревьях растут. Местные жители тоже к излишним трудам не склонны (неаполитанцы, вероятно, самый ленивый народ во всей Европе). До такой степени заразительным оказалось блаженное dolce far niente под голубым южным небом, что и немецкие наемники, часть из которых я сговорил возобновить контракт, в надежде укрепить через них дисциплину, вместо этого поддались русскому влиянию и бездельничали не хуже прочих.
Приехав в Ливорно по осени, задал всем взбучку, совсем обнаглевших выгнал. Не так, чтобы прямо на улицу выгнал — немцев отправил палубными пассажирами в Триест, русских, по обещанию, на родину. Кстати, теперь возвращение в царскую службу виделось вчерашним галерникам не столь желанным и воспринималось как наказание. Оставшиеся розданы были на мои торговые суда, охранять оные от африканских пиратов. Солдаты не пеняли, что я им туго затянул подпругу — понятное дело, генерал все-таки.
Больше опасений внушали моряки, лишившиеся легкого заработка после обрыва связей с греческими клефтами; однако их удалось увлечь заманчивой возможностью торговли с Востоком. Вернулся из Ост-Индии Тихон Полуектов с грузом селитры: опоздав на несколько месяцев, зато отдав Нептуну лишь троих матросов. Разумеется, это без учета переселенцев, высаженных им в Капской земле, кои за неполный год потеряли более четверти состава. Против ожидания, самый большой ущерб причинили не лихорадки, а дикари. Разбирая, кто виноват в столь ожесточенных столкновениях, ваш покорный слуга большую часть вины был вынужден принять на себя.
Пионерная партия-то у меня состояла почти что из одних мужиков (точнее, молодых парней — только двое или трое было женатых). Нехватку женской ласки бабы из племени Яшки-вождя еще могли восполнить, но ведь в крестьянском обиходе каждому хозяину непременно нужна своя хозяйка; а хитроумный «властитель Африки» готов был предоставлять пришельцам сей ресурс только для плотских утех, отнюдь не для работы. Мирским сходом постановили девок отнять у негров, живущих за рекою с востока; поскольку же то племя — враждебное и воинственное, действовать вооруженной рукой. Вот такие вариации на классический сюжет похищения сабинянок. Негры, естественно, полагали, что они своих девок как-нибудь и сами удовольствуют, без помощи белых дьяволов — в общем, разразилась целая война, которой покамест конца не было видно. Исправляя сии просчеты, велел с первым же кораблем отправить на помощь воинскую команду, а чтобы не усугублять первопричину конфликта, купить в португальских колониях несколько дюжин молодых рабынь. Не имея родственных связей с врагами, они в этом смысле гораздо предпочтительнее капских туземок.
Впридачу к солдатам и негритянкам, во вторую партию поселенцев попало несколько раскольничьих начетчиков. Новый управляющий Уилбуртауна выпер их с завода, чтоб не смущали народ вздорными проповедями. Мне эти изуверы были нужны не больше, чем ему, тем паче, что при захвате компании англичанами они сыграли весьма неприглядную роль. Но это же граф Читтанов притащил их из литовских дебрей в Европу; посему любой учиненный ими скандал пал бы на мою репутацию, не на чью-то иную. Волей-неволей, пришлось за собою убирать. Вот что за люди: их бы активитет, да направить на что-нибудь полезное! Если только они не доведут соплеменников до греха, и те сами их не прибьют, то непременно всех обратят в свою веру. Привыкши рассчитывать отдаленные следствия своих действий, я попытался представить, что за народ может родиться из брошенных мною в сей ведьмовской котел ингредиентов. Итак, чернокожие (первое поколение — мулаты, но они же будут покорять и поглощать окружающих негров), говорящие по-русски свирепые фанатики-староверы, в совершенстве владеющие оружием и сызмальства приученные лить кровь, как воду… Бр-р-р, жуть какая! Впрочем, возврата на землю предков этим монстрам все равно не будет, а что касается Африки — так черт с нею, ее не жалко.
Поскольку моя флотилия за минувший год удвоилась, счел возможным отправить в дальние моря сразу два корабля: один в Индию и один в Китай, оба под сицилийским флагом. Еще один — к Каповердианским островам, на битье китов и ловлю кораллов. Все, кто ворчал о скудости жалованья, получили выбор: бедный, но верный заработок в европейских водах, либо сопряженное с немалым риском богатство. Самых беспокойных спровадил, прочие ворчуны примолкли. Благодать! Более ничто не требовало каждодневного присмотра, и возможно стало вернуться к изысканиям, основательно мною позабытым за давностью лет. Чтоб избавить приказчиков от соблазна тревожить хозяина по мелочам, покинул суетный вольный порт Ливорно и отправился на зиму в Далмацию, в места, из которых была моя мать и где я сам когда-то (черт побери, как давно!) имел случай родиться.
Где именно приключилась сия оказия, в точности неизвестно, и сентиментальные воспоминания не могли повлиять на мой выбор. На первом плане стояли соображения удобства. В городке Каштел близ Спалато богатые венецианцы понастроили дворцов на берегу моря, чтоб выезжать туда на лето, покинув постылую метрополию: болото не станет менее вонючим, если его называть лагуной. Зимою большая часть строений обыкновенно пустует или, в силу превратностей торгового счастья, сдается внаем. Одно из них, изящное и удобное палаццо, мне отдали на полгода за более чем умеренную цену.
Спалато воистину лучший порт на всем далматинском побережье. Гавань прикрыта с моря двойною цепью островов, а со стороны суши город защищен от северного ветра скалистой грядою. Горы эти отстоят от берега всего на полторы версты; высшую их точку (сажен четыреста от уровня моря) здешние славяне бесхитростно именуют «велий верх». Горожане говорят по-итальянски, на венецианский манер, исключая низшее сословие, язык которого представляет забавную смесь наречий; сельская округа — славянская. В окрестностях великое множество римских руин. Собственно, весь Спалато, важнейший торговый пункт в этих краях, целиком помещается в развалинах дворца Диоклетиана: конечно, не одного только здания, а всей усадьбы со вспомогательными постройками. Именно здесь отошедший от дел старый воин собственными руками выращивал капусту и упрямо отказывался променять овощные грядки на императорский трон.
Хорошее место для таких занятий. Впрочем, у меня тоже найдется, чем наполнить досуг. А что обратно властвовать не позовут — так даже и лучше. Не будут отвлекать всяким вздором от настоящего дела.
При свежем прочтении трактата Епифана Васильева об артифициальных летающих устройствах, с определенностью выяснилось, что его наиболее тонкие опыты и всевозможные измерения все равно придется повторять. Вовсе не потому, что покойный мой ученик чем-либо погрешил в своей работе: просто наука в наше время идет вперед семимильными шагами. Каждый год открывают что-то новое, а уж методы исследований совершенствуются прямо на глазах. Епишкины расчеты опирались на мои предшествующие изыскания, касающиеся действия ветра на паруса (ибо крыло, в сущности, есть парус, положенный набок). Возникающие при этом силы решающим образом (аж квадратично) зависят от скорости потока, способы же определения оной, которыми мы оба пользовались, были удручающе неточны. И вот несколько лет назад Анри Пито, бывший ассистент моего приятеля Реомюра, придумал специальные изогнутые трубки для измерения быстроты течения воды. С небольшими изменениями, их удалось приспособить и для воздуха. Теперь стало возможно не только сравнить, какой формы крыло (или парус) лучше исполняет свою функцию, но и выразить сие количественно. А любая уважающая себя наука непременно должна опираться на математику. Таков закон, его же не прейдеши.
По правде говоря, меня весьма и весьма удивляло почти полное отсутствие серьезных работ о действии воздуха на движущиеся в нем тела. Ну ладно, лишенные какой-либо практической пользы исследования полета, — но парусные корабли суть одна из основ современной цивилизации, да и ветряные мельницы ежегодно производят работу на миллионы талеров. Если даже иных результатов не будет, одно лишь небольшое усовершенствование банальных ветряков и сопряженное увеличение производительной силы оных способно стократ возместить любые научные затраты. Ну, а пятьдесят фунтов, отданные скотине Харлампию за не очень нужные мне бумаги — вообще мелочь в сравнении, и могут быть списаны по разряду филантропических пожертвований.
Надо отдать должное Епифану: не владея способами точных измерений, он придумал ряд остроумных приемов, чтобы обойти это препятствие. К примеру, в ступицу игрушечной ветряной вертушки вставлял по паре разнотипных крылышек в полторы или две пяди длиной — так, чтоб они толкали ось в противоположные стороны. Которые перетянут, те и лучше. При этом не упускал ставить оные под разными углами и учитывать силы как бокового, так и фронтального направления. Основательный подход — моя школа! Он выяснил, что наивыгоднейшая форма — цилиндрический сегмент, этакий очень плоский горбыль, обращенный выпуклою стороной вверх. Значит, надо делать сложный каркас и обшивать с двух сторон тканью? А надо ли? Помнилось, что у бумажно-лучинковой стрекозы, кою Харька показывал мне после смерти брата, крылья были оклеены в один слой. Модель не пережила минувших лет (да и не могла, по непрочности), так что, наряду с более замысловатыми опытами, взятые мной в помощники молодые ребята склеили, по господским указаниям, такую же.
А вот шиш! Такую же, да не совсем. При первой попытке пустить его на воздух, артифициальное насекомое ткнулось мордой в землю и треснуло в нескольких местах. После исправления и перебалансировки — наоборот, задрало нос и опрокинулось на крыло. Не столь проста оказалась игрушка! Инвентор не успел расписать все эти хитрости на бумаге — да и просто обдумать, наверно, тоже. Он только начинал искать способы сохранения равновесия, что же до успеха в сотворении образца, то этим был обязан, скорее всего, удаче и безупречному инженерному чутью. Как жаль, что я потерял этого парня! Пришлось разбираться, для чего птицам хвост и как они пользуются им. По выяснении сего, следующий образец обзавелся длинным, наподобие сорочьего, хвостом и перестал своевольничать. Удалось сделать так, что заднюю часть летучей машинки тянуло вниз при возрастании скорости полета, и вверх — при уменьшении оной, так что правильное положение продольной оси при любых отклонениях восстанавливалось само собою. То же самое — при попытке накрениться вбок.
После одоления неустойчивости, можно стало и с размерами поиграть. Какой величины нужны крылья, чтобы удержать в воздухе человека? Теория отвечает: какой угодно. Все зависит от скорости. Если лететь очень-очень быстро, то хватит совсем крохотных крылышек, чем медленнее — тем они должны быть больше. Разумно быстроту ограничить таким образом, чтоб не убиться, когда взлетаешь или садишься. Прыжок со спины скачущего коня или из окна второго этажа — трюки весьма рискованные, а между тем, скорость прыгуна относительно земли не превышает пяти сажен в секунду. Это медленней, чем движение самой неторопливой птицы. Парящий в небесах орел кажется почти неподвижным; но если вы зрительную трубу зафиксируете на подставке и через нее взглянете на царя птиц, то видно будет, насколько сие впечатление обманчиво.
Тут сплоховал даже великий Леонардо. Из его рисунков следует, что человек будет лететь то ли головою вперед (и непременно сломает себе шею при возвращении на грешную землю), то ли стоймя, грудью поперек потока. Тоже дурная идея: сопротивление воздуха будет огромное, а при посадке он вряд ли устоит. Шею, может, и сбережет, однако носом землю пропашет. Или эта позиция — для посадки? Может, он еще хвост растопырит и забьет крылами, как голубь? Нет у людей способности к таким движениям. Просто-напросто силы не хватит. Ну, не птицы мы. И летать, как птицы, не сможем. И как летучие мыши — тоже. А как сможем? Есть такой зверек: белка-летяга. Заберется на коготках повыше, прыгнет, растопырится и летит. Сверху вниз по наклонной линии, никак иначе. Вот как она — сможем. Только начинать и заканчивать полет на беличий лад опять же не выйдет.
Вес, все дело в нем. Сравните, как взлетает воробей, и как, к примеру, дрофа. Здоровенная птица, весом бывает до пуда и размахом крыльев — больше сажени. Сначала разбегается (а бегает она здорово, прямо как конь) и только потом взлетает. Взлетает, как известно охотникам, всегда против ветра. Представьте на ее месте человека с деревянно-полотняными крыльями, которые мало, что весят несколько пудов, так еще и парусят самым отчаянным образом. Сильно он разгонится? Полагаю, вовсе никак: дай Бог на месте устоять. Не зря бессчастные подражатели Дедала, коих за минувшие три тысячи лет немало набралось, обычно предпочитают иной способ. Забираются на какую-нибудь башню со своей амуницией, должной поддержать их в воздухе, и прыгают вниз. Иногда при этом удается выжить, но редко. Есть, правда, несколько известий, которые с равной вероятностью способны оказаться и легендами, об успешном исходе подобных приключений. Рассказывают о неком испанском мавре из Кордовы, об английском бенедиктинце (богоугодное ли дело — монаху с колокольни прыгать?), об итальянце, который еще в тринадцатом веке летал над Тразименским озером… Кроме того, и в сказке о Дедале может отыскаться рациональное зерно. Ведь тот, кто сочинил оную, прекрасно мог объяснить его полет колдовством или божественной силой, или иными подобными причинами, обыкновенно употребляемыми в сказках. Ничего подобного: чисто инженерная интерпретация, что для легенд, вообще говоря, не характерно. Да и что мешало еще в античную эпоху создать полотняные крылья (подробности о перьях и воске отнесем по разряду выдумок)? У критского мудреца для этого было все необходимое, кроме… Чего не хватало? А вот чего: способов расчета. Только ученые нашего времени сумели открыть тайну движения. До Ньютона пытаться сотворить что-то летучее было, как в цель стрелять с повязкою на глазах. Можно случайно попасть, но на это — один шанс из тысяч.
Давайте вглянем на прыжок летуна-мечтателя в ясном дневном свете ньютонианства. Для полета ему надобно набрать скорость, чтобы крыло начало действовать. Используя для этого силу тяжести, он должен взять направление вниз и туда же направить свою машину. Выбор отнюдь не очевидный, по наитию хочется крыло поставить горизонтально. Ошибка: в этом случае оно заполощется, как парус, потерявший ветер, и своего назначения не исполнит. Будем считать, что нам требуется разогнаться до обыкновенной скорости полета крупных птиц, это примерно десять сажен в секунду. Сопротивлением воздуха пока пренебрежем. Тогда требуемой быстроты мы достигнем через две с небольшим секунды падения, в десяти саженях ниже вершины башни. А надо ведь перейти от падения к полету, по возможности плавно. Если крылья тянут нас вбок с силою, равной нашему весу (вместе с весом машины), горизонтальная компонента скорости станет достаточной еще через две секунды. Мы, между тем, продолжаем падать. Позволю себе предположить, что на этом этапе воздух уже отчасти поддерживает нас, и вертикальная составляющая скорости более-менее постоянна. Теряем еще двадцать сажен высоты. Крылья держат, и вертикальное движение можно совсем погасить: однако, не мгновенно. Если изменение скорости взять в половину того, кое достигается при свободном падении, снижаться мы будем еще четыре секунды и двадцать сажен. Итого, при безупречных наших действиях, требуется башня в пятьдесят сажен — выше Ивана Великого, и почти вдвое выше Пизанской. Даже не знаю, где такую взять. Вы скажете, поворачивать на горизонталь можно круче? Да, если крылья достаточно прочны; но ведь они же должны быть легкими, иначе вообще ничего не выйдет! Вышеприведенный расчет сделан так, чтобы нагрузка на крылья, с добавкою от центробежной силы, в каждый момент не превышала полуторного веса летуна. Более высокий резерв прочности сделает машину слишком тяжелой и убьет, на мой взгляд, идею в зародыше.
Есть, конечно, скалы, обрывы, пропасти — с гораздо большим перепадом высот, чем у любого творения человеческого. Но вот представьте: броситься вниз, и сохранить при этом твердость духа и точность движений; сразу начать безошибочно действовать в чуждой для бесперых двуногих воздушной стихии… Нет, это выше сил человеческих. Полет нужно начинать таким образом, чтобы ввести риск в разумные пределы. Иначе покорителей воздуха придется искать среди приговоренных к смерти разбойников, и то еще не всякий согласится.
Чтобы не бегать, подобно дрофе, собственными ногами, припряжем коней. Крылатую машину закрепим на легкой повозке таким образом, чтобы сама отцепилась, когда сила крыльев возобладает над земною тяжестью. Десять сажен в секунду лошадь не сделает; пять — куда ни шло. Маловато. Но недостающую скорость можно возместить за счет ветра. Есть много мест, особенно на морском побережье, где дует с такой силой почти постоянно. Предельный случай — взлететь на одном ветре, без лошадей; тогда получится разновидность воздушного змея, некогда мною на островах Капо Верде испробованного. Кстати, летуну совсем не обязательно отъединяться от упряжки полностью: пусть влачится за нею на тонкой веревке. Лошадки ему помогут поддерживать скорость, не теряя при этом высоты, а буде ветер пособит — так и забраться повыше. Когда почувствует, что хватит, тогда и отцепится.
Как обратно на землю сесть? Вот это, я чувствую, вопрос. Не вопрос — вопросище. Черт знает, куда унесет, а потом… В воздухе ведь не остановиться будет. По-птичьи погасить скорость нельзя, крылья-то неподвижные! И вес у человека далеко не беличий. Грянуться с бешено мчащейся колесницы было бы безопасней. Если пять сажен в секунду соответствуют прыжку со второго этажа, то десять — уже с крыши пятиэтажного дома. Костей не соберешь. В общем, не зря Дедал проложил курс над морем, легенда и в этом дьявольски рациональна. Уж лучше регулярно вылавливать машину из воды и потом тщательно сушить, нежели собирать по щепочке — и каждый раз готовить нового летуна. Каркас крыльев можно пропитать смолой или покрыть лаком, с полотном тоже что-нибудь придумать. Можно и не придумывать: мокрый парус держит ветер еще лучше сухого.
Но даже садясь в воду, я бы не рискнул это делать лицом вперед. Как больно случается иной раз удариться о водяную поверхность, мне памятно с раннего детства, когда мы сопливыми мальчишками ныряли в лагуне — бывало, что и с мачты ветхого судна, оставленного сторожами без присмотра. Нет, лучше расположиться лежа или полулежа, но непременно вперед ногами. Против предположений Леонардо, тело человека не должно заменять собою продольный каркас машины или служить его частью. И вообще никаких креплений, ремней и привязок не должно быть: иначе легко утонуть даже на мелком месте. Что-нибудь наподобие корзины или эскимосской кожаной лодки, жестко закрепленной под местом схождения крыльев — вот это может подойти. Впрочем, тут еще надо подумать…
Таков, примерно, был ход моих рассуждений. Да, о размерах-то забыл! Здесь тоже в основу легли морские аналогии. Известно, что движущая сила парусов пропорциональна их площади. Для паруса, поставленного в галфвинд (как, собственно, работает и крыло) сие правило не совсем верно, однако подобные тонкости я начал принимать во внимание лишь на более поздних стадиях изысканий. Вначале же взял за образец птичьи пропорции. Велел убить орла, обмерил, взвесил и рассудил так: у птицы весом в десять английских фунтов площадь крыльев — по пять квадратных футов каждое. Значит, нам надобно иметь фут площади крыла на фунт веса. Ежели человек потянет на двести фунтов, вместе с артифициальными крыльями — оные, при сохранении тех же пропорций длины и ширины, должны быть шесть футов шириною и пять сажен в размахе. Это если форма их прямоугольная. Что лучше бы сделать сужение к концам, уже в самом начале видно было, но перевесили соображения простоты: назначение опытного образца — не столько летать, сколько помочь своему создателю разобраться с законами полета.
Не зря говорят, что бес — в деталях. Множество мелких и ужасно вредных бесенят сразу же выскочило на свет Божий, как только я попытался сотворить летающую машину в натуральный размер. Больше всего проблем возникло с прочностью и весом. Привычные по корабельному рангоуту способы сопряжения элементов здесь, как правило, не годились. Либо жестко и прочно, но тяжело; либо легко, но шатко и не держит форму; либо конструкция опутана веревочными растяжками, как пойманная муха — паутиной. К тому же, во всей Италии не нашлось подходящих по размеру хлыстов китайского бамбука. Отписал амстердамским приказчикам, однако уверенности, что найдут, не было. Мои моряки, ушедшие в Кантон, должны были доставить этого добра сколько угодно, да только их ждать полтора года.
Из обыкновенного дерева каркас получился вдвое тяжелей расчетного. Поднять взрослого человека такая машина могла бы только при скорости, совсем уже убийственной. Заменить взрослого ребенком? Почему бы и нет — иногда попадаются мальчишки очень ловкие и совершенно бесстрашные. Но пока столь шустрых детей в пределах досягаемости не обреталось. Или уж совсем налегке пустить? Как бумажную модель, которая летает, никем не управляемая. Кстати, проверенных способов, чтобы править машиной, все равно не было: изначально предполагалось, что летун будет менять балансировку, смещая вес своего тела вперед, назад или в стороны; а вот окажется ли это действенно, Бог весть.
По здравому размышлению, сию первую атаку небес я вынужден был признать неподготовленной и протрубить отступление. Отнюдь не бегство: прежде, чем строить птицу, способную нести человека, решил сделать модель промежуточной величины, среднюю между бумажной стрекозою и настоящей машиной. Примерно с крупного орла или чуть больше. На ней испытать все, что можно, и уже с накопленным опытом вернуться к полноразмерному образцу. Поскольку же сия пробная птица будет предоставлена воле ветра, скорая гибель ее несомненна. Стало быть, надо делать таких сразу несколько. Может быть, каждую особенной конструкции, чтоб иметь возможность сравнить варианты и выбрать из них наилучший.
За всеми этими занятиями, наблюдать европейскую политику не оставалось ни досуга, ни охоты — тем более, что после бурных событий наступило затишье. Давно уже Венский прелиминарный трактат окончил войну в Италии и на Рейне; об условиях окончательного мира дипломаты все еще продолжали торговаться. На востоке, после разорения Крыма Минихом, тоже ничего важного не случалось. Просматривая, по обычаю, газеты, я кривился с отвращением и думал про себя: «Пошли все к дьяволу! Нам, птичкам, это неинтересно».
И только письмо, полученное из Ливорно, заставило обратиться к прозе жизни, бросив увлекательные изыскания. Старший приказчик сообщал, что испанские войска из герцогства Тосканского уходят, а на их место готовятся войти цесарцы, числом шесть тысяч. Квартирьеры императорской армии уже повсюду.
Значит, державы договорились! Более того… Впрочем, давайте по порядку. Примерно за год до упомянутых событий, император выдал свою дочь и наследницу Марию Терезию за Франца Стефана Лотарингского. До последнего момента предпочтительным женихом считался Карл Неаполитанский — но лишь по политическим видам. Как мужчина, красавец и гуляка Франц выглядел гораздо авантажнее скромного и благовоспитанного соперника. Неудивительно, что невеста, в свои восемнадцать лет, больше тянулась к лотарингцу. Только ничего бы у нее не вышло, не вмешайся в дела любви французская дипломатия. Опасение, что сим браком союзная Испания будет перетянута в лагерь врагов и королевство, как встарь, окажется между молотом и наковальней, заставило кардинала Флери выступить заодно с влюбленной девочкой. Одну только дочку Карл Шестой несомненно бы уговорил; но слыша такое же «нет» от французского посла, почел за лучшее уступить.
Единственно, испомещение новобрачных оставалось сложной проблемой. Владения жениха, герцогства Бар и Лотарингия, были заняты французами, и отдавать их назад Флери не собирался, резонно считая, что в составе Империи они представляют удобный плацдарм для извечного неприятеля. Взамен он предлагал герцогу ренту в три или четыре миллиона ливров, — это из своего, то бишь из королевской казны. А из чужого — Тоскану. Дон Карлос Неаполитанский, считавшийся опекуном и наследником бездетного хозяина Флоренции, приглашался к уступке сих прав в обмен на всеобщее признание за ним свежезавоеванных Неаполя и Сицилии. Разумеется, вокруг этих пропозиций начался торг, прямо как на восточном базаре. Кроме того, приличия все же требовали дождаться, пока освободится тосканский трон. Последний из Медичи, герцог Джан Гастон, стал совсем плох и давно уже не вставал с постели, впервые за долгую жизнь ожидая на этом роскошном ложе не юношу пылкого, но даму. Вот только имя сей даме было — Смерть.
Однако расчет, что нетерпеливые наследники, назначенные по приговору держав, все-таки выдержат политес и дождутся естественной кончины старого грешника, не оправдался. Испанские войска покинули выморочное владение, а цесарские заняли оное, не обращая внимания на бедного страдальца, как если бы он покоился не в опочивальне, а в фамильном склепе. Чем это грозило мне?
Обычно выделку пороха и прочих боевых припасов любая власть держит под строгим присмотром — если вообще не на казенном иждивении. Только в том содомском борделе, коим обернулась Тоскана в правление умирающего ныне герцога, возможно было совсем безнадзорно (необременительный патронаж дона Карлоса — не в счет) завести пороховые мельницы, лишь малым уступающие венецианскому Арсеналу, и в ходе недавней войны преспокойно продавать порох обеим сторонам. Уж не говорю об африканских дикарях, греческих пиратах… Мог бы и магометан, при желании, снабжать, но у меня к ним личные счеты. Теперь, похоже, вольной жизни конец. Имперские обыкновения известны: посадят править какого-нибудь немца, будет ни охнуть, ни вздохнуть. Надо вывезти из Тосканы все, что можно, а что нельзя — продать. И поскорее, пока у новых властей руки не дошли до активов графа Читтано!
Почему вдруг такое беспокойство? Очень просто: Англия научила. Обжегшись на молоке, совсем не мешает хорошенько подуть на воду. Вполне возможно, что венский двор пожелает сделать приятное своей давней союзнице, русской императрице. Тогда надо беречь не только карманы, но и шею. У каждого народа своя, особая, манера делать гадости: французы льстивы, англичане коварны, итальянцы мстительны, честные немцы тупы и прямолинейны. С немчуры станется отдать приказ об аресте и выдаче нежелательного иностранца. Пока военными делами (и отчасти — дипломатией) в Империи ведал принц Евгений, можно было не опасаться столь неблагородных поступков, но прошлою весной старик умер. Целая эпоха окончилась! Эпоха славы имперских армий… Уже в минувшую польскую войну заметно было, что испанцы, французы и савойцы почти всегда превосходят своих противников умением создать на поле сражения численный перевес, а нередко — и качеством войск. Словно бы шестеренки армейского механизма, приводимого в действие венским Гофкригсратом, изрядно заржавели. Евгений Савойский силою своего авторитета, личных связей, порою даже — личных средств, еще как-то умел их прокручивать. Но без него… Вену ожидали трудные времена. Двор венский этого еще не понял.
По прибытии во Флоренцию (снова инкогнито, под чужим именем) выяснилось, что рано бить тревогу. Джан Гастон погубил развратом свое здоровье, но сохранил остатки разума. Огорченный, что его владения отписаны державами лотарингцу, он выговорил для подданных столько льгот, сколько сумел, и в том числе — обещание не присоединять Тоскану к габсбургским коронным землям. Еще полгода, до самой смерти прежнего хозяина, герцогство управлялось старыми властями. Цесарские войска стали на квартиры и вели себя тихо, ни во что не вмешиваясь. Будущий герцог и его тесть, не желая еще более озлоблять народ, и без того против них предубежденный, назначили главою регентского совета маркиза де Бово-Краон, лотарингца и безусловного француза по манере действий, совершенно чуждого солдафонской бесцеремонности, коей стяжали всеобщую ненависть немецкие вице-короли, сидевшие до войны в Неаполе. Маркиз появился только в начале мая, через четыре месяца после смены караула, и первое время вел себя очень деликатно, больше присматриваясь, чем распоряжаясь.
При таких, относительно благоприятных, обстоятельствах, переселение значительной части моих людей и перенос промыслов в неаполитанские владения прошли без существенных потерь. Более того, пороховые мельницы тосканские я оставил действовать, в ожидании, пока новый завод сможет их полностью заместить. Дело в том, что цесарское интендантство вдруг приятно удивило нежданным спросом на боевые припасы; еще приятнее, что сия амуниция потребовалась против турок. Венский двор и сама императорская фамилия явили миру столько чистейших образцов своекорыстия и неблагодарности, что ждать от них исполнения союзных обязательств в отношении России мне и на ум не приходило. Впрочем, резоны Карла Шестого, вероятно, были иными: возместить потерянное в Италии и на Рейне за счет осман, против которых его держава последние полвека сражалась с неизменным успехом. Так или иначе, внезапное усердие к общей пользе стоило поддержать. Возможно, даже пойти на расходы.
Просьбы помочь кому-нибудь деньгами всякий состоятельный человек слышит регулярно. Ваш покорный слуга — не исключение. Частенько звучали в этом заунывном хоре и голоса воителей, мечтающих какую-либо провинцию, состоящую под османским владычеством, от оного освободить. За одну только минувшую зиму, в промежутках меж опытами с летающей машиной, довелось выслушать подобных попрошаек не менее дюжины. Всем отказал. Разумным и вежливым — с объяснением, наглым и напористым — грубо. Это на море, при нынешнем состоянии султанского флота, бунт и разбой могут очень долго оставаться безнаказанными и даже (что для меня немаловажно) прибыльными. На суше — одни расходы, а будущее мрачно и кроваво. Дюге-Труэн и Кассар заставили похерить затею с греческими клефтами; любые же иные способы частным образом насолить султану Махмуду заведомо безнадежны. Сильное, крепко устроенное государство всегда одолеет внутренний мятеж, если сей последний не будет поддержан извне равноценною силой.
Поэтому искатели денег на вооружение турецких христиан вместо мешка со звонким серебром получали мудрое разъяснение, что бунтовать преждевременно. Дабы не обрушить на соплеменников, вместо свободы, еще одну кровавую резню, надлежит выбрать подходящий момент, а до его наступления — в глубокой тайне подготовить и обучить воинские отряды, способные стать ядром восстания. Каждый, кто пожелает в такой отряд вступить, обязан пройти испытание на серьезность намерений, и самая первая ступень проверки (обучения тож) — служба в корабельной охране графа Читтано. Деньги на оружие надобно заработать.
Мои слуги давно уже усвоили, что к моменту, когда прозвучит эта фраза, гостей следует явным образом держать под прицелом: все эти гайдуки и ускоки саму мысль о работе на кого бы то ни было принимали за оскорбление. А мне нахрена такие? Понятно же, что любые обещания, данные заморскому графу, они забудут, как только выйдут от него; а деньги, всего скорей, пропьют.
Теперь ситуация изменилась. Предвестие больших событий было разлито в воздухе. В череде просителей начали встречаться люди, явно принадлежащие к иной породе. Более серьезной и не питающей отвращения к труду. Некоторые уже поступили в мое приватное войско и не сбежали из строя, когда унтера начали сих вольников школить. Совсем рядом с моим далматинским приютом, в Боснии и Старой Сербии, жители откровенно ждали цесарцев. При совместном действии с регулярными войсками, действия бунтовщиков могли бы получить смысл: это следовало, по крайней мере, обдумать.
Взлеты и падения
Такого срама, какой претерпела Священная Римская империя в первой же военной кампании, проведенной без принца Евгения, не чаяли видеть даже ее злейшие враги и завистники. Тем более, начало действий обещало успех: полевая армия турок, воссозданная после персидского разгрома, ослаблена была отправкою лучших отрядов против русских, а паши турецкие помнили прежние войны и предпочитали отступать перед грозным противником, опасаясь дать ему бой. Граф Фридрих фон Зекендорф, опытный и храбрый военачальник, только что получивший фельдмаршальский чин, планомерно двигался вверх по долине Моравы, князь Йозеф Мария Фридрих Вильгельм Холландинус фон Саксен-Гильдбургхаузен со второю армией осадил Баня Луку. В минувшей европейской войне оба генерала проявили себя достойно. Войска имели ряд недочетов по части снабжения и выучки — но кто их не имеет? Еще вчера бившись на равных с лучшими европейскими армиями, уж с османами-то цесарцы надеялись справиться. Сколько себя помнят, всегда их били. Ничто не предвещало беды.
И вдруг… Да нет, не вдруг, а заблаговременно отыскался у турок умный и твердый человек, и оказался этот человек в правильном месте. Лицом к лицу с Али-пашою Хекимоглу я ранее не встречался, но в официальной переписке состоял. Во время моего командования Низовым корпусом, сей генерал был назначен в Тавриз сераскиром: та же должность, только с турецкой стороны. Помнится, меня это позабавило: теперь, если б возгорелась война, обе армии возглавляли бы венецианцы.
Порта Оттоманская никогда бы не добилась такого могущества без помощи христиан-вероотступников. Вот и отец Али-паши был врачом из Венеции, принявшим ислам. Собственно, прозвище «Хекимоглу» по-русски можно перевести фамилией «Докторов» или «Лекарев» (турки в азиатском своем невежестве не делают разницы между этими двумя чинами). После Персии Али дослужился аж до великого визиря, очень удачно впал в немилость (спрятался в ссылке как раз вовремя, чтоб не понести кары за страшное поражение от персиян), а за год до войны получил назначение в Боснию.
Имперские генералы встретили в его лице сильного и неутомимо деятельного противника. С началом войны Босния оказалась почти отрезана: здешним туркам пришлось обороняться, не рассчитывая на помощь султана. Мало кто выстоял бы при таких условиях. Но мой заочный знакомец умело использовал местные средства. После оставления Венгрии, Семиградья, Сербии, Баната, Славонии и иных провинций, утерянных османами, тамошние магометане уходили на юг вместе с войском. В боснийских землях осело их особенно много. Да и среди местных славян, уж не знаю, по какой причине, а только пропорция ренегатов оказалась весьма высока. Али-паша запугал бошняков новым изгнанием, годных к бою — поголовно вооружил и подчинил строгой дисциплине. Быстрота его успехов заставляет предположить долгую подготовку, еще до начала войны. Не прошло и месяца после вторжения цесарцев, как новоформированное бошняцкое ополчение в открытой пятичасовой баталии наголову разгромило корпус, осаждавший Баня Луку. Восточные иррегуляры вдрызг разбили образцовое немецкое войско!
Сначала в Европе это приняли за случайную неудачу, из разряда тех бедствий, что иногда посылают смертным завистливые боги. Однако последовали новые конфузии — а следом злорадные улыбки и многозначительные взгляды авгуров европейской политики, означавшие, что дорого купленное императором признание Прагматической санкции со стороны держав-соперниц стремительно падает в цене. Вчера державу Габсбургов воспринимали, как царственного хищника, способного защитить свое достояние от посягательств; теперь же на нее взирали, как на добычу, как на целую гору вкуснейшего живого мяса, и примеривались ее разорвать.
Вмешиваться при таких условиях в пользу цесарцев? Спасибо, нет! Моя филантропия столь далеко не простирается. Хорошо, что их наступление провалилось быстро, не позволив мне сделать зряшных затрат — ни в деньгах, ни в людях. Следить за военными событиями я не преставал, но ход кампании приносил одни разочарования. Со стороны русской армии — тоже. Нет, поражений, подобно союзникам, она не терпела, и даже имела успехи; однако скромные размеры оных не соответствовали затраченным усилиям и понесенным потерям. Вторично разорили Крым — но опять в нем не закрепились. Приморскую полосу, от Инкермана до Судака, даже и разорить не успели. Из всего взятого в Крыму, с грехом пополам удержали только Керчь, да противолежащий Таманский остров. Захвативши в начале войны Очаков, действовали к западу от него лишь оборонительно, и ни малейшей попытки не сделали в сторону крепостей на Днестре. Хотин, Бендеры, Ак-Керман прочно ограждали Молдавию и Буджак; эти провинции, в свою очередь, кормили турецкое войско. А наши откуда хлеб возили? Тут-то и зарыта собака. Da liegt der Hund begraben, как говорят немцы. Будь ты хоть Александр Великий, с голодными солдатами много не навоюешь. Первый год (отчасти, может быть, и второй) армия довольствовалась сделанными до войны запасами. Мною сделанными, что скромничать зря. Дальше, поскольку казачьи и ландмилицкие земли не производят нужного количества хлеба, ключевое значение обрели провиантские караваны, ведомые по Днепру из Малороссии. Протащить груз через пороги, особенно в малую воду — задача нелегкая; даже и без порогов снабжение стотысячной людской массы требует от тех, кто этим ведает, выдающихся умений. Давайте взглянем на сих титанов обозного дела.
Князь Никита Юрьевич Трубецкой имел двух жен (разумеется, не одновременно: он же не турок какой), и обе служили мужниной карьере душой и телом. Первая была любовницей всесильного тогда Ивана Долгорукова, ко второй проявлял благосклонность фельдмаршал Миних. В компенсацию, рогоносный супруг сначала получил, а потом удержал (невзирая на явные упущения) самую желанную у чиновных стяжателей должность: генерал-кригс-комиссарскую. Мечта любого правителя — иметь на сем месте человека, ловкого в делах и одновременно честного. Но так не бывает. Надо выбрать что-нибудь одно. Честный дурак или умный вор, кто лучше? Тут можно спорить бесконечно. Наверно, когда-нибудь научатся эти качества рассчитывать количественно и находить оптимальное сочетание оных, рисуя линии на декартовой плоскости. Вот только князюшка наш по обоим признакам болтался в отрицательном квадранте. И на руку охулки не клал, и дела не умел сделать. Судите сами. Любой, пусть очень ограниченный человек, помыкавшись год-другой с караванами, найдет способы улучшить их движение. Провиантское же обеспечение русской армии первые четыре года войны шло только по нисходящей. Росла смертность от болезней и множились толпы дезертиров, бегущих в Польшу. Часть из них добежала до меня, кто по еврейской, кто по староверской тропке — поэтому беды армии я знал не по реляциям, а из первых уст.
Ох, как чесались руки вмешаться! Но каким образом? Жены у меня нет, а девиц, от которых получаю услуги известного рода, подкладывать вельможам бесполезно. У них своих таких же — полная девичья. Увы, благородная привычка выбирать людей по деловым качествам канула в Лету с Петром Великим. Черт с ним, я даже б согласился в тыловую службу, раз Миних настолько ревнив к славе. Поверьте, у меня бы хлеб и амуниция на порогах не застревали. Только шиш! Не надобен граф Читтанов и опасен.
Минувший год удалось завести шпионов в Санкт-Петербурге. Верный Франческо свозил туда оперную труппу. Сначала хотел циркус, ибо тайных убийц за акробатов выдать легко, а в кастратов переделать — сложнее. Однако циркус — зрелище простонародное. Через него трудно получить доступ в придворные круги. Так что поехала опера. Убийцам резать причинные части, однако, не стали, потому как в сей первый визит им никакой службы не нашлось. Отправляя кого-то в лучший мир, сначала надобно убедиться, что его удаление действительно принесет пользу. Не то выйдет, как у пациента, коему дантист выдергивает один зуб за другим, а легче больному не становится. Сначала точный диагноз, потом продуманный план лечения. Вот после этого и щипцы в руки, не раньше.
При дворе Анны после моего отъезда сложился триумвират сильных людей: Бирон-Остерман-Миних. Братья Левенвольде, которые тоже взяли поначалу большую силу, сдали позиции после смерти старшего из них, Карла (от болезни, в тридцать пятом году). Рейнгольд, средний брат, был помельче калибром, а младший еще раньше перешел в цесарскую службу и с русской сцены исчез. В оставшейся тройке коренником, несомненно, выступал Бирон, как самый близкий из всех к государыне. Преимущество положения умерялось завистью и ненавистью окружающих, почти всеобщей: таково бремя фаворитов. Каждый честолюбец при взгляде на царицыного любимца задавался вопросом: «Почему он, а не я?!» — и не находил ответа. Двое других, по крайней мере, обладали опытом и умениями, дающими право на высокое положение в государстве; а этот, если имел какие-то достоинства, то глубоко скрытые и, по вероятию, ночные.
Совсем не хочу сказать, что, скажем, Остерман был мужем великого ума и государственной мысли: но у него получалось возмещать недостаток мудрости коварством, хитростью и многолетней опытностью в делах. Так же и Миних неплохо справлялся с обязанностями, будучи военачальником грамотным и умелым, хотя без искры полководческого таланта. Скромный и неамбициозный Ласси, на мой взгляд, много одареннее. Так уж выходит, что ближе всего к трону проталкиваются совсем не те, кто превосходит соперников достоинствами. Отодвинутые это терпят, однако… Не стоит подвергать их терпение слишком сильным испытаниям.
В треугольнике власти между вершинами, как обычно, действует баланс притяжения и отталкивания. Перед моим отъездом, аванжировал Миних, а другие двое соединяли силы против него. Спровадив честолюбивого фельдмаршала на войну, оба интригана естественным образом оказались в противостоянии друг другу. Если Бирон чудесным образом исчезнет, как изменится политический ландшафт? До возвращения Миниха или появления новых фаворитов, мы получим всевластие Остермана. Я что-нибудь от этого выиграю? Сомневаюсь. Он для меня пальцем не шевельнет, и даже не возьмет предложенных денег. Слишком осторожен, заяц травленый.
Если кто может обернуть к своей выгоде подобный случай, то разве Салтыковы — родственники Анны по матери. Однако не оценят: им и сейчас хорошо. Ну вот никак не отыскивается цепочка ходов, ведущая к победе. Раньше мне представлялось, что стоит искоренить курляндца, и путь домой, в Россию, будет свободен. Разумеется, прощение не получить без помощи влиятельных союзников, чающих пользы себе от моего возвращения; но поиск таковых виделся не слишком трудным. Теперь же, по свежим известиям из Петербурга, выходило, что беглый генерал Читтанов совсем никому не интересен и почти забыт. Новые лица, новые события, новая война… Чёрта ль оглядываться на прошлое?! Если кто меня еще вспоминает, так это люди, злопамятные по природе или по должности. Вроде Андрюхи Ушакова.
Как ни складывал головоломку, все одно выходило: нет пути назад, кроме как через смену царствующей особы. До естественной передачи престола дожить мало шансов, ибо императрица меня моложе и здоровьем крепче. Хотя Бог знает: если найдется у нее какая хворь, во всеуслышание не объявят. Ну, да неважно. Представим себе, что вот, случилось. Кто сядет на трон? Порядок сукцессии Анна давно определила, еще при мне. Корону наследует потомок мужеского пола, рожденный ее племянницей, дочерью мекленбургского герцога. Девчонка тогда была тринадцати лет, а выглядела еще сопливее. Время идет, и по недавним известиям, сия посредница вошла в возраст любовных приключений. Саксонского посланника графа Линара, упитанного мужчину вдвое старше ее, выслали из России за непозволительную связь. Теперь надо срочно поймать какого-нибудь принца и оженить на этом сокровище, пока оно ублюдков не наплодило. Потом зачать будущего императора… Все, что из этих планов можно вывести — государыня на здоровье не жалуется и намерена править еще, по меньшей мере, лет двадцать. А девица, судя по неуравновешенности, характером в папочку, герцога Карла Леопольда. Если потомство такое же будет, впору молиться за спасение Руси. Ничто другое не поможет.
Впрочем, есть еще одна царская воля. Завещание императрицы Екатерины. Совсем недавно князь Дмитрий Михайлович Голицын, который в тридцатом году объявил незаконным потомство Петра Великого от второго брака и посадил на трон вдовую курляндскую герцогиню, дождался воздаяния. Он был обвинен в злоупотреблениях по службе, предан суду Сената, приговорен к смертной казни, высочайшим повелением помилован в Шлиссельбург и там доведен-таки до смерти. Сие дает повод все резолюции, акцептованные столь замерзелым злодеем, считать преступными, а завещание — восстановленным в законной силе. Тогда у нас появляется выбор. Не нравится мекленбургская линия — выбирайте голштинскую! В городе Киле живет девятилетний мальчик, внук царя Петра через дочь Анну. Зовут его Карл Петер. Он имеет важное преимущество перед незачатым пока соперником, поскольку давно уже зачат, рожден и даже успел порядком вырасти… Что вы говорите? Елизавета? Какая Елизавета?! Она не наследница. Вот если мальчик умрет, не успев оставить потомства, тогда в этой линии наступает очередь Лизаньки. В завещании четко сказано: сначала старшая дочь и рожденные от нее принцы, потом только младшая. Великий император создал жуткий хаос в престолонаследии, так давайте хотя бы не усугублять.
Резюмируя вышесказанное: Анну Иоанновну заменить некем. Если ценой моего возвращения станут безвластие и смута, подобные тем, что начались при Годунове, лучше оставить свои замыслы. Дай Бог государыне здоровья и долгой жизни, а подданным — смирения, чтобы терпеть ее власть. Власть несправедливую, бесчестную и бесстыдную. Возьмите хоть голицынское дело. Замучить несчастного старика, который когда-то вытащил ее из пыльного чулана и сделал императрицей — все-таки полное свинство. Проступки, вмененные князю, вряд ли заслуживали чего-то большего, нежели словесный реприманд. Понимаю, что видеть рядом с собой человека, коему всем обязана, невмоготу. Но разве других способов нет? Сослать в имение было бы прилично, а так-то зачем?!
И еще пару слов о престолонаследии. Век с четвертью, вот сколько времени прошло с тех пор, как русские люди собрались всей землею и выбрали себе царя. Убогонького, конечно: после кровавой смуты хотелось иметь государя смирного и милостивого. Натура восстановила равновесие, в третьем поколении получили Петра. Однако после него — почему бы престолонаследные споры не решать, как встарь, земским собором? Нынешнее устройство этих дел в высшей степени неразумно и грозит государству катастрофой.
Вот такие мысли (и другие, столь же печальные) терзали мою душу, как прометеев орел — печень титана. Спасали от них лишь натуральная философия и опыты с летучими машинами. Наука подобна опиуму. Как опиум приглушает телесную боль, так она утоляет нравственные страдания. Представьте, какая радость охватывает естествоиспытателя, когда его творение скользит в струях воздуха, уподобившись созданиям Божьим!
Не сразу — ох, не сразу так получилось! Первая партия (как я тогда называл, первая стая) промежуточных моделей вся погибла. Малейшее завихрение отклоняло их от курса, кружило по кругу и бросало назад на скальный обрыв, с которого пущены. Что ж, неудача — повод не для уныния, а для поиска лучших решений. Помощников было в достатке: палаццо в Каштеле, арендованное еще на год, с трудом их вмещало. Пришлось для слуг перестроить каретный сарай, где прошлый год находилась лаборатория, а сию последнюю перенести в парадную залу. Что я сюда приехал, балы давать?! Благодаря неудачным попыткам, ребята наловчились мастерить артифициальных птиц с таким искусством, о каком при начале сих опытов даже мечтать было нельзя. И понимали меня с полуслова: словно к дарованной Создателем паре, у меня выросла еще дюжина рук, молодых и ловких. Еще бы умов додаточных получить, острых и свежих, в такой же пропорции… Умы были, большей частью, другим заняты: как бы навострить лыжи в ближнюю деревню, да полюбезничать с крестьянскими девушками. Приходилось довольствоваться своим, ношеным.
Теперь смешно вспоминать, как долго пришлось ломать голову ради одоления склонности моих пташек разворачиваться по ветру. Это при том, что образец для подражания не только существовал, а прямо-таки мозолил глаза, во множестве экземпляров. На каждом приличном доме в городке обязательно торчал флюгер. В конце концов, эти скрипучие крутящиеся железяки пробуравили броню моей тупости, а модели обрели на своих сорочьих хвостах еще и вертикальную лопасть, как у рыбы. Это заставило их не уваливаться под ветер, а приводиться к нему, и в любых условиях неизменно держать курс левентик. Отныне пробные полеты превратились в божественное, великолепное зрелище.
Дождавшись дня с благоприятной погодой, когда устанавливался ровный умеренный ветер с моря, я с несколькими ассистентами и одним резвым конем взбирался на гору по караванной тропе, каким-то чудом проложенной в стародавние времена среди отвесных скал и петляющей между ними самым причудливым образом. С собой несли рукотворную птицу. Тем временем другая команда садилась в небольшую весельную лодку и выходила в залив. Путник, не пожалевший своих ног и поднявшийся хотя бы до середины склона, бывает вознагражден прекрасным видом, перед ним открывшимся: вся Спалатская бухта, еще римлянами ценимая за красоту и удобство, как на ладони. От Спалато до Трогира на пятнадцати верстах берега я насчитал тринадцать небольших крепостей, построенных большей частью лет двести назад. Турки находились тогда в зените своей воинственности, воодушевленные магометанским фанатизмом, и сомнительно было, смогут христиане остановить врагов, или они так и пройдут победоносно до самого Ла-Манша. Сейчас граница проходит в сорока верстах от побережья, опасность немного отодвинулась, да и артиллерийское искусство не стояло на месте, — поэтому часть старинных укреплений военное значение утратила и превращается постепенно в живописные руины.
На полугоре или чуть выше дорожка расширялась, образуя длинную пологую площадку, ориентированную перпендикулярно линии берега. Она-то и была мною выбрана для начала полетов. Иногда я сам, а чаще — один из учеников, усевшись на коня верхом, брал в руку крылатую игрушку и мчался вскачь, чтобы, разогнавшись, отпустить ее и свернуть в сторону. Тропа это как раз позволяла. Когда ветер бывал посильней, хватало порою и человечьих ног; мы быстро научились оценивать возможности. Держа модель в руке, по усилиям чувствуешь, полетит она или грянется оземь.
В недальнем расстоянии, склон круто уходил вниз и превращался в скалистый обрыв, а птица моя, набрав по наклонной линии недостающую скорость, устремлялась встречь ветру к морскому берегу. Дальше как повезет: бывало, она плавно ложилась на волны, а лодочная артель стрелою мчалась ее вылавливать; бывало, что и на дереве повисала, не долетев. Раз даже случилось: орел напал, приняв, уж не знаю, за добычу или за соперника. Иногда первыми к модели успевали местные сорванцы, и приходилось ее выкупать за пару сольдо. Можно бы забрать и безденежно, только в следующий раз при таком обращении рискуешь даже щепочек не найти: четыре аршина полотна стоят достаточно, чтобы пробудить в мальчишках воровские таланты.
Жители относились спокойно к чудачествам приезжего графа: чем более возвышаетесь вы над другими людьми благодаря богатству и знатности, тем более дурацкие выходки можете себе позволить, не возмущая их чувств. Одно исключение было, и довольно неприятное: местный священник, падре Флориано. Венецианцы вообще-то мало религиозны; из всех итальянских народов это, наверно, самый афеистический. Понятно, почему: глубокую веру скорее встретишь у патриархальных сельских простаков, чем у истомленных вечной погоней за деньгами жителей торгового города. Но я за все время, прожитое в Каштеле, ни разу не заглянул в храм и тем, видимо, зашел за черту, которую сей верный служитель Рима почитал границей допустимого. Служители из русских у меня каждое воскресенье ходили в греческую церковь города Спалато; единственный мой католик, тосканец Марчелло Нери, тоже мессу посещал… В этом, наверно, все дело: слуга посещал мессу, а господин — не удостоил. Ревнивого падре жадность обуяла. Как допустить, что такой богатый человек ничего церкви не жертвует?! Расспросил Марчелло, не еретик ли его хозяин. Оказалось, нет. Ну и… Словом, в один ясный осенний вечер только я ужинать собрался, слуга докладывает: «К Вам, Ваше Сиятельство, здешний поп». Велел спросить, чего ему надо. «Поговорить желает». Не гнать же в шею?!
Нет, слишком мало я прожил в Англии. Не то завел бы лакея, важного, как страж у райских врат, и холодного, как лед. Чтобы как вышел, да сказал: «Его Сиятельство не принимает», так и понял бы падре, что прежде получения кардинальской мантии ему сюда соваться невместно. Или передал бы от хозяина шиллинг на нищих, с такою рожей, будто граф гинею жертвует. А то пришлось этого наглеца пустить, накормить ужином, да еще разговаривать с ним!
После общепринятых лицемерных вежливостей, гость обнаружил трогательную заботу о душе хозяина и начал допытываться, подлинно ли мое сиятельство хранит приверженность матери нашей, римской церкви, и не набрался ли ересей за время странствий. Чего он ждал — что я оправдываться начну? Шиш тебе, плешивый: на дворе не пятнадцатый век!
— Падре, ваша обязанность — заботиться о добронравии местных крестьян и следить, чтоб они не возжелали, по простодушию, ни жены ближнего своего, ни там осла или вола. Аристократ и пейзанин не могут подлежать попечению одного и того же духовника: между ними слишком большая дистанция. Вам не следует совать свой нос в дела благородных, ибо сия недопустимая дерзость означает посягательство на мировой порядок, установленный Всевышним. Говорите без обиняков, зачем пришли, или уходите.
Другой бы, как улитка, спрятал рога под раковину и уполз; но к воспитанию падре Флориано явно приложили руку иезуиты. Он облекся христианским смирением:
— Сын мой, не гневайтесь на кроткого служителя Божьего. Я не смею претендовать на духовное руководство в отношении столь высокой особы. Меня печалят лишь слуги Вашего Сиятельства, пребывающие во мраке схизмы и тем лишенные надежды на жизнь вечную…
— Почтеннейший, не надо называть меня сыном: хотя бы потому, что сын не должен быть старше отца. Прожив много лет в России, могу Вас уверить: там такие же добрые христиане, как мы с Вами. Не берусь судить о тонкостях догматики и обряда, коих мне, как простому воину, позволительно не знать. Только скажу по собственному опыту: и среди русских, и в еретической Англии, и в полуеврейском Ливорно, — везде свои праведники и грешники, честные люди и подлецы. Будь Господу угодна лишь одна вера, других бы на свете не было.
— Вы и магометан считаете угодными Господу?!
— Насчет магометан не уверен. Но и между ними есть добрые и разумные люди. Возможно, они сами пришли бы к Христу, если б не опасались, что им за это отрежут головы.
— А Ваши слуги? Их, надеюсь, никто не накажет за обращение в истинную веру?
— Я предоставляю моим людям самостоятельно заботиться о спасении своих душ, никак не вмешиваясь в их выбор. И Вас настоятельно прошу не вести проповедей в этом доме. Мне совсем не нужны здесь религиозные распри. Хотите кого-то склонить на свою сторону — сделайте веру привлекательной. Живите праведно, заботьтесь о бедных и немощных — что там еще?!
— Именно о бедных я и хотел поговорить. Не желает ли Ваше Сиятельство помочь сим несчастным?
— Постоянно им помогаю. Даю работу. При любой моей фактории можно получить нетяжкую работу за кров и пищу. Даже увечным находится дело: был у меня в Амстердаме один слепой, так он расплетал старые канаты лучше любого зрячего!
— Есть же сироты и несчастные вдовы, обремененные детьми…
— И такие приходят. Для них подбирают занятия, соразмерные силам. Для детей — в том числе. Которые слишком малы, кормятся заодно с матерью: лишний черпак похлебки мою компанию не разорит. А раздавать подаяние просто так — это брать у тружеников и дарить паразитам. Уверен, девять из каждых десяти попрошаек вполне способны прокормиться честным трудом. Просто не хотят.
— В таком случае помогите одному из десяти, который действительно нуждается.
— Не дам ни сольдо, потому как все равно не дойдет. Более крепкие и здоровые отпихнут сего страдальца и перехватят добычу. Или прикинутся еще более бедными и несчастными, чем он. Даже попасть на глаза Вам или мне такой вряд ли сможет. Мир жесток, и здесь мы бессильны.
— Это Вы жестоки, Eccellenza. Такие слова страшно слушать. Отдать заботу о душе в собственные неумелые руки каждого мирянина значит бросить беззащитных людей на растерзание силам ада, подобно как язычники бросали христианских детей голодным львам. Несть бо спасения вне и помимо римской церкви. Вы глубоко заблуждаетесь, если мните себя христианином. Прощайте.
Падре ушел. Может, я и лишнего наговорил из чувства противоречия, однако сей иезуитский выкормыш с самого начала меня разозлил. Небольшое время спустя по городку стали ходить слухи, будто граф Читтано афеист, чернокнижник, колдун, красит своих колдовских птиц кровью нерожденных младенцев (полотно пропитывалось олифой с добавлением сурика, по цвету выходило похоже), и еще множество подобных фантазий. Центром их возникновения служила, судя по всему, кучка нищих, постоянно толкущихся у церкви. Безусловных доказательств, кем сия атака инспирирована, не было и быть не могло, но подозрение пало на обиженного мною Флориано. Конечно, дать ему денег оказалось бы стократ выгоднее, чем терпеть потом клевету — вот только все нутро мое восставало против благочестивого вымогательства. Не всегда мы поступаем согласно расчету: бывает, что чувства берут верх.
Работа, между тем, продвигалась. Зимой в Спалато часто льет дождь или падает снег, а ветры преобладают неблагоприятные. Поэтому с Филиппова заговенья до Благовещения годных для полетов дней набралось не более десятка. Остальное время посвящалось опытам в мастерской или в саду при усадьбе. Труды оказались не втуне. Кроме множества мелких улучшений, удалось разобраться с пропорциями косого паруса (и, соответственно, крыла). Было доказано измерением и расчетом, что крылья предпочтительно делать узкие и длинные, как у чайки или буревестника, с умеренным сужением к концам. Когда в теплый апрельский день первая модель из новой стаи поймала воздух полуторасаженным полотнищем, сразу стало понятно: то, что надо. Лодочники еле нашли ее Бог знает где!
Еще несколько полетов с грузом до десяти фунтов (что при масштабировании до полноразмерной машины дало бы сто шестьдесят), и я, суеверно перекрестясь, велел делать шестисаженного монстра. Бамбук еще не приплыл: корабль из Кантона ожидали через месяц или два; но избыточный вес меня теперь не пугал, ибо первый образец большой машины должен был полететь так же, как малые, без человека. По всем расчетам, с горы до залива дотянет; при следующих пусках подгружу балластом и посмотрю, как изменится дальность. Если ее не хватит, найду гору ближе к воде. Здесь таких множество, только взбираться на них неудобно. И место взлета придется готовить — но это в любом случае. Где взлетали малые машины, для упряжки места не хватит. Разве что под откос лошадок пустить.
Подумав и посчитав, решил коней вовсе не тащить на гору. Поставить на краю обрыва рангоутную конструкцию с блоком, пропустить линь, подвесить пятипудовый мешок с камнями, — вот вам, пожалуйста, тягловая сила. Не хватит пяти пудов — десять подвесим. Мелочь, но важная — крюк в носу машины, с которого веревочная петля сама свалится по окончании разгона.
Летели дни. Парни мои вошли в азарт, даже стали забывать про сельских красавиц. Впрочем, тут еще Великий пост подкатил, с запретом на любострастные забавы. Очень вовремя! Когда ребята спят на ходу после ночных приключений, должной аккуратности от них не добьешься. Машину сделали быстро. Парадная зала была бы для нее тесна, двери — узки, поэтому собирали птичку в саду, под большим парусиновым шатром. Как только сей дракон предстал в полном размере, очевидно стало, что внести его наверх по старой караванной тропе не удастся: разве наняв полтысячи работников и потратив год на устранение многочисленных дефиле. Уж лучше вновь разобрать и соединить части прямо на горе, поставив для защиты от непогоды такой же шатер. Но это на один раз; ужели повторять такое при каждом полете?! Оценив возникшие трудности, я вспомнил другой способ пуска, ранее приходивший мне на ум: на ровном месте, с мчащейся против ветра повозки. Невысоко поднимемся и недалеко улетим, однако для начала и этого хватит. Хоть сотня шагов — важен принцип!
Только где найти подходящую дорогу? Тележка годится та же, что приготовлена для взлета машины с горы, но ведь у нее колея — две сажени! Меньше нельзя, при шестисаженном размахе крыльев. Обыкновенная повозка была бы неустойчива. Учтите вдобавок, что упряжку на полном скаку по струночке не удержишь, а крылья не должны задевать заборы или растущие вдоль дороги деревья… Чертова Далмация, как здесь тесно! Это вам не русская степь, где иной раз проскачешь сотню верст, не встретив ни человечьего жилья, ни вспаханного поля. Здесь каждый клочок равнины возделан, огорожен, застроен либо усажен деревьями. Горы — другое дело. Они почти безлюдны, там лес иди пастбище. А на ровном месте — везде дорожки узенькие, обочь них с обеих сторон произрастают сливы или абрикосы.
Одно местечко подходящее найти удалось, милях в трех по направлению к Трогиру. Правда, требовалось убрать насаждения, а саму дорогу подровнять и расширить; но с этим справилась бы сотня крестьян за пару дней. Поговорив с тамошним старостой, пообещал ему тридцать дукатов, в расчете, что он сделает, как обычно: главную сумму втихую возьмет себе, а мужиков подрядит работать за пару грошей и выпивку. Однако сей патриарх широко разгласил мое предложение. Жители ближней округи почувствовали себя уязвленными. Несправедливо: заморский граф квартирует у них, а деньги с какой-то стати платит соседям! К ограде моего палаццо явилась толпа.
Выйдя для разговора, узнал много нового о свойствах летающих моделей, вот уже полгода рассекавших воздух над головами крестьян. Оказывается, после каждого полета куры в округе перестают нестись — потому что петухи, увидав в небесах этакое чудище, пугаются и теряют всякий интерес к противоположному полу. Та же беда случается и с некоторыми человеческими мужчинами, а у женщин бывают выкидыши; которые все же донашивают — рождают уродов. Ежели сия монстра пролетит над полем, посевы гибнут, над садом — деревья засыхают. Плюхнется в море — рыба от берегов уходит, оставшаяся всплывает кверху брюхом. Рыбаки уже мрут от голода. Гости единодушно считали, что за столь тяжкий ущерб им следует с меня возмещение. Расходились только в размерах оного: одни называли сумму в сто дукатов, другие — тысячу. Кто-то крикнул, что миллион — но столь радикальное предложение поддержано не было, поскольку никто (не исключая самого крикуна) не знал таких чисел, а многие и слово-то впервые слышали.
И смех, и грех. Ну что с простаками делать?! Сразу в харю — вроде неприлично. А иного ничего не заслужили. На первый случай, словесно отругал. В качестве пряника позвал на расчистку дорожки, обещая хорошую оплату. Нет, не клюнули! Мужики разохотились на дармовщинку, а им суют работу под нос! Разошлись недовольные друг другом, обмениваясь взаимными угрозами. Не скажу, чтобы поверил в их серьезность — однако на всякий случай ночью велел сторожить дом не поодиночке, а парой, и не спать на посту. Как в воду глядел!
Проснулся от звука выстрела. Темно, будто в погребе: как раз новолуние стояло. Шуганув денщика, сунувшегося сдуру зажигать свечи, подхватил заряженный штуцер и крадучись спустился на первый этаж: надо быть полным кретином, чтобы выглядывать под огнем из окна спальни. Ребята мои, тоже разбуженные пальбой, без суеты брали оружие и становились в простенках. Шустрый Сенька Крутиков хотел уж было скользнуть в сад через заднюю дверь, чтобы разведать обстановку, но снаружи вновь загремели выстрелы, часто, как в бою. Посыпались стекла. Дьявол, да сколько же их там?! Или они пытаются создать преувеличенное впечатление о своей силе и бьют по окнам, чтобы нас запугать? В темноте замелькали факелы, заметались багровые тени.
— Ружья у всех заряжены? Огонь по команде, прицельно. Кто будет мазать, тому чистить яму в нужнике. Приготовиться. Целься! Пали!
Наш залп прозвучал дружнее и внушительнее, чем у нападавших. Кто-то завизжал резаным поросенком — попали! Парни приободрились.
— Заряжай!
Дождавшись, пока все изготовятся продолжать бой, расставил людей и велел атаковать, через окна и двери одновременно.
— В доме не отсидимся, спалят. Выскакиваем и прижимаемся к стенам. Держимся в тени. Вперед — только по моему слову и все вместе, иначе друг друга перестреляем. Давай!
Кто сам, кто после хорошего пинка, ребята кинулись наружу. Момент был опасный: серьезный противник, расставив вокруг палаццо стрелков, в пару секунд уполовинил бы мои силы. К счастью, в шайке не оказалось воинов — одни тати. Ответного удара ночные удальцы не сдержали. В свете разгоравшегося пожара мелькнули спины врагов — я дал им залп вдогонку и собственноручно влепил одному в поясницу штуцерную пулю.
— Воды!
Но было уже поздно. Артифициальная птица пылала огненным фениксом. Тушить бесполезно. Дом и надворные постройки, куда тоже закинули несколько факелов, удалось отстоять. Одного из сторожей, Андрюшку Лобова, нашли зарезанным (он-то всех и спас, успев выстрелить), другой клялся и божился, что не спал — только веры ему в этом не было. Ладно, не пойман — не вор. Нападавшие потеряли двоих и, судя по следам крови, имели раненых. Под горою их ждали лошади, дальше следы терялись на каменистой дороге.
Невыспавшийся, злой и пропахший гарью, я вернулся к дому, когда уже совсем рассвело. Осмотрел неприятельские трупы — если быть точным, один труп и одного умирающего, ибо парень с перебитым хребтом доживал последние минуты. Говорить он уже не мог.
— Чужие или здешние?
Ребята молча вглядывались в убитых врагов. Почти всем ночной бой был первым, но смущения никто не испытывал. Так мир устроен: или ты, или тебя. Кто-то сказал:
— Этого, в суконной жилетке, я видел вчера. Ну, когда мужики приходили.
— Значит, из соседней деревни?
— Нет, чужак. Двое или трое таких было. Стояли сзади, молча.
— Ты что ж, дурень, сразу не сказал, что там не одни крестьяне?!
— Думал, родня кого из местных. Мало ли… Они тут на похороны да крестины до седьмого колена всех собирают. С нами лаяться — тоже могли позвать.
Могли-то могли… Только я и сам уже вспомнил. Да, были такие. Тихие. С видом пастухов при стаде. Дьявол, ну как же мне на ум не пришло, что крестьян кто-то направляет?! Любой мужик сызмала знает: с сильным не борись, с богатым не судись. Пойдет ли он ругаться с сиятельным графом, пока не подтолкнет его некто, имеющий власть над ним? Не обязательно явную власть: иной разбойник влиятельнее губернатора. А разбойники вправе на меня обижаться, ибо денег не дал, просимых под благовидным предлогом борьбы с турками. У турок тоже не счесть претензий ко мне. И у римской церкви, в лице падре Флориано… Всех обидел, разве кроме гражданского и военного начальства в Спалато. Впрочем, как знать? С начальством надо дружить и делать подношения; оно может принять за обиду и то, что его просто не замечают.
Вот как раз и повод подружиться. Поскольку есть убитые, без официального дознания не обойтись. Может, и впрямь найдут виновных?
— Марчелло, собирайся. В город поедешь, отвезешь письма проведитору и начальнику гарнизона.
Присланный из Спалато чиновник выглядел, прямо скажем, мелковато. Осмотрел, обнюхал, расспросил… Убрался, не сказав ничего вразумительного… Даже предложение субсидировать розыск его, по видимости, не вдохновило. Действительно, несколько дней спустя посыльный принес письмо: ввиду важности случившегося, расследование передано в Зару, в канцелярию генерального проведитора, имеющего главное начальство над всею Далмацией. Сиятельного графа нижайше просят, буде явится возможность, оказать честь сему присутственному месту своим посещением.
Лицемеры, чернильные душонки! До Зары, между прочим, больше ста верст. Хотели б уважить — послали бы людей в Каштеле, не портя бумагу лживыми формулами вежливости. Ловить разбойников, не выходя из кабинета, спору нет, удобно… Кряхтя и ворча, разместился в каюте небольшой бригантины, нанятой для путешествия: ехать каретой, при наличии моря, было бы напрасным издевательством над собою.
Канцелярский служитель, услышавший мое имя, явно изменился в лице. С чего бы? Сами же приглашали. Впрочем, он разъяснил свое смущение: никого из начальства в присутствии нет, а заставлять столь высокую персону ждать… Час или два всего лишь…
— Ничего, не извольте беспокоиться. Здесь найдется сколько-нибудь приличная таверна, чтобы подкрепиться с дороги?
Таверна, разумеется, нашлась. При повторной встрече служитель прямо-таки лучился счастьем.
— Что, синьор Кавалли изволил появиться?
— Нет, генеральный проведитор в отъезде, однако есть иная особа, достаточно высокая, чтобы принять Ваше Сиятельство. Извольте…
Проводив меня длинной анфиладой комнат, он угодливо растворил дверь. За массивным столом сидел некто в черном, охвативший гостя цепким взглядом, но не соизволивший встать. Торопливый топот послышался сзади, и в залу ворвались вооруженные люди. Меня крепко схватили за локти. Двери за спиною черного тоже распахнулись: оттуда вбежала такая же толпа.
— Синьоры, вы ничего не путаете? Это на меня напали, а не наоборот!
Не обращая ни малейшего внимания на протесты, стражники отобрали шпагу и спрятанный под одеждой пистолет, обшарили с ног до головы в поисках иного оружия; старший из них обернулся к черному с видом угодливости:
— Что дальше прикажете, синьор советник?
И только тут до меня дошло, что к проведиторской канцелярии субъект в черном никакого отношения не имеет. Государственный инквизитор, вот это кто! Исполнитель тайных решений Совета Десяти, обладающего правом жизни и смерти над каждым гражданином республики. Юридическими формальностями Совет не связан: приговоры выносит заочно, оправдания не принимает, осужденных на казнь служители топят по ночам в канале Орфано. Когда-то эти фигуры в старомодных долгополых одеяниях внушали ужас всем, вне зависимости от положения и богатства; потом их полномочия урезали — в отношении действующих должностных лиц. Прочим они по-прежнему опасны.
— Заковать и доставить на корабль. Отплываем сегодня же. Преступника нужно доставить в Город как можно скорее.
В неволе
И зачем было так торопиться с доставкой арестованного графа Читтано в Венецию, если первый допрос мне учинили только через две с половиной недели по прибытии? Что-то заело в жерновах государственной машины: здесь это происходит довольно часто. Венецианцы слишком боятся возможной узурпации, поэтому облеченных страшной и тайной властью членов Совета Десяти переизбирают ежегодно. Продление полномочий на второй срок не допускается: это время отведено для проверки возможных злоупотреблений предыдущего состава. Не знаю точно (ибо сие сокрыто покровом глубочайшей тайны), но подозреваю, что государственные инквизиторы, коих децемвиры назначают из своего числа, переменяются еще чаще. Как при такой системе сохранить преемственность действий и порядок в делах, есть секрет еще более таинственный, который, вероятно, не откроет никто и никогда. Даже не знаю, кого в таком случае предпочесть: одного бессменного генерала Ушакова или десяток самоуверенных дилетантов?
Что за претензии имеет ко мне Serenissima, удалось догадаться только на допросе. Тайная полиция ничего своим жертвам не объясняет, а служители тюрьмы Пьомби, если бы вдруг и пожелали объяснить, не обладали такими сведениями. Оказалось, все дело в прошлогодних планах вооруженного действия против турок: республика так боится грозных соседей, что искореняет и преследует любые враждебные к ним замыслы с ревностью, достойной истовых последователей Магомета. Тут скрывать было нечего, ибо прожект развалился без надежды возобновления. Больше осторожности требовалось в ответах о греческих клефтах, которые тоже интересовали Совет Десяти, но здесь у меня нашлась позиция, удобная для обороны. Дескать, всю деловую сторону разбоя вел Кассар; я же брал на себя лишь политические вопросы. Понятно, что теперь, по миновании времени, они в значительной мере утратили актуальность. Почти все можно было без вреда обнародовать — исключая разве несколько писем, давно уничтоженных, и несколько разговоров, о коих никто не знал и даже не догадывался. Это позволяло держать себя на допросах с видом оскорбленной невинности, отчасти даже недоумения: мол, как это можно из-за таких пустяков запирать в кутузку имперского графа?!
Кстати, мой титул создал Совету изрядные сложности. С одной стороны, «Алессандро Джованетти, также именующий себя Алессандро Читтано» — урожденный венецианский подданный, причем низкого происхождения. В городе три сословия: знать, иначе нобили или патриции, зажиточные горожане-читтадини, и в самом низу — пополаны, сиречь простолюдины. Семья дядюшки Антонио, в младенчестве отравившего меня школьной латынью, принадлежала, несмотря на бедность, к среднему разряду. Граница здесь проходит не по величине дохода, а по способу его добывания: презренным ручным трудом или «благородными ремеслами» зарабатывает на жизнь глава семейства. Это не означало, что статус дядюшки механически распространялся на племянника. Дознаватель меня изрядно удивил, допытываясь о мелочах полувековой давности: исполнял я при служителе Арсенала профессоре Витторио Читтано лишь должность секретаря, или же работал руками в его мастерской? А узнав, что и руками тоже — преисполнился важности, словно бы допрашиваемый оказался на несколько ступеней ниже чином, чем ранее предполагалось. Ну что тут сказать?! Это ведь не отдельный урод какой-то попался: всеобщий дух народа проникнут отвращением к труду. Среди знати даже на занятия торговлей, создавшей когда-то саму Венецию, начинают поглядывать с пренебрежением. Здесь оперная певица получает в сотни раз больше, нежели умелый мастеровой, и даже больше, чем боевой генерал. Сей город обречен. Ему ничем уже не поможешь.
Так вот, происхождение побуждало видеть во мне местного уроженца, простолюдина самого низшего ранга; титул же требовал отношения, подобающего знатному иностранцу. Такая двойственность, с учетом опасливо-враждебного отношения моих компатриотов к иностранцам (за исключением тех, кто приезжает на карнавал сорить деньгами) вызывала у тайных служителей республики подобие перемежающейся лихорадки, когда больного бросает то в жар, то в озноб. Допросчики часто менялись, перескакивали от грубостей и угроз к вежливым, почти куртуазным, беседам и обратно. Впрочем, не исключаю, что это была продуманная и рассчитанная линия, имевшая целью расшатать и привести в смятение чувства заключника, лишить его душевного равновесия и побудить сдаться; однако в таком случае инквизиторы сильно просчитались. Если б на меня действовали подобные дешевые трюки, я был бы к ремеслу своему непригоден. Как можно властвовать над людьми, если ты сам позволяешь любому прощелыге управлять собою?! Нет, братцы. Не на того напали.
Бывало, что грозили и пытками. Такие способы здесь в ходу. На это обыкновенно следовал ответ, что пребывание в тюрьме Пьомби — само по себе пытка, добавить же к нему еще иные мучения означает риск, что узник, отнюдь не юный и не самого крепкого здоровья, прейдет в лучший мир до времени, лишив инквизиторов удовольствия с ним беседовать и не успев ответить на интересующие их вопросы. Тут присутствовала доля лукавства. В сравнении с Трубецким бастионом, каморка под крышей Дворца Дожей могла считаться местом отдохновения. Только одно неудобство: страшная жара. В солнечные дни свинцовая кровля накалялась, будто каменка в русской бане. Казалось, плюнь — зашипит. И воздух, как в африканских пустынях. Пол-суток в такой атмосфере кого угодно приведут в исступление ума. Пасмурную погоду считаешь за счастье, дождь оборачивается райским блаженством. Вызов на допрос, в комнату этажом ниже, где намного прохладнее — несказанная радость. Ладно еще, в питье не ограничивали.
Впрочем, эта беда миновалась вместе с летом. В остальном же тюрьма довольно удобная, особенно для людей с деньгами (а других сюда и не сажают). Стражи вежливые, всегда готовые услужить в пределах дозволенного. Через них можно купить еду, одежду, даже мебель. Ежели средства позволяют — хоть гобеленами камеру драпируй. Запрещены оружие, инструменты, все вообще металлические предметы, бумага и письменные принадлежности. Нельзя бриться, даже если бритва ни на секунду не дается в руки узнику. Книги разрешены выборочно. Религиозного содержания (ну, если не еретические) — сколько угодно, а вот за античных классиков уже пришлось побороться. На современных иностранных авторов полный запрет, на вольнодумцев вроде Галилея — тоже. Забота о нравственности тюремных сидельцев, как изволите видеть, самая нежная. Венецианские инквизиторы назначаются от республики, они занимаются преимущественно мирскими делами и никак не связаны с одноименной структурой римской церкви — однако в ханжестве своим духовным собратьям нисколько не уступят.
Сношения с вольным миром крайне ограничены и проходят цензуру, но не вовсе запрещены. Сообщить родне или слугам, где находишься и в чем нуждаешься, дозволяли. Разумеется, при первой возможности я постарался известить о своей участи всех, кто мог содействовать в обретении свободы. Была основательная надежда на неаполитанский двор: во время минувшей войны мои поставки воинской амуниции весьма содействовали дону Карлосу в завоевании нынешних его владений. Решительная протестация со стороны сильного монарха не была бы оставлена властями Венеции без последствий. Но увы! Передаточный механизм от меня к нему пришел в негодность в тот самый момент, когда более всего понадобился. Герцог Лирийский — сей верный друг и добрый ангел, протежировавший мне при дворе Карла, отошел от дел. По причине более, чем уважительной: он умирал от чахотки. Без него все предприятие постигла неудача. До короля-то сведения донесли, но вот обосновать, зачем ему может пригодиться граф Читтано… Насколько мне известно, никаких действий не последовало, исключая ряд неофициальных и ни к чему не обязывающих разговоров между дипломатами.
Еще один призрак вольности поманил и обманул в связи со сменою состава децемвиров, коих переизбирают каждый год к первому октября. Нет, конечно, наивно было бы надеяться, что прямо на следующий день всех узников, унаследованных от старых инквизиторов, так сразу и отпустят. Но я вполне убедительно объяснил на допросах, что на венецианские суда, ежели кто и нападал, так только «дикие» клефты, ничего общего не имеющие с каперами Лампедузы. Эти, с патентами, «дикарей» сами резали при каждой возможности, видя в них ненужных соперников. Так что вины перед республикою на мне нет. А если что и есть — то доказать сие невозможно.
Тем не менее, на мою судьбу это не повлияло. Разве только в одном отношении: после единственной недолгой беседы, допросы прекратились совсем. И приговор не выносили. Что за сатана?! Похоже, опять, как и в России, власти окрысились не за то, что сделал — а за то, что мог сделать неуправляемый и непредсказуемый, по их мнению, граф. Главное, непонятный: а значит, опасный. Как их убедить, что неправы?! Ну вот ей-Богу, никакого дела мне нет до этой вашей политики. И до турок тоже нет дела. Готов поклясться век их не трогать и не обижать никаким способом. Пусть хоть всю Венецию захватят, а в Сан-Марко устроят мечеть. Здесь прекрасно будут смотреться минареты. Последнее, что еще нужно мне в сем постылом мире — две, всего лишь две вещи, не более. Крылья — и ветер.
Нет… Никому не нужны и ни капли не интересны мои клятвы. Осень сменилась зимою. На городских крышах, видимых сквозь решетчатое тюремное окно, выпал и вновь растаял снег. Впечатление создавалось такое, будто бы о сидящем в Пьомби графе Читтано совершенно позабыли. Одно утешало: в каморку, где я дотоле бедовал в одиночестве, стали время от времени подсаживать других людей, большей частью всяческих ciarlatani. Места хватало; а в одиночном заключении скоро сознаешь, что отсутствие собеседника может причинять страдания не менее жестокие, чем голод и жажда. Любому жулику обрадуешься, будто встретил горячо любимого брата.
Мошенники эти, только что вырванные из среды себе подобных и еще не успевшие соскучиться по живым людям, дивились моему радушию — и пробовали на товарище по несчастью свои навыки выманивания денег, порой весьма изощренные. Хорошая экзерциция для ума и воли, а то можно совсем размякнуть без борьбы. У некоторых даже было чему поучиться.
Дольше всех, без малого два месяца, просидел со мною известный биржевой делец, маркиз Чезаре Коломбо. Не ведаю, как он звался при рождении (ибо во внешности маркиза явственно проступали семитские черты) и как добыл свой титул (купил, наверно), но человек это был неглупый и в своем ремесле весьма изощренный. Услышав, каким образом англичане перехватили у меня Вилбуровский завод, Коломбо с ходу предложил полдюжины вариантов контригры, некоторые из которых вполне могли бы сработать. Всевозможные спекуляции на грани закона (а иногда за гранью, благодаря чему мы, собственно, и познакомились) для него служили предметом гордости, как для полководца — одержанные победы. Он охотно делился опытом по этой части, не чураясь, впрочем, приврать для красоты рассказа. Уж у меня-то на выдумку чутье безошибочное. Сам рассказчик; а в юные годы был фантазером, каких поискать.
Но вот уже и Коломбо исчез с горизонта, и сменивший его аббат, подозреваемый в отравлении, совместно с наследниками, богатого старика, и еще один бедолага, уж не помню, в чем провинившийся, — а я все продолжал скучать в Пьомби. Здоровье мое пошатнулось, начали мучить головные боли. Призвали врача (того же, который пользовал самого дожа Альвизе Пизани с его семейством), прослушали обычный вздор о застое крови, выпустили оной с полстакана, — как ни странно, вроде бы стало легче. Может, общепринятая медицинская теория не так уж глупа? Однако, в здешних условиях, не менее убедительной представлялась гипотеза о недостатке моциона, как причине болезни. Потребовал у главного тюремщика разрешить прогулки. Не по земле, конечно: кто станет выгуливать узников на пьяцца Сан-Марко?! По чердаку. Случайно довелось узнать, что некоторых здешних сидельцев пускают туда пройтись. Нет, отказали. Пускают, видите ли, тех, у кого камера тесная или потолки ниже человеческого роста. Графские же апартаменты достаточно просторны.
Ладно, черт с вами. Комнатка моя пифагорской пропорции: четыре шага в длину, три в ширину. По диагонали, стало быть, пять. Туда и обратно — десять. Тысячу раз туда и обратно — десять тысяч шагов. Семь с половиной верст. Словно волк в клетке, час за часом я мерял тесное пространство, отсчитывая на пальцах пройденную дистанцию и предаваясь мстительным мечтам. Будь у меня всемогущество Зевеса, утонула б Serenissima к чертовой матери. Следа бы не осталось, как от Содома. Разве достойна жизни эта боязнь всего вольного, свежего, нового?! Эта старческая немощь во всех делах, внутренних и внешних? Постыдная трусость перед турками? Неудивительно, конечно: последние два или три века ни разу не выбирали в дожи кандидата моложе шестидесяти лет. А чаще всего новому главе республики бывало за семьдесят. Должность дожа пожизненная; буде же который сохранит до преклонных годов остатки разума, сенаторы ему не позволят ни шагу сделать в сторону от устланной коврами дорожки. При коронации сей номинальный властитель дает клятву, вяжущую его по рукам и ногам и почти уравнивающую в бесправии с нами, узниками дворцовой тюрьмы. К примеру, все отправляемые и получаемые им письма читают члены Совета; ему запрещено разговаривать наедине с чужеземными послами и прочими иностранцами в дипломатическом статусе; нельзя иметь собственность вне Венеции; даже развлечения дожа или поведение жены и детей главы государства строго регламентированы. Дворцовые слуги все поголовно за ним шпионят.
А как при таких женихах выглядит церемония венчания с морем? Древняя, но вечно юная стихия венчается старику, в делах любви давно уже ни на что не способному! Как тут не изменить с ловким иноземцем: голландцем, англичанином, кем угодно… Символика эта — вообще полное безобразие. Среднего рода в итальянских языках нет; у венецианцев море — женщина, и повенчаться с ней вроде бы препятствий не находится. Но у всех прочих итальянцев море — мужского рода, поэтому с их точки зрения древний венецианский обычай смотрится, чего уж там, препохабно.
К весне надежды на освобождение в законном порядке окончательно угасли. Единственным путем к свободе представлялся отныне побег. В городе собрались все мои люди, которые могли быть полезны в устройстве оного; я установил с ними надежную и конфиденциальную связь. Каким образом? Простите, друзья: не скажу. Вдруг еще пригодится? От сумы, знаете ли, да от тюрьмы… После внимательного рассмотрения диспозиции пришли к выводу, что через внутренность дворца (путем, коим водят узников) не пройти. В любой стране резиденция верховной власти принадлежит к числу наиболее охраняемых пунктов. Вот через крышу — другое дело. Стену, выходящую на канал Рио-ди-Палаццо, совершенно никто не стережет, ибо она обрывается в воду, не оставляя места для стражников; у иных фасадов наружные патрули не замечены тоже. Ночью, в тумане, зашедшая в Рио-ди-Палаццо лодка не привлечет ни малейшего внимания.
Как влезть на гладкую двенадцатисаженную стену? Очень просто. По краю крыши сделаны зубцы — как будто специально предназначенные, чтобы за них цепляться. Будь в моей команде умелый воин из калмыков или крымских татар, закинул бы аркан с одного раза. Но таких нет; пришлось по-европейски. Изготовили особую катапульту, метающую прочную палку с обмотанными мягкой тканью концами. Это якорь. Он летит, чтоб застрять меж архитектурных украшений, и тянет за собой тонкую, но прочную веревку. Для лазания по ней, сделали хитрые металлические зажимы, закрепленные на перчатках и башмаках и управляемые легким движением пальцев. Попавши на крышу дворца, заблаговременно выученный акробат должен был условным стуком связаться со мною, уточнить местоположение камеры и вскрыть над нею кровлю нарочно для сего придуманным резаком. В общем, подготовка потребовалась сложная и длительная. А что вы хотите? Это Пьомби! Были горячие головы, предлагавшие ускорить дело: для отвлечения внимания поджечь портовые склады или взорвать Сан-Марко, а тем временем штурмануть Palazzo Ducale одновременно с моря и суши. Дескать, сил хватит. Ну да, для взятия дворца хватило бы. А что потом, когда весь столичный гарнизон поднимут в ружье? Уйти не удастся. Два-три человека, может, проскочат под шумок; всех остальных — в жертву. Нет, лучше поаккуратней. Ланцетом, а не дубиной надо действовать. Уже и время назначили: на Пасху, когда чиновниками и стражей, как и всем христианским народом, овладеет праздничная расслабленность.
Главная часть приготовлений была окончена; до решающего дня оставалось менее двух недель. Уже плешивые развратники в сутанах пропели: «Judica me, Deus», то бишь «Суди меня, Боже». Вот, интересно, если бы Он их услышал?! Сразу все храмы вспыхнули бы, пораженные молниями, или небольшая часть уцелела? Внезапно, в неурочный час, загремели замки. Мне приказали выйти в коридор, свели вниз по лестнице и сопроводили в палату инквизиторов. Там, впрочем, ни одного из них не было, а был circospetto Фелицио Бальди — должность сия означает не циркового зрителя, как можно счесть по названию, а что-то вроде судейского секретаря. Впрочем, при венецианской системе правосудия, это почти одно.
И вот этот шут мне объявляет: дело графа Читтано решено. Приказано злодея немедля отослать в крепость Корфу, где содержать впредь до указа. Какой афронт! Так близко была свобода, и все прахом! Сказался больным (не слишком погрешив против истины), велел позвать доктора — тщетно. Если бы даже при смерти лежал, тюремщиков это б не остановило. Пьомби устроена так, что ввести или вывести узников можно лишь через парадные залы Дворца Дожей; поэтому все подобные перемещения совершаются обыкновенно на рассвете. Уже следующим утром два крепких служителя, нежно подхватив меня под руки, почти вынесли на Riva degli Schiavoni — Славянскую набережную, всю запруженную солдатами, посадили на галеру и отправили в путь. Естественно, перед дорогой заковали. Каюта галерная тоже была надлежащим образом подготовлена, с прочными замками и решетками; стража не дремала — оставалось терпеть и ждать.
Под размеренный плеск волн и злобные крики чаек, я пытался отгадать тайные побуждения врагов. Разумеется, главная тюрьма республики не предназначена для постоянного сидения в ней. Слишком мала. По мере разбора дел, узников выпускают или переводят. Чаще всего — в соседнюю Карчери или простонародную Кваттро. Бывает, что и в отдаленные крепости. Но в той поспешности, с которой меня выпихнули с уютного, обжитого дворцового чердака, есть что-то необычное. От объявления перевода до исполнения прошло бы гораздо больше времени, если б чиновников никто не подгонял. Что за жареный петух их в задницу клюнул? Заговор, что ли, открыли?
Чего в республике всегда было в избытке, так это заговоров. Мелкотравчатых, правда. Изрядная часть венецианских патрициев не выдержала сумасшедшей погони за деньгами и разорилась. Таких именуют «барнаботти», сиречь квартирующие в приходе святого Барнабо, где жилье дешевле. Они всегда готовы оказать политические услуги любому, кто хорошо заплатит. Совет Десяти последние двести лет в основном тем и занимается, что расследует грязные сделки продажных барнаботти. Как в его круг внимания затесался имперский граф Читтано — просто ума не приложу.
Бежали дни. Галера резво рассекала волны. Эх, направо бы ее завернуть: в Бари, Тарант или Брундизий! На худой конец, в папскую Анкону. Везде я нашел бы друзей и помощь. Нет, мимо. Оставались, по моему расчету, последние сутки. Вдруг ночью, уже в глубокой тьме, раздались пушечные выстрелы. Безумная надежда на греческих клефтов жила ровно столько, сколько потребовалось корсарам для захвата судна. Послышались мольбы о пощаде, угрожающие крики победителей. Знакомая речь. Турки! Слегка разбавленные шкиптарами и бошняками. Лязгнул замок, дверь распахнулась. Масляный фонарь ослепил после мрака.
— Бу?
— Эвет.
Выволокли из привычного узилища, ввергли в другое. Потом был берег, лошади, караван… Избавлю вас от подробностей, ибо сам оные не помню. Ничего не осталось в памяти, кроме холеной окладистой бороды.
А борода обрамляла лицо. Над нею — румяные щеки, умные глаза. Али-паша Хекимоглу, бывший визирь. Ныне — боснийский санджакбей.
— Как Ваше здоровье, любезный граф? Хорошо ли вели себя мои люди? Если кто-то посмел Вас оскорбить, скажите: я посажу его на кол.
Венецианским наречием он владел практически безупречно. Впрочем, тосканским тоже. Батюшка сего турецкого вельможи в Падуанском университете степень получил: видно, что некая доля образованности перешла и к наследнику. Возможно, что и связи сохранились…
— Благодарю, достопочтенный Али-бей. Все прекрасно. Будет ли мне позволено узнать, как Вы сумели договориться с Республикой о моей выдаче?
Замешательство мелькнуло в его взгляде лишь на долю секунды. Молодец, ей-Богу! Не будь мое внимание столь обострено, мог бы и не заметить. Тогда бы век правды не добиться. Дело подстроено, как случайная стычка. Турки с Венецией не воюют, но судно, чрезмерно приблизившееся к их берегу, имеют право заподозрить во враждебных намерениях и подвергнуть досмотру; при сопротивлении — захватить. Потом дипломаты годами могут оспаривать правомочность сих действий, тягаться о судьбе команды или возврате груза… Вот только не верю я в такую удачу, когда высокопоставленный узник, к коему некая держава имеет претензии, попадает в руки ее агентов по воле слепой фортуны. Случайно перехватить в море, ночью, именно тот самый корабль… Сказки для маленьких детишек. Если оба капитана стараются о встрече, тогда еще есть какой-то шанс.
Надо отдать должное собеседнику: он соображал очень быстро. Маневр, открытый неприятелем, нет смысла далее маскировать. Хекимоглу улыбнулся:
— Все просто, дорогой друг. Керим-эфенди, посланник Султанского Величества Махмуда (да продлит Аллах его дни), посетивший недавно Венецию — мой старый приятель. Стоило ему намекнуть, что не станет требовать возмещения за шалости далматских разбойников на границе, если сенаторы отдадут некого узника, им совершенно не нужного… Вы же знаете нрав наших с вами бывших соплеменников и отношение их к деньгам. Единственным препятствием служило венецианское подданство. Вы ведь от него не отказывались? Отдать своего подданного иностранной державе — и по закону невозможно, и постыдно до крайности.
— Да, это чересчур. Даже для венецианских властей.
— Конечно. Особенно — отдать нам, туркам. Так же, как если б мы выдали христианам преступника из правоверных. Предел бесчестья! Улемы взбунтовали бы чернь, и всем, учинившим сие непотребство, не поздоровилось бы.
— Что ж, преграда обойдена со всем возможным изяществом. Искренне восхищен представленною пиесой. Тонкий замысел, блестящее исполнение. На море разыграть такое особенно трудно. Надеюсь, команда галеры, меня перевозившей, не будет обращена в рабов?
— Стоит ли Вашему Сиятельству беспокоиться о сих ничтожных червях? Их выкупят, дешево и скоро.
— Благодарю. Мне было бы очень жаль, если б эти достойные люди из-за меня пострадали. Полагаю, никто из них, кроме капитана, не знал о совершающемся беззаконии. Возможно, и капитан — не во всех деталях. Позволите ли еще один вопрос, уважаемый Али-бей?
— Сколько угодно, досточтимый синьор Алессандро.
— Я только Вам должен быть благодарен за перемену судьбы, или неравнодушные к моей участи есть и в столице?
Вновь по лицу турка пробежала легкая тень недовольства — и тут же исчезла, уступив место прежней маске радушия. Явно, у него были веские причины стараться завоевать мое доверие, а посему всемерно избегать лжи или неоправданных умолчаний.
— Найдутся. Хотя не на самом верху.
— Полагаю, один из моих давних приятелей — среди них?
— Вы очень проницательны. Но все же не придавайте излишнего значения столичным интригам. Его Султанское Величество (да продлит Аллах его дни) даровал нам право здесь, в Боснии, вершить дела по собственному разумению. Вплоть до жизни и смерти любого из людей.
— Наша жизнь и смерть — равно моя и Ваша, дражайший Али-бей, — в руце Всевышнего. Все люди смертны; никогда не питал надежды, что Творец миров пожелает сделать исключение ради такого нечестивца, как я.
— Воистину, на все воля Аллаха. Хотелось бы и дальше наслаждаться умной беседой, но мне надлежит отправиться в поход, и не далее, как завтра. Вы достаточно хорошо себя чувствуете для нового путешествия?
— Увы, тюрьма еще никому не шла на пользу. Мои слова, что все прекрасно, относятся лишь к действиям Ваших воинов, отнюдь не к собственному здоровью.
— Это видно с первого взгляда. Неверные псы почти замучили Вас.
— Неужели кому-то есть до этого дело?
— Поверьте, есть. Я наблюдаю действия генерала Читтано с тех самых пор, как Дели-Петрун привел свое войско на реку Прут. У такого противника, как Вы, дорогой граф, не грех учиться. И знаете… Среди всех полководцев Востока и Запада не найдется другого, коий был бы настолько недооценен. Недооценен и несправедливо гоним. Воистину, Аллах помутил разум неверных.
Плюнув на вежливость, впился бесцеремонным взглядом в санджакбея — но в глазах его не было лукавства. Похоже, он говорил то, что думал.
— Спасибо на добром слове, высокопочтенный Али-бей — однако боюсь, что этого не исправить. Годы идут, а мы, к сожалению, не молодеем. Вероятно, все мои воинские успехи уже позади.
— Слава Аллаху милостивому, милосердному. Будь они впереди — где бы искать спасения правоверным?! Только не надо считать жизнь оконченной, пока не будет на то Его воли. Вы можете дать слово чести, что не попытаетесь бежать оттуда, куда я Вас помещу?
— Не могу. Честь идет об руку со свободой, а не наоборот.
— Тогда не обижайтесь, что придется терпеть бесцеремонность стражи. Ибрагим!
За спиною беззвучно вырос могучий неразговорчивый турок, сопровождавший меня с самого корабля. Выслушав распоряжения хозяина, он молча низко поклонился ему, взял меня за руку выше локтя с максимальным почтением, какое позволяли его железные пальцы, и проводил в сухой и чистый, но, увы, бдительно охраняемый покой. Два или три дня спустя, поутру, подали карету (вероятно, похищенную башибузуками у какого-нибудь цесарского вельможи) и в сопровождении приличного конного отряда повезли извилистою дорожкой куда-то в горы. Последнюю часть пути, недоступную для колесных экипажей, пришлось сделать в седле, под удесятеренным вниманием охраны.
Бошняцкая деревня, в коей закончился путь, представляла природную крепость. К ней вела единственная тропа, в изгибах которой дюжина стрелков могла бы остановить любую армию — если бы вдруг командующий генерал этой армии вздумал за каким-то дьяволом овладеть пристанищем диких и нищих пастухов, с подвластными им баранами. Имя сего приюта двуногой и четвероногой живности молчаливый Ибрагим назвать не соизволил. Главу стражей и вовсе можно было счесть за глухонемого, если бы не короткие и безропотно исполняемые приказы, раздаваемые изредка подручным. Со мною никто из них не говорил, исключая случаи, когда узник порывался проникнуть на заповедные для него территории. Тогда следовал окрик, запрещающий жест — никаких слов. Судя по всему, любые разговоры с пленником санджакбей запретил под смертной казнью.
Однако, меня безумно радовало уже то, что можно гулять под вольным небом. Хоть целый день, лишь бы не ночью! По любым козьим тропам (кроме одной, что ведет вниз)! Если не оглядываться на ковыляющих в отдалении вооруженных громил — ничто не напоминает о неволе. Жители поначалу сторонились: видно, что Ибрагим их застращал. Даже дети не смели приблизиться, издали стреляя глазенками, будто на ужасного людоеда. Но потом, через недельку-другую, все постепенно успокоились, да и ревность охраны чуть ослабла. Совершая регулярную прогулку вокруг селения, иногда удавалось подойти к здешним крестьянам почти вплотную. Со мною им говорить нельзя, но между собою-то можно?! Наплевать, что в присутствии чужеземца: скоро они привыкли обращать на пленника столько же внимания, сколько на замшелые валуны кругом, и гораздо менее, нежели на своих баранов.
Я вполне прилично их понимал. Хотя, конечно, слышать было дико, как славянским языком поминутно славят Аллаха. Этот народ не просто покорился воинственным пришельцам: он плюнул на могилы предков и пошел служить новым хозяевам не за страх, а за совесть. У многих пастухов, кто постарше, сыновья сражались в отрядах Али-паши против цесарцев, поэтому среди разговоров о хозяйстве проскальзывали порой военные новости. К сожалению, благоприятные для магометан. Граф Валлис, сменивший Зекендорфа в должности главнокомандующего, претерпел еще худшую конфузию, чем предшественник. Дело шло к осаде Белграда. Двадцать лет этот город, с прилегающею равниной, составлял Королевство Сербское под скипетром императора Карла Шестого, — неужели состоится турецкий реванш?! Посмевший предположить подобное до начала войны подвергся бы безжалостному осмеянию, но теперь видно было, что османы превзошли немцев как по качеству войск, так и по искусству генералов. Что же тогда делается на русских границах?
Крестьянский круг разумения так далеко не простирался. В разговоре стражников меж собою однажды удалось услышать про Керчь и Яссы, — но эти двое, к несчастью, был арнауты и говорили по-своему. Ни черта не разобрать; их речь даже туркам не внятна.
Единственным отрадным обстоятельством была решительная поправка моего здоровья. Парное козье молоко, долгие прогулки, горный воздух… Главное же — полная беззаботность. Свобода означает обязанности, хотя бы и нами самими выбранные. Первое время донимало беспокойство по поводу прерванных дел и своих людей, оставленных без надлежащего водительства там, в вольном мире. Потом сказал себе: не стоит переживать о том, на что повлиять никаким образом не можешь. Даже о свободе не стоит — когда нет возможности ее вернуть. Если шанс появится, тогда не зевай! Но пока не видно. Стража несет службу без послаблений и ошибок; жители, коли нужно будет, готовы в любой момент ей помочь. Кругом одни враги. Дети — и те глядят волчатами. Ребята Франческо, не обладая всеведением и всемогуществом, хозяйский след потеряли. А самому, без поддержки, бежать не удастся. Чтобы оторваться от людей Ибрагима на горных кручах, надо быть орлом или козлом.
Такая жизнь тянулась до самой осени, когда скупщики шерсти принесли весть о заключении мира. Если верить политикам с турецкого базара, цесарь Карл на коленях просил прощения и клялся за себя и наследников никогда не воевать Боснию; если же кто из них нарушит сию клятву — то пусть корона его рассыплется в прах, и с нею — вся империя. Вздор, конечно. Хотя, какими бы глупыми выдумками ни уснащали рассказчики этот сюжет, ясно было: Белград возвращен Порте, следственно, трактат заключен к пользе султана. Касательно войны турок с Россией я долго пребывал в неведении, принужденный судить о положении по косвенным признакам. Чем выше градус ненависти к русским — тем лучше, стало быть, дела. Похоже было, что мои соплеменники не посрамили воинской чести.
Злобные сантименты, однако, совсем не распространялись на меня лично: здесь царило, скорее, равнодушие. Даже обидно: ужели все баталии генерала Читтанова не оставили ни малейшей зарубки в душах врагов?! Увы, забылись прошлые войны! Миних, индюк надутый, затмил. Да и природные свойства турок сказались: народ сей горяч и кровожаден, но не злопамятен. Как, впрочем, большинство земных племен, не исключая нас, русских. Даже чопорные британцы, собравшись в толпу, превращаются в такого же простодушного зверя, доброго и жестокого попеременно. Сегодня отрубят голову королю, завтра проснутся: «Братцы, а мы, это… Случайно, не погорячились?» И сажают на престол сына казненного. Однако сие проявляется лишь en masse, когда свойства всех отдельных персон нивелируются в общем рое. Порознь все люди разные. Я вот, к примеру, злопамятен. Приключится случай вернуть свободу — ох, и заплачут те, кто у меня ее отнял!
Мстительные мысли спугнул гонец, привезший письмо с печатью санджакбея. Какие новые испытания готовит судьба? Наутро, в окружении следящих каждый шаг пленника воинов, Ибрагим помог мне взобраться на мула — и кавалькада двинулась. Сошли на равнину, выбрались на большой торговый тракт, но повернули не к Травнику, резиденции Али-паши, а в направлении противоположном. Несколько дней спустя, когда наш караван миновал Сараево и, не задерживаясь, устремился далее на восток, окончательно стало ясно: везут в Константинополь. Там все и решится, какой бы жребий мне ни выпал.
Хумбараджи-баши
Семибашенный замок остался в стороне. Слава тебе, Господи, что пронес эту чашу мимо уст моих! Если бы в тюрьму, так по рангу сюда полагалось. Проехали дальше — значит, в отношении меня другие планы. Легко догадаться, какие. Понятно, чьи.
Так и есть. С каждым оборотом колес тряской кибитки, сквозь маленькие зарешеченные оконца мелькают все более знакомые места. А вот эту галатскую улочку в прошлое посещение города, под видом пизанского купца, я старательно обходил, чтобы не встретиться с человеком, который меня узнал бы сквозь любую личину. Лет пятнадцать назад мы были добрыми приятелями. Не скажу, что друзьями — но близко к тому.
Как вышло, что герой войны против турок сам сделался турком? Да не простым, а трехбунчужным пашой?
Хозяина дома не было. Впрочем, слуги его имели все нужные предписания касательно жданных гостей: как принять, где разместить, сколь бдительно сторожить. Да если бы и не сторожили, у меня сил бы не хватило бежать. Дорога всю душу вымотала. Наутро вместо Ибрагима, неведомо куда исчезнувшего со всеми своими головорезами, распорядителем при высокопоставленном пленнике оказался молодой левантинец Мавлюд, приторно любезный и настолько же разговорчивый, насколько его предшественник был молчалив. Сносно владея итальянским и французским языками, он, похоже, настолько гордился этими скромными умениями, что молол всякий вздор почти беспрестанно, не смыкая уст. Никаких полезных сведений сей поток пустоглаголания не нес, и очень скоро я уже почти сожалел о прежнем своем угрюмом страже.
Наконец, этот утомительный болтун объявил, что мне предстоит несказанное счастье трапезничать с его мудрым и великим хозяином. Черт с ним, деваться некуда. Отказ от «счастья» не предполагался, хотя перспектива встречи со старым знакомцем скорее тревожила, чем вдохновляла: не было уверенности в своих дипломатических талантах. Лгать не хотелось; высказав же откровенно все, что думаю о собеседнике, я мог повлиять на свою участь самым неблагоприятным образом.
Через сад, охваченный увяданием поздней осени, Мавлюд проводил принужденного визитера в господские покои. Едва лишь дверь распахнулась, из глубокого кресла с неожиданной живостью поднялся рослый и плотный (пожалуй, даже, тучный) старик, одетый по-французски, но с широкой седой бородою, подстриженной на турецкий лад. Лишь пудреного парика в pendant к бороде не хватало, чтоб казаться уже совершенным шутом. «Господи», — мелькнуло в уме, — «Какой же он старый! А ведь всего лишь тремя или четырьмя годами меня старше!» Хотя, по правде, я сам уже долгое время не имел оказии взглянуть в зеркало и, вероятно, выглядел не лучше. Разве что комплекцией отклонялся от идеала в противоположную сторону, выпирая сквозь ветхий камзол костлявыми мослами; а бороду тоже не брил, с самого дня помещения в Пьомби. Будь у меня на сем свете родня, даже самые близкие люди не узнали бы в явившемся пред ними нелепом чучеле бравого русского генерала.
Но бывший приятель узнал. Конечно, у него была фора: он заранее ведал, кого приведут.
— Дорогой Александр, безмерно рад Вас видеть! Здоровы ль Вы? Как перенесли путешествие? Вчера, поздно вернувшись из Скутари, я не велел мешать отдыху гостя, вопреки нетерпению, продиктованному дружеским чувством. Вы хорошо спали?
— Спасибо, Ахмед-бей: жалоб нет.
— Любезный друг, для Вас я по-старому Клод! Поверьте, пред Вами все тот же граф Бонневаль, что был некогда в Брюсселе! Вы, вероятно, осуждаете мое решение? Не спешите! В былые дни османы имели в моем лице самого стойкого и непримиримого врага. Разве я плохо сражался? Скажите?!
— Нет, конечно. Ваша отвага достойна героев древности.
— Разве мало крови я пролил под знаменами императора Карла? А до этого — короля Людовика? Одиннадцать ран! Под Петроварадином турецкий кавалерист проткнул мне брюхо копьем; обычно с такою раной не живут.
— Повезло. Наверно, кишки не задело: только брюшную стенку.
— С тех пор я ношу тугую перевязь с серебряной пластиной, чтоб грыжа не выпадала. День за днем, уже более двадцати лет. Это ли не напоминание о тех баталиях, не повод испытывать ненависть к туркам?
— Хм, даже не знаю. Кажется, кто-то утверждал, что врагов надо любить. Возможно, Вы слишком глубоко постигли сию мудрость…
Породистое лицо Бонневаля озарилось улыбкой; он искренне рассмеялся.
— Рад, что Вы не утратили остроумия в постигших невзгодах. Турецкая столица подобна Парижу обширностью и богатством, но здесь ужасно не хватает приятного общества. Кстати, нас зовут к завтраку. Прошу Вас, не откажите составить компанию убогому изгнаннику…
Завтрак убогого изгнанника был сервирован с изысканной роскошью, а его повар — достоин Версаля. Запрещенное Пророком вино присутствовало во множестве сортов, свидетельствуя о столь же наплевательском отношении старого вояки к предписаниям его новой религии, как прежде — к заветам старой. Впрочем, не мне упрекать кого бы то ни было в чрезмерном вольнодумстве. Сам такой. И вообще, в наших с Клодом судьбах, невзирая на разность происхождения (он принадлежал к высшей французской знати, будучи в родстве с Бурбонами) парки выпряли почти параллельные нити. Оба честолюбивые и амбициозные, оба служили в армии Людовика Четырнадцатого и оба покинули ее со скандалом в одно и то же время, по одной и той же причине. Чином обошли. Правда, лейтенант Читтано метил всего лишь в капитаны, а Бонневаль уже был полковником и отчаянно рвался выше, — но в дальнейшей карьере мы выровнялись, преуспев на службе другим государям. Франция вообще склонна разбрасываться даровитыми людьми: один принц Евгений чего стоил.
Однако, тут присутствовал тонкий нюанс. И Евгений, и Бонневаль, оказавшись в тени, кою не проницали лучи благодеяний «короля-солнца», с легкостью перешли под знамена императора, прямого врага их бывшего отечества. Понятия о чести, свойственные высшей аристократии, сему не препятствуют. «Der edle Ritter» принц Савойский, или грязный предатель, — никто и вопросом-то таким не задавался! По статусу, подобные люди вправе самостоятельно решать, какому монарху отдать свою шпагу (или никакому, ежели не будет охоты к воинской службе). Конечно, речь о христианских властителях: с турецким султаном старина Клод лишку хватил.
В общем, природным аристократам весь мир — отечество. Я же, выйдя из более низкого круга, так и не сумел в достаточной мере проникнуться столь вольными взглядами. В бедных кварталах Венеции, где прошло мое детство, ребячьи шайки вечно враждовали между собою; но если кто-то, съехав с родителями на соседнюю улицу, назавтра пришел бы с новой компанией бить старых друзей… Такой перебежчик упал бы в общем мнении на самое дно. Наверно, нечто от сих представлений о допустимом и недопустимом на всю жизнь в душе и застряло. Иначе зачем бы, дезертировав из французской армии, ехать куда-то к черту на рога в поисках нейтрального государя?!
И вот теперь, в разговоре всесильного паши с убогим пленником, сквозь бахвальство и самоуверенность, от века присущие Бонневалю, проскальзывало временами некое желание оправдаться. Ну, как бы, индульгенцию от собеседника получить. Не даром: купить, разумеется, — а дружелюбие и хлебосольство входят в оплату. По мере того, как пустели винные бутылки, эта линия проступала все более явно.
— Чем отблагодарил меня император за верную службу и за кровь, пролитую на полях сражений? Тюрьмою, оскорблениями и ссылкой! И в чем же моя вина? Различие в мнениях с выжившим из ума принцем Савойским и его комнатной собачкой — маркизом де При?! Я поклялся отомстить сей вероломной державе! О, Александр, ты должен понять меня, ибо и сам испытал такую же несправедливость!
— Зачем же мстить целой державе? Мои враги известны мне поименно. А уж простолюдины, на которых падет главная тяжесть сего мщения при возможной войне… Вот они точно не при чем.
— Разумеется; враждовать с ними — недостойно благородного человека. Если вовремя уберутся с моего пути, я не причиню им ни малейшего ущерба. Как жаль, что принц Евгений умер! Мне так хотелось встретиться на поле боя и отрезать ему уши своею шпагой!
— Клод, оставим усопших в покое. Если даже в твои намерения входила месть всей империи в целом, можешь считать ее свершившейся. Разве поражение в недавней войне и потеря Белграда — недостаточно тяжкая кара? Насколько я понимаю, султан более всего обязан этим успехом именно тебе — ну, и Али-паше Хекимоглу, конечно.
— Можно было добиться гораздо большего, если бы не этот осел в чалме…
— Кто?
— Неважно, не хочу вспоминать. Интриги есть при любом дворе; здешний — не исключение. По наущению завистников, предыдущий визирь отправил меня скучать в Кастамону… Страшная дыра! Вообрази крохотный городок, затерянный в горах Каппадокии… К счастью, сам визирь недолго продержался у власти. Морне и граф Рамсей, мои помощники, сумели сохранить созданную мною артиллерийскую школу, и нам не пришлось начинать все сначала… Хочешь взглянуть на экзерциции?
— Почему бы и нет? Хочу, конечно!
Не далее, как на следующий день, я уже наблюдал, как несколько сот молодых турок исполняют строевые артикулы на плацу. Офицерами при них состояли сплошь европейцы-ренегаты. Большей частью французы, но не только. Собственно, об этом корпусе хумбараджи, сиречь бомбардиров, мои шпионы отписывали не раз; но собственный взгляд, конечно, лучше.
Бонневаль (в данную минуту ни капли не Клод, а натуральный хумбараджи-баши Ахмед-паша) с явной гордостью за воспитанников спросил:
— Ну как?
— Для турок неплохо. — Невежливо было бы совсем не похвалить. — А еще что они умеют? Развернуть батарею из походной колонны в боевое положение за сколько времени смогут?
Хумбараджи-баши вздохнул.
— Об этом рано говорить. Новый набор, нынешнего года. Прежних учеников отослали кого на персидские границы, кого в Боснию. Как в пропасть бросили: ни один еще не вернулся.
— Что, все погибли? Так не бывает. Или, которые уцелели, нашли местечки потеплей?
— Скорее всего. Я говорил Али-паше, в бытность его садразамом, что артиллеристам, обученным по-европейски, следует назначить жалованье выше, нежели всяким невеждам. Но он отказал, боясь бунта в армии. Здешний народ не ценит умения и таланты, и тяготеет к уравнительности.
— Благородное происхождение тоже не ценит? Насколько слышал, не меньше половины пашей вышло из рабского сословия. Любопытно знать Ваше мнение, полезен или вреден для войск такой приоритет личных заслуг перед родовыми.
Бонневаль едва заметно поморщился. Как горячий защитник прав благородных, он не мог признать за благо присущий магометову закону дух равенства; но и осудить оный явным образом не хотел. В его положении сие было бы неприлично. Впрочем, смутить этого человека, поставив в неловкую ситуацию, еще никому не удавалось.
— Дорогой Александр, на Востоке много варварских обычаев, но смею Вас уверить, избавление от них — всего лишь дело времени. Именно турки делают в этом заметные успехи, воспринимая более цивилизованные нравы. Народ грубый, но не испорченный, весьма здравомыслящий и не склонный к фанатизму — в отличие, скажем, от арабов. Хотите, расскажу, как я принимал их веру? Все, что от меня потребовалось, это сказать вслух, что Бог есть Бог, а Магомет — пророк. Истины, коих не станет отрицать и сам папа римский, если вдруг решится отвечать по совести. Турок, при сем присутствовавших, ничуть не заботило, во что я на самом деле верю; это мое дело. Слово сказано — и довольно. Есть еще такой обычай, как обрезание, но оно не предписано строго. Меня от него избавили, без долгих споров.
— А как же пятикратный намаз и воздержание от вина… Тоже избавили?
— Исполнение сих требований — дело добровольное. Нельзя человека принудить к спасению души. Знаете, как тут поступают с пьяницами? Если кого-то находят на улице пьяным, наказывают телесно. Первый раз, второй, третий… Потом — все. С четвертого раза признают неисправимым. Такого городская стража провожает домой, и только. Зачем зря мучить несчастного, коему суждены вечные муки после смерти? Тот же, кто пьет не до упаду — или пусть даже до упаду, но у себя дома — не подвергается ничему, кроме морального осуждения. Я знаком со многими турками, более образованными, чем общая масса. Поверьте, изрядная часть из них легко согласится с очевидным для всех разумных людей утверждением, что христиане и магометане веруют в одного и того же Бога, а различия в догматике и обрядах — следствие амбиций духовенства. Смею думать, мне удалось отвоевать у фанатизма и невежества гораздо больше пространства за время службы султану, нежели в бытность его неприятелем. Самая прекрасная, самая достойная виктория — та, которая достигается без выстрелов. Сделать врага другом, вот высший успех! Нет неодолимых преград сближению Порты с Европой, побудительных же причин — более чем достаточно. Возьмите военное дело. Никакие народы не преуспели в искусстве истребления своих ближних более, чем европейцы, и всякий, кто хочет уцелеть в нынешнем беспокойном мире, должен перенимать их обычаи. Не только воинские, ибо все в жизни взаимосвязано. Помните, в Брюсселе мы с вами рассуждали о сем применительно к России?
— Вы желаете и турок наставить на русский путь? Ну и кого они станут воевать, усвоив правила регулярства и через то превратившись в сильнейшую державу мира? Если восточное многолюдие облечь строгою дисциплиной — примерно как в войсках Пруссии или Брауншвейга — властитель, сумевший это сделать, покорит весь материк, от Пекина до Бордо. Слава Богу, что сие невозможно по свойствам натуры азиатов.
— Полагаете? Натура человеческая везде одинакова. Могу это утверждать на основе личного опыта. Полководцы же, способные превратить беспорядочные восточные орды в дисциплинированную армию, рождались неоднократно. Аттила, Чингисхан, Тамерлан… Вы думаете, список покорителей вселенной закрыт?
— Возможно, и нет: в этом никак нельзя быть уверенным.
— А я вот, представьте себе, уверен, что буквально в нынешнем году на сих скрижалях прибавилось еще одно имя. Ибо новый «бич Божий» явлен миру. Империя, способная завоевать вселенную, уже родилась. И не на берегах Босфора. Вы слышали об индийском походе Надир-шаха?
— К сожалению, последнее время мне не докладывают военные и политические новости.
— С Вашего позволения, возьму на себя эту миссию. Объявив себя шахом, сей узурпатор направился на восток, чтобы покарать афганцев, не прекращавших нападения на Персию…
— Это мне известно; но я полагал, что персы увязнут в афганских горах надолго. Кстати, незадолго до воцарения, будущий шах приглашал меня на службу.
— Вот как? Не Вас одного. И нашлись те, которые откликнулись. Особенно шустрят англичане. Так вот, пока кое-кто отдыхал в Пьомби, Надир завоевал Афганистан, покорившихся противников взял в свое войско, непокорных вырезал. Не всех: часть успела бежать к Великому Моголу. Ультиматум о выдаче беглецов сей последний не исполнил. В ответ персиянин вторгся в Индию, наголову разгромил шестикратно превосходящее войско Могола и овладел Дели, его столицей. Все сокровища Индии попали в руки завоевателя. Небывалое, сказочное богатство!
— Жалеете, что не оказались на его месте?
— А Вы разве нет? Да у него прав на персидский престол ничуть не больше, чем у нас с вами! Нация, вера… Это все не важно! Он плюет на предписания религии, а духовенство пикнуть не смеет! Любой толковый генерал, воспользовавшись ситуацией, мог бы усесться на трон шахиншаха!
— Скажу за себя: я бы не мог. Тут нужен весьма специфический опыт.
— Вздор. Опыт — дело наживное. Впрочем, мы отвлеклись. Готов согласиться, что сей разбойник действительно одарен необычайным военным талантом. Помните, как он разбил Абдуллу-пашу Кёпрюлю?
— Это в тридцать пятом году, между Карсом и Эриванью? Да, эффектно. В равных силах — и почти полное уничтожение одной из армий.
— В равных? Он сделал это силами одного только авангарда. Лишь пятнадцать тысяч персиян участвовало в бою. Против восьмидесяти тысяч турок, коих они обратили в бегство, рассеяли и наполовину истребили! Последняя война показала: мы с европейскими армиями примерно на равных. Делайте выводы, дорогой друг!
— Хотите сказать, что цесарцы или французы, столкнувшись с Надиром, разделили бы участь осман?
— Не знаю. Но легко им не было бы, это точно. Впрочем… Такое столкновение им не грозит — пока существует Порта Оттоманская. Чего нельзя сказать о любезных Вашему сердцу русских, с которыми шах граничит непосредственно. Знаете, о чем он спрашивал прибывших в его владения английских авантюрьеров? О возможности постройки военных кораблей на Каспийском море! Как Вы думаете, к чему он готовится?!
— Н-ну-с, предусмотрительный правитель вполне может, и даже обязан, готовиться к любым капризам судьбы, большинство которых никогда не воплотится в реальность. Готов согласиться, однако, что нынешний владыка Персии — человек беспокойный и опасный.
— О-о-о! Вы даже не представляете, насколько! Я бы сказал: он опаснее для турок, чем русские — и опаснее для русских, чем турки! Что мы имеем в Персии? Блестящий полководец на троне; лучшая армия Востока… А может, не только Востока? Как знать… И неограниченные денежные средства, светлая мечта любого военного министерства! Оцените шансы, что вождь, ничего не знающий и не умеющий, кроме войны, удержится от соблазна этим всем воспользоваться!
— Ноль. Нет таких шансов.
— Совершенно верно! Значит, у двух держав есть общий интерес: унять беспокойного соседа. Даже у трех, считая Великого Могола, — хотя после недавнего разгрома на Мухаммад-Шаха трудно рассчитывать. Думаю, он постарается остаться в стороне.
— Не только он. Очевидная политика враждующих царств — при появлении третьей, обоюдно чуждой силы, попытаться натравить ее на старого неприятеля. Если выйдет, смотреть и радоваться.
— Да, русская императрица пыталась вести такую линию. Но это недальновидно. Кто прикармливает бешеную собаку, всегда рискует сам быть укушенным. Она лишь напрасно подарила завоеванные царем Петром провинции такому государю, который не умеет быть благодарным. Происходя из подлого сословия, сей монарх одержим глубокой низостью чувств, побуждающей принимать доброту за слабость, а великодушие — за глупость. Отдаю должное храбрости и полководческому дарованию шаха — однако благородства духа в нем нет.
— Нет благородства? Да и Аллах с ним! По этой части у большинства государей нехватка. К тому же, мне душевные качества чужих правителей… Не очень, прямо скажем, любопытны.
— А что любопытно?
— Ну, к примеру — насколько нынешний великий визирь разделяет взгляды хумбараджи-баши на отношения с соседственными державами. Мне внятен высокий полет Вашего ума, однако люди, менее привычные к смелым выводам, навряд ли его оценят.
— Иваз Мехмет-паша — мудрый человек. Возможно, не с каждым моим словом он согласится, но в целом… Без его поддержки этой артиллерийской школы не было бы. Как и многих иных полезных начинаний.
— Он прочно сидит на своем месте? А то, гляжу, визирей-то султан каждый год меняет; бывает, что не по одному разу. Предыдущий, как я понимаю, был приверженцем оттоманской старины — ну, как при очередной перемене опять такой же явится?
— Как здесь говорят, Всевышний милостив. Впрочем, у меня больше надежды на человеческий разум.
— Хм, вот на этого конька я бы ставить поостерегся. Он то и дело спотыкается на ровном месте. Идея прекрасная: распространить среди турок европейские нравы, повязать Порту союзными договорами… Но не окажется ли, что сие дело слуги замыслили без хозяина?
— Султан Махмуд мало вмешивается в управление государством.
— Речь о народе здешнем, коий в любое время может и самого султана сменить, как не раз уже было. А уж вельмож на расправу потребовать — совсем запросто. Вот, предположим, собрались три паши турецких: венецианец, француз и… Кто там у нас визирь? Арнаут, вроде? Собрались и решили, что надо бы в государственный обиход прибавить цивилизованных обычаев. А народ-то спросили?! Просвещенный восемнадцатый век — это для нашего узкого круга он просвещенный! А там, внизу — тьма египетская! Даже во Франции громадные массы крестьян живут, как при Хлодвиге — что же говорить о Востоке?!
— Здесь этого зверя загнали в клетку еще в тридцатом году. Семь тысяч отрубленных голов — не шутка.
— Семь тысяч или семь миллионов — какая разница?! Один хрен, без оглядки на чернь шагу не ступишь. А чернь магометанская категорически против подражания неверным. И головы свои не слишком-то бережет, потому как все равно без мозгов!
Аристократическая физиономия Бонневаля на мгновение омрачилась гримасой злобы. Кажется, мне все-таки удалось пробить его несокрушимую самоуверенность и достать до больного места. Впрочем, он тут же справился с чувствами.
— Рано или поздно, с оглядкою или без нее, ум и государственная опытность тех, кто создан управлять миром, возьмут верх над косными предрассудками невежественной массы простолюдинов. Разум всегда одолеет инертную, тупую силу — хотя будущий исход сей борьбы иногда выглядит неочевидным.
— Для меня — так совершенно неочевидным. И в мировом масштабе, и здесь, на Востоке, в особенности. Нежные и прекрасные цветы высокой культуры слишком уязвимы: не успеют они расцвести, как грубый плуг очередного бунта перевернет пласты и похоронит их глубоко под землею, наверх же вынесет всякое дерьмо. Которое тоже послужит удобрением каким-нибудь новым чертополохам…
— О, дорогой Александр! Ваш пессимизм понятен, ибо бесконечные несчастья способны ввергнуть в мрачное расположение духа даже самого мужественного человека. Но поверьте, полоса бедствий позади. Здесь Вы среди друзей…
Слушать сладкоголосое пение бородатой сирены и отвечать на фальшивые уверения в дружбе столь же пустыми любезностями — не требовало ни малейших усилий. Собеседник изображал радушного хозяина; я взаимно поддерживал эту игру, хотя прекрасно понимал, что остаюсь в положении пленника. Минувшей ночью проверил — и убедился, что стража бдит. От мыслей, как бы избыть сей пригляд, отвлекло лишь промелькнувшее в потоке лицемерной элоквенции громкое имя.
Едет «женераль де Румьянтсов». С «великим посольством», призванным окончательно урегулировать итоги минувшей войны, подписать «вечный мир» и, может быть (чем черт не шутит?), начать переговоры о союзе. По крайней мере, в глазах Бонневаля сей противоестественный альянс выглядел не только возможным, но и весьма желательным. Крепко же их напугал Надир-шах!
— Румянцев? Александр Иванович?! О, это важная персона! Для дипломата, пожалуй, слишком прямолинеен — но притом неглуп. Склонен упорно отстаивать занятые позиции: чисто военная черта.
— Вы не откажете в дружеских советах, если таковые понадобятся в ходе переговоров?
— Консультировать турецкую сторону? Это, друг мой, в некотором роде уже служба.
— Никто не потребует у Вас таких советов, которые могут быть вредны для Российской империи. Напротив: помочь устранить взаимное непонимание, найти пункты общих интересов, всячески содействовать установлению мира…
Ну вот, опять фонтан включил. А вроде человек здравомыслящий и в меру циничный: мог бы уже понять, что громкие фразы на меня действия не оказывают. Или оказывают противоположное.
— Клод, mon ami. Мое участие в какой бы то ни было форме, пусть негласное, о котором русский посол непременно догадается или узнает по своим каналам, способно причинить лишь вред столь желанному для Вас примирению. Императрица настроена ко мне крайне враждебно, и ни один ее подданный не дерзнет уклониться от проявления столь же неприязненных чувств к графу Читтано.
— И Румянцев? Я слышал, вы были друзьями…
— Он правильный генерал: присяга для него выше дружбы. Впрочем…
— Что, Александр?
— Думаю, ничего плохого не воспоследует от нашего с вами обмена мнениями по будущему мирному трактату. Только мне надо ознакомиться с прелиминарными кондициями.
На самом деле, прибытие именно этого посла могло таить в себе ряд труднопредсказуемых возможностей. При безусловной верности Румянцева государыне, он был мне кое-что должен. Может быть, и жизнь. Когда сенаторы дружной чередой сказывали ему смертную казнь за оскорбление величества, я один нарушил единогласие и объявил ссылку в дальние деревни. Как знать, не это ли подтолкнуло Анну к смягчению приговора? С началом турецкой войны, при большом недостатке в способных воевать генералах, опала была снята, и прежний изгнанник быстро занял место, подобающее опыту и умениям. Захочет ли вспомнить старое? Бог весть. Но, во всяком случае, Клоду-Ахмеду об этом эпизоде знать не для чего. Лучше его внимание направить на другое.
К тому же, было дьявольски любопытно: чем, все-таки, закончилась война? Доселе узнать об этом было неоткуда. Бонневаль, по возвращении домой, передал мне через Мавлюда целую кипу бумаг; я глянул — и забыл обо всем на свете. Подлинная дипломатическая переписка! По-французски; большинство документов вышли из канцелярии посла Вильнева.
Оторвался от чтения далеко заполночь, когда глаза совсем отказались видеть. Итак, в отличие от венских неудачников, Россия из войны вышла с прибылью. Не такою, как мечталось, и явно недостаточною, чтобы окупить затраты — но все же… Граница с Крымом прошла по Перекопскому валу; на западе — без перемен, по реке Буг; в Азии — по Кубани, от истока до устья. Статус закубанских черкесов остался мутным: нигде не сказано было, отходят они под султанскую руку или сохраняют вольность. Ногайские улусы попали под власть союзных России калмыков. Хан Дондук-Омбо устроил там знатную резню — впрочем, и сам полуостров, после двукратного набега русских армий и приключившегося морового поветрия, совсем обезлюдел. Чума тридцать восьмого года, поразившая причерноморские страны, далеко превзошла жестокостью обоих противников, вместе взятых. Русские гарнизоны Очакова и Перекопа, турецкие — Ак-Кермена и Бендер в равной степени оказались ее жертвой и вымерли почти полностью. Крепости, частью разоренные, частью просто брошенные, стояли пустыми. В последнюю кампанию Миних перенес действия в Молдавию и, одержав важную победу, полностью это княжество завоевал — но сей успех был обесценен катастрофическим провалом цесарцев и заключенным ими сепаратным миром. Турки, можно сказать, легко отделались: почти все людские и территориальные потери пришлись на владения крымского хана. Из принадлежавшего султану Россия удержала один Таманский остров. Сильно поредевшие полки Ласси занимали также и Керчь; однако возврат этой крепости прежнему владельцу в принципе не оспаривался. Прения шли о сроках ее эвакуации, да еще о нейтрализации приграничных городов и провинций, чтобы отнять угрозу coup de main. Русские требовали нейтрализовать весь Крым, полностью разрушив его крепости и убрав оттуда войска; турки, естественно, не соглашались и выдвигали аналогичные предложения по ландмилицким землям и Гетманщине. То и другое виделось неисполнимым и выдуманным не от большого ума — исключительно затем, чтобы торжественно отказаться от сих претензий при заключении «вечного мира». Вопросы мореплавания и торговли тоже отложили на потом: пожалуй, само упоминание их было лишь данью европейской моде, иначе обе державы об этом бы и не вспомнили. Какое дело их величествам до убогих купчишек?!
Гостеприимный мой тюремщик с обещанным обменом мнениями не торопил. И вообще не слишком докучал принужденному гостю. Днями я продолжал вникать в отношения между державами, а по вечерам составлял компанию за ужином ему и тем туркам, коих Бонневалю угодно было допустить в свой дом. Большей частью то были пожилые сановники не самой первой руки, владеющие хотя бы итальянскою речью, более-менее знакомые с жизнью христианских стран и в целом настроенные про-европейски. Иногда визитировали помощники хумбараджи-баши — но, заметив мое отвращение к ренегатам, он стал отдавать больше предпочтения природным османам. Насколько можно было судить по всем признакам, его тактика заключалась в постепенном, едва заметном вовлечении меня в свои дела. Человеку нашей с ним породы просто невмоготу сидеть праздным; на то и был расчет. Сначала любопытство; потом советы; потом помощь; там, глядишь, и полноценная служба.
Утром, когда хозяин дома отправлялся в Хендесхане, сиречь свою артиллерийскую школу, ваш покорный слуга оставался под надзором разговорчивого Мавлюда и столь же любезного, но более сдержанного бошняка Фарука Микулича, исполнявшего должность эконома и следившего, вероятно, не только за мною, но и за своим господином. Похоже, что и Мавлюд был не так прост, как хотел казаться. В чью пользу он шпионил, не знаю: но чужеземца и бывшего иноверца, хотя бы и доказавшего службой верность султану, явно без присмотра не оставляли. Пользуясь случаем, я попросил левантинца об уроках турецкого языка — и получил, с дозволения Бонневаля, благоприятный ответ. Наверно, ему в этом виделся знак моего поворота в желательную сторону; развеивать же сие заблуждение мне не казалось нужным. Равно как посвящать новоявленного ментора в то, что лет тридцать назад уже имел случай учиться оттоманской речи и нуждался теперь только в том, чтобы оную вспомнить. На восторги его по поводу моих быстрых успехов отвечал такими же, по-восточному неумеренными, дифирамбами его учительским талантам, принимаемыми самовлюбленным юношей за чистую монету.
Так проходили дни, затем недели. Добрался, наконец, до турецкой столицы Румянцев с чудовищным обозом в полторы тысячи возов — если у него там подарки здешним вельможам, то в Сибири, наверно, всех соболей перевели. Только теперь последовал деликатный намек, что дальше тянуть с разговором о будущих отношениях держав вроде бы как и неприлично.
— Я готов изложить свои мысли хоть сейчас, ежели Вашему Превосходительству будет угодно меня выслушать.
— Cher Alexander, зачем так официально! Приватная беседа двух старых приятелей… Прикажете подать вина?
— На Ваше усмотрение. Говоря по-приятельски, откровенно, сразу же должен указать, что предполагаемая Вами опасность от воинственного персидского шаха для Оттоманской Порты и Российской империи — далеко не равная. Собственно, для России ее почти что нет, невзирая на близость границ. Какие провинции доступны для нападения персов? Извольте взглянуть на карту. Наиболее уязвима Терская область, вместилище нескольких тысяч беглых сервов и обрусевших горцев, именующих себя казаками, сиречь вольными людьми. Никакими ценностями они не владеют, кроме оружия: у некоторых превосходные и довольно дорогие клинки. Завоевание сей земли во всех отношениях бессмысленно.
— Это промежуточный пункт на пути к Астрахани.
— А зачем шаху Астрахань? Важный и довольно богатый торговый город; но источник его существования заключается именно в торговле с Персией. Уничтожить оный персы легко могут и без войны: достаточно ввести эмбарго с их стороны. Однако это было бы так же болезненно, как отрубить себе руку или ногу. Перекрыть один из торговых путей, по которым персидский шелк достигает Европы… Овладеть же им полностью не может надеяться даже такой наглец, как Надир, ибо для этого надобно взять Санкт-Петербург. Напротив, ключевые пункты дороги Басра-Багдад-Алеппо, имеющей не меньшую важность для коммерции подданных шахских, лежат в соблазнительной близости…
— Дорогой друг, это рассуждение было бы безупречным, если бы новый шах ставил своей целью умножение коммерции и благоденствие подданных. Но совершенно очевидно, что он руководствуется иными мотивами.
— Если даже предположить, что Надир всего-навсего желает грабить, чутье разбойника повлечет его туда, где больше денег. Недаром он начал с Индии. Соседние с Персией турецкие провинции несравненно богаче диких степей русского пограничья.
— А внутренняя часть России?
— Тоже не сравнится с Востоком. И еще — персам никогда ее не достичь. Армия современного типа нуждается в обильном подвозе, который на таких дистанциях можно производить только водою. Кроме Волги, других путей нет. Вообразить, что персидская флотилия на этой реке окажется сильнее русской… Да если весь Royal Navy бросит своего короля и наймется на службу Надир-шаха, и тогда это будет невозможно!
— Поход на Дели он совершил без обозов.
— Через Пенджаб? Наступая по самым плодородным землям в мире, где расстояние меж деревнями не превышает полета стрелы! А в калмыцких степях на многие сотни верст — ни домика, ни клочка пашни! Пустыню может пройти без тылового обеспечения лишь привычная к такому ландшафту кочевая орда. Но, перейдя оную, обнаружит, что все это зря — ибо против регулярного войска легкая конница бессильна.
— Значит, Вы уверены, что персидский шах непременно нападет на азиатские владения Порты?
— Процентов девяносто кладу на этот вариант. Еще девять — что продолжит завоевание Индии. И один, последний — на какие-нибудь нелепые фантазии, коих мы с вами и вообразить не можем. Войну с Россией он точно не начнет. Поэтому, если султан заинтересован в союзе с императрицей против персов, ему придется русскую дружбу купить. Разумеется, не деньгами: тем более, их все равно в казне нет. Либо территориальными уступками, либо торговыми преференциями. Лучше последними. К примеру, открыв черноморские проливы для вольного мореплавания.
— Его Величество никогда не согласится.
— Султан предпочитает терять провинции в пользу шаха? Конечно, видеть чужие корабли под окнами дворца — не слишком большое удовольствие. Но указ можно представить как милость, а если союзник не оправдает ожиданий — то и вообще отозвать. Вопрос этот не сиюминутный: он заведомо превышает компетенцию нынешнего посольства. Тут надо заходить через канцлера. Полагаю, после визита Румянцева уместно послать какого-нибудь пашу, примерно равного ранга, в Санкт-Петербург. Кроме Остермана, чрезвычайно важен фаворит императрицы, Бирон. Он любит деньги, а еще больше — почести…
Беседа эта не была единственной. Сам я воспринимал не совсем всерьез рекомендации туркам по устройству союза с Россией. При замерзелой гордости и упрямстве этого племени, даже самые разумные предложения останутся гласом вопиющего в пустыне. Игра ума, разминка после вынужденного бездействия — не более того. Люди пристрастные при желании могут обнаружить в сих разговорах элемент службы неприятелю, ибо извечные враги моего отечества получили множество важных сведений о нем. Подобные шепотки за спиною потом слышались. Вздор это все. Есть вещи, кои хоть скрывай, хоть через глашатаев на площадях выкрикивай, ущерба государству не нанесешь. Тут скорей обида отдельных лиц на беспристрастные их характеристики… Что Бирон скотина и вор, какая в том государственная тайна?! К тому же, Бонневаль (а верней, соответствующий круг вельмож турецких) явно остался не удовлетворен количеством доброй воли, выдавленной из себя графом Читтано. При первом удобном случае, меня попробовали поставить меж молотом и наковальней.
Однажды гостеприимный хозяин вышел к ужину заметно расстроенным.
— У Вас неприятности?
— Скорее у Вас. Румянцев не отдает Керчь, пока не завершен обмен пленных.
— А я тут при чем?
— Вы в его списке.
— Бред какой-то!
— Бред, но юридически безупречный. Если солдат дезертировал, а потом его сцапал вражеский разъезд, кем он считается: пленным воином или арестованным мирным жителем?
— Ах да, конечно. Кто без абшида отошел, по-прежнему подлежит воинским артикулам. Как-то не подумал, что к генералам это правило тоже приложимо. Хотя… Мне ведь ни дня не довелось участвовать в сей войне — так что казус, по меньшей мере, спорный.
— Увы, все козыри на руках у русского посла. Любая отсрочка заключения вечного мира крайне беспокоит Его Султанское Величество.
— Что же мне делать?
— Вас в России, полагаю, ждет казнь?
— Ничего хорошего не ждет, определенно. В лучшем случае, крепость или ссылка.
— Не расстраивайтесь: я имею за плечами уже два смертных приговора. Как видите, жив, здоров и весел.
— Отнюдь не осуждаю Ваш путь избавления, но…
— Одна короткая фраза, содержащая очевидную истину — и никто, даже сам султан, не сможет выдать сказавшего ее на расправу! В конце концов, это же пустая формальность. Иисус, Магомет — какая разница?! Свободный человек признаёт их мудрость и величие духа, но не влачится слепо ни за одним из них. Он сам себе и пророк, и мессия. Вот Вы, Александр — Вы в жизни много следовали заветам Христа?
— Только одному, зато неуклонно. «Кто не имеет оружия, продай одежду свою и купи меч!»
— Что, Он и такое сказал?
— На Тайной Вечере, ближе к концу. Евангелие от Луки, если не ошибаюсь.
— Молодец, назаретянин! Я всегда подозревал, что Он не такая слюнявая размазня, как рисуют священники! За слабаком бы люди не пошли. Вам тоже надо бороться за свою свободу! Решайтесь!
— А если нет? Вы лишите меня своей протекции и отдадите Румянцеву?
— Увы, дорогой друг: вердикт выносить буду не я. Наша с вами старая дружба — недостаточная защита против политической конъюнктуры. Религиозные правила еще способны сию последнюю перевесить, а что-либо иное — навряд ли…
Возможно, стоило бы изобразить некое движение навстречу, проявить больше склонности к обращению, чтобы затянуть и усложнить игру. Да только лень было кривляться. И еще — меня покусывало сомнение. Сомнение в искренности любезного друга Клода: не придумана ли вся история с выдачей от начала до конца. Допустим, понадобилось Бонневалю нажать на слишком упрямого пленника… Наверняка он и сам находился под изрядным давлением. Нетерпеливые турки заждались, когда же, наконец, знаменитого Шайтан-пашу подадут им готовенького, как фаршированного цыпленка на золотом блюде.
Однако, нет: зря заподозрил старого хитреца в обмане. Дня через два или три после сего разговора явился чорбаши янычарский с небольшим отрядом, и слуги хумбараджи-баши (очевидно, имевшие на то приказ своего господина, ибо все совершалось без малейших споров) сказали мне, чтобы собирался. Мавлюд, настроенный из них всех наиболее дружелюбно, шепнул, что получить свободу и сейчас еще не поздно. Я сделал вид, что задумался:
— А принеси-ка сюда, братец, какой-нибудь халат, чалму и зеркало.
Левантинец с готовностью бросился исполнять. Притащил ворох всего, на выбор. Помог облачиться. Поднял предо мною чуть помутневшее от времени венецианское стекло в облезлой, когда-то позолоченной, раме. Оттуда глядел тощий пожилой турок с козлиного фасона бородою, почти совсем выбеленной возрастом.
— Тьфу, ну и мерзость!
С чувством плюнул в отражение, повернулся и вышел к янычарам, прихватив хозяйский балахон в виде трофея. Не голым же ходить: время зимнее, а старый мой камзол совсем истрепался. Чалму, правда, размотал, употребив оную вместо пояса.
— Хизла! Скорее!
Чорбаши не привык, что узники заставляют себя ждать. Распахнулась дверца закрытой кибитки, с решеткою на крохотном оконце, чувствительный тычок в спину бросил меня на двух злобно зыркающих усатых стражей. Возница что-то крикнул, кони рванули — и понеслись навстречу новым, неведомым бедам.
Жестокий театр
Погостить в Семибашенном замке опять не довелось: вместо этого меня привезли в какую-то янычарскую казарму. Там и держали, довольствуя из общего котла. Слава Богу, я не гурман, и к простой солдатской пище предубеждения не имею. Впрочем, знакомство с янычарским бытом длилось недолго: всего лишь один день и две ночи. Потом со двора послышались звуки, от коих у турок рожи перекосило гримасами бессильной злобы и зубы оскалились, как у волков при звуке охотничьего рога — ибо там говорили по-русски. Хотя обладатель самого громкого голоса вряд ли мог считаться моим соплеменником безоговорочно: речь его портил акцент, намозоливший мне уши еще в Петербурге.
Минут через двадцать напряженного ожидания, дали команду выходить. После полумрака тесного чуланчика при казарме, солнечный свет ослепил.
— Почему не закован?! Совсем обленились, растяпы!
Тот самый громогласный гость бесцеремонно обругал янычар за упущение по службе. Грек-толмач всемерно постарался смягчить, но хамский тон был понятен и без перевода. Знакомый чорбаши, который забирал меня от Бонневаля, с трудом удержал руку, своевольно потянувшуюся к ятагану, и ответил, что слабый старик не представляет опасности для целого полка умелых воинов. Если же русские аскеры настолько малодушны, что четверо вооруженных боятся одного безоружного — пожалуйста, он готов отдать распоряжение кузнецу. Но только придется ждать до вечера, потому как сей почтенный ремесленник уехал закупать железо для кузницы.
За время обмена колкостями, я успел проморгаться и увидеть, кто же явился по мою душу. Считая толмача, пятеро. Самый заметный — рослый детина лет тридцати, в неформенном кафтане, но с офицерским шарфом, повязанным, как принято в гвардии. Он-то и наскакивает на безответных турок. Курляндец, судя по акценту. Вероятно, Бирон навязал посольству нескольких своих земляков, дабы ни один шаг Румянцева не оставался без присмотра. Интересно: а Ушаков достаточно влиятелен, чтобы сделать то же самое? Если да, то среднего роста неприметный человечек с пустыми, ничего не выражающими глазами, вполне подходит на роль его эмиссара. Вот он заговорил…
— Руки связать довольно будет. Можно и ноги, но не обязательно. И так не убежит.
Кто же из них старший? Шумный немец или невзрачный тихушник? В разговор пустоглазый вступил сам, без спросу — однако слова его больше похожи на мнение, поданное в пределах своей компетенции, нежели на распоряжение начальника. Похоже, все-таки немец главнее. А еще двое? Явно занимают подчиненное положение. И чувствуют себя неуютно в окружении не скрывающих враждебности турок.
Немедля вязать меня не стали: давши убедиться, что пленник налицо и он именно тот, который нужен, оттоманские чиновники еще долго мурыжили недавних врагов. Курляндец, вместе с толмачом и бросавшим злобные взгляды чорбаши, скрылись куда-то за пределы видимости. Вероятно, улаживать формальную сторону. Расписаться в получении, так сказать. Значит, сам Румянцев не удостоил… Жаль. Как-то мне сия процедура по-иному виделась. Конечно, я не наследник престола, чтобы посол собственной персоной приезжал уговаривать — как некогда царевича Алексея — но все же мог бы уважить старого товарища… Или нет? Может, его самого обложили, как волка, и только ждут малейшей оплошности, чтобы вновь ввергнуть в опалу?! У Анны с этим просто. Ну, если ты, конечно, не Бирон.
На брегах Босфора зима не как в России, но тоже бывает прохладно. Порывистый, злой ветерок с моря успел выдуть из складок бонневалевского халата последние остатки тепла к тому времени, когда начальствующий офицер вернулся. Пришел злой, как пес на цепи: похоже, турецкий коллега в какой-то мелочи взял над ним реванш.
— Чего встали?! Забираем этого, быстро! Веревка где? Я, что ли, должен искать?! Руки давай!
Это уже мне. Не привыкши к такому обхождению, никак не отозвался на грубый окрик, и тут же получил удар кулаком — сильный, со всей дури. Опрокинулся навзничь, больно ударившись затылком о твердую землю. Пока приходил в чувство — подняли, обшарили, скрутили и засунули в подкатившую откуда-то карету, под неодобрительным взором целой толпы янычар, подпирающей стены четвероугольного закрытого дворика. Думаю, после сей мизансцены им будет совершенно невнятна разница между свиньею и офицером неверных. По бироновой протекции, напустили в гвардию всякой сволочи, которую ежели брать — так разве в профосы, и то в гарнизонный полк! Уверен, что пороху этот гаденыш не нюхал, а чины получал где-нибудь в дворцовой караулке: у настоящего воина рука бы не поднялась на боевого генерала.
Лошади дернули; колеса застучали по каменным плитам. Румянцев, сукин ты сын! Что, неужели нельзя было приличных людей за мною послать, если уж сам не мог поехать?! Или так задумано? Послал, кого не жалко — и кого сам бы с удовольствием пристрелил, как собаку, если б можно было? Все равно, нехорошо перекладывать сию комиссию на мои плечи. Несподручно мне. Уже немолод, и руки связаны — ладно еще, впереди, а не за спиною… Конечно, вариантов измышлено много. О чем еще думать узнику бессонными ночами, как не о способах освободиться?! Но все же до прибытия в квартиры, занимаемые русским посольством, вряд ли возможно что-либо предпринять.
Впрочем, одно благоприятное обстоятельство имеется: конного конвоя турки не дали. В тусклое заднее стекло видно, что за нами никто не скачет. Если б Франческо и его ребята сумели меня найти, перебить самоуверенных дурачков из охраны не составило бы ни малейшего труда. Однако без помощи извне это сделать, увы, невозможно. Даже не выпрыгнуть: дверца в карете только одна; оконца крохотные, чуть больше ладошки; а сам я притиснут конвоирами к глухой стенке. Рядом дышит застарелым перегаром курляндец, vis-a-vis пучит свои рыбьи гляделки пустоглазый упырь, еще двое правят упряжкой: один на облучке, другой форейтором на выносной. Хреново правят, ибо четверка цугом требует умения и привычки. Нужными навыками обладают лишь кучера у важных персон, да еще ездовые в артиллерии; эти же ублюдки, того и гляди, карету опрокинут. На узких кривых улочках, петляющих по пригоркам… А где толмач?! Их четверо или пятеро? Не видно нигде. Или на облучке притаился, рядом с возницей, или, по недостатку места, пешком пошел. Скорее, последнее: слишком размашисты взмахи плети, аж внутри слышно. Привыкли, скоты, что в Петербурге от них все разбегаются и жмутся по обочинам… О, черт!
Похоже, колесная ось что-то задела: от сильного толчка начальник стражи всей своей мерзкою тушей на меня навалился. Судя по крику снаружи, с цветистыми восточными ругательствами, не смогли разъехаться со встречной повозкой. Да, вон она. Водовозная арба с бочкой.
Грубо пихнув пленника и прорычав что-то, по его мнению, устрашающее, курляндец полез наружу, отводя душу черными словами — русскими и немецкими вперемешку. Оставшийся страж выхватил шпагу и наставил острие на меня, загородив спиною приоткрытую дверь. Кретин: думает, что имперский граф туда сиганет?! Пренебрегать нежданным подарком судьбы, конечно, не стану — только действовать надо иначе. Изобразив крайний испуг и прижавшись, насколько можно, к противоположному оконцу, скосил глаза. Да, так и есть. В любом большом городе на уличный скандал мгновенно сбегается толпа, как на бесплатное цирковое представление; магометанская же толпа хороша тем, что у каждого за поясом — острый ножик. Та-а-ак… Пожалуй, хватит народу. Скорчившись в уголке, ослабил тряпку, намотанную вместо пояса, и потянул на голову. Дурак со шпагой, кажется, начал что-то понимать. Поздно! Клинок я отвел связанными руками, приняв на густо накрученные веревки, а потом вцепился в противника, не давая размахнуться. Длинное оружие в тесноте безавантажно.
Турки, привлеченные непонятной возней в остановившейся карете, заглянули в подслеповатое оконце — и увидали почтенного хаджи в размотавшейся чалме, коего с остервенением душит какой-то бритый иноземец. Жертва хрипела из последних сил:
— Помогите, правоверные! Измена!
Через несколько секунд неволя кончилась. Взор пустоглазого, такой же стеклянный, как при жизни, уставился в низкие тучи, форейтор лежал без головы (он имел несчастье разозлить турецких босяков, ранив одного выстрелом из пистолета), двое оставшихся, прижатые к стене, с трудом отмахивались от наседавших магометан. Толмача, значит, не было. Его счастье.
— Кесмек! Режь! — Я протянул ближайшему оборванцу связанные руки. Тот повиновался. — Аузу билляхи мина шайтани раджим! Прибегаю к покровительству Всевышнего от проклятого Сатаны!
В странах Востока благочестивые арабские фразы — это своего рода универсальный пароль, открывающий двери и сердца. Если еще воздеть ладони к небу, куда как убедительно будет. Заодно и онемение от веревок прогнать. Чалму накрутить: не дай Бог, толпа усомнится! Теперь — лишь бы не перепутать заученные турецкие слова.
— Измена! Злокозненное предательство поселилось у самого порога халифа! По воле Аллаха милостивого, милосердного мне, простому боснийскому хаджи, довелось узнать замыслы вероотступников! Смотрите, по наущению мунафиков неверные уже здесь с оружием ходят! Грязные франки хватают и неволят мусульман! Смерть им!!!
Воодушевленные голодранцы все разом кинулись на уцелевших врагов. Кто-то напоролся на шпагу, но прочих кровь не испугала, а лишь разъярила. Порвали бы в клочья, да вот беда: один из атакующих крикнул, что надо схватить гяуров живьем и выпытать имена предателей. У простонародья турецкого всеобщее политическое убеждение состоит в том, что высшие чины государства спят и видят, как бы продать отечество неверным — а если до сих пор не сделали этого, то лишь потому, что не сошлись в цене. Пришлось взять дело в собственные руки. Шпага пустоглазого так и валялась в карете. Истыканный ножами курляндец, залитый кровью, как недорезанный баран, но все еще живой, пытался заслониться окровавленными руками; во взгляде мелькнуло что-то человеческое… Тщетно! Острая сталь пронзила сердце. Глянул на второго: не жилец, с такими ранами. Этот без меня отойдет. Главное, чтобы никто из посланных Румянцевым не выжил — и не навел розыск на мой след. Толпу надо тоже разогнать — немедля! Возвысив голос, вновь принялся лицедействовать:
— Велик Аллах! Вы совершили богоугодное дело, уничтожив этих врагов — но отступники коварны! Они обманули честных воинов, чтобы заставить мусульман убивать друг друга! Сюда идут янычары. Спасайтесь! И поднимайте народ против изменников. Да свершится воля Аллаха!
При сей последней фразе полагается воздеть очи горе и ответно восславить Всевышнего, хотя бы в мыслях. Когда же взоры моих невольных помощников вернулись на грешную землю, самозваного хаджи среди них не было. Лишь мелькнула над головами зевак выцветшая зеленая чалма и пропала в кривых переулках. Городская стража, прибывшая на место поножовщины, обнаружила трупы — и ни в чем не виноватых зрителей, наперебой рассказывающих, как все случилось. Оказывается, ни один правоверный не прикасался к людям из свиты русского посла: всех покромсал выскочивший из кареты старикашка. Ужас, какой злой — прямо шайтан!
Повернув несколько раз в случайных направлениях, я чуть не заблудился на узких константинопольских улочках. Наплевать. Главное — уйти подальше и сыскать, где бы затаиться. Совсем потерять ориентацию не позволят Галатская башня и многочисленные минареты, видные почти из любой дыры. И не спешить! Походка должна быть степенной, сообразно возрасту и обличью. Балахон подпоясать: а то в него можно двух таких завернуть. Только чем? За неимением лучшего, оторвал узкую полоску от чалмы. Убыль почти незаметна; в городе же такая прорва живописных оборванцев, что еще один ничьего внимания не привлечет. Если, конечно, не выказывать чуждую сущность своим поведением. Внешность не выдаст. Турок со славянскими корнями — великое множество; среди бошняков и арнаутов найдутся и такие, кто говорит по-турецки хуже меня. Плохо, что денег нет. Экая незадача: я ведь, вообще-то, миллионщик… Жаль, что не удалось хотя бы обшарить убитых — но нельзя было. Никак нельзя. Когда идешь по тонкому лезвию над бездной, малейшая фальшь может разрушить хрупкую магию и оборвать нить власти над толпой. Предел ее натяжения мне дано чувствовать с детства.
Изрядно поблуждав, вышел к мечети. Не к одной из главных и знаменитых: к скромной и небогатой, где молятся ближайшие кварталы. Зато рядом с нею имелось текке: нечто среднее у магометан между монастырем и караван-сараем, где привечают паломников. Кров и пищу в такой обители дают бесплатно, и само слово «текке» означает по-турецки дармовщину.
Кучка нищих, толпящихся у дверей, ревниво скосила глаза на свежего пришельца. Дармовщины, как известно, на всех не хватает — всегда и везде, так мир устроен. Достается же она тому, кто убедительней себя аттестует. Что ж, попробуем…
— Мир вам, милость Аллаха и благословение Его! Найдется ли местечко у здешнего очага для несчастного боснийского хаджи, ограбленного проклятыми кяфирами прямо на пути из Мекки?!
Рослый турок, стоящий прямо в дверях и закрывающий путь простым побирушкам, обвел меня внимательным взглядом и чуть посторонился — ровно настолько, чтобы пройти одному худому человеку.
— Проходи, почтенный. Как зовут тебя?
— Але… Али-бей из Травника. Нет ли тут моих земляков?
— Сейчас нет. Из Боснии редко бывают.
— У нас война только что закончилась. Надеюсь, теперь будет больше желающих почтить дом Пророка, да благословит его Аллах и приветствует!
— Сегодня кашеварит Каландар-ата. Подойди к нему: он и накормит, и место для ночлега отведет.
Османская столица — самое удобное место для того, кто прячется от властей. Почти миллионный город. Разноверная и разноязыкая толпа, в которой всегда можно выдать себя за провинциала из какого хочешь племени: лишь бы не нарваться на тех, за кого себя выдаешь. Благоприятное отношение к нищим, предписанное правилами религии. А главное удобство — ритуальные формулы, способные заменить живой разговор почти во всех случаях. Владея двумя-тремя десятками расхожих фраз и зная, когда какая произносится, вы прекрасно можете обходиться без дальнейших умений по части турецкого языка. Если же оные умения присутствуют — еще лучше! Поведав, наполовину словами, наполовину жестами, о злых разбойниках, грабящих в сирийских горах расслабленных от благодати паломников, я вызвал живое сочувствие слушателей и под это настроение удачно обменял свою одежду. Избавился от бонневалевского балахона и приобрел облачение более простонародное, зато теплое, и, самое важное, неприметное. Халат на вате из грубого некрашеного сукна, по-турецки называемого аба, и коническая баранья шапка сделали меня анатолийским или балканским крестьянином, каких приходят с провиантскими обозами тысячи, и в котором разглядеть беглого русского генерала — ну просто совершенно никак нельзя! Глянул на отражение в миске с водою — сам с трудом поверил, что это я! Наутро старый повар не только накормил от пуза, но и с собою дал целую стопу лепешек, так что насчет пропитания целый день можно было не беспокоиться. В турецком народном характере гармонично сочетаются доброта и жестокость: доброта к своим, жестокость к врагам, особенно иноверцам. В благодарность за гостеприимство, дал себе слово: буде придется еще когда воевать против осман, пленных трактовать самым наилучшим образом.
На выходе из ночлежки со мною увязался плутоватого вида молодой парень, по имени Селим. Может, положил глаз на мой запас лепешек; а может, захотел поучиться ремеслу мошенника у опытного мастера. Догадался, наверно, что в Мекке вчерашний рассказчик сроду не бывал. Ну и пес с ним: простой бродяга, выдающий себя за хаджи, представляет здесь фигуру слишком обыкновенную, чтобы считать сие серьезным преступлением. Поразмыслив, я решил не прогонять добровольного помощника. Пригодится. Бог знает, что сталось с моими старыми знакомцами в этом городе: не самому же совать нос во вполне возможный капкан. Спросил Селима, есть ли у него деньги. Нет? Не беда! Имеется способ выманить их у неверных. Только нужны бумага, перо и чернила. Если раздобудет, он в доле. Как это сделать? Вот уж не моя печаль! Кто не может справиться с таким пустяком, должен искать поденную работу.
Парень доставил требуемое со всей возможной быстротой и усердием. Украл, наверно, где-нибудь. Или же выцыганил обманом. Я написал несколько записок, и мы двинулись в греческий квартал. Вначале Фортуна не благоприятствовала: в одном месте сказали, что искомый человек давно уже там не живет, в другом — Селима просто погнали без объяснений; но из третьего он принес ответ. Графа Читтано здесь не забыли, и готовы были иметь дело с его посланником. Вошел в дом с некоторым волнением. Узнают или нет? Не узнали. Но обговоренные несколько лет назад секретные пароли все еще действовали. Поэтому денег дали (разумеется, под проценты, записав на счет моей компании), а главное — предоставили место на судне, идущем в Превезу. Полностью открываться мне показалось преждевременным. Константинопольские греки слишком корыстны; с них станется устроить торги между мною, русским посольством и турецкими властями. Кто щедрее, тому и продадутся.
Дальнейшие странствия не представляют существенного интереса. Зимние шторма и прочие морские опасности — сущий вздор, после долгой неволи. Даже наоборот, освежают. Вот прибытие хозяина в главную контору компании — это была сцена, достойная пера Сервантеса или Шекспира! Не обладая, к величайшему сожалению, сопоставимым талантом, от описания сего воздержусь. Скажу только, что был приятно удивлен положением дел. Ожидал гораздо худшего; но правильно выстроенная система работает даже в отсутствие своего создателя. Коммерция шла по накатанной дорожке, никто не убежал с деньгами либо товаром. Видимо, все, кто замышлял предательство, успели совершить его еще при мне. До остальных — дошла, наконец, простая мысль, что русским людям в Европе выгоднее держаться вместе. Крупное несчастье приключилось только одно: корабль «Святой Иринарх», отправленный в Индию за селитрой, захватили тамошние англичане. Неприятно, но не смертельно. Могло быть хуже. «Нестор», отправленный одновременно в Китай за чаем, вез серебра тысячу пудов, на полмиллиона талеров. Если бы вот его захватили, это было бы полным крушением. А селитра покупается дешевле, убытка вышло на семьдесят тысяч. И оставались неплохие шансы прищучить ост-индцев в лондонском суде — потому как совсем обнаглели, не позаботившись о надлежащем юридическом обосновании грабежа. Да, кстати, еще африканские переселенцы ввели в нежданные расходы. Посмотрев записи по их отправке, я присвистнул и спросил приказчиков: куда столько?! Они всю Африку решили заселить русскими дезертирами, или же Соломона Гольденштерна, который возит оных из Польши, за мой счет богачом сделать? Ребята переглянулись, и Гвидо Морелли ответил:
— Гольденштерн больше никого не возит, Eccelenza.
Помощник его, Аникей Половников, пояснил:
— Соломона гайдамаки убили. Мучили долго, допытывались, где золото спрятал. Никак не верили, что все деньги в дело вложены.
— Царство ему небесное — или что там полагается, по их вере. Хороший был партнер. Такого не вдруг найдешь. Ну, и кто его заменил в сей коммерции?
— Пока никто, Ваше Сиятельство. Бегунцы сами добираются.
— Что, прямо сотенными толпами через все цесарские владения?
— Так ведь бегут от Миниха — целыми батальонами! В иных полках остается только штат офицерский, и то не полностью! Да еще может, денщики, артельщики и прочие, кто пригрелся на сытных местах. А куда деваться? Провиантом не обеспечивают, за грабеж поселян карают жестоко; выбор у солдат — между голодной смертью и бегством! Поляки в Подолии и на Волыни дезертиров принимают охотно. Только в холопи к панам записываться — не все согласны. Там еще слух прошел… Может быть, Соломон при жизни распустил, — что граф Читтанов всех охочих русских людей отправляет за море, на вольные богатые земли! Мы тут пытались пришлецов сдержать: они шалаши сложили чуть не у королевского дворца; с местными босяками-лаццарони такую драку затеяли — не всякая баталия столь кровопролитна бывает! Короче, скандализировали нас безбожно! Пробовали унять, а они за грудки переговорщиков хватают: «Куда графа дели?!»
— И вы сочли за лучшее — всех в Африку?
— Сначала испытали еще способ. Подговорили нескольких матросов, чтобы те всяких ужасов о тамошней жизни нарассказывали. Да солдатики их напоили — один и выложил, как его подговаривали. Вот уж тогда деваться стало некуда. Если б немедля не отправили, нам бы никому живыми не быть. А вскорости новая толпа приперлась…
— Понятно. В общем, старая сказка про волшебный горшочек с кашей, да на новый лад. Только вы совсем не подумали, какие безобразия эти своевольники могут в колонии устроить!
— Бог миловал, Ваше Сиятельство: уже обошлось. Прежде того Яшка-вождь и комендант Федор Мошников меж собою бодались, кто из них главнее; а как нахлынули новые переселенцы — быстро вражду позабыли, потому как этими управить не могли даже оба вместе. Солдаты сами себе выбрали атамана, из бывших унтеров. Старожилы с ним так сговорились: они ему оружие, боевые припасы и всяческий инвентарь, а он их не трогает: идет сразу на враждебных негров.
— И что? Неужто исполнил?!
— Еще как исполнил-то! В общем, племени того больше нету. Бабы и детишки, конечно, остались: иначе не по-христиански было бы; их солдаты разобрали себе в рабы. А унтер объявил себя вольным князем.
— Во как! Странно, что не казачье устройство приняли.
— Может, еще и переменят. Это из самых свежих новостей.
— Н-да. Не сказал бы, что «обошлось». Куда оно взыграет, одному черту ведомо; да и ему не наверняка, пожалуй.
— Кто бы там ни сидел, без нас не справится: порох и свинец кто им продаст?
— Вопрос, почём. Ежели за двойную цену, куча продавцов набежит. И вообще — ты, братец мой, недооцениваешь изворотливость наших с тобою соплеменников. В любом случае, придется договариваться. С предельной деликатностью, ибо русский человек, вырвавшийся на волю, дурно обойдется с любым, кто пожелает снова надеть ему хомут. Ладно, здесь время терпит. А с Уилбуртауном что?
С Уилбуртауном было… Плохо или хорошо? Одним словом не скажешь: смотря для кого (или чего). Для акционеров, жаждущих дивидендов — просто отвратительно; для моих планов по возвращению городка под свою руку — совсем наоборот. Идея продавать на верфи готовые наборы корабельного железа оказалась более чем удачной. По тогдашнему времени, удачной. Но долго сохранять монополию компания не могла. Сливки сняли в первые два-три года. Потом, как водится, в доходный промысел ринулись искатели денег. Цены уронили так, что вот-вот, и начнут приплачивать покупателю за свой товар. Мои британские партнеры отняли у меня контроль над заводом как раз в начале сих перемен. За что боролись, как говорится… Не хочу сказать, что имел план, как справиться с наплывом соперников: останься всевластным хозяином граф Читтанов, резать задельную плату все равно бы пришлось; и убытки шли бы такие же. Но, раз это сделали вражеские управители, смирять недовольный ропот и опровергать разговоры, что, дескать, это они все испортили, нужды не обреталось. Пусть ситуация зреет; вот когда дольщики поклонятся: «придите и володейте нами», — тогда надо быть готовым и, главное, иметь в запасе верные способы вывести дело в прибыль. Не видишь таких способов? Значит, рано! Жди и работай: время твое придет. А уж тогда не зевай!
Наилучшие шансы на умножение доходов открывались в связи с возгоревшейся в Западных Индиях англо-испанской войною. Многие акционеры полагали, что семейство Кроули-Гаскойн, владея примерно четвертью паев и поставив своего управляющего, откроет компании путь к адмиралтейской кормушке. Оказалось — шиш! Лондонские короли железа разделили казенные подряды между своими старыми заводами, коими владели одни, без нахлебников. В Уилбуртаун не упало ни крошки с богатого стола.
Пока британцы готовились грабить испанскую Америку, из Петербурга приходили вести о новых казнях. Всплыла история о подделке Долгорукими завещания Петра Второго. Князя Ивана, как инициатора, колесовали, троим его родичам — отрубили головы. К счастью, уцелел князь Василий Владимирович, никак в сей мерзости не замешанный: редкий случай при Анне, когда невиноватого пощадили. Потом началось дело Волынского, грязное и мутное, как лужа, в которую опрокинулась бочка золотаря. Артемий Петрович — заговорщик?! Да быть того не может! Не та, совершенно не та натура. Сволочь, конечно редкая. Казнокрад, лихоимец и просто сукин сын; тем не менее, верноподданный слуга и дельный администратор. На месте государыни, я б его ободрал кнутом, вырвал ноздри, а потом поставил начальствовать в Охотск или в Камчатку. Там сплошь такие же варнаки, посему назначение клейменого вора за обиду не примут. Четвертование (или посажение на кол, как приговорило первоначально генеральное собрание для суда над Волынским) совершенно ему не впору. Такую жестокость можно объяснить лишь ненавистью Бирона. Власть не поделили, всего скорее. Или благосклонность Анны, что, в сущности, то же самое: кому бы она нужна, не будь царицей?
Все говорило о том, что я правильно сделал, уклонившись от насильственного возвращения в отечество. Уж слишком там топор палача разгулялся. Легко попасть под горячую руку; а виновен ты или нет, историки потом будут спорить. К черту сих ученых мужей! Пусть пишут свои диссертации о чьем-нибудь чужом судном деле. У меня прожектов неоконченных — тьма, и голова нужна на плечах, отнюдь не в корзине под эшафотом! Румянцев… Что Румянцев?! Ничего бы он не смог сделать, если бы даже захотел. Кстати, мое исчезновение возымело последствия. Резонно полагая, что одному связанному пленнику четырех вооруженных стражей одолеть навряд ли возможно, посол обвинил в нарушении уговора турецкую сторону. И в убийстве служителей, само собою. Чуть снова война не началась! Ссору, в конце концов, уняли — но ценой уступок, сделанных великим визирем. В частности, возвращение туркам Керчи оказалось отложено до конечного согласования всех пунктов, не исключая трактующих о навигации. Перемена, безусловно выгодная России. На войне в порядке вещей — ради такой же, примерно, выгоды, несколько батальонов положить. Так что смерть четырех ублюдков, навязанных Румянцеву столичными «доброжелателями» — совсем недорогая цена за это.
Впрочем, султан Махмуд совершенно не помышлял о войне с русскими даже в самый азартный момент сей дипломатической свары. Иначе не отправил бы победителя цесарцев, Али-пашу Хекимоглу, на другой край своего государства. В Египет, усмирять мамелюков. Воины эти выказали явное стремление считать порученную их защите страну своею добычей — и собранные с феллахов подати в султанскую казну посылать перестали. Удивительно, что перестали только теперь, потому как большая часть мамелюков родом грузинцы. Не подумайте, что я питаю к сей нации хоть малейшую антипатию: нация замечательная. Красивая, веселая, жизнерадостная. В таланте пить вино и бегать за женщинами не уступят ни французам, ни итальянцам. А ежели еще песни петь — так, пожалуй, превзойдут. Но вот с деньгами… Поручить этим людям править отдаленной провинцией, и надеяться на поступление денег в казну — для такого надобно быть турком!
Вскоре после отбытия Али-паши, был сменен и великий визирь. Новый происходил откуда-то из Анатолии; уже по этой причине он относился к перениманию чужеземных обычаев куда прохладней, нежели предшественник, возросший на западном пограничье. Его более вдохновляла старинная османская доблесть, чем фальшивый блеск мудрости неверных. Опасность, что мечты Бонневаля исполнятся, и обновленная турецкая держава станет могущественнейшим государством вселенной, окончательно растаяла, как дым кальяна. Тяжкий груз — великое прошлое. Не всякий народ его вынесет.
Чем сильнее успокаивался юг, тем гуще клубились грозовые тучи на севере. В шведском риксдаге воинственная партия, мечтающая о реванше на востоке, взяла верх еще года полтора назад. Немедля начали стараться о союзе с турками. Главнейшим эмиссаром, возившим секретные депеши из Стокгольма в Константинополь и обратно, был майор Синклер — опытный мастер темных дел, шпионивший и возбуждавший поляков против России еще во время польской войны. Сей офицер совсем еще молодым человеком дрался под Полтавой, потом тринадцать лет содержался пленным в Казани, по возвращении же на родину нашел свое призвание в том, чтобы всячески вредить прежним обидчикам и подстрекать всех, кого можно, к войне с ними. Что удивительного, если русские послали двух офицеров и нескольких драгун перехватить и убить его? Конечно, это было сделано в высшей степени неловко. Капитан Кутлер и поручик Левицкий настигли сего курьера в Силезии, на мирной почтовой дороге, и расправились с ним при свидетелях: нескольких почтальонах и одном французском купце… Какой кретин поручил сию комиссию немцу?!
Хоть бы у неприятелей поучились. Вон, в восемнадцатом году француз Сигье застрелил Карла Двенадцатого. Короля, не какого-то офицерика! И никаких скандалов. Слухи, конечно, ходили — но доказательств-то не было! Так же и Синклера следовало прибить либо в воюющей Турции, либо в беспорядочной Польше. И не своими руками, конечно. Да что говорить: умениями тайных убийц что русские, что немцы не обладают.
О-о-о, какой крик подняли шведы! А пуще того — французы, в стремлении стравить сих последних с русскими! Из мертвого шпиона сделали светлого рыцаря и невинную жертву; похороны его превратили в патриотическое представление; шведский поэт сочинил о покойнике песню. Объявление войны гнусным убийцам великого героя стало вопросом ближайшего времени.
Смешные эти шведы, ей-Богу. Сорок лет обновленная Петром Россия успешно теснит их с позиции хозяев Севера; отнимает награбленное и иными способами обижает. Как воспротивиться? У самих кишка тонка — убедились. С учетом европейских конъюнктур, стоящая перед ними задача имеет решение. Причем единственное. И они прекрасно об этом знают. И даже не раз пытались в этом направлении что-то сделать. Но только все идет наперекос. А знаете, почему? Спесь мешает.
Создать империи серьезные трудности и вынудить к уступкам способно лишь одновременное нападение турок и шведов. Однако сие может состояться лишь при условии, что Швеция примет роль младшего партнера при Оттоманской Порте. Или же просто сыграет со второй руки, приурочив свою атаку ко времени, когда русские войска заняты на юге. Но в Стокгольме желают сделать наоборот: чтобы турки таскали им каштаны из огня. Вот ничего и не выходит.
И еще надо заметить, что система народоправства (по крайней мере, в шведском ее варианте) совершенно для войны не годна. Недаром римляне во время опасности государству назначали диктатора. Здесь же что получается? На одной стороне французский посол с большим мешком денег; на другой — русский, с мешком чуть поменьше; между ними суетятся депутаты риксдага в попытках урвать и там, и тут. Началась война России с Портой — шведы интригуют и спорят. Три года прошло, пока военная партия осилила! И тоже занялась празднословием. Еще год миновал, война кончилась — они же только-только убедили народ, что надобно браться за оружие. Остановиться королевству теперь так же трудно, как тяжелому возу, летящему галопом с крутой горы. Никем не уважаемый и не имеющий реальной власти король совершенно бессилен; да и никто другой, после отставки престарелого Арвида Горна, не способен твердою рукою натянуть вожжи.
Ныне, после прихода к власти мечтателей, жаждущих реванша над русскими, притязания сей державы далеко превзошли ее возможности. Разумные представления о соотношении военных сил с будущим противником уступили место вздорным фантазиям. Почему шведы, обыкновенно хладнокровные, вдруг поддались азарту, внушенному ловкими демагогами? Почему их государственное правление уподобилось приюту для скорбных умом? Бог весть. У меня в Стокгольме шпионов нету. Разве отмечу одну тенденцию. В последние несколько десятилетий наиболее одаренные шведские юноши все чаще предпочитают государственной службе коммерцию или науки. Двор и риксдаг из собрания лучших людей обращаются в ристалище корыстных и недалеких честолюбцев. Зато науки цветут: в прошлом году там основали академию, а еще до этого нашлись люди, стяжавшие внимание всей ученой Европы. Молодой доктор медицины Карл Линней напечатал в Лейдене труд, поименованный им «Система натуры» и претендующий на самые широкие обобщения касательно мироустройства. Начальник монетного двора Георг Брандт открыл в рудных залежах неизвестный доселе металл — и сам испугался того, что сделал. Субстанцию, названную кобальтом, он продолжал именовать полу- или псевдометаллом, хотя непредубежденным умам совершенно ясно было: сия скромность чрезмерна и неуместна.
Впрочем, не только шведы преуспевали на этом поприще. Разрезав первые страницы изданного в Базеле трактата под названием «Гидродинамика», я при некотором напряжении памяти вспомнил автора: скромного молодого человека, занимавшего в Санкт-Петербургской Академии кафедру математики, младшего отпрыска знаменитой в ученом мире семьи Бернулли. Черт побери! Где были мои глаза?! Когда бы знать заранее, что он так хорош — ничего бы не пожалел, чтобы иметь его в своей команде! Законы движения жидкостей, силы, действующие на обтекаемые предметы, работа водяных колес и насосов, — все это получило простое и ясное математическое описание. В том числе и мои давнишние опыты, кои делались наугад, на ощупь и как бы впотьмах, теперь оказались в сфере, освещенной ярким сиянием разума! Кстати, обобщение выводов Даниила Бернулли применительно к воздуху прямо-таки напрашивалось. Сходство и различие плотных и разреженных флюидов — предмет, над которым я размышлял еще юношей. Второй том сего труда, соответственно, мог бы именоваться «Аэродинамика» и трактовать о ветряных мельницах, действии парусов и полете птиц. Изложив эти соображения в письме к молодому ученому, предложил ему денежную помощь для проведения надлежащих изысканий. Вытесненный, вследствие неистребимых академических дрязг, из Петербурга, он вынужден был принять должность профессора анатомии и ботаники в своей Alma mater, сиречь Базельском университете, жить скромным академическим жалованьем и заниматься не тем, в чем наиболее силен. Меж нами завязалась оживленная содержательная переписка.
Не менее интенсивная корреспонденция возобновилась с бесконечно общительным Вольтером. Сей литератор живо интересовался моими приключениями на Востоке и щедро делился всевозможными новостями в ответ. В ту пору он обитал, большей частью, в Брюсселе и был весьма увлечен молодым королем Пруссии, принявшим корону в мае 1740 года. Знакомый с ним заочно, по переписке, со времени, когда Фридрих был еще наследным принцем, Вольтер год или два назад помог прусскому высочеству довести до совершенства полемический трактат против Макиавелли, осуждающий великого итальянца с моральной точки зрения. После восшествия сочинителя на престол голландский издатель Ван Дюрен, почуяв запах прибыли, пустил книгу в печать. Без разрешения автора — или авторов, если угодно, поскольку вклад француза выходил далеко за пределы обычного редактирования. Мнение образованного общества о прусском монархе после знакомства с трактатом поднялось прямо до небес. Наконец-то, все говорили, в Берлине вместо короля-солдафона воссел на престол король-философ. Нет никакого сомнения, что его подданных ждет благополучие, процветание и долговременный мир.
Однако, ученые и литературные досуги не составляли моего главного времяпровождения. Настойчиво требовали внимания денежные дела. Коммерция, конечно, может идти по устоявшемуся шаблону — и даже довольно долгое время — но без свежих идей в конечном счете непременно придет к упадку. А в этой части без хозяина продвижения не было, хоть я и старался приучить помощников к самостоятельности. В особенности Уилбуртаун внушал беспокойство: для него даже и мне никак не удавалось придумать выгодную схему. Вот если бы завод в Тайболе был по-прежнему мой… Соединив дешевизну русского железа и по-английски быстрый ответ на изменения спроса, можно разорить всех соперников. Но увы…
Наступила осень. Лазурное неаполитанское небо все чаще покрывалось облаками. Аквамариновую гладь залива то и дело морщил порывистый ветер. Несносная жара уступила место приятной прохладе. Я просматривал коммерческие балансы на увитом плющом балконе компанейской фактории, когда секретарь притащил свежую почту. Две депеши — с пометкой о срочности. Одна из Вены. Что важного может приключиться в Вене? Разве что… Да. Так и есть. Пять дней назад умер император Карл Шестой. Давно ждали. Что теперь будет — понятно.
А это у нас что? Петербург? Нетерпеливо разорвал жесткий пакет. Внутри два листка: шифрованный оригинал от шпиона и его переложение от Франческо. Пятого октября, за обедом, императрице Анне сделалось очень дурно. Слегла, не выходит. По слухам, даже не встает. В высших кругах тайно говорят о престолонаследии.
Ого! А вот этого — не ждали. Нет смысла обсуждать дурные и хорошие следствия сей перемены, ибо не человеческою волей она совершается. Мне важно, что амнистия будет! Но лучше бы парки чуть повременили рвать императрицыну нить. Хотя… К дележке должностей все равно не успеть. Сначала новая власть должна утвердиться, потом она решит — кого прощать.
Однако же, как дружно уходят в лучший мир монархи! В мае месяце скончался прусский король, теперь одновременно — эти двое… В двадцать седьмом году было нечто похожее. Как будто смена караула! Явился небесный разводящий… А что будет в Англии и Франции? Короли там, правда, еще не старые; зато министры… Господа Флери и Уолпол, на выход! Надо проследить их судьбу. Вообще, все это похоже на некий ритмический процесс. Тринадцать лет в периоде. Ну-ка, что было в четырнадцатом? Окончание испанской войны. Перемена всей системы межгосударственных отношений. Правда, «король-солнце» умер в пятнадцатом. А в семьсот первом? Начало той же войны. Годится! А в восемьдесят восьмом? Переворот в Англии. Война Аугсбургской лиги с Францией. Столкновение Петра с царевной Софьей произошло, однако, годом позже. Все равно неплохо. С точностью до года, цикличность явно имеет место. Страницы истории переворачиваются.
Я вызвал помощника управляющего.
— Слушаю, Ваше Сиятельство.
— «Савватий» все еще в порту?
— Да, принимает рис и вино для Капо Верде.
— Останови. В Лондон пойдет.
— С каким грузом, Ваше Сиятельство?!
— Со мной. Впридачу помощники и слуги, числом около дюжины. Приближаются важные события: надо быть ближе к России.
Путь домой
Я ошибся. Сразу по смерти Анны генеральной амнистии не дали. Да и кто ее даст, если регентом при младенце-государе волею покойницы был сделан Бирон? Герцог, драть бы его на конюшне, Бирон… Впрочем, за время моего путешествия в Англию он успел из герцога и регента обратиться в состоящего под судом государственного преступника. Взамен курляндца, на вершину власти забрался Миних, а с ним уже можно было иметь дело. Несколько писем, приправленных самой пошлой лестью (как он любит) умчались от меня в Санкт-Петербург — увы, пока безответно. Все более приходя в нетерпение, занимался повседневными делами: читал отчеты приказчиков, ходил по судам, дремал на заседаниях Королевского Общества, — и с каждым невозвратно канувшим в Лету днем чувствовал, как уходит драгоценное время. Тает недолгий промежуток, когда перемена судьбы (не только собственной, но, возможно, целого государства) зависит, хоть в малой степени, от меня. Еще немного, и перекресток, где расходятся пути, останется в прошлом. Упорхнет легкокрылая фея свободы, и снова жизнь зажмет в железные тиски внешних обстоятельств. А пока — еще можно выглянуть через дыру в небесном своде и попробовать ухватиться неосторожной рукой за неумолимо крутящиеся часовые колеса мироздания.
Вокруг бурлил деятельный Лондон: чужой, многонаселенный, жадный до денег. Война с Испанией началась блестящим успехом: адмирал Эдвард Вернон с шестью всего лишь линейными кораблями и потеряв только трех человек убитыми, захватил Порто Белло, важнейший транзитный пункт на узком перешейке против Панамы. Градус воодушевления поднялся до небес, патриотический жар охватил все сословия. Один шотландец сочинил по сему случаю дьявольски талантливые вирши, сразу же положенные на музыку и обретшие невиданную популярность. Слова новой песни доносились отовсюду. «Правь, Британия!» — призывал хорошо поставленным баритоном оперный певец, — «Правь волнами морскими!» Забыв обычную английскую чопорность, благородные леди и джентльмены с горящими глазами подпевали комедианту: «Rule, Britannia! Rule the waves» — а в портовых трактирах пьяные матросы ревели грубыми голосами: «Britons never, never, never will be slaves!!!» и в ажитации лупили медными кружками по крепким дубовым столам.
Подполковник де Орбиньи, племянник моего университетского приятеля, едущий в Петербург с намерением вступить в русскую службу, согласился взять на себя добавочную миссию и напомнить Миниху о существовании графа Читтано. Однако, при первом же упоминании сего имени, фельдмаршал воспламенился гневом: дескать, граф через евреев-шинкарей склонял к дезертирству его солдат при совершении маршей через Польшу. Вздор какой! Ничего подобного я даже в мыслях не держал. Довольно было командующему навести порядок в комиссариатской части, чтобы довольствовать армию по высочайше утвержденным рационам, и дезертирство не превзошло бы обычных размеров! Кормить надо солдат — вот и весь сказ. А вороватых комиссаров — брать под стражу и, по расследовании, карать. Нет, эти простые и ясные способы наведения порядка остались у Миниха в забвении. Теперь же признать свои собственные огрехи никак невозможно, зато обретающийся за тридевять земель соперник имеет быть зачислен в козлы отпущения.
Не успел задуматься, как бы развеять предубеждение фельдмаршала, а нужда в сем уже отпала. Пришло известие о его внезапной отставке. Что за черт? Кто его подсидел?! На видимой стороне — борьба за первенство с принцем Антоном-Ульрихом Брауншвейгским, родителем государя-младенца. Но много ли значит в России этот принц? Сам по себе — ничего. Пустое место. Вообще, в политике сила фигуры измеряется числом и калибром ее сторонников. У Миниха сильные позиции среди армейских и чуть слабее — среди гвардейских офицеров, а что за люди стоят за брауншвейгским бычком-производителем? И, самое главное, можно ли с ними договориться?
Остерман? На него указывали чаще всех. Действительно, из столпов прошлого царствования только он один и остался. Однако… Я слишком хорошо его знаю. Это заяц. Необыкновенно крупный, наглый, холеный — но все же заяц. Для власти, хотя бы тайной, ему кой-чего недостает. Ума хватает, коварства в избытке, а вот мужества…. Мужества, смелости, силы духа — как угодно назовите — Бог не дал. Готовности рубить головы врагам, с хладнокровным сознанием, что собственная шея столь же уязвима. Бирон, будь он трижды гад ползучий, необходимой решимостью обладал. Миних — тем паче. Остерман же, ставши правителем государства, обречен превратить его в посмешище, — хотя бы потому, что склонен прятаться, когда обстоятельства требуют выйти на авансцену и повелевать. Уж коли претендуешь на главную роль — умей взять на себя бремя ответственности. Подданные стерпят любую власть: несправедливую, жестокую, даже глупую, — лишь бы она была дееспособной.
А если не Остерман, тогда кто? Картина невнятная и мутная рисовалась из расшифрованных писем. Я клял своих людей на все корки… Грешен, братие! Теперь готов признать, что требовал невозможного: известия агентов точно передавали реальность. Невнятица и муть безвластия, распространяясь, охватывали государственный организм, как смертный холод — члены умирающего. Известие об отставке Миниха принц Антон-Ульрих велел публиковать под барабанный бой, словно весть о военной победе. Только знал ли победитель, что ему делать дальше? Добрый и порядочный, но слабохарактерный, принц мог бы жить мирно и счастливо — если бы понимал, что людям его склада хвататься за кормило правления никак нельзя. Не тронь, целее будешь! Тем более, он совершенно не понимал ни государственных задач империи, в которую забросила его слепая фортуна, ни собственного положения в ней. Ну вот, представьте: имея чин генералиссимуса, Антон-Ульрих вряд ли мог при этом рассчитывать хоть на одну роту по-настоящему верных войск. Да что войска — собственная жена его не слушалась! Получившая, после низложения Бирона, регентство при сыне-императоре, двадцатидвухлетняя Анна Леопольдовна совсем закусила удила: третируя законного супруга, как каналью, она почти открыто сожительствовала с прежним своим фаворитом, саксонским посланником Линаром. Все государственные дела решались по советам любезного друга. Еще немного — и политику России станут определять, вместо Санкт-Петербурга, в Дрездене или Варшаве.
Кому такое понравится? Разумею, кому из русских? И, действительно, корреспонденты мои сообщали, что среди дворянства, а особенно — в гвардии, пробудилось нечто вроде национального чувства. Не такого, как у британцев, гордых преобладанием над прочими народами: тут, скорее, пробилось недовольство германским засильем при дворе. Чувство естественное и понятное. Вот только почему его распространение финансировалось французским посольством, а главными проповедниками русского патриотизма оказались отпрыск гугенотов Лесток и крещеный еврей Грюнштейн? Стоило маркизу де ла Шетарди позвенеть золотом, как эти проходимцы мигом обрусели! Знаменем же нарождающегося движения сделалась царевна Елизавета.
Де Орбиньи, как истинный сын своего отечества, мгновенно с маркизом подружился и принял самое живое участие в его замыслах. Все планы, в кои мой эмиссар был посвящен, стали достоянием сего интригана. Послу, как водится, не хватало денег: хоть он и сам был человеком не бедным, и министерство французское не скупилось, однако размах затеянной аферы оказался настолько велик, что и десятикратное увеличение субсидий всех насущных нужд не покрыло бы. Возможности, открывающиеся при моем участии, он оценил с ходу. Письмо его, чрезвычайно льстивое и рисующее самые радужные першпективы (которые распахнутся сразу, лишь стоит мне тряхнуть кошельком), я перечитал много раз, пытаясь постичь за дипломатической гладкописью истинную суть. Да, это был сильный игрок. Но с какой стати он возомнил, что может ходить графом Читтано, как пешкой? Французам вообще присуща самонадеянность. Они искренне полагают, что их племя — вершина совершенства, и что весь мир, для его же блага, следует перекроить по французским лекалам. Британцы, впрочем, думают совершенно так же, только лекала норовят подсунуть свои: в сем залог вечной вражды между сильнейшими европейскими нациями.
Подозревать Шетарди в желании блага России не было ни малейших оснований. Сведения о его дипломатической службе в Берлине во время польской войны, коими я располагал, определенно аттестовали маркиза, как врага русских. Врага не только по должностной обязанности, что естественно для служителя оппонирующей державы, но и по убеждению, даже по страсти. Логика его нынешних действий становилась понятна лишь в свете крайнего презрения, питаемого к туземным жителям. По мнению посла, всем своим политическим значением сия страна обязана была иноземным пришельцам; сами же русские, прозябая в рабстве и невежестве, абсолютно ни на что не способны. Возбудивши в них зависть и вражду против кучки немцев, окружающих трон, и уничтожив влияние сих последних, Франция может ценою небольших, сравнительно, издержек вернуть «страшилище востока» к древнему бессилию, в каком оно пребывало до Петра. Сим объяснялось рождение «русской партии», созданной на французские деньги.
Надо ли показывать маркизу, опьяненному безмерным апломбом, глубину его заблуждений? Нет, если отвергну предложение и встану на другую сторону. А если не отвергну — тем более, нет! В таких делах компаньон — всегда соперник. Любой его просчет может и должен быть использован против него. Сказать по правде, обе партии вызывали мало симпатий. Одна из них, в силу династических связей, предана венскому и польско-саксонскому дворам, другую кормят с рук французы и шведы… Лично Елизавета приятней двоюродной племянницы, нелепым стечением обстоятельств получившей высшую власть — но в политике личные чувства неуместны. Царевна в ее нынешнем положении — все равно, что размалеванная тряпичная кукла, которую циничные и беспринципные интриганы прикрепили на свой щит для увлечения неразумной толпы.
Тем не менее, мой ответ Шетарди был выдержан в самом благожелательном духе. Бесконечно признателен любезному маркизу, чрезвычайно заинтересован его многообещающими начинаниями… И так далее. Переводя на язык простой и грубый — денег дам, если буду уверен в результате. Прежде хочу получить свидетельства серьезности намерений. Словом, обычный разговор между прожектером и капиталистом. Ничего обязывающего с моей стороны. С гораздо большим удовольствием я дал бы присягу действующим властителям России. Но кому? Принцу Антону-Ульриху? Тогда подскажите, каким образом вложить в его тупую брауншвейгскую башку мысль, что ему нужен генерал Читтанов? Он Миниха-то прогнал, считая, что сам справится лучше… За широкой спиною Бурхарда-Кристофа можно было жить-поживать, не опасаясь никаких заговоров. Никто бы и сговариваться не посмел. Конечно, пришлось бы поделиться властью. Ничего страшного: Миниху контрбалансировал бы Остерман; а пока эти двое меж собой тягаются, надлежало озаботиться приобретением верных сторонников, нажить государственный опыт, или хотя бы создать у людей привычку к себе… Вот так поступил бы умный человек. Нужен ли принцу верный генерал в настоящий момент? Как утопающему — рука помощи. Но, во-первых, он этого еще не понял. Во-вторых, после долгого отсутствия мне понадобится довольно много времени, чтобы взять войска в свои руки. Несколько месяцев на один лишь столичный гарнизон; и вполне может статься, что необходимая натяжка поводьев как раз и ускорит выступление противной стороны.
Нет. Надо признать откровенно: Миниха не заменит сейчас никто. И я не заменю, если даже вдруг пожелаю. Он единственный мог держать гвардию в повиновении. Конечно, терпеть его новым правителям России было трудновато, по безудержной властности и неумеренным амбициям фельдмаршала; но все же следовало терпеть! Когда они собственноручно убрали ключевую фигуру, придающую силу и прочность их позиции… Как помочь людям, которые сами себя губят?!
И еще. Даже заполучив каким-то неведомым способом доверие принца, серьезного веса в государстве приобрести не удастся. Не будем забывать, что Антон-Ульрих в августейшем семействе занимает лишь третье по значению место. Императорское достоинство принадлежит его сыну-младенцу, права регентства — неверной жене… А к ней подход только через Линара. Можно попробовать дать этому господину солидную взятку — да как-то не хочется. Противно.
Кстати, отставка Миниха несомненно инспирирована Линаром, в интересах союзной Марии-Терезии. Фельдмаршал терпеть не может цесарцев, после их сепаратного мира с турками, отнявшего у него плоды столь тяжко выстраданной победы. Саксонский посланник, при его нынешнем влиянии, легко мог сделать простодушного и недалекого принца своим слепым орудием. Остерман, безраздельно приверженный союзу с венским двором, тоже, наверно, руку приложил. И, разумеется, все сии нити влияния идут через Анну Леопольдовну, «правительницу». Да что это за нашествие бабье на Русь?! Ладно, старшая Анна, тетка нынешней. Та хоть понимала, как действует механика власти. Эту же никто не обучил даже самым азам государственного искусства. Все равно, что младенца посадили править плохо объезженной упряжкой. При первых движениях такого возницы хочется отобрать у него кнут и вожжи, пока не задавил никого и не расшиб. А глядит на сии экзерциции весь Петербург — и ох, как многим хочется крикнуть: «Эй, девка, слезай с облучка! Опрокинешь нахрен карету!»
Вот, вообразим, что представили бы меня сей регентше. И что бы я ей сказал? Ежели быть с нею честным, сначала надобно объяснить, что она дура. Мол, батюшка твой Леопольд с Мекленбургом не сладил — маленьким герцогством в дисциплинированной Германии, где, наверно, даже младенцы сосут материнскую титьку в согласии с высочайше утвержденным регламентом. А ты, милая, намерена править огромной страною — буйной, неусмиренной, косматой… Учитывая масштаб, космически косматой… И смеешь наивно полагать, что твоего жалкого полудетского умишка на это хватит?
Разумеется, формулировки сих резонов обязаны быть более деликатными. И все равно, подобные нравоучения, с каким изысканным политесом их не излагай, не могут окончиться ничем, кроме пинка под зад непрошеному советчику. Тем более, эта семейка меня не знает. Слишком молоды. Может, слышали какие байки о генерале Читтанове — но и те, скорее, очернительные. Придворные круги вообще славятся злословием.
В отличие от брауншвейгско-мекленбургской парочки, царевна Лиза со мною издавна знакома. Наверно, помнит еще, как я катал ее маленькую, вместе с отцом и сестрицей, на огненной машине. Да и потом мы, хоть не были очень близки, вполне симпатизировали друг другу. У нее особое отношение к людям, возвышенным Петром Великим. Ей ведомо, что батюшка имел острый глаз на людские таланты, и коли ты им примечен — значит, безусловно стоишь внимания. Она, несомненно, слушала бы мои советы. Не только мои — но я не претендую на монополию.
Одна беда. Сейчас принять сторону французов означает войти в сговор с явными врагами своего отечества. Хорошо бы так исхитриться, чтобы и Лизу посадить на трон, и Шетарди прокатить на вороных…
Праздные сии мысли ни во что материальное не оформились, пока не пришли ответы на мои запросы. Всякий, кто занимается коммерцией, знает: деньги не надо выпускать из рук, ежели нет верных гарантий получения товара. Да и что за товар, еще не ясно было. Прощение несуществующих грехов? Этого мало! Империя в полное распоряжение? Заманчиво, но — не поверю! Послу нужна покорная кукла на царском троне, по первому слову принимающая любые позы, предписанные из Парижа. Граф Читтано слишком независим и упрям, чтобы доверить ему чин советника или министра при новой государыне. Золото его пригодится, а сам он — нет…
Требуемые на приобретение сторонников сто тысяч, соответственно, предлагалось отдать Шетарди под его parole d'honneur, сиречь слово чести, а уж распоряжение ими он милостиво соглашался взять на себя. Любой банкир, у которого вы спросите кредит на подобных условиях, просто-напросто рассмеется вам в лицо. А скорее — прикажет слугам выбить наглеца вон. Конечно, если бы сия революция привела к действительному получению власти над обширным государством, вторым в Европе по населенности, — я бы сказал, что это сказочно дешево, и что империи нынче упали в цене. Но где уверенность, что у заговора есть шансы на успех? А если даже оные имеются — где доказательства, что именно Шетарди держит в своих руках все его нити? Маркиз вертелся ужом, однако из самых этих уверток ясно следовало: никакими документальными свидетельствами участия царевны в тайных замыслах французской партии он не располагает.
В то же самое время, по другим каналам я получил достоверные сведения, что Ее Высочество отнюдь не сидит сложа руки, всемерно трудясь над увеличением своего влияния в гвардии. Ничего, что мог бы вменить в предосуждение даже самый пристрастный розыск: поминки, крестины, христосование на Пасху… Подарки «на зубок» младенцу-крестнику, пожертвования на гарнизонный храм… Отец, при жизни, то же самое делал. Гвардейцы у Петра Великого чувствовали себя как бы частью и продолжением его семьи: вроде приемных детей при суровом, но заботливом pater familias. Так вот, за последние месяцы легкомысленная, по внешности, царевна не упустила ни единого повода, чтоб эту связь поддержать и возродить. Солдаты так и зовут ее — матушкой. Ай да Лиза! Лизанька-лисонька… Зубки прорезались, и хвостом вертеть умеет. Пожалуй, из нее будет толк.
Природное отвращение к любым действиям, направленным против законной власти, заставило потерять еще какое-то время. Может, без меня разберутся? Нет, навряд ли. Не делаются такие дела без солидной финансовой поддержки. Дать денег, иль не дать — таков вопрос! Дилемма почти шекспировская. Кстати, относительно законности: право младенца-императора на трон более чем сомнительно, будучи подвешено на длинной цепи юридически неправомочных актов. Начнем с двоецарствия, установленного в незапамятном 1682 году. Ежели царевич Иван признан был негодным к престолонаследию, так надлежало его совсем отстранить! Или тот наследник, или другой: монархия, в переводе с греческого, есть не что иное, как одноличное правление. Двуглавые монстры нежизнеспособны, и незачем уподоблять государство его геральдическому символу. Если мне память не изменяет, причиной негодности называли слабоумие: причина достаточно веская, чтобы закрыть всем потомкам убогого путь к трону. Династический принцип на том и стоит, что свойства людские передаются по наследству. Или все это ложь, навет Нарышкиных? Не думаю. От пустых инсинуаций Милославские сумели бы отбиться. Потом, при выборе Анны, князь Дмитрий Михайлович Голицын заведомо не имел полномочий выносить вердикт о нелегитимности второго брака Петра Великого. Брак — дело церковное, и коли уж Верховный тайный совет сим вопросом озаботился, ему надлежало запросить Святейший синод. Было это сделано? Нет! Стало быть, исключение царевен из порядка сукцессии лишено всякой опоры, кроме приватного мнения случайных людей. Правильность избрания покойной императрицы и, следственно, правомочность ее завещания в пользу внучатого племянника оказываются под вопросом. Возникла правовая коллизия, наилучшим способом разрешения которой был бы созыв представителей от всех сословий и отдача династических споров на их суд. Нынешние властители России никогда на такое не пойдут — понятно, почему. Согласно депешам, кои приходят из Петербурга, народ гораздо больше склонен к Елизавете.
Так что же, черт возьми, благородней?! Взирать свысока, сложив не запятнанные братскою кровью руки, как русская держава впадает в паралич и бессилие, или же попытаться что-то предпринять? Сомнения мучили меня недолго. Конечно, надо действовать! Но только не по замыслу Шетарди. Уж если в сие дело вступать, то без жуликоватых посредников, норовящих всю выгоду забрать себе, а все издержки — возложить на партнера. Ссориться с ним, до времени, тоже не надо. Пусть думает, что это он капитан на сем корабле: лишь по отплытии ему надлежит оказаться за бортом.
Заранее ясно, что править событиями, оставаясь вдали от них, нельзя. Дабы объегорить француза, на месте должен быть кто-то, ни в чем ему не уступающий. Кто? Только я сам, больше некому. Все мои люди подняты из низов, многие — и вовсе из мужичья. Коммерцию вести наловчились, а в высших сферах будут, что горожанин в диком лесу. И сами пропадут, и, главное, дела не сделают.
Турецкий опыт лицедейства прибавлял смелости. Несколько лет назад я уже пользовался личиной британского негоцианта Александра Джонсона; вот и теперь добыл бумаги на то же имя. Абсолютно подлинные, и без малейшей переплаты. Конечно, сойти за природного англичанина вышло б далеко не во всяком кругу — акцент меня все же выдавал — но на сей случай в запасе имелся настоящий Джонсон, всегда готовый выскочить из-за моей спины для разговора с заграничными соплеменниками. Мелкий бристольский лавочник с радостью ухватился за возможность сделаться подставной фигурой в торговых оборотах с Санкт-Петербургом, о политической же стороне моих планов пребывал в счастливом неведении. Внешнее сходство между нами оставляло желать лучшего, однако многочисленные средства из актерского арсенала отчасти исправили положение.
Всё было готово. Всё и вся: люди, корабли, кожаные мешки с деньгами… Оставалось распорядиться. Но я медлил. Томило чувство, коего не бывает на войне: сомнение в своей правоте. Подлинно ли та перемена, о которой мечтают многие, пойдет на пользу России? Ну, как взгляд Шетарди окажется вернее?! Именно в практическом смысле? Его мнение, будто все русские поголовно — тупые, бесчестные и вороватые холопы, безусловно не отвечает истине; но верно и то, что по мере приближения к царскому трону доля таковых очень заметно возрастает. Нет гарантии, что я смогу между них протолкнуться и хоть одним мизинцем достать до руля державы. Не выйдет ли, что, отогнав старых упырей, мы лишь освободим место для новых, а государство так и останется без головы? Где он, разум империи? Нынешняя августейшая чета — не голова, а так, прыщ какой-то. Елизавета… Не знаю, на что царевна годна. Давно ее не видел.
Для очистки совести, еще раз отправил своего поверенного к русскому послу. Первый визит состоялся сразу по прибытии моем в Лондон: не только же через Миниха строить мосты. Кантемира тогда сменил при Георге Втором тайный советник Щербатов, человек опытный и разумный, хотя горький пьяница. Главное же, новый посол приходился свояком Остерману, а значит, был вхож в святая святых санкт-петербургской политики. Охотно с ним побеседовал бы сам, без посредников — да только нельзя. Нельзя послу принимать человека, ошельмованного как государственный преступник. Ну, и ладно. Ерёма Литтон тем и живет, что представляет клиентов, кои не могут вести дела лично. Верю, он ничего не упустил: все вопросы, все намеки, все обещания дошли до посла, а через него — до канцлера в самом полном и неискаженном виде. Прошло… Черт знает, сколько времени прошло: скоро полгода будет! Если Остерман не соблаговолил ответить, при старой власти мне надеяться не на что. Надо ее менять — и сделать все, чтобы новая была умнее.
Литтон приехал очень поздно: обычно в этот час я уже сплю, но ради такого случая сделал исключение и приказал докладывать в любое время.
— Иеремия, друг мой, что нового?
— Увы, Ваше Сиятельство — ничего. Посол сказал: «Мне нечего сообщить вашему доверителю. Никаких известий для него». Ответ дословный.
— Вот как? Что ж, я очень Вам благодарен. Даже и за плохую весть, ибо это лучше, чем неизвестность. Не откажетесь разделить со мною ужин?
— Простите, Exellence: моя семья уже заждалась.
— Тогда не смею задерживать. Доброй ночи.
Можно было заранее предполагать, что состарившийся в кознях интриган, убегающий всякого риска, не примет на себя хлопоты по избавлению опального генерала от возведенных на него клевет. Вступившись за Читтанова, можно испортить отношения с Ушаковым, сильно в читтановском деле замазанным; Андрей же Иваныч, по здравому расчету, нужнее меня и опасней. Это с точки зрения канцлера так выходит. Да только — ошибается немец. Думает, Читтанов далеко, так ничего ему сделать не может… Когда поймет, что неправ, будет поздно.
Между прочим, если бы не эта его прославленная осторожность, я, всего скорее, воздержался бы от вмешательства в сию авантюру. Подай канцлер хоть малейшую надежду на мирное снятие опалы — Бог знает, сколько времени мог бы еще водить меня за нос. Теперь же — alea iacta est. Жребий брошен!
Через несколько дней «Святой Савватий» вышел в море со своим хозяином на борту, имея местом назначения Неаполь. Против Рамсгейта, он встретил гукор «Элефант», зафрахтованный Джонсоном до Петербурга, и три человека перебрались с одного судна на другое. Щербатов, коий следил за каждым моим шагом, не должен был ничего об этих маневрах пронюхать. Граф уплыл в Италию и там пребывает, вот что ему следовало знать. Плавание проходило спокойно: разве что слишком долго, по причине противных ветров. Зато хватило времени отпустить шкиперскую бородку — хотя короткую, но меняющую лицо до полной неузнаваемости. Давно ли Петр Великий брил бояр? Насильно, со стоном и плачем! А теперь борода настолько немыслима у благородных, что подобна шапке-невидимке из русских сказок. На тебя смотрят — и не видят. Оборотная сторона — мерзкое и свинское хамство, кое приходится терпеть от всякого, считающего себя выше. С иностранцами еще хоть как-то сдерживаются; но изображать русского простолюдина я согласился бы разве для избежания тюрьмы или смерти.
Петербург мало изменился. Домов, правда, еще понастроили — однако присущий сему городу бивуачный дух, подобающий скорее временному военному лагерю, нежели столице могущественной империи, все равно никуда не делся. Болтаясь по чужим краям, уже и забыл, что возможна такая диковинная пропорция между подданными, служащими короне, и живущими просто так, сами по себе. Двор, гарнизон, чиновники — и прислуга при них. В отдельных слободах — мастеровые, большею частью адмиралтейские и генерал-фельдцейхмейстерские. Небольшое число купцов, русских и иноземных. Пришлые артели извозчиков, плотников и землекопов. Вот, собственно, и все население. Хоть Петр Великий и старался подражать Амстердаму, в итоге вышло совершенно иное. Сравнительно с образцом, сей «парадиз» выглядит, как голый скелет рядом с упитанным бюргером, как раз и составляющим главную массу тамошних горожан. Здесь же — отсутствующим вовсе. Ну, не растут в тундре апельсины! И что — винить жителей, что не сажают столь полезных древес?
Около четырех лет назад я завел шпионов в русской столице. Пока томился в Пьомби, приказчики мои переверстали их в торговых агентов: с полным соблюдением тайны, ибо читтановской компании не продали бы в России и ржавого гвоздя. Марко Бастиани сидел в Петербурге под видом негоцианта из Ливорно и под чужим именем, ввозил вино и оливковое масло, в другую сторону отправлял пеньку и полосовое железо. Сие последнее — исключительно контрабандой, понеже на вывоз металла по-прежнему действовала монополия, а владел ею английский торговый дом Шифнера и Вульфа. Некогда это право принадлежало мне, на паях с Акинфием Демидовым; но после моего бегства из России осиротевший компаньон не удержал за собою столь ценный приз. Хитрые британцы подкатились к Бирону через Липмана и перекупили привилегию. Сильно подозреваю, что большая часть денег ушла при этом мимо казны. Черт с ним; тем более, что имение Бирона все равно попало под конфискацию; в случае успеха найдется время сию несправедливость исправить. Сейчас было важно наличие торговой конторы, куда может бесподозрительно зайти кто угодно, чтобы прикупить для своего обихода бочонок вина (или масла, ежели столько вина ему не выпить), и немногочисленной, но надежной команды служителей. Пока подлинный Джонсон наносил визит британскому консулу, велел главе петербургской фактории подробным образом описать мне здешние обстоятельства.
— С чего начать, Eccellenza? Вам уже известно, что шведы объявили войну России?
— Да, Марко. В Данциге услышал. Долго же они собирались! Наверно, весь мир успел не только прознать об этом намерении, но и отчаяться, что оное будет когда-либо исполнено.
— Долго. Почти три года. При этом — Вы не поверите — у них совершенно ничего не готово! Флотские команды…
— Что, не укомплектованы?
— Хуже. С мая месяца корабли болтаются в море, а людей косит моровое поветрие. Дошли до того, что не хватает рук для парусной работы. Говорят, обыкновенный поворот оверштаг стал затруднительным.
— Так вот почему нас не остановили! У Гогланда видели шведский флот, крейсирующий о четырнадцати вымпелах. И никакого внимания с его стороны судну, идущему в неприятельский порт! Мы сочли, что это британский флаг вновь обнаружил свои волшебные свойства. А дело вон в чем. Слушай-ка, а что за поветрие?
— Точно неизвестно. Вроде бы, кровавый понос. Умерших — тысячи. У русских тоже гошпитали переполнены, но до такого им далеко.
— Английские матросы шутят, что корабль — дубовый гроб для команды. А сухопутную армию зараза поразила или обошла?
— Чью армию? Шведскую или русскую?
— Обе.
— О шведской сведений не имею — если прикажете, получу. Граница легко проницаема благодаря множеству контрабандьеров, притворяющихся рыбаками. У русских много больных, но это, главным образом, рекруты. Старых солдат, переживших турецкие походы, гастрические лихорадки уже не берут. У них, наверно, потроха дубленые, как сапожное голенище.
— Какие у кого потроха, это я много раз видел. Вот не иметь известий о вражеской армии, находясь лишь в ста тридцати верстах от ее аванпостов, непростительно.
— Ваше Сиятельство, говоря об отсутствии сведений, я разумею лишь здоровье солдат. Обо всем остальном регулярно отписывают шведские маркитанты, покупающие у нас вино. К сожалению, в малых количествах: все северяне предпочитают крепкие напитки, а в эти поставки влезть не удалось. Хорошо бы сделать, как в Италии, где обе воюющие армии ели наш хлеб и стреляли друг в друга нашим порохом.
— Не надо. Здесь у меня другие цели. Касательно солдатского здравия — придумай, как заставить своих корреспондентов сообщать об этом. А пока выкладывай, что знаешь.
— Слушаюсь. Предложу им поставлять лекарства: вроде, дубовую кору против поноса употребляют? Будет повод спросить о числе больных. Что касается войска, шведы его разместили в двух лагерях, один к востоку от крепости Фридрихсгамской, другой в трех шведских милях к западу от Вильманштранда. Начальствуют, соответственно, генерал-лейтенант Будденброк и генерал-майор Врангель. Дистанция между лагерями не более сорока верст. Фельдмаршал Карл Эмиль Левенгаупт, имеющий восприять общее командование, остается пока в Стокгольме: он избран главою дворянской курии в риксдаге и явно считает внутренние склоки поважнее войны с русскими, коих в мыслях своих уже победил.
— Если ты за пятьсот английских миль читаешь мысли вражеских генералов, как открытую книгу, — тебе, дорогой мой, просто цены нет!
— Вы можете смеяться надо мною, Eccellenza — но вот, извольте послушать, что пишет из Стокгольма очень осведомленный человек. Особая депутация риксдага в составе одиннадцати душ, под председательством Левенгаупта, составила секретный прожект о мире с Россией. Настолько же секретный, как и все остальное в королевстве. Неделю спустя, о нем разве что кухарки на базаре не толковали. Сим постановлено не вступать даже и в перемирие, пока российское государство не вернет шведам всех земель, отнятых в прошлую войну. Для обеспечения же безопасности оных на будущие времена, граница должна быть значительно отодвинута к востоку, против установленной Столбовским миром, и проведена через Онежское озеро к Белому морю.
— Совсем обнаглели.
— Если же, против ожидания, шведское оружие потерпит существенный урон, или на Швецию восстанут иные державы, депутаты готовы удовлетвориться отдачею Карелии и Ингерманландии с Петербургом, при непременном условии, что России будет запрещено иметь корабельный и галерный флот в оставленных ей Эстляндии и Лифляндии.
— Точно ли сей прожект комиссией Левенгаупта составлен? Больше похоже, что сочинил какой-то шутник.
— Подлинность проверена по надежным каналам.
— Сколько там у них солдат, в обоих лагерях?
— По разным показаниям, от восьми до десяти тысяч. Генерал Будденброк еще четыре месяца назад отдал приказание финским поселенным войскам собираться под его рукою; однако, исполняется сие очень медленно.
— Кого Господь захочет наказать — лишит разума. С этим идти на Петербург?! На что они рассчитывают?
— На измену, мятеж и смуту — больше не на что. Персона, за которой Вы велели наиболее тщательно приглядывать, встречалась не только с французским послом, но и с шведским, до отъезда оного в связи с возгоревшейся войною. О чем они говорили — неведомо. Я сразу Вам сообщил, без отлагательств.
— Я читал. Дьявол, не может такого быть! Не верю!
— Она действительно встречалась с фон Нолькеном!
— Что встречалась, верю. Что согласилась вернуть отцовские приобретения… Понимаешь, Марко, она религиозна. Верует — по-настоящему, серьезно и глубоко, — в бессмертие души, в загробное воздаяние, в то, что батюшка смотрит на нее с небес… Разрушить, пред отцовскими очами, дело всей его жизни?! Ни за что!
— Но в таком случае действия шведов лишены всякой логики. С наличными силами, Левенгаупт не вправе надеяться на успех.
— Бог знает. Может, она решилась взять грех на душу и дала Нолькену обещания, которые не собирается исполнять. Может быть, сам барон неосновательно истолковал в свою пользу туманные двусмысленности, какими женщины любят потчевать поклонников, а при случае готовы угостить и партнеров по играм вокруг трона. Да мало ли что еще возможно! Главный ее поверенный — Лесток?
— Да, все переговоры идут через него.
— Так вот, с лекаришкой — никакого дела. Гнилой человек: нет уверенности, что, взявши деньги, станет плясать под нашу музыку. Подумай, как устроить встречу с нею самою, а прежде хорошо бы о том поговорить…
— С кем, Ваше Сиятельство?
— Был у нее камер-юнкер. Петя Шувалов.
— Он и сейчас есть.
— Толковый был паренек… Лет десять назад. Хочу взглянуть, что из него выросло.
Вокруг престола
Известно, что королями правят подданные. По преимуществу те из них, кои непосредственно окружают коронованных особ — а через сих ближайших, даже и такие, кто сроду не имел счастия предстоять монаршим очам. Управление это тем действенней, чем оно мягче. Нужно обладать нечеловечески сильной волей (или настолько же скверным характером), чтобы противиться нежному, как пуховая перина, со всех сторон обволакивающему давлению, замешанному на преданности, обожании и тонкой лести.
Не одни августейшие персоны подвергаются этакому испытанию: всякий, кому случалось испытать себя в роли начальника, хотя бы и совсем небольшого, наверняка что-то подобное замечал. Я, к примеру, со своим «экстерриториальным графством» в сотни и тысячи оторванных от родной почвы душ, постоянно чувствовал сгущенную атмосферу людских ожиданий, которые никак нельзя обмануть. Собственно говоря, «читтановщина», как окрестили недоброжелатели происходившее вокруг меня, родилась из сочетания приватного интереса некоего имперского графа и стремлений определенной части русских людей к свободе и благосостоянию. Доведись мне хоть временно пренебречь ожиданиями верных вассалов — очень скоро бы остался в одиночестве.
А сильнее всего, до полной невозможности сопротивляться, подвергаются давлению своей свиты претенденты на трон. Разница между теперешним скромным положением и тем, какое станет возможно при воцарении их ставленника, ежедневно и ежечасно возбуждает честолюбивые мечты. Как бы мало ни была склонна к рискованным приключениям (ну, разве, кроме любовных) царевна Лиза, приближенные столько надули ей в уши о всеобщем желании видеть дщерь петрову на троне, вместо потомства царя Ивана, что уже и не получилось бы остановиться.
Вообще говоря, ее клевреты не лгали. Может, слегка преувеличивали. В России между династией и подданными от века существует определенная духовная связь. Люди ожидают отеческой (или, соответственно, материнской) о них заботы, что может означать и милость, и грозу со стороны престола; но они не поймут и не примут безразличия. При императоре, способном лишь титьку сосать, царские права и обязанности присвоила его мамаша — совершенно не понимая, что, ограничив свой круг общения Остерманом, Линаром и фрейлиной Менгден, а правление предоставив чиновникам, она творит пустоту в человеческих душах, кою не упустят заполнить соперники. Надо же отвечать царскому образу! Ты хочешь — казни, хочешь — милуй, кого угодно и за что угодно, только непременно напоминай о себе. И не забывай показываться народу. Об Анне Леопольдовне, еще в бытность девочкой, говорили, что принцесса слишком дика; теперь же у нее не оказалось наставника, который обучил бы царскому ремеслу. А научиться самой — ума не хватило.
У кого сей редкий товар был в достатке, так это у лизанькиных слуг. Что, вообще говоря, обнадеживало: ум слуги — достояние господина. Ну, а в данном случае — госпожи. Разумеется, в предположении, что слуга верный. Имея толковых советников и помощников, можно подняться много выше уровня, определенного тебе природой. Слушая из соседней комнаты беседу Марко Бастиани с Петром Шуваловым (слава Всевышнему, я еще недостаточно стар, чтобы страдать тугоухостью), вполне успокоился насчет сего молодого человека. Все, что нужно, он схватывал с полуслова.
Извинившись, что отвлекает столь важную персону от государственных дел, торговец незамедлительно разъяснил причины столь дерзкого поступка: ему поручили переговорить о возможной помощи в решении денежных затруднений, которые испытывает принцесса. Кто поручил? Один граф, хорошо известный в коммерческих кругах Италии и Англии, но также не чуждый и России. Откуда граф знает о затруднениях? От некого маркиза, весьма осведомленного в этом вопросе. Уважаемый Петр Иванович всегда может у маркиза о том спросить, но стоит ли спрашивать, и под каким видом это делать — пусть решает сам. Момент весьма деликатный, и вот почему. Сей достойный синьор запрашивал финансовую поддержку, не предоставив ни обеспечения, ни прокурационного письма от особы, в пользу которой ходатайствует. Простого человека при таких обстоятельствах граф даже не стал бы слушать; но ведь этот проситель далеко не прост. Он облечен доверием своего короля и, насколько известно, состоит в конфиденции с Ее Высочеством. Простирается ли благожелательность принцессы столь далеко, чтобы позволить маркизу брать деньги на высочайшее имя и распоряжаться полученными средствами для ее пользы и удовольствия — сие хотелось бы уточнить у нее лично. Очевидно, что подобные полномочия могут быть предоставлены только очень близкому человеку.
Подтверждения, что упомянутая персона действительно делала такие запросы? Таковые имеются, но с этим, пожалуйста, к Его Сиятельству; скромный негоциант в роли посредника всего лишь призван связать меж собою заинтересованные стороны. Впрочем, он осмелится заметить, что в коммерческом мире слово графа котируется наравне с золотом. Если Петр Иванович сообщит все вышесказанное своей госпоже, и та сочтет желательным продолжение переговоров — милости просим, в любое время. Кстати, не желает ли гость отведать вина нового привоза? Понравится — можно придержать бочонок специально для него…
Даже по изменившемуся тону камер-юнкера можно было почувствовать, насколько он раздражен бесцеремонностью француза. Мало, что тот без дозволения вынес наружу весьма деликатные проблемы; так еще и в деньгах, собранных для царевны, захотел хозяйничать, словно родственник-опекун — в имении малого дитяти! Теперь перед Шуваловым воздвигся вопрос: стараться ли, подобно маркизу, выжать максимум возможного для себя, или прикинуться скромником и отступить в тень, предоставив высоким персонам договариваться напрямую.
Через неделю, когда он вновь появился в торговой конторе, стало ясно, что избран второй путь. Несомненно, более правильный: попытка встать между хозяйкой и ее деньгами была бы наглостью в отношении к ней, и кончилась бы когда-нибудь бедою. Кажется, тут все очевидно. Тем не менее, множество придворных то и дело вступают на кривую дорожку. Вспомнить хоть Меншикова… В отличие от покойного фаворита, молодой человек экзамен выдержал. Впрочем, от бескорыстного идеализма он тоже оказался весьма далек: в сем случае время, потраченное на раздумья, может служить мерилом внутренней борьбы. Сребролюбив, но не до потери рассудка, — таков был мой вердикт. Значит, с ним можно иметь дело. Есть шанс обскакать французов и шведов, кои тоже лезут со своей помощью.
Однако, за эту самую неделю как раз и произошло событие, недвусмысленно показавшее, что надежды заговорщиков на иноземную подмогу не стоят и ломаного гроша. Первое же столкновение русских и шведов, у пограничной крепости Вильманстранд, окончилось убедительной победой русского оружия и вселило страх в сердца неприятелей. А дело было так.
Разведав, что сия фортеция укреплена недостаточно, гарнизон же едва достигает четырехсот душ, Петр Петрович Ласси решился на coup de main, сиречь набег, и с девятитысячным отрядом, почти без артиллерии, взявши провианта лишь на пять суток, быстрым двухдневным маршем к Вильманстранду вышел. Генерал-майор Врангель, имея то ли три, толи пять тысяч солдат, — в общем, значительно уступая — решился преградить ему дорогу и дать бой перед крепостью. Пушки, снятые с городских бастионов, превосходная оборонительная позиция и присутствие у шведов их лучших полков: Зюдерманландского, Далекарлийского и Вестерботтенского, — отчасти уравновешивали разницу в силах. Тем не менее, после упорного трехчасового боя неприятели были обращены в бег и загнаны в город. Крепостная артиллерия, неосторожно выведенная в поле, стала добычей русских и обратилась против прежних владельцев. Врангель, при отступлении раненный в руку, понял, наконец, всю безысходность положения и разрешил коменданту крепости Виллебранду сдаться. Тот поднял белый флаг; но шведские солдаты, одушевленные знаменитой «норманнской яростью», не слушали командиров и продолжали бой. Пал мертвым барабанщик, посланный Ласси для принятия капитуляции. Генерал русской службы Икскуль и полковник Леман, взбежавши на крепостной вал, пытались вразумить неприятельское войско: кричали по-шведски и указывали на выставленное комендантом знамя мира, — всё впустую. Они тоже были убиты. Вот тут уже русские солдаты рассердились, и ярость шведов оказалась в сравнении вздором, навроде дамской истерики. Крепость была взята решительной атакой и на следующий день по приказу Ласси сожжена дотла. Мало кто из ее защитников избежал плена или смерти. Большинство офицеров, не исключая командующего генерала, отправились под конвоем в Санкт-Петербург.
Ну вот каким же кретином надо быть, чтоб на пустом месте отхватить этакую конфузию?! У Врангеля было два приемлемых пути (не зная всех подробностей, не дерзну судить, который правильнее). Следовало либо оставить крепость, выведя гарнизон и жителей и отступив на соединение с Будденброком, либо, наоборот, ввести в нее значительное подкрепление и обороняться на бастионах. Зачем устраивать полевую баталию с неприятелем, многочисленнейшим вдвое, а то и втрое? Эту дурь невозможно иначе объяснить, кроме как чрезмерной самонадеянностью. Шведским сторонникам войны, чтобы разжечь остывшую за два десятилетия вражду к соседям, долго пришлось твердить, что русские подлы, жестоки, слабы, бесчестны и трусливы; что армия российская — толпы варваров; что офицеры в ней — корыстные наемники, не нашедшие, по негодности, другого места… Они сами уверовали в собственную ложь. В политике или на войне это гибель.
Вильманстрандская виктория повергла в смятение всех, жаждавших воцарения Елизаветы. Регентша и супруг ее мало, что не были народом любимы — были презираемы за бестолковость, чужеродность и неблагочиние. Единственное, что могло обеспечить Брауншвейгской фамилии необходимый престиж и примирить подданных с ее верховенством, это победы русского оружия. Кстати, принц Антон-Ульрих при начале войны изъявил желание лично возглавить армию; однако позволил придворным себя отговорить. Малодушный глупец! Вообразите молодого Петра на сем месте — как полагаете, его остановить кто-нибудь смог бы?! И что стало бы с тем, кто попытался? Если бы принц встал во главе войска (пусть формально, предоставив распоряжаться многоопытному и чуждому интриг Ласси), кто посмел бы за его спиною шустрить в столице?!
Вообще говоря, окидывая ретроспективным взглядом прежде бывшие войны и междоусобицы, ясно видишь: во множестве случаев проигравшая сторона имела прекрасные шансы на победу. При безошибочных своих действиях, конечно. Что тут сделаешь: errare humanum est! Человеку свойственно ошибаться, и крылатая богиня обыкновенно венчает славою не счастливца, который ухитрился случайно нарушить сие правило, а прозорливого математика, у коего число и цена ошибок оказались меньше, чем у оппонента.
Петра Великого русские люди особенно полюбили после смерти: при жизни больше побаивались. Дочь первого императора, красивую и добрую девушку, они безусловно предпочитали его дальней немецкой родне, какую в народе именуют «седьмая вода на киселе». Об опасности заговора правительницу и ее мужа кто только не предупреждал: и канцлер Остерман, и цесарский посол Ботта д'Адорно, и британский Эдуард Финч, и куча всяких придворных бездельников. Царевна шагу не могла ступить без соглядатаев, разве в нужнике, да и то не уверен. И все же, предпринять что-либо решительное против Лизы власти не смели. Ну, как неосторожный шаг приведет в движение всю покоящуюся доселе массу ее симпатизантов?! Это же лавина, раздавит нахрен! Что примечательно, великий и страшный генерал Ушаков, гроза трактирных празднословов, ни малейших признаков заговора не видел вовсе; а некоторые, шепотом, утверждали, что он-то и есть самый верный и преданный сторонник царевны.
Значит ли это, что никаких средств против подготовлявшейся Шетарди революции у брауншвейгцев не было? Странный вопрос. Кто держит в руках государство, располагает абсолютным преимуществом против любой враждебной партии — примерно как у регулярного войска в столкновении с неупорядоченной толпою. Даже не обязательно пускать в ход топор палача: можно было мягко размыть сложившееся в гвардии ядро партизан Елизаветы переводом самых деятельных его членов куда-нибудь подальше, в провинцию. Лучше — с повышением, или на хлебные должности, чтоб отнять почву для недовольства. Благо, еще Петр Великий ввел в обиход посылку гвардейских офицеров и унтеров для самых разнообразных нужд, от сбора податей до введения платья новых фасонов.
Впрочем, подобная тактика требует ума и трудолюбия от тех, кто ее применяет. Надобно досконально знать людей и сортировать оных не по росту или цвету волос, а по сокровенным их мыслям и стремлениям. Наверно, для иноземного принца это слишком сложно. Да и времени заняло бы многовато. Что ж, можно было проще сыграть. До самого конца у Антона-Ульриха оставался в запасе выигрышный ход: уехать к армии в Выборг, с инспекцией или как иначе, и там задержаться — под любым претекстом. Сто двадцать верст фельдъегерь проскачет в считанные часы, армия же пройдет дня за четыре. Идеальное расстояние, чтобы подвесить дамоклов меч над головами гвардейцев. Как сбросить сына-младенца с императорского трона, если отец у него генералиссимус и находится при войске? А далее — принцу открывался выбор. Можно дождаться решающих побед и вернуться в Санкт-Петербург триумфатором, можно гвардию призвать на театр боевых действий — и там уже с нею что хочешь делай… Черт побери, даже обидно! Как будто садишься в шахматы, готовый к борьбе с сильным игроком — а твой соперник только портит сие благородное искусство своей неловкостью. Изящные и остроумные комбинации, на него запасенные, пропадают неразыгранными.
Такая политическая бездарность наших противников влекла за собою крайнюю невыгоду для меня. Сие означало, что царевне и ее партии для приобретения власти необходимы будут лишь мои деньги, но не мой ум. А это уже плохо, ибо деньги — субстанция обезличенная. Стоит их выпустить из рук, и что тебе останется взамен? Долговые расписки? Моральные обязательства? Грош цена и тем, и другим, когда речь идет о политике. Тем паче, с обретением заговорщиками доступа к имперской казне, зависимость их от меня прекратится.
Словом, тут было, над чем подумать. Дальнейшие беседы с Шуваловым вел по-прежнему Марко, мне же, прежде чем объявлять себя, следовало найти крепкую долговременную основу для отношений с будущей императрицей и ее окружением. Зачем хозяйке старый волкодав — прожорливый, опасный, с дурным характером — если враг до такой степени слаб, что его загрызут состоящие при ней комнатные собачки? Усядется на отцовский трон, скажет «merci», подарит деревеньку, где скоротать старость, ручку для поцелуя пожалует… Взаправду это будет значить «пшел вон», разве что на вежливый манер… В своей генеральской ипостаси я окажусь ей нужен и сумею удержаться в ближнем кругу разве при возобновлении войны с турками. Конечно, если сие случится скоро — иначе дряхл буду или вовсе не доживу.
В дела гражданского правления лучше и не соваться. Выколачивать подати, да усмирять бунты — вот вся их суть. Остальное — пустопорожние финтифлюшки. Отношения между казною и мужиком-плательщиком устоялись не так уж давно, после долгих и болезненных опытов на живом теле. Что-то здесь менять — расковыривать едва зажившие раны. Вот, разве по ведомству Коммерц-коллегии…
Коммерц-коллегию надо брать под себя. Не обязательно самому лезть в президенты: даже нежелательно, ибо в ряде случаев это мне может помешать. Непременно пойдут доносы, что глава ведомства благотворит собственному делу, в ущерб соперникам. А дело будет — размера небывалого. Если исполнить все, что хочется, Россия станет кузницей мира и всесветным поставщиком железных изделий. Ост-Индскую компанию, опять же, сколько лет собираюсь учредить… Позволят ли только? Чтобы сии мечты осуществить, понадобятся десятки, если не сотни тысяч работников. Бесхозных людей в России мало. Отобрать у неумеющих распорядиться народным трудом — не дадут. Впрочем, когда-нибудь получится, не мытьем, так катаньем. За отдаленное будущее я спокоен: деньги, в конечном счете, осилят любые препятствия. Беда лишь в том, что жизнь человеческая коротка.
Напоминанием сей печальной истины служила могилка старого моего приятеля Петра Шафирова, которую в эти дни посетил. Не он один преселился в вечность, пока меня не было: ушли Брюс, Вейсбах, Змаевич, Матюшкин, Бутурлин. Это лишь те, с кем довелось служить и поддерживать отношения если не дружеские, то доброжелательные и взаимно выгодные. Пустых и бесполезных существ — не считаю. Оборвалось множество связей, кои придают человеку вес в обществе наравне с благоволением монарха. Кто же остался? Кто из возвышенных Петром Великим сможет и захочет меня поддержать после воцарения его дочери? Ласси — бесспорно. Дружбы никогда у нас не было, но взаимное уважение и сознание достоинств друг друга — было и, надеюсь, осталось. Остерман? Мог бы обернуться хоть врагом, хоть другом (смотря, что выгоднее), но уже слишком определенно зарекомендовал себя, как противник царевны, поэтому при перемене власти никакая хитрость сукина сына не спасет. Румянцев? А вот черт его знает: не принял ли в обиду константинопольский случай? Все же его подручных убили. Из Турции он еще не вернулся, и неизвестно, когда ждать: переговоры затянулись, конца им не видно. Василий Владимирович Долгоруков? Единственный приличный человек из этой фамилии и несомненный мой союзник. Будучи крестным отцом Елизаветы, при ней должен выиграть едва ли не более всех. Но возраст… Фельдмаршалу семьдесят четыре года, из них десять последних мыкается по тюрьмам. Главное — за что? Всего лишь за резкое слово об императрице Анне, сказанное в сердцах, в расстройстве от опалы родственников. Надо быть бессердечными уродами, чтобы и после смерти тетушки продолжать мучить престарелого воина. Не знаю точно, где он содержится: одни говорят, в Ивангороде, иные — на Соловках; известно только, что ни малейшего послабления брауншвейгские ублюдки ему не сделали. Навряд ли, выйдя на волю, он окажется на что-то годен. Кто там еще забыт? Ушаков? Сей аспид меня тоже старше, и порядочно. Но доднесь, попущением Божьим, крепок и полон сил: его здоровью многие молодые позавидуют. Коли он впрямь на стороне царевны, это ничего не изменит. Один лишь вопрос меж нами не решен: кто кого закопает. Надо своевременно принять нужные меры, чтоб ответ вышел в мою пользу.
Вот, пожалуй, из высокопревосходительных старичков и все. Общий баланс — слава Богу, если не отрицательный. В среднем поколении, поднявшемся при Анне, моих сторонников нет и быть не может: если б таковые появились, их выжгли бы каленым железом. Молодые, которые идут за ними и проталкиваются в первый ряд прямо сейчас… Посмотрим. Может быть, тут не все потеряно. Братья Шуваловы несомненно будут в фаворе, а у меня найдется, что им предложить.
Доставшееся без труда, как правило, не идет людям впрок. Кто получает возможность невозбранно запускать жадные руки в государственную казну, утрачивает за ненадобностью ловкость, предприимчивость и фантазию, — качества, нужные успешному негоцианту. Так деградировал в нечто свиноподобное Бирон, при начале карьеры обладавший кое-какими дарованиями. Напротив, нужда, по русской поговорке, научит калачи есть — то бишь, заставит поневоле сделаться изобретательным. Цивильный лист Елизаветы Штатс-контора сроду не покрывала полностью и вовремя; посему ее приближенные должны были вертеться, как грешники на сковородке у Сатаны, чтоб удовлетворить запросам хозяйки. В царевниных имениях заводили всяческие промыслы и чуть не кнутом гнали мужиков на заработки: деньги были очень надобны. Хозяйством ведал старший Шувалов, Александр. Его брат-погодок, хоть и младший, имел в этой паре преимущество благодаря неугомонно-деятельной натуре и генерально руководил всем двором Лизы. Коммерческое чутье у обоих выработалось превосходное, почти собачье. Деловая хватка — по русским меркам, очень приличная. Для Европы, думаю, была бы слабовата: только мои люди способны держаться на равных в деловых кругах Лондона, Бристоля или Ливорно. Однако, если братьев пригласить в компаньоны, зряшным бременем они точно не будут. Напротив, может произойти много пользы.
Больше того, неплохо бы взять в долю и других влиятельных лиц. Пожалуй, это самый верный для меня способ обрести поддержку столпов империи. Хорошо и в тактическом плане, и в расчете на долгий срок, для смягчения шершавостей между сословиями. Рабство в России непоколебимо, пока благородные не имеют других источников дохода, кроме своих убогих деревень. Если хотя бы двор и генералитет, военный и статский, познают соблазн биржевых спекуляций и заморской торговли, воли у мужиков прибавится. Может, не у всех и не сразу — но прибавится точно. Только вот расширять круг компаньонов следует очень осторожно, дабы не упустить дело из рук.
Переговоры продвигались мучительно медленно, пока я скрывал свое присутствие в Петербурге — но и выходить из тени раньше времени было нельзя. Прежде обмена письмами с главной участницей всего дела и договоренности с нею по важнейшим пунктам, это было бы неразумно и слишком опасно. В первую очередь, надлежало условиться, чтобы мое участие до самого дня выступления хранилось в тайне от прочих заговорщиков, более же всего — от Шетарди. Француз достаточно умен, чтобы разгадать сей обходный маневр и понять, против кого он направлен. Можно представить ситуацию, когда ему выгодно будет донести на соперника властям. Не собственною персоной, Боже упаси: для грязных услуг есть другие люди. Сам он защищен дипломатическим статусом, а я в России кто? Разыскиваемый преступник, подлежащий немедленному аресту независимо от нынешних занятий. Из всех компаньонов сего прожекта — самый уязвимый. Неудивительно, что царевна ловко уклонидась от личной встречи, которая могла бы ее компрометировать и которую скрыть в обстановке всеобщего шпионства было бы чрезвычайно трудно. Переписка же велась анонимно, в таких выражениях, что совершенно не позволяла однозначного толкования и могла быть с легкостью принята, например, за любовную. «Дорогая принцесса, я Вас помню и питаю прежние чувства. Однако не намерен выказывать их открыто, дабы не пробуждать ревность симпатизирующего Вам маркиза…» И так далее: разумеется, все по-французски, в слащаво-сентиментальном стиле, напрочь отбивающем всякую мысль о каком-либо серьезном деле, за этими строчками скрывающемся. Однако, человеку посвященному в них сразу открывался истинный смысл. Как только Шувалов доставил высочайшую апробацию предложенных царевне пунктов и подтверждение своих полномочий на переговоры, стало возможно сократить цепочку. Пока гость, намеренно задержанный приказчиком, выбирал вино для царевниного двора, я прочел послание, без стука вошел в апартамент и подал Марко знак удалиться.
— Рад встрече, дражайший Петр Иванович! Вы очень возмужали за минувшие годы.
— Граф?! Так Вы в Санкт-Петербурге? Впрочем, я предполагал…
— Что ж, это делает честь Вашей проницательности. Полагаю, Ее Высочество поставила своего уполномоченного в известность о тех положениях, которые ею уже одобрены?
— Да, конечно. Генеральная амнистия всем Вашим людям, независимо от желания их вернуться в отечество или остаться за границей. Беспристрастный и справедливый разбор Читтановского дела. Позвольте спросить, а не лучше ли будет Ваше Сиятельство тоже включить в амнистию, не занимаясь лишним крючкотворством?
— Не лучше. Проще — да, пожалуй. Но дело в том, что я не ведаю за собою никакой вины против императрицы Анны. А вот узнать, кто против меня лжесвидетельствовал, в угоду Бирону, очень хочется. Так что предпочитаю новый розыск всемилостивому прощению.
— Как скажете. Потом… Восстановление всех имущественных прав и торговых привилегий. О чинах и наградах Вы забыли упомянуть, или…
— Или, Петр Иваныч. Подданные не вправе диктовать государям, какой чин кому даровать и на какую должность назначить. Сие есть прерогатива монарха.
— Но вернуться на службу Вы не отрицаетесь?
— Если государыне будет угодно предложить… Готов рассмотреть такую пропозицию.
— Понятно. Значит, наличие или отсутствие оной пропозиции на размер субсидии не влияет?
— Никоим образом.
— Столь бескорыстное стремление к справедливости — большая редкость в наше время.
— Оставьте, друг мой. Вы же прекрасно понимаете: самое тяжкое бремя любого претендента сразу по восшествии на трон, это обещания, коих всегда бывает роздано лишко. Исполнить все никак не получится. Кто больше навяжет Елизавете Петровне разного рода обязательств, того первого и скушают обделенные. Надеюсь, это будет француз.
Тридцатилетний камер-юнкер весело рассмеялся. Вряд ли он встанет на защиту Шетарди, когда придворные псы захотят распустить того на лоскуты. Зато вступиться за свою госпожу почел необходимым:
— Ее Высочество не дает ложных обещаний.
— Тогда ей придется еще трудней, нежели тем, кто дает. А то, что Вы назвали бескорыстием — просто нежелание ходить избитыми путями. Люди толпами теснятся у трона, в ожидании царских милостей; а между тем деньги, можно сказать, валяются у них под ногами. Если я чем-то и буду государыне докучать, то разве просьбами о дозволении оные поднять. Взять, к примеру, торговлю железом…
Достаточно было приоткрыть перед Шуваловым небольшой краешек своих коммерческих планов, чтобы разбудить в нем азарт промышленника. Столь откровенные беседы ведут лишь с предполагаемыми компаньонами — это он понял моментально. Теперь в его лице у меня появился сторонник в самом средоточии двора царевны. Ближе к ней стоял (или лежал, если угодно) один Алексей Разумовский; но хитрый малороссиянин оправдывал свою фамилию и по мере сил держался в стороне от политики.
Долгая петербургская осень тянулась, как вечность в первом круге ада. Уломать осторожную Елизавету скомандовать, наконец, революцию оказалось не проще, чем благовоспитанную девицу соблазнить к потере невинности. Все ее сторонники сего требовали; я и сам послал множество писем, призывающих не медлить более, ибо начало зимы таит опасность. После того, как на дорогах замерзнет грязь, препятствующая движению обозных фур и артиллерии, и до прихода Никольских морозов бывает промежуток времени, относительно благоприятный для действия войск. Весьма вероятно, что опытный фельдмаршал Ласси воспользуется моментом для новой виктории над шведами (к чему он имеет все необходимые средства). Сей успех, будучи присвоен теперешними правителями, может стать живою водой, которая напитает засохший чертополох Брауншвейгской фамилии и укоренит сей сорняк в русской почве. Поэтому надо действовать немедленно.
Но все рассуждения и уговоры были тщетны. Казалось уже, царевна никогда не решится дать сигнал к действию, и мои петербургские хлопоты окажутся пустыми. Однако те, кого слепая Фортуна поставила у руля империи, сыграли своим соперникам на руку. Они приказали гвардии идти воевать шведов, под самую зиму согнав ее с теплых квартир. Легко догадаться, как приняли гвардейцы сие распоряжение. Елизавета же оказалась перед выбором: сейчас или никогда.
Записку царевны в этот раз доставил не Петр Иванович, а какой-то юный прислужник. Впрочем, почерк и слог были ее. «Дорогой друг, я готова совершить то, к чему Вы меня столь долго склоняли. Приходите за час до полуночи в мой домик у Царицына луга». Бумажка источала тонкий аромат духов. Коли не знать заранее, что дело идет о революции, так и подумаешь на амурные дела. Вот интересно: ежели предприятие сорвется, и в руках розыскной комиссии окажется несколько дюжин подобных депеш — как объяснит принцесса столь чрезвычайную любвеобильность? Хотя, как бы ни объясняла, монастыря ей в сем случае не миновать. А помощникам — плахи. Разве что кроме Шетарди, пребывающего в посольском статусе. Ну, да ладно. Будем надеяться, Бог не выдаст, Ушаков не съест. Уж не знаю, намеренно или нет — но только Тайная канцелярия своими обязанностями манкирует. Куда опаснее простые разбойники, коих развелось в Петербурге видимо-невидимо. Ночная тьма, в это время года почти круглосуточная, служит верной союзницей душегубов. Что удивительного, если почтенный негоциант Джонсон отправится на прогулку по городу в сопровождении вооруженных слуг, и сам тоже вооружится до зубов? Обычная британская предусмотрительность, ничего больше.
Особнячок на берегу Мойки, помянутый в эпистоле Ее Высочества, был выстроен еще царем Петром для любимой супруги. По небольшой башне с золоченым шпилем, он именовался пышно «Золотыми хоромами», размером же и убранством подходил скорее купцу средней руки. Перейдя царевне по наследству от матушки, при ее бедности домик сей и вовсе пришел в упадок. Золото давно облезло, шпиль покривился. Фасад словно бы обрюзг, как физиогномия старого пропойцы из благородных: когда-то он знавал высшее общество, а теперь готов на любую подлость, лишь бы только вырваться из нищеты.
Я молча протянул отворившему дверь лакею записку Лизы — и не ошибся. Тот вправду был грамотным.
— Как доложть о Вас?
— Граф Читтанов.
Томительная минута ожидания. Что, если заговор открыт, и в «хоромах» гостей встречают люди брауншвейгцев?! Нет, кажется, все в порядке. Ее голос. Хоть слов не разобрать, тон повелительный. Привратник вновь возник:
— Пожалуйте, Ваше Сиятельство.
Царевна изменилась за пролетевшие годы. Красота ее не покинула: скорей, она созрела и расцвела. Но взгляд был иным. Умным и властным. Немало должна была пережить легкомысленная девушка, рыдавшая при воцарении Анны у меня на плече, чтоб обрести эту внутреннюю силу.
Вспомнив древний обычай, вместо поклона опустился на одно колено:
— Государыня! Умом, сердцем и шпагой готов служить тебе. Отныне и вовеки, до смерти!
Елизавета протянула руку для поцелуя (а по-старинному, положено было в губы целовать!) и милостиво подняла верного вассала:
— Спаси Господь тебя, Александр Иваныч, что не покинул в трудный час. Служба нужна немедля. Сейчас гренадеры придут…
В пол-уха слушая почти-уже-императрицу, я рассеянно дал общий поклон присутствующим. Братья Шуваловы здесь, оба. Рядом с ними — кажется, Миша Воронцов. Тоже камер-юнкер при царевне. Шварц, учитель музыки лизочкин. Старый уже — наверно, мне ровесник. Еще одного не знаю; по приметам, это должен быть Алексей Разумовский. И впрямь, очень хорош собою. Чуть в стороне, с насмешливым и самоуверенным взглядом — доктор Лесток. Вот его помню, хотя смутно: главным образом, по давним скандалам о соблазнении девиц и краже борзых собак. И с этим ciarlatano тоже придется делить власть? А Шетарди, интересно, где?! Не-е-ету! Прячется, сукин сын! Шетарди-то и нету! Оно, конечно, так правильнее: вначале и я хотел выбрать позицию за кулисами, да не получилось. Покуда сам на сцену не выйдешь, ничего с места не сдвинется!
— …сего злодея. Дорогой граф, я могу положиться на верность и усердие Ваши?
Ну что за черт! Лишь только приблизишься к власти, так сей же миг в какое-нибудь дерьмо и вступишь.
— Несомненно, государыня!
Заскрипел под окнами снег, затопали в сенях сапожищи: солдаты гренадерской роты Преображенского полка пришли сажать на трон свою «матушку». Пока царевна молилась об успехе дела, пока добирались до казарм, пока приводили солдат к присяге — время перекатилось далеко за полночь. К тому же, слобода преображенцев — за Литейным двором, а мне аж на Васильевский остров топать! Путь неблизкий, да еще снег, от коего успел отвыкнуть. Чертов ольденбуржец: кто мешал ему встать на сторону Елизаветы?! Хоть ради того, чтобы мне не шляться во мраке?
Одними деньгами купить возвращение не удалось: сверх сего оброка, Лиза мне боярщину назначила. Придумали, конечно, подручные — но это неважно. В практическом смысле, главная персона и ее ближний круг составляют единое целое. А задача была задана простая. Выбрать людей понадежней и с ними арестовать Миниха.
Фонарь в руке головного солдата отодвигает ночь едва ли на сажень. Гренадеры шагают по два в ряд узкой дорожкой меж сугробами. «Кто идет?» — «Гвардия!» — «Куда?» — «Не твое дело!». Дотошный блюститель порядка летит в снег на обочине. Больше таких наглых не видать: издалека услышав слитный, как на плацу, шаг, ночная стража благоразумно прячется.
Фельдмаршал, конечно виноват. Не далее, как минувшей весною писал я к нему, чтобы исходатайствовал прощение мне и моим людям. Не захотел, скотина. Хотя мог — и даже очень легко. Видно, решил, в самоуверенном ослеплении, что достиг всемогущества и что союзники больше не надобны. Вел бы себя разумней — сейчас имел бы графа Читтанова на своей стороне.
Так что — моральных препятствий не ощущаю. Дело в ином. Пока еще не убита одна возможность, ясно видимая как мною, так и собратьями по заговору. В чем иезуитство их замысла? Да очень просто. Фельдмаршал доселе не имел провинностей перед царевной столь тяжких, чтоб они погубили его заведомо и наверняка. Бог знает, как дело обернется. А вдруг уцелеет, да потом стакнется с Читтановым? Такой дуумвират сможет безраздельно господствовать над русской армией. Государство же российское вокруг своей армии и выстроено. Все остальное — маловажный придаток. Даже в мирное время две трети бюджета идет на войско, с флотом — четыре пятых. Ежели монарх по тем или иным причинам не способен самолично править военным ведомством, генералитет обретает власть, в чем-то даже превосходящую императорскую. При условии, что между генералами нет вражды. Вот и постарались придворные мудрецы измыслить способ, как Миниха с Читтановым насмерть поссорить. Не так ли во время оно меня с Ушаковым развели?
Караульный унтер-офицер в доме фельдмаршала был из наших и заранее предупрежден о событиях; солдаты тоже против течения не шли. Кто-то из слуг хотел поднять тревогу, но увидал в опасной близости от своего горла острый, как бритва, тесак — и сразу же потерял голос. До порога миниховой спальни дошли спокойно.
— А ну стоять, канальи!
Громовой окрик заставил гвардейцев замереть на месте. Огромная фигура в колпаке и ночной рубашке, с обнаженной шпагой в руке, возникла в дверном проеме, как привидение на кладбище. Колеблющийся свет лампады окровавил сталь багровыми отблесками. Солдат рядом мелко перекрестился. Мой выход.
— Не извольте гневаться, дорогой друг. Здесь нет каналий, а есть солдаты, исполняющие долг верноподданных. По указу государыни императрицы Елизаветы Петровны…
— Ка-ако-о-ой государыни?! Этой б…ди?!!!
Всё. Чаемый союз с Минихом умер и похоронен. На его могилке лопух растет. Не прощают такого женщины. Долгоруков, вон, десять лет по тюрьмам мается. Я печально вздохнул:
— Вяжите его, братцы.
Ни шиша ты не сделаешь одною шпагой против двух десятков бывалых солдат. Карл Двенадцатый в похожей ситуации успел заколоть трех янычар — но потом лишился оружия вместе с половиною пальцев. Миних оказался смирнее: не король, могут и убить. Елизавета воспретила смертоубийство, но фельдмаршал-то об этом не знал. Никого даже не царапнул. Вот гренадер, жаждущих разбить харю ненавистному немцу, пришлось охолодить. Нельзя дозволять нижним чинам неистовства против генералов.
Еще до рассвета брауншвейгское семейство и его немногочисленные сторонники все оказались под арестом. Зимний дворец Лиза брала лично, преодолев при этом сопротивление нескольких офицеров, сохранивших верность прежним властителям. Честно говоря, не ждал от красавицы… Совсем не женская решительность в ней пробудилась! И на другой день уснула вновь. Нужда в сем свойстве пропала: как только стало ясно, чей верх, безумные толпы военных и статских чинов кинулись во дворец с изъявлениями радости. Оказывается, все только и мечтали о восшествии дщери петровой на трон; а что не смели раньше сказать — так от застенчивости…





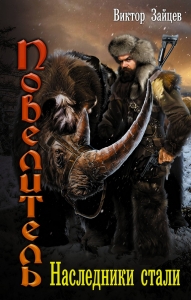
Комментарии к книге «Жизнь и деяния графа Александра Читтано. Книга 4», Константин М. Радов
Всего 0 комментариев