Анатолий Дроздов Листок на воде
От автора
Начиная работу над этой книгой, я не предполагал, с какими трудностями придется столкнуться. Первая Мировая война и участие в ней России не получили надлежащего освещения в трудах отечественных историков. Что говорить о таком специфическом направлении, как применение на фронтах новейшего для того времени вида войск — авиации! Я не смог бы написать этот роман, если б не помощь замечательных людей. Петербуржец Борис Степанов стал моим научным консультантом и редактором. Он же подсказал ряд эпизодов, вошедших в текст. Алексей Лукьянов и Андрей Муравьев помогли мне с историческими источниками. На сайте «Авиация Первой Мировой войны» и на моей страничке в Самиздате читатели давали автору добрые советы, обращали его внимание на ошибки и неточности. Огромное им спасибо!
1
«…Ты будешь умирать долго, гяур!»
Голос хриплый, каркающий, знакомый. Чтоб ты сдох, черноголовый! Задолбал! Обязательно каркать при каждом воплощении?
Приоткрываю глаза. Дощатый потолок, вымазанный белой краской. Почему «вымазанный», а не «крашенный»? Не знаю. Пусть… Оштукатуренные, побеленные стены. Неплохо. Осторожно осматриваюсь. Я лежу в кровати, прикрытый байковым солдатским одеялом. Скашиваю взгляд: на одеяло изнутри выпущен край свежей простыни. Под головой подушка — мягкая! Свезло мне нынче, ох, как свезло!
Шевелю пальцами рук и ног — подчиняются. Сгибаю ноги в коленях, затем обнимаю себя руками. Получается. Руки-ноги слушаются, ничего не болит, ран нет. Легкая слабость в теле, но это всегда поначалу. Пора!
Рывком сбрасываю одеяло, сажусь, упираясь спиной в подушку. На мне только белье: рубаха и кальсоны. Кальсоны с завязками, последние распущены. Завязываю их, шарю взглядом по сторонам. На гвозде, вбитом в стену, висит серый халат, даже на вид теплый. Обувь? Наклоняюсь и заглядываю под кровать. Есть! Нечто вроде галош, только кожаных. Левой рукой (почему левой? левша?), словно кот лапой вытаскиваю опорки (вот и название вспомнилось), всовываю ноги. Нормально. Встаю, снимаю с гвоздика халат. Руки не сразу находят рукава, отвык. Запахиваюсь. С соседней койки за моими манипуляциями с нескрываемым любопытством наблюдает человек в нижней рубахе и форменных военных галифе. Штанины галифе необъятной ширины, на ступнях толстые шерстяные носки. Почему-то хочется назвать их «чулками». Под койкой незнакомца стоят ботинки и лежат какие-то странные голенища с ремешками. На подоконнике кожаная каска с большим двуглавым орлом и кокардой спереди. Лицо у незнакомца молодое, простоватое, коротенькая, вихрастая челка зачесана на аккуратный пробор, виски выбриты. Больше в комнате никого нет, две соседние койки пустуют. Вежливо киваю соседу, иду к двери — пора осмотреться. За дверью широкий коридор. Пахнет чем-то резким, больничным. Карболка? Шагаю коридором. Никем не остановленный, распахиваю наружную дверь. В лицо ударяет сырой, напоенный влагой воздух. Я стою на широком крыльце, обрамленном некогда белыми, ныне обшарпанными колоннами. Просторный двор, внутри несколько повозок, крытых брезентом, возле повозок суетятся люди в суконных синелях, защитных фуражках и серых мерлушковых папахах. Липы вдоль ограды стоят черные, без листьев. Весна? Осень?
Никто не обращает на меня внимания. Спускаюсь по ступенькам и рысцой бегу к дощатому сооружению в дальнем конце двора. Назначение сооружения угадывается без подсказок. Внутри слезоточивый запах хлора и белая известь, посыпанная вокруг прорезанных в доске дырок. Желтая струя ныряет в ближнее отверстие. С облегчением вас!
Обратно возвращаюсь, не спеша. Здание, откуда я вышел, двухэтажное, с неуклюжим портиком и колоннадой, вокруг боковые одноэтажные флигеля. Железная крыша вымазана (опять это «вымазана»!) зеленой краской. Посреди крыши — большой белый квадрат, внутри него — красный крест. Такие же кресты на защитном брезенте повозок. Госпиталь, война. Я по назначению…
На крыльце переминается с ноги на ногу сосед по палате — вышел следом. Любопытный! На плечах его такой же халат, на ногах похожие опорки. Заметив меня, вихрастый лезет в карман и достает плоскую картонную коробку. Папиросы! Господи, сколько же я не курил?! Он ловит мой взгляд.
— Не желаете? — протягивает коробку.
— Благодарю!
Осторожно беру папиросу, пальцы привычно сминают мундштук. Вихрастый чиркает спичкой. Благословенна ты, первая затяжка! На мгновение все вокруг плывет, но постепенно предметы возвращают очертания. Сосед смотрит тревожно. Киваю: все в порядке.
— Военлет, поручик Рапота Сергей Николаевич! — говорит сосед и добавляет: — Можно просто Серж!
«Военлет», «поручик»… Это куда меня занесло? Рапота смотрит вопрошающе.
— Я не знаю, как меня зовут.
Лицо его вытягивается.
— Не помню, — поправляюсь я. — Может, вы знаете?
Он качает головой:
— Вас привезли вчера. Раздели в приемном покое, мундира вашего я не выдел. Но поскольку положили к нам в палату, офицер. Контузия?
Развожу руками.
— Контузия! — заключает он уверенно. — Раз не помните. Германец вчера Осовец из орудий обстреливал. Там вас и контузило, больше негде.
«Германец»?
— Как зовется это место, Сергей Николаевич?
— Можно просто Серж. Или Сергей…
Он краснеет, и я вдруг понимаю: поручику от силы лет двадцать. Или двадцать один. А мне?
— Так как, Сергей?
— Белосток! Раненых в Осовце везут в Белосток. Крепость под огнем.
— Какой сегодня день?
Удивление мелькает на его лице, мгновенно сменяясь пониманием.
— Четырнадцатое апреля тысяча девятьсот пятнадцатого года от Рождества Христова…
Вот и определились…
Бросаем окурки и возвращаемся в палату. Явление второе: те же лица плюс юное создание. У создания пухленькое личико, такие же губки, вздернутый носик и голубые глаза. Наверное, здесь это считается красивым — создание держится надменно. На нем белая косынка, серое платье до пола и такой же белый передник. Под грудью на переднике — большой красный крест.
— Кто вам разрешил вставать, больной?
Оглядываюсь. Поручик Рапота сидит на койке и делает вид, что не при делах. Вопрос адресован мне.
— Кто разрешил? — не отстает создание.
Хм… В самом деле, кто?
— Почему молчите?
— Думаю. Не помню, что по прибытию в госпиталь мне говорили о необходимости спрашивать разрешения.
— Как вы можете помнить?! — возмущается создание. — Вас же без сознания привезли!
Внимательно осматриваю стены. Создание едва не подпрыгивает от негодования. Указываю на стены рукой.
— Здесь не написано, что я должен спрашивать.
Рапота за моей спиной фыркает. Создание багровеет.
— Вы! Вы…
Она исчезает, топоча каблучками.
— Улетела за подмогой, — комментирует поручик. — Сейчас прикатит тяжелая артиллерия. Берегитесь!
Хмыкаю и сажусь на койку. Уже дрожу…
— Оленька — хорошая барышня, — говорит Сергей со вздохом, — только разбалованная. Столько внимания! В госпитале полно мужчин, да еще рядом штаб корпуса… — по лицу поручика легко понять, что среди тех, кто уделял Оленьке внимание, был и он. Не покатило…
За дверью слышны тяжелые шаги — артиллерия на марше. Вот она вкатывает в палату — большая, грузная. Солидный живот едва прикрыт форменным кителем, двойной подбородок, большущий крючковатый нос. Видали мы такие шнобеля! Но этот парень не с Кавказа, его предки из более южных мест… На плечах гостя узкие погоны с одним просветом, звездочек нет. Майор? В начале двадцатого века майоров не было, их заменял чин полного капитана и погон у них был чистый. Тоже не слабо.
Следом за офицером идет Оленька. Лицо ее излучает торжество: «Сейчас тебе покажут, грубиян!» Оленька тащит стул от стены, капитан грузно усаживается.
— Нуте-с…
Молчу.
— Пришли в себя? Давно?
— Полчаса назад! — подсказывает Рапота.
— Как самочувствие?
Молчу. Капитан понимает это по-своему.
— Извините, не представился. Коллежский асессор Розенфельд Матвей Григорьевич, начальник госпиталя. Это, — кивок за спину, где топчется юное создание, — сестра милосердия Ольга Матвеевна Розенфельд, по чистой случайности моя дочь… — Розенфельд смеется, видно, что шутка ему очень нравится. Лицо Оленьки наоборот кислое. — Вы? — Розенфельд смотрит на меня.
— Не помню.
— Что конкретно? Имя, звание, полк?
— Совсем ничего.
— Снимайте рубаху!
Подчиняюсь. Розенфельд вкладывает в уши блестящие наконечники стетоскопа и прижимает холодный кружок к моей груди. Слушает долго, ворочая меня и заставляя то дышать, то не дышать. Затем извлекает из кармана блестящий молоточек и выстукивает суставы. После водит молоточком перед глазами, заставляет показать язык.
— Странно… — бормочет, пряча молоточек. — Сердце здоровое, дыхание чистое, рефлексы в норме. Помните, что с вами произошло?
— Нет.
— Разорвался тяжелый снаряд, совсем рядом. Вас отбросило на несколько сажен. Вас сочли убитым и приготовили к погребению вместе с остальными… Батюшка читал заупокойную, как вы шевельнулись… Когда вас доставили в госпиталь, я счел дело безнадежным. А вы здоровы! Прямо чудесное исцеление!
Не в первый раз…
— Ах, да, память… — спохватывается он. — Полная амнезия. Это пройдет.
— Как меня зовут, доктор? Не подскажете?
— Охотно. Красовский Павел Ксаверьевич, прапорщик Ширванского пехотного полка. (С отчеством мне, разумеется, «повезло» да и в чинах мы небольших.) — Розенфельд вопросительно смотрит на меня, я вновь качаю головой. — Вы сын промышленника и потомственного почетного гражданина Красовского Ксаверия Людвиговича. (Еще лучше!) Учились в Лондоне коммерции, но с началом войны вернулись в Россию и поступили вольноопределяющимся в школу прапорщиков в Петергофе. Оттуда в марте сего года выпущены в Ширванский полк.
— Вы много обо мне знаете!
— Неудивительно. Мы родственники.
Этого не хватало! С носатым и обрезанным?..
— В самом деле?
Розенфельд кивает:
— Моя покойная жена приходилась кузиной Надежде Андреевне, вашей… — он умолкает и встает. — Это не важно. Поправляйтесь!
— Могу я попросить?
— Что?
— Зеркало!
Розенфельд смотрит на дочь. Оленька достает из-под передника маленькое зеркало, подносит. На меня смотрит худое, слегка скуластое лицо мужчины лет двадцати пяти. Высокий лоб, глубоко посаженные глаза, прямой нос, тонкие губы… Не красавец, но сгодится. На подбородке и щеках густая щетина. Трогаю рукой.
— Пришлю санитара, он побреет! — говорит Розенфельд.
Ольга прячет зеркало.
— Благодарю, кузина!
Оленька возмущенно фыркает. Розенфельд смеется и направляется к двери.
— Матвей Григорьевич!
— Да? — он останавливается.
— Можно мне одежду? Не привык разгуливать в кальсонах.
— Вы о мундире? (Господи, конечно же, мундир!) Я распоряжусь. Да, совсем забыл! Мне телефонировали, справлялись о вашем здоровье. Сказал, что пришли в себя. Ждите гостей.
Розенфельды уходят, почти тотчас является солдат с тазиком и бритвенными принадлежностями. Мне намыливают лицо и начинают скоблить кожу опасной бритвой. Правили бритву давненько. Больно, но терплю. Солдат собирает остатки пены полотенцем, но не уходит.
— Вот, ваше благородие, теперь другое дело, — бормочет, переминаясь с ноги на ногу. — Прямо десяток лет скинули…
Подскочивший Рапота сует ему пару монет.
— Благодарствую, ваше благородие! — солдат исчезает.
— Спасибо, поручик!
— Ерунда! — машет он рукой. — Ваши вещи в кладовой, а санитары привыкли. Не дашь, в следующий раз изрежут…
Вещи приносят скоро. Первым делом заглядываю в бумажник. Две красненьких и одна синенькая бумажка, несколько монет. Не густо, но на бритье хватит. Возвратить поручику долг не решаюсь, обидится — вон как смотрит! Облачаюсь в мундир. Его почистили, выгладили, причем, недавно: ткань теплая и пахнет утюгом. Шаровары, китель — все в пору, по всему видать, шили на заказ. Форма из шерстяной ткани, плотной и теплой. Диагональ… По весеннему времени в самый раз. На груди какой то эмалевый значок на винте. Что это жетон, или орден? Натягиваю сапоги и прохожусь по палате. Поручик смотрит с улыбкой.
— Прапорщик Красовский Павел Ксаверьевич! — щелкаю каблуками и бодаюсь головой, как белогвардейцы в кино.
Рапота смеется.
— Хорошо б отметить исцеление!
Поручик вздыхает:
— Водки не купить. Только в ресторанах первого класса.
Совсем забыл! Его императорское величество изволили с началом войны запретить в России продажу спиртного. Патриотические чувства должны быть трезвыми. Его величество были добрым человеком, но дураком. Не он один. Позже на эти грабли наступят американцы, затем снова мы — уже при Горбачеве. Дурость имеет свойство воспроизводиться.
Приносят обед. Почему-то называют «завтраком», хотя на часах полдень. Моих карманных часах. Серебряная, изящная луковка с гравированной крышкой. Под крышкой белый циферблат с римскими цифрами и надписью «Павелъ Буре». Цепочка, дарственная вязь на задней крышке: «Дорогому Павлуше!» Не забыть завести, это не кварц…
На «завтрак» сегодня мясные щи и гречневая каша с большим куском вареной говядины. Вкусно! Однако поручик едва ковыряет, видно, что надоело. Наверное, меню госпиталя разнообразием не отличается. А вот нам в самый раз! Опустошив тарелки, подхожу к окну. Во двор въезжает экипаж (дрожки, пролетка — черт их разберет!). На землю спрыгивает щеголевато одетый офицер с четырьмя звездочками на погонах модного френча и адъютантским аксельбантом. В руках — огромный букет, завернутый в цветную бумагу. Похоже, розы…
— Штаб-ротмистр князь Бельский из штаба корпуса! — поясняет за спиной Рапота. — К Оленьке приехал.
— Жених?
— Жених у нее в Галиции, поручик артиллерии. Бельский — воздыхатель.
— Счастливый?
— Сами увидите.
Бельский исчезает в дверях, но скоро является снова. Без букета и с мрачным лицом. Вскакивает в коляску (ага, это коляска!) и уезжает.
— Афронт! — смеется Рапота. — Ишь, разогнался! Думал: раз из князей и при штабе…
Поручик не скрывает радости, мне тоже почему-то приятно.
Едва прилегли — стук в дверь. В приоткрытой щели — голова. Густо смазанные маслом волосы расчесаны на прямой пробор.
— Павел Ксаверьевич, позволите?!
Делаю приглашающий жест. Сегодня я популярен. В палате возникает угодливо сгорбленная фигура с корзинкой. Физиономия прямо лоснится от подобострастия.
— Боже, как вы похожи! — фигура ставит корзинку и заламывает руки. — Вылитый батюшка! Те же глаза, брови…
Делаю знак заткнуться, понимают сразу.
— Тихон Евстафьевич, агент вашего батюшки в Белостоке, — рекомендуется фигура. — Ксаверий Людвигович наказали за вами приглядывать…
Поднимаю брови.
— Я хотел сказать «сообщать», то есть держать батюшку в курсе… — агент путается.
— Короче, Склифосовский!
— Залесские мы, — поправляет фигура. — Я как узнал о контузии, сразу телеграфировал вашему батюшке, они велели сходить и разузнать. Гляжу, а вы здоровенький! И доктор так говорит… Счастье-то какое!..
Похоже, опять заломят руки. Выразительно гляжу на корзинку. Залесский-Склифосовский подносит ее ближе.
— Не побрезгуйте, ваше благородие! Впопыхах собрал. Что под рукой оказалось.
— Не побрезгую. Можешь идти!
— Что передать батюшке?
— Скажи: здоров, чего и ему желаю!
— Они так обрадуются, так обрадуются! — фигура исчезает за дверью.
Откуда у меня хамский тон? Обругал человека, за дверь выставил. Ну и он… «Как вы похожи!» На кого? Придвигаю корзину и поднимаю салфетку. Так… Жареная курица в вощеной бумаге, ветчина, нарезанная толстыми ломтями, белый хлеб, коробки папирос, еще какая-то закусь… А это что? Бутылка в форме графина, внутри колышется коричневая жидкость…
— Коньяк, шустовский?! Довоенный… — завистливо выдыхают над плечом. Рапота.
— Попробуем?
— Не здесь! — он говорит шепотом. — Увидят — не избежать скандалу. Оленька на вас сердита, да и другие сестры не любят. Лазарет не кабак, — он достает часы, отщелкивает крышку. Часы у поручика карманные, никелированные, большие. За версту видать, что дешевые. — В три пополудни кончится тихий час, сестры займутся процедурами, никто не заметит, что мы ушли. Тут неподалеку славное местечко…
Вновь укладываюсь на койку, закрываю глаза. Хлопотный выдался день…
«Они убили солдатика Бомона!»
Пацаном я обожал этот фильм. Французский диверсант, отправленный в Африку убить диктатора, предан своим начальством и выдан врагу. Суд, скорый и неправый, тюрьма, побег… Через два года Бомон в Париже — платит по счетам. Спецслужба-предатель встает на ноги, но Бомон неуловим. Африканский диктатор искусно подставлен под выстрел тупого спецназовца, выяснены отношения с неверными другом и женой. Под печальную музыку Марикконе Бомон идет навстречу смерти: ему незачем жить…
Они убили солдатика Петрова…
Вышло не так красиво, как у Бомона, можно сказать, совсем скверно. Кино и жизнь соотносятся плохо. Солдатику Петрову внушили: Родина озабочена мятежом в горном крае, там нужен конституционный порядок. Что понимал в политике юный лейтенант? Откуда знать ему, что Родина — понятие слишком обширное, представляют ее отдельные лица? Или морды: лоснящиеся от жира, с вороватыми, бегающими глазками?
Лейтенанта с пятью солдатами выбросили в горах с заданием перекрыть дорогу и ждать. При появлении «уазика» без номеров, задержать всех пассажиров, при попытке сопротивления — уничтожить. Разведка не подвела — УАЗ появился в указанное время. А вот дальше пошло не по плану. На знак остановиться УАЗ прибавил скорость и снес жердь, изображавшую шлагбаум. Однако за шлагбаумом лежал в секрете сержант Ванюков с пулеметом Калашникова и четким приказом, что делать…
Когда мы подбежали, УАЗ стоял, уткнувшись радиатором в дерево, пассажиры плавали в крови. Вернее, пассажирки. Из пяти человек в машине, только водитель был мужчиной. Мы вытащили их на траву, две женщины еще дышали. Юные, испачканные кровью лица… Я связался с базой.
— Спокойно, Петров! — раздался в наушниках знакомый голос майора. — Они не остановились, ты открыл огонь. Все по инструкции. Завершай работу и уходи.
— Что значит, «завершай»?
— «Трехсотых» сделай «двухсотыми», что тут непонятного?
— Это женщины!
— Кому женщины, кому «черные вдовы»! Мы эту группу два месяца пасли. Выполняй приказ, Петров!
Я хорошо знал, кто такие «черные вдовы». У командиров абреков имелись целые гаремы — религия и деньги позволяли. Время от времени и не без нашей помощи командиры отправлялись к аллаху, а юных вдов брали в оборот. Не в том смысле, как вы подумали. Девчонок прессовали, уверяя, что они должны отомстить за мужей, лучше ценой своей жизни. Это гарантирует воссоединение с любимым в раю. Полуграмотные девки (кто ж их образовывал в то время?) верили. Вдовы становились живыми бомбами, подрывавшими гяуров, то есть нас. Поначалу только солдат, впоследствии террор распространили на мирные города России. Четыре обезвреженные «черные вдовы» — это десятки спасенных жизней. Солдатик Петров приказ выполнил…
Назавтра по западным каналам прошел душераздирающий сюжет о мирных жителях, расстрелянных на дороге убийцами-федералами. Окровавленные женские лица крупным планом, сгоревший УАЗ. Машину мы не жгли, это сделали абреки, только, поди, докажи! Сюжет показали и по российским каналам — с тем же комментарием. Иного ждать не приходилось: все знали, кому принадлежат родное телевидение. Возмущенные горцы требовали наказания виновных. Поначалу я не принял к сердцу: горцы постоянно возмущались и чего-то требовали. Им можно было все: выгонять русских из домов, грабить их, избивать, отрезать живым людям головы… Русским разрешалось лишь безропотно умирать. С точки зрения Запада и его марионеток в России, так было правильно.
Я не понимал силы общественного мнения. Вернее, сноровки тех, кто его создает. У абреков пиаром заведовал профессиональный актер, как говорили, не бесталанный. Он выжал из ситуации все и даже больше. В Кремле решили лечь под Запад. Комбат защищал меня, как мог, но его сломали. Нас арестовали и отдали под суд. Все прекрасно понимали, что происходит. Профессиональные судьи, ознакомившись с делом, отказывались нас судить, устроители спектакля созвали присяжных. Перед судом их «просветили»: жирные морды в обрамлении генеральских погон заявляли в телекамеры, что такие, как Петров — позор российской армии, старший лейтенант с подчиненными заслуживают сурового наказания. Морды не знали свой народ, те, кто кормится западными объедками, его никогда не знают…
Присяжные нас оправдали, единогласно. Морды в телеканалах выглядели кисло, что-то бормотали о правовой неграмотности, но люди в зале суда ликовали. Нас обнимали, поздравляли и даже пытались качать. Западные каналы показывали это крупным планом, толсто намекая, что русские — нация убийц.
Из армии меня все же уволили, после всего случившегося я и сам бы не остался. Я подыскивал себе занятие, как вдруг сообщили: готовится пересмотр дела. Жирные морды без лишней брезгливости лизали западные задницы, но плевок от собственного народа снести не могли. Не все, однако, оказались такими. Честные люди в России были всегда, только на больших постах их не встретишь. Мне вручили фальшивые документы, дали денег и велели лечь на дно.
Наверное, послушайся я, все бы утряслось. Но у каждого своя мера… Рядом со мной никого не было. Кому быть у сироты, росшему в семье тетки, где ему постоянно и с удовольствием напоминали, что он лишний рот? Вместо того чтоб тихо забиться в какую-нибудь Тмутаракань и сидеть как мышь под веником, я стал пить. Меня пытались урезонить, рассказывая о сумме, объявленной за мою голову, я не верил. Из всех народов абреки самые распальцованные: они покупают вскладчину добитый джип и ездят на нем по очереди, чтоб все видели, какие они крутые. Они будут грозить вырезать вашу семью, но стоить поймать их с ножиком, как начнут дрожать и мамой клясться, что просто шли мимо. Они заявят о миллионе за вашу голову, чтоб все знали, какие они мстительные, но если кто вдруг поверит и придет за деньгами, ему ответят, что он не туда зашел.
Я снова недооценил бывшего актера. Он решил, что суд по обычаю гор выигрышнее российского. Убедил спонсоров. По диаспорам в России пошла информация… Если человек сидит дома, не высовываясь за порог, найти его трудно. Продукты мне приносили, но за водкой требовалось ходить. Как сохранить инкогнито человеку, лицо которого часто и крупным планом показывали по телевизору? Когда я возвращался с очередной добавкой, ко мне подошли. Случись это месяцем раньше, я бы отбился: бандитов было всего трое, а стволами они могли маму пугать: у подъезда жилого дома стрельба — дело стремное. Милиция приехать может… Завязалась драка, и мышцы, ослабшие за месяц пьянства, подвели. Меня двинули по голове рукояткой пистолета, запихнули в машину, а уж там вкололи снотворное…
Очнулся я в яме. Где я и почему, объяснять не требовалось. В каждом ауле есть такие ямы, и не одна. Торговля людьми — давний бизнес этих мест, в девяностые он пережил невиданный подъем. Меня похитили не мстители, те бы просто убили. Пленника следовало выгодно продать, а что с ним станет, абреков не волновало. Мне предстояло жить ровно столько, сколько уйдет на торг. Судя по тому, что говорили прятавшие меня друзья, торг не должен был затянуться.
Надо мной не издевались, не били — продавцам это без нужды. Меня даже сносно кормили; не досыта, конечно, но не голодал. Похитители были разумными людьми: чем лучше выглядит товар, тем дороже стоит. Я даже не плавал в нечистотах: в яме стояло помойное ведро, куда я справлял естественные надобности. Раз в сутки ведро подымали на веревке и возвращали пустым. Посули черноголовому деньги, он и дерьмо за тобой вынесет, не поморщится.
О чем я думал в той яме? Ни о чем. Мелькало легкое сожаление, что не доживу до первого юбилея — в январе мне исполнялось 25. Но больше хотелось, чтоб смерть пришла быстро. Умом я понимал: это невозможно. За такие деньги и чтоб просто убить? «Черные» устроят представление, они это любят. Будут кривляться, надувать щеки, «зикр» станцуют. Потом примутся резать…Однако человеку свойственно мечтать, вот я и мечтал. Убить себя я не мог — нечем. Ножа нет, бритвенного лезвия тоже, даже иголки нет — на этот счет меня обыскали тщательно. А вот шнурки на ботинках оставили. Петлю сделать было нетрудно, только за что зацепить? Все же пригодились мне те шнурки…
На седьмой день (в яме было постоянно темно, и я считал дни по вынесенным ведрам) в яму скинули лестницу. Ко мне спустился гость. Я ожидал бородатого абрека, обвешанного оружием, и на всякий случай приготовился, но это оказался старик. Маленький, тщедушный, с гладким подбородком. Даже в той ситуации меня колотнуло: «черный» и без бороды? Лицо старика покрывали морщины, сколько ему лет, я толком не разглядел — темно было. В руках старик держал какую-то плошку с фитильком, какой от нее свет? И хорошо, что это было плошка, от фонаря я бы ослеп. Старик поставил плошку на земляной пол, сел и поджал ноги. Я подумал и устроился напротив. Плошка горела посреди, не то разделяя нас, не то объединяя.
— Ты убил женщин из прихоти? — спросил старик. Голос у него был на удивление молодой и по-русски он говорил чисто.
Я утвердительно кивнул. Какая разница?
— Сам?
Снова кивок.
— Врешь! — спокойно сказал старик.
Я не стал спорить. Вру, так вру.
— Выгораживаешь друзей, — вздохнул гость, — берешь вину на себя. Это достойно, но лгать не к лицу воину. Расскажи, как было!
Я подумал и рассказал.
— Так я и думал! — сказал гость по завершению. — Ты всего лишь исполнил приказ. Те, кто отдал его, были правы: в машине ехали «черные вдовы».
Я удивился: абреки утверждали совершенно другое.
— Одна из погибших — моя дочь, — сказал старик и притих. Я молча смотрел на него. Мои глаза привыкли к свету, и я разглядел: борода у гостя просто-напросто не росла, всего лишь несколько волосков. — Они забрали ее у меня, — продолжил старик после молчания. — Выдали замуж за эту скотину эмира. Вы убили его, и я обрадовался: дочь вернется ко мне! Ее не отпустили, а я не мог им помешать. Я плакал, когда узнал, к чему ее готовят. Аллах запретил убивать невинных, дочь ждал ад. Ты уберег ее от самого страшного, однако стал моим кровником.
Я насторожился: в горах кровников режут.
— Я хочу, чтоб ты вернул мне дочь!
Старик был явно не в себе, и я успокоился.
— Покажи руку!
Я протянул ему ладонь. Он взял ее сухонькими пальчиками, развернул к огню и некоторое время рассматривал линии.
— Ты сможешь! — сказал удовлетворенно. — Ты сильный, но несчастный. Ненависть поведет тебя через страдания, а потом ты поймешь… — он извлек из кармана кувшинчик. — Пей!
Я медлил.
— Ты боишься смерти?
Я взял кувшинчик и опорожнил. Я надеялся, что это яд. Или хотя бы водка. Это не было ни тем, ни другим. Маслянистая, пряная жидкость протекла в желудок, на мгновение меня повело. Но затем зрение вернулось, я почувствовал необыкновенную легкость в теле. Казалось, взмахни руками — и полетишь. Однако я твердо сознавал: не получится. Старик внимательно следил за мной, затем забрал кувшинчик и спрятал в одежде.
— Сегодня они сторговались, завтра ты умрешь! — сказал гость, вставая. — Ты воин — смерть встретишь достойно. Держи!
Это была «хаттабка», самодельная ручная граната, популярная среди абреков. Стандартный армейский запал, облегченный заряд. Удобно носить, легко применять. Маленькая, но смертельно опасная штучка. По убойной силе уступает обычной гранате, но в радиусе пяти метров не уцелеть. Я жадно схватил оружие.
— Почему вы мне помогаете?
Он остановился у лестницы, улыбнулся. В зыбком свете плошки улыбка показалась зловещей.
— Я помогаю себе.
— Почему вы не убили меня?
— Ты получил бы искупление, а я — остался без дочери. Она у меня единственная. Тебя убьют другие. Я не хочу, чтоб тебя резали, как барана, ты этого не заслужил. Воину важно умереть достойно, скоро ты это поймешь. Соблюдай правила, и заслужишь милость.
Я не понял и показал «хаттабку».
— Они могут узнать, кто дал ее мне.
— Никогда! — спокойно ответил старик. — Страж наверху забудет о моем приходе, а ты не скажешь. Воин, которого предали, сам не предает. Если он воин. Прощай!
В тот миг мне стало пронзительно стыдно, как будто меня уличили в постыдных мыслях…
2
— Павел Ксаверьевич! Господин прапорщик!
Меня трясут за плечо. Какого черта? Кто такой Павел Ксаверьевич, и что он тут делает? Открываю глаза. Надо мной встревоженное лицо с вихрастой челкой. Поручик Рапота… Павел Ксаверьевич — это я.
— Вы скрежетали зубами и ругались во сне, — говорит Сергей, убирая руку с плеча. — Вам плохо? Позвать доктора?
— Все хорошо, поручик!
Он смотрит недоверчиво.
— Обычный кошмар. Вам не снятся?
Он качает головой. Счастливчик!
— У нас с вами дело, — чуть не сказал «мероприятие». — Уговор в силе?
— А вы… — он все еще сомневается.
Я смеюсь, и он улыбается в ответ.
— Пять минут четвертого! — Рапота щелкает крышкой часов. — Самое время!
Одеваемся и выходим в коридор. Здесь суета: ковыляют на костылях раненые, санитары несут носилки, пробегают сестры милосердия с утками и бинтами. Никому нет дела до выздоравливающих офицеров, решивших погулять. В руках у одного корзинка — тоже ничего удивительного. Выходим за ворота поместья (по пути Сергей объясняет, что его реквизировали у владельца под госпиталь), идем вдоль ограды и сворачиваем в парк. Деревья вдоль дорожки старые, с частыми, узловатыми ветками. Листья только-только пробиваются, но даже сейчас в парке сумрачно. Почему-то приходит на память: «Темные аллеи». Так называлась книжка, которую я читал в госпиталях. Я там очень много читал — больше заняться было нечем…
Аллея выводит нас на берег пруда, старого, сильно заросшего, но вполне живописного. На берегу стоит беседка с ажурными стенками из тонких реек. Кое-где рейки сгнили, образовав дыры. Деревья вкруг пруда стоят грустно и молчаливо. Странно, но это не портит очарования — в увядании тоже есть красота. Почему-то решаю, что владелец поместья не слишком переживал насчет реквизиции. Во-первых, ему заплатили: при царе с этим было строго. Во-вторых… Красота-красотой, но я бы здесь от тоски загнулся!
— Правда, замечательное место! — радуется поручик. — Люблю здесь бывать. Сижу, курю, мечтаю… — он вдруг краснеет.
Делаю вид, что не обратил внимания. Разумеется, мечтает. О подвигах, славе, Оленьке. В госпиталях мы тоже мечтали. Чтоб отпуск дали или сестра приголубила. Много нас было, раненых лейтенантов, всем сестер не хватало…
Накрываю столик салфеткой и выкладываю на нее закуски. Вот ведь Тихон Ефстафьевич, и посуду не забыл! Зря грубил человеку! Тарелки, вилки, даже граненые стопки — все в двух экземплярах! Увижу в следующий раз — расцелую. А вот штопора нет! В бутылке с коньяком винная пробка.
— Разрешите, Павел Ксаверьевич!
Сергей. Ну-ну…
Поручик извлекает из ножен кортик (не обратил внимания, что тот болтается у него на бедре) и вонзает граненый клинок в пробку. Налегает на рукоятку, проворачивает, и пробка скользит внутрь. Аплодирую, Сергей смущается.
— В отряде научили!
Надеюсь, пить там тоже научили…
Разливаю коньяк по стопкам. Полагается тост. Как здесь принято: первым младший по званию? Опять выручает Сергей.
— За ваше чудесное выздоровление, Павел Ксаверьевич! Вы не представляете, как я рад! Когда читаешь в газетах списки павших офицеров… Хоть кому-то повезло!
Простодушно, но искренне. Чокаемся, выпиваем. Коньяк хорош! В последний раз я пил нечто подобное две жизни назад. Мы захватили врасплох монастырь святого Клемента, и аббат сам открыл погреб. Никто не догадался, что папист ладит пакость. В бочке, указанной аббатом, был коньяк, вернее коньячный спирт пятилетней выдержки. Мягкий, ароматный и безумно крепкий… Парни упились мгновенно, а на рассвете в монастырь ворвались драгуны герцога Лотарингского — аббат ночью отправил к ним гонца. Большую часть рейтаров перерезали сонными, я, капитан и десяток самых трезвых засели на втором этаже и отстреливались, пока были заряды. Потом… Что потом? Лотарингцы черных рейтаров в плен не брали, равно, как и рейтары не брали лотарингцев. Герцог наемников не выкупал…
Поручик смотрит на меня вопросительно. Что-то я сегодня задумчив. Между первой и второй…
— Будем здоровы, Сергей Николаевич!
Третий тост за прекрасных дам. Дам поблизости не наблюдается, но все равно стоя и до дна. Стопочка на тыльной стороне запястья — прапорщик и поручик соревнуются, кто из них больше гусар. За офицеров-фронтовиков — до дна! (Стопочка на изгибе локтя.) За военлетов — само собой! Стопочка на краю погона — там, где у птичек крылья, а у летчиков — эмблема. За докторов, что нас лечат, — обязательно, не то обидятся… Бутылка стремительно пустеет, а вместе с ней — и стол. Курица давно разорвана на части, кости обглоданы и выброшены под стол — собаки найдут. Ветчина в желудках укрыла нежную курятину. Осталась банка сардинок, Сергей пробует вскрыть ее кортиком. Не отбери я его, сардинки висели бы на всем, включая нас с поручиком. А в бутылке еще что-то болтается — долгоиграющий этот Шустов!
— Павел Кса… кса…
— Просто Павел, Серега!
— На брудершафт?
— Непременно!
Локти едут по столу, но с третьей попытки удается выпить на брудершафт. Серега целует меня пьяно, но искренне. Закуриваем. Серый дымок нехотя тает в вечернем воздухе.
— Хорошо, Павел!
— А то, Серега!
— Можно просто Серж…
Ради таких моментов и живем.
— Приходилось летать на аэроплане, Павел?
Лезу в карман. Днем я обнаружил в нем синюю дерматиновую книжечку со своей фотографией (то есть бывшего владельца). Французский я знаю плохо (он пока не восстановился), в книжечке что-то про авиацию.
— «Бреве», международное летное свидетельство! — глаза поручика сейчас окажутся на затылке. — Ты авиатор! Но почему в пехоте?
Я знаю? Я же контуженный… Он, наконец, соображает.
— Где учился? В Англии? Во Франции?
Пусть будет в Англии.
— В Хендоне, Фанборо? На чем летал: «Авро», «Сопвич», «Блек Борн»?…
Я и слов таких не знаю. Пусть будет «Сопвич», «Блэкборн» мне не выговорить.
— «Сопвич-таблоид» — хороший аппарат, у соседей, в двадцать первом отряде, такой. Он пока опытный. Говорят, будут выделывать в Петрограде у Лебедева. Французские аэропланы не хуже. В нашем отряде «Фарманы» и один мой «Вуазен», недавно прислали. В школе учат на «Фарманах», а лучших выпускают на «Вуазене», — поручик немного рисуется, похоже, что сам на фронте недавно. — Хорошие аппараты!
Этажерки с пропеллером. Видели! В кино.
Рапоту не остановить, я и не пытаюсь. Его коротенькая биография предстает во всей красе. Сын машиниста-железнодорожника, решивший выбиться в люди. Кадетский корпус, который Серж оканчивает первым в выпуске. Привилегированное Михайловское артиллерийское военное училище в Санкт-Петербурге, пардон, Петрограде. С началом войны столицу патриотично переименовали. В училище Рапота снова в числе первых, далее казус. Выпускники по окончанию курса получают чин подпоручика, но государь-император при поздравлении оговорился и поздравил Сергея поручиком. Никто не осмелился поправить монарха, Сергей выпущен на чин старше. Вот ведь как славно!
Везучий Серж человек! В училище я тоже был лучшим на курсе, но в мое время это не имело значения. Значение имело происхождение от «нужных» родителей, их связи…
Как лучший выпускник Сергей имеет право на выбор вакансий, но он просится в летное училище. Ему с детства хотелось в небо. К тому же летчики — это престижно! Жаль, что он не может показать мне свой мундир — в отряде остался. На нем сейчас полетное обмундирование, кожаная куртка и свитер под нею… Шлем остался в палате. В шлеме тулья из пробки, а сверху прокладка из металлической сетки — для амортизации. Это, значит, если головкой приложиться… Вместо шлема на голове Сержа — пилотка с кокардой, но не защитная, а черного бархата с алыми выпушками по краям, на тулье выложен крестом серебряный галун. Всем в армии положены сапоги, а авиаторам — ботинки с кожаными крагами. Вот, смотри, правда, красиво? (Просто очарование!) Знаю ли я, сколько летных школ в России? Откуда… Две! В Гатчине и Севастополе. Еще военлетов готовят в Москве, но это не то. Гатчинская школа — самая лучшая! (Разумеется, ведь именно в ней учился поручик Рапота.) У него есть нагрудный знак военлета: венок из лавровых листьев с наложенными на него крыльями и скрещенными мечами. В центре гербовой щит под короной с императорским вензелем. Знак в отряде на кителе остался. Зато на серебряных погонах куртки черненые орлы — знак квалификации. Военлеты зовут их «мухами», но дорожат больше, чем наградами. Авиаторы без дипломов носят крылышки с пропеллером, их называют «утками».
Как Сергей попал в госпиталь? При посадке порыв ветра бросил аппарат вниз. Подломилось шасси, поручик вылетел из гондолы и приложился хребтом о сыру землю. Думали перелом позвоночника, но, слава Богу, обошлось — только ушиб. Спина побаливает, но это ерунда. Разве пилоты не пристегиваются в полете? Пристегиваются только трусы, поручик не таков. Его не раз обстреливала в полетах германская воздухобойная артиллерия, и даже, по ошибке, своя. А наши солдатики, как увидят аэроплан, всегда палят: думают, что германский. В отряде в начале войны экипаж чуть не погиб — свои сбили.
Сергей ждет — не дождется возвращения в отряд. Летчики теперь очень нужны — они добывают сведения более точные, чем кавалерия. Они бомбят германцев, корректируют артиллерийский огонь. Наступление германцев из Восточной Пруссии обнаружили авиаторы его отряда, благодаря чему, наши подготовились. Завтра он попросит его непременно выписать…
— На посошок?
Сергей подставляет стопку. Прощай Шустов! Оставив в беседке все, как есть, бредем по аллее. Сергей не умолкает. Знаю ли я, кто у него начальник отряда? Где уж нам… Леонтий Иванович Егоров, знаменитый русский летчик, он турок в Болгарии еще в 1912-м бомбил. (Чего, интересно, мы делали в Болгарии в девятьсот двенадцатом? Куда только русских не заносит?)
— Представляете, государь тогда запретил военным участвовать, так Леонтий Иванович вышел в отставку, и таки уехал. Наш командир строг, но справедлив, господа офицеры и нижние чины его обожают…
— Оставьте меня! Пустите!
Женский крик! И голос знакомый… Делаю стойку, как легавая на дичь. Не нравятся мне такие крики…
— Помо… — крик обрывается. Медлить нельзя.
Срываюсь с аллеи и несусь сквозь кусты, проламывая их, как танк. Только б не ошибиться направлением! Далеко за спиной топочет поручик, бегает он куда хуже, чем летает. Влетаю на укромную полянку. Есть! На земле лежит женщина… Господи, Ольга! Подол платья задран до шеи, некто в военной форме, сопя, стаскивает с сестры милосердия белые панталончики. Уже почти стащил…
Носком сапога в бок! Насильник валится в сторону. Ба! Сам Бельский! Что ж вы, князь, так с барышней?! Еще разок — в живот! Отдохните, ваше благородие!
Оглядываюсь: за спиной застыл Сергей. Глаза у него по блюдцу.
— Помоги Ольге!
Медлит, смущенно отворачиваясь от белого женского тела. Все приходится самому. Раз — и панталончики на месте! Два — одернут подол! Три — усаживаем пострадавшую на землю. Лицо Ольги бледное, она часто дышит. Знакомые симптомы — удар в солнечное сплетение. Это где ж князь так наловчился?
Поворачиваюсь. Бельский уже стоит, морщась от боли. Внезапно лезет в карман и выхватывает пистолет. Реакция моя бессознательная. Прав бы доктор — рефлексы в порядке. Пистолетик отдайте, князь, поранитесь! Передергиваю затвор и приставляю ствол к виску штабс-ротмистра. Господи, ну и перегар! Я сам пьян, но этот!
— Ты! Скотина! — палец трепещет на спусковом крючке.
Лицо князя сереет. Спусковой крючок выбрал половину хода.
— Господин прапорщик! Пожалуйста!
Поворачиваюсь. Ольга на ногах, Рапота поддерживает ее. Лицо сестры милосердия перекошено ужасом.
— Поручик, проводите барышню! Я с князем побеседую!
Она умоляюще складывает руки на груди. Я киваю: «Не беспокойтесь!» Сергей вежливо, но настойчиво уводит Оленьку, по пути она дважды оглядывается. Когда пара исчезает за кустами, я прячу пистолет в карман. Лицо князя приобретает нормальный цвет.
— Послушайте, прапорщик! — глаза его бегают, кончик языка лихорадочно облизывает губы. Похоже, протрезвел. — Мой дядя командует армией. Через неделю вы будете подпоручиком… Ничего особенного не произошло, ведь так? Подумаешь, пощупал жидовочку! Незачем приличного человека за нос водить! Строит недотрогу, блядь госпитальная!
Раз — и он падает навзничь. Тяжело ворочаясь, поднимается. Два — и снова спинкой о землю. Теперь комплект. Князю будет комфортно по ночам — собственные фонари под глазами. Гляди, снова поднимается, ванька-встанька? В солнечное сплетение! Больно? Вот и Ольге было… Напоследок — удар по тылам! Штаб-ротмистр ныряет головой в кустарник. Курсант Петров упражнение закончил!
В палате ко мне бросается Рапота.
— Он жив?
— И даже здоров. Подлечится немного, совсем красивым станет!
Он хмыкает, но внезапно снова грустнеет.
— Проводил Ольгу?
Он кивает:
— Отвел к сестрам, плачет…
— В следующий раз подумает, с кем гулять! Жених на фронте, а она любовь крутит!
Рапота, по лицу видно, не согласен, но возразить не решается. Сажусь на койку, достаю добычу. Карманный пистолетик, калибр 6,35. На корпусе буквы FN — «Браунинг». Достаю обойму, выщелкиваю на одеяло патроны. Ишь, ты, полная! Скажи, князь, спасибо Ольге, раскинул бы мозгами… Затвор выбрасывает из казенника последний патрон, пробую спуск — тугой. Курок сухо щелкает. Игрушка! Любовника жены пристрелить, да и то в упор. «…Дубровский, подошед к офицеру, приставил ему пистолет ко груди и выстрелил, офицер грянулся навзничь…» Вновь заряжаю пистолет.
— Павел!
Поднимаю голову. Сергей все еще здесь.
— Я вел себя недостойно! Опоздал и Ольге не помог…
— Никогда не видел женщину без одежды?
Он кивает:
— После выпуска друзья звали в веселый дом, но я… — он смущается.
— Постеснялся?
Он снова кивает.
Знакомо. Я тоже заканчивал училище не целованным. Друзья звали к девочкам, но денег не было.
— Бельского будут судить! — это опять Сергей. — Мы с вами — свидетели! Его карьере конец!
Это как дядя, командующий армией, посмотрит…
— Давай спать, Серж! Глаза слипаются!
Он умолкает. Я расстегиваю пуговицы кителя. Я и в самом деле устал. Слишком много для первого дня…
* * *
Странное существо человек. Шесть дней я мечтал о самоубийстве, но как только получил возможность его осуществить, так сразу передумал. Не знаю, на что рассчитывал гость, вручая мне «хаттабку», но я решил действовать по своему плану. Я не мог отомстить предавшим меня генералам, но сорвать праздник бывшему актеру попробовать стоило.
Наутро в яму сбросили лестницу, и я впервые за семь дней поднялся наверх. Я опасался, что меня станут обыскивать, но абрекам это даже в голову не пришло. Продавец ручался за качество товара, какое недоверие между своими? Меня даже не связали, просто надели наручники. Причем, не по-нашему — за спиной, а по-американски — впереди. Глаза тоже не стали завязывать — возвращение пленника не планировалось. Абреки нередко ведут себя как дети — большие и капризные. Дорогой мне рассказывали, что меня ждет. Бородатые кавказские джентльмены скалили зубы и смеялись. Дети любят смеяться над беспомощными…
Меня доставили на широкий луг перед большим аулом. Здесь было полно народу. Обвешанные оружием, как новогодняя елка игрушками, абреки; встречались и штатские. По рожам некоторых было видно — иностранцы. Жирные лица, платки на головах — арабы. Актер не поленился притащить спонсоров. Такое зрелище! Где еще головы публично режут?
Местные жители на лугу отсутствовали — спектакль не про них. Меня это обрадовало. Иностранцы вальяжно восседали на стульях, абреки толпились рядом. Я заметил две телекамеры — бывший актер подготовился основательно. На пригорке примостился ДШК на универсальном станке, за ним серьезный абрек — позаботились о зенитном прикрытии.
Меня подвели к толпе, актер стал рассказывать о моих преступлениях. Переводчик трещал, арабы важно кивали. Актер, наконец, умолк и сделал знак. Из толпы вышли двое. Один тащил деревянную колоду, второй нес топор и огромный тесак. Колоду установили перед зрителями, палачи с топором и тесаком стали напротив меня — шагах в пяти. По знаку актера конвой оставил пленника и присоединился к зрителям.
— Ну что, старлей, кончилась твоя служба?! — сказал актер, явно наслаждаясь моментом. — Ты будешь умирать долго, гяур!
Подбежавшие операторы стали снимать сцену: павший духом приговоренный и его жизнерадостные палачи. Операторов не торопили — картинка должна быть подробной. Пора!
Со стороны, наверное, показалось, что гяур почесал правой ногой левую. Так сказать, нервное. На самом деле носок ботинка сорвал гранату, привязанную за кольцо к щиколотке. Я отчетливо слышал, как хлопнул капсюль, поджигая запал. «Хаттабка» вывалилась из штанины, носок ботинка поддел ее и точным ударом отправил в ноги палачам. Никто ничего не понял. Я досчитал до трех и рухнул в траву…
Звук разрыва у «хаттабки» негромкий, так себе — хлопок. Поэтому в толпе не сообразили. Когда я вскочил, палачи, стеная, лежали на траве, зрители смотрели на них, выпучив глаза. В три прыжка я подлетел к раненым и выхватил у одного «Стечкин» — пистолет я сразу приметил. Абреки не солдаты, оружие носят заряженным. Я очень надеялся, что это так, со скованными руками передернуть затвор трудно. Сдвинув предохранитель, я упал на колено…
Планируя операцию, я понимал, что могу рассчитывать на пять секунд. В худшем случае — три. Именно столько требуется, чтоб осознать происходящее и поднять оружие. Недостаток времени требовал выбора цели. Поначалу я считал ею актера, но на лугу передумал. По горским обычаям за безопасность гостей несет ответственность хозяин — тот, кто созывал на праздник. Смерть гостей актеру не простят. Не стоит убивать покойника дважды. И еще… Абреки воюют за деньги шейхов. Много им отвалят, как шейхов убьют? Замять происшествие не удастся — операторы снимают даже сейчас. Ну, и, в-третьих… Мне очень не нравились бородатые, жирные рожи…
«Стечкин» — хороший пистолет, его одинаково любят в армии и у горцев. Я всаживал пулю за пулей в круглые животы под длинными рубахами, а когда животы кончились, сдвинул переводчик на автоматический огонь. Ударил по толпе очередью, не целясь. Время мое выходило. Я не видел, попал ли в кого — там кричали, суетились, падали — то ли от пуль, то ли спасаясь от них. Паника была мне на руку — я успел выпустить обойму, все двадцать патронов. Успел подумать о второй, но только подумать.
…Первым очнулся абрек у ДШК. Я увидел дульный тормоз с черным зрачком ствола, направленным мне в грудь. Это было лучшим, о чем можно мечтать. Пули «калаша» могут ранить, калибр 12,7 миллиметров таких надежд не оставляет…
* * *
Впоследствии я пытался понять, чего хотел старик, давая мне питье и гранату? Помочь мне или наказать? Последнее у него получилось…
Очнувшись в первый раз, я обрадовался. Было невыразимо приятно вновь ощутить себя в теле, здоровым и полным сил. Светило солнышко, пели птички, но очень скоро я понял: это не для меня…
На римских военных судах гребцами служат свободные матросы, на купеческих либурнах гребут рабы. В первой жизни я много читал об ужасах рабства. Авторы красочно описывали: гребцы сидят прикованными к скамьям, по проходу вышагивает надсмотрщик с бичом, непременно пузатый и лысый, этим самым бичом он беспощадно хлещет направо-налево несчастных рабов… Гребцы прикованы к скамьям навечно, здесь они едят, пьют и оправляют естественные надобности, поэтому плавают в собственном дерьме. Где, интересно, авторы это видели?
Для начала разберемся, кто такой раб? Как правило, воин вражеской армии, захваченный в плен с оружием в руках. То есть враг, пытавшийся вас убить. Его пощадили, но кормить задаром никто не подписывался… Не сумел воевать с умом, так иди, работай! Спрос есть. Молодой, здоровый раб стоит дороже упряжки волов. А теперь спросите: какой владелец в нормальном рассудке станет портить свое имущество, позволяя лысому отморозку хлестать его бичом? Пойдем далее. Капитану судна приятно обонять экскременты рабов? Проще приставить к гребцам мальчика, который подбежит по зову с кожаным ведром, после чего опорожнит ведро за борт. Не остаются гребцы прикованными к скамьям вечно. В порту их выводят на пристань и отправляют в эргастул — до завершения стоянки. Это, конечно, не прогулка по парку, но все ж разнообразие. Куда веселее рабам в доме богача. Нередко их там столько, что обязанности каждого становятся микроскопическими. По смерти хозяина принято отпускать рабов на волю. Они получают имя владельца, римское гражданство и становятся на учет за пособием. Многие живут на это пособие из поколения в поколение, как негры в США.
В госпитале, российском, я читал про Спартака. Уже тогда многое казалось странным. Почему войско рабов, разбив римлян, не ушло из Италии? Им никто не мешал. Вот и двинулись бы фракийцы во Фракию, галлы — в Галлию, германцы — в Германию. Со слезами на глазах — к родным очагам… Ага! Что они там потеряли? Это все равно, что предложить москвичу, выросшему в деревне, вернуться обратно. Снова ковыряться в земле, пасти коров, кормить свиней… Обеими ноздрями вдыхать воздух свободы. Предложите это москвичу! Догадываетесь, что ответит?
Спартак со товарищи были гладиаторами. Для пленного воина попасть в гладиаторы все равно, что выиграть миллион в лотерею. Ланисты заботятся о гладиаторах, как отцы, правильнее будет сказать, как владельцы футбольных клубов о своих игроках. Гладиаторов кормят до отвала — в прямом смысле слова. Гладиатор должен быть тучным — толстый слой жира хорошо защищает от смертельных ударов. Конечно, гладиаторов заставляют учиться, но футболисты тоже тренируются, хотя им этого не всегда хочется. К тому же гладиатор кровно заинтересован во владении оружием. В любом случае, это интереснее, чем ворочать веслом.
Разумеется, гладиаторы гибнут на аренах, однако рабы в шахтах и на солеварнях мрут чаще. Отряд гладиаторов, принадлежащий ланисте, сражается не чаще одного, редко двух раз в год — устроить гладиаторские игры стоит дорого. Что делает гладиатор в промежутках? Ест, пьет, им даже женщин приводят. Конечно, есть и тренировки, но я уже вспоминал футболистов…
Во время игр гибнет примерно один из восьми гладиаторов, у среднестатистического есть шанс прожить четыре-шесть лет. Не факт, что он протянул бы столько в своей Фракии. К тому же умелых, популярных у зрителей воинов, ланиста бережет. Кто режет курочку, несущую золотые яйца? Знаменитый гладиатор все равно, что знаменитый футболист. Женщины стремятся к нему в постель, и женщины эти часто не бедные. За хороший бой гладиатор получает свободу, что бывает нередко. По освобождению находится богатый спонсор, вернее, спонсорша, которая превращает остаток жизни кумира в рай на земле. В своей Фракии он спал бы в землянке и умывался навозом…
Спартаку со товарищи не было резонов бежать. Кроме одного: хотелось жить еще слаще. В каждом из нас сидит желание жить легко и весело: пить, гулять, добывая средства к такой жизни разбоем. Далеко не каждый решается желание осуществить. Спартак смог. К тому же, к несчастью для Рима, он был умен и находчив. Вспомним хотя бы спуск с Везувия по сплетенным из лозы лестницам…
Я не прав? В американских фильмах Спартак мечтает о свободе? Много американцы понимают в свободе! Они-то, конечно, считают, что понимают, только сами в рабах у доллара. Жизнь в долг — квартира, машина, мебель… Стоит американца уволить, как он берет пистолет и стреляет в тех, кто остался. После того, как мятежные гладиаторы убежали из Капуи, к ним присоединились пастухи, свободные граждане, между прочим! Что делать свободным людям в компании с рабами? Грабить, конечно же. Убивать, насиловать, жечь. Вместе и батьку бить легче.
Спартаку не было резона уходить из пределов Рима. Пройдя республику с юга до севера, он развернулся, чтоб пройти с севера на юг. Оставалось много городов и вилл, где он не побывал… Мы шли по стопам Спартака. Человечьи кишки, намотанные на мраморные колонны, женщины, посаженные на колья, младенцы, нашинкованные кусочками или зажаренные живьем… Наш центурион, а он три войны прошел, и тот блевал. Кто это «мы»? Первая когорта легиона Марка Красса и я, рядовой гастат Секст Помпоний. Секст по-латыни «шестой», это означало, что передо мной было пятеро братьев (для девчонок свой счет), только я их в глаза не видел. Мы до дрожи ненавидели Спартака и его банду. Не только за то, что он творили. Это была странная война. Бандиты в волю жрали, пили, развлекались женщинами, их повозки тащили груды золота и серебра, а солдаты, защищавшие республику, голодали, мерзли и месяцами не получали жалованья. Совсем как в России в 90-е… Центурион орал на нас и колотил палкой. Даже рабов так не бьют — хозяин жалеет имущество. Мы принадлежали государству и, следовательно, — никому. Сытые и многочисленные банды Спартака побеждали нас в битвах (им было за что драться), нас за это подвергали децимациям — казнили каждого десятого. Скоро я решил: такая жизнь хуже смерти. Римским солдатам подобные мысли приходят не редко. К тому же я не был римлянином, какое мне дело до величия республики? Я не стал использовать меч: их клинки сделаны из сырого железа и, попав в кость, легко гнутся. Широкий и короткий кинжал «пугио» подходил лучше. Быстрый взмах лезвием у шеи — там, где сонная артерия, легкая боль, а затем сладкий сон…
Наказание последовало незамедлительно. Старик сказал: «Соблюдай правила!», но забыл их разъяснить. Это сделала пифия, которую я нашел две жизни спустя. Вот ее слова:
«Жизнь — это дар. Только тот, кто даровал, имеет право ее забрать. Жизнь — это бесценный дар, ее следует защищать, невзирая ни на что. Защитивший дар удостоится милости».
Я спросил, что это за милость, но пифия не ответила. Они вообще немногословные…
Я не буду перечислять колдунов и магов, к которым я обращался со своей бедой. Часть их была шарлатанами, другие что-то умели, но прок от всех был одинаковый, то есть никакой. Я потратил большую часть военной добычи на молебны и мессы, лучше б я ее пропил… Чего я добивался? Того, что любой человек имеет с рождения — право на нормальную смерть. Старая колдунья, которую я сыскал в испанском порту, сказала мне так:
— Тебе не следовало брать кувшин. Выпив «эль-ихор» (она произнесла именно так), ты принял дар. Отказаться от него нельзя.
— Но я не знал, что в кувшине!
— Это не имеет значения.
— Надежды нет?
— Со временем «эль-ихор» теряет силу.
— Как я это пойму?
— Будет знак.
— Какой?
— Нечто необычное, чего не было раньше. Терпи! Чем больше смертей перенесешь, тем быстрей все случится…
В госпитале, в первой своей жизни, я читал забавную книгу о реинкарнации. Ерунда, конечно, как все подобные писания, но со временем вспомнилось. У адептов реинкарнации есть важное преимущество: возрождаясь в новом теле, они не помнят прошлого. Я же помню все, и это страшно.
Убив Секста Помпония, я очнулся гребцом Тавром. Помните, я рассказывал о судне? Хозяин Тавра был доволен рабами: команда выгребла в бурю. По прибытии в порт гребцов досыта накормили и дали им вина. Дело было вечером, перевод рабов в эргастул отложили. Это было серьезной ошибкой. Выпив, гребцы захотели добавки, да только дать ее было некому. Мальчик-ассенизатор добыл ключи, гребцы освободились от общей цепи — личные им давно не мешали, и сошли на берег. Денег на выпивку у них, естественно, не было, добывали ее, грабя таверны. Кабатчики вызвали портовую стражу, но гребцы, мужики не слабые, к тому же, порядком пьяные, с помехой сладили быстро: кого прогнали, кого прибили лавками и ножками от табуретов. Победив в схватке, гребцы продолжили пить и уснули, где сморил их хмель. На рассвете их повязали. В этот миг я стал Тавром.
Приговор римского префекта был скорым — на крест! Хозяин наш хлопотал и суетился — потерять столько рабов! — но префект даже слушать не стал. Римляне придумали много забавных вещей, в том числе эту казнь. Когда человека вешают на крест, тело его опускается, он не может дышать. Чтоб вдохнуть, надо приподняться. Для чего опереться на подставку в ногах (если она есть) или же на гвоздь, которым приколотили к кресту твои ступни. Сказать, что это больно, означает ничего не сказать. Если даже есть подставка, к кресту прибиты руки. При каждом подъеме для вздоха, кисть поворачивается вокруг вбитого в нее гвоздя. В античном мире гвозди делали не из проволоки, их ковали в кузнях, и гвозди выходили четырехгранными. Человек в состоянии отказаться от воды и пищи, но от желания дышать отказаться невозможно. Десять-двенадцать раз в минуту, если очень себя контролировать — пять-шесть. Живым мясом вокруг граненых гвоздей… Остроумно и экономно: казненный сам себя истязает. А чтоб он не умер раньше времени, специально приставленный солдат поит распятых, поднося на острие копья губку с водой. Хлебни, сердешный…
Умному достаточно одного урока. Впредь я твердо следовал указаниям пифии, но долго в телах не задерживался. Я всегда попадал на войну (эпизод с гребцом был исключением), а жизнь у солдата на войне короткая. Кем я только не был! Греческим гоплитом в битве с персами, крестоносцем в войске короля Балдуина, немецким наемником периода религиозных войн и английским лейтенантом в Индии… Дважды воевал в России — в 1812 году и в 1941-м… На своей стороне, разумеется, иначе, не задумываясь, повторил бы судьбу Секста Помпония. Меня резали, рубили, протыкали копьем и расстреливали картечью… Я не оставался в долгу.
Поначалу чужое тело смущало меня. Выгонять хозяев из дома некрасиво. Я получал не только чью-то силу и молодость, но и навыки владения оружием, говорил на языках, которые знал прежний хозяин. Однако, сопоставив ряд фактов, я понял: владельцы тел перед заселением были мертвы. Гость просил позволения войти, но дом оказался пуст…
3
Голоса…
— Вы не видите: он спит!
— Разбудите! Дело не терпит отлагательства!
— Прапорщик третьего дня перенес тяжелую контузию.
— Это не важно!
— Я возражаю!..
Не отвяжутся… Господи, как трещит голова! Решительно отбрасываю одеяло, сажусь! Уф! В палате двое: Рапота и незнакомый офицер с двумя серебряными звездочками на золотистых галунах погонов кителя. Подпоручик. Тоненькие усики на верхней губе, тоненькие ножки в краповых рейтузах и начищенных до блеска изящных сапожках с серебряными розетками. На каблуках шпоры: кавалерист?
— Господин прапорщик?!
— С вашего позволения, господа, я оденусь. Не привык встречать гостей неглиже.
Одеваюсь, офицерик нервно вышагивает по палате. Нечаянный визит связан со вчерашним событием — это к гадалке не ходи. Наконец последние пуговицы застегнуты.
— Прапорщик Красовский?
— Он самый.
— N-го гусарского полка Корнет Лисицкий. У меня к вам дело чрезвычайной важности. Вчера вы оскорбили словом и действие князя Бельского…
— Неужели?
Приятно видеть недоумение на напыщенном личике.
— Вы хотите сказать, оскорбления не было?
— Совсем нет. По моему мнению, оскорбить такого мерзавца, как ваш князь, попросту невозможно. Грязь к грязи не пристает.
Так, в зобу дыханье сперло. Люблю окорачивать жеребчиков.
— Вчера штабс-ротмистр пытался изнасиловать сестру милосердия Ольгу Матвеевну Розенфельд, — это Рапота. — Если б не вмешательство прапорщика…
Жеребчик хоть бы глазом моргнул — в курсе. Та-ак, здесь другая игра.
— В любом случае прапорщик не имел права. Я уполномочен передать вам, господин Красовский, вызов от князя Бельского. А так же вам, поручик!
— Ему-то за что? Не оскорблял…
— Стал свидетелем, но не предпринял мер.
Ах, вот что?
— Тяжесть нанесенных оскорблений заставляет князя требовать удовлетворения немедленно. За оградой ждут экипажи. Ехать недалеко, поэтому врач не нужен. (Правильно, зачем лишний свидетель?) Если вы уклонитесь…
— Нельзя отказывать таким людям.
— Оставьте свои шуточки, прапорщик!
— Я серьезно.
— А вы, поручик?
— Принимаю!
— Едем!
Нагло разваливаюсь на койке. Жеребчик опять в недоумении.
— Насколько помню, корнет, за мной выбор оружия?
— Плохо помните! Право выбора оружия за оскорбленной стороной! А поскольку вид оскорбления самый тяжкий, князь имеет право диктовать условия дуэли.
Вон оно как, Петрович! Они меня за идиота держат?
— Знаете что, корнет? Катитесь вы со своим князем и его оскорблением куда дальше!
Столбняк. Мягше с людьми надо быть, господин корнет, мягше.
— Так вы уклоняетесь от дуэли? В таком случае я…
— Если вы сделаете шаг, корнет, я выброшу вас в окно. Вы имели счастье лицезреть князя? Спешу заверить: тоже будет и вам. Я не люблю насильников и хамов. Ваш протеже получил по заслугам. Или мы будем стреляться на моих условиях или все останется как есть. Понятно?
— Чего вы хотите?
Как-то быстро он сдулся.
— Право выбора оружия.
— В нашем экипаже револьверы и шашки. Что предпочитаете?
— Винтовку!
Не ждали-с?
— Позвольте, как винтовку?
— Таково мое желание.
— У нас нет винтовок! — он почти кричит.
— Так озаботьтесь, чтоб были. Даю полчаса! — демонстративно смотрю на циферблат часов. — Если через тридцать минут не явитесь, буду считать: от дуэли уклонились. Со всеми вытекающими…
Мгновение он колеблется, затем срывается и исчезает за дверью.
— Почему винтовка, Павел?
Достаю из кармана «браунинг».
— Прицелься!
Сергей зажмуривает левый глаз. Пистолетик пляшет в руке. Забираю оружие.
— Вчера мы слегка выпили, не так ли?
— А винтовка?
— У нее приклад.
— Почему полчаса?
— За это время они ничего не успеют: ни подточить боек, ни испортить патроны.
— Вы полагаете?
Святая простота! Сам вчера говорил о карьере князя. Нет свидетелей, нет и преступления. Как там у классика: «Это немножко похоже на убийство, но в военное время… хитрости позволяются». Рассчитывать, что некто, способный ударить женщину в солнечное сплетение, станет соблюдать законы чести… «Ах, оставьте!» — как поется в популярном романсе. Сергей смущенно опускает глаза. Ладно, нужда зовет! Пока есть время…
По возвращению с наслаждением умываюсь холодной водой из тазика. Кранов здесь, естественно, нет. Тазик уносят, взамен на столе появляется поднос с двумя стаканами чая в мельхиоровых подстаканниках и булочки. Завтрак. Сергей радостно хватает стакан.
— Я бы не советовал, поручик!
Он смотрит недоуменно.
— Не дай бог пуля в живот…
Он бросает стакан, будто ожегшись. Беру его и с наслаждением припадаю к горячей жидкости.
— Позвольте, а вы?
— Мне можно.
И нужно. Мне стрелять первым, а горячий чай — лекарство для больной головы. Живот? В него еще нужно попасть. Едва покончил с чаем, как явление второе: те же и корнет Лисицкий.
— Винтовки есть! Едем, господа!
По классическим правилам дуэли, противники приезжают к назначенному месту порознь. Но нынче время военное, не до церемоний. Князь с корнетом в первой пролетке, мы — во второй. По пути шепотом инструктирую Сергея. Пока не кончится поединок с князем, ему исполнять обязанности секунданта. Я волк драный, но его объехать на кривой козе проще простого…
— Вы много дрались? — от уважения он переходит на «вы».
— Бывало.
— В Англии?
Киваю. Хорошо, что за плечами есть Англия.
— На пистолетах? Шпагах?
— По всякому.
На мечах тоже случалось.
— Мне вот не довелось!
Нашел о чем жалеть!
— Я давно не держал из винтовки. В последний раз — в Михайловском училище. В отряде мы пользуемся «Маузером» — такой большой пистолет в деревянной кобуре. Авиаторам они положены.
Скашиваю взгляд: бледен, но страх скрывает. Оно понятно: впервые в жизни стать под дулом. Мне нельзя проигрывать. Если меня убьют, Серегу пристрелят, даже комедию с дуэлью ломать не станут. Еще один не целованный мальчик на моей совести?
Подъезжаем. Небольшая поляна со всех сторон укрыта елями. До проселочной дороги рукой подать, но с дороги поляна не просматривается. С умом выбрано! Когда они спали? С другой стороны неплохо: не выспавшийся перед дуэлью — не противник. Извозчики остаются ждать. На поляне мы с князем расходимся в стороны, Рапота и Лисицкий остаются уточнять правила. Вижу, как Сергей ожесточенно спорит — молодец! Вот он берет винтовку, передергивает затвор и прицеливается в небо. Бах! Берет вторую — бах! Оружие проверено. С винтовкой в руках Сергей направляется ко мне.
— Дистанция — пятьдесят шагов! — сообщает хмуро. — По сигналу можно сразу стрелять или идти к противнику. Оружие можно перезаряжать, у каждого по четыре патрона. Сигнал — выстрел из револьвера. Голос на таком расстоянии можно не расслышать, потом, поди, докажи! Сигналю я. Не одолжите «Браунинг»?
Он и на этом настоял? Умница! Тем временем корнет отмеривает пятьдесят шагов. Указывает место, становлюсь, держа винтовку перед собой. Князь напротив. На бледном лице двумя пятнами выделяются синяки под глазами. Рапота с корнетом уходят с линии огня.
— Приготовиться! — Сергей поднимает пистолет.
Князь стреляет за мгновение до сигнала. Навскидку. Я хоть и ждал чего-то подобного, но не уследил. Пить меньше надо! Пуля срывает погон с левого плеча. Хорошо их учат в кавалерийских училищах! Теперь моя очередь! Вскидываю винтовку. Прицел выставлен, но с такого расстояния это не важно. Пока князь лихорадочно передергивает затвор, жду. Мне необходимо видеть белое лицо с двумя пятнами по сторонам. Инструктор учил нас: «Никогда не цельтесь в голову! Она маленькая и твердая. Цельтесь в корпус: он большой и мягкий!» Это правильно, но сегодня особый случай. Есть! Плавно нажимаю спусковой крючок и опускаю винтовку к ноге. На другой стороне поляны уже никто не стоит.
Лисицкий, семеня ножками в гусарских ботиках, бежит к князю. Следом — Рапота. Они наклоняются, трогают тело, затем выпрямляются. Идут ко мне. На лицо корнета противно смотреть.
— Прямо в переносицу! — губы у него дрожат. — Сзади — полголовы вырвало… Господи! Что я скажу его превосходительству, родителям?
У князя есть родители? Ну да, это мы сироты.
— Ваша очередь, корнет! Берите винтовку! Думаю, трех патронов нам хватит.
В его глазах ужас, лицо пепельное.
— Господин прапорщик! Послушайте… Я не одобряю вчерашнее поведение князя, так ему и сказал. Но мы друзья, он попросил… Долг чести… Если вас устроят мои извинения…
— Меня — вполне, но что скажет поручик?
Корнет умоляюще смотрит на Сергея. Тот напускает на себя важность, мгновение (очень долгое мгновение!) думает, затем нехотя кивает. Ну, Серж, ну, лицедей!
— Благодарю вас прапорщик! И вас поручик!
— Позаботьтесь о теле!
— Да-да, конечно.
Отдаю винтовку. Мы с Сергеем выходим на дорогу. По пути он сует мне пистолет. Возвращаю.
— Подарок!
— У меня в отряде «Маузер»…
Ладно. Пригодится…
У госпиталя нас встречает толпа. Сестры милосердия, санитары, даже врачи. С первого взгляда понятно, кого ждут. Быстро здесь разносятся вести! Выходим из пролетки, идем, как сквозь строй. Нас обшаривают взглядами. Почему-то смотрят на мое левое плечо. Погон! Пытаюсь приладить его на ходу — попусту. Ну и пусть!
На крыльце сам коллежский асессор.
— Живы! Не ранены?
— Никак нет! — это Сергей.
— А князь?
Сергей размашисто крестится. По толпе словно шорох прошел — повторяют.
— Корнет?
— Попросил извинения.
— Слава Богу! — бормочет Розенфельд. — Слава Богу!.. Господа, прошу ко мне!
По скрипучим деревянным ступенькам подымаемся на второй этаж. В кабинете Розенфельд усаживает нас на стулья, сам остается стоять.
— Господа, у меня нет слов… Примите извинения за поведение моей дочери!
Сергей делает протестующий жест, но Розенфельд словно не замечает.
— Ей не следовало принимать ухаживания штабс-ротмистра, тем более, соглашаться на прогулку с ним. Из-за нее погиб человек, еще двое, даже трое, будут иметь неприятности!
— Дуэли в Российской армии разрешены! — опять Сергей. — Все прошло по правилам!
— Сейчас военное время! К тому же… — коллежский асессор машет рукой, и я понимаю, что он хотел сказать. «Что разрешено Юпитеру, не дозволено быку». Ну да, дядя — командующий армией…
Розенфельд подходит к шкафу со стеклянными стенкам, открывает дверцы и некоторое время звенит там посудой, закрывая происходящее от нас широкой спиной. Поворачивается — в его руках стаканы со светло-желтой жидкостью.
— Выпейте! Вам необходимо!
Беру бокал. Ром! Действительно, в самый раз. Возвращаем пустые бокалы. Он держит их, словно не знает куда девать.
— Я растил ее без матери, господа! День-деньской на службе, а там няньки… Избаловали! Думал, здесь будет под присмотром, а вон как вышло. Если можете, простите! Ей всего двадцать… Завтра! — голос его становится жестким. — Завтра же отправлю ее в Москву, к тетке! Пусть продолжит учиться на фельдшера! Решено!
Спорить с ним бесполезно, да и не хочется. Откланиваемся. Меня клонит в сон. Надо поспать — теперь не скоро придется…
* * *
Борода и усы председательствующего — копия императорских на большом портрете за его спиной. Только у Николая II усы не закручены так залихватски. Председатель полковник, остальные члены суда — штаб и обер-офицеры.
— Господин прапорщик!
Встаю.
— Сообщите суду обстоятельства дела!
Сообщаю. Когда дохожу до сцены в парке, за спиной возникает ропот. Возмущенный. Председатель звонит в колокольчик.
— Пра-ашу тишины!
Ропот стихает.
— У вас все?
— Так точно!
— Садитесь! Поручик Рапота!
Сергей встает. В его рассказе больше подробностей.
— Как секундант, хочу сообщить суду, что штабс-ротмистр выстрелил до моего сигнала. (В зале снова ропот.) Пуля сорвала прапорщику погон. Тем не менее, он не стал сразу стрелять в штабс-ротмистра, а дал ему возможность перезарядить ружье…
Выгораживает Серега дружка. Только зря это…
— Са-адитесь! Корнет Лисицкий!
Корнет повторяет слова Рапоты, даже подтверждает выстрел до сигнала. В зале ропот. С чего корнет такой праведный? Слишком гладко все идет, слишком гладко…
— Господин корнет, почему вы согласились участвовать в таком неблаговидном деле?
— Князь Бельский вернулся вечером избитый. Синяки под глазами, синяки на теле. Сказал, что это сделал прапорщик, — кивок в мою сторону. — Сами понимаете, господа, я не мог отказать. О проступке штабс-ротмиста я не знал.
Врет, конечно, но доказать невозможно.
— Господин прапорщик!
Встаю.
— Вы били князя Бельского?
Соврать, как Лисицкий? Свидетелей не было.
— Так точно, господин полковник, бил!
— Почему?
— Он дурно отозвался о сестре милосердия.
— Как именно?
— Язык не поворачивается повторить гнусность!
— За это вы его избили?
— Не только!
— Что еще?
— Штабс-ротмистр предложил замять дело. Сказал, что дядя его командует армией, и я могу стать подпоручиком через неделю…
За спиной уже не ропот — шум водопада. Зал полон офицерами, и далеко не все из них штабные. Обычно военный суд проходит без публики, но сегодня сделано исключение. Председатель долго звонит в колокольчик. Наконец зал утихает.
— Введите свидетеля Хижняка!
Перед судом вытягивается солдат в мешковатой форме. Лицо знакомое — санитар госпиталя.
— Сообщите суду, что сказали военному следователю!
— Значицца, прибирал я в беседке у пруда…
— Что было в беседке?
— Господа праздновали!
— Какие господа?
— Вот эти! Их благородие поручик и их благородие прапорщик. Как отпраздновали, так все и бросили: корзинку, посуду, бутылку…
— Бутылку из-под чего?
— Написано было «коньяк».
— Бутылка большая?
— Обыкновенная.
Ропот в зале.
— Уведите свидетеля!
Вон что! Пьяная драка в период сухого закона…
— Господин поручик! Вы пили коньяк с прапорщиком?
— Так точно!
— Что праздновали?
— Прапорщику Красовскому принесли угощение, он предложил мне разделить. Но я уверяю вас, господин полковник, мы в полном рассудке…
— Не сомневаюсь! Полбутылки коньяка — отличное лекарство для рассудка. Садитесь!
Покойный штабс-ротмистр тоже был выпимши и даже очень. Только у нас доказательств нет.
— Пригласите свидетеля Розенфельда!
На докторе сегодня мундир отглажен. Молодцом!
— Господин коллежский ассесор! Прежде, чем задать вопрос, позвольте от имени офицерского собрания корпуса принести вам извинения за гнусную выходку, совершенную в отношении вашей дочери штабс-ротмистром Бельским! Несмотря на то, что за свой проступок он заплатил жизнью, это несмываемое пятно на офицерской чести корпуса.
— Я принимаю извинения.
— Вы врач, наблюдавший прапорщика Красовского. Каким было его состояние на время ссоры с князем и последовавшей дуэлью?
— Прапорщик перенес тяжелую контузию, в результате которой утратил память. Она до сих пор не восстановилась.
— Это не помешало ему драться и стрелять!
— Контузии провоцируют нервные реакции!
— Ему рекомендовано употреблять спиртные напитки?
— Ни в коем случае!
— Но прапорщик употребил!
— Он не отдавал отчет! Повторяю: тяжелая контузия! Человек только пришел в себя! Ему кажется, что он здоров, хотя на самом деле это не так. Я давно служу по медицинской части и не раз наблюдал… С такой контузией прапорщик подлежит безусловному освобождению от дальнейшего прохождения воинской службы. Я готов подписать свидетельство немедленно!
— Не сомневаюсь, господин Розенфельд! Суд удаляется на совещание!
— Господа офицеры!..
Грохот вставшего зала. Наступает томительное ожидание. Из зала никто не уходит. За моей спиной гул. Сергей повесил нос, корнет чувствует себя не лучше. Ничего не понимаю!
— Господа офицеры!..
Стоим. Председатель надевает очки, они нелепо смотрятся холеном лице.
— …Рассмотрев обстоятельства дела, военный суд нашел корнета Лисицкого, поручика Рапоту и прапорщика Красовского по обстоятельствам дуэли, приведшей к смерти князя Бельского невиновными!
Радостный ропот за спиной.
— Однако же…
Я ждал этого!
— В ходе судебного следствия неопровержимо доказано нанесение побоев прапорщиком Красовским покойному князю Бельскому. Вину прапорщика отягощает имевший перед этим постыдный случай пьянства. Какими бы благородными мотивами не объяснялось поведение прапорщика Красовского, нанесение одним офицером побоев другому бесчестит не только того, кто побои получил, но того, кто их нанес. Такой поступок не совместим со званием русского офицера. Руководствуясь Сводом военных постановлений… на основании статьи 42 Воинского устава о наказаниях подвергнуть прапорщика Красовского лишению офицерского звания, разжаловав его в рядовые. Постановление суда вступает в силу по конфирмации начальником корпуса…
Полковник снимает очки.
— Можете выписывать белый билет, господин коллежский асессор! Господин Красовский вы возвращаетесь под родительский кров. Вы не принесли пользы Отчизне на полях сражений, так постарайтесь сделать это в тылу. Передайте батюшке, что на фронте катастрофически не хватает снарядов и бомб! Пусть выделывает их на своих заводах как можно больше!
Одобрительный гул в зале. Вон оно что! Господин полковник надавил на мораль. Просто наказать виновного при таких обстоятельствах — не комильфо. А вот указать ему место и выбросить из армии… Я буду ходить в подручных у фабриканта ближайшие пятьдесят лет?
— Господин полковник, разрешите просьбу!
— Что еще? — он не скрывает неудовольствия.
— Прошу об оставлении меня в действующей армии!
— Чем будете ей полезны? Доктор уверяет, утратили память. Следовательно, все, чему вас учили…
— Доктор говорит правду. Однако, как изволили заметить, драться и стрелять я умею.
За спиной опять гул. Он смотрит в упор, я не отвожу взгляда.
— Я доложу о вашей просьбе!
Занавес.
4
Вход в блиндаж занавешен куском брезента, постучать невозможно. Кашляю:
— Разрешите?
Из-за брезента невразумительное бурчание. Решительно сдвигаю занавесь.
— Ваше благородие, вольноопределяющийся Красовский…
— Пашка!
Худощавый офицер вскакивает из-за колченогого столика и заключает меня в объятия. Стою в недоумении: или самому обнять, или все же блюсти субординацию. Выбираю второе.
— Господин прапорщик, смею напомнить…
— Ладно тебе! — он отстраняется, на лице белозубая улыбка. — В школе прапорщиков койки рядом стояли, я буду чиниться?..
— Я разжалован в рядовые.
— Знаю! Вся крепость знает!
Это правда. Пока ехал из Белостока, раз десять остановили. Офицеры подходили и молча жали руку. В самой крепости чуть ли не демонстрация случилась. На площади перед управлением мне отдавали честь даже штаб-офицеры. Быстро здесь разносятся новости…
— Садись, рассказывай! — он указывает на грубо сколоченные нары. Керосиновая лампа на столике мигает.
— Вы, наверное, и так знаете.
— Да что вдруг «вы» и «вы»? — недовольно бурчит хозяин блиндажа. — Как будто забыл!
— Смею напомнить, что действительно так.
Он смотрит участливо:
— Даже как меня зовут?
Киваю.
— Михаил Говоров! Ты звал меня «Майклом» на аглицкий манер.
— Рад видеть тебя, Майкл!
— И я тебя!
Отстегиваю от пояса и кладу на стол флягу. Гаванский ром, лично господин Розенфельд в дорогу снабдили. Коллежский асессор любит чай с ромом.
— На передовой сухой закон?
— Скажешь! — он смеется и кричит в дверь. — Хвостов!
В проеме появляется солдат. Лицо плутоватое.
— Собери нам что-нибудь!
Хвостов исчезает, но скоро появляется снова. На столе утверждается кусок черного хлеба, луковица и кусок вареной говядины. Не густо.
— Пищу доставляют утром и вечером, — извиняющим тоном поясняет прапорщик, он же Майкл. — Как стемнеет. Германская артиллерия простреливает подходы.
Поставив кружки, денщик исчезает. Разливаю ром, чокаемся.
— С возвращением, Пашка! Если б только знал, как я рад! Из нашего выпуска только мы остались. Да что мы! В роте я единственный офицер, исполняю обязанности начальника. Кто бы мог думать, когда нас выпускали?! Прапорщик командует ротой! — он вдруг грустнеет. — Осталось полсотни нижних чинов, взвод по мирному времени…
Командовать взводом честь невелика — унтер-офицерская. Субалтерн-офицеры при командире роты — старшие, куда пошлют. Теперь один из них, правильнее сказать, единственный уцелевший, принял роту. Хорошее место, долго не задержусь. Пуля или снаряд. Короче служба с каждым днем, короче к дембелю дорога…
— Будем здоровы, Майкл!
Славный у Розенфельда ром: крепкий, ароматный. Рассказываю Мише о последних событиях — хозяина следует отблагодарить за гостеприимство. Он слушает, широко открыв глаза. Сжимает кулаки.
— Штабная крыса! Как можно?! Сестрички, они же добровольно… Перевязывать, обмывать, судна за ранеными выносить… Да я бы сам! Из-за кого разжаловать?!. Князья да бароны, сволочь титулованная, как увидишь кого с аксельбантами, так будь покоен, что «фон»! В окопах их не встретишь, прапорщики ротами командуют…
Хм… В любой армии не любят тыловиков, но здесь что-то совсем. Плюс горячая поддержка офицерами разжалованного прапорщика. Хреновые перспективы у этого войска. Сменим тему.
— Отчего такие потери в людях? Артиллерия?
— Ты видел траншеи? Полный профиль, стенки укреплены. Артиллерия ведет огонь, да без толку, — он косит взглядом, я делаю успокаивающий жест: контузия прапорщика Красовского — случайность. — Завелся у германцев меткий стрелок или стрелки, — он пожимает плечами. — Голову высунуть не дают — сразу пуля! Начальника роты так убили…
Интересно! Делаю недоуменное лицо.
— Хвостов! — кричит Миша в дверь. — Кликни Нетребку! И болвана своего пусть захватит!
Спустя пару минут в блиндаже маленький круглый солдатик с какой-то деревяшкой в руках. Беру ее в руки. Голова человека, вернее, гладко обструганная деревяшка, ее изображающая. Глаза, брови и нос прорисованы углем. Рта нет.
— Это что?
— Болван, ваше благородие! — рапортует солдатик. — Для выделки шляп-с и париков пользуют, дабы по форме. Я до призыва в числе первых болванщиков был-с. Вот-с, пригодилось.
— Для чего?
— Германец, коли фуражку на штыке из траншеи поднять, не стреляет. Непременно, чтоб голова была.
Только сейчас замечаю аккуратную дырочку над прорисованным носом. Переворачиваю деревяшку. Выходное отверстие куда крупнее, но не такое страшное, как у человека.
— Этот болван более не годится! — сыплет словами Нетребко. — Коли дырочка во лбу, германец не бьет.
Оптический прицел…
— Снайпер!
Миша смотрит недоуменно. Ну, да, массовое снайперское движение только нарождается. Армии месяцами сидят в окопах, больше заняться нечем, как поглядывать в прицел.
— Снайпер — меткий стрелок по-английски…
— В том-то и беда, что больно меткий! — он сжимает кулаки. — Управы никакой — из траншеи не выглянуть. Только ночью. Снарядами не закидаешь — неизвестно куда стрелять. Высмотреть нельзя: выглянешь — убьет. Траншейную оптическую трубу давно прошу, но не шлют, — он жестом отпускает Нетребку. — Вот такая диспозиция, Павел. Хорошо, что ты вернулся! Хоть и рядовой, а командовать можешь…
— Нет!
Он смотрит удивленно.
— Я все забыл!
Он грустнеет.
— К чему тебя приставить?
— Займусь метким стрелком! С твоего позволения.
Он смотрит недоверчиво.
— Драться и стрелять я не разучился!
Миша смеется.
— Чего надобно?
— Хорошую винтовку, выберу сам. Это раз. Далее: бинокль, карту местности или хотя бы кроки, компас и Нетребку в помощники.
— Бери! — он снимает со стены бинокль в футляре. — От начальника роты остался, добрый, германский. С ним и убили.
Оптимистическое напутствие…
* * *
Назавтра пристреливаю винтовку в тыловой лощине. Еле выбрал. У большинства солдат винтовки старые, с казенниками, переделанными из старых трехлинеек под новый патрон с остроконечной пулей. Служили винтовочки долго, да и чистили их рьяно — каналы стволов сильно поцарапаны. Только у моей сияет зеркальным блеском. Прицел обычный, но до германских траншей метров триста, сгодится. Если, конечно, снайпер не за бронированным щитком — в Первую Мировую применяли. В амбразуру мне не попасть. Результаты пристрелки демонстрируют это убедительно — только две из пяти пуль ложатся в черный круг, нарисованный углем. Трехлинейка образца 1891 года — это не СВД. Нетребка неподалеку строгает болванов — я обещал ему выпивку. Флягой с вожделенной жидкостью меня снабдили врачи госпиталя, не один Розенфельд сочувствует разжалованному. Нетребка и без того выполнит приказ, но личная заинтересованность не помешает. Бывший болванщик — ефрейтор, я — рядовой. Нижний чин из вольноопределяющихся не чета обычному солдату: к хозяйственным работам не привлекается и вообще «из благородных», но формально Нетребка старше по званию. Надо выказать уважение. Ефрейтору предложение по душе: строгает — только стружки летят! Это правильно: работать надо тщательно. Мне терять нечего, но солдатам в траншее есть. Им новые тела не светят…
Нетребка заканчивает к полудню. Прилаживаем двух болванов на крепкие палки с ручками. Берем одного и топаем на левый фланг. Свободные от службы солдаты тянутся следом, правда, держатся в отдалении. Сидеть в траншеях скучно, хоть какое развлечение. Их благородие, вернее, бывшее благородие, чудит — будет, что перетереть вечерком. Надеваем на болвана солдатскую папаху и осторожно выдвигаем из траншеи. Нетребка, как более опытный, руководит. Сначала над бруствером вырастает папаха, прячется, появляется снова, после чего возникает «лоб».
Бах! Хлоп! Деревянные щепки сыплются в траншею. С трудом удерживая болвана от поворота, опускаем его в траншею. Втыкаем нижний конец палки в землю. Нетребка держит болвана, чтоб не сбилось направление. Я сую специально приготовленную палочку в проделанное пулей отверстие, достаю компас и наношу на кроки первый азимут. Прием старый, но здесь в новинку. Бросаем поврежденного болвана, берем нового и бредем на правый фланг. Там все повторяется: бах, хлоп! Наношу азимут на кроки. Пересечение… Твою мать! Или кроки неточные, или снайпер отмороженный: свил гнездо на нейтралке, метрах ста пятидесяти от наших траншей. Результат настолько неожиданный, что едва удерживаюсь от желания выглянуть наружу и проверить. Ага! Бах, хлоп — и дембель! У меня работа не выполнена.
Перед ужином наливаю Нетребке кружку спирта. Он уходит, прижимая ее к груди. Поделится с фельдфебелем, выкажет уважение. В кружку влезло полфляги — оба будут хороши. Нам нельзя ни капли.
Ночь темна. Беру кирку и шагаю в тыл. Здесь, в сотне метров от наших траншей, некогда стояла деревня. Хаты сгорели, только печи вздымают трубы на пепелищах. Правильно расположены эти печки. Проламываю отверстие со стороны траншей. Печка закопченная, черное отверстие не бросается в глаза. Залезаю внутрь. Топка у русских печей огромная, трое поместятся. В печах зимой моются. Дырка с обратной стороны вышла в самый раз — не много, но и не мало. Кладу рядом винтовку, бинокль, выстроганную Нетребкой подставку. Миша звал спать в блиндаже, но это не лучшее место. Командира роты в любой момент могут поднять, а мне нужно выспаться. Шинель сверху и снизу, под головой башлык. Не лучшая постель, но бывало и хуже. Немцы и наши постреливают, но засыпаю почти мгновенно.
Солнце красит нежным светом башни древнего Кремля… Роль башен выполняют подошвы сапог вольноопределяющегося. Пора! Хорошо, что день ясный — солнце светит в глаза немцам. Переворачиваюсь на живот, достаю из футляра бинокль и кладу перед собой кроки. Что у нас? Ага, некогда на нейтральной полосе росло дерево. Разрывом снаряда дерево повалило: ствол, мешанина ветвей. Удобная позиция, если, конечно, снайпер здесь. С оптическим прицелом можно запросто стрелять из своей траншеи. Если снайпер там, без артиллерии не обойтись, из трехлинейки не достану.
Наблюдаю пять минут, десять, полчаса. Никакого движения. Или снайпер обладает отменной выдержкой, или его здесь нет. Перевожу окуляры на свою линию. Печка стоит на пригорке, траншея хорошо просматривается. Видны папахи солдат, неспешно передвигающихся вдоль линии обороны. Где Нетребка с болваном? Еще не очухался? Порву как тузик грелку! Твое счастье, что из печки никак!
Наблюдаю фуражку. Ротный, а он в курсе, отправился за болванщиком. Взгреет — и правильно сделает. Мысленно желаю прапорщику не жалеть пинков. Проходит пять минут. Следом за фуражкой в обратном направлении движется папаха. Траектория головного убора извилиста и наводит на мысли о скорбном похмелье. Наконец поверх бруствера возникает болван. Он дрожит и пошатывается — кому-то сегодня нездоровится.
Бах! Болван стремительно падает обратно. Есть! Серый дымок висит над стволом поваленного дерева. Порох в патронах здесь уже бездымный, но все ж не совсем. Утренний воздух плотнее дневного, дымок тает медленно, германцу не мешало бы знать. Впрочем, чего бояться? Столько дней безнаказанного разбоя, «ганс» работает, как в тире! Навожу бинокль — вот он! Белое лицо из-под лохматой накидки. Силен в маскировке, наверняка из охотников — бил львов где-то в Африке.
Замечаю место и примащиваю винтовку на деревянной подставке. Теперь, главное, не спешить. Лицо над стволом превращается в крохотное белое пятнышко. Подвожу мушку, задерживаю дыхание и медленно спускаю курок. Бах! От выстрела в замкнутом пространстве звенит в ушах. Сверху обильно сыплются хлопья сажи. Вот об этом мы не подумали…
Отфыркиваюсь и берусь за бинокль. Снайпера не видно, но его винтовка упала за ствол дерева, приклад торчит вверх. Ни один стрелок так не бросит оружие. Попал… А это что? От дерева к германским окопам кто-то быстро ползет. Обычная форма цвета фельдграу. Наблюдатель, помощник снайпера. Правильно, один человек не в состоянии выискивать цели по всему фронту.
Перезаряжаю винтовку, кладу на подставку. Хотя цель перемещается, наводить легче — движущуюся мишень заметить проще. Бах! Очередная порция сажи. Беру бинокль. Немец лежит неподвижно. Жду, не шевелится. Десять минут, двадцать. Нетребко в траншее напрасно толчет своим болваном. Все!
Вылезаю из печки, отряхиваюсь и во весь рост иду к своим. Из траншеи выглядывает Миша.
— Пашка, сдурел!
Не спеша прыгаю в траншею.
— Господин прапорщик, цель уничтожена!
— Обормот! — сердится он и вдруг достает зеркальце: — Взгляни на себя — чистый арап!
А ведь, правда! Смеюсь. Белые зубы на черном лице…
* * *
— Умойся!
— Не стоит. Ночью навещу покойника, лицо не будет отсвечивать.
— Рехнулся?! Паша, я понимаю: хочешь вернуть офицерское звание. Только зачем рисковать? И без того доложу…
Ссать я хотел на ваше звание! Винтовка нужна! Авторам восторженных статей о мосинской трехлинейке сердечно желаю с ней и воевать. В сорок первом с ней набегались. Мы люди негордые, согласны на «Маузер» с оптическим прицелом.
— Ты очень изменился, Пашка! Не узнать.
Это как?
— Не обидишься?
Валяй!
— Всегда был степенным, рассудительным. Сгоряча в драку не лез, держался позади. Я удивился, услыхав про дуэль. Да что дуэль! На суде просил оставить в армии рядовым! Я думал, жалеешь…
О чем?
— Ты рассказывал…
Что?
— Отец оставил вас с матерью ради другой женщины. Ты учился в Англии, когда мать умерла. Пока ты вернулся, отец обвенчался с разлучницей. Ее зовут Надежда Андреевна Сонина, теперь уже Красовская. (Вот каким боком нам Розенфельд!) Ты разругался с отцом и записался в школу прапорщиков.
Понятно. Отпрыск промышленника, оскорбленный явлением новых наследников, пошел на демарш. Однако, хлебнув окопных радостей, передумал. Папашка принял бы сына, но случился снаряд…
— У меня была контузия, Майкл!
Миша согласно кивает. Контузия все объясняет. Удобная вещь.
Когда темень накрывает линию фронта, выбираюсь из траншеи. Из проволочного заграждения вытащена секция, главное, на обратном пути не заблудиться. По сторонам оставленного мне коридора, солдаты постреливают в сторону германских окопов. Выстрелы заглушают шаги. Ползти по мокрой земле — занятие малоприятное, да и глупое. Пригнувшись, иду к поваленному дереву. В руке «Браунинг». Миша предлагал взять винтовку, но мы не идиоты. В кого целиться ночью? Здесь нужно как Дубровский…
Немцы на выстрелы не отвечают. То ли экономят боеприпасы, то ли не пришли в себя. Днем не предпринимали попыток вытащить убитых, чему способствовала прицельная стрельба вольноопределяющегося. Убить не мы их убили, но напугали здорово.
Сапоги скользят по влажной земле, пару раз сваливаюсь в воронки, но без последствий. Вот оно — дерево! Осторожно перелезаю ствол, иду вдоль. Носок сапога задевает что-то мягкое. Он! Трогаю — холодный! Пистолет — в карман!
Первым делом забираю и закидываю за спину винтовку. Снимаю с трупа ремень с подсумками — без патронов никак! Обшариваю карманы, перемещая их содержимое в свои. Никаких эмоций, сотни раз проделывали. Законная добыча… Теперь навестим второго. У помощника винтовки нет, а вот подсумки с патронами… Очень кстати! Бинокль — еще лучше. Тот, что ссудил мне Миша, подлежит возврату. Будет свой. Что еще? Плоский винтовочный штык — не помешает. Содержимое карманов… Пора.
Показалось? Осторожные шаги со стороны немецких окопов. Бежать? Выстрелят на шум. В темноте попасть трудно, но пуля — дура. Затаиваюсь, «Браунинг» в руке.
— Герр обер-лейтенант! Вас ист лоос? (Что случилось?)
Голос тихий, испуганный. Это хорошо — робкие нам на руку. Молчим. Шаги осторожно приближаются. Привыкшие к темноте глаза различают на фоне неба согбенную фигуру. Винтовка за спиной, гость один и явно не настроен на схватку…
Пистолет — в карман, штык-нож покидает ножны. Ложусь на спину, тихий стон. Немец подходит, наклоняется:
— Герр обер..
Лезвие упирается в горло гостя.
— Хуэ! (Тихо!)
Мой немецкий плох, но меня поняли. Немец застыл, согнувшись, только кадык дергается. Не порезался бы! Медленно привстаю.
— Хенде хох! Фортверс, марш-марш!
Судорожный кивок — понял. Толкаю немца в сторону своих окопов. Перелезаем ствол дерева, топаем. Через десяток шагов он сваливается в воронку. Легкий вскрик, но его вряд ли слышат — немцы молчат. Помогаю бедолаге выбраться. Шепотом поясняю, что впереди еще воронка. Снова крикнет — капут! Кивает часто-часто. Спекся. Незаметно прячу штык в ножны — не понадобится. Быстрым шагом идем к своим.
— Стой, кто идет! — клацанье затвора.
— Православные, братцы!
— Читай молитву!
— Отче наш, иже еси на небесех…
— Проходи!
— Со мной пленный, не застрелите с испугу. Он первым.
— Поняли, ваше благородие!
Немец сползает в траншею. Его мгновенно разоружают и обыскивают. Прыгаю следом.
— Пашка! Ты даешь! — Миша обнимает и тискает.
Мне б подремать…
Позднее утро, завтрак я проспал. Наказание — полкотелка остывшей каши и ломоть черного хлеба. Жую. Миша читает политинформацию — вводит в курс военных и политических событий. Третьеразрядная (в буквальном смысле, поскольку имеет третий класс) крепость Осовец вопреки всем ожиданиям стала главной на Восточном фронте. Меня не удивляет: стратеги, планирующие войны, всегда ошибаются. Осовец не успели достроить: несколько фортов на пригорках не в состоянии прикрыть артиллерийским огнем десяток верст фронта. На этих верстах держит оборону пехота, в том числе Ширванский полк. Это единственный путь из Восточной Пруссии в тыл русским армиям на Варшавском направлении. По обеим сторонам полоски суши — болота и реки, армиям не пройти. Стоит германцу взять Осовец, как фронт в Царстве Польском рухнет. Более того, русские корпуса попадут в котел — так сгинула в Пруссии армия Самсонова. Поэтому немцы прессуют Осовец. («Прессуют» — мое слово, Миша таких не знает). Сначала беспрерывно атаковали подступы к крепости, получили по зубам (в том числе и от ширванцев) и подвезли тяжелые орудия. Калибр 16 дюймов, один снаряд тянет на 50 пудов. Бросали их, бросали — ничего не вышло! Более того, огнем русских пушек 16-дюймовки разбиты. Их увезли, но планы кайзера не изменились. На днях близ крепости поймали подозрительного мужчину. На допросе тот пояснил: немцы послали к коменданту Бржозовскому с предложением полмиллиона рублей за сдачу крепости. Парламентера повесили, но генерал-майор расстроен: его заподозрят в измене. Комендант — поляк по национальности, а что сейчас вытворяют поляки, я знаю?
Наслышан. Пилсудский, пока не маршал, всего лишь офицерик Австро-Венгерской армии, воюет против России. Пан Юзеф решил, что немцы лучше русских, посему собрал легион. До 1 сентября 1939 года, когда в западном векторе придется разочароваться, маршал не доживет, а вот соплеменники лиха хлебнут. Однако ошибки не признают. «Яшче Польска не сгинела и сгинеть не мусить, яшче русак полякови чистить боты мусить…» Кто не понял: русские полякам почистят сапоги. Не знаю, как с сапогами, но с мордами получалось. В 1796-м, 1863-м, 1939-м. За поляками тоже не заржавело: в 1612-м, 1920-м…
Стишок о сапогах прочла нам пани Юзефа, когда мы завернули к хутору. Сухая, костистая, коричневая от солнца, она загородила дорогу во двор, как будто перед ней стояли не красноармейцы с винтовками, а босяки в лохмотьях. Честно сказать, на босяков мы смахивали — месяц скитаний по лесам в тылу вермахта… Старушку следовало припугнуть, но сделать это никто не решился. Вперед вышел Сан Саныч, милый наш товарищ полковник. Щелкнул каблуками и вдруг выдал тираду на польском. Никто не думал, что он знает язык. Я не понял, что Саныч говорил, но начал он с «пшепрашем, пани»… Юзефа отступила, мы вошли во двор. Пока мылись, чистились, брились (Саныч насчет этого был строг!), старуха зарубила петуха, ощипала и сварила нам суп. Ничего вкуснее в жизни не ел! Голод — лучшая приправа. На прощание Юзефа дала нам каравай свежеиспеченного ржаного хлеба и толстый шмат сала — на два дня хватило. Полковник опять щелкнул каблуками и, склонившись, поцеловал морщинистую, коричневую руку. Юзефа заплакала и перекрестила нас — слева направо. Поляки — хорошие люди, если с ними правильно говорить. В 1945-м, когда союзники делили Европу, Черчилль возразил Сталину: «Львов никогда не был в составе России!» На что Сталин, пыхнув трубкой, заметил: «А Варшава была…»
Знаю ли я, кого застрелил? Где нам… Обер-лейтенант фон Мёльке. «Фон» так «фон», мне с ним детей не крестить. Обер — меткий стрелок, «снайпер» по моему выражению, на Западном фронте убил почти сотню союзников. Сюда прислан истреблять защитников Осовца, наводить среди них страх. Это поведал пленный, которого я привел. Миша доставил «языка» в штаб полка, там допросили. Пленный — рядовой ландвера, то есть из запаса. Понятно, «мобилизованные мы!» «Язык» показал: к немцам прибыло подкрепление, со дня на день начнут наступать. В виду важности сведений, «языка» той же ночью переправили в крепость. Заодно попросили подкрепления. Ширванцев слишком мало, не удержат фронт. Обещали прислать пулеметную роту.
— Снайпера убил, «языка» привел. Звание точно вернут! — лицо Миши сияет.
Угу, догонят и еще раз вернут. Мы лучше «Маузер» почистим. Вот те раз, шомпол короткий! Ну да, два коротких шомпола свинчивались в один, солдаты чистили винтовки по очереди. Экономный народ, немцы! Второй винтовки в блиндаже не нахожу, выбираюсь в траншею. Нетребка важно разгуливает с «Маузером» на плече. Без лишних слов забираю винтовку.
— Господин вольноопределяющийся, ваше благородие! — он чуть не плачет.
— Зачем она тебе?
— Короче нашего ружья, удобнее!
— А патроны?
— Так у немцев были.
Ефрейтор считает трофеи общими, ну да, помогал. Роюсь в карманах, достаю губную гармонику. Он расплывается в улыбке и уходит, весело пиликая. Как мало человеку надо! У нас занятие более серьезное — чистка оружия. Аккуратно, без глупого усердия — канал ствола надо беречь. Вот он сияет — ни царапинки! Внимательно рассматриваю трофей. Большая труба оптического прицела, он пятикратный — очень хорошо! Винтовочка явно не серийная: рукоятка затвора изогнута (на карабине, изъятом у Нетребки, прямая), труба оптического прицела закреплена слева, дабы не мешать заряжанию, на ореховом ложе — никелированная табличка. Гербовый щиток с готической вязью: «Фрайхер Иоганн Фридрих фон Мёльке». Табличку сковыриваю ножом: не люблю цацек на оружии. Пересчитываю патроны: 42. В магазине карабина, конфискованного у Нетребки, еще пять. Не густо. Винтовочку нужно пристрелять, чем и занимаюсь в знакомой лощине. В этот раз пули ложатся точно в круг. Гут!
Вечером прибывает пулеметная рота: к показаниям пленного в Осовце отнеслись серьезно. Нашей роте перепало два «Максима»: Миша устанавливает их на флангах. Он немного нервничает, но распоряжается толково. Выставлено двойное охранение, проверены «лисьи норы», где солдаты прячутся от артиллерийского огня, ручные гранаты (здесь зовут их «бомбами»), винтовки и другое снаряжение. Говоров мне нравится. Толковый командир, в Гражданскую, если доживет, поведет армию. Белую или красную — это как карта ляжет. Достаю флягу с остатками спирта. Миша вначале хмурится — вдруг завтра бой, затем машет рукой: где наша не пропадала! Правильно. Если что, немцы разбудят.
5
— Очнись, солдат! Вставай!
Открываю глаза. Строгое лицо с седыми усами, паутинка морщин у глубоко посаженных глаз. На околыше фуражки — звездочка, в черных петлицах — три красных эмалевых прямоугольника. Полковник?
— Живой?
Киваю и сажусь. Полковник отступает и смотрит испытующе.
— Как звать?
— Не помню.
— Тогда помогай!
Вдвоем катим на пригорок пушку. Она маленькая, эта пушечка, и легкая, иначе не справиться. «Сорокопятка» — всплывает в памяти. Наверху полковник снимает лопату со станины.
— Как позицию готовить помнишь?
Качаю головой.
— Носи снаряды!
Спускаюсь к дороге. Убитые солдаты и лошади, еще одна пушечка, разбитая взрывом, разбросанные по сторонам плоские деревянные ящики. Откуда-то знаю, что в них снаряды. Беру по ящику в каждую руку и тащу в гору. Полковник копает, не обращая на меня внимания. Кладу ящики и бреду вниз за новыми. Спустя час или больше (часов у меня нет) на пригорке вырыт орудийный окоп, ящики сложены слева от лафета, полковник маскирует бруствер дерном. Закончив, приникает к панораме и крутит маховиками наводки. Удовлетворенно крякает.
— Стрелять умеешь?
Качаю головой.
— А еще артиллерист!
— Память отшибло! Контузия…
Он внимательно смотрит на меня, достает из кармана пачку сигарет, протягивает. Курим, сидя на бруствере.
— Гляди! — полковник указывает рукой с дымящейся сигаретой. — Справа болото и слева болото. Дорога посреди. С нашего пригорка просматривается на километр. Отличная позиция! Обойти невозможно, а мы отсюда достанем любого. Думаю, именно сюда вас послали, да только немец сверху заметил. В воздухе их самолеты, бомб и пуль не жалеют…
Нас? А он кто?
— Я по дороге шел. Гляжу: пушка целая и сержант шевелится. Грех такой случай упускать! Еда у вас есть?
Пожимаю плечами.
— Сходи, проверь!
Спускаюсь. В вещмешке убитого старшины нахожу буханку хлеба, банки консервов, пачки пшенного концентрата. Тащу все на пригорок. Полковник прямо расцветает:
— Два дня не ел!
Он открывает плоским штыком банку, режет хлеб. Штык у него немецкий, как и винтовка, лежащая в стороне. Сигареты…
— Трофеи! — он замечает мой взгляд. — Подкараулил отставшего немца. Последний патрон в «нагане» был…
Только сейчас замечаю кобуру на его поясе.
— Следовало «наган» выбросить! — вздыхает он. — Но жалко. Привык.
После еды вновь закуриваем.
— От самого Белостока иду! — говорит полковник. — А они все мимо и мимо! Машины, танки… Так хотелось врезать! Спасибо тебе, сержант!
За что? Издалека плывет гул моторов. Полковник прыгает к орудию.
— Будешь заряжать!
Открываю ящики. Снаряды маленькие, но тяжелые.
— Вот эти! — указывает полковник. — Бронебойные!
Казенник с лязгом глотает снаряд. Выглядываю из-за бруствера. Наша позиция — на пригорке, в километре напротив — склон, дорога по нему спускается в низину и поднимается к нам. Сейчас по склону ползет танк, тонкая пушечка развернута в нашу сторону. Из-за гребня появляется и ползет по дороге еще один и еще… Почему-то становится страшно. Чувство не мое, досталось прежнего хозяина, но очень сильное. Чтобы отвлечься, начинаю громко считать:
— Один, два, три, четыре, пять…
Да сколько же их?!
— Одиннадцать, двенадцать, тринадцать…
Мама дорогая! Недолго быть мне сержантом! Привыкнуть к телу не успел.
— Шестнадцать, семнадцать!
Кажется все.
— Нагло прут, без охранения. Вот и славно!
Это полковник. Он склонился к панораме, медленно вращает маховик наводки, но не стреляет. Первый танк миновал впадину между пригорками и теперь поднимается к нам. «Сорокопятка» стоит слева от дороги, мне хорошо видны черный крест на борту и лицо офицера, торчащее из люка командирской башенки. Несколько минут, и танк поравняется с нашей позицией. Немец нас пока не видит — пушечка низенькая, а полковник хорошо замаскировал позицию. Но с дороги окоп отлично просматривается.
Бах! Из казенника «сорокопятки» со звоном выскакивает латунная гильза.
— Заряжай!
Бросаю снаряд в открытое жерло, только потом выглядываю за бруствер. Передовой танк стоит неподвижно, но не горит. Никто из него не выскочил. Ствол нашей пушечки ползет левее и выше. Бах! Последний танк в колонне замер, свесив хобот пушки.
— Заряжай!
Бах! Бах! Бах!.. Еле успеваю бросать снаряды в ненасытное жерло «сорокопятки». В ушах звенит, дыхание забивают пороховые газы, но пушку надо кормить. Иначе железом накормят нас. Пустые деревянные ящики валяются вокруг станин, я хватаю со стопки все новые и новые. На дорогу смотреть некогда, но, похоже, там опомнились. За нашим окопом разорвался снаряд, другой, в промежутках между выстрелами слышу свист пуль над головой.
— Фугасный! Фугасный давай!
Ага, танкисты стали пехотой. Даю! Бах! Бах! Бах!..
— Еще!
— Нету! Кончились снаряды!
Полковник поворачивает черное от пыли и пороховых газов лицо. Мгновение сверлит бешенным взором, затем обмякает.
— Уходим, сержант!
Хватаем винтовки и скатываемся по обратной стороне склона. Успеваю бросить взгляд на дорогу: все семнадцать танков стоят неподвижно, некоторые горят. Меж бронированными машинами мелькают черные фигурки. Будет у немцев разбор полетов! Классическая огневая засада, ее часто применяли абреки. Поражаются первая и последняя машины колонны, остальные интенсивно обстреливаются, после чего — быстрый отход. Почти всегда без потерь нападавших.
— Бегом, сержант! Самолеты налетят!
Самолеты и вправду появляются, но кроны сосен уже сомкнулись над головами. Здесь нас не обнаружить, хорошее место — лес. «Зеленка»…
Я не предполагал тогда, сколько буду скитаться в этой «зеленке». Немцы ушли вперед, следовало пробираться к своим, но полковник не спешил. Мы постоянно обрастали людьми: много потерявшихся и растерянных людей в военной форме бродило по лесам. Они с радостью приставали к любому, кто знал, что делать. Сан Саныч знал. Мы называли его «полковником», хотя формально Саныч был военным инженером первого ранга, то есть подполковником. «Полковник» нам нравилось больше. Когда сил и боеприпасов набиралось достаточно, Сан Саныч устраивал немцам пакость. Вермахт катился вперед легко, фашисты расслаблялись. Полковник не упускал случая напомнить, что в пруду помимо карасей водятся и щуки. Мы громили отставшие тылы, склады; ударив, немедленно уходили. Потери несли огромные. Не столько убитыми и ранеными, сколько дезертирами. Осознав, что полковник не намерен вести их туда, где политрук, старшина и полевая кухня, многие уходили. Полковник не удерживал — невозможно. Ночь, лес, кто-то отлучился от костра… Через день-другой к нам приставали другие. Наши дезертиры попадали в плен, от них немцы узнали о «группе Самохина». Так рассказали захваченные нами «языки». Сан Саныч допрашивал их сам, немецким он владел в совершенстве; тогда я еще не знал, почему. Обеспокоенные появлением диверсантов в тылу, немцы выслали айнзац-группу. Она шла по нашим следам упорно, как свора овчарок. Приходилось петлять, нередко после очередного удара полковник вел нас на Запад, где группу никто не ждал, и мы затаивались на недельку. После одной такой лежки мы и вышли к хутору Юзефы…
Не сразу, но я понял: Сан Саныч не спешит к линии фронта. Меня это смущало, я спросил напрямик. В ту пору мы как раз остались вдвоем: приставшие бойцы разбежались. Полковник пожал плечами:
— Зачем мне туда?
Видимо, мое лицо выдало чувства, потому что Сан Саныч поспешно добавил:
— 17 июня меня арестовали…
В тот день мы говорили до темна, а потом — до рассвета. Полковника словно прорвало, я ему внимал. Военный инженер фон Зейдлиц (Самохиным он стал позже) поступил в Российскую императорскую армию еще до Первой Мировой. При царе успел стать штабс-капитаном, но потом Февральская революция. Армия стремительно разваливалась, офицеры и солдаты разбегались в разные стороны, фон Зейдлицу бежать было некуда. Приставка «фон» к фамилии говорила о происхождении, но не богатстве, военный инженер жил на жалованье. Без особой охоты, но и душевных мук Сан Саныч вступил в Красную Армию — здесь одевали и кормили. Это было в традициях семьи. Фон Зейдлицы перебрались в Россию в восемнадцатом веке и с той поры верно служили стране, мало обращая внимание на политику верхов. Большевики захватили власть в ходе государственного переворота, но такое случалось и ранее. Восшествие на престол Екатерины II, ее внука Александра I… Строго говоря, мятежниками были добровольцы, убежавшие на Дон. Фон Зейдлиц им сочувствовал, но убеждений не разделял.
— Среди них не было помещиков и капиталистов, как писали потом ваши, — рассказывал полковник. (Я не стал уточнять насчет «наших»). — Офицеры, жившие, вроде меня, на жалованье, юнкера, гимназисты… Антон Иванович Деникин, к вашему сведению, вообще сын крепостного. Его отец, забритый в рекруты, дослужился до майора, но сын его дворянства не получил, учился на медные деньги. Корнилов, Алексеев, Кутепов, Краснов — никто из них не был богат. Богатые убежали за границу еще до Гражданской…
В Красной Армии фон Зейдлиц взял фамилию матери и стал Самохиным — поменять имя было несложно. Служил добросовестно, но в боях не отличился — инженер. По окончании Гражданской строил военные объекты: сначала линию укреплений на старой границе, после 17 сентября 1939 года — на новой. Слыхал ли я о генерале Карбышеве? Я ответил, что слыхал, но не стал уточнять подробностей. Замученный немцами советский генерал, попавший в плен и облитый водой на морозе… Самохин служил под началом Карбышева. Замечательный человек и офицер! К сожалению, он не спас Самохина, когда случилась беда. Не смог. Постройка укреплений на новой границе отставала от графика. Как всегда бывает в таких случаях, искали виновных. Нехватка материалов, рабочей силы, оборудования никого не интересовали — требовались жертвы. Военный инженер первого ранга, служивший в царской армии и некогда носивший немецкую фамилию (Сан Саныч это скрывал, но докопались) на такую роль подходил как нельзя лучше. Самохина арестовали 17 июня, а 22 случилась война. Эвакуация, этап, воздушный налет, побег… Пояс с наганом и фуражку Самохин позаимствовал у погибшего конвойного, гимнастерка с петлицами его. Пока командир Красной Армии не осужден, никто не смеет снять с него знаки различия…
Спешить Сан Санычу за линию фронта было незачем. Там его ждали допрос и суд — скорый и неправый. Немец, не достроивший линию укрепления, которую фашисты прошли, как нож сквозь масло, великолепно подходил на роль шпиона и предателя. Я не удержался и спросил: почему он воюет за СССР? Почему не перешел на сторону немцев? Его бы приняли с распростертыми объятиями. Сан Саныч обиделся:
— Молодой человек, я давал присягу! Фон Зейдлицы всегда ей верны, — он помолчал и добавил: — Наверное, дело в крови. У русских царей ко времени Николая II в жилах текла сплошь немецкая кровь. У фон Зейдлицев — наоборот: все женились исключительно на русских. Так что я Самохин — по происхождению и убеждениям. Фашисты топчут мою землю, убивают моих соплеменников, я не могу стоять в стороне, — он помолчал и добавил: — А вы, сержант, ничего не расскажете?
Я растерялся. Чего он хочет?
— Мне надоел человек, изображающий потерю памяти! Сержанты, призванные из запаса, так не воюют. Кто вы на самом деле?
Я застегнул воротничок гимнастерки.
— Старший лейтенант Российской армии Петров! Вячеслав Анатольевич…
— Какой армии? — удивился он.
— Российской, товарищ полковник!..
* * *
Бам! Бам!.. Земля вздрагивает от разрывов, с перекрытия блиндажа сыплется земля. Взрывной волной сорвало брезентовый занавес входа, внутрь вливается серый рассвет.
— Артподготовка! — Сергей не замечает, что кричит. — Наступление!
Застегиваю ремень с подсумками, снимаю со стены «маузер».
— Погоди! — останавливает он. — В блиндаже безопаснее.
— Мне надо в печку!
— Зачем?
— Оттуда лучше целиться!
— Тебя накроют первым же снарядом!
— Они бьют по траншеям, печки им не интересны.
Миша смотрит недоверчиво.
— Я буду стрелять в офицеров! Из траншеи неудобно!
Он отступает. Выбегаю наружу и, петляя, мчусь к бывшей деревне. Петлять глупо: пушки стреляют по площадям, а не отдельным фигурам, но инстинкт не переломить. Уф, вот мы и дома! Глиняный свод русской печки — плохая защита от снарядов, откровенно говоря, совсем никакая, но на душе спокойней. Как ребенку, говорящему: «Я в домике!»
Достаю бинокль. Наши транши затянуты дымом, время от времени взрывы поднимают в воздух тонны земли. Все реже и реже — артподготовка стихает. Постепенно рассеивается и дым. Передний край не узнать: воронки, разметанное проволочное заграждение. В траншеях появляются серые папахи — Говоров поднял людей. Не похоже, чтоб число их сильно убавилось. В траншеях полного профиля, блиндажах и «лисьих норах» гибнут только от прямого попадания — то есть редко.
Перевожу взгляд на немецкий край. Там, клубясь, выплескиваются наружу серо-зеленые цепи. Твою мать, да сколько их! Уж мы вас душили, душили; душили, душили… Скольжу окулярами по фронту немецкой пехоты. Есть! Второй, третий… Цвет формы у солдат и офицеров одинаковый, но офицеры без винтовок. Да и руками размахивают…
Пехота тронулась. Идут неспешно, выставив перед собой штыки. Ландвер! Это ж вам не парад. Пора! Целюсь. Бах — есть! Бах — второй! Обойма кончается быстро, вставляю новую. Бах!.. Гильзы сыплются на глиняный под печи, раскатываются в стороны. В германском строю падают и солдаты — это ведут огонь ширванцы. Неплохо стреляют, но немцев — туча! Пулеметы пока молчат. Ну, еще!
Офицеров больше не замечаю, стреляю в первого, кто покажется мало-мальски на него похожим. Наконец заговорили пулеметы. Цепь атакующих заколебалась и устремилась обратно. Быстро-быстро, много скорей, чем наступала. Прыгают в свою траншею — кончилось наступление! Немец — хороший солдат, его учат воевать долго и безжалостно. Без слепого повиновения не выучить, но в этом повиновении кроется слабость. Если командир убит, солдат быстро соображает, что жизнь у него одна…
Выбираюсь из печки, иду к своим. Я расстрелял три обоймы, пятнадцать патронов. Всего-то. Треть наверняка мимо — под конец лупил почти навскидку. Однако наша доля в этой победе есть. Пулеметы на флангах роты не умолкают — бьют по цепям, наступающим на других участках. Если немцы там прорвутся, здесь будет кисло, дойдет до штыковой. Немцев впятеро больше….
Бог миловал — германец откатился по всему фронту. Наверняка повлиял пример побежавшего первым батальона. Миша уверен: против нас шел батальон, не меньше, и остановил его я. Поправляю:
— Стреляли все!
— Германских офицеров убил ты! — возражает он. — Не спорь, в бинокль видел — падали один за другим. Какое войско без начальника? Вот батальон и побежал.
Миша садится сочинять донесение, я бездельничаю. Выпить бы, да нечего. Ни один солдат перед боем не станет сохранять выпивку, потому как есть основания полагать: ей воспользуется другой. Во всех войнах, которые пришлись на мою долю, выпивку достать было можно. Здесь сухой закон. Эту войну Россия проиграет…
Донесение оправлено с нарочным, занимаемся ранеными. Их немного, как и убитых, но в роте каждый человек на счету. Мертвых хороним (заупокойную читает Миша — полковой священник убыл по ранению), раненых отправляем в тыл. Настает время обеда, и его — о, чудо! — доставляют к траншеям. В отличие от выпивки кормят здесь славно. Немцы настолько подавлены неудачей, что не стреляют. Не успел поесть, как вызывают в штаб полка: начальник не поверил донесению. Подробно рассказываю полковнику и офицерам, как воевал, демонстрирую винтовку и даже содранную табличку с именем снайпера — завалялась в кармане. Табличка производит впечатление большее, чем рассказ. Полковой командир обещает доложить обо мне генералу Бржозовскому.
К вечеру из штаба приходит посыльный: вольноопределяющемуся Красовскому утром прибыть в крепость. Опять допрос! Мысленно желаю Мише здоровья, но поздно. С рассветом придется в путь. До крепости топать и топать…
* * *
Адъютант влетает в кабинет встрепанный.
— Ваше превосходительство! Только что телефонировали! Царский поезд — на станции Белосток! Государь император со свитой пересел в автомобили и, самое позднее час, будет в Осовце!
Начальник крепости белеет и машинально одергивает мундир. Г-мм, а мне генерал понравился. Решительный, боевой. Что ж бледнеет? Начальства боимся больше, чем немцев?
— Почему не уведомили заранее? — морщится Бржозовский.
— Государь в Белостоке проездом — следует в Гродно. Изъявил желание внезапно. Окружение государя возражало — крепость простреливается насквозь, однако император настоял. Велеть построить личный состав?
— А если обстрел? Людей погубим.
Ай да, генерал! Молодец, людей жалеет. Что до императора… Его сюда не звали.
— Прикажете собрать героев? Государю представить.
— Здесь каждый герой, — бормочет Бржовский, — все под огнем. Впрочем… Гляньте последние донесения и соберите, кого найдете. Вот! — указывает на меня. — Один уже есть. Займитесь этим, голубчик, а я — встречать!
Спустя полчаса на искалеченной разрывами площади перед канцелярией коменданта стоят взвод почетного караула от инфатерии и герои. Десятка полтора артиллеристов и несколько приблудных, среди которых и наш вольноопределяющийся. Понятно: батареи — в самой крепости, позиции пехоты — далеко, за полчаса не вызовешь. Среди артиллеристов только двое офицеров, остальные нижние чины. У хорошего генерала и командиры хорошие — не забыли о солдатиках. В моем времени отцы-командиры не преминули бы распилить ордена. Фронтовикам перепадали крохи. Получить медаль или крестик от царя для парня из деревни или глухого местечка… У-у, как зауважают!
Ждем, но царя все нет, наверное, осматривает окрестности. Глянуть есть на что. Площадь внутри крепости буквально перепахана разрывами. Воронки засыпаны — и не по первому разу, а вот разбитые здания не восстанавливали — рук не хватает. Саперы при первой же возможности исправляют укрепления и форты. Несмотря на ремонты, выглядят укрепления ужасно. Снаряд калибра 42 сантиметра он и в начале XX века 42 сантиметра…
Все входы и выходы на площадь, а также в здания, заняты молодцами в штатском и шинелях с краповыми петлицами и васильковыми кантами. Жандармы и агенты царской охраны. Действуют они сноровисто. Думал, станут нас обыскивать, но своим солдатам царь доверяет. Офицер же за попытку обыска может и в морду дать. Даже «Маузер» мой не отобрали, покосились только. Винтовка не заряжена, но патроны в подсумках.
Дождались — на площади появляется группа авто. Пассажиры выходят. Золото погон, блеск шнуров аксельбантов, мельканье лент орденов свиты. Если б немцы так рядились, оптический прицел не понадобился бы. Впереди шагает среднего роста, невысокий худощавый полковник в солдатской шинели и фуражке, рядом с ним — комендант, генерал Бржозовский. Царь…
Николай останавливается перед строем.
— Здорово молодцы, защитники Осовца!
— Здравия желаем, ваше императорское величество!
Рявкнули неплохо, хотя не очень стройно. Ну, так без тренировки. Николай идет вдоль строя, останавливаясь перед каждым. Я стою на левом фланге, так что буду последним. Бржозовский докладывает:
— …Несмотря на большие потери, батарея продолжала отвечать на огонь противника и подавила его. Штабс-капитан Овечкин проявил исключительную храбрость…
Доклады похожи, как близнецы, что не удивительно. По тебе стреляли, ты отвечал. Не спрятался, не убежал — уже герой. Без всякой иронии. Кто не верит, предлагаю посидеть под артиллерийским налетом… После каждого доклада царь протягивает руку, адъютант вкладывает в нее награду. Один из офицеров получает орден Святого Георгия IV класса. Такими орденами в России не разбрасываются, в самом деле герой. Даже в квадрате: на эфесе шашки артиллериста медальон с белым крестиком и полосатый темляк желто-черных цветов. Золотое, то есть Георгиевское оружие. Солдаты получают Георгиевские кресты и медали, нижним чинам ордена не положены. У половины артиллеристов это уже не первый крестик. Разглядываю августейшую особу. Эмоций никаких: будто я в музее, и экспонаты здесь двигаются. К тому же Николай II не Петр I. Невысок, лицо учителя сельской школы. Ему бы в такой должности и пребывать, возможно, спас бы семью. Ладно, сам сгинул вместе с немкой своей отмороженной, так ведь дети! Больной мальчик и четыре девочки, юные, не целованные. А их — штыками!..
Николай останавливается напротив меня. Грустные, усталые глаза.
— Вольноопределяющийся Ширванского полка Красовский, — докладывает комендант. — Проявив находчивость, застрелил германского обер-лейтенанта, меткого стрелка, специально присланного для истребления защитников крепости. Оный стрелок убил нескольких офицеров Ширванского полка и много нижних чинов. Кроме германского офицера, вольноопределяющийся застрелил и его помощника. Ночью пробрался на позиции противника, забрал оружие убитых, а также захватил и привел пленного, который сообщил о предстоящем наступлении германцев. Мною были предприняты меры, наступление отражено. Вольноопределяющийся отличился и здесь: метким огнем из германской винтовки с телескопическим прицелом застрелил всех офицеров, наступавшего против его роты германского батальона, вследствие чего противник обратился в бегство.
— В самом деле? — Николай удивлен.
Бржозовский смотрит на меня. Снимаю с плеча винтовку. Охрана царя напрягается, но я протягиваю ее Николаю.
— Взгляните, ваше величество! («Императорское» я проглотил, обойдется). С таким прицелом за версту можно.
Царь берет винтовку, поднимает и смотрит в прицел. Многозначительно кивнув, возвращает. Я протягиваю табличку.
— Германцы выделывают такие винтовки специально для метких стрелков. Вот и нам бы! Скольких бы перестреляли!
— Барон фон Мёльке! — задумчиво говорит Николай, разглядывая табличку. — Интересно, из каких это Мёльке?
Мое предложение он словно не заметил. Возвращает табличку.
— Чем занимались до войны, вольноопределяющийся?
— Учился коммерции в Лондоне.
Он поднимает брови.
— С началом войны вернулся в Россию и поступил в школу прапорщиков. Выпущен в Ширванский полк в марте сего года в офицерском чине.
Брови лезут еще выше. Бржовский морщится: не следовало говорить. По фигу, пусть знает!
— Разжалован военным судом за дуэль с князем Бельским.
Николай протягивает руку, адъютант вкладывает в нее серебряный крестик. Царь прикрепляет его к моей шинели. Отступает.
— Хотел поздравить вас подпоручиком, но поскольку вы разжалованы, верну прежний чин. Поздравляю прапорщиком!
— Рад стараться, ваше императорское величество!
Едва свита отошла, подлетает какой-то юркий тип в штатском и с блокнотом в руках.
— Господин прапорщик, примите и мои поздравления! Репортер газеты «Русские ведомости» Подколзин. Разрешите парочку вопросов? Наш читатель интересуется героями Отечества!
— В самом деле?
— Не сомневайтесь! Как вы убили столько германцев?
— Целился и стрелял.
— Вы веселый человек, прапорщик! — он хихикает. — Я понимаю. Скольких германских офицеров вы застрелили?
— Не считал.
— Сколько офицеров в германском батальоне?
— Не знаю. В нашем где-то пятнадцать. Если полный штат.
— Сколько раз вы стреляли?
— Пятнадцать.
— Благодарю, прапорщик! — он улетает…
Неделю скучаем в окопах. Германец после полученного урока более не наступает, даже не делает попыток. Наоборот — окапывается и строит укрепления. Мы занимаемся тем же. Поскольку я снова офицер, то руковожу работами, проще говоря, гоняю солдат. Последствия артподготовки давно ликвидированы: укреплены стенки траншей, поставлены новые проволочные заграждения, исправлены блиндажи и отрыты «лисьи» норы. Более не требуется, но мы продолжаем копать. Миша боится, что солдаты обленятся или попадут под нехорошее влияние. В соседнем полку нашли подрывные брошюры, после чего поступило указание: занимать солдат работами. Не копают только офицеры и денщики. У Говорова — это Хвостов, у меня — Нетребка. Хитрый болванщик, услыхав о моем производстве, прибежал проситься, и я не смог отказать. Нетребка очень старается. В моем блиндаже (у меня теперь есть персональный блиндаж) чисто, тепло и сухо. Меня вовремя кормят, пища всегда горячая. Нетребка расстарался на счет выпивки: с моего разрешения отлучился в Белосток и вернулся с четвертью водки. Жидкость отдает сивухой и дерет горло, от нее болит голова. Но другого в прифронтовой полосе не достать: винокуренные заводы закрыли еще в 1914-м. Тоска…
Меня вызывают в штаб полка. В просторном блиндаже помимо полкового командира двое офицеров с эмблемами летчиков. Одного узнаю — поручик Рапота. Сергей улыбается и подмигивает украдкой. Второй летчик в звании штаб-капитана. Знакомимся — начальник крепостного авиаотряда Егоров. Штабс-капитану за тридцать, он высок, строен и широк в плечах. Мужественное лицо с глубокой ямкой на подбородке, щегольски закрученные усы, умные глаза.
— Читали, прапорщик? — полковник протягивает газету. Статья на первой странице обведена карандашом. Грифелем подчеркнуты строки во второй колонке.
«…В числе героев-защитников Осовца Его Императорскому Величеству был представлен вольноопределяющийся Красовский, выказавший беспримерную храбрость и находчивость в боях. Застрелив германского обер-лейтенанта, вольноопределяющийся завладел его оружием — винтовкой с телескопическим прицелом. Когда германцы пошли в наступление, вольноопределяющийся из этой винтовки в одиночку убил пятнадцать офицеров батальона противника, после чего германцы, устрашившись за свои жизни, позорно бежали. Его Императорское Величество пожаловали вольноопределяющемуся Георгиевский крест и поздравили прапорщиком. Растроганный герой со слезами на глазах облобызал руку самодержца…»
— Вранье! — едва удерживаюсь от желания порвать газету.
— Что? — это Егоров.
— Не лобызал я руку! Тем более, со слезами.
— А германские офицеры?
— Пятерых я точно подстрелил, но столько… Этот… — от возмущения не нахожу слов. Неужели щелкоперы одинаковы во все времена? — Он спросил, сколько раз стрелял, я ответил: пятнадцать. Я не говорил, что столько убил…
— Одного с трех патронов — отличный результат! — заключает Егоров. — Мне говорили, у вас «бреве» авиатора. Можно взглянуть?
Достаю синюю книжечку. Штабс-капитан внимательно читает и протягивает обратно.
— Годится!
Недоуменно смотрю на полковника.
— Штабс-капитан Егоров ходатайствует об откомандировании вас к нему, — поясняет полковник. — Авиаотряду очень нужны летчики-наблюдатели и меткие стрелки одновременно. От авиаторов нам большая польза, но, честно говоря, я в затруднении — в полку нехватка в офицерах. Пополнение обещали, но пока нет. Решайте сами, господин прапорщик!
— Поручик рекомендовал вас лучшим образом, — добавляет Егоров, указывая на Рапоту. — Хочет в свой экипаж — у него погиб наблюдатель. Согласны?
Задумываюсь. Я сдружился с Говоровым, да и солдат узнал. Однако сидеть в окопах… Бои у крепости стихли, судя по всему, надолго. Нынешние летчики летают на гробах с колесиками и без парашютов — их или нет, или еще не изобрели. Не задержусь. Это с одной стороны. С другой — падать с высоты и при этом гореть… Впрочем, предшественника наверняка застрелили.
Три офицера терпеливо ждут. Сергей за спиной Егорова энергично делает знаки.
— Могу я взять с собой денщика?
— Извольте! — пожимает плечами полковник.
— Я согласен!
Штабс-капитан жмет мне руку. Ладонь у него маленькая, но пожатие сильное. Козыряю и выхожу. Следом вылетает Рапота.
— Павел, как я рад! Опять вместе!
Угу. Надеюсь, князья близ отряда не водятся. Появляется Егоров.
— Документы готовят, поторопитесь со сборами, господин прапорщик! Автомобиль ждет.
Нам собраться — лишь перепоясаться…
6
Представьте большую калошу с острым мыском. Только калошу не резиновую, а выклеенную из деревянного шпона. Называется она «гондола». В калоше достаточно места для двух человек (второй сидит за первым) и мотора «Сальмсон». Мотор позади, потом, что винт толкающий. Снизу к калоше приделано полотняное крыло, еще одно парит над гондолой. Фермы из тонких труб бегут от корпуса назад и заканчиваются хвостовым оперением. Калоша имеет шасси — четыре колеса, причем, передние, как у велосипеда, со спицами. Это «Вуазен» — новейший аэроплан французской системы, разведчик и «бомбоносец» в одном лице. Лучший на сегодняшний день самолет. Истребителем «Вуазен» пока не считается — по причине отсутствия такого понятия как «истребитель».
Удивительно, но эта калоша летает. Сергей уверяет, что замечательно. В доказательство меня усаживают позади поручика Рапоты, механик ручкой как на автомобиле заводит мотор. Калоша, подпрыгивая, бежит по полю и взмывает в воздух. «Взмывает» — это слишком оптимистично, правильнее сказать: вползает. Крейсерская скорость чуда конструкторской мысли — около ста километров час, до которых еще нужно разогнаться. Мотор за спиной ревет, радиаторы охлаждения позади моей головы, как крыша дома. Если в них попадет пуля, мне будет хорошо. Тепло и сыро. Даже слишком тепло…
В детстве я часто видел сон. Я на высокой фабричной трубе, на самой верхушке. Как я попал туда, непонятно, но теперь лихорадочно пытаюсь слезть. В результате срываюсь, падаю — и просыпаюсь. Примерно такое же чувство сейчас. Я не страшусь самой смерти, но мне важно, какой она будет. Падать с высоты жутко…
Рев мотора не дает возможности делиться чувствами. В гондоле летящего аппарата общаются жестами и записками. Блокнота с карандашом у меня нет, остается расслабиться и получать удовольствие. Осторожно выглядываю за борт гондолы. «Вуазен» кружит над аэродромом. Хорошо видны полотняные палатки-ангары для аппаратов, сараи отрядного обоза и мастерской, в отдалении видны домики местечка, где разместились квартиры офицеров и казарма нижних чинов. Рядовых и унтер-офицеров у нас много: механики, мотористы, шоферы и обозные возницы, денщики офицеров и просто солдаты — ставить и снимать ангары, охранять самолеты. Аэроплан положено хранить в сухом месте — от влаги намокают полотняные крылья, да и дерево силового каркаса коробится. Лак, которым они покрыты, не всегда спасает. Потому авиаторы не летают в дождь, опасаются заходить в облака: можно потерять ориентировку. Чудо техники! Другой нет. Это первая война, в которой авиация воюет.
«Вуазен» заходит на посадку. Внезапно выключается мотор, и мы планируем в полной тишине, если не считать свиста ветра в расчалках крыльев аэроплана.
— Славный аппарат! — кричит Рапота восторженно. — Сам садится!
«Вуазен» и в самом деле легко касается колесами земли и после короткого пробега останавливается. К нам бегут. Не дожидаясь специальной лесенки, выбираюсь из гондолы. На мне кожаная куртка и авиационный шлем, обтянутой коричневой клеенкой. А вот сапоги свои: нужного размера ботинок не нашли. Фельдфебель обещает раздобыть в скором времени. Снимаю шлем и авиационные очки. Без них в воздухе нельзя — кабина открытая.
— Отчего заглох мотор? — это моторист. Он запыхался и дышит тяжело.
— Я выключил! — успокаивает Сергей. — Хотел показать прапорщику планирование.
— А если б ветер? — это Егоров. По нему не видно, чтоб бежал, но штабс-капитан появился одновременно с механиками. — При неработающем двигателе хватило б порыва. Сергей Николаевич, сколько можно?
— Виноват, Леонтий Иванович!
По лицу Рапоты не видно, что раскаивается. Похоже, выговоры для него привычны.
— Что скажете, Павел Ксаверьевич? — Егоров смотрит на меня. Впервые ко мне обращаются не по званию. Это знак.
— Надо оснастить сиденья привязными ремнями.
Сергей морщится, на лице штабс-капитана немой вопрос.
— Однажды поручик Рапота уже выпал из гондолы. Если это случится на высоте, я не смогу посадить аппарат, нет опыта и навыков. Аппарат сломается, а это убыток казне. К тому же аэропланов у нас мало. Мы должны воевать.
Егоров смотрит испытующе, но на моем лице только забота о матчасти. На собственную жизнь нам плевать, что правда. Трусов в этой армии не любят, впрочем, как в любой другой, но пусть кто скажет, что Красовский трус! Про дуэль с князем знают не только в крепости.
— Резонно! — заключает штабс-капитан. — Синельников! (Немолодой механик выступает вперед). Слышали?
— Так со склада взять и поставить, — степенно говорит Синельников. — Ремни были, их благородие велели снять.
— Верните на место! А навыки… — штабс-капитан делает паузу. — Будем восстанавливать, Павел Ксаверьевич!
Сергей надувается. Улучив момент, отвожу его в сторону, объясняю: боюсь высоты, а просить ремень только себе — стыдно. Серега мгновенно оттаивает. Наличие ремня не обязывает пристегиваться. Подхожу к Синельникову. Выслушав мою просьбу, он задумывается:
— Винтовочку вашу можно?
— Денщик принесет. Осторожней с прицелом — хрупкая вещь.
— А вы снимите! — советует Синельников.
Резонно. Винтовку придется заново пристрелять, но штабс-капитан обещал целый ящик патронов. Здесь говорят не «патронов», а «патрон». Откуда в авиаотряде боеприпасы калибра 7,92, остается гадать.
Фельдфебель приглашает обедать. Фамилия у него смешная — Карачун. Фельдфебель заведует хозяйством отряда, тяготы и лишения военной службы отразились на нем своеобразно: за щеками Карачуна не видно шеи, вернее то, что ею считается. Тело каптенармуса избавилось от излишней части, прирастив голову сразу к плечам. Кормят авиаторов сытно и вкусно, я успел оценить. Солдатам тоже перепадает. Нетребка это заметил, теперь обещает за меня молиться. Он безмерно счастлив переместиться из окопов, где холодно, сыро и смерть бродит рядом, в этот рай. Однако рай здесь мнимый. Войну крепостной авиаотряд начал с десятью штатными авиаторами, остались четверо. Я не в счет. Трое погибли, двое пропали без вести, один убыл по ранению, кого-то отослали на переподготовку. Среди нижних чинов тоже потери. Артиллерия противника пока не достает до летного поля, но аэропланы бросают бомбы. Плюс аварии случаются… Сразу за аэродромом — крепостное кладбище, крестов с пропеллером на нем не один.
Обедаем молча. Солдат в белом фартуке и белых перчатках подает блюда. Офицерам меня представили вчера. Помимо Егорова и Рапоты, в отряде еще один пилот — военлет подпоручик Турлак. Штабс-капитан Зенько — наблюдатель, как и я. Сергей рассказал, что у немцев пилотов воспринимают, как водителей автомобилей, поэтому большинство из них солдаты. Авиация предназначалась исключительно для разведки, поэтому пилот должен вести аппарат, офицер — наблюдать за противником. У нас первыми военными наблюдателями тоже были офицеры. Генерального штаба! В авиаотряды они не доехали, потерялись где-то в пути. Вакантные места заняли офицеры, прикомандированные от разных полков и захотевшие летать. С началом военных действий выяснилось: наблюдатели гибнут часто. Во-первых, с аппаратов противника первым делом бьют в них. Наблюдатель не только носитель важных сведений, но и стрелок. Обезвредил наблюдателя — делай с безоружным пилотом, что хочешь. При авариях (процент не боевых потерь в авиации достаточно велик) наблюдатели тоже гибнут. Это мне поведал Рапота. Сергей настолько рад моему появлению, что не задумывается, приятны ли новичку эти сведения.
Из-за потерь в личном составе офицерские квартиры пустуют, но Сергей уговорил меня жить вместе. Я не против — вдвоем веселее. В первую ночь мы болтаем до петухов. Поручик настолько любит авиацию, что готов говорить о ней сутками. Теперь и я кое-что знаю. До войны первые наши авиаторы обучались в основном во Франции, куда ехали собственной охотой. Получив «бреве» (летное свидетельство), покупали аппарат — обычно за деньги какого-либо богатея, и везли его в Россию. Купцы и фабриканты давали деньги охотно — полеты стали выгодным бизнесом. Аппараты возили по городам России, зазывали публику. Народу собирались стадионы, как в мое время — на концерты певцов. Прибыль текла в карманы владельцев аппаратов, летчикам тоже перепадало. Для привлечения внимания авиационные продюсеры устраивали всевозможные соревнования. Кто первым преодолеет маршрут, пролетит дальше, поднимется выше… В соревнованиях летчики часто падали, ломали руки-ноги или вовсе гибли. Аппараты были несовершенными (ага, сейчас чудо инженерной мысли!), на обслуживании продюсеры старались экономить. (Это нам знакомо). Желающие занять место погибшего находились: авиация стала популярной. Первая Балканская война 1912–1913 годов, в которой участвовали русские пилоты (вот, что там делал Егоров!), показала, чего стоит авиация. В Российской императорской армии стали спешно формировать авиационные части, потребовалось много летчиков. Знаю ли я, что наш авиаотряд был создан в числе самых первых? Теперь буду знать. С началом войны в военную службу вступило немало гражданских пилотов. Их хватило на целый отряд, он так и называется — «Добровольческий». Дворян среди военлетов мало. В нашем отряде только Зенько, да и он из шляхтичей. Турлак тоже намекает о своем шляхетстве, но верить ему не стоит — доказательств не предъявил. По слухам, отец Турлака держит лавку в Гродно, но подпоручик в том не признается, темнит. Егоров честно сказал: происхождением из детей офицеров. Про Рапоту я знаю. А вот у немцев наоборот, что ни авиатор, то барон. Простолюдину в офицеры там выбиться сложно. (Ну, это пока. После того, как баронов проредят на фронте…) Наших летчиков готовят в офицерских воздухоплавательных школах в Гатчине и Севастополе, при аэроклубах в Москве и Одессе, но их все равно не хватает — потери на фронтах большие. Это нам известно…
После обеда учусь читать карты (они не сильно отличаются знакомых мне), делать нужные пометки, сбрасывать бомбы и флешетты. Флешетты — стальные дротики размером с карандаш. Нижняя часть заостренная и круглая, в верхней — ребра-стабилизаторы. Очень похоже на «дартс» моего времени, только без острия-иглы. Флешетте она не требуется: при падении с высоты «карандашик» пробивает толстенную доску. Стальную каску тоже пробьет, если не соскользнет с округлых боков. Изобрел флешетты француз, но применили немцы. Французское правительство новинку не оценило, германцы купили патент. На своих флешеттах они так и пишут: «изобретено во Франции, сделано в Германии». По окопам флешетты применять бесполезно, а вот по противнику на открытой местности получается славно… Флешетты загружают в деревянные ящики, при атаке открываем крышку и сыплем супостату на голову. С бомбами сложнее. Их кладут наблюдателю в гондолу или развешивают за проволочные ручки по бортам — выбор способа зависит от калибра. Бомбы бросают вручную. Попасть трудно, прицелов еще нет, но важен не прямой результат, а психологический эффект. В войсках не любят, когда бомбят с воздуха. (В сорок первом мы тоже не любили).
Готовят меня усиленно, что объясняется просто: скоро боевой вылет. Мы получили задачу: уничтожить или хотя бы повредить недавно появившийся германский аэростат. Его используют для корректировки артиллерийского огня. Осовец держится не только храбростью защитников. Крепость, слава Богу, не в кольце, тыл открыт, в Осовец потоком идут подкрепления, оружие и боеприпасы. Немцам это очень не нравится. Они ведут огонь по подъездным путям, отчего снабжать крепость приходится ночью. Это вызывает затруднения. Без корректировщика немецкая артиллерия ослепнет. Можно корректировать и самолетов, мы этим тоже занимаемся, но это сложно и муторно, а с аэростатом у артиллерии прямая телефонная связь.
Сбить аэростат чрезвычайно трудно. Наши шрапнельные снаряды к нему не долетают — немцы все просчитали. К тому же пули, как шрапнельные, так и обычные, аэростату не опасны. Дырки в оболочке команда заклеит, подкачает баллон водородом — и корректировщик снова в воздухе. Нужны зажигательные пули, но их у нас нет. Французы бросают на аэростаты специальные флешетты, рвущие оболочку и поджигающие газ — их пока не имеется. Лучший способ уничтожить аэростат — разбомбить его на земле. Близкий разрыв не только посечет баллон осколками и подожжет газ, но и уничтожит лебедку с командой. Однако аэростат постоянно перемещают и маскируют, поднимают и спускают на рассвете, еще — в сумерках. Ночью аэропланы пока не летают, бомбить в темноте трудно. Остается атаковать аэростат днем, бомбами и флешеттами, в воздухе. Сообщая это, Егоров морщится. Попасть в подвижный объект, да так, чтоб бомба не скользнула по округлой оболочке, практически невозможно. Пехотные флешетты аэростату как слону дробинка. К тому же немцы прикрыли корректировщик батареей воздухобойной артиллерии и пулеметами. Плотно прикрыли. Словом (штабс-капитан это не произносит, но все понимают), в бой идут смертники. Ничего не поделаешь, приказ. Офицеры встречают сообщение молчанием. Ерзаю на стуле. Неприлично новичку лезть с советами, но дело требует.
— Надо заставить немцев спустить аэростат!
— Как? — Егоров смотрит на меня.
— Убить наблюдателя!
Штабс-капитан кивает: аэростат без наблюдателя противнику не нужен. Но попасть в человека в корзине… Пока будем кружить и стрелять, немцы внизу дремать не будут. Пулеметные очереди превратят аэропланы в решето. Целиться легко — аэростаты не поднимают слишком высоко. Погибнем попусту. Нападение должно быть неожиданным, тогда есть шанс.
— По своим самолетам немцы стреляют?
Все смотрят недоуменно. Объясняю. Штабс-капитан качает головой:
— Хитрости на войне дозволяются, но менять опознавательные знаки… Это пиратство! Нас осудит мировая общественность! Как хотите, господин прапорщик, но…
Господин прапорщик хочет, чтоб летчики вернулись из полета. Лично ему не обязательно. Чистоплюи! Война на уничтожение, а они играют рыцарей. Ладно, есть еще вариант.
— Можно пробовать! — светлеет лицом Егоров. — Только все просчитать.
Считаем, согласовываем. Очень важно выдержать время. Штабс-капитан Зенько и я сверяем часы. Совещание закончено, иду к «Вуазену». Синельников установил пулеметный станок и демонстрирует работу. По обоим бортам гондолы — опускающиеся дуги-упоры, их соединяет трубчатая рельса для каретки с гнездом. Просто и со вкусом: сунул шкворень в гнездо — и целься. На шкворне должен быть пулемет, но его нет. Егоров испросил пулеметы, но их не прислали. Стальные дуги в поднятом состоянии держат упор над головой пилота. Стрелять теперь можно не только в стороны, но и прямо по курсу. Упор, подвижный: вверх-вниз, вправо-влево. Синельников демонстрирует работу. К цевью винтовки прикручен штырь-шкворень. Забираюсь в гондолу, испытываю. Красота! Мой «маузер» стал авиационным. Время пулеметов на аэропланах еще пришло, так хотя бы винтовка. Механик предусмотрел и походное крепление для «маузера», не все ж наизготовку держать. Ставить удобно, достать легко — все под рукой. Кулибин!
Когда всё уходят, нахожу механика.
— Как вас по батюшке, старший унтер-офицер?
— Аким Савельевич!
— Спасибо, Аким Савельевич!
Достаю бумажник. Синельников качает головой.
— Похлопочите, чтоб пустили в увольнение, ваше благородие!
— Зазноба?
Он кивает и смеется. Седина в голову, а бес в ребро. Обещаю. Синельников уходит, появляется Рапота. Егоров задержал его по окончании осмотра. Еще раз демонстрирую новинку. Сергей кивает, но мысли его далеко.
— Павел! — Сергей мнется. — Откуда знаешь, как сбивать аэростаты?
Просто нужные книжки я в детстве читал… Мальчишки моего времени знают о воздушных боях больше нынешних асов, которых, к слову, еще нет. Само понятие «ас» появится позже. Разница в том, что летчики пишут наставления кровью, а мальчишки получают готовенькое. Как объяснить это Рапоте? Развожу руками.
— Леонтий Иванович дивится: вчера из пехоты, а такое придумал! Я напомнил, что ты в Англии летал.
Как хорошо, что есть Англия…
* * *
Нас будят затемно. Стакан горячего чая (кусок в горло не лезет) — и путь! «Вуазен» отрывается от земли, когда над летным полем светает. В предрассветных сумерках кружим над аэродромом, набирая высоту. Ждем подъема аппаратов Егорова и Турлака с Зенько. Линию фронта надо перейти как можно выше и не там, где нас ждут. Наконец, Сергей ложится на курс. Земля едва просматривается. Мы летим над своей территорией, и только затем поворачиваем к северу. Над линией фронта проходим без выстрелов. Нас не заметили или приняли за своих. Сергей делает вираж и летит на восток. Солнце выкатилось из-за горизонта, но не слепит — ярость лучей смягчает дымка. На всякий случай на диск не смотрю. В нашем плане это самый уязвимый момент — целиться против солнца. Слава Богу, что на дворе апрель, светило пока не яркое…
Наблюдаю за землей. Леса, поля, дороги, деревни. Сергей снижает аппарат, но внизу ничего интересного. Ни воинских колонн, ни обозов. Даже паровоз, тянущий состав по рельсам-ниточкам, движется от линии фронта. Внезапно Сергей оборачивается. Это условный знак — «приготовься!» Уже? Только-только к высоте привык…
Гляжу вперед: ничего! Может, Рапота ошибся? Внезапно замечаю в серо-голубом небе черную точку, вернее запятую. Только у этой запятой хвостик прямой. Ага, вот и «гансы»! Зрение надо тренировать.
Достаю из крепления «Маузер». Магазин я снарядил вчера, но на всякий случай проверяю. Снимаю защитные крышки с трубы прицела, смотрю, не сбились ли установки. Привычные движения помогают успокоиться. Я почему-то волнуюсь, даже странно. Когда стрелял из печки, подобного не было. Надо собраться. Втыкаю шкворень в отверстие упора, встаю и заглядываю в окуляр. Аэростат вползает в поле зрения, кажется, что он совсем рядом. Из-за того, что смотрю против солнца, баллон видится черным, хотя на самом деле оболочка светлая. Плавно скольжу прицелом вниз. Вот и корзина. Голова и плечи наблюдателя едва заметны, но с каждой секундой все более различимы. Мне предстоит убить человека, который не вооружен, причем, застрелить его в спину, внезапно. Не самое приятное занятие, но от этого выстрела зависят жизни сотен солдат. Корректировщик — злейший враг пехоты, в 1941-м мы люто ненавидели фашистские «рамы». Наш замысел прост. Мы летим из немецкого тыла, откуда нападения не ждут. Аэроплан со стороны русских позиций заметят издалека, наблюдатель сообщит по телефону зенитной батарее, пардон, воздухобойной. Она встретит врага шрапнелью. Но мы не оттуда, мы свои. В нас не нужно стрелять. С фронта должны атаковать Егоров и Турлак с Зенько, чуть позже нас. Надеюсь что «боши» (черт, а это откуда?) купятся.
В перекрестии прицела голова наблюдателя. Черт, как трясется гондола! Я просил Сергея вести аппарат как можно плавно, но «Вуазен» все равно покачивается, а вибрация от работающего мотора слишком сильна. Целиться трудно. При обсуждении плана подразумевалось, что я убью наблюдателя первым выстрелом. В противном случае — второй заход. Зенитчики очнутся, мало нам не покажется.
Бах! Мимо! Наблюдатель дернул головой; наверное, пуля пропела над ухом. Господи, зачем в голову, она же маленькая и твердая! Лихорадочно дергаю затвор. У меня несколько секунд. Сто километров в час немного, но каждая секунда — тридцать метров. Аэростат уже занимает полнеба. Смотрю в прицел. Наблюдатель подбежал к ближней стороне корзины, и смотрит на нас. Не в бинокль, тот уже не нужен. Хватает телефонную трубку… Бах!
Сергей успел: «Вуазен» проскакивает над аэростатом. Рапота закладывает крутой вираж. Не думал, что калоша на такое способна. Ремень я расстегнул перед стрельбой, иначе не встать, меня швыряет к левому борту. Вцепившись в дугу пулеметного станка, вижу, как отвесно падает на землю нечто похожее на куклу. Внезапно над ней распускается белый купол — наблюдатель выпрыгнул с парашютом. Я не убил немца, только напугал. Ну и славно, нам без разницы.
«Вуазен» ложится на боевой курс, хватаю ящик с флешеттами и высыпаю «дартс» на медленно спускающийся аэростат. «Карандаши» тяжелым облаком ухают вниз, большая часть пролетает мимо. Не страшно… Новый вираж, во всю мощь нашего «Сальмсона» улепетываем к своим. Вслед запоздало тявкает зенитка, другая, но поздно. Спать не нужно! Через прозрачный круг винта наблюдаю: аэростат пополз вниз. Все плану: первый акт марлезонского балета завершен. Антракт, зрители выходят в буфет…
Смотрю на часы — мы слегка опаздываем. Вот и «Фарман» Турлака, за ним и Егоров. Они выписывают круги, поджидая нас. Сближаемся, Сергей делает знак. Тулак кивает, и мы ложимся на обратный курс. Летим рядышком. В гондоле «Фармана» наблюдатель сидит впереди. Вижу сосредоточенное лицо штабс-капитана Зенько. По плану он бомбит первым. Все правильно: Зенько опытный летчик, наверняка прицелится точно. У первого самолета больше шансов уцелеть в зенитном огне — артиллерия не успеет пристреляться. Все счастье шрапнели перепадет нам. Ну и ладно, свое мы выполнили. Последним в дело вступит Егоров, у него нет напарника, но он и не нужен, задача командира снять нашу работу. Ему придется труднее всего.
Наш план построен на отрицании. Аэропланы противника прилетают от линии фронта, мы зашли с тыла. Авиационный налет скоротечен: сброшены бомбы и флешетты, аппарат улепетывает домой. Никому не охота летать под шрапнелью. Второй налет на одну и ту же цель в течение короткого времени невозможен по определению: враг настороже, ждет. Это знают летчики, к этому привыкли зенитчики. А мы ломаем представления…
«Фарман» прибавляет газу и вылетает вперед. Время! «Вуазен» занимает позицию чуть выше — Сергей читает мои мысли. Даже спустя тридцать лет будут бомбить по лидеру. Тот открыл бомболюки, ты — следом! Я гляжу не вниз, а на Зенько. Штабс-капитан свешивает руку за борт. Рука в кожаной перчатке сжимает кольцо стабилизатора бомбы. Снимаю с крюка свою. Тяжеленная — долго не подержишь. В налет мы взяли пудовые, крупнее нет. Снизу стреляют пушки, но разрывов не видно: трубка установлена на высоту первого налета. Сейчас мы выше, это тоже предусмотрено.
Зенько бросает бомбу, я — свою. Разворот. На черной земле хорошо видна светлая туша аэростата. Он похож на полосатого кита, выброшенного на берег, только хвост у кита другой. Разрыв, другой! Далеко! Твою маковку!
Вновь «Фарман» впереди, вновь я слежу за Зенько. Зенитчики поправили трубку. Шрапнель рвется на одной высоте с нами, совсем рядом, но мы пока целы. «Фарман» ныряет вниз, «Вуазен» — следом. Не ждали? Снижение опасно тем, что становится эффективным огонь пулеметов. Зато так лучше целиться, а зенитчики не успеют высчитать трубку снарядов.
Бомба пошла! Вторая! Изо всей мощи моторов летим обратно. Бомбы кончились, флешетты тоже, пора спасать души. Становлюсь с ногами на сиденье и смотрю назад. Есть! Кто попал, не разберешь, но там, где мгновение назад был аэростат, вспухает облако огня. Водород горит красиво. Над сотворенным нами хаосом в облачках разрывов висит «Фарман» Егорова. Финал второго акта марлезонского балета. Публика стоя приветствует артистов, кричит «Браво»! Господи, да я влез на сиденье! Стоит «Вуазену» качнуться…
На летном поле нас ждут. Чуть ли не весь отряд сбежался, последним садится Егоров. Выбираемся из гондол. Штабс-капитан крутит ус и, улыбаясь, жмет руку каждому.
— Крепость телефонирует: аэростат сгорел!
А то мы не знаем! Надеюсь, что новый аэростат у немцев появится не скоро.
— Велено благодарить вас и представить к наградам. Поздравлю, господа!
Назавтра заслуженный отдых. Механики считают пробоины в плоскостях. У «Вуазена» находят одну в гондоле — рядом с бензобаком. Если б попали, бензин в лучшем случае вытек бы. Но обычно в таких случаях аппарат загорается. Пронесло. Рапота ревностно следит за подсчетом, облегченно вздыхает, когда выясняется: у нас на две дырки больше. Интересуюсь причиной такого внимания.
— У кого пробоин больше, тому и почет! — поясняет Сергей.
Странный подход, но от комментариев воздерживаюсь. Сергей сияет: он единственный в отряде, кто не имеет наград, теперь получит. Турлак — обладатель ордена Святой Анны IV степени, на армейском жаргоне — «клюквы». У Зенько — «Станислав» и «Анна» III степени, у Егорова к прочему иконостасу — Святой Георгий IV класса. Высшим военным орденом штабс-капитана наградили за разведку в прошлом году. Егоров вовремя обнаружил немецкое наступление. В этом полете штаб-капитана ранили, а летнаба убили, Егоров и сейчас прихрамывает. Доктора запрещают ему летать, но он их игнорирует. Леонтию Ивановичу можно не беспокоиться о происхождении — кавалер ордена Святого Георгия автоматически становится потомственным дворянином. Получить орден Егорову помогло ранение, объясняет Рапота. Начальству нравится, когда герои льют кровь — свою и чужую. За сражение малой кровью награда выйдет скромной, а то и вовсе не дадут. «Нет потерь, не было и дела!» — считают в Ставке.
Мне светит Анна IV степени, полагает Рапота. Солдатский Георгий по статусу предназначен нижним чинам. Прерываю мечтания о раздаче слонов. Надо б смотаться в Белосток. Город рядом, для нас с Рапотой полетов пока не будет. Аппараты берегут. Продолжительность жизни аэроплана — сто летных часов. Французский выдерживает сто пятьдесят, но у нас аппараты русской выделки. Почти все на грани износа. Пополнения просят давно, но аппаратов не хватает: выбывают из строя чаще, чем прибывают новые — так по всему фронту. Что аэропланы? На фронте не хватает винтовок, пушек, снарядов… Перед войной списали миллион винтовок Бердана, снятых с вооружения, однозарядных, но вполне исправных. С началом мобилизации выяснилось: солдат нечем вооружать. Один воюет, другой ждет, пока того убьют — иначе без винтовки. Господи, как все знакомо! В сорок первом повторилось одно к одному. Ничего в стране не меняется…
Сергей с радостью соглашается. Подхожу к штабс-капитану — машина с водителем в моем распоряжении. Кто ж откажет герою? Прошу разрешения взять старшего унтер-офицера.
— Зачем вам Синельников? — морщится Егоров.
— Обещал.
Штабс-капитан смотрит пристально.
— Он сделал в гондоле упоры для винтовки. Без его помощи аэростат не сбили бы.
— Зачем Синельникову в город?
— К женщине.
— У него четверо детей!
— Это не помеха.
— Павел Ксаверьевич! — Егоров наклоняется. — Я знаю, какой Синельников замечательный механик. Но я не хочу, чтоб в отряде появилась подрывная литература.
— Он большевик?
— Если б выяснили, то — в арестантские роты! Но подозрения имеются. Мне звонили из жандармского управления…
— Я обещал ему, Леонтий Иванович!
— Под вашу ответственность… — соглашается он.
В Белосток едем на «полуторке». Это я ее так назвал. На самом деле — пикап «Руссо-балт» петербургского разлива. В кузове, закрытом тентом, Рапота, я и Нетребка; поручик своего денщика не взял. Синельников в кабине с водителем. Рапота охотно согласился ехать в кузове — с водителем не поболтаешь, офицеру не к лицу. Поручик в неизменной кожаной куртке, на боку — кортик. Сергей и меня уговаривал надеть куртку, еле отбился. На околыше фуражки Сержа — летные очки. Очень нужная вещь в городе… Сергей переживает, что потерял свою «залетку» (мягкую складную шапку для полетов) — еле догадался, что речь о пилотке. В Российской армии это новинка, их носят только авиаторы. Но даже без пилотки Рапота смотрится орлом: Белосток узрит и вздрогнет. Трепещите женские сердца! Нетребка взят нами для единственной надобности — носить покупки. Российскому офицеру со свертками ходить не положено. Ему нельзя заходить в рестораны ниже первого класса, передвигаться пешком, когда есть извозчики… Я знаю это со слов Сан Саныча — мы о многом говорили в белорусских лесах…
Белосток — заштатный городок, преимущественно деревянный, с кривыми улицами. Но после окопов — столица. Здесь расположен штаб армии, множество тыловых учреждений — на улицах военных больше, чем штатских. Тормозим на центральной площади. Синельников почти сразу убегает.
— Не везите в отряд лишних бумаг! — говорю на прощание.
На мгновение лицо его вытягивается, затем унтер-офицер кивает. Умному достаточно. Поход по магазинам. Бритва, помазок, стаканчик мыльный порошок — есть! Зубная щетка, мыло, зубной порошок — заверните! Комнатные тапочки, халат, носки (ботинки носят без портянок)… В полку мне выдали жалованье за два месяца — денег много, можно приодеться. Наплыв военных оживил местную торговлю, конкуренция велика, цены божеские. Рапота находит их высокими, но поручик не знает об инфляции. Через год-другой освоится. Сергей убегает по своим надобностям, продолжаю поход. Уже ничего не покупаю, просто глазею. Взгляд отдыхает от оружия и защитной формы. Когда надоедает, подхожу к машине. Является Сергей со свертками, передает их Нетребке. Оглядываюсь. На двухэтажном кирпичном здании красуется вывеска «Ръсторанъ». Время обеденное. Вручаю водителю и Нетребке по рублю — им тоже есть хочется, сами берем курс на вывеску.
Ресторан полон людьми, но столик находится. В зале много офицеров, но нас смотрят. Не заметить Сергея в его хромовом блеске невозможно. Официант приносит меню. Сергей открывает и свистит.
— Вчера мой первый боевой вылет! — говорю, забирая меню. — Я угощаю! За дебют!
Сергей, помедлив, кивает.
— Растратился: родителям и младшим подарки купил, — он краснеет.
Господи, этот парень вчера вел аппарат сквозь шрапнельные разрывы, а потом радовался, что пробоин много! Откуда робость?
Внимательно оглядываю столы. Водочных и коньячных бутылок не наблюдается. Но офицеры за соседним столиком разливают прозрачную жидкость из какой-то бутылки, а разлив, чокаются. Та-ак…
Официант приносит закуски. Указываю на соседний столик.
— Это что?
— Вода, сельтерская! — отвечает, не моргнув глазом.
— Нам можно?
— Извольте! Три рубля бутылка.
Сергей тихонько ахает.
— Не вонючая?
— Что вы?! — официант притворно обижен. — Смирнов и сыновья, довоенная. Мы жидовской не держим.
Вот вам следствие сухого закона. Уже дымят подпольные винокурни — Сан Саныч рассказывал. Откуда в девятьсот пятнадцатом «довоенный» Смирнов? Россия занимает деньги за границей, просит подданных жертвовать на войну, сама же отдает доходы мафии. Конец 80-х, один к одному.
Официант приносит бутылку и рюмки, разливает. Чокаемся.
— За удачный взлет и счастливую посадку!
Правильней: за то, что живы! Но мне это без нужды, а Сереге двадцать один. В этом возрасте все мнят себя бессмертными. Пьем.
Водка не плоха, хотя, конечно же, не довоенная. Соленый огурчик, ветчинка… На столе появляются зажаренные до коричневой корочки Пожарские котлеты. Бутылка «сельтерской» пустеет быстро.
— Официант, еще одну!
— Павел! — Сергей смотрит укоризненно.
Боится поручик. В зале полно офицеров, наверняка и князей встретишь. Вдруг прапорщик задерется… Чудак! Задираюсь я трезвый, пьяный я добрый. Если б застал Бельского трезвым, дуэли бы не было. Я б его придушил…
— Заверните с собой!
Официант хоть бы глазом моргнул: с собой так с собой. Закуриваем.
— Ну что, к девочкам? В веселый дом?
Сергей снова краснеет. Ну что ты станешь делать?! Послал Бог красну девицу. Отбой…
Выходим на площадь. До вечера уйма времени. Куда податься?
— Съездим к Розенфельду? — предлагает Сергей.
Почему бы и нет? Но не с пустыми же руками? Заскакиваю в кондитерскую. Покупаю все пирожные, какие есть на прилавке (их складывают в большую коробку), и огромный кулек шоколадных конфет. Несколько пирожных в маленькой коробочке — лично Розенфельду. Доктор, как я успел заметить, сладкоежка. Остальное — сестричкам.
Знакомая ограда, входим во двор. Нетребка с водителем тащат следом коробку и кулек. Гостинец Розенфельду несу сам. Во дворе госпиталя обычная суета: повозки, возле которых суетятся санитары и сестры. Одна поворачивается к нам и вдруг с визгом бежит в здание. Не проходит минуты, как на крыльцо высыпает стайка женщин в белых передниках с красными крестами.
— Павел Ксаверьевич!.. Сергей Николаевич!..
Сестры обступают нас. Это с чего такой прием?
— Вы вправду государя видели?
Ага!
— Видел! Вот как вас!
Ахают.
— Крестик государь самолично приколол?
— Собственноручно!
Девичьи ручки, красные от постоянного мытья и карболки, тянутся к Георгию, осторожно трогают серебро. Боже! Сельский учитель с грустными глазами отжалел солдатику крестик, а у них благоговение на лицах. Да это он руки целовать вам должен! Подзываю Нетребку с водителем.
— Вот, милые барышни! Угощайтесь!
Самая шустрая заглядывает в коробку.
— Ой, девочки, «безе»!
На мгновение меня забывают. Пирожные расхватывают и немедленно поедают. Конфеты рассовывают в карманы фартуков. Прожевали, я снова в кольце.
— Какой он, государь?
— Ростом пониже, — показываю ладонью у глаз, — борода, усы. Глаза усталые…
Многозначительно кивают. Ну да, государь, он же денно и нощно…
— Расскажите про свой подвиг!
До Розенфельда я так не дойду. Пора переводить стрелки.
— Что я, милые барышни! Вот Серж, то есть поручик Рапота, не далее как вчера разбомбил и сжег аэростат противника. Враг вел огонь, по возвращению насчитали в аэроплане восемь пробоин. Поручика за подвиг представили к ордену.
Сергея обступают и засыпают вопросами. Рапота охотно рассказывает, лицо его сияет. Здесь не принято скромничать. Обо мне забыли, шныряю дверь и едва не сталкиваюсь с коллежским асессором.
— Ба! Я-то думаю, где персонал? — он жмет мне руку. — Рад видеть, Павел Ксаверьевич!
— Это вам! — сую гостинец. — Пирожные, «безе».
— Знаете, чем угодить старику! — он смеется.
Поднимаемся в кабинет. Достаю из кармана и ставлю на стол «сельтерскую».
— В ресторане брали? Охота деньги тратить! Кто же едет с водкой в госпиталь? У нас спирт! Разбавить до нужной пропорции и очистить от сивушных масел врачи умеют — этому нас в университете учили, — Розенфельд смеется. — Забирайте, не то обижусь! Хватит мне пирожных, — он открывает коробку. — Свежие?
— Сестрам понравились.
— Вы их угостили? Славно! Второй случай на моей памяти, чтоб выздоровевший не забыл.
— Я приехал с поручиком.
— Рапота? Славный мальчик.
— Нас здесь так встретили!
— Ничего удивительного! Герой, у нас лечился. Газету с описанием вашего подвига до дыр зачли.
— Вранье там! Не лобызал я руку да еще со слезами.
— Жаль! Сестрам как раз понравилось.
— Что?
— Разжалованный покаялся в преступлении, а государь простил. Душещипательная история, сестры такие любят. Сами знаете, какой здесь труд. Кровь, грязь, боль, смерть. Ледник для трупов никогда не пустует, умерших хороним чуть ли не ежедневно. Кладбище за парком уже в три десятины. Ваш приезд для них праздник.
Приносят чай. Коллежский асессор ест пирожные, я просто прихлебываю. С гостинцем покончено, доктор вытирает пальцы салфеткой.
— Как здоровье? Головные боли не мучают?
— Нет.
— Слава Богу! Память восстановилась?
— Частично. В каком родстве мы знаю.
Он смеется и машет руками.
— Замечательно! Вы по-прежнему в полку?
— Перешел в авиацию, летаю с поручиком. Были в Белостоке, решили заглянуть.
Он кивает и задумывается.
— Как Ольга? — проявляю взаимную вежливость.
— Учится, собирается сдавать экзамен экстерном. Обещает к новому году получить свидетельство.
Молчим. Пауза затягивается. Сергея до сих пор нет.
— Где поручик? — изображаю озабоченность.
— Не беспокойтесь! — смеется доктор. — Он в надежных руках. С женщинами ему интереснее, чем со старым доктором.
— Не такой вы и старый.
— Не льстите! Старый! В моем возрасте на многие вещи смотришь иначе. Не удивляйтесь, но мне жаль покойного князя.
— ???
— Смелый мальчик! Он лечился у нас после ранения — какая-то безумная атака в конном строю. Его в штаб перевели потому, как строевую службу медицина запретила. Знаю, что скажете! Гадкий, избалованный, заносчивый… Все правда, но ведь мальчик! В чины произведен за храбрость. Щедрый. Первым, кто догадался сестер угостить. Тысячу рублей пожертвовал на госпиталь. Понятно, пыль в глаза пускал, перед Ольгой старался, но сестрам-то без разницы. В происшедшем Ольга виновна. Он днем с цветами приехал — предложение делать. Умолял. Дочь, понятное дело, отказала — у нее жених. Князь уехал, напился с горя и решил еще раз объясниться. Угрожал, что покончит с собой. Ей бы прогнать, знаем мы такие угрозы, но Ольга повела его в парк. Отчасти из-за вас.
— ???
— Она привыкла к вниманию мужчин, вы ей в нем отказали. И разговаривали не слишком вежливо. Дочь прознала, что вы в парке с поручиком, и решила продемонстрировать, какие блестящие офицеры за ней ухаживают. Глупая, взбалмошная девчонка! Как с ней сладить?
Пороть не пробовали? Очень помогает…
— Поступок князя, конечно же, мерзкий, но стоит признать: его спровоцировали. Он был пьян и безумен от неразделенной любви. Дальнейшее поведение безумие подтверждает. Вместо того чтоб на следующий день приехать, стать перед Ольгой на колени и просить прощения, он задумал убить свидетелей. Как будто ваша с поручиком смерть что-либо решала! Я первым бы шум поднял! В России насиловать женщин не дозволено даже князьям! Совершил мерзость — покайся, тебя простят. Ольга — девочка добрая, к тому же сама виновата. Я бы, конечно, князю выговорил, но дела заводить бы не стал. Князь избрал другой путь. Что в итоге? Погиб сам, как будто мало людей на фронте гибнет, трех офицеров подвел под суд. Вас и вовсе разжаловали. Хорошо, что государь случился, не то остались бы рядовым. У Бельского влиятельная родня… — Розенфельд встает. — Извините, раненые ждут. Благодарю за угощение и визит. Всегда рад вас видеть!
В задумчивости спускаюсь вниз. Странный человек этот доктор! Ему бы в проповедники. Священник и доктор всегда рядом. Священник завершает, что не вышло у доктора.
Сергея нахожу в парке. Он гуляет по аллее с какой-то сестричкой, они весьма мило беседуют. Действительно, не скучал. Зову, прощается, едем. На площади забираем Синельникова, механик выглядит довольным. На обратном пути Сергей молчит. Смотрит в брезентовый потолок и улыбается. К девочкам его я все же свозил…
7
О нашем налете пишут в газетах. Радостных событий на германском фронте мало, скорее наоборот, репортеры цепляются за малейший позитив. Поджог аэростата публике в новинку. На этой войне все в новинку: сбитый германский самолет (их пока считанные единицы), авиационный налет на штаб немецкой армии, теперь вот наш аэростат. Репортеры приезжали в отряд, фотографировали героев. На фоне аппаратов, с винтовками и «Маузерами» в руках. Вид у нас грозный: трепещи супостат! Репортеры довольны. Фото напечатано в газете. Еще пять отпечатков — по одному для каждого из запечатленных прислали в конверте. Рапота рад и восхищается благородством фотографа. Цена этому благородству три рубля — из бумажника летнаба Красовского.
Сергей собирает вырезки из газет, складывает в папочку. Я знаю, для кого. «Итак, она звалась Татьяной…» Сестра милосердия в госпитале Розенфельда, это с ней Рапота гулял в парке. Отныне поручик в госпитале завсегдатай. Один раз я составил ему компанию, больше не тянет. Розенфельд занят, а с сестрами скучно. Они хотят любви большой и чистой, мне надобно маленькой и грязной. Зато Сергей сияет, его прямо распирает от чувств. Едва ли не каждый день слышу, какая Татьяна красивая (хм!..), нежная (Сергею виднее), умная. Последнее вполне справедливо. Поймать в сети поручика Рапоту все равно, что золотую рыбку. Из него выйдет любящий и преданный муж, заботливый, но строгий отец. За таким, как за каменной стеной — спокойно и уютно.
Это я брюзжу. На самом деле я Сергею завидую. Я не способен на такие чувства, я здесь посторонний. Листок, сорванный ветром и заброшенный в реку. Течением меня заносит в заводь, короткое время я плаваю, наблюдая за чужой для меня жизнью. Набежит волна — и снова в путь…
Вот уж неделя, как я хандрю — полетов нет. Во-первых, идут дожди, во-вторых, как говорил ранее, аппараты берегут. Сергей занят своей Татьяной, с другими летчиками я не сошелся. Зенько дружит с Егоровым: они одногодки, им есть о чем говорить. Турлак мне не по душе: скользкий. Он набивался мне в друзья, теперь в обиде. Мне передают нелестные высказывания о сынках толстосумов, приехавших в армию развлекаться, в то время как есть люди, которые по зову сердца… Скучно! Сплетни мне приносит Нетребка; он раззнакомился со всеми и по утрам вводит меня в курс событий. Я не мешаю — хоть какое-то развлечение. Ефрейтор бреет меня, содержит в чистоте мундир и белье, добывает водку. Нетребка старается: обратно в окопы ему не хочется. Я доволен — не каждый раз случается прислуга, тем более за счет государства. От тоски занимаюсь учебой. Штабс-капитан Зенько учит меня летнабовскому делу. Зенько полный тезка царя, Николай Александрович. Мне он нравится: спокойный, немногословный, надежный. С такими хорошо дружить и воевать. После занятий иду в ангары, где Синельников просвещает по материальной части. Ничего сложного. Наш «вуазен» при желании можно слепить самому — мотор только добыть. Синельников умен, начитан, но соблюдает дистанцию. Возможно, думает: я чего-то вынюхиваю. Понять его можно: с большевиками в России не церемонятся. Мне его убеждения по барабану: до революции два с половиной года, не доживу.
Скуку скрашивают визиты представителей земских союзов и обществ помощи фронтовикам. На фронт их не пускают, а к нам — пожалуйста! Герои авиаторы, извольте лицезреть! Гости привозят вкусную снедь. Благодетелям показываем аэродром, катаем на аэропланах — если, конечно, погода позволяет. Вечером непременная патриотическая вечеринка, где есть возможность напиться вдрызг.
На пороге нашей квартиры появляется Егоров.
— Павел Ксаверьевич, как с восстановлением навыков?
— Дожди зарядили…
— На руллере покатаетесь!
— Слушаюсь!
— Вот и славно, аппарат готов.
Надеваю куртку, иду к авто. По дороге пытаюсь сообразить: что за хрень этот «руллер»? В голову ничего не приходит. Ясно одно: у Егорова на меня виды как на пилота. На взлетном поле Синельников с парой мотористов и десятком солдат. Механик докладывает о готовности. Егоров, подкручивая ус, представляет мне аппарат:
— Вот и ваш «руллер», Павел Ксаверьевич!
М-да, подарок из Африки. Не аэроплан, а недоразумение. Неужели на нем летали? У «этажерки» нет гондолы. Плетеное кресло пилота укреплено на передней кромке нижнего крыла, за ним блестит медью бензиновый бак. Деревянные стойки моторной рамы у задней кромки нижнего крыла, на них — ротативный «Гном» с пропеллером. Пропеллер, почему-то, насажен между мотором и рамой. На рулях — полустертые краски воздухоплавательного флага.
Синельников ободряет:
— Не извольте беспокоиться, ваше благородие, сам все проверил! Не аппарат, а огурчик!
Забираюсь в пилотское кресло, ставлю ноги на педали. Девать их больше некуда — внизу пустота. Из приборов и оборудования — прозрачный стаканчик смазки мотора, контакт зажигания и рычаг подачи бензина. Ручка управления рулем высоты и элеронами само собой.
Егоров сияет:
— Мой старый «Фармашка», «семёрочка», еще французской выделки! Летать, конечно, уже не сможет, но покататься — вполне…
Что ж, саночки готовы, извольте, шер ами.
Моторист в промасленной одежде ловко проворачивает пропеллер. Кричит мне:
— Компрессия есть, контакт?!
Машинально отвечаю:
— Есть контакт!
Практически по наитию включаю зажигание. Механик проворачивает пропеллер, «Гном» чихает и заводится. Касторовое масло в стаканчике начинает бешено пульсировать. Что дальше? Озираюсь. Солдатики аэродромной команды вцепились в хвост и крылья аппарата. Вопросительно смотрю на Егорова, тот жестом указывает на бензиновый сектор. Поворачиваю рычаг, мотор добавляет оборотов, по знаку штабс-капитана меня выпускают. Точнее — перестают удерживать. «Фарман», словно сорвавшись с привязи, задирает хвост и резво несется по прямой. Уменьшаю газ, аппарат замедляет движение и опускает хвост. Рычаг вперед, машина прибавляет скорость и хвост задирает. Летное поле кончается, как тормозить? Убираю газ и выключаю зажигание. Аэроплан замедляет ход и останавливается. Ко мне подбегают, разворачивают обратно.
— Контакт!?
— Есть контакт!
Рулю обратно, останавливаюсь на старте. Ко мне приближается довольный Егоров.
— Изрядно, Павел Ксаверьевич, изрядно! Теперь поработаем педалями, вспомним повороты…
Вечером, пропахший бензином и касторкой, валюсь в изнеможении на койку. В последующие дни мне не до скуки — укатываю на «руллере» аэродром.
Небо, наконец, проясняется, но не к радости. Немцы здорово на нас озлились. Их аппараты бомбят Белосток и наши войска. Потери ничтожные один убитый и несколько раненых, но войска не любят авианалеты. В штабе армии забеспокоились. У пехоты своя авиация — в каждом корпусе есть отряд, но попытка перехватить немцев кончается плохо. Сбит русский «Моран», летчики погибли. К делу подключают крепостной авиаотряд, славный своими асами, Егоров собирает офицеров. Ситуация хреновая: немцы ставят на аппараты пулеметы. Атаковать с карабином их «Таубе» и «Альбатросы» — добровольное самоубийство. Хрупкому самолетику много не надо: очередь — и прощай Родина! Немцы бомбят войска безнаказанно. Зенитная артиллерия не помощник — пушек слишком мало. В штабе армии не стесняются в выражениях. Честь русских авиаторов затронута, штабс-капитан Егоров мрачен и зол.
Выход один: поставить на аппараты пулеметы. Предложение хорошее, только пулеметов нет. Правдами и неправдами Егоров добывает в авиароте «Мацон». Древний экземпляр, темп стрельбы низкий, магазин маленький, постоянные задержки при стрельбе… Но и такой «Мацон» у нас один. Синельников с механиками делают в кабине «Фармана» крепление на стальных дугах. Установка шаткая, да и сектор обстрела мал, но все-таки… Выбор аппарата объясняется просто: у «Фармана» наблюдатель впереди, ему сподручнее вести огонь. Рапота злится: он хочет драться. Наш «Максим» застрял где-то в авиароте. Егоров не хочет отправлять нас в бой:
— У вас только винтовка, поручик!
— Прапорщик Красовский перебил офицеров германского батальона! — возражает Рапота. — Он меткий стрелок! Мы и без пулемета…
Я молчу, Егоров соглашается. Сергей не прав: одно дело стрелять по неподвижной цели, другое — по юркому аппарату. Спорить, однако, не хочу — посчитают трусом. Что до последствий, так Сергей выбор сделал, а мне все равно. Полдня определяем тактику. Сверху-сзади заходить нельзя — собьют. В своей гондоле, мы как мишени в тире. Снизу-сзади? Можно, если с пулеметом, с винтовкой малоэффективно. Стрелять вслепую по фюзеляжу, надеясь, что пуля пробьет его и зацепит летчика? Замучаешься. Остается только в лоб. У немца стрелок-наблюдатель сидит впереди, сразу за мотором. Для него в верхнем крыле даже вырез сделан, иначе неба не видно. Наблюдатель стреляет вверх и по сторонам от хвоста. В бок вести огонь мешают крылья — перебьешь стойку или растяжку.
На летном поле ждем сигнала на «барраж». Модное французское словечко означает полет вдоль линии фронта. «Вуазен» и «Фарман» тихоходные, немцев нам не догнать. Выход — перехватить на обратном пути. Егоров дежурит у телефона. С линии фронта поступит сообщение: направление, количество аппаратов, нам останется завершить дело. Угу, завершим. Истребители, мать нашу, с винтовкой на пулемет… Впору писать завещание, но потомков у нас нет, а родственники и без того богатые. Танечка взгрустнет о бравом поручике, по мне так и плакать некому.
От телефонной станции бежит запыхавшийся солдатик. Два аппарата прошли над линией фронта, курс — на Белосток. Взлетаем и расходимся. Турлак и Зенько будет искать южнее, мы — севернее. Это сделать не просто: облачность. Стоит немцу нырнуть в облако — и прощай! Сменит курс, выскочит с другой стороны… Сергей, словно понимая, забирается выше, под самые облака. Выписываем круги, наблюдая за воздухом. Километрах в пяти виднеется Белосток, мы одни в небе. Вполне возможно, что стараемся зря: немцы могли уйти другим курсом. По уму так и следует. Остается слабая надежда: тевтоны обнаглели и наплюют на осторожность.
Опять я упускаю момент. Сергей наклоняет нос аппарата и мчит к Белостоку. Теперь и я вижу черную точку. Она быстро растет, приобретая очертания. Уже не точка — птичка. Вначале воробей, затем голубь, теперь коршун… У этой «птички» крылья сдвоенные, а вместо клюва — винт. Расстояние сокращается стремительно. Кладу «Маузер» на передний упор, встаю. В оптике «немец» как на ладони: крылья, хвостовое оперение, черные кресты на плоскостях. Военлет и наблюдатель не виды из-за крыла. «Немец» быстро растет в поле прицела, он практически сравнялся с нами по высоте, целюсь в середину бипланной коробки, в то место, где по моим прикидкам должен располагаться экипаж. Из-за рева мотора выстрела почти не слышно, только приклад отдает в плечо. Затвор, прицел — выстрел! Затвор, прицел — еще! Попал?
Немец нас заметил. Что сделает нормальный человек при виде летящей в лоб калоши? Правильно, отвернет. На том и расчет. «Авиатик» (теперь и без оптики видно, что это биплан), закладывает вираж, «Вуазен» — следом. Меня едва не выбросило, успел схватиться за бортик. Сергей впал в азарт, ему наплевать, что со мной происходит. Винтовку я выпустил, но шкворень ее удержал. Перебрасываю по рельсе «Маузер» правый на борт. «Колбасник» скоростнее, но наш «Вуазен» маневреннее. За счет короткой дуги постепенно догоняем немца, становимся сбоку — крыло к крылу. Ого! Из пробитого радиатора немца льется вода. Воздушным потоком ее несет в кабину пилота, тот ежится и пытается укрыться. Однако я попал!
Наблюдатель хватается за пулемет и осыпает нас градом пуль. Перекидывает его на левый борт, целит меж крыльев. Черт! Мы считали, что не решится…
Приникаю к прицелу, выстрел!
Бах! Наблюдатель исчезает в кабине — то ли убит, то ли спрятался. Пилот «немца» привстает, пытается заглянуть в кабину стрелка, затем смотрит на нас. Рукой показываю на радиатор — погляди! — затем направляю «Маузер» на него. В казеннике последний патрон. Перезаряжать в воздухе — геморрой.
Немец не спешит, прикидывает. Так, решился на вираж! Рапота идет наперерез, немец отваливает. А вода из радиатора течет, скоро мотор перегреется и заклинит… «Колбасник», конечно же, грохнется, но, возможно, на своей территории. Сергей делает немцу энергичные знаки — садись, не то убьем! Мы, русские, безжалостные! Страшные, у-у-у, какие мы страшные! Как на ваших плакатах — казаки со звериным оскалом. Мы казаки! У нас и кони есть! В моторе, сто тридцать голов… «Лягай, Ганс, лягай!» Лягай, тебе говорят!
За что уважаю немцев, так за расчетливость! Взвесил, прикинул, принял решение. Кивает: условия приняты. Сергей показывает рукой: туда! «Немец» поворачивает к Белостоку. «Вуазен» летит рядом, контролируя направление. «Маузер» держу на изготовке — кто знает, что «гансу» взбредет? Дотянуть бы до нашего аэродрома! Ох, как нас зауважают! Как…
Нет счастья в жизни! Мотор «немца» останавливается, аппарат ныряет вниз. «Вуазен» — следом. Сергей страхуется — вдруг немец хитрит?
Не хитрит: «бош» быстро планирует и вот уже бежит по пахоте. «Вуазен» идет на посадку. Сергей останавливает аппарат почти рядом с неприятельским. Соскакиваем на землю.
Пилот «немца» выбрался из кабины и лезет на крыло — посмотреть, что с наблюдателем. Подбегаем. Прыгаю на крыло и заглядываю к стрелку. Лежит на полу кабины, скорчившись, похоже без сознания или убит. На спине выходного отверстия нет, помогаю немцу вытащить своего напарника. На стрелке под летной курткой офицерский мундир, на ногах ботинки с крагами. Совсем еще молоденький, судя по погонам — лейтенант. Зачем хватал пулемет?! Стоп, похоже, жив, я попал ему в плечо. Нужно наложить жгут и остановить кровотечение. Пока вожусь с раненым, Рапота, уже, разговорил пленного. Они беседуют по-немецки, но я понимаю. Немец расстегивает ремень и снимает кобуру с револьвером. Протягивает Рапоте. Сергей церемонно берет оружие и начинает мямлить такое же церемонное. Говорит он с запинками, немецкий у него не ахти. Ладно, развлекайтесь!
Закончив перевязку раненого, занимаюсь пулеметом. Снимаю машинку с крепления, забираю коробку с лентой. Пулемет отдаленно напоминает бундесовский «MG-3», но конструкция незнакомая. С добычей в руках прыгаю на землю. Сергей с немцем все еще болтают. Отношу оружие в «Вуазен». Когда возвращаюсь, вижу: немец что-то пишет в блокноте, прислонив его к фюзеляжу.
— Письмо родным?
— Свидетельствует, что мы сбили! — поясняет Сергей.
— Зачем?
— На победу много охотников. Потом не докажешь!
Знакомо. «У победы много отцов, поражение всегда сирота…»
Словно в подтверждение слов поручика — близкий топот копыт. Из-за ближайшей рощи выскакивают всадники в плоских фуражках, гимнастерках и синих шароварах с красными лампасами. Казаки. Нахлестывая коней, несутся к нам. На мгновение возникает желание сбегать за пулеметом. Удерживаю себя — наши. Казаки мгновенно окружают самолеты, один — с двумя звездочками на погонах — спрыгивает на землю.
— Хорунжий Дьяков! Кто такие? Что случилось?
Сергей представляется и коротко объясняет. На лице казачьего офицера разочарование: он явно рассчитывал захватить пленных. Казаки подъезжают к аппаратам, заглядывают в кабины. Один поднимает с земли кожаную куртку лейтенанта. Намерения написаны на лице.
— А ну, не трожь!
Казак будто не слышит. Тащу из кобуры «Маузер».
Мгновение — и в руках казаков карабины. Слышен лязг затворов.
— Господин хорунжий! — кричит Сергей. — Призовите подчиненных к порядку! Кто позволил целить в офицера?!
Дьяков отдает команду, казаки неохотно забрасывают карабины за спину, отъезжают. Тому, кто позарился на германские шмотки, хорунжий показывает кулак. Прячу пистолет в кобуру.
— Прошу доставить пленного в штаб, — говорит Сергей. (Хорунжий оживляется), — а также организовать охрану аппарата. Через час приедут грузовики, заберут. Раненого нужно скорей в лазарет, он потерял много крови.
Дьяков козыряет и подходит к немцу. Пилот бледнеет: те самые страшные казаки! Целились в русского офицера! Ой, что будет! Не наложи в штаны, Ганс!
Заводим мотор, «Вуазен» взлетает. Обеими руками прижимаю к груди пулемет. Казаки — известное ворье, мародеры, Зенько рассказывал. 26 августа прошлого года начальник 11-го корпусного авиаотряда, штабс-капитан Нестеров (тот самый, что выполнил «мертвую петлю») совершил таран, первый в мире. От столкновения австрийский и русский аппараты упали на землю, летчики погибли. Первым к месту падения подоспели казаки. Они ограбили труп героя. У Нестерова забрали не только бумажник с жалованьем офицеров (штабс-капитан получил перед вылетом, раздать не успел), но и сняли ботинки с крагами…
* * *
По прилету Рапота рассказывает мне, кого же мы сбили. Это экипаж из специального бомбометного отряда, пилот — ефрейтор Хартман и наблюдатель — лейтенант Белов.
— Белов? — удивляюсь я.
— Прусак! — говорит Сергей сквозь зубы. — У них таких фамилий полно.
К вечеру привозят нашего «немца» — отдельно фюзеляж и крылья. Оказывается, это не «Альбатрос», а «Авиатик», но нам без разницы. После осмотра Синельников заключает: радиатор можно запаять, но заклинивший мотор лучше ремонтировать в роте или заводе. Сергей расстроен — он положил глаз на «немца». Подлатать, нарисовать на крестах русские «кокарды» — и воюй! Синельников снимает с «Авиатика» все ценное и аппарат отправляют в тыл. Ну что же, теперь и мы с артиллерией! Пулемет движется вперед-назад по стальной рельсе, фиксируется неплохо. Не турель, конечно, но сгодится. Сектор обстрела маловат, но к этому не привыкать. Марка пулемета выбита на корпусе — «Bergmann». Стреляет неплохо — проверил.
Утром снова перехват. В этот раз немцы осторожнее: при виде нас сразу драпают, догнать не получается. Пускаю вслед длинную очередь — больше для испуга. Все, налеты как ножом обрезало. Сидим на аэродроме, перетираем сплетни, принимаем гостей из земств.
Наш пруссак наделал в Белостоке переполоху. Сбитый самолет не такая уж новость, но чтоб посадили, взяли в плен… Хорунжий Дьяков пытался заикнуться о своих молодцах, дескать, залпами сбили, но Егоров предъявил показания немца. Лейтенант очнулся в госпитале и на допросе подтвердил: сбили летчики. Почетнее сдаться в плен своим коллегам-авиаторам, чем каким-то казакам. Хорунжий посрамлен, героев призывают к раздаче слонов — за аэростат и «Авиатик» сразу. Нас с Сергеем поначалу представили к Анненскому оружию и Станиславу IV степени, но затем в штабе пораскинули мозгами, и Сержу заменили «клюкву» на Георгиевское оружие, а мне — Станислава на Владимира.
— Павел! — восклицает Сергей наедине. — Мне тебя Бог послал! Месяца не прошло — и такая награда!
Кому счастье, а кому горе. Турлак смотрит волком. Ему дали только «Стасика» за аэростат. Подпоручик в отряде с первых дней, Рапота — недавно. Мало того, что Сергей моложе и старше по чину, так и наградами обошел. Обидно! В отряд из Белостока прибывает очередная экскурсия земцев, с ними штабные из армии и вездесущие репортеры. Речи, поздравления, фотографирование. Сергея распирает так, что смотреть смешно. Он теперь потомственный дворянин: Георгиевское оружие дает такое право. Зенько по совокупности прошлых заслуг, как и я, представлен к Владимиру, Егорову светит новый чин. В суете почти не вспоминают военлетов, погибших в «Моране». Их тоже наградили, посмертно. По такому случаю здесь пишут: «Кровью запечатлели подвиг свой…»
Это я читаю в газетах. Здесь же очерк об орлах-военлетах. С черно-белого фото на газетном листе смотрит удивленное лицо прапорщика Красовского и веселое — Рапоты. У прапорщика густая щеточка усов, у поручика едва пробиваются. Усы здесь носят все, а старшие офицеры — и бороды. Из нас усиленно лепят героев. Когда дела плохи, герои востребованы. Подвиги помогают забыть о грустном. Ничего, что отступаем по всему фронту, зато немца в плен взяли. Важный немец, у-у-у, какой важный! Сколько русских офицеров в германском плену, не вспоминают.
Беседуем об этом с Розенфельдом — Сергей вытащил меня в госпиталь. Ему не терпится предстать в героическом ореоле, одному неловко, я — почетный эскорт. Сдав поручика Татьяне, иду к доктору, у него как раз время отдыха.
— Вы странный человек! — говорит Розенфельд. — В двадцать пять рассуждаете как старец. Можно подумать, вам пятьдесят!
Немногим меньше, если посчитать и сложить…
— Война меняет людей, — продолжает доктор, — я это замечаю. Вчерашние мальчишки быстро взрослеют. Однако у вас это чересчур. Вместо того, чтоб радоваться наградам… Вся грудь в крестах!
Чтоб сменить тему, спрашиваю про Ольгу. Розенфельд заверяет: с дочкой в порядке. Пишет отцу, что жива и здорова, жених, слава Богу, также. Мечтают о свадьбе. Если война не помешает, осенью обвенчаются. Доктор снова вздыхает. Смотрю удивленно.
— Не такой человек ей нужен! — говорит Розенфельд.
— Беден?
— Не в том дело. Юношеская любовь, романтичные свидания… Юрий Ольге в рот смотрит. Она из него веревку совьет!
Хмыкаю — с Ольги станется. Розенфельд, подумав, лезет в шкаф. На столе появляется графин, санитар приносит нехитрую закуску. Госпитальная водка хороша! Розенфельд не скупится, своевременно подливает в рюмки. Не зря ехал! Доктор, на удивление, от меня не отстает.
— Вы, верно, дивитесь, что так говорю?
Нам-то что? Но доктора не остановить.
— Поверьте, дело не в Юрии. Он замечательный мальчик: чистый, искренний, честный. Дело в Ольге. Она сделает несчастным его и себя. Уж я-то знаю!
Намечается душевный разговор, здесь это любят. Что ж, меня угостили…
— Есть вещи, которые не говорят даже близким, но вы, как я заметил, не болтливы. Мать Ольги не умерла вскоре по ее рождению, как считают все, в том числе и сама Ольга. Это случилось много позднее, — он вздыхает. — Смерть ее была ужасной…
Та-ак, скелет в шкафу.
— Я вырос в местечке, в бедной еврейской семье. Знаете, что это такое? Нищета, скудная еда, тряпье, перешиваемое по многу раз…Жить так я не хотел. Как еврею выбиться в люди? Разбогатеть или выучиться — по-другому никак. Я выбрал учебу — мечтал стать доктором. У нас в местечке был врач, Либензон. Толстый, важный, ему все кланялись и целовали руку… Я учился до головных болей, смею вас заверить, ни один русский юноша так не учится. Мне удалось кончить гимназию с медалью, экзамены в университет сдал блестяще. Но приняли другого — сына богатых родителей. Квота для евреев составляла одно место, за него замолвили слово, за меня было некому. Рухнувшая мечта, крушение надежд… Вернуться домой, стать подручным лавочника? Лучше в петлю! Только от отчаяния можно совершить то, что сделал я — принял православие. Чтоб вы поняли: евреи вероотступников не прощают. Родители вычеркнули меня из числа детей, от меня отвернулись родня и знакомые. Я разом потерял все. Однако в университет поступил. Учиться без денег трудно. За учебу платил попечительский совет, новообращенным из евреев он помогает, но пропитание приходилось добывать. Кем я только не работал! Даже в прозекторской трупы носил… Выдержал. Диплом на руках, что дальше? Открыть частную практику? Молодой доктор без имени… Ординатором в больницу? Нищенское жалованье, косые взгляды — выкрестов в России не любят. Добрые люди подсказали: армии нужны врачи! Среди военных немало инородцев, в том числе офицеров. Я подал прошение и был принят. Не скажу, чтоб меня встретили с распростертыми объятиями, строевым офицером я бы не прижился, но врач… Любой в России знает: евреи — лучшие врачи и адвокаты…
— И финансисты.
— Этого не отнять — жизнь в рассеянии научила. Все складывалось успешно. Служба, отношения с сослуживцами. На двадцать восьмом году я женился. Лидия была дочерью офицера — из небогатых; я надеялся: на этой почве мы сойдемся. Хотя, вру. Ни на что я не надеялся! Просто влюбился, как мальчик. Она была чрезвычайно хороша, Ольга на нее похожа. (Г-мм!) За ней многие ухаживали, но тесть выбрал меня. Он сам из солдатских детей, нужду познал в полной мере, иметь зятем врача считал за счастье.
Я сознавал, что Лидия меня не любит. Поклонники окружали ее, осыпали комплиментами. Ей хотелось царить, порхать, блистать. Однако отец настоял, она послушала. Я надеялся: Лидия полюбит меня! Я ведь ее любил! Я выполнял малейшую прихоть супруги, тратил деньги на ненужные забавы, залезал в долги. Когда появилась Оленька, подумал: «Слава Богу! Уж теперь-то жена образумится». Вышло ровно наоборот. Ходить за ребенком тяжело даже с прислугой. Оленьке было шесть месяцев, как Лидия нас бросила. Сбежала с офицером в Париж, как в водевиле. Я же говорил: ей хотелось блеска…
Вы не представляете, как я был убит! Если б не Оленька, покончил бы с собой! Дочь меня спасла, жил для нее. А через год получил от жены письмо. Любовник бросил Лидию, она — в отчаянном положении. Умоляла простить, обещала, что станет другой. Я не ответил…
Розенфельд смотрит на меня. В глазах его — тоска и боль.
— Не считайте меня жестоким. Я принял православие по необходимости, но со временем поверил. Не все русские молятся, как старый еврей, что сидит перед вами. Лидию простить я не мог. Дело не в оскорбленной гордости, я бы смирился. Я даже готов был оставить службу. Офицерская среда живет по своим правилам, здесь не приветствуют супружескую неверность. Офицер, принявший беглую жену, обязан снять погоны. Я хоть военный чиновник, но правила те же. Я не боялся этого: к тому времени приобрел имя и легко нашел бы место. Причина крылась в другом. Ради любовника Лидия бросила дочь. Все родители любят детей, но евреи в этом смысле просто сумасшедшие. Еврейская мать скорее умрет, чем оставит ребенка. В ту пору я думал как еврей…
— Что с ней стало? — я не в силах терпеть эту исповедь. Надо завершать.
— Что может стать с брошенной женщиной? Покатилась по наклонной. Женщине в нашем обществе трудно жить, особенно, если ничего не умеешь. Кончилось тем, что ее зарезал в припадке ревности очередной любовник. Какой-то кроат…
— Почему вы не женились вторично?
— Не хотел брать дочери мачеху. Хотя партии складывались заманчивые. Дочь генерала… Врач вхож в любой дом. Генерала я лечил от подагры, его супругу — от мигрени, а дочь страдала малокровием. Некрасивая девушка, но очень добрая. Чем-то я ей полюбился, родители не возражали. Я не смог. Не только из-за дочери. Боялся: меня снова бросят. Во второй раз я бы не вынес. Выпил бы цианид — у врачей он есть.
Молчу. Розенфельд еще не выговорился.
— Я много размышлял позже, почему так случилось? Почему Бог наказал меня? Ответ один: за обман! Принял веру из корысти. В детстве я зубрил Тору, которую православные зовут Ветхим Заветом, многие книги знал наизусть. Там рассказы о Божьем гневе, до сих пор помню. Бог бьет отступников по самому больному, тому, что особенно дорого. Я боюсь за Ольгу. Она в мать не только лицом, но и характером. Это я настоял, чтоб она училась. Жене офицера ремесло без нужды, но фельдшер не останется без куска хлеба. Только я не хочу, чтоб случилась беда. Я хочу, чтоб она была счастлива. С Юрием этого не выйдет, ей нужен человек вроде вас.
— ???
— Дело не в том, что вы зрелы не по годам. Вы не из тех, кто позволяет собой помыкать, особенно женщинам. Они, кстати, это чувствуют и — не удивляйтесь! — очень ценят. Женщины тянутся к сильным мужчинам. Сколько сестер в госпитале мечтают о вас!
Ну, уж нет! Хватит с них Рапоты!
— Зря, молодой человек, зря! Если б только знали, какие здесь сердца! С началом войны в порыве патриотизма в лазареты и госпитали пришли многие. Кровь, грязь и смерть сделали отбор — остались лучшие. Любая сестра составит счастье мужчине. Будь я помоложе…
Смеюсь и грожу доктору пальцем. Мне сейчас можно. Розенфельд улыбается. Встаю. Доктор поднимается.
— Хочу просить вас, Павел Ксаверьевич, поберегите себя! Награды — это хорошо, но жизнь ценнее. Сергей Николаевич по молодости этого не понимает, но вы-то взрослый! Не будьте таким отчаянным! Подумайте о близких! У вас размолвка с отцом, но я уверен: он вас любит!
Доктор ошибается. Ксаверий Людвигович любит не меня, а эту оболочку. Его сын мертв, мне его не заменить. Доктору этого не объяснишь. Вывод последует незамедлительно: у контуженого прапорщика раздвоение личности. Здешнюю дурку зовут «желтым домом».
— Мне будет плохо, если вы погибнете. Вы хороший человек, я к вам привязался, — доктор обнимает меня.
Странно, но я растроган. Надо меньше пить…
* * *
Продолжаю учиться, еще неделя и пробежки на «руллере» пришли к финалу. Егоров обещает вывозные на своем аппарате. Среди нижних чинов у меня команда «фанатов». Она разбита на две партии: энтузиастов и скептиков. Энтузиастами верховодит Нетребка. Он сто процентов уверен: их благородия, прапорщик Красовский Павел Ксаверьевич, непременно полетят! Денщик проявляет энтузиазм и в починке нечастного «Фармашки» — мой «руллер» постоянно в ней нуждается. Это замечает рачительный Егоров. После обеда, взяв меня за пуговицу, отводит в сторонку.
— Кем был ваш денщик до войны, Павел Ксаверьевич?
— Болванщиком, Леонтий Иванович!
— Так он столяр-краснодеревщик! Они нам позарез нужны. Возьмите вместо него кого-нибудь из строевой команды, а его переведем.
— Привык я к нему, Леонтий Иванович! Да и он не обрадуется.
— Я, конечно, могу приказать, но не хочу. Полетаете, поймете. Вернемся к этому разговору…
Первый самостоятельный полет, мне хватило пяти вывозных. Это не только моя заслуга. Мой предшественник в теле летал, рефлексы сохранились. Теперь я действительно летчик. Воюю наблюдателем с Рапотой, летаю на «Вуазене» в свободное время. Из крепости прислали двух поручиков-артиллеристов, Егоров прочит их в наблюдатели себе и мне. Новичками занимается Зенько, учит их авиационным премудростям. Однако аппарата для меня нет, и пока не предвидится.
Нас с Рапотой командируют в новое подразделение. Называется «Особое авиационное звено». Создано при штабе армии, мы теперь стратегические разведчики. На самом деле мало, что изменилось. Стоим на том же аэродроме, только летаем в тыл к германцам. Ранее кружили у линии фронта или корректировали артиллерию. Наш новый командир — француз, капитан Сегно. Это спокойный и уверенный в себе человек, он летает на таком же «Вуазене», но французской выделки. Любознательный Рапота успел узнать: француз застрял в России с началом войны и решил тут остаться. Так поступили многие, в том числе знаменитый пилот Пуаре, он воюет неподалеку. Точно так же, как наши летчики во Франции. Неугомонный Серж полетал на французском аппарате, теперь печалится. Русский «Вуазен» тяжелее и, следовательно, инертнее француза. Зато на нашем агрегате на хвосте вместо кокарды огромная фабричная марка — белый лебедь на синем поле. По красному кругу — надпись: «Акционерное Общество Лебедева». Реклама — двигатель торговли…
Летим искать немецкий штаб. Разведка выявила вероятное его расположение, командованию нужно знать точно. Нам предстоит не только обнаружить, но и сфотографировать. Настроение у меня паршивое. Деньги внезапно кончились, вместе с ними — и водка. Без водки жить грустно и вредно для здоровья. Вчера верный Нетребка притащил откуда-то вяленой рыбки, угостил доброго барина. Их благородие сдуру попробовали. Без водки такие эксперименты кончаются плохо. «И носило меня, как осенний листок» — в сортир и обратно. Не только желудок, кишечник пуст, как закрома Родины. Рапота разыскал порошок от расстройства, но лучший способ — голод. Многократно проверено, на собственных (временно собственных, конечно) кишках. Лечу не только больной, но и голодный. Даже от чая отказался — сортиров в воздухе нет.
Линию фронта пересекаем без выстрелов, однако у цели нас засекли. Это становится понятным при подходе к местечку, где расквартирован штаб. «Воздухобойки» неистовствуют, бросая в нас шрапнельные снаряды. Облачка разрывов все ближе и ближе. Ложимся на боевой курс, начинаю фотографировать. Внизу что-то рвется, но рассматривать некогда — от близких разрывов «Вуазен» потряхивает. Последняя кассета, пора! Хлопаю Сергея по плечу, тот кивает и разворачивает аппарат. Почти рядом с гондолой рвется снаряд. Тупой удар в живот, боль… Смотрю на Сергея — сидит, как ни в чем не бывало. Его не зацепило.
Разрывы и местечко остались позади, чешем домой. Живот болит, причем боль все нарастает. Ощупываю себя — в куртке и шароварах прореха. Осколок (по форме пробоины в гондоле видно, что не пуля — осколок) вошел справа и сверху. Чувствую, как по ноге струится нечто теплое. Что имеем? Ранение в живот, осколочное, там сейчас рагу из кишок. В мое время шансы выжить пятьдесят на пятьдесят, чего ждать от начала от века? Срок поездки истек, пора прощаться с попутчиками. Только привык…
Голова кружится, поле зрения сужается. Это от потери крови. До аэродрома не дотяну. Жаль, не увижу доброго доктора. Извините, Матвей Григорьевич, наказ не исполнен! Не по моей вине… С Сергеем проститься надо, славный он парень! Достаю блокнот и карандаш, большими буквами пишу: «Прощай!» Пожелать бы чего, но на это нет сил. Передаю блокнот. Сергей читает и поворачивается. Я пытаюсь улыбнуться — не выходит.
Лицо Сергея расплывается. Свет в глазах меркнет и стремительно сжимается в точку, как на экране выключенного телевизора. Наконец и точка исчезает. Все…
8
Прохладная, маленькая ладошка на моем лбу.
— Айя?
Ладошка ласково гладит меня по голове.
— Аечка, цветочек мой лунный, как я по тебе скучал!
Две слезинки выбегают из-под моих век, ладошка их бережно отирает.
— Аечка…
Она досталась мне при разделе военной добычи. После того, как спартанцы разбили персидскую конницу, а мы — пехоту союзных персам греческих городов (фиванский отряд вырезали до последнего гоплита — слишком рьяно сражались), остатки армии персов заперлись в деревянной крепости. Спартанцы непобедимы в поле, но крепости брать они не умеют, пришлось афинянам, то есть нам. Еще не остывшие от рубки, мы ринулись по деревянным лестницам, и здесь я поймал кураж. Взлетев по шатким ступенькам, спрыгнул внутрь — и пошла потеха! У меня были только щит и махайра. С копьем по лестнице не побегаешь, дай Арес удержать тяжелый гоплон. Внутри меня встретили наемники-гоплиты. У персов отменная конница, но пехота — оторви и выбрось. Потому гоплитами у Мардония служили изменники-греки. Они знали о смерти командующего (Мардония уконтрапупили спартанцы) и сражали вяло. Но даже так мне пришлось туго. Стоило хоть мгновение промедлить, и меня б нашпиговали бронзой. Я не колебался, терять мне было нечего. Закрывшись гоплоном, рванул на строй, как будто за мной шла фаланга. Они не ждали такой наглости, и на мгновение растерялись. Это им дорого обошлось. Я проломил щитоносную шеренгу, и пришло время махайры. Я колол, рубил, резал; кололи, рубили, резали меня, но я не чувствовал боли. Я очнулся, когда вокруг стало пустынно. Подбежавшие афиняне вязали сдающихся изменников, уносили своих раненых и добивали раненых врагов. Меня перевязали — иначе не дожил бы до вечера. В крепости захватили женщин Мардония: персы не расстаются с гаремом даже в походах. Двум героям: Аимнею, убившему Мардония, и мне позволили выбрать рабынь. Перед этим с наложниц сорвали одежды, дабы ни один изъян не укрылся от победителей. Аимней выбрал гречанку: высокую, стройную, медноволосую, с тяжелыми литыми бедрами. Войско застонало, когда спартанец схватил добычу: на месте героя желал быть каждый. Кроме меня. Греки помешаны на красоте, но их представления о прекрасном странные. Что может быть чарующего в линии носа, совпадающей с линией лба? Я колебался, когда одна из гарема: маленькая, смуглая — замухрышка, а не женщина, даже странно было видеть ее среди наложниц, вдруг не выпалила:
— Возьми меня, господин!
Я изумился: это было неожиданно. Греческие женщины не заговаривают с мужчинами.
— Ты ранен, я умею врачевать! — добавила смугленькая.
Во враче я нуждался больше, чем в женщине, поэтому кивнул. Добычу полагалось схватить и бросить на плечо, но у меня не было на это сил. Айя (а это была она) сама подошла и взяла меня за руку.
— Вели вернуть мне одежду! — сказала строго. — Теперь я твоя женщина, они не должны пялиться. Мой узелок пусть тоже вернут. В нем снадобья, ты в них нуждаешься.
Я распорядился. Она обняла меня, и мы поковыляли к шатру. Наш путь лежал сквозь войско, мы шли, сопровождаемые скабрезными шуточками. Шутки были беззлобные: мне никто не завидовал. Что они понимали, жеребцы…
Айя заново перевязала мне раны, перед этим промыв их и зашив. В узелке ее оказались горшочки с мазями, вязкими и пахучими. Мази угомонили боль и сняли жар. На узелок Айи победители не позарились: это ведь не украшения или дорогие одежды. Если б они знали, как продешевили! Через неделю я был на ногах, в то время как других раненых отнесли на погребальные костры. Многие умерли и позже.
В первый же вечер Айя, скинув одежды, и легла со мной на шкуру. Мне, однако, было не до забав. Я не тронул ее на следующий день и в последующие. Через неделю она спросила, кусая губы:
— Господин, я тебе не нравлюсь? Или ты любишь мальчиков?
В ответ я пожал плечами. Я в самом деле не знал, кого я люблю. Воплощение в гоплита состоялось незадолго до битвы при Платеях, последующее время прошло в лагерях и походах. Я больше думал, как восстановить навыки боя, чем о женщинах. Не получив ответ, Айя заплакала. Крупные, как плоды олив, слезы катились по смуглым щекам и падали мне на грудь. Я обнял ее левой рукой (правая еще побаливала), и она, всхлипывая, стала рассказывать. Оказалось, что никакая она не наложница — знахарка. Мардоний держал ее при гареме, чтоб лечила женщин — и только для этого. У восточных народов есть бзик — посторонний мужчина не должен касаться твоей женщины; неважно — лекарь он или кто другой. Пользовать наложниц разрешается евнухам, но где найти лекаря-евнуха? Поэтому знахарки в цене. Айю обучил ремеслу отец, обучил хорошо. Она не персиянка, персы своих женщин врачевать не учат — у них другое предназначение. Айя назвала имя племени, из которого родом, но я, признаться, плохо разбирался даже в греческих топонимах. Что говорить о бескрайней Персии? Оказалось, ее полное имя Айгюль, что означает «лунный цветок» — Айгюль родилась ночью. Отец сам принял дочь, и новорожденная ему понравилась. Отец продал Айю за двести драхм — столько не платят даже за красавиц. Отец был счастлив: разбогател и за будущее дочери спокоен. Жить при дворе второго человека империи… Разумеется, Мардоний мог спать с Айей, и он этим правом воспользовался. Один раз. После чего велел смуглянке лечить красавиц, а о его спальне забыть. Мардоний, как все персы, любил крутобедрых и пышногрудых, худышка его не привлекала. Айя лечила: принимала роды, снимала боль и высчитывала часы, благоприятные для зачатия. Сама на зачатие не рассчитывала: Мардоний мог не спать со своей лекаркой, но это не означало, что другим позволялось. Знахарка напрасно старела. Айя с болью в голосе призналась, что ей уже двадцать три, а она считай, что девственница. Это такое горе! Она обманула меня, скрыв это при выборе. Она совершенно не искусна в любви, а греки ценят в женщинах именно это. Она надеялась, что храбрый воин, который давно не знал женщины (где ж взять их в походе!), набросится на нее, но он побрезговал…
Слушать это было смешно, и я расхохотался. Она запнулась, обиженно поджала губу, но лекарь победил в ней женщину.
— Господин! — сказала она с тревогой. — Если будешь смеяться, швы на ранах лопнут! Я умоляю тебя…
— Расскажи лучше, как любят персы!
Она оживилась: тема была знакома. Рассказывая, она увлеклась и перешла к показу; так легко и естественно случилось то, о чем она мечтала. Айгюль уснула счастливой, а назавтра обмывала и перевязывала меня с особой нежностью.
По возвращению в Афины я отпустил ее на волю со всеми необходимыми формальностями. Как было заявлено на агоре, «в благодарность за исцеление от тяжких ран». Однако Айгюль не ушла, хотя я предлагал ей вернуться в Персию.
— Я там не нужна! — сказала она. — Отец умер, а замуж меня не возьмут — слишком старая, — она помолчала и спросила с тревогой: — Ты ведь не прогонишь меня, господин?
— Прогоню! — пообещал я. — Если хоть раз назовешь меня «господином».
— Как же мне звать тебя? — удивилась Айя.
— У меня есть имя.
— Мне трудно выговаривать «Эрихфоний», — сказала она. — Может Эрихий? Ты не против?
— Просто Эрих. А ты будешь Айя. Мне не нравится «гюль».
— Лучше Аечка! — попросила она. — Я люблю, когда ты зовешь меня так. Как будто гладишь…
Я согласился.
— Теперь, когда у нас новые имена, мы заживем радостно! — сказала она. — Прежние имена не принесли нам счастья: ты едва не погиб, а я старела без любви. Война кончилась, ты здоров, и у меня есть муж. Сегодня же принесем жертву богам!
Она считала меня мужем, хотя мы не заключали брак. В разграбленных и сожженных Мардонием Афинах союз с персиянкой, мягко говоря, не поняли бы. Айю это не смущало, меня — и подавно. В Афинах выяснилось, что я богат. Гоплиты — люди не бедные: одной бронзы в их снаряжении на несколько талантов, а бронза в Греции стоит дорого. В наследство от родителей мне достался участок земли неподалеку Афин. Мой городской дом разграбили персы, но землю унести они не могли. Земля давала солидный доход, к тому же мне перепала военная добыча. Айя занялась семейным хозяйством: нанимала арендаторов, торговалась с покупателями, присматривала за рабами и обустраивала дом. Я больше сидел в таверне или толкался на агоре, перетирая с такими же бездельниками последние новости. Я честно пытался помочь жене, но Айя отстранила меня — за никчемность. Я разбирался в древнегреческом сельском хозяйстве, как наш старшина — в классическом балете, что и понятно. Поначалу я обиделся, но потом смирился. Вечерами, извлекая бронзовые заколки из прически (волосы у нее были густые и пышные), Айя рассказывала о дневных хлопотах и с гордостью сообщала о выгодных сделках. Я же нетерпеливо ждал, когда она сбросит одежды…
На ложе она исполняла мои желания, нисколько не заботясь о себе.
— Главное, чтоб муж был доволен! — объясняла она. — Если женщина не способна дать это ему, то зачем она? Я сама утолю огонь в своих чреслах — любая женщина это умеет. Я занимаюсь этим, когда ты спишь. Прижимаюсь к тебе и вожу пальчиком. Мне так хорошо!
Мне стоило труда переубедить ее. Я сказал, что испытываю наслаждение, видя ее удовлетворенной. С тех пор она внимательно следила, чтоб это случалось одновременно.
— Боги смилостивились, послав мне тебя! — говорила она после ласк. — Ни одна женщина Персии не сравнится со мной в счастье. Я старая, некрасивая, а ты любишь меня! Так не любят даже красавиц!
Я не смог объяснить ей: в моем времени она считалась бы идеальной женой. Любой мужчина носил бы ее на руках. Что до красоты… Став женой, Айя расцвела. Я не раз замечал заинтересованные взгляды, которыми провожали ее мужчины. Однако убедить Айю не пытался: иногда она бывала упрямой.
Со временем Айю стало тревожить другое. Она не беременела, несмотря на все благоприятные дни. Однажды она сказала мне:
— Ты должен попробовать с другой женщиной!
Слабую попытку возразить она пресекла на корню. К тому времени у нас появился новый источник дохода — Айя стала лечить афинянок. Греки не стесняются наготы, на соревнования в женских гимнасиях, где девочки бегают и прыгают нагими, приходят все желающие. Стоит, однако, гречанке выйти замуж, как муж запирает ее в гинекее. Только в бедных семьях жены ходят на рынок, в состоятельных это дело рабов. Большую часть жизни афинянки проводят в четырех стенах. Будь Айя официальной женой, ее заботы по хозяйству встретили бы непонимание. Рабыне или как там ее, вести дела позволено. Греческие мужья, как и персидские, не хотели, что их жен лапал лекарь-мужчина, а женщины, как известно, иногда болеют. Айя лечила удачно, ее практика стремительно росла и приносила большой доход. Деньги, полученные от пациенток, Айя отдавала мне, как и остальную выручку. Я ведь был ее мужем! Взамен я покупал ей подарки, она им чрезвычайно радовалась. Подарки у персов (и не только у них) служат доказательством любви.
Женщин, желающих забеременеть, Айя знала. Все они были одинокими, большей частью вдовами. В разрушенных персами Афинах вдов хватало. Айя приводила их в благоприятные для зачатия дни и предлагала мне. Таинство совершалось под присмотром. Айя объясняла это необходимостью, но я думаю, она просто ревновала. Я выполнял задание молча, без ласк, Айе это нравилось. Следующей ночью она любила меня с особой страстью, словно показывая: лучше ее не найти! Как будто я искал…
Ни одна из вдов не забеременела, и Айя успокоилась. Она опасалась, что бесплодна, а бесплодных жен выгоняют.
— Мне так хотелось родить тебе сына, лучше двух! — сказала она по завершению эксперимента. — Жаль, что боги сделали тебя бесплодным. Их можно понять: ты необыкновенно красив. Боги завистливы.
Я предложил ей забеременеть от другого, Айя обиделась:
— Мужчина может дарить семя любой женщине, но не каждая может его принять. Понятно, когда женщина одинока. Если у нее есть муж, и он бесплоден, женщина принимает семя брата или отца мужа. У тебя их нет. Родить мужу сына от постороннего — предательство, за это в Персии закапывают живьем. И правильно делают! — добавила она мстительно.
В конце концов, я рассказал ей правду. У меня больше не было от нее тайн. Айя не удивилась. В мире, где боги принимают облик мужчин, чтоб соблазнить их жен, а герои, родившиеся от таких союзов, охотятся на гарпий и добывают золотое руно; в этом мире история солдата, путешествующего по телам, не выглядела чем-то исключительным. Айя надоумила меня пойти к пифиям, и ее обрадовал ответ. Ей не нравилась история гастата Секста Помпония. Айя просила обучить ее русскому языку, но из-за хлопот по хозяйству далеко не продвинулась. Она запомнила лишь отдельные слова. Более всего ей нравилось: «Я люблю тебя, маленькая!», возможно, из-за перевода. В русском языке слово «маленькая», произнесенное в определенном контексте, может означать что угодно, и я перевел его как «моя богиня». Айя произносила эту фразу, забавно коверкая слова, затем попросила говорить ее чаще. Мне было не трудно.
На какой-то миг я поверил, что история солдатика Петрова кончилась. У меня был дом, достаток, любимая и любящая жена. Пусть я жил в другом мире, но здесь тоже были люди, и среди них встречались симпатичные. Я забыл, что бывает война, и она напомнила о себе. Персы нас не беспокоили, но разоренную нашествием страну заполонили разбойничьи шайки. Однажды утром ко мне прискакал арендатор: разбойники грабят ферму. Хозяин обязан защищать арендатора, к тому же представился случай себя показать. Я вскочил на коня, не надев в спешке доспехов. Подумаешь, разбойники с дубинами! У одного, к несчастью, оказался лук. Прежде, чем я проткнул стрелка копьем, он попал мне в живот. В горячке схватки я не обратил на это внимания: обломил древко стрелы и погнался за остальными. На обратном пути живот стал болеть. Дома Айя вытащила стрелу, внимательно осмотрела наконечник, понюхала его и даже лизнула. Лицо ее разом постарело.
— Господин мой! — в расстройстве чувств она забыла о нашем уговоре. — Стрела пробила тебе кишку! Ты умрешь!
Она зашлась в рыданиях, мне не удалось ее успокоить. Выплакав слезы, она встала.
— Мне надо позаботиться о погребальном костре, — сказала она сухим голосом, — и еще о многом. Нам надо завершить дела. Мы взойдем на костер вместе.
Я не смог ее отговорить. Я умолял, обещал, что сделаю ее наследницей, она станет богатой и легко найдет мужа. У нее будет семья, дети… Айя не согласилась.
— Я лечу афинских жен, — сказала она, — и часто говорю с ними о сокровенном. Лекарке они доверяют. Думаешь, хоть одной из них сказали: «Я люблю тебя, маленькая?» Муж возьмет меня ради денег и сразу запрет в гинекее. Сам же станет развлекаться с рабынями, купленными на мое золото. Дети? Зачем мне дети, если они не твои? Пусть мы попадем в Аид, будем там бесплотными тенями, но все же вместе.
Назавтра костер был готов. Огромный, роскошный, из сандалового дерева, украшенный богатыми тканями. Денег жалеть не приходилось, Айя и не жалела. Поджечь костер согласился Аристид, наш командующий при Платеях — это было честью. На вызолоченных носилках меня подняли наверх. Вокруг собралась огромная толпа: Афины провожали героя. К тому же герой уходил с персиянкой — редко увидишь. Меня одели в лучшие одежды, Айя тоже принарядилась. Я уже впадал в забытье, но в последний миг очнулся. Мужчины в толпе стояли хмурые, женщины плакали — добрые сердца есть в любом мире. Жрец прочитал молитву, и Айя поднесла мне золотой кубок.
— Пей! — сказала грозно.
Она не хотела, что смерть выглядела самоубийством — спасала меня от будущих страданий. Мгновение помедлив, я осушил половину кубка. Остальное допила она. После чего легла рядом и обняла меня.
— Скажи: «Я люблю тебя, маленькая! — попросила она, с трудом ворочая языком — яд начал действовать. Я тоже ощущал онемение во рту, но произнести слова сил хватило…
* * *
Маленькая ладошка трогает мой лоб. Это не Айя — Татьяна. Я снова в госпитале и даже той же палате. Татьяна ухаживает за мной, она внимательна и заботлива. Я товарищ Сергея, а все, что связано с Сергеем, для нее свято. Славная будет жена у поручика! Если, конечно, уцелеет в мясорубке, которую современники окрестили Великой войной, а потомки забудут через поколение…
В палате появляется Розенфельд. За его спиной маячит кто-то незнакомый в простой одежде мастерового. Розенфельд по-хозяйски усаживается на стул.
— Вы, конечно, хотите знать, почему живы? — спрашивает доктор, довольно улыбаясь. — Я отвечу: невероятное стечение обстоятельств! Во-первых, — он загибает палец, — поручик Рапота не повез вас на летное поле. И правильно сделал — вы бы истекли кровью! Сергей Николаевич посадил аппарат прямо у госпиталя. Поломал его, зато через пять минут вы лежали на операционном столе.
Ну, Сергей, ну орел! Тебя просили?
— Второе! — доктор берется за следующий палец. — Осколок пробил деревянную обшивку аппарата и вашу кожаную одежду, потеряв при этом часть силы. Однако он был еще силен и разрубил бы ваш кишечник на части. Но на своем пути осколок встретил это, — доктор извлекает из кармана часы, вернее, то, что ими когда-то было. Серебряный корпус изуродован и напоминает кривую плошку. — Осколок вбил часы вам в живот, но дальше не пошел. Механизм, естественно, рассыпался, все части оказались внутри. Я как увидел, так и понял: без часовщика не справлюсь. Где взять часовщика? И тут мне докладывают: есть, и в госпитале! Пришел навестить раненого родственника. Велю немедленно переодеть — и в операционную! Так мы и работали вдвоем: я доставал, а он на столе складывал, пока не собрали все: каждый осколочек стекла, каждую пружинку. Я взялся за иглу, когда он сказал: «Все!» Адам Станиславович Вишневский, прошу любить и жаловать!
Вишневский кланяется:
— Рад служить пану офицеру!
— Ну и, в-третьих, — продолжает Розенфельд. — Часы все же повредили кишечник, пусть и незначительно. Мне пришлось удалить с аршин тонкой кишки, но это не страшно — у вас еще много осталось! — он смеется. — Однако при таких ранениях содержимое кишечника изливается в брюшину, а это гарантированный перитонит. И что же? Ваши кишки оказались пусты! Совершенно! Вы что, постились?
— Понос. Денщик накормил тухлой рыбой.
— Это у нижних чинов понос, у офицеров — колит, — он снова смеется. — Однако следует признать: колит случился как нельзя вовремя. Не забудьте дать денщику на водку. Что мы имеем в итоге? Невероятное стечение обстоятельств, которое спасло жизнь прапорщику! Кто-то горячо молится за вас, Павел Ксаверьевич!
Некому за меня молиться…
— Вы забыли о четвертой причине, господин коллежский асессор!
— Какой? — он удивлен.
— О золотых руках доктора Розенфельда! Спасибо вам, Матвей Григорьевич! Спасибо, пан Адам!
Розенфельд протестующе поднимает руку, но по лицу видно: доволен.
— Случай и в самом деле уникальный, — говорит он. — Собирался в медицинский журнал написать, но опередили, — он достает из кармана газету. — Вот! Вы теперь знаменитость. Поправляйтесь, Павел Ксаверьевич! Как станете на ноги, милости прошу! Кабинет для вас открыт.
После ухода гостей читаю газету. Огромная статья: «Подвиг русских военлетов», как водится с «ятями» и «ерами» на законных местах. Все описано подробно, по всему видать — со слов поручика Рапоты. Полет во вражеский тыл, съемка штаба неприятеля. Добыты важнейшие сведения (откуда репортеру это знать?), тяжелое ранение летнаба… В центре внимания журналиста почему-то не летчик, посадивший аппарат у госпиталя, а раненый прапорщик. Изложена биография героя. Сын состоятельных родителей, учился в Лондоне, но с началом войны «по зову сердца» (как же иначе!) вернулся, чтоб «грудью стать на защиту Отечества». Отличился в окопах (опять мулька про германских офицеров), был приглашен в авиацию. О дуэли с князем автор не вспоминает, что и понятно — не вписывается в образ. Зато о крестике из рук Е.И.В. (Его Императорского Величества) два абзаца. Подвиги в воздухе — подробно и с деталями, перечислены высокие награды Отечества. Роковой полет… Автор писает кипятком от записки: «Прощай!» Герой не стал просить товарища спасти его (как будто мог), а сурово и просто сказал последнее «прости». Величие духа русского воина, вот то, что всегда отличало нас от гнусных германцев! Само провидение (привет вам, поручик Рапота!) вмешалось и спасло героя, который умирал с думой об Отечестве (ну, попадись ты мне, писака!). В центре газетной полосы — большой рисунок. Летчик в круглом шлеме передает пилоту блокнот, на странице которого большими буквами: «Прощай!» На белом листе — черные пятна, такие же черные капли падают с пальцев раненого. Надо понимать, не чернила, хотя впечатление именно такое. В итоге вывод: «С такими былинными воинами, как прапорщик Красовский, Россия неизбежно одержит победу!» От имени читателей (кто его уполномочил, интересно?) автор желает герою скорейшего выздоровления.
Твою мать! Хоть бы Розенфельда вспомнил! Стыдно перед доктором. Где б лежал «былинный герой», если б не он?
Статья имеет неожиданный эффект: меня награждают Георгиевским оружием. Видимо снимки оказались и вправду важными. У меня уже есть аннинское: знак ордена Анны, «клюкву», носят на эфесе оружия. У авиаторов это кортик, но я им пока не обзавелся. Рапоту представили к Георгию IV класса — за спасение офицера. Сергей рад, и радость его заразительна. Награду мне вручают в госпитале. Пришли все летчики отряда. Они купили мне кортик вскладчину. Знак ордена Святого Георгия привинчен к верхушке рукояти — эфес у кортика слишком узкий. «Клюкву» прикрепили к ножнам. Теперь это Аннинское и Георгиевское оружие одновременно. На изогнутом перекрестии выгравирована надпись «За храбрость». Не забыт и темляк из орденской ленты — желтые и черные полосы, серебряная кисть. Теперь я как петух индийский…
Сестры милосердия приходят проведать. Им интересно все: мое самочувствие, кортик с темляком, но более всего — извлеченные из живота часы. Изуродованный «Буре» ходит по рукам, вызывая почтительное изумление. Они очень славные, эти женщины. Почти все некрасивые, но с удивительным светом на исхудавших лицах. Я целую им руки, они смущаются и прячут их под фартуки. Кожа рук у них грубая и красная от частого мытья, они это знают и стесняются. Женщины везде хотят выглядеть привлекательно.
Татьяна ревниво следит за визитами. Она оберегает прапорщика от излишних волнений и просит, чтоб его не утомляли. На самом деле стремится быть со мной сама. Ей хочется говорить о Сергее, я самый подходящий для этого объект. Я рассказал все, что знал о поручике хорошего, но ей хочется еще. Она готова слушать о Сергее часами. Делиться чувствами Татьяна стесняется, только мечтательно улыбается. Улыбка делает ее лицо необыкновенно милым.
— Когда вы лежали в беспамятстве, — однажды говорит она, — то звали женщину. Имя необычное… — она смотрит вопросительно.
— Айя?
Она кивает.
— Сокращенно от Айгюль.
Татьяне очень хочется спросить, любопытство борется в ней с деликатностью и побеждает.
— Это ваша невеста?
— Жена.
Лицо у Татьяны изумленное: никто не знал, что прапорщик женат.
— Где она сейчас?
— Умерла.
— Павел Ксаверьевич, ради Бога!.. — Татьяна прижимает руки к груди. Она искренне огорчена: заставила вспомнить меня о грустном. Делаю успокаивающий жест:
— Это случилось давно…
За пятьсот лет до Рождества Христова. Но саднит, как будто вчера.
— Она болела?
Киваю. Болезнь звалась «любовью». От нее, случается, умирают.
После этого разговора отношение сестер ко мне меняется. Почтительное восхищение и настороженность сменяет трогательная забота. Причину искать далеко не надо. Прапорщик не делал попыток сблизиться с кем-либо из сестер, что вызывало недоумение. «Как его понять, ведь мы не так уж плохи?!» Прапорщика считали заносчивым. Теперь все разъяснилось. Сердце героя ранено смертью любимой, он тоскует и не может забыть. Ее звали Айгюль, это звучит так загадочно. Хорошо б исцелить эту сердечную рану! Женщины обожают романтические истории…
Мне приходят письма со всей России. Пишут барышни и гимназисты, почтенные отцы семейств и патриотические организации. Адрес на некоторых конвертах предельно краток: «Германский фронт, прапорщику Красовскому», и эти письма доходят! Восторженные слова, пожелания скорейшего выздоровления. Мне шлют памятные адреса и деньги. Сначала я недоумеваю, но мне объясняют: традиция. В России принято помогать больным и раненым, я, наверное, забыл в Англии. Денег набирается много — почти тысяча. Отношу их Розенфельду.
— Я б на вашем месте не спешил! — говорит доктор. — Мне понятен ваш душевный порыв, но, насколько знаю, отец вам не помогает. Деньги вам самому пригодятся. Мундир ваш испорчен, к тому же он теплый, а сейчас лето. Вам понадобится кожаный костюм, ботинки с крагами — все это стоит недешево.
После короткого спора уславливаемся: деньги побудут у доктора, а если мне сколько-то понадобится, возьму. Не понадобилось. Мне приносят конверт, перевязанный бечевой и с сургучными печатями. Внутри — десять бумажек с портретом императрицы Екатерины II и короткая записка: «На лечение». Тысяча рублей, почти годовое жалованье прапорщика. Почерк на записке четкий, твердый. Отправитель: Красовский Ксаверий Людвигович. Папаша вспомнили о блудном сыне…
Приглашенный из Белостока портной шьет мне мундир. Офицерам разрешили носить гимнастерки вместо жаркого кителя, я с удовольствием ее заказываю. Плюс кожаный костюм военлета, ботинки, краги, еще кое-что. Поторапливаю портного — больничный халат смертельно надоел. Наконец, приносят мундир. Он широковат в талии.
— Это вы исхудали, пан офицер, — говорит портной, видя мое разочарование. — Как поправитесь — будет в самый раз. Я специально шил с запасом.
Спорить не хочется. Расплачиваюсь, цепляю к поясу кортик, иду к Розенфельду. Мои кресты остались в отряде, но и без них чувствую себя петухом.
— Орел! — поправляет доктор. — По госпиталю трудно ходить — весь в осколках от разбитых женских сердец.
Смеемся и садимся пить чай. Вечерние чаепития у нас ежедневные. Ром у доктора давно кончился, заменяем его водочкой. По чуть-чуть: доктор опасается за здоровье пациента. Пациент находит эти опасения чрезмерными, но не ропщет. Говорим обо всем: положении на фронтах, снабжении войск и госпиталей, настроении войск и тыла. Ольга пишет часто, Розенфельд пересказывает московские новости. В древней столице тоже неблагополучно: не хватает продовольствия, растут цены, рабочие бастуют…
— Чем это кончится? — вздыхает Розенфельд.
— Революцией!
— Думаете? — щурится доктор.
— Уверен!
То ли от последствий ранения, то ли от длительного воздержания, но водка ударяет мне в голову. Я теряю осторожность.
— Правительство вооружило народ. В окопах миллионы солдат и все с винтовками. Большая часть их неграмотны. Придет время, и окопная жизнь солдатам надоест. Достаточно найтись ловкому прохвосту, вернее, кучке прохвостов и сказать: «Бросайте фронт! Поезжайте домой и грабьте помещиков и капиталистов! У вас винтовки, вам все дозволено!» Представляете, что случится?
— Господи! — Розенфельд крестится. — Неужели до этого дойдет?
— К сожалению.
— Хотелось бы возразить, но у самого на душе смутно. Предчувствия разные… Я-то пожил, но дочку жалко. Могу вас просить, Павел Ксаверьевич?
— Сделайте милость.
— Если со мной что случится, позаботьтесь об Ольге! На Юрия у меня надежды мало. Обещаете?
Как отказать человеку, который доставал из вашего живота шестеренки с пружинками? Разговор начал я, за язык меня не тянули. Обещаю, доктор благодарит. В палату возвращаюсь в смутном настроении: не люблю невыполнимых обещаний. До революции мне не дотянуть, первый звоночек уже прозвенел. Успокаиваю себя тем, что у Ольги — отец и жених; есть, кому присмотреть.
Меня выписывают, еду в отряд. Летчики встречают меня радостно, даже Турлак, а вот Егоров хмурится.
— В отряде один аппарат, да и тот не сегодня-завтра… — он машет рукой. — Когда будут новые неизвестно, летать не на чем. Вот что, Павел Ксаверьевич, поезжайте вы в Гатчину, в офицерскую школу воздухоплавания, учиться на военлета! Как раз разнарядка пришла. Отдохнете, поправите здоровье, не то на вас жалко смотреть. Согласны?
Подумав, киваю. Смысла сидеть в отряде никакого, да и скучно. Школа — хоть какое-то разнообразие. Сергей с Нетребкой провожают меня на вокзал. Сергей рассказывает о школе, вспоминает преподавателей, дает советы. Нетребка выглядит жалко. Егоров не отпустил его со мной: столяры отряду нужны. Нетребка боится, что в этом качестве и останется, денщиком ему лучше. Успокаиваю: с Егоровым переговорено — вернусь и заберу. Нетребка пытается целовать мне руку. Подают состав, забираюсь в вагон. Поезд трогается, Сергей с перрона машет рукой. Увидимся ли? Отчего-то мне хочется, чтоб случилось. Наверное, оттого, что в последний месяц имел дело с народом ласковым, можно сказать, душевным…
9
Немцы пустили на Осовец хлор. Узнаю эту новость из газет. 24 июля, на рассвете, темно-зеленое облако поползло в сторону русских окопов и достигло их через 5–10 минут. Половина солдат и офицеров погибла сразу. Не у всех имелись противогазовые маски, да и те не помогли. Наполовину отравленные побрели к крепости и по пути нагибались к источникам воды — их мучила жажда. Однако тут, в низких местах, скапливался газ, вторичное отравление добивало уцелевших. Передовые позиции русских войск обезлюдели. Второй эшелон пострадал меньше — ветер долины Бобра отнес газ к западу и развеял отраву.
После газа вступила в дело артиллерия — немцы открыли ураганный огонь. По завершению артподготовки пошел ландвер. Немцы были столь уверены в успехе, что вслед цепям пехоты катили обозы — для сбора и похорон мертвецов. И тут из окопов встали русские. Уцелевшие в траншеях солдаты: с обожженными хлором лицам, выплевывающие остатки легких, они шли в последнюю атаку, устремив перед собой штыки, и вид их был страшен. Немцы сначала остановились, а потом побежали. «Атакой мертвецов» назвали они этот бой. Крепостная артиллерия, открывшая меткий огонь, и подоспевшие резервы заставили ландвер вернуться на первоначальные позиции. У деревни Сосня ветер бросил в лицо немцам их же газ и с тем же результатом…
Неизвестно имя офицера, поднявшего отравленных бойцов в последнюю атаку. Почему-то кажется, что это был Говоров. Миша погиб — в длинном списке павших, напечатанном газетой, есть его фамилия. Не водить Мишке армии — ни красные, ни белые. У него даже невесты не было…
В военном училище нам рассказывали, как действуют газы. Хлор обжигает дыхательные пути, вызывая удушье. От большой дозы распадаются легкие, человек их выкашливает. Уцелевшие в газовой атаке становятся инвалидами и белом свете не заживаются.
Выхожу из расположения школы и в каком-то заплеванном кабаке на окраине Гатчины напиваюсь в хлам. Поступок, не достойный русского офицера. Если донесут начальству, отчисления не миновать, но мне все равно. Душа болит. Мне приходилось видеть много смертей, и умирали люди по-разному, но чтоб их травили как крыс…
В школу возвращаюсь затемно. Соседи по комнате деликатно отворачиваются. Они знают, что я из Осовца, а развернутая газета лежит на моей койке. Падаю и засыпаю.
Через две недели очередное известие — оставлена сама крепость. Осовец не сломили ни бомбардировки, ни газы, ее сделала ненужной стратегическая ситуация. Русские армии в Царстве Польском отходят с рубежа рек Бобр, Нарев и Висла, оборона крепости теряет смысл. Верховный главнокомандующий дал приказ на эвакуацию, она длится пять дней. Вывезено огромное количество оружия и припасов. Последние четыре пушки ведут огонь, отвлекая внимание немцев. Наконец, и они умолкают, подорванные пироксилином. В полуверсте от Осовца генерал Бржозовский поворачивает рукоять. Взорваны все кирпичные, каменные и бетонные сооружения, сожжены деревянные постройки. Немцам достаются развалины.
В газетах — последний приказ коменданта. «В развалинах взрывов и пепле пожаров гордо упокоилась сказочная твердыня, и мертвая она стала еще страшнее врагу, всечасно говоря ему о доблести защиты. Спи же мирно, не знавшая поражения, и внуши всему русскому народу жажду мести врагу до полнаго его уничтожения. Славное, высокое и чистое имя твое перейдет в попечение будущим поколениям. Пройдет недолгое время, залечит Мать Родина свои раны и в небывалом величии явит Миру свою славянскую силу; поминая героев Великой Освободительной войны, не на последнем месте поставит она и нас, защитников Осовца».
Генерал ошибается: Мать Родина забудет — и очень скоро. Как Великую Освободительную, так и Осовец. Я окончил среднюю школу и военное училище, но никогда, ничего не слышал об Осовце. Если б знал, предупредил бы о хлоре. Пусть бы меня заперли в «желтый дом», но душе было бы легче…
Дела на фронте — хуже некуда. Осовец оставлен 10 августа, а 4-го пала крепость Ковно, 8-го — Новогеоргиевск. Последние две сданы с позором. Эвакуируют Брест-Литовск, Ставка переезжает из Барановичей в Могилев. Обязанности Верховного главнокомандующего возложил на себя Е.И.В. Человек с лицом сельского учителя будет командовать фронтами. Начало конца… Сергей Рапота прислал письмо. Оставлен Белосток, госпиталь Розенфельда эвакуирован. Авиаотряд перебазирован куда-то к Вилейке. Польша сдана немцам, сражения идут в Белоруссии. На фронте — бои, я грызу науку, чтоб ей! Подгадал мне Егоров!
В школе я просто Красовский, не «тот самый». В штабе знают о моем прошлом, соученикам я не открылся. В авиаотрядах огромное число прикомандированных, формально они числятся по прежнему месту службы и носят соответствующую форму. На моих погонах шифровка Ширванского полка. Я имею полное право и на форму авиаотряда, но право — не обязанность. Я спрятал в баул ордена наравне с кортиком. Это немыслимый поступок для офицера: наградами здесь гордятся и чрезвычайно дорожат. Не считается зазорным награду просить, нередко такие просьбы удовлетворяют. Георгиевский крест и оружие по статусу запрещено снимать, но я иду и на это. Мне надоела слава — мешает жить. Красовских в России много…
В авиационном отделе школы две группы: офицерская и для нижних чинов. Во второй преобладают вольноопределяющиеся. Программы у нас разные. Нижние чины живут в ужасных условиях: спят на общих нарах, которые к тому же коротки, в казарме полно клопов и вшей. У нас хоть койки есть. Офицеру можно снять квартиру в Гатчине, жить со всеми удобствами. Прапорщики-фронтовики живут в казарме: для них в квартире дорого. Если сниму, раскрою инкогнито. Пусть так, мне не привыкать. В группе много не нюхавшей пороху молодежи. Она смотрит на фронтовиков с почтением, но расспрашивать стесняются. Армия деликатных людей.
Курсантов учат летать на «Фарманах». Машина простая, как грабли, армейский «уазик» сложнее. Полеты я освоил в отряде, «бреве» не пустая бумажка, после проверки навыков меня пересаживают на «Моран». В числе немногих счастливцев осваиваю быстроходные аппараты. Помимо «Морана» это «Ньюпор» — «десятка». Другие курсанты мне завидуют, но мне надо на «Ньюпоре». Осовец оставлен, крепостного авиотряда больше нет. Есть корпусной отряд смешанного состава, разведывательная и истребительная секции. Истребители летают на «Ньюпорах», разведчики — на «Моранах». Это сообщил Рапота в очередном письме. Экзамены, сдача практического задания — все! Можно заказывать знак военлета.
Перед самым выпуском меня находит посыльный: на проходной гость. Иду. За воротами сверкающий лаком автомобиль (редкость необыкновенная, авто реквизировали для нужд армии), возле него немолодой человек в черном пальто. Увидев меня, бежит навстречу.
— Павел Ксаверьевич!
Смотрю недоуменно. Он словно натыкается на этот взгляд.
— Не узнаете? — он растерян.
— У меня была контузия…
Понимающе кивает:
— Степан я, камердинер вашего батюшки!
Киваю в ответ: будем считать, что узнал.
— Ксаверий Людвигович послали за вами. Едем?
Мгновение колеблюсь. Прятаться глупо, да и что это даст? Рано или поздно случилось бы. Как там говорил Наполеон: «Главное — ввязаться в драку…»
Прошу Степана подождать. В штабе получаю разрешение, заскакиваю к себе. Комната к счастью пуста: суббота, вторая половина дня, офицеры разбрелись кто куда. Достаю завернутые в носовой платок ордена, сую в карман. В другой помещается кортик и погоны с авиационными эмблемами. Пехотные офицеры не носят кортики, в Петрограде мигом придерутся! Мы едем в Петроград.
В машине меняю погоны на шинели и мундире, цепляю к поясу кортик. Степан помогает приколоть награды. Пальцы его дрожат от почтения — перед наградами, конечно. Ордена смотрятся эффектно, плюс кортик с темляком… Папаша станет учить жизни, в серебре наград отбиваться легче. Зимняя дорога расчищена от снега, в столицу прибываем скоро. Шофер беспрестанно сигналит, прогоняя с дороги извозчиков. Автомобиль покатывает к особняку на набережной. В залитой электрическим светом прихожей Степан снимает с меня шинель и убегает докладывать. Оглядываюсь: зеркала, полированный малахит на стенах, мраморные ступени лестницы… М-да!
По лестнице спускается ангел. На нем белое, пышное платьице, белые чулки и такие же белые туфельки. У ангела золотые волосы и голубые глаза, в волосах белая лента. Ангелу на вид не больше пяти. Он останавливается на середине лестницы.
— Ты кто? — спрашивает строго.
— Павел Ксаверьевич Красовский, мадмуазель!
— Я не мадмуазель, я Лиза! — поправляет ангел.
Склоняю голову в знак вины.
— Почему фамилия, как у меня? — не унимается ангел.
— Наверное, мы родственники, — делаю предположение.
Лиза задумывается.
— Маман говорила: у меня есть братец! Это ты?
— Я, сударыня Лиза!
— Почему ты большой?
— Хорошо кушал!
— Это плохо! — вздыхает Лиза.
— Почему?
— Большие не играют с маленькими. Я хотела с братцем поиграть.
— Можете на меня рассчитывать, сударыня!
Лиза радостно улыбается. По лестнице сбегает мадам в строгом платье.
— Елизабет! — шипит мадам. — Почему вы здесь? — она поворачивается ко мне: — Извините, господин офицер! Повадилась гостей встречать, прослышала, что брат приедет.
— Я и есть брат.
На лице мадам отупение. Она, верно, думала, что братец у Лизы такой же маленький. Немую сцену прерывает появление Степана.
— Павел Ксаверьевич! Батюшка ждут!
Взбегаю по лестнице. По пути заговорщицки подмигиваю Лизе. В ответ она показывает язык и заливается смехом. Кажется, с ней мы поладим. Степан ведет меня через анфиладу комнат и останавливается перед высокой дубовой дверью.
— Кабинет Ксаверия Людвиговича! — произносит шепотом.
Прибыли. Уф! Как с берега в холодную воду…
Мужчина в темной пиджачной тройке при моем появлении встает из-за письменного стола.
— Здравия желаю, Ксаверий Людвигович!
Бабушка в детстве учила меня: «Не знаешь, что сказать, поздоровайся!»
— Ишь, ты, здравия пожелал! — хозяин кабинета подходит ближе. На вид ему за пятьдесят, обильная седина в волосах, борода тоже с сединой. Мы похожи. Только лицо у него далеко не худое, а солидное брюшко распирает жилет. Он продолжает: — Здравия желает, а сам носа не кажет. Пришлось гонца выправить. Так?
Противник мне попался серьезный, пора переходить в наступление. Затопчет.
— Ксаверий Людвигович, нам пора объясниться!
— Попробуй! — хмыкает он.
— Я знаю: у нас была размолвка. Я даже догадываюсь о причине. Но я не помню, что я говорил вам, и что вы говорили мне. Я перенес тяжелую контузию, память потеряна. Честно сказать, я этому рад. Мне не хотелось бы вспоминать давнишние ссоры. Если я вас тогда обидел, простите! Если вы обидели меня, я вас прощаю.
— Прямо прощеное воскресенье! — хмыкает он и вдруг обнимает меня. От него пахнет коньяком и дорогими сигарами. — Здравствуй, сынок! — он тискает меня своими лапищами и отступает и внимательно разглядывает: — Вся грудь в орденах! Года не прошло! Красовские — они везде первые!
Семейный мир восстановлен. Обедаем, правильнее сказать, ужинаем, но ужин здесь ближе к полуночи. За столом папаша с супругой, Лиза с мадам и я. Блюда подает Степан, натянувший по этому случаю белые перчатки. Все просто, без лишних церемоний. Красовский-старший — предприниматель, а не граф. Белая скатерть, дорогая посуда, столовые приборы с серебряными ручками, но блюда простые. Никаких консоме с корнишонами. Щи с рыбными расстегаями, белужий балык, блинчики по-суздальски (слой черной, слой красной икры), стерлядь… Мяса нет — рождественский пост. На столе вино, водка. Всю жизнь так бы постился! Дамам Степан наливает вино, Ксаверий Людвигович предпочитает водку, в этом мы солидарны. Украдкой разглядываю мачеху. На вид ей двадцать пять — двадцать шесть. Красивое, нервное лицо, слегка испуганное. Оно и понятно: свалился на голову пасынок! Вдруг возьмется за старое? Что отчебучил настоящий Павел Ксаверьевич? Грозил новоявленную мамашу зарезать, с последующим стрелянием в собственный висок, обещал судиться за наследство или просто хлопнул дверью? Лучше бы последнее. Мне совершенно не хочется ссор.
Лиза закончила есть и выжидательно смотрит на меня. Подмигиваю. Она решительно спрыгивает на пол.
— Елизабет! — подскакивает мадам, но Лиза карабкается на мои колени. Красовский делает мадам знак сесть. Лицо мачехи вытягивается — переживает. Усаживаю ангелочка лицом к себе.
— Это что? — она трогает крестик.
— Награда.
— За что?
— За подвиг.
— Ты немца убил?
— Так точно.
— Они плохие?
— Очень.
— У нас в доме немец живет, Герберт Карлович, его никто не убивает, — сообщает Лиза. — Почему?
Папаша прыскает.
— Лиза! — окликает мачеха. — Оставь в покое Павла Ксаверьевича!
— Братец обещал со мной поиграть! — возражает Лиза.
Папаша встает и подходит. Гладит дочь по головке, та прижимается к нему. Не приходится сомневаться: папина любимица!
— Лизонька! — говорит папаша. — Братец поиграет с тобой, но дай ему покушать!
— Зачем? — удивляется Лиза. — Он и без того большой!
Теперь прыскаю я. Смеются все, в том числе Лиза. Сестричку уводят из столовой, перед этим она берет с меня обещание увидеться. Папаша ведет сына в кабинет, льет коньяк в бокалы, придвигает коробку сигар. До чего же приятный вечер!
Папаша смотрит выжидательно, раскуриваю сигару и начинаю рассказ. По-военному кратко, точно и по существу.
— Как прочел в газетах впервые, не поверил, что это ты, — говорит папаша. — Шалопай, только вино и девицы на уме — и на тебе! Застрелил немца, сделал вылазку, захватил пленного…
Молчу.
— Я верил, что порода Красовских в тебе проявится! — продолжает он. — Наверное, контузия помогла. Пусть Бог простит меня, но покойница сделала все, что тебя испортить. Держала подле себя, избаловала. Еле настоял, чтоб тебе в Англию ехать. Но и там письмами тебя забрасывала… Был на могиле? — внезапно спрашивает он.
— Я не помню, где она.
— Завтра Степан отвезет. Тяжко мне было с твоей матерью, Павел! Ну, полюбил я другую женщину, бывает. Это преступление? Все сделала, чтоб жизнь мне отравить: скандалила, Наденьку оскорбляла, сказала, что развод до смерти не даст. В католики хотел записаться, чтоб без развода, да Надя веру менять не захотела. Она-то в чем виновна? Ради меня семью бросила — отец ее проклял, жила со мной без всякой надежды, Лизоньку в девичестве родила — все из-за любви. Золотое сердце!
На свете есть мужчины, которые верят: юные красавицы в состоянии полюбить их, старых, толстых и седых, вовсе не из-за денег. Такие мужчины есть, и один из них сидит передо мной.
— Как сейчас отношения с тестем?
— Наладились! — подтверждает папаша. — На венчании был и на свадьбе. Сыном меня назвал, хотя годами моложе.
— У него, случайно, долгов не было?
— Были! А ты откуда знаешь? — он смотрит с подозрением.
— Предположил.
— А ты не полагай! Были долги и сплыли! — он встает. — Едем!
— Куда?
— Я зван к Щетининым.
— Я в повседневном мундире.
— Это даже лучше — фронтовик! Не то, что их — с паркетов! Зайдем к Лизе попрощаться — и в путь!
Мачеха остается дома — приступ мигрени. Знаем мы эти приступы, но так лучше. У роскошного подъезда на Невском выходим из автомобиля. Подъезд залит светом, как и прихожая. Лакеи снимают с нас пальто, отдаю папаху и смотрю на себя в зеркало. Портной был прав: ранее свободный мундир теперь в пору. Папаша тянет меня по лестнице — мы в огромном зале. Хрустальные люстры, блестящий паркет, кучки разряженных мужчин и дам. Много офицеров — от поручика и выше. Аксельбанты, золото погон, ордена в петлицах и на лентах. Декольте, прически, бриллианты… Папаша ведет меня от группки к группке, здоровается, представляет. Едва успеваю бодать головой и щелкать каблуками. Взгляды: удивленные, насмешливые, завидующие. Последние — у молодых офицеров. Георгиевское оружие на паркете не выслужишь.
Папаша подводит меня к генералу: толстому и важному. Бодаю воздух.
— Извольте видеть, Владимир Михайлович, сын мой, только что с фронта. (Я не «только что», но лучше помолчать). Герой-летчик, в газетах о нем писали. Считают, что мы, промышленники, только и думаем, как о барышах. Сына единственного для Отечества не пожалел. Кровь свою сын пролил… — папаша нарочито сморкается.
— Вижу! — генерал смотрит с интересом. — Тот самый Красовский? Как же, читал. Не знал только, Ксаверий Людвигович, что твой это сын.
— Мой, ваше превосходительство! — заверяет папаша. Он доверительно склоняется к генералу. — Так как насчет заказа, Владимир Михайлович?
— Можно обсудить! — говорит генерал задумчиво.
— Погуляй, Павел! — торопливо бросает папаша. — Дам развлеки. Давно на тебя смотрят!
Киваю и отхожу. Папаша у нас — деляга! Сынка как разменную монету… А чего я хотел? На душе гадостно. Мимо пробегает лакей с подносом, уставленным бокалами, торможу. Водки нет, как и коньяка — хозяин не нарушает высочайший указ. Лакей выглядит виноватым, видимо, я не единственный, кто недоволен. За закрытыми дверьми здесь, ясен пень, в коньяке не отказывают. Беру шампанское и, прихлебывая, наблюдаю за публикой. Развлекать мне никого не хочется.
— Павел!
Оборачиваюсь. Молодая женщина — прическа, декольте, бриллианты. Лицо красивое, но в этой красоте нечто порочное.
— Не узнаешь меня?
Хм-м… Не люблю таких встреч! В бытность черным рейтаром случилось: хозяин тела пообещал девице жениться, сам же слинял, получив булавой по шлему. Девица потребовала выполнения обещания, но при чем тут солдатик Петров? Девица удалилась, кипя от злости, и пообещав мне неприятности. Они бы непременно случились: отказ от обещания жениться считался тяжким преступлением в те времена — повесить могли. К счастью, мы ушли на войну, а там случилась история с аббатством…
— Это же я, Нинель!..
— Простите, мадмуазель, потеря памяти. Следствие контузии. Родного отца не признал.
— Слышала! — она смотрит испытующе. Мой взгляд честен, как у младенца. — Ладно, забыл — напомню. Брось это! — она с презрением смотрит на мой бокал. — Пойдем!
Отдаю шампанское лакею, девица увлекает меня к окну. Достает из крошечной сумочки нечто вроде табакерки и сыплет на тыльную сторону ладони белый порошок. Прикладывается ноздрей, с шумом втягивает.
— Теперь ты! — она протягивает мне табакерку.
Медлю. Она понимает это по-своему.
— Очищенный, не сомневайся, в аптеке купила! Лучшего кокаина в Петрограде нет.
Качаю головой.
— Да что ты! — она всерьез обижена. — Сам писал: скучаешь о кокаине, наших забавах. Забыл, как показывал мне английскую любовь? — она хихикает. — Вот было славно! Тебе не тошно здесь?
Киваю.
— Едем! — она берет меня за руку. — Устроим вечер воспоминаний! — она снова хихикает.
В другое время я бы не раздумывал, но сейчас не могу.
— Извините, мадмуазель!
— Ты что, другую нашел? Может, Лильку Хвостову? Видела, как подходил к ней с папашей! Она же из староверов! Девственница, весь Петроград знает — такая здесь одна, — Нинель ухмыляется. — Лилька и супружескую верность блюсти станет, от мужа ее потребует. Домострой! Мы же цивилизованные люди! Едем, я покажу тебе французскую любовь! Меня французский капитан обучил, когда миссия союзников в Петроград приезжала, Жоржем его звали. Ну?!
— Извините!..
Отдираю ее руку от своей, иду прочь. Еще мгновение, и разражусь матом. Миша Говоров с солдатами глотал немецкий хлор, чтоб петроградские сучки блудили с французскими кобелями? Цепляли бриллианты и нюхали кокаин? Вашу мать!
В прихожей лакей подносит шинель, одеваюсь и выхожу наружу. Катитесь вы все! Морозный воздух остужает разгоряченное лицо, но не чувства. Умом понимаю, что злость моя глупая. Высшее общество жирует, пока гибнут солдаты, — это во все времена. Однако на душе мерзко. Бреду, куда глаза глядят. Переулки, проходные дворы… Спустя некоторое время понимаю: заблудился. Я был в этом городе только раз — школьником, на экскурсии. Город тогда назывался Ленинградом…
— Господа, что вам нужно? Оставьте меня!
Голос доносится из соседнего двора. Мужчина, испуган. Везет мне на такие истории! Сую руку в карман: «браунинг», некогда принадлежавший ротмистру Бельскому, на месте. Достаю, передергиваю затвор. За углом двое прижали прохожего к стене. Один из бандитов держит нож у лица жертвы — лезвие тускло отсвечивает в свете уличного фонаря. Гоп-стоп…
— А ну брысь!..
Тот, который с ножом, поворачивается. Н-да, рожа… Второй, мгновенно сориентировавшись, плавно, по-кошачьи, начинает заходить сбоку. Правую руку держит на отлете. Лезвия не видно, но нож наверняка в рукаве.
— Шел бы ты, офицерик, своей дорогой! — говорит «рожа». — Целее будешь!
А вот это наглость — погоны следует уважать! Стреляю навскидку, «кошка» падает. «Рожа» замирает ошарашено. Прыжок, удар рукоятью пистолета, нож летит в снег. Второй удар — по роже. Налетчик падает. С размаху бью его носком сапога. Еще! Еще!..
— Господин офицер!
Кто-то оттаскивает меня от бандита. Оборачиваюсь: несостоявшаяся жертва гоп-стопа. Пальто, шляпа, пенсне…
— Вы убьете его, господин офицер!
— Невелика потеря! Вы-то кто?
— Крашенинников, приват-доцент.
— Что ж вы, приват-доцент, гуляете так поздно?
— У Гусевых засиделись, — он, вроде, смущен. — Интересная беседа — об особенностях развития современного стиха. В русской поэзии происходит настоящая революция! Вы, наверное, читали Белого, Блока, Бальмонта…
Если не остановить, ночная лекция мне обеспечена.
— Видите! — показываю «браунинг». — Если гуляете ночами, купите пистолет!
— Я не умею обращаться, — он смущен.
— Учитесь! В промежутках между стихосложением. Пригодится! Мой вам совет: при случае стреляйте, не раздумывая!
Киваю и ухожу. Налетчики испарились: «рожа», воспользовавшись ситуацией, уползла, «кошка» — следом. Живучая! Калибр мелковат. Жаловаться они не станут. Пар я выпустил, поэтому пусть живут. Дерьмо, а не людишки, конечно, но все ж люди.
Извозчик везет меня к родительскому дому. Степан отводит в спальню и приносит бокал коньяка — «ночной колпак». Выпиваю залпом — и под одеяло…
— Думал: ты уехал с Митрохиной! — говорит папаша на следующий день. (Митрохина, как я понимаю, и есть Нинель). — Молодец, что не поддался — подцепил бы французскую болезнь. Половину Петрограда заразила! Свои-то знают, так она к новеньким цепляется. Не успел тебя предупредить.
Понятное дело — деньгами пахло.
— Да-с, получим заказик! — папашу аж распирает. — Щетинин прием устроил и генерала зазвал, а я перехватил. Вот! Ты помог. Владимир Михайлович — человек строгих правил, взяткой его возьмешь, но отцу героя навстречу пошел. Комиссионные тебе по праву полагаются, но у меня лучшее заготовлено! — он кладет на стол толстый пакет. — Наследство матери. Хоть ты и кричал, что ничего не надобно, я сберег. Имущество продал, а выручку — в ценные бумаги! Знаешь, сколько здесь?
Пожимаю плечами.
— Двадцать три тысячи! Капитал! Как распорядишься?
— Наличными можно?
— Нет у меня столько, — он удивлен, — а продать бумаги скоро не получится.
— Давайте, сколько есть!
Он лезет в ящик стола и достает пачку банкнот, перевязанную шпагатом.
— Десять тысяч!
Беру и прячу в карман.
— Спасибо!
— С остальными что делать?
— Поменяйте на золото!
Он удивлен:
— Золотые рубли запрещены к обращению. Достать можно, но втридорога.
— Пусть!
— Как знаешь! Позволь полюбопытствовать: зачем тебе столько? Женщина?
Киваю. Женщина — лучшее объяснение. Он понимающе щурится.
— Теперь не скоро увидимся?
— Послезавтра у меня выпуск. Затем — фронт!
— Не надоело? — он касается моего погона. — Погеройствовал — и хватит! Мне надобен свой человек в деле, управляющим веры нет. Только скажи, освободим от службы тотчас! Нельзя время упускать! Заводы круглосуточно работают! Барыш невиданный!
— Труха это все!
Он в недоумении. Мне не стоило этого говорить, но утром я исполнил обещание — поиграл с Лизой. Не хочу, чтоб она видела пьяных матросов…
— Через два года, — я трогаю пакет, — это будет трухой. Инфляция…
— Считаешь меня глупым! — хмыкает он. — Думаешь, не вижу, что творится? Я хоть в Англиях не учился, но соображение имею. Все свободные деньги — во французских и английских ценных бумагах.
Вот так! Россия занимает деньги за границей, а свои покупают иностранные облигации.
— Если рубль обесценится, — говорит он, — то заводы останутся!
— Отберут и заводы!
— В казну? Так заплатят!
— Они не заплатят.
— Кто они?
— Большевики.
— Ты думаешь?..
— Я знаю. Не хочу объяснять, откуда, считайте, что у меня после контузии — дар пророчества. Прошу вас, Ксаверий Людвигович, запомнить. В феврале 1917 года в России случится революция. Царь отречется от престола и случится это в Пскове. Поначалу все обрадуются, но в октябре большевики осуществят переворот. Богачей и знать будут резать, как цыплят. Помните Французскую революцию? Будет даже хуже. Не смотрите на меня так, Ксаверий Людвигович, понимаю, что не верите. Прошу об одном: как только мое пророчество станет сбываться, берите семью — и за границу! Франция, Англия — все равно; чем дальше, тем лучше.
— А ты?
— Я взрослый мальчик, не пропаду!
Пропаду, конечно, но ему лучше не знать.
— Господи, сынок! — он крестится. — Какие времена! Ты хоть поосторожней в своих аппаратах…
Папаша с семьей отправляется в церковь, меня отвозят на кладбище. По пути покупаю венок. Могилы, мраморная плита с именем и стандартной эпитафией. Кладу поверх цветы. У меня нет чувств к лежащей под плитой женщине, мне просто неловко. Я присвоил наследство ее сына. Единственное утешение: других претендентов нет. Мысленно обещаю покойной: на женщин деньги тратить не буду, только из жалованья. Разве что на выпивку не хватит…
На обратном пути заглядываю в оружейную лавку, покупаю «браунинг» калибра 7,65 и пачку патронов. Мне не понравилось действие карманного трофея. Офицеры имеют право на собственные пистолеты, «браунинг» в рекомендованном списке значится.
В школу возвращаюсь под вечер. Прощание с семьей было теплым, поэтому вваливаюсь навеселе. Скидываю шинель — опа! Все взгляды на мою грудь. Крестики снять забыли…
— Я это, я! — говорю с досадой. — Тот самый Красовский!
— Так мы знали! — улыбается прапорщик Квачко, мой сосед по койке.
— И молчали?
— Вы хотели инкогнито…
— Расскажете про свои подвиги?! — подскакивает Недобоев. Он самый юный офицер в группе.
— Расскажу! Но сначала…
Офицерам запрещено носить свертки, но насчет карманов нигде не прописано. Папашины закрома сегодня полегчали. Коньяк, французский, шустовского не достать — заводы закрыты. Толстая плитка шоколада, конфеты тоже шоколадные…
— Сгодится на закуску?
— На фронте шоколада не дадут! — смеется Квачко. — Очень даже сгодится! У родителя гостили?
— Ага!
Достаю из ножен кортик, как им открывают коньяк, я знаю. Хоть для чего-то сгодился. Квачко несет стаканы. Хорошие они ребята…
— Ра-внясь! Смирна! Прапорщик Красовский!
Чеканю шаг и докладываю прибытие. Под каракулевой папахой строгие глаза начальника авиационного отдела воздухоплавательной школы полковника Ульянина. Рукопожатие, свидетельство об окончании, знак… Отныне во всех бумагах я — Военный Летчик. Так здесь принято — с больших букв. Вот и хорошо! Было бы на чем летать!
10
Накаркал! По возвращению в отряд выясняется: с аппаратами — швах! Трофейный «Авиатик» отремонтировали, но надолго его не хватило. Ресурс мотора истек, новый, естественно, взять негде — у немцев не попросишь. Мотор отправили в ремонт, только когда его восстановят? За время моего отсутствия отряд получил два «Морана», но их использовали интенсивно, моторы изношены до предела. Синельников в ангаре пытается один починить. Посиневшие на морозе руки механика ловко откручивают гайки. Вокруг столпились военлеты, в том числе начальник отряда. Синельников поднимает голову от разобранного «Гнома» и качает головой.
— Совсем невозможно? — сокрушается Егоров.
— Смотрите сами, ваше благородие! — сердится Синельников. — Поршня в цилиндрах болтаются! Как чинить? Из старухи целку не сделаешь!
Штабс-капитан, к моему удивлению, не возмущен грубостью. Поворачивается и уходит. Через час нас с Рапотой зовут к начальнику.
— Поедете в Москву, на завод «Дукс»! — говорит Егоров. — Еще в ноябре завод обязан был прислать аппараты, но их нет. На телеграммы не отвечают. Поговорите там! Очень рассчитываю на вас, Сергей Николаевич, и вас, Павел Ксаверьевич! Делайте, что хотите: ругайтесь, умоляйте, давайте взятки, но без аппаратов не возвращайтесь! Понятно?
Куда яснее! Писарь оформляет нам командировочные предписания. Сергей доволен: попасть в Москву на святки с фронта — мечта! Есть и другая причина. Татьяна, отработав сестрой милосердия, уехала в Петроград учиться. Поезд «Москва — Петроград» ходит регулярно, и ехать недалеко. Сергей садится писать любимой, я собираю вещи. Не везет мне с войной в последнее время, бегает она от меня. Что мне в Москве? У Сергея хоть Татьяна, а у меня кто? Да и задание… Неизвестно, как встретят нас на заводе. Аппараты распределяет военное ведомство. Не трудно предположить, что нам скажут. Сергей считает, что «дуксовские» штафирки, едва глянув на грозного поручика, струхнут и выкатят аппараты. Я в этом сильно сомневаюсь. Кладу в карман папашины десять тысяч. На святое дело не жалко!
Москва встречает негостеприимно: с местами в гостиницах плохо. В приличных, где живут господа офицеры, — аншлаг, в дешевых — грязь и клопы. Святки… Находим меблированные комнаты на Ситцевом Вражке. Дом старый, комнаты темные, но хоть крыша над головой…
Оставив вещи, едем на «Дукс». Извозчик запросил по случаю праздника два рубля, куда денешься? Под нашими шинелями — кожаные куртки, кортики с темляками на боку — чтоб видели, кто приехал. Не смотря на праздничные дни, «Дукс» работает. Привратник не хочет нас пускать — видимо, имеет строгое предписание. Со скандалом, но прорываемся к управляющему. Он недоволен, но встречает вежливо — Георгиевское оружие производит впечатление.
— Что вы хотите, господа! — разводит он руками. — Трудимся денно и нощно, но заказов очень много.
— Нам потребны аппараты! — бычится Сергей. — Еще в ноябре должны быть поставлены! Воевать не на чем!
Управляющий невозмутим.
— Военное ведомство велело отправить аэропланы на Юго-Западный фронт, там сложилась острая нужда. На вашем участке спокойнее. Мы не распределяем аппараты, господа, мы их только выделываем. Просите в военном ведомстве. Скажут — хоть сейчас погрузим!
Военное ведомство находится в Петрограде, и нас там явно не ждут. К тому же святки… Зря я вез десять тысяч! Видя наши погрустневшие лица, управляющий пытается смягчить пилюлю.
— Я прикажу показать вам завод! Увидите, что мы выделываем!
С паршивой овцы хоть шерсти клок. Соглашаемся. Нас ведут по цехам. Здесь варят, скручивают, клеят, обшивают полотном. Пахнет нитролаком, столярным клеем и машинным маслом. Наш гид, техник со смешной фамилией Коврига, не умолкает. Ковригу распирает гордость за завод. Он уверен, что их аппараты — лучшие в России, заводам Лебедева и Щетинина до «Дукса» далеко. Сергей хмыкает. Он рассказывал мне, как «дуксовский» «Ньюпор» на фронте не могли собрать — крылья не подходили. Однако в ангаре, где стоят готовые к облетам аппараты, лицо Рапоты меняется. Он гладит ладонью полотно крыльев, трогает гладкое дерево пропеллеров, заглядывает в кабины… Наверное, так он смотрит на Татьяну.
— Обратите внимание, господа! — сыплет Коврига. — Капот сделан не из стали, а дюраля. Это сплав алюминия, очень легкий. Таким образом, мы облегчили аппарат на несколько фунтов. Он стал скоростнее и маневреннее.
— Дюраль заграничный? — спрашивает Сергей.
— Вовсе нет! — Коврига аж лучится. — На заводе Красовского освоили выделку!
Та-ак…
— Вы имеете в виду Ксаверия Людвиговича Красовского? — уточняю.
— Именно! — подтверждает техник. — Замечательный человек, оказал содействие.
Я смотрю на Сергея, он — на меня. Мы подумали об одном и том же.
— Скажите, где можно телефонировать в Петроград?
— На Кузнецком Мосту! — техник сама любезность. — Там телефонная станция.
— Благодарю! — я жму ему руку. — Вы не представляете, как нам помогли!
Через полчаса я прижимаю наушник к уху. У папаши два телефонных аппарата: в конторе и дома. Содержать их стоит дорого, но Ксаверий Людвигович на связи не экономит. У него и телеграфный аппарат в конторе имеется… Главное, чтоб не уехал — святки как-никак. И чтоб линия Москва — Петроград не оказалась перегруженной — это вам не сотовая связь…
— У аппарата! — раздается в наушнике знакомый голос.
— Здравствуй, отец! Это Павел…
Сергей дышит мне в затылок, его я в наши отношения не посвящал. Пусть будет «отец». Похоже, Красовский-старший от такого обращения растерялся: я назвал его «отцом» впервые. Мгновение он молчит.
— Ты в Петрограде? — спрашивает, наконец.
— В Москве, в командировке! Отец, нужна помощь…
Быстро излагаю суть дела. Он слушает, не перебивая.
— Возвращайся на завод! — говорит по завершению. — Я распоряжусь! Все сделают.
— Спасибо, отец! С Рождеством тебя!
— Здоров ли ты? — ему явно хочется поговорить.
— Здоров! — рапортую. — А вы? Как Лизонька?
— Тебя вспоминает, — он рад вопросу. — У нас все хорошо. Звони нам и пиши, Павел! Не забывай!
— Постараюсь, отец! — я говорю это искренне, Рапота тут ни при чем. Старик у меня деляга, но все ж молодец! Выпуск дюраля наладил, а его и в СССР будут за границей закупать. Выгорит с аппаратами, в ножки поклонюсь!
Берем извозчика и мчимся на «Дукс». Управляющий встречает нас у порога.
— Что ж вы промолчали, что сын Красовского?! — он укоризненно смотрит меня.
Пожимаю плечами: кто знал, что это важно?
— Сделаем, что можем! — говорит управляющий. — У нас, действительно, много заказов, но ради Ксаверия Людвиговича… Организуем сверхурочные смены. Только учтите: мы выделываем планеры, моторы поступают из-за границы. Распределяет их великий князь, лично. Господин Красовский обещал переговорить с ним. Если выгорит…
— Получим все аппараты? — не верит Сергей. — «Ньюпоры» и «Мораны»?
— Как в заказе! Однако предупреждаю: понадобится десять дней. Неделя, если облетаете сами. Наши испытатели заняты.
Сергей готов управляющего расцеловать, но я протягиваю тому руку. Обойдется! Целовать надо других.
Удачу обмываем в ресторане, шустовским «чайком». Его приносят в серебряном самоваре. Холодный «чай» (не «шустовский», конечно же, контрабандный) славно идет под балычок с икоркой. Жизнь хороша! Задание, считай, выполнено, у нас неделя отдыха. Остается решить, чем заняться.
— Сходим в театр! — предлагает Сергей. — Большой! Ни разу не был!
Я тоже не был — ни в Большом, ни в Малом. Не довелось: пути-дороги пролегали вдали от столицы. Большой так Большой. Едем. Билетов в кассе, естественно, нет, но театральные «жучки» крутятся тут же. За места в третьем ярусе запрашивают несусветную цену. Сергей плюется. У меня деньги есть, но строить купчика перед другом… Торгуемся, жучок не уступает. Внезапно от колонны отделяется штатский лет сорока, в шляпе и длинном пальто.
— Фронтовики? — он смотрит на наши кортики с темляками. — Летчики?
Киваем.
— Уступи! — говорит неизвестный «жучку», тот беспрекословно подчиняется. Сдаем шинели и папахи в гардероб, в блеске хрома и оружия поднимаемся на свой ярус. Звенит третий звонок, еле успеваем к местам.
Дают «Лебединое озеро». Я видел этот балет в своем времени, как-то его крутили по телевизору целый день. С той поры у меня отношение к спектаклю особое. Однако Сергей смотрит заворожено. Я тоже приглядываюсь. Балерины еще ничего, но танцовщики! Руки, ноги, торсы как у грузчиков. Как им прыгать? Впрочем, они и не прыгают. Ходят вокруг балерин, изображая страсть. Хорошо, хоть балерин поднимают.
Антракт, выходим в фойе. Наметанным глазом определяю буфет. «Сельтерская» или «шустовский чай» там наверняка есть…
— Господа офицеры!
Машинально вытягиваемся. Полковник! Погоны, ордена, борода рогами вниз. За спиной «полкана» маячит поручик с аксельбантами, похоже, местные штабисты.
— Па-ачему одеты не по форме?
— Это наша форма! — пытается оправдаться Сергей. — Мы летчики!
— Кожаная куртка — служебная форма летчика. Покинув аппарат, летчик обязан ее снять! На вас должен быть китель либо парадный мундир.
Подкованный, зараза! Наверняка из московской комендатуры.
— У нас нет другой одежды, — Сергей совсем сник.
— Ежели нет, незачем появляться в публичных местах! Своим внешним видом вы позорите честь российского офицера!
Привлеченные скандалом, вокруг нас собираются люди. Попали! Пригнало на нашу голову! Загремим на гауптвахту!
— Николай Иванович! — из толпы выступает немолодой господин в визитке. В петлице — орден Святого Станислава. Полковник поворачивается к нему и улыбается: — Евстафий Петрович!
— Давайте простим фронтовиков! — предлагает Евстафий Петрович. — Они денно и нощно льют кровь за Отчизну. Видите! — он указывает на наши кортики. — В окопах и траншеях не до уставных правил.
— Устав надо помнить всегда! — важно говорит полковник. — Ну да ладно! Не будь этого, — он тычет в темляки на наших кортиках, — поговорил бы я с вами!
— Благодарю, Николай Иванович! — незнакомый Евстафий берет нас под руки. — Не составите компанию, господа?
Отказываться глупо. Евстафий ведет нас в буфет, к угловому столику. На стуле, спиной к нам, сидит женщина в лиловом платье. Она поворачивает голову на звук шагов. Колени мои слабеют. Большущие серые глаза под ресницами-опахалами, светло-каштановые волосы, забранные в высокую прическу, точеный носик, свежие губы… На тонком, безымянном пальчике обручальное колечко. Даже Сергей впал в столбняк, а уж он к своей Татьяне… Кем незнакомка приходится Ефстафию? Жена? Я мгновенно начинаю ненавидеть спасителя.
— Вот, Липочка! — говорит Евстафий. — Отбил у Штеймана! Едва не съел фронтовиков!
Липочка улыбается! Боже, какие зубки!
— Позвольте представить, господа, Олимпиада Григорьевна Невзорова, моя помощница по делам Земского союза.
Помощница…
— Меня зовут Семенихин Ефстафий Петрович, — он выжидательно смотрит на нас.
Рекомендуемся. Моя фамилия не производит впечатления. Забыли: газеты давно обо мне не пишут.
— Рад познакомиться, господа! Присаживайтесь! — Евстафий делает знак лакею, на столике появляется шампанское, бокалы и конфеты вазочке. Лакей разливает.
— За победу над супостатом!
Чокаемся. Олимпиада отпивает маленький глоток и ставит бокал. Мне очень хочется взять его и отпить со стороны, где касались ее губки. Едва сдерживаюсь.
— Нескромный вопрос, господа, — продолжает Семенихин. — Вам приходилось лечиться в госпиталях?
— Как же! — говорит Рапота. — Но я только раз, а вот прапорщик дважды. В последний раз долго лежал! У него часы из живота достали — осколком вбило. Покажи, Павел!
Чтоб тебе, болтун! Взгляды оборачиваются ко мне, нехотя достаю почтенные останки. Неудобно. Понятно во что был вымазан когда-то покойный «Буре». К моему удивлению Олимпада берет часы и внимательно рассматривает. Евстафий тоже любопытствует. Мне возвращают «Буре», я зажимаю его в кулаке. Искореженное серебро хранит тепло ее пальчиков, я это физически ощущаю. Возможно, я схожу с ума.
— Вы надолго в Москву? — Евстафий возвращает меня в реальность.
— Самое малое — неделя. За аппаратами приехали. Ждем, пока сделают.
— Тогда, господа, вам предложение. Земской союз помощи раненым и больным воинам собирает средства для госпиталей. Люди охотней жертвуют, когда видят тех, кто в госпиталях лечился. Тем более, героев. Не согласились бы помочь? Всего лишь показаться публике, сказать два слова…
Сергей растерян. Олимпиада смотрит на меня. За такой взгляд! Незаметно толкаю Сергея ногой.
— Ну, для раненых… — выдавливает он.
— Замечательно, господа! — Евстафий сияет. — Вы где остановились?
— Меблированные комнаты в Ситцевом Вражке.
— Почему не в гостинице?
— Мест нет.
— Безобразие! — он искренне возмущен. — Отказать фронтовикам! Завтра… — достает часы и смотрит на циферблат. — Уже сегодня переезжаете в «Метрополь»! Все расходы — за наш счет! Олимпиада Григорьевна, займетесь?
Помощница кивает.
— Диктуйте адрес, господа! Утром автомобиль перевезет вас в гостиницу. Утренний чай в ресторане, в одиннадцать — первое выступление перед публикой. Затем завтрак (никак не привыкну, что обед здесь называют «завтраком»), в два часа — второе выступление. В четыре — еще одно, затем обед. Вечер в вашем распоряжении. По рукам?
Обмениваемся рукопожатиями. Надрывается третий звонок, Евстафий уводит Олимпиаду в партер. Сергей смотрит им вслед, я улучаю момент и словно невзначай беру ее бокал. Пью там, где пила она. Все, кажется, приехали. Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша…
Ранним утром нас перевозят в «Метрополь» — организация у Евстафия работает четко. Я слыхал, что «Метрополь» первоклассная гостиница, но отведенные нам номера сражают. Они огромные. В каждом спальня и гостиная, комнаты обставлены роскошной мебелью. Паркет, драпировки на окнах. Но и это не все. В номерах холодильники (ящики со льдом), ватерклозеты, ванны, из кранов льется горячая (!) вода. Для тех, кто месяцами спал на походной койке, часто не раздеваясь… Сергей растерянно бродит по своему жилищу, все трогая, открывая и заглядывая, я, спохватившись, убегаю к себе. Первым делом, раздевшись, умываюсь горячей водой — в бане мы были давненько. Затем долго и тщательно бреюсь. Проще это сделать в парикмахерской, но искать ее некогда. После бритья наливаю в пригоршню одеколон и растираю по физиономии. Щедро лью одеколон на торс… Флакон я купил у портье, одеколон называется «Цветочный» и пахнет приятно. Не помню, когда я в последний раз подвергал себя воздействию парфюмерии, но остатки рассудка я утратил вчера и, кажется, навсегда. О моих снах этой ночью лучше не распространяться. Одеваюсь. В этот раз никаких кожанок, форменный китель с заботливо развешанными орденами. Дышу на свои крестики и протираю их носовым платком. Если уж записался в идиоты, так надо быть последовательным.
Спускаемся в ресторан, Олимпиада уже там. По очереди целуем нежную, белую ручку. Кожа руки ее гладкая и тонко пахнет фиалкой. Запах кружит мне голову, хотя кружиться в ней вроде нечему. Рассаживаемся, лакей приносит чай и выпечку. В этот раз чай настоящий, горячий. Кусок не лезет мне в горло.
— Вы не заболели, Павел Ксаверьевич? — заботливо спрашивает Олимпиада. — Совсем ничего не едите.
Я заболел, Липа, и насмерть! Только как об этом сказать? Бормочу нечто об отсутствии аппетита.
— Может, приказать шампанского? — не отстает она. — Для аппетита?
Энергично кручу головой — шампанское не поможет.
— Жаль! — искренне огорчается она. — Евстафий Петрович велел передать: для вас — все, что вы пожелаете!
У меня есть что пожелать! Только не в воле Евстафия это исполнить…
Сергей в отличие от меня на аппетит не жалуется и поглощает булочки одну за другой. Наверное, они вкусные. Хорошо, когда у человека есть невеста, осознание этого прочищает мозги. Однако невесты у нас нет, а мозги давно кончились. Олимпиада ввиду моего нежелания есть, занимает гостя разговорами. Спрашивает, понравились ли нам номера. Мы в восхищении! Рапота хочет подтвердить, но рот его занят, и Сергей закатывает глаза к небу.
— Как вам удалось снять? — спрашиваю. — Нам говорили, что мест нет.
— Их и не было, — подтверждает Олимпиада. — Евстафий Петрович распорядился освободить.
Это как?
— Гостиница принадлежит Семенихину, — поясняет Олимпиада. — Не вся, конечно, но у Евстафия Петровича крупный пай.
Кого, интересно, ради нас выкинули из номеров? Наверняка не унтер-офицеров. Чем мы интересны миллионеру? Только не говорите, что он любит фронтовиков, как родных!
Завтрак окончен, выходим в фойе. Гардеробщик ресторана летит к Олимпиаде с шубкой. Отбираю, укутываю сокровище в теплые меха. Она мило благодарит. Гардеробщик смотрит волком. Незаметно сую ему рубль. Гардеробщик кланяется и бежит за нашими шинелями. Олимпиада стоит перед зеркалом и не видит этой сцены, зато видит Сергей. Глаза у него слегка квадратные. У меня нет сил даже подмигнуть. Догадается, не маленький.
У подъезда нас ждет автомобиль. Шофер открывает дверцу, я помогаю Олимпиаде забраться в салон. Ныряю следом. Сергей отправляется к водителю — кажется, он понял. Задний диван широкий, здесь и трое свободно поместятся, но я как бы случайно сажусь так, что наши тела соприкасаются. Она не отодвигается. На нас вороха одежды, но через ряды плотной ткани я чувствую ее бедро — горячее и упругое. Боже, дай мне силы!
— От вас приятно пахнет, Павел Ксаверьевич! — говорит Олимпиада. — Хороший одеколон.
— Не все ж пахнуть порохом!
— К тем, к кому едем, лучше порохом, — вздыхает она. — Сытые, здоровые, что им до раненых?
Так для нее это не забава?
— Вы бывали в госпиталях?
— И в лазаретах! — подтверждает она. — Много раз. Тесно, грязь, вши… Медикаментов не хватает, постельного белья не хватает, раненых часто положить негде. Нужны средства…
Беру ее руку в тонкой лайковой перчатке и прижимаю к губам.
— Что вы, Павел Ксаверьевич! — она смущена.
— Это вам в благодарность от раненых! — говорю. Имею право. Был, лечился.
К сожалению, ехать недалеко. Поднимаемся по мраморным ступеням. Большой зал, на стульях сидят люди, десятка три — четыре. Перед ними стол, за ним несколько стульев. Это для нас. На столе лежит серебряный поднос, ясен пень, для пожертвований. Евстафий уже здесь Проходим, садимся. Евстафий встает.
— Господа! — обращается он к публике. — Хочу рассказать вам о положении на Германском фронте…
Он еще долго говорит о тяготах войны, о раненых, нуждающихся в попечении, долге каждого сына Отечества… Слова высокопарные, стертые, публика в зале скучает. Разглядываю. Главным образом мужчины, судя по одежде, не бедные. Жирные, лоснящиеся лица, круглые животы… Что им до раненых и больных? Сытый голодного не разумеет. Замечаю у дверей двух жандармов в голубых мундирах при саблях и револьверах в кобурах. А эти-то зачем? Для порядка?
Похоже, красноречие Евстафия пропадает впустую. Наклоняюсь к ушку Олимпиады, шепчу:
— Сколько вот эти могут пожертвовать?
— В «Яре» или «Эрмитаже» за ужин сотню, а то две оставляют, — сердито шепчет она. — А здесь бросят красненькую, а то и синенькой обойдутся. Вчера тысячи за день не собрали!
М-да, дела у сборщиков кислые. Миллионер понадеялся на красоту помощницы, но ее глазки пасуют, когда речь заходит о деньгах. Фронтовики — последняя надежда. За тем позвали и обласкали. Что ж, надо оправдывать доверие. Цель благородная, о подоплеке промолчим. Вновь наклоняюсь к розовому ушку.
— Олимпиада Григорьевна, после моего выступления берите поднос и следуйте за мной. Ничему не удивляйтесь!
Она смотрит изумленно, но все ж кивает.
— Я приглашаю выступить наших фронтовиков! — Евстафий наконец вспомнил о нас. — Их награды красноречиво говорят о подвигах. Герои пролили кровь за Отчизну, лечились в госпиталях. Я прошу их рассказать об этом!
Встаю. Это грубое нарушение субординации, первым должен говорить поручик. Наплевать. Меня встречают жидкими аплодисментами.
— Господа! Я военный человек и буду краток. Во время боевого вылета на бомбардировку неприятеля, я был ранен. Осколок немецкого снаряда угодил мне в живот. На пути он встретил часы и вбил их мне в кишки. Вот эти часы, вернее то, что от них осталось, — достаю «Буре». В зале оживление, многие вытягивают головы. — У вас будет возможность их разглядеть. Меня спас военный доктор, коллежский асессор Розенфельд Матвей Григорьевич, который извлек эти часы, а также осколки стекла и прочие шестеренки. Их было много, — улыбаюсь, в зале оживление. — Меня выходили сестры милосердия, которые обмывали и переодевали меня, когда я лежал без сознания. Точно так же они спасают тысячи раненых офицеров и нижних чинов. Низкий им за это поклон. Труд этих людей малозаметен, подвиг их благороден. Самое малое, что мы можем сделать для них и для спасения раненых — пожертвовать на госпитали и лазареты. Лично я даю сто рублей! — достаю из бумажника и бросаю на поднос «катеньку». — Приглашаю всех последовать!
Выхожу из-за стола, иду в зал. После мгновенного замешательства Олимпиада хватает поднос и устремляется следом. Я несу перед собой останки часов на цепочке, дескать, глядите! Глядят, некоторые даже трогают. После чего достают бумажники и ридикюли. Сурово наблюдаю за процессом. Планка задана, только попробуйте меньше! Даже не пытаются: меньше сотни никто не кладет. Некоторые вываливают больше. Обход завершен, Олипиада за столом пересчитывает сбор.
— Четыре тысячи двести три рубля! — объявляет громко.
Я знаю, кто дал эту трешку — жандарм у входа. При этом он смутился — наверное, больше с собой не было. Я молча пожал ему руку.
Жандармы подходят к столу. Деньги складывают в брезентовый мешок, один из жандармов достает свечку и палочку сургуча, расплавленный сургуч капает на шнурок замка, Евстафий ловко прижимает к коричневому пятну печать. Жандармы уносят мешок.
— Куда его? — спрашиваю у Олипиады.
— В банк! — он удивлена вопросу. — Все пожертвования кладут в банк, после чего госпитали и лазареты получают, сколько надобно. Никто другой доступа к деньгам не имеет.
Умно! У нас бы распилили за ближайшим углом. Интересно, откаты здесь есть? Наверное. Хотя с такого как Розенфельд откат не потребуешь, он сам тебя закатает, куда Макар телят не гонял. Он и царю написать может …
Раскланиваемся с почтенной публикой, уходим. На улице Евстафий долго жмет мне руку. Мне его благодарность — до уличного фонаря, мне больше дорог взгляд, которым меня одарили. Не Рапота — Сергей смотрит зверем. Под предлогом перекура отвожу его в сторону.
— Почему ты не предупредил?! — Сергей по-настоящему зол. — Получается: ты жертвуешь, а я нет?
Молча показываю пачку банкнот. У Рапоты — кратковременный столбняк.
— Откуда! — выдавливает он.
— Наследство матери. Причем, меньшая его половина. У тебя есть столько?
— Все равно неудобно… — он еще не смирился.
— Тебе понадобятся деньги.
— Для чего?
— Ты дал телеграмму Татьяне?
— Какую телеграмму?
— Срочную! — делаю вид, что диктую: — «В командировке в Москве. Очень скучаю. Приезжай немедленно. Телеграфируй прибытие: гостиница «Метрополь», мне. Точка».
Сергей краснеет. Надо же, не разучился!
— Это не будет выглядеть… — он все еще сомневается, хотя глаза уже горят.
— Когда Татьяна узнает, что ты жил один в роскоши, она никогда не простит! Я знаю женщин! Не будь эгоистом!
Все, готов! Речь идет о счастье невесты, какие могут быть возражения? Сергей просит заехать на телеграф. Обратно возвращается сияющим — дело сделано. Обед, пардон, «завтрак» в ресторане. На столе вино, от более крепких напитков отказываюсь решительно. Не до того. Сергей почти не умолкает: он рассказывает о Татьяне. Его прямо распирает, душа требует поделиться.
— А у вас, Павел Ксаверьевич, невеста есть? — интересуется Олимпиада. Сердце у меня екает: вопрос не дежурный. Качаю головой.
— Почему? — она искренне удивлена. — Не успели?
— Я вдовец.
Глаза ее распахнуты до корней волос. Для вдовца я слишком молод. Сейчас бы губами да к этим глазам …
— Вы… Давно?
— Еще до войны. Трагический случай…
Она кивает и больше не спрашивает. Однако я чувствую: что-то изменилось. Мы словно встали вровень. Для замужней женщины холостяк и вдовец — разные категории. Очень разные.
В фойе я вновь одеваю Олимпиаду. На заднем диване автомобиля мы снова вдвоем. Сидим, прижавшись друг к другу, как будто, так и нужно.
— По скольку собирать с новой с публики? — спрашиваю Липу. — Сколько мне класть?
— Павел Ксаверьевич, вы хотите?..
— Хочу! Я располагаю средствами — недавно получил наследство. На благое дело не жалко.
— Какой вы!.. — она не договаривает. Берет мою руку и сжимает в своей ладошке. Мы в перчатках, но я чувствую каждую клеточку ее кожи. Боже, продли мгновенье! Не продлил…
Трюк с часами вновь проходит успешно. Я чувствую себя клоуном, но назвался груздем… В этот раз кладу пятьдесят рублей — две бумажки с портретом Александра III. Со словами: «От нас!». Подразумевается участие и Сергея, да и бумажек две. Никто не знает, что Сергей меня не уполномочивал, а сам Рапота не замечает — он весь в мечтах. Подсчет, брезентовый мешок, жандармы… Третье место — университет. Здесь публика победнее, самых богатых мы окучили ранее. Дают по четвертной, десятке, кладут пять рублей, случается и рубль. В аудитории — профессора, приват-доценты, студенты… И студентки. Их мало, но они очень любопытные. После подсчета денег окружают меня, трогают почтенные останки «Буре», засыпают вопросами. Некоторые откровенно строят глазки. Приятная компания.
— Господа, оставьте Павла Ксаверьевича! Он устал — это третье выступление. Не забывайте: он перенес тяжелое ранение!
Это Олимпиада. Я совсем не устал, и ранили меня давно, но такая защита мне нравится. Неужели? Уймись, мечтатель! Ты же не Сергей!
Ласково прощаюсь со студентками, жму руки профессорам. У подъезда нас ждет автомобиль, Евстафий едет с нами. Липа будто не замечает моей руки, принимает помощь Евстафия и ныряет в салон. Семенихин — следом. Ничего не остается, как примоститься с краю. Я впал в немилость, это понятно. Еду мрачный. Так тебе и надо: мавр сделал дело, мавр может отдыхать.
В фойе «Метрополя» скандал. Плотный подполковник с жирной шеей отчитывает портье. Кругом любопытные. Подполковник бушует:
— Вчера меня попросили освободить номер, пояснив, что для важного гостя. Я подумал: генерал приехал! Сегодня специально зашел справиться, узнаю: прапорщик! Из какого-то Земгора! Выходит роскошные апартаменты — земгусарам, а фронтовиков — на улицу?! Я этого не оставлю! Я в Ставку напишу, на высочайшее имя!
Внимательно разглядываю скандалиста. На фронтовика он не тянет. Орденов нет, даже «клюквы», которую дают любому, кто участвовал в сражении. Отлично скроенный мундир из дорогой ткани, новенький, даже не замятый. Штабной, причем из тех, кто о сражениях узнает из газет.
Подполковник продолжает бушевать, я чувствую, как ярость подступает к горлу. Сегодня я трезвый, следовательно, злой. К тому же мои усилия очаровать Олимпиаду пошли прахом: мне указали место — просто и недвусмысленно. Сергей хватает меня за рукав, но поздно!
— Господин подполковник!
Он оборачивается. Шинель с папахой я сбросил на руки гардеробщику, поэтому просто киваю. Мне не хочется отдавать ему честь.
— Я прапорщик, из-за которого вас выселили. Как изволите видеть, не земгусар. Военлет. Воевал в Осовце, снизил германский аэроплан, взяв в плен летчиков, разбомбил аэростат… Был тяжело ранен и контужен. Лично отмечен государем. В Москву приехал за аэропланами — на фронте воевать нечем. Я не просил, чтоб вас выселяли, это сделали, не спросив меня. Я понимаю: мои скромные заслуги не идут в сравнение с вашими. Я попрошу заселить вас обратно, а сам пойду на улицу. Мне не привыкать. На фронте удобств мало…
С каждым моим словом он багровеет все больше. Ему, как всем окружающим, понятно: издеваюсь. Размазываю тыловую крысу по стене. Фронтовиком его можно назвать по недоразумению — это понятно даже курсистке. Сейчас он заорет. Тогда я…
Мне нельзя его бить. Второй дуэли не случится. Штаб-офицеры не стреляются с обер-офицерами. Меня ждет военный суд и арестантские роты — «во глубине сибирских руд…» До штрафных батальонов здесь пока не додумались. Мне не улыбаются рудники. Лучше расстрел. Я проткну эту жирную тушу кортиком. Хоть на что-то железяка сгодится.
Я кладу ладонь на эфес оружия, но в этот миг стальная рука сжимает мою кисть. Пытаюсь освободить — не получается. Не знал, что у Рапоты такая хватка!
— Господин подполковник, поручик Рапота! — Сергей бодает головой. — Мы прибыли вместе с прапорщиком. Я подтверждаю его слова: мы не знали, что вы пострадали из-за нас. Я охотно уступлю вам свой номер; нам с прапорщиком хватит одного. Сделайте любезность!
На нас смотрят десятки глаз, и подполковник понимает: предложение принимать нельзя. Выгнать из номера георгиевского кавалера? В общественном мнении он упадет ниже бордюра, а общественного мнения здесь боятся. Краска покидает его лицо.
— Вообще-то я устроен! — бормочет он. — Просто зашел полюбопытствовать. Однако, господа, почему Земгор?
— Мы пригласили поручика и прапорщика в помощь сбору средств для раненых и больных, — Евстафий выскакивает как чертик из табакерки. Где он был до сих пор? — Благодаря им, сегодня сдано в банк свыше десяти тысяч рублей! Значительную сумму пожертвовал лично прапорщик!
Публика разражается аплодисментами. Я, конечно же, не «значительную», но спорить неудобно. Скандалист уничтожен. Что-то невразумительное пробормотав, он скрывается в толпе. Сергей отпускает мою кисть. Оглядываюсь. Олимпиада смотрит на меня широко открытыми глазами. Я не понимаю, что в них: смятение, осуждение, или восхищение? Затянувшуюся паузу прерывает портье: передает Сергею телеграмму. Заглядываю через плечо: Татьяна приезжает сегодня ночью. Счастливец!
Ужинаем, вернее обедаем. Инцидент предан забвению, но послевкусие осталось. Сергей постоянно поглядывает на часы. До прибытия поезда из Петрограда часов пять, но он считает каждую минуту. Мне говорить не хочется, Олимпиада тоже не расположена. Евстафий отдувается за всех. Вспоминает сегодняшние мероприятия, называет какие-то фамилии, комментирует, хихикает. Стол ломится от блюд. Евстафий с Олимпиадой пьют вино, нам с Сергеем принесли самоварчик. Рапота едва прикасается к стакану, зато я стараюсь за двоих. Напиться до бесчувствия — это выход. Ловлю на себе тревожные взгляды Евстафия.
— Господа офицеры! — вдруг говорит он. — Вы совсем забыли о даме! Оркестр играет, а вы не удосужились пригласить! Стыдно!
И в самом деле! Смотрю на Сергея: на лице его нежелание. Придется нам! Встаю и кланяюсь:
— Разрешите?
Я не знаю, умею ли танцевать. Мне, признаться, все равно. Оркестр играет аргентинское танго. Идем в центр зала. Олимпиада кладет ладошку на мою руку, я обнимаю ее за талию — и-и!.. Оказывается, умею. Я веду ее резко, четко фиксируя движения, получается чуть жестковато, но это то, что нужно. Лицо ее раскраснелось, но она не ропщет. Любопытные глаза следят за нами от столов. Мы единственная пара, вышедшая на танго, видимо, танец здесь в новинку.
— Вы замечательно водите! — говорит Олимпиада. — Не ожидала, что знаете танго. Где научились?
— В Буэнос-Айресе! — вру без раздумья. С таким же успехом можно сказать: «На луне!» Поди, проверь!
— Вы странный человек, Павел Ксаверьевич! — говорит она. — Давеча вы меня чрезвычайно напугали! Показалось, вы убьете этого офицера!
Правильно показалось…
— Отчего вы так рассердились?
Сказать? А что я теряю?
— Из-за вас, Олимпиада Григорьевна!
Она удивленно взмахивает ресницами, но я мгновенно понимаю: такого ответа ждали.
— Чем же я вас прогневала?
Пропадать, так под музыку!
— Помните, вчера в театре нам подали шампанское? (Она кивает). После того, как вы ушли, я пил из вашего бокала — потому что его коснулись ваши губы. Ночью я, считайте, не спал. Сегодня ловил каждый миг, чтоб оказаться рядом. Мне показалось, вы не против. Но потом отвергли мою руку.
— Вы тоже хороши! — она явно обижена. — Начали любезничать со студентками!
Неужели меня ревнуют? Боже!..
Музыка замолкает. Нам аплодируют, я церемонно кланяюсь партнерше и предлагаю ей руку.
— Пригласите меня еще! — говорит она торопливо.
— Браво, Павел Ксаверьевич! — Евстафий встречает нас аплодисментами. — Где освоили? В военных училищах не учат танго.
— Это все Олимпиада Григорьевна! — перевожу стрелки. — Она замечательно танцует! Мне доставило незабываемое удовольствие!
— Оркестр будет играть долго! — смеется Евстафий. — За ваш сегодняшний подвиг на ниве благотворительности любая дама будет танцевать с вами до утра. Наслаждайтесь, Павел Ксаверьевич!
Оркестр, будто подслушав, мурлыкает вальс. Вновь кланяюсь и веду Олимпиаду в центр зала. После первых па сбиваю дыхание и перехожу на медленные туры. Благо все вокруг поступают точно также: обильная еда, питье…
— Хотите сказать, Павел Ксаверьевич, что влюбились в меня? — спрашивает она.
Ну, все — в омут головой.
— Я не влюбился, Олимпиада Григорьевна, я пропал! Меня сбили, и я умер! Я иссох, разбит и уничтожен. Я утратил разум. Разве вы не видите?
— Надеюсь, вы помните: я замужем?!
— В том-то и беда! Иначе мог надеяться…
Она молчит.
— Нам надо поговорить, — говорит, помедлив. — Наедине.
— Где? Когда?
— Разумеется, не здесь! — она похоже сердита. — Кругом сотни глаз, не хватало меня компрометировать! Мы спокойно завершим обед, после чего Евстафий Петрович отвезет меня домой. Муж мой в отъезде, но прислуга дома. Я отпущу ее под предлогом, что хочу спать, а после выйду, возьму извозчика и приеду в «Метрополь». Я часто бываю в этой гостинице и знаю, как пройти, чтоб не заметили.
— Олимпиада Григорьевна!
— Вам придется подождать! — говорит она тоном учительницы. — Возможно, долго!
— Хоть всю жизнь!
Она смеется:
— С вашим характером вас на день не хватит!
А ведь, правда! Внезапно я спохватываюсь.
— Вы знаете, в каком я нумере?
— Ты и в самом деле рехнулся! — смеется она. — Я же их снимала!
Мне показалось, или, в самом деле, она сказала мне «ты»? Спросить не успеваю: музыка кончилась. Провожаю Олимпиаду к столу и как бы вскользь замечаю: день выдался хлопотный. Никто не настаивает на продолжении банкета. Провожаем Олимпиаду и Евстафия, я вновь подаю ей шубку и целую на прощание руку. Сергей тоже прикладывается. Оревуар! Сергей идет к себе, я под благовидным предлогом задерживаюсь и заглядываю в ресторан. Маню пальцем официанта.
— Подашь в шестнадцатый нумер шампанского в ведерке! — говорю лениво. — Только через час, не раньше. Понял?
— Прикажете икорки, конфет? — склоняется он.
— И балык… Все, чтоб поужинать двоим, — сую ему четвертной.
Он прячет руки за спину:
— Евстафий Петрович велели за счет заведения.
— А на чай?
— С фронтовиков не берем-с.
Вот те раз!
— Ваше благородие! — он смущен. — Могу я попросить?
— Конечно!
— Часы покажете? Что из вашего живота достали?
Уже официанты знают! Растрепал! Киваю:
— Принесешь — покажу!
Он убегает радостный, я поднимаюсь к себе. Первым делом открываю краны в ванной. Пока вода бежит, достаю мыло, свежую пару белья. Я день на ногах, танцевал… С недавних пор я стал невообразимым чистюлей. Через полчаса чистый, причесанный, надушенный прапорщик Красовский сидит на диване и ждет. В Петрограде мне отдали вещи настоящего Красовского, среди них был наручный хронометр. Швейцарский, со светящимся циферблатом — мечта летчика. Я не смотрю на него, похоже, он встал. На стене ходики с кукушкой. Стрелки на размалеванном циферблате тоже застыли, проклятая птица умерла в железном гнезде. Наконец, выскакивает, орет. Девять вечера. Почти сразу же — осторожный стук в дверь.
Это официант. Он вносит большую корзину, накрывает и сервирует стол. В благодарность даю подержать искалеченного «Буре». Он с почтением рассматривает и возвращает с поклоном. Я снова один, а ее все нет. А кто сказал, что будет? Вдруг муж нечаянно возвратился, или сама передумала? Да мало ли что?
Встаю, меряю номер шагами. Хочется курить, но Олимпиада, как заметил, не любит запах папирос. Лезу в чемодан и нахожу последнюю сигару. Пожалел я папашины закрома! Обрезаю, закуриваю. Сигара хороша тем, что курить можно долго. Еще бы коньячку… Решено! Если к десяти Олимпиада не появится, попрошу официанта принести коньяк. Заглядываю в ведерко с шампанским. Лед почти весь растаял. Решительно несу ведерко в ванную и выплескиваю в умывальник. Из холодильника насыпаю нового льда. Я помешался, она не придет. Вот уже сигара истлела, и кукушка отметилась, но я все медлю с коньяком. Вдруг она все же появится? Не хочу встречать ее пьяным. Вы идиот, прапорщик! Не придет она, не придет…
Осторожный стук в дверь. Я не бегу, я лечу, я распахиваю дверь настежь. Это она — в меховой шапочке с плотной вуалью и каком-то странном пальто. Впускаю и помогаю раздеться.
— Прислуга не сразу ушла, — говорит она смущенно. — Потом извозчика долго не было. А это пальто служанки, мою шубку здесь знают…
Все, терпение мое кончилось! Хватаю и покрываю поцелуями сероглазое сокровище. Она слабо сопротивляется, но меня не остановить. Подхватываю ее на руки и несу к дивану. Она что-то лепечет, но я ничего слышу. В ушах стук сердца, скоро я ощущаю, как бьется и ее сердечко. Мы вместе, мы одно целое, это так упоительно!
Спустя несколько минут она встает и оправляет платье. Лицо у нее сердитое.
— Теперь я знаю, почему ты герой! — говорит язвительно. — Если ты на немцев бросаешься, как на женщин…
Сердце мое замирает и падает ниже колена.
— Вам может показаться это странным, Павел Ксаверьевич, но я и в самом деле шла к вам поговорить — и только за этим! У вас за обедом было такое лицо! Я боялась: совершите какое-либо безумство…
Выходит, я ее изнасиловал. О, Господи! Да я…
— Что с вами?! Павел Ксаверьевич?!. — лицо ее маячит надо мной.
— Олимпиада Григорьевна! — делаю усилие и встаю. — Я даже не знаю, как просить прощения… Я забылся, я потерял рассудок… На миг вообразил, что меня полюбили. Это невозможно.
— Отчего ж невозможно? — вздыхает она. — Очень даже возможно! Как раз об этом я хотела поговорить. Объяснить: у меня есть долг перед мужем, а вы молоды, красивы и легко найдете другую женщину. Мы должны найти в себе силы образумиться и сдержать чувства. Я целую речь в уме заготовила. Вы мне слова не дали сказать!
Молчу, потому, как ничего не понимаю.
— К тому же вы дурно воспитаны. К вам в гости пришла женщина, а вы, вместо того, чтоб пригласить ее отужинать, сходу стали приставать. Я, между прочим, проголодалась, гуляючи на морозе!
Подхватываю ее на руки и несу к столу. Усаживаю, наливаю шампанское, придвигаю блюда. Она действительно голодна и ест с аппетитом. Смотрю с замиранием сердца. Она поднимает голову:
— Почему сам не ешь?
— Не хочется.
— Так и будешь смотреть?
— Так и буду. Мне доставляет удовольствие.
— Я думала: удовольствие тебе доставляет другое! — язвит она.
Опускаю голову, вздыхаю:
— Могу я хоть как-то загладить вину?
— Это мы посмотрим! — она ставит на стол пустой бокал. — Как ты умеешь заглаживать…
11
Утром я встречаю Липу у входа в «Метрополь». Она, как положено, прибывает на автомобиле, я целую ей руку и помогаю снять шубу. Глаза ее покраснели, веки припухли. У меня вид не лучше: разглядел во время бритья в парикмахерской.
— Я ужасно выгляжу! — говорит она перед зеркалом и, оглянувшись, шепчет сердито: — Бычок! Я глаз не сомкнула!
Как будто я сомкнул! Мне велели заглаживать, я и заглаживал. В прямом смысле слова. Мы это умеем, научились в Индии. У английского лейтенанта на это времени хватало — ротой фактически командует сержант…
В ресторане за столиком ждут Сергей и Татьяна. По лицам голубков видно: этой ночью, выражаясь библейским языком, они познали друг друга. И что страсть к познанию у них не угасла…
Чай пьем молча: все погружены в воспоминания. Время от времени переглядываемся с Липой, она более не сердится, даже улыбается. Я теперь много о ней знаю. Ей двадцать пять, из них три, как она замужем. Муж намного старше ее годами. Он статский советник, в переводе на военные звания — старше полковника, но ниже генерала. Служба требует от мужа частых отлучек. Детей у них нет, потому муж не против благотворительности: это благородно, почетно и наполняет жену жизнью. С Евстафием муж в давних приятелях, он смело оставляет супругу на его попечение. Узнал я, каким боком наш цирк самому Евстафию. Старик хочет орден, немного-немало — Святого Владимира. Станислава он получил за личные пожертвования, а вот Владимира так просто не купишь. Второй по значимости орден империи, им награждают высших сановников и офицеров. Всем прочим — по воле государе. Царь ценит благотворительность, за успешный сбор средств не преминет отметить. Нашим олигархам да такое бы тщеславие! А то все яхты да дворцы… Об отношениях с мужем Липа не распространялась, я не спрашивал. И без того ясно: женщину в ней разбудил не муж — некий контуженный прапорщик. Пробуждение случилось не сразу. Поначалу Липа жутко стеснялась и все спрашивала, прилично ли это? После спрашивать перестала — распробовала. Все прилично в спальне меж двоими…
Едем на очередную встречу. Сергей крутит баранку — договорился с шофером. Где случится летчику порулить «Роллс-ройсом»? Сергей счастлив. Подозреваю, что технику он любит больше Татьяны. Сама Татьяна — на краю заднего дивана, Липа посреди, я — с другого края. Никто не видит, как прапорщик сжимает ручку возлюбленной и получает в ответ такие же пожатия. Жаль, что ехать недалеко…
В этот раз обходимся без «Буре» и купеческого швыряния купюр — Липа запретила. Однако эффект не хуже. Помогает Татьяна. Ее простой, но живописный рассказ об уходе за ранеными завораживает публику. Когда Татьяна вспоминает, как ходила за раненым прапорщиком, и тот едва не умер, в зале слышны всхлипывания. Публика уверена: Татьяна — моя невеста. После такой заботы со стороны сестры милосердия, я, как приличный человек, обязан на ней жениться. Пожертвования сыплются щедро.
На встречах присутствуют репортеры — Евстафий позаботился о пиаре. Награда должна быть заслуженной! Кто-то из репортеров опознал меня. При выходе останавливает и спрашивает, тот ли я Красовский. Нехотя подтверждаю.
— Вы и в самом деле писали «Прощай!»? — уточняет репортер. У всех почему-то пунктик насчет этой записки.
— У меня было мало времени — терял сознание… — пытаюсь объяснить, но репортер, не дослушав, убегает с сенсацией: «тот самый» Красовский в Москве!
Липа и Евстафий смотрят вопросительно. В двух словах сообщаю подробности. Евстафий едва не прыгает от радости. Он заполучил такую группу! Военлет, спасающий летнаба с риском для жизни, сестра милосердия, которая его выходила… Сюжет для романа! Я выслушиваю укор в чрезмерной скромности. Липа смотрит на меня влажными глазами. Она знает, что я был ранен, ночью она хорошо исследовала шрам от операции, но чтоб такое? А что тут такого?
Следующее собрание благотворителей происходит в театре, и публика здесь собралась театральная — актеры, режиссеры с ассистентами, костюмеры и антрепренеры. Евстафий сходу рассказывает нашу историю. Публика потрясена и требует подробностей. От того, что это происходит в театре, чувствую себя как в оперетте. Осталось взяться с Татьяной за руки и спеть финальную арию — на фоне кордебалета, изображающего любовь. Сергей при этом будет ронять в углу скупую слезу: любимая уходит к другу, потому как тот ранен, и невеста ему нужнее.
— Это можно поставить! — кричит какой-то старик с седой эспаньолкой. — Я вижу эту сцену! Я верю!
Публика радостно гомонит и щедро жертвует. Хоть какая-то польза! По завершению меня обступают актрисы, наперебой требуя сфотографироваться на память. Откуда-то является фотограф и формирует из нас сцену по типу: «я пятый справа в третьем ряду, вот, видите, выглядываю из-за плеча Ивана Ивановича?» Только нас с поручиком и Татьяной ставят не в третий ряд, а в центр, две симпатичные актрисы повисают на моих руках. Липу бесцеремонно оттеснили в сторону. Расплата следует незамедлительно. При посадке в «Роллс-ройс» Липа делает вид, что поскользнулась и с размаху бьет носком ботинка мне в голень. Больно! Она мило извиняется и впархивает в салон. Шиплю от боли и дорогой растираю ушибленную ногу. Липа сидит прямо, на губах ее — плохо скрываемая улыбка. Ну, ладно, ночью поквитаемся! Думая так, прекрасно понимаю: никакого сведения счетов не будет. Будет совсем иное. Меня беспрекословно признают негодяем, и потребуют загладить вину. И я буду заглаживать, млея от счастья. На коленях буду просить, чтоб позволили загладить…
Наутро в газетах выходят репортажи о героях, собирающих деньги для раненых солдат. В одной из газет — театральное фото. Репортер пишет: справа от героя стоит госпожа N, исполняющая главную роль в постановке «Отелло» режиссера X. Слева от героя — госпожа Z, исполняющая главную роль в спектакле режиссера Y. Игра обеих актрис неподражаема, публика по двадцать раз вызывала их на «бис». Оба спектакля будут даны в ближайшие дни, билеты продаются в кассе по адресу… Нет, не случайно фотограф в театре нашелся быстро! Пожертвованное ребята отобьют…
Липа шипит как разъяренная кошка. Ночью мне грозили расцарапать физиономию. Я узнал, что я не просто подлец, а, что хуже того, — подлец-рецидивист, поскольку ранее был замечен со студентками. Липа считает меня законной добычей, и звереет, когда видит попытку на добытое покуситься. Путь от чопорной жены, боящейся компрометации, до ревнивой любовницы пройден ей стремительно. Похоже, крышу снесло не только мне. Честно говоря, я этому рад, но скандала прежде времени не хочется. Не хватало устроить сцену на глазах у публики! Улучив момент, говорю Липе:
— Ты сама просила не компрометировать! Представь: на этом снимке мы стояли бы рядом, и на это обратит внимание твой муж! Или ему подскажут внимание обратить. Твое поведение на публике выходит за рамки приличий. Ты делаешь все, чтоб окружающие поняли: мы любовники!
В глубине души я жду: она сейчас крикнет: «Пусть знают! Я тебя люблю и хочу быть с тобой! Что мне муж?!» Однако она молчит и только хлопает ресницами. М-да! Размечтались вы, прапорщик…
Святки заканчиваются, а вместе с ними — и благотворительный сезон. Евстафий по этому случаю закатывает банкет. Миллионер доволен: на Святого Владимира он накосил. У Липы глаза на мокром месте. Причина уважительная: жаль расставаться с такими замечательными людьми! Истинная подоплека в другом: у нас больше нет возможности видеться днем. Татьяна тоже всхлипывает — ей надо возвращаться в Петроград. Словом, не торжество, а похороны, настроение соответствующее.
Мы с Сергеем возвращаемся к делу, ради которого приехали — испытываем аппараты. Мне очень нравится «Ньюпор». Это новейший французский истребитель с пулеметом на верхнем крыле. Пулемет стреляет поверх площади, ометаемой винтом. Пилот в нужный момент тянет за тросик, прикрепленный к спуску. «Ньюпор» — аппарат легкий, скоростной и маневренный. Он маленький, отчего и носит кличку «Бебе» — малыш. Для двухместного разведчика «Моран-парасоль» мотор «Гном» слабоват, эта машина мне нравится меньше, хотя летные качества у нее неплохие.
Случайно или нет, но неисправностей в наших аппаратах мало, их устраняют быстро. Собраны машины качественно. На них установили французские моторы, это значит, что прослужат они долго. Сергей сияет, он словно забыл про разлуку с любимой. Облетанные нами аппараты разбирают и грузят в ящики. Сергей очень боится, что их перехватят в пути, но управляющий «Дукса» успокаивает: такого не будет! Он лично проследит.
Наши отношения с Липой ухудшаются. Ее ночные ласки становятся все исступленнее. Так не любят, когда ждут продолжения. В предпоследний день она приезжает прямо на «Дукс», меня вызывают к проходной. Липа без долгих слов показывает телеграмму: вечером возвращается муж. Она не плачет: глаза ее сухие и безжизненные. Мы идем вдоль заводского забора, в дневное время здесь пустынно.
— Я долго думала о нашем будущем, — говорит она. — Плакала… Я не смогу оставить мужа…
В самом деле, ради кого? Скитальца, кочующего по чужим телам? Бродяге перепал кусочек счастья — хватит ему! Три счастливых дня было у меня… Пусть не три, а семь, только что это меняет?
Она говорит, что наша любовь — это наваждение, солнечный удар. Где-то я такое читал. Интересно, уже написали? Наваждение пройдет, а что после? Муж всегда был добр к ней, он ее чрезвычайно любит, уход жены разобьет ему жизнь. Мне вспоминается Розенфельд… Липа мудрее покойной жены доктора. Зачем менять сытую, спокойную жизнь на любовь без гарантий? Пусть даже очень сильную любовь? Липа как при первом свидании заготовила речь, в этот раз ей не мешают говорить. Она и без того виновата перед мужем, она изменила ему, слышу я. Теперь ей с этим жить. Говорит она торопливо — боится, что я начну возражать. Я бы возразил, я бы умолял, я встал бы на колени, но это бесполезно: решение принято и пересмотру не подлежит. Молча провожаю ее к саням.
— Павел! — вдруг спрашивает она. — Могу я попросить? На память… Те часы?
Достаю и отдаю ей злополучного «Буре». Она целует изуродованные останки и прячет на груди. Сцена отдает дешевой мелодрамой.
— Это тебе взамен!
Часы, точно такие. Открываю крышку. На внутренней стороне — гравированная надпись «Любимому». Больше ничего: ни даты, ни имени. Остается разрыдаться, упасть в объятия друг друга и обменяться последним лобызанием. Обойдемся. Целую холодную кожу ее перчатки, тепло руки через нее более не ощущается.
— Вот еще… — она медлит. — Не хотела огорчать тебя напоследок, но ведь все равно узнаешь. Ты рассказывал о докторе Розенфельде…
Она сует мне газету и прыгает в сани. Извозчик понукает лошадь, снежная крупа из-под полозьев летит мне в лицо. Мое короткое счастье скрывает метельная пелена. Открываю газету. Сразу бросается в лицо заголовок: «Очередное зверство германских войск». Читаю. Тяжелый артиллерийский снаряд угодил в русский госпиталь. Репортер уверен: немцы сделали это преднамеренно. Госпиталь имел все предусмотренные международными правилами опознавательные знаки на крыше и стенах, немцы не могли их не видеть. О том, что тяжелая артиллерия бьет с закрытых позиций и по площадям, а снаряд мог быть случайным, репортер не догадывается или не хочет знать. Он негодует и обличает. В конце статьи — длинный список погибших. Открывает его имя коллежского асессора Розенфельда…
Сухой комок в горле не дает мне вздохнуть. Я знаю: за счастье надо платить, причем, дорого. Однако плату в этот раз взяли непомерную. Не разбирая дороги, иду обратно, Сергея нахожу в ангаре: он хлопочет возле последнего «Морана». Хорошо, что облеты закончились, сегодня я загнал бы аппарат в землю. На себя плевать, но аппарат жалко — на фронте его ждут. Увидев мое лицо, Сергей подбегает,
— Олимпиада?
Киваю. Сергей не посвящен в наши отношения, но догадаться не трудно.
— Расстались?
— Да. Вот еще! — сую ему газету, поворачиваюсь и ухожу. Сергей — замечательный парень и отличный друг, но сегодня я не хочу видеть даже его. Извозчик везет меня в «Метрополь». Нахожу знакомого официанта, прошу подать ужин в номер. И «сельтерскую», большую бутылку «сельтерской»! Он удивлен, но кланяется. Я ничего не хочу объяснять. Я не могу сидеть в ресторане, где мы были вместе. Где танцевали, улыбались, пожимали руки друг другу. Не хочу!
Ужин приносят скоро. Стол привычно сервируют на двоих, я забыл предупредить, что буду один. Когда официант уходит, отодвигаю рюмку, беру стакан для воды и до краев наполняю «сельтерской». Предыдущие дни я совсем не пил, разве что глоток шампанского. Пора восстанавливать навыки. Беру стакан… Осторожный стук в дверь. В безумной надежде бегу открывать.
Это коридорный.
— Ваше благородие! — он едва не заикается, видя мое лицо. — Извините великодушно! Внизу дама, своего имени не называет, просит допустить к вам! Настойчиво просит!
Липа! Боже! Она вернулась! Передумала!
— Что ж ты стоишь, болван! Веди! Немедленно!
Он отшатывается. Спохватываюсь, сую ему пять рублей. Он берет и убегает. Стою у дверей, я не в силах от них отойти. В дальнем конце коридора появляется фигура женщины. Она вся в черном. Коридорный семенит сбоку, показывая дорогу. Спустя мгновение понимаю: это не Липа! Рост другой, походка другая… Отчаяние наваливается на меня. За что такая мука?!
Женщина подходит ближе, понимает вуаль. Ольга?! Глаза у нее опухшие, заплаканные… Меня внезапно пробивает. Делаю шаг, обнимаю ее.
— Павел Кса… Кса… — голос ее дрожит.
— Я знаю, Оленька, знаю!
Она рыдает, слезы выскакивают из моих глаз. Я не помню, когда плакал в последний раз. Мы стоим посреди коридора, обнявшись, и плачем — каждый о своем. Коридорный смотрит на эту сцену, выпучив глаза. Делаю знак удалиться. С трудом, но мне удается придти в себя.
— Проходите, Ольга Матвеевна! Пожалуйста!
В номере помогаю ей снять пальто и шапочку. Она тоже слегка оправилась.
— Из газет узнала, что вы в Москве, — говорит дрожащим голоском. — Подсказали: живете в «Метрополе». Я днем приходила, вас не было. Пришла вечером, а они не пускают! Говорят: «Их благородие отдыхает!»
— Пожалуйста, Ольга Матвеевна, за стол!
Чутье подсказывает: сегодня она не ела. Это никуда не годится! Накормить человека в горе — наполовину облегчить страдания. Испытано…
— Садитесь, кушайте! Выпейте воды!
Она подчиняется, как маленькая. И, прежде чем успеваю сказать, хватает стакан «сельтерской». Пьет большими, жадными глотками, ставит пустой стакан. Вздыхает.
— Закусите, Ольга Матвеевна, пожалуйста!
Подсовываю блюда. Я опрометчивый дурак, я проглядел ситуацию, но у меня смягчающие обстоятельства. Неужели она не поняла, когда пила? Бывает. Сам когда-то лакал спирт, как воду. Сейчас главное поесть…
Водка ли повлияла, или она действительно голодна, но ест она быстро и много. Слава богу! Возможно, жирный балык впитает алкоголь, и все обойдется. Отвезу ее на извозчике домой… Она кладет вилку.
— Папа писал: если с ним что, найти вас! Вы поможете, вот! — она внезапно икает и сползает со стула — еле успеваю подхватить. На моих руках — бесчувственное тело. И что теперь? На извозчике тело не повезешь, полицию вызовут…
Укладываю ее на диван, иду в спальню и разбираю постель. Наверное, это хорошо, что пришла Ольга, сегодня я не смог бы здесь спать. Возвращаюсь и после минутных колебаний раздеваю ее до белья. Получается быстро — наловчился. У женщин этого времени на платьях слишком много шнуровки и застежек — не дай бог пережмет горло. Беру ее на руки — она совсем легкая, и отношу в постель. Кладем на бочок, укрываем — замечательно! Приношу платье, вешаю на стул, ботиночки ставлю рядом.
Возвращаюсь в гостиную и сажусь за стол. Мне тоже пора утешиться. Наливаю «сельтерскую» в тот же злополучный стакан и осушаю его в два глотка. Закусываю. Горячее давно остыло, но нам не привыкать. Еще стакан! Вот уже и не так болит… У меня просыпается зверский аппетит: выпиваю и съедаю все, что осталось от Ольги. Вызванный звонком коридорный собирает посуду.
— Любезный! — говорю строго. — Ко мне кузина приехала, у нее отца на фронте убили. Наплакалась, бедняжка, спит. Постели мне здесь! — указываю на диван.
Он кланяется и уносит посуду. Через десять минут у меня роскошная постель. Раздеваюсь, падаю, сон…
* * *
Ночью я вижу привидение. Все в белом, как и положено привидению, оно выплывает из спальни и движется к столу. Звякает пробкой графина, долго и жадно пьет воду. Затем плывет ко мне. Старательно зажмуриваюсь. Привидение громко вздыхает и исчезает в спальне. Пронесло…
Утром возвращается боль. К душевной добавилась головная. Пока Ольга спит, встаю и совершаю утренний туалет. Затем одеваюсь и бегу в парикмахерскую. Там заказываю полный пакет: стрижка, бритье, мытье головы. Такие процедуры отвлекают от мыслей.
На обратном пути заказываю чай и поднимаюсь в номер. Ольга встала и оделась. Выглядит она куда лучше вчерашнего. Она сильно исхудала со времени нашей последней встречи, но ей это идет.
— Как спалось? — спрашиваю вежливо.
— Плохо! — отвечает она. — Жарко, душно, и постель пропахла духами. Я не люблю запах фиалки.
Я молчу. В конце концов, ее не звали.
— Ты раздел меня? — спрашивает, насупившись.
Киваю. Есть претензии?
— Мог бы и чулки снять! — говорит сердито. — Резинка ногу пережала!
Есть люди, которых не меняет ни время, ни горе. Не далее, как вчера я с ней плакал… К счастью, приносят чай. Молча пьем. Она отодвигает пустой стакан.
— Когда ты уезжаешь?
— Сегодня. Поезд вечером.
— Хорошо! — говорит она. — Успею собраться!
— Для чего?
— Я еду с тобой!
— Ольга Матвеевна! — изо всех сил пытаюсь быть вежливым. — Я отправляюсь на фронт! Там война!
— Я знаю!
— Что вы будете там делать?
— Говори мне «ты»! — сердится она. — Мы кузены, сам сказал. К твоему сведению, я фельдшер, у меня и свидетельство имеется. На фронте не нужны фельдшеры?
Нужны, очень нужны! Только другого пола. Женщины-медики тоже служат, но при госпиталях и лазаретах, в строевых частях их нет. Время «ударниц» в гимнастерках «грудь колесом да еще с крестом» еще не пришло.
— Ты замолвишь за меня слово перед начальником, он и согласится! — развивает мысль Ольга. — Кто тебе откажет, ты же герой?!
На фронте к героям иное отношение, там их много. Я пытаюсь это объяснить, она поджимает губу.
— Господин прапорщик, вы дали слово отцу! Вы намерены его исполнять?
Так и знал! Я чувствовал… Никогда, ничего, никому не обещайте! Найдут, прижмут к стене и потребуют ответа. Что делать? Извечный русский вопрос… Так. Обручального кольца на ее пальце нет, с замужеством что-то не сложилось, но, возможно, свадьбу отложили.
— Почему я, а не жених?
— Юра погиб в сентябре, не успела тебе сказать, — она легонько вздыхает. Это горе уже отболело.
— У тебя есть тетя в Москве…
— Она мне двоюродная! Это раз. Во-вторых, у нее свои дети. Я там чужая.
Знакомо.
— Павел! — она умоляюще складывает руки на груди. — Я тебя очень прошу. Ты единственный близкий мне человек! Хочешь, на колени встану?!
Этого не хватало! Кузина на коленях умоляет кузена взять ее фронт — она хочет быть полезной Отечеству. Картина Репина, Ильи Ефимовича, писана маслом, размер холста три на два аршина… Как быть? По штату авиаотряду полагается врач. У нас его нет — врачей на фронте не хватает. У нас и фельдшера нет — их тоже мало. По большому счету что врач, что фельдшер отряду без нужды — мы всегда базируемся неподалеку от госпиталя. Однако свободная должность имеется, попробовать можно. У меня долг перед покойным Розенфельдом, долги надо платить. Пусть съездит! Если ей откажет Егоров, с меня взятки гладки. Мавр делал дело, у мавра не получилось. Я куплю ей обратный билет и дам денег на дорогу. С превеликим удовольствием.
— Подожди меня здесь!
Сергей давно встал и сейчас сортирует покупки. При первой возможности он шлет посылки домой. У него мать, отец, шестеро младших братьев и сестер. Временами я ему дико завидую. Меня Сергей встречает настороженно. Быстро объясняю.
— Вези, кого хочешь! — он машет рукой. — Только одно условие: с Егоровым объяснишься сам!
Соглашаюсь и откланиваюсь. В принципе такого ответа я и ждал, но субординацию надо блюсти — в командировке Сергей старший. Однако аппараты добыли мы, за них мне что угодно разрешат.
При моем появлении Ольга вскакивает с дивана. Глаза у нее как у раненой лани. Плохой дядя едва не забрал у ребенка игрушку.
— Слушай меня! — говорю нарочито сурово. — Поезд отходит в семь. У нас забронировано купе, места хватит. (Купе — прощальный подарок от Евстафия). С собой бери только самое необходимое — на войну едем. Если опоздаешь…
— Не опоздаю! — она чмокает меня в щеку. — Спасибо, Павлик!
Из памяти сразу выплывает: «Морозов». Кого я предал? Ольгу, Розенфельда, себя? Во что я ввязываюсь? Предчувствия у меня самые нехорошие, а предчувствия меня никогда не обманывали. Зачем мне вздорная девчонка, от которой только неприятности и хлопоты? Я знаю ответ на этот вопрос. Чем больше будет неприятностей и хлопот, тем меньше я буду думать о Липе. Ольга — лекарство. Горькое, противное, но спасающее жизнь. Или разум…
Вокзал, без четверти семь. Ольги нет. Без десяти — нет. Мы с Сергеем стоим у своего вагона, поглядывая на часы. Если Ольга опоздает… Даже не знаю: радоваться или огорчаться. Подумав, решаю: к лучшему. Я вернусь в отряд, сяду в аэроплан, в боевых вылетах развею грусть-тоску. Война избавляет от переживаний, на войне мысли другие.
Сергей внезапно смеется и показывает пальцем. Оборачиваюсь. По перрону вскачь несется Ольга, носильщики тащат следом баулы и портпледы. Один, два, три… Это самое необходимое? Нет, я все-таки идиот!
Спорить и ругаться некогда. Носильщики бросают баулы на площадку. Звенит третий звонок, поезд трогается, я подхватываю Ольгу, Сергей прыгает следом. Она раскраснелась и тяжело дышит.
— Извозчик — подлец! — говорит сердито. — Сторговались за рубль, у вокзала потребовал два. Дескать, багаж тяжелый, кобылка притомилась. Не хотел вещи отдавать. Пришлось городового звать! Не на ту напал!
Это точно! И чтоб ему, охламону, поторговаться еще немного?
Проводник, пыхтя, тащит багаж в купе. Там мгновенно становится тесно. Ольга лезет в один из баулов и начинает там шебуршать.
— Вот! — она кладет на столик тяжелый сверток в вощеной бумаге. — Курица! Тетка в дорогу сварила. И другой провизии дала. Она у меня скуповатая, а тут расщедрилась. Плакала, расставаясь…
Это она от радости. Как я ее понимаю!
— Это я сама купила! — Ольга водружает на стол бутылку темного стекла. — Портер! Вы пьете портер, господа?
И водку тоже. Сергей отворачивается, не в силах скрыть улыбку. Неприлично смеяться в лицо женщине, потерявшей отца. Условности… На войне о них быстро забываешь. Мертвые — в землю, живые за стол! Нам ли не знать…
* * *
Егоров встречает нас радостно. Жмет руки, если б субординация позволяла, расцеловал бы. Первые аппараты уже прибыли. Их распаковывают и собирают.
— Я надеялся на вас, Павел Ксаверьевич! — говорит он довольно. — На вашу предприимчивость, связи. Пусть Сергей Николаевич не обижается, но рассчитывал именно на вас. Не прогадал! Примите искреннюю благодарность!
Сергей смотрит на меня. Пора! Самый благоприятный момент.
— Господин штабс-капитан! Нам нужен фельдшер?
— Вы и фельдшера нашли?
— Так точно!
— Вы бесценный человек, Павел Ксаверьевич! Нет слов! Конечно же, нужен. Нижние чины ходят грязные, завшивели, Карачун совсем за этим смотрит! Где нашли?
— Он, вернее она, сама нашлась. Это моя кузина, дочь покойного Розенфельда, Ольга Матвеевна. Имеет свидетельство фельдшера, просится на фронт. Хочет быть полезной Отечеству. Война забрала у нее не только отца, но и жениха.
Мгновение он молчит, переваривая информацию. Затем багровеет.
— Вы с ума сошли, прапорщик! Женщина в отряде?!
Он смотрит на меня уничтожающе. Минутой назад готов был целовать. Чувствовал я!
— Надо же додуматься! — бормочет Егоров. — Нет, я понимаю ее чувства! Хочет быть полезной — пусть идет в лазарет! Там тоже фельдшера требуются. Есть много поприщ для человека, желающего нести пользу. Не ждал я от вас, Павел Ксаверьевич, не ждал! Разочарован. Я вот что подумал. Раз вы такой хозяйственный, назначу-ка я вас ответственным за отрядный обоз.
Приплыли… Ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
— Господин штабс-капитан! — неожиданно подключается Сергей. — Я поддерживаю предложение прапорщика Красовского. Я давно знаю Ольгу Матвеевну и готов за нее поручиться. Из нее выйдет замечательный фельдшер!
Егоров смотрит на него укоризненно: «И ты, Брут!»
— Я сказал «нет»! — говорит сурово. — Понятно, господа?! А вы, Павел Ксаверьевич, передайте кузине…
— Леонтий Иванович! — нам терять нечего. — Прошу вас: скажите ей сами! Она за дверью!
— Вы оставили женщину в коридоре?! — сейчас он меня убьет. — Вдобавок ко всему, вы дурно воспитаны! (Это мы уже слышали). Зовите, немедленно! — он одергивает китель.
Ольга не входит, а впархивает в кабинет. На ней черное, приталенное платье, и шапочка с прозрачной вуалью. Трогательная, беззащитная красота, неутешная в своем горе. Двери в кабинете тонкие, она наверняка все слышала. Я даже уверен, что подслушивала. Когда мы шли к штабу, выражение лица у нее было тревожное.
Егоров идет ей навстречу. Она протягивает руку в кружевной черной перчатке, штабс-капитан прикладывается. Несколько дольше, чем принято. Когда он выпрямляется, мне становится ясно: первой в кабинете следовало зайти Ольге. Результат был бы тот же, но обоз пролетел бы мимо.
— Примите мои искренние соболезнования по случаю постигшего вас горя, — говорит Егоров. — Мы хорошо знали и любили вашего отца. Мне понятно ваше стремление быть полезной Отечеству. Это несколько необычно — женщина в военной форме, но я похлопочу в штабе…
Сергей ухмыляется. Он в курсе моих надежд, и совершенно их не разделяет. Дорогой они с Ольгой, насколько позволяли приличия, мило болтали. Сергей изменил мнение о роли женщин на войне. Он считает, что Ольга справится. Ему можно так думать — он ведь не родственник.
— Я распоряжусь, чтоб вас устроили наилучшим образом! — заверяет Ольгу Егоров и смотрит на меня: — Вы слышали, Павел Ксаверьевич?!
Слышал, конечно! Мне теперь много придется слушать…
12
Худшие опасения сбываются — меня определили на «Моран». Я очень рассчитывал на «Ньюпор»… Истребители закрепили за Турлаком и Рапотой. Они переучились на скоростные аппараты и воевали на них. У них больше налет. Третий «Ньюпор» Егоров оставил себе. Врачи разрешили ему летать, штабс-капитан рвется в бой. Что ему до переживаний прапорщика…
У меня новый летнаб — корнет Лауниц. Зовут его Владимир Яковлевич, но все предпочитают просто Володя. Лауниц не обижается: ему двадцать лет, он безмерно рад, что попал в авиацию. Кроме Володи, у нас еще двое новеньких — Иванов и Васечкин, военлет и летнаб. Они друзья и постоянно вместе, за глаза их так и зовут «Ваня-Вася». Обоим по двадцать, оба счастливы служить в авиации. Это почетно, это престижно: у летчиков красивая форма и хорошее жалованье. Тысячи офицеров мечтают летать, а повезло им…
Я охотней имел бы за спиной штабс-капитана Зенько, но тезка императора отбыл в командировку — учить слушателей курсов летнабов. Потери в авиаотрядах велики, летные школы не успевают их восполнять. При армиях создают краткосрочные курсы. Мне надо испытать новичка. Проводим тренировочные полеты — Лауниц держится молодцом. На меня он смотрит с почтением. Разумеется, он слышал о Красовском. Впрочем, что я? У всех ветеранов отряда грудь в крестах — пока я учился, орденов добавилось. Турлак сравнялся по наградам с Рапотой, его произвели в поручики; теперь сын лавочника никому не завидует.
Егоров с душевной болью доверяет «Ване-Васе» «Моран». Штабс-капитана можно понять: не боевые потери в русской армии огромные. В летных происшествиях людей и аппаратов гибнет больше, чем от огня противника. Причиной тому, как низкое качество техники, так и неопытность пилотов. К тому же сама техника… Сильным ветром аппарат может сбросить вниз, на больших высотах замерзают моторы, неосторожный маневр приводит к «штопору»… Надо быть асом, чтоб уцелеть в такой ситуации, но асов в армии мало. Ваня-Вася — свежеиспеченные летчики.
Мы фотографируем передний край противника. Дни стоят ясные, самое время. Я веду «Моран» на высоте двух тысяч аршин, Лауниц, склонившись над подвешенным к фюзеляжу аппаратом, меняет пластины. Дни стоят морозные, вверху холодно вдвойне. Плюс встречный поток воздуха. На нас не только теплое обмундирование, но и меховые маски на лицах. Я сижу под защитой ветрозащитного козырька, Володе надо вставать. Застываем одинаково — после вылета руки-ноги едва разгибаются. Немцы нас не обстреливают: на передовой нет зенитной артиллерии, а из стрелкового оружия нас не достать. Воздухобойками немцы прикрывают тыловые склады, штабы и железнодорожные узлы. Впрочем, как и мы. Бомбить передний край аэропланы пока не научились.
Летаем каждый день и помногу. Штаб фронта требует фотографировать все и еще немножко. К гадалке не ходи — готовится наступление. Я знаю, чем оно кончится: Сан Саныч Самохин рассказывал. Русская армия потеряет 80 тысяч солдат и тысячу офицеров — без какого-либо успеха. Разве что союзникам поможем: немцы на неделю оставят Верден в покое. Я знаю, почему наступление провалится. В 20–30-х годах в СССР издавали подробные очерки операций Первой Мировой, главным образом для военных, Сан Саныч пересказывал их мне. Командующий Западным фронтом генерал Эверт пишет в Ставку. Просит, умоляет поскорее начать наступление. Стоят морозы, грунт прочный. С началом весны в болотистой Белоруссии наступать невозможно — почва вязкая. Но Верховный Главнокомандующий, он же Е.И.В., не спешит. Он вкусно кушает, занимается любительской фотографией и чистит снег для моциона. К тому же Е.И.В. скучает по августейшей супруге, посему часто ездит в Царское село. Его спецпоезд всегда наготове. Начальник Генштаба генерал Алексеев не смеет оторвать Верховного от столь приятного времяпровождения. Генерал Эверт смиряется: ему-то что? Гибнуть будут не штабные. Наступление начнется в марте, в канун распутицы. Упряжки, люди потонут в грязи, немцы будут хладнокровно расстреливать русских из пушек и пулеметов. Наступление захлебнется.
Я это знаю, тем не менее, выполняю работу. Мне неизвестно, почему я на этой войне, но кому-то это нужно. Я не могу повлиять на ход истории, я слишком мало для этого живу. Я не знаю, зачем меня швыряют по телам, но война — мое ремесло. Возможно, мое участие позволит кому-то уцелеть. Кто-то вернется живым, заведет семью, у него будут дети, внуки… Я хочу, чтоб так случилось, я устал от крови. Правители льют ее как воду, и еще долго будут лить. Им всегда кажется, что есть вещи важнее человеческой жизни.
Фотосъемка идет гладко, и я расслабляюсь. Наказание следует незамедлительно. Мы заканчиваем очередную съемку, как вдруг по фюзеляжу стучит очередь. Черная тень проносится над нами. Моноплан! Таких аппаратов у немцев я не видел. Инстинктивно закладываю вираж. Бросаю взгляд в зеркало. Володя бросил фотоаппарат и приник к пулемету. Как-то он неловко его держит. Ранен? Дрянь дело!
Немец тоже развернулся — врага надо добить! — но радиус разворота у него больше. Запомним! Он догоняет нас, но в этот момент огрызается наш «Люис». Молодец мальчишка! Моноплан отворачивает, пилоту помирать не охота. «Гансы» и в Отечественную будут так драться. Подкрался из-за угла, ударил — и деру! Однако немец к моему удивлению не отстает. Все кружит и кружит, выбирая удобную позицию. Его пулемет стреляет через винт, ему проще. Мне надо исхитриться и подставить немца стрелку. Испытание нервов, моторов и сил. Со вторым у нас хуже. Володя, как вижу, совсем плох, наверное, истекает кровью. Если он потеряет сознание, нам конец. У «Морана» нет пулемета у летчика, только у стрелка.
Немец тянет нас на высоту. Один из приемов воздушного боя. У одноместного аппарата скороподъемность больше, увлечемся, устремимся следом — собьют. Удирать со снижением и того хуже — догонит и расстреляет. Опытный, гад!
— Володя! — кричу в переговорную трубку (у нас теперь есть такие). — Слышишь меня?
— Да… — он отзывается еле слышно.
— Сейчас подведу «Моран», бей ему в брюхо!
— Понял…
На очередном вираже даю газ, оказываюсь ниже и сбоку моноплана. Немец нас видит, но стрелять не может — пулемет жестко закреплен на фюзеляже. Володя одной рукой поворачивает «Льюис», задирает ствол вверх…Очередь! На фюзеляже немца белым пятном выделяется рисунок: треугольный щит, над ним рыцарский шлем с павлиньим пером. Пули попадают прямо в щит, летят щепки. Немец отворачивает и устремляется прочь. Сбить мы его не сбили, но ввалили от души…
— Володя! — кричу в трубку. — Куда ранен?
— Рука… Левая. Крови много.
— Немедленно пережми чем-нибудь! Ремнем, проводом, носовым платком — чем найдешь!
Он не отвечает. Перевожу газ на полный и гоню «Моран» к аэродрому. Эта русско-французская корова еле ползет. У меня человек в кабине кровью истекает! Показывается летное поле. Издалека качаю крыльями — знак «у меня неприятности». Прибираю отданную ручку — лыжи касаются плотного снега. Аппарат катит к концу поля. С трудом разворачиваю к строениям. Медлить нельзя. «Моран» несется прямо на здания. Если не потеряет скорость, въеду в дом, аппарат загорится. А здание это — медицинский пункт. Мне навстречу бегут люди и шарахаются в стороны. Мотор я отключил, «Моран» постепенно теряет скорость и останавливается в двух шагах от крыльца. Выскакиваю из кабины и тащу Володю наружу. Он жив, только очень бледен. Левая рука повыше кисти пережата носовым платком. Молодец! Смог! Кладу его на снег.
Ольга появляется как из-под земли. Падает на колени и первым делом перехватывает руку Лауница резиновым жгутом. Затем разрезает ножницами перчатку и рукав. Бинтует. Действует Ольга ловко — практику проходила в госпитале. Успеваю рассмотреть рану. Кисть разворочена, видны белые кости — Володе больше не летать. Представляю, как было больно! А мальчишка еще стрелял, да как метко! Ольга отпускает жгут, достает шприц и вкалывает Володе в вену желтую жидкость. Морфий…
— Что произошло! — это подбежал Егоров.
— Был атакован германским аппаратом, — говорю нарочито громко, чтоб Володя слышал. — Летнабу пулей раздробило кисть, однако он, превозмогая боль, открыл ответный огонь и повредил аппарат противника. Германец с позором удалился. Ходатайствую о награждении вольноопределяющегося Лауница! За храбрость!
— Непременно! — подтверждает Егоров. Он понял.
Володя слабо улыбается. Солдаты кладут его на носилки, несут к автомобилю. Через полчаса Володя будет в госпитале.
Егоров ведет меня к себе. Коротко рассказываю.
— «Фоккер»! — заключает Егоров. — Черный цвет германских аппаратов — на фронте союзников. Щит и шлем на фюзеляже — герб. Барон или граф. У нас таких размалеванных пока не видели, перебросили с того фронта. Наверное, пронюхали.
О не объясняет, что немцы пронюхали, и без того ясно. С секретностью в русской армии плохо: офицеры слишком много болтают. К тому же германские летчики не спят. Сосредоточение войск для наступления скрыть трудно: маскировать такие масштабные операции от наблюдения с воздуха не научились. А вот немцы бдят. Заметили наш «Моран», вызвали истребитель.
— Вечером расскажете летчикам, — говорит Егоров. — Пусть держатся настороже. Черным бароном мы займемся. Вы очень рисковали при посадке, Павел Ксаверьевич, — заключает Егоров. — Могли разбить аппарат, покалечить себя.
— Однажды из-за меня тоже рисковали…
Он кивает: долг платежом красен.
— Я представлю вас к званию подпоручика! Давно пора. Лауница — к ордену Георгия. Заслужили. Спасли свой аппарат, повредили неприятельский, доставили важные сведения.
Благодарю. Все хорошо, но я остался без летнаба. Других в отряде нет, разбивать пару «Ваня-Вася» мне не хочется. Однако безделье не затягивается. Меня вызывают к Егорову. В кабинете незнакомый подполковник, поджарый, с умным лицом. Егоров представляет меня, затем кивает на гостя:
— Подполковник…
— Достаточно звания! — говорит гость.
Военная разведка… Единственные в этой горделивой армии, кто не светится на публике.
— Господин прапорщик! — говорит подполковник. — Мне рекомендовали вас как храброго и умного военлета. Последнее качество для нашего дела определяющее. Вы согласны выполнить опасную миссию?
— Так точно!
— Вам не интересно, в чем она заключается?
— Расскажете.
— Мне правильно вас рекомендовали! — улыбается полковник. — Подойдите к столу!
На столе — карта. Беглого взгляда достаточно, чтоб понять: сделана по нашим фотоснимкам. Узнаю очертания лесов, русла рек, нити дорог. В полете я смотрю вниз.
— Нужно доставить человека вот сюда! — подполковник указывает карандашом. Точка ложится за передовой линией, в тылу немцев. — Через сутки забрать его, но в другом месте. Задача состоит в том, что сделать нужно как можно незаметнее. Сумеете?
— В этом месте нельзя высаживать!
— Почему?
— Открытое поле ввиду большого села. В селе наверняка есть неприятель. Посадка аппарата не останется незамеченной.
— Что вы предлагаете? — подполковник заинтересован.
— Насколько понимаю, объектом операции является железнодорожная станция.
— Почему вы так заключили? — хмурится подполковник.
— Других объектов, имеющих военное значение, у места посадки нет.
— Гм-м…
Непонятно: одобрение это или насмешка. Однако рот мне не затыкают, продолжаю:
— Агента лучше высадить у железнодорожного полотна, вот в этом квадрате. Железнодорожная насыпь закроет нас от любопытных взоров, с другой стороны — лес. Не думаю, что зимой здесь есть люди. Если агента одеть железнодорожным рабочим, на него не обратят внимания. Что может быть естественнее железнодорожника, идущего вдоль пути?
— Вы часом не служили в разведке, Павел Ксаверьевич? — спрашивает подполковник.
Служил! Только в другой армии и звали меня иначе. Качаю головой.
— Не желаете послужить? Обещаю быструю карьеру и достойное звание. Мне странно видеть такого человека как вы всего лишь прапорщиком, к тому же заведующим обозом.
Егоров хмурится — камешек в его огород.
— Я хочу остаться в отряде с боевыми товарищами.
Егоров улыбается.
— Как знаете! — подполковник сворачивает карту.
— Есть еще замечание.
Он поднимает голову.
— При пересечении линии фронта аэроплан увидят. Надо закрасить наши кокарды и нарисовать германские кресты.
— Опять вы за свое, прапорщик! — сердится Егоров. — Это запрещено конвенцией!
— А травить людей газом разрешено? — холодно говорит подполковник. — Обстреливать госпиталя, вешать мирных жителей? Возможно, вы еще не поняли, господин штабс-капитан, но эта война — на уничтожение. Прапорщик дело говорит.
— Если немцы захватят в плен летчика на русском аппарате, его отправят в лагерь военнопленных, — не сдается Егоров. — Если опознавательные знаки будут германские, его расстреляют как шпиона.
— Что скажете? — подполковник смотрит на меня.
— Что случается с агентом, если попадает в плен?
— Расстреливают! — пожимает плечами подполковник. — У немцев это быстро.
— Чем я лучше его?
— Решено! — подполковник встает. — Вы слышали, господин штабс-капитан? Завтра!..
Вылетаем на рассвете, вернее в предрассветных сумерках. Набираю высоту над летным полем. Хотя видимость неважная, быть обстрелянным своими не улыбается. По известному закону подлости свои в своих всегда попадают. Мой «Моран» несет на плоскостях и киле тевтонские кресты. Их малевали в закрытой палатке-ангаре, у входа дежурил караул жандармов. Меры секретности приняты серьезные.
Мой пассажир выглядит мирно. Среднего роста, мешковатая форма железнодорожника, невыразительное лицо. Ни горделивой посадки головы, ни военной выправки. Пройдешь в двух шагах, и не заметишь. Подполковник умеет выбирать агентов.
Долетаем без приключений. Перед посадкой разворачиваюсь, чтоб сразу лететь в сторону фронта. Прогалина вдоль железной дороги узкая, но достаточная для «Морана». Аппарат еще скользит по снегу, как «железнодорожник» выпрыгивает из кабины и бежит к дороге. Взлетаю и оглядываюсь: одинокая фигурка движется вдоль железнодорожного полотна, вокруг — никого.
По возвращении докладываю подполковнику и отправляюсь спать. Подняли меня ночью, надо отдохнуть. Спится мне плохо — тревожат мысли. Если агента поймают, как доказать, что высадил верно? Вдруг предложение мое опрометчивое? СМЕРШа здесь нет, но неприятности не замедлят быть. Встаю и бреду в ангар. Синельников давно проверил «Моран», теперь сидит и курит. Обхожу вокруг аппарата, смотрю на «Льюис». Обычная пехотная модель с толстой трубой-кожухом. Интересно…
— Синельников?
— Я, ваше благородие!
— Пулеметы были с сошками?
— Так точно!
— Где они?
— Снял, в ящике валяются.
— Поставь обратно!
— Зачем они в небе?
— Делай, что тебе говорят!
— Слушаюсь, ваше благородие!
Синельников обижен, я непривычно резок, но объясниться не могу. У меня предчувствие.
На рассвете я лечу по другому маршруту. Вопреки предчувствию, ничего подозрительного. Я даже делаю круг над местом посадки — никого. Разумеется, можно одеть группу захвата в белые маскхалаты, спрятать ее в лесу или возле дороги, но это не та война. Таким приемам еще не научились.
Сажусь, жду — тихо. Группы захвата нет, агента — тоже. Надо ждать. Курю — никого. Насыпь закрывает от меня поле и станцию. Выбираюсь из кабины, снимаю «Льюис» и бреду к насыпи. При попытке захвата буду стрелять. «Льюис» не «калаш», но машинка тоже хорошая — практически та же скорострельность. Тяжеловат, правда, да и магазин не слишком вместительный, но отбиться можно.
Железная дорога пустынна. Сколько мне ждать? Срок с полковником не оговорен, велено по обстановке. Это означает — вся ответственность на пилоте. Улетишь раньше — виноват, свои взгреют — не забрал агента, промедлишь — попадешь к немцам. Тевтоны церемониться не станут: военно-полевой суд — и к стенке. Время идет, мотор стынет. «Гном» — двигатель ротативного типа, охлаждение воздушное, от мороза ничего не лопнет. Это не означает, однако, что можно не беспокоиться. Холодные двигатели на морозе, бывает, не запускаются.
Выстрел! Второй! Вскакиваю и смотрю. Из-за поворота появляется человек. Он бежит вдоль полотна в мою сторону. На поле, у противоположной от насыпи стороне, появляются всадники. Они скачут вдоль дороги, стреляя в беглеца на скаку — снизу вверх. Почему по полю, не по насыпи? Ах, да, шпалы, лошадь споткнется и сломает ногу. На поле снег, особо не поскачешь, но все ж быстрее. Нам такой расклад кстати — не нужно беспокоиться, что зацепишь своего.
Передние всадники почти поравнялись с беглецом. Они уже не стреляют. Сейчас перегонят, вылетят на насыпь и перекроют дорогу. Пора! Зубами стягиваю кожаную перчатку.
Прицел на «льюсе» обычный, на таком расстоянии можно и без него. До всадников метров сто — это в упор. Меня они не видят — увлеклись погоней.
Тра-та-та-та!.. Бью длинной очередью. Это очень страшно: неожиданно налететь на рой свинца. Передние кони упали, задние встали на дыбы, кто-то падает, кто-то шарахнулся в сторону… Я все бью и бью. У «Льюиса» сошка неустойчивая, рассеивание пуль большое. Но мне важно не столько попасть, сколько напугать. Если немцы опомнятся и залягут, нам будет кисло. Втянуться в длительный бой смерти подобно.
Не выдержали, бегут! Повернули и нахлестывают коней. Даже те, кто потерял коней, ковыляют в тыл. Очень хорошо! Бегите! Доложите обстановку начальству, запросите помощи артиллерии…
Агент, наконец, добежал. Стоит, хватает ртом воздух. Сую ему пулемет, поднимаю с насыпи перчатку. Без нее отморожение в воздухе гарантировано. Скользим по насыпи вниз — «Моран» нас заждался. «Гном» заводится без капризов. Оглядываюсь. Агент забрался в кабину, установил «Льюис» на шкворень и держит насыпь под прицелом. Толковый мужик!
Взлетаем. Вижу рассыпанных по снегу всадников. Их менее десятка. Еще двое-трое остались лежать у насыпи — ранены или убиты. Это конный разъезд, высланный посмотреть на странный аппарат, круживший у станции. В моем времени при забросе в «зеленку», вертушка несколько раз присаживалась в разных местах — имитировала высадку. В противном случае «духи» прибегали почти тотчас — система оповещения у них работала как часики. На агента немцы наткнулись случайно, едва не захватив богатую добычу. Сейчас бы на бреющем да над головами! Нельзя — за спиной ценный груз. Случайная пуля — и все насмарку…
К себе добираемся без приключений, даже свои не обстреляли. Не успели выбраться из кабин, как рядом — подполковник.
— Донесение?
Агент передает ему пакет. Разведчик прячет его в карман.
— Все благополучно?
— На обратном пути наткнулся на разъезд, едва не захватили. Если б не прапорщик… Догадался снять с аппарата пулемет, установить на насыпи… Жизнью ему обязан!
Подполковник жмет мне руку, агент тоже. Никаких высокопарных слов, обещаний век не забыть. Серьезные мужики, немногословные, мне такие нравятся. «Моран» катят в ангар, Егоров приказал закрасить кресты. Я б на его месте не спешил, но штабс-капитану при воспоминании о конвенции становится плохо. В окопы бы его, там бы разъяснили. Ипритом или фосгеном…
Как в воду глядел! Назавтра подполковник и агент снова в отряде. В этот раз агент в форме штабс-капитана.
— Хорошо запомнили дорогу к немцам, Павел Ксаверьевич? — интересуется подполковник.
Киваю.
— Полетите вновь! Высадите штабс-капитана и подождете, пока сделает дело. В этот раз ждать недолго.
В руках агента брезентовый мешок, к которому пристегнут ледоруб. Крепкая ручка, клюв почти прямой, широкая лопатка. Портативная кирка, а не ледоруб. Гор в окрестностях не наблюдается, значит землю рыть. Для чего? Ага! Железная дорога!
— Сядете вот здесь! — полковник показывает на карте. — Видите, мост! Место отдаленное, охраны нет. Мотор не глушите — операция не затянется.
Ясно: диверсия. Наступление завтра. Сорвать противнику подвоз подкреплений — классика диверсионных операций. Немцы виртуозно используют железные дороги. В считанные дни перебрасывают с Западного фронта на Восточный и обратно дивизии и даже корпуса. Наша подлянка германцу, конечно же, мелкая — мост быстро восстановят, он маленький, но неделю движение парализовано.
На подлете к фронте наблюдаю обозы — наши идут к передовой. Немцы обозы тоже видят. Наступление для них не секрет. Передовая позади. На большой высоте иду вдоль железной дороги. В тридцатые годы пилоты назовут ее «компасом Кагановича» — хороший ориентир. Не забываю крутить головой. На плоскостях «морана» русские кокарды — соблазн для черного «фоккера». С крестами я б не волновался. Модель самолета не имеет значения — на трофейных аппаратах летаем как мы, так и немцы, значение имеют опознавательные знаки. Леонтий Иванович — славный мужик, но с тараканами в голове. Рыцарский кодекс, понимаешь ли! Ты видел этих рыцарей в бою? Нет? А вот я видел — сволочь еще та, раненых добивали…
Сажусь, штабс-капитан выскакивает и бежит к мосту. До него метров тридцать. Маленький мост, однопролетный, без центральной опоры. Штабс достает из мешка шашки пироксилина, вставляет заряды. Опытный. При появлении противника шашки можно взорвать прямо на шпалах — мост они не свалят, а вот рельсы перебьют. Снаряжать заряд под пулями — удовольствие малое, можно не успеть.
Штабс-капитан машет киркой, расчищая место под береговой опорой. Работает споро — земля так и летит в стороны. «Гном» рокочет на самом малом газу, но звук у него будь здоров какой! Нас наверняка кто-то слышит, а, может и видит. Я баюкаю в руках тяжелый «Льюис» и зыркаю по сторонам. Никого. Ну, и ладненько, в прошлый раз настрелялись.
Агент закладывает шашки, поджигает огнепроводный шнур и бежит к «Морану». Передаю ему пулемет, газ — на полный, разбег — влет. В этот раз при посадке не разворачивался, делаю это сейчас. Место закладки фугаса выдают черные комья выброшенной земли. Интересно, шнур будет долго гореть? Над ниткой дороги вспухает черный гриб. Есть! Летят в сторону шпалы, обломки рельсов, земля, а сам мост слетел с опоры. Звук взрыва перекрывает рев мотора. Получи, фашист, гранату!
Снова лечу «компасом Кагановича». Из-за большой высоты кажется, что аппарат застыл в воздухе — скорость у нас сродни автомобильной. Однако постепенно, но пейзаж меняется. Вот и линия фронта показалась…
По фюзеляжу будто топором саданули. Твою мать! Черная тень взмывает сбоку. «Фоккер», тот самый — черный корпус и герб сбоку. Нас опять заметили и вызвали истребитель. «Фоккер» выписывает вираж, заходя на боевой курс. Прошляпили! Я привычно смотрел вверх и по сторонам, «ганс» подкрался снизу и сзади. Володя его бы углядел, но Володя в госпитале. Вместо него — диверсант. Опытный, смелый, но не летчик.
Оглядываюсь — агента не видно. Убит или ранен, в данный момент нам без разницы. Мы пропали — наш «Моран» практически безоружен. Черный барон это прекрасно понимает, потому не спешит добивать. Занимает место сбоку, летим крыло к крылу. Немец энергично показывает рукой вниз — садись! Куда, мол, тебе теперь? Подчинишься — будешь жить! Почетный плен, баланда в лагере. До 1918 года, когда начнется обмен пленными, времени много, занятие найдется. Например, языкознание. Тухачевский учил французский в немецком плену, преподавал ему никому еще неизвестный пленный по фамилии де Голь. Может, и нам попробовать? Киваю немцу: «Согласен!» Он ухмыляется: «Правильное решение!» Рано радуешься! Жди меня, и я вернусь! Только очень жди…
Перегрузка вжимает меня в сиденье. Пикирую под большим углом. Аппарат весь трясется. Сейчас у него отвалятся крылья, после чего удар — и все! Солдатик Петров миссию закончил…
Каким-то чудом «Моран» не разваливается. Выравниваю аппарат, веду его почти над самой землей. «Моран» летит неуверенно, как-то боком, но летит. Смотрю вверх — немца не видно. В своей черной раскраске он хорошо виден снизу. Русские самолеты с недавних пор красят в серебристый цвет — на фоне снега заметить сложно.
Проскакиваю передний край. От неожиданности немцы даже не стреляют. Наши спохватились, вижу дымки выстрелов (я ведь лечу со стороны немцев), но и наши опоздали. Верчу головой — черного барона нет. Или потерял меня из-за неожиданного маневра, или, что более вероятно, побоялся преследовать. Это наша территория. Я лечу низко, почти на бреющем, ему тоже надо спуститься. На такой высоте пехотное оружие становится эффективным.
Крылья «Морана» нехорошо вибрируют, кое-где обшивка треснула, похоже, аппарат отлетался. И я вместе с ним. Снижаю скорость до минимально возможной. Сесть невозможно — под крылом леса, надо тянуть к аэродрому. Тяну, сжав зубы. На крылья не смотрю. Если отвалятся — сразу пойму, а в полете их не приклеить.
Местечко, в котором расквартирован отряд, показывается неожиданно. Я лечу слишком низко, чтоб увидеть заранее. Осторожно доворачиваю аппарат и плавно-плавно иду на посадку. Лыжи касаются плотного снега, и в этот миг срывает левое крыло — оно держалось только подъемной силой. Крыло повисает на расчалках, задевает за снег, аппарат тянет в сторону. Изо всех сил выравниваю. Выключаю мотор и слышу громкий треск — отвалилось, повиснув на тросах верхнего «кабана», второе крыло. «Моран» накреняется и падает на бок. Меня выбрасывает на снег. Падаю и качусь в сторону — придавит! Аппарат, вернее то, что от него осталось, бороздит снег еще несколько метров и замирает. Поднимаюсь, иду к темному вороху одежды — штабс-капитана тоже выбросило. Переворачиваю тело — мертв, причем давно — лоб у него ледяной. На животе и груди выходные отверстия пуль — немец стрелял снизу вверх. Пули прошили фюзеляж, а потом стрелка. Он и понять ничего не успел. Вчера жал мне руку, благодарил за спасение. Смелый был мужик.
От аэродромных строений ко мне бегут люди. Встаю, тыльной стороной перчатки вытираю заслезившиеся глаза. На летном поле ветрено, вышибает влагу. Еще не то подумают.
13
Кончается март, а вместе с ним — и Нарочанская операция русской армии. Наступление провалилось, войска возвращаются на прежние позиции. Все дни, пока позволяла погода, мы летали на разведку и бомбардировку. У меня новый аппарат, разбитый «Моран» разобран на запчасти. Летнабом у меня Зенько, он вернулся как раз к наступлению. Воевать с Николаем Александровичем одно удовольствие: он опытен, хладнокровен и внимателен в воздухе. Как-то «Фоккер» (другой, без герба), попытался зайти нам в хвост. Зенько встретил его из пулемета», «Фоккер» отвернул, в этот миг на него свалился «Ньюпор» Рапоты. Стреляя в упор, Сергей убил летчика; «Фоккер» долго падал, кружась, как лист, в плоском штопоре. Сергей оказался рядом не случайно. «Мораны» летают на боевые задания в сопровождении истребителей — потери научили нас осторожности.
Весна превратила аэродром в болото — полеты невозможны. К тому же кончились бензин и масло. Горючего для аппаратов постоянно не хватает, мы сожгли весь запас, теперь загораем. Не в буквальном смысле, конечно, дни стоят ненастные и холодные.
Ольгу зачисли на военную службу, она щеголяет в мундире вольноопределяющегося. Воинское звание — рядовой. Чистый погон с эмблемой-«уточкой», по краям — трехцветный гарусный шнур. Форму пришлось укоротить и ушить, Ольга сделала это сама. Хуже с сапогами. В армии плохо с обувью, а тут еще крохотный размер. Зимой Ольга ходила в валенках, только недавно ей сшили сапожки. В мундире она похожа на сына полка — маленькая, худенькая, бледная. Птенец… Нахальный и язвительный галчонок.
За дело Ольга взялась рьяно. Навестила казарму нижних чинов, пересмотрела постели, заставила раздеться солдат. Итоги удручающие: соломенные матрасы кишат клопами, платяная вошь в рубахах солдат жиреет и размножается, нижнее белье — грязное, форма — засаленная. У многих солдат одна пара белья, в чистое не переодеться. Ольга не жалеет язвительных слов, сопровождающий нас Карачун краснеет и бледнеет. Он охотно указал бы галчонку место, но боится Егорова. Карачун сопит и записывает замечания — ему исправлять.
Питается Ольга из солдатской кухни, в первый же день приносит мне котелок. Внутри какая-то густая, коричневая бурда.
— Попробуйте, господин прапорщик! — говорит язвительно.
Пробую. Какое странное варево из капусты, крупы и картошки. Картошка явно мерзлая — вкус у пищи мерзко-сладкий. Свиньям и то лучше готовят! Есть невозможно!
— Многие не едят! — подтверждает Ольга. — Обходятся сухарями и кипятком. Чая — и того не дают! Людям каши не варят! Как без горячего в морозы?
Питание не моя забота, я заведую обозом. Это грузовики, а также все, что разбирается и грузится в машины. Однако мне стыдно. Офицерам бурду не варят, у них своя кухня. Недостаток продовольствия сказался на офицерском столе, но все ж не настолько. Велю позвать Карачуна.
— Ваше благородие! — фельдфебель чуть не плачет. — Варим, что дают интенданты. А дают крупу, капусту и картошку. Мяса нет, масла тоже, а какая каша без масла! Чая нет. Белье скоро год как прошу — не дают!
— Нет на складе?
— Все есть! Я говорил с кладовщиками приватным образом — склады полные. Не дают!
— Отчего?
Он облизывает губы и говорит, приглушив голос:
— Хабар нужен!
Это нам знакомо.
— Большой хабар?
— Говорили, не меньше сотни. Нет у меня столько, у меня семья в беженцах — по чужим углам горе мыкает. Все им отсылаю.
— Готовь машины!
То, что я собираюсь сделать, неправильно. Лихоимство нужно разоблачать, лихоимцев выводить на чистую воду. Однако, дело это долгое, до торжества правосудия мне не дожить. Пока суд да следствие, солдаты останутся в грязном белье, будут есть вареную капусту и чесаться от укусов клопов. Мне эту систему не сломать, она до нашего времени доживет.
На интендантских складах нахожу кабинет заведующего. У него сытое, гладкое лицо, погоны с тремя звездочками на полных плечах. «Он был титулярный советник, она — генеральская дочь…» Этому генеральская дочь без нужды, его и здесь неплохо кормят.
— Не могу, господин прапорщик, и не просите! — говорит титулярный советник, едва глянув на мои бумаги. — Имею приказ отпускать по личному указанию генерал-квартирмейстера. Соблаговолите к нему!
Стандартная мулька. Если прапорщик пробьется к генералу, тот только плечами пожмет: какое указание? Помчишься сюда, скажут: указание было, их превосходительство запамятовали, соблаговолите наведаться снова. На колу мочало — начинай сначала…
— Господин титулярный советник, как вы относитесь к Екатерине Второй?
Он неожиданности он даже голову в плечи вобрал.
— Как же-с, с почтением, — выдавливает, помедлив. — Великая была императрица!
— А ежели она за нас похлопочет?
Он смотрит с подозрением: контуженные на фронте не редкость.
— Как она может похлопотать? Она же того-с, умерла.
— Вот! — кладу на стол сотенную и тычу пальцем в портрет. — Видите, императрица! Хлопочет!
— Шутник вы, прапорщик! — он смахивает бумажку в ящик стола. — Однако вы правы: императрице отказать нельзя! — он пишет резолюции на наших документах. — Ступайте на склад, все дадут.
— А то, что не додали ранее?
— Ну… — он закатывает глаза и жует губами. — Ежели императрица похлопочет снова…
Крохобор! Торбохват! Две сотни за два слова! Месячное жалованье офицера-фронтовика, причем, штаб-офицера. Раскатал губу, титулярный!
— Александр Третий тож великий император, — намекаю.
— Не скажите, прапорщик, вопрос спорный! — не сдается титулярный. — Лично я считаю, то таких, как Александр, против Екатерины два нужно!
Сторговались! Достаю четвертные билеты. Они отправляются следом за «Катенькой». Вопрос решен.
На провиантском складе солдаты грузят нам мешки с крупой, капустой, хлебом, носят картонные коробки со сливочным маслом и разрубленные по хребту туши. Ошалевший от изобилия, Карачун суетится и командует, куда класть. На вещевом складе получаем обмундирование и белье. Когда дело доходит до сапог, унтер-кладовщик упирается:
— Не дам! На сапоги должно быть отдельное указание!
— Здесь написано: «выдать все»! — пытается спорить Карачун. — Сапоги в списке!
— Мало ли! — не сдается унтер.
Карачун вздыхает и лезет в бумажник. «Синица» — билет в пять рублей, исчезает в ладони унтера.
— Грузите! — соглашается он.
Меня унтер совершенно не стесняется. Система укоренилась глубоко, выкорчевывать трудно. Лучший способ: собрать всех складских с интендантами, дать винтовки и направить в окопы. Желательно на передний край…
Во дворе пытаюсь возместить Карачуну потерю. Тот прячет руки за спиной.
— Ваше благородие, вы и так потратились! Представляю, сколько дали! Не только положенное, но и прежнее возместили. Дозвольте и мне поучаствовать!..
Дозволяю. В следующую неделю солдат моют, переодевают, проглаживают обмундирование горячим утюгом. Матрасы, набитые соломой, выносят на снег — морозить клопов, нары обдают кипятком. Ольга проводит медицинский осмотр. Солдатам он нравится. Барышня трогает их пальчиками, мажет зеленкой чирья и мозоли, ищет паразитов в головах. К тому же солдат отныне хорошо кормят: щи с мясом, каша с маслом, хлеб вместо сухарей.
— Ребята довольны вашей сестрицей! — говорит мне Синельников. — Очень довольны! Порядок навела, солдатом не гнушается — осмотрит, послушает, порошок даст. А поначалу ворчали: привез прапорщик сударушку! С удобством хочет воевать! Даже денщика вашего пытали: спите ли вместе? Тот подтвердил: порознь! Раз порознь — и вправду сестрица. Славная барышня!
Спим мы с Ольгой действительно порознь, но под одной крышей. Барышне одной жить нельзя: зайдет кто — и скомпрометирует. Барышне надлежит делить кров с родными, а ближайший родственник — я. Дочери благородных родителей положена прислуга, у нас прибирается и кухарит солдатка Мария. Она вдова, как многие женщины в местечке. Желающих служить за червонец в месяц много, но Нетребка привел Марию. Полагаю не случайно: Мария молода и красива, Нетребка за ней увивается.
Приказ Егорова выполнен: дом наш из лучших в местечке, здесь жила семья лавочника. Теперь лавочник мыкает горе, как семья Карачуна. Из прифронтовой полосы выселяют евреев: их мнят пособниками немцев. Шпиономания в армии и тылу цветет пышно. Местечко, считай, обезлюдело, пустых домов навалом. Армия вправе занять любой, мы и заняли. Лавочнику казна заплатит. В доме три комнаты: большая гостиная и две спальни. Гостиную отделяет от спален дощатая перегородка, в которой прорезаны двери. На перегородку меж спальнями лавочник поскупился, вместо нее — ширма. Зато есть железные койки — невиданная роскошь для глухого местечка. Койки узкие, зато нормальной длины. Местные кровати для меня слишком маленькие. Здесь принято спать полусидя, опираясь головой и плечами на огромные подушки.
Ширма — препятствие для взоров, но не для звуков. Ночами я слышу, как Ольга плачет. Я не утешаю: горе надо выплакать. По окончании наступления прошу у Егорова машину. Как раз подморозило, грузовик не буксует, а ехать не далеко. Коллежский асессор Розенфельд упокоился в братской могиле. Офицеров хоронят поодиночке, но здесь особый случай. Разрыв тяжелого снаряда… Могила слишком мала для братской.
Доктор с коллегами, вернее, то, что от них осталось, лежат под крестом. Таблички с именами нет, на кресты их не вешают. В соответствующих бумагах захоронение помечено. Кончится война, сделают памятник, объясняют нам. Не сделают… Могилы оплывут и зарастут, со временем землю распашут и посадят картошку. Власть в России захватят люди, помогавшие немцам победить. Им неприятно вспоминать о своем предательстве, проще объявить войну несправедливой. Почестей павшим не будет. Почести — напоминание о золоте, выданном немцами на революцию. Ольге я этого не говорю — ей и без того тошно. Она плачет и крестится.
Погода стоит сырая, промозглая, дует холодный ветер, Ольга простудилась. У нее жар и кашель, хрипы в груди; губы обнесло. Поначалу Ольга бодрится, пьет порошки, но потом сваливается. Градусник показывает сорок. Мария обтирает Ольгу водой с уксусом, но это не помогает — температура не падает. Ближайший врач в соседнем госпитале, но дороги развезло — не проехать. Карачун ищет лошадей, обещает доставить доктора к утру. Ольга бредит и не узнает нас.
Отправляю Нетребку в казарму, Марию — домой. Служанка перед уходом странно смотрит: что-то заподозрила. Запираю двери, окна занавешены. Если застанут или подсмотрят… Меня ждет «желтый дом» — и это в лучшем случае, могут подумать и другое. Наплевать. Ольга не доживет до утра: у нее пневмония, злокачественное течение. Если и доживет, то чем ее вылечат? Антибиотиков здесь нет. Это я притащил Ольгу в отряд, и здесь она заболела. Я обещал Розенфельду заботиться об Ольге, а вместо этого погубил ее. Я желал избавиться от горестных воспоминаний, и не подумал, какую цену придется платить.
Несу к постели Ольги таз с водой. Я делал это лишь однажды и то из любопытства. У меня тогда не получилось — я был ленивым учеником. Сегодня не получится тем более. Однако я хочу попытаться. Я не могу сидеть, сложив руки.
Ополаскиваю руки в тазу, вытираю полотенцем. Затем стаскиваю одеяло, задираю Ольге рубаху до шеи. Она в беспамятстве, и жалко стонет. Ее знобит, ей холодно. Светит керосиновая лампа. Ее тело худое и беззащитное, как у ребенка. Осторожно касаюсь пальцами грудины. Она вздрагивает — пальцы холодные. Потерпи, маленькая, потерпи!
Пальцы чувствуют жар, но пламени нет. Не получается! Притхви, добрый мой гурка, учил меня: «Огонь сам найдет дорогу. Он жадный и любит новую пищу. Перестань думать, сахиб! Пусть голова твоя лишится мыслей! Ты более не человек, ты — тростник на краю болота. Пальцы твои — корни тростника. Они находят огонь, как корни воду, и тот бежит по ним, как по полому стеблю».
Закрываю глаза. Я тростник… К сожалению, мыслящий тростник! У меня не выходит, я не могу отрешиться. Я желаю Ольге помочь, это лишнее. У тростника нет желаний. Он пьет воду и тянет из земли питательные соки. Ему легко, его не заставляют кочевать по телам. Я хотел бы стать тростником, очень хотел. Днем тебя согревает солнце, ночью освещает луна. Ветер колышет тебя вместе с собратьями, ты наклоняешься и шелестишь. Это хорошо и приятно — шелестеть на ветру…
Язычок пламени коснулся подушечки пальца или это мне показалось? Что мне пламя, я — тростник, растущий в болоте. Огонь трогает другие пальцы, словно проверяя: спит ли хозяин? Я сплю, огонь, я тростник, меня освещает луна, а в болоте кричат лягушки. Они совсем распоясались, земноводные, у них брачный сезон. Опасности нет, люди далеко…
Огонь медленно движется вверх. Это очень больно — ощущать огонь внутри пальцев. Но тростник не чувствует боли, он растение. Даже в пламени он не кричит. Огонь дополз к ладоням. Пора! «Если пламя проберется к запястью, ты умрешь! — учил меня гурка. — Но это не самое страшное. Умрет больной, потому как огонь к нему вернется. Его надо загасить!»
Осторожно-осторожно, плавно-плавно отрываю пальцы-корешки от тела Ольги и несу их к тазу. Раз! Мне показалось, что вода зашипела и ударил пар. Это иллюзия: я видел, как лечит Притхви. Никакого пара, вода остается холодной. Вытираю руки и снова пальцы на грудь. Я тростник…
Я потерял счет времени и количеству прикосновений. У меня кружится голова и сухо во рту. Это очень нелегко — быть тростником. Мои обожженные, обугленные подушечки перестают находить огонь. Я вожу ими по коже больной и вдруг понимаю: у нее нет жара! Открываю глаза, трогаю Ольгин лоб. Он совсем не горячий. Руки могли потерять чувствительность, касаюсь лба губами. Обыкновенный, теплый человеческий лоб, даже слегка влажный. Так и должно быть: на смену жару приходит пот. Оправляю Ольге рубашку, закрываю одеялом. Я не закончил, хотя основное сделано. Огонь вышел из груди, но притаился в других местах. «Не забывай про ступни! — учил меня Притхви. — Огонь любит прятаться там. Ты решишь, что с ним покончено, а он разгорится снова. Ты должен убить его, как мятежного раджу!»
Нам не удалось убить раджу, убили нас. Роту окружили на марше, напали с четырех сторон. Солдаты не успели зарядить ружья, подо мной убили лошадь. Врагов было много, нас смяли. Притхви защищал меня до последнего, его тяжелый кукри летал пушинкой, вспарывая животы и отсекая пальцы. Мы славно дрались в том последнем бою…
Громкий стук в дверь будит меня. В окнах колышется серый рассвет. Я не заметил, как уснул. Бегу открывать. На пороге Егоров и незнакомый, молодой чиновник с погонами титулярного советника. К забору привязаны оседланные лошади, в руках чиновника — саквояж. Врач!
— Где больная? — спрашивает он.
Веду советника к Ольге, сам возвращаюсь в гостиную. Егоров сидит на стуле, у порога маячит Мария с Нетребкой. Слышно, как за перегородкой врач заставляет Ольгу дышать и не дышать, просит показать язык и сказать «а-а!» Делаю знак Марии, она быстро накрывает на стол.
— Ничего страшного! — говорит врач, выходя в гостиную. — Небольшой хрип в легких, язык обложен, температуры нет. Говорите, было за сорок? Странно!
Доктор недоволен: его подняли ночью, заставили скакать — все из-за пустяка. Егоров смущен: это он привез доктора. Предлагаю всем водки. Доктор с удовольствием выпивает, закусывает пирожком.
— Усиленное питание: куриный бульон, масло, белый хлеб, — говорит на прощание. — Ей надо много есть — исхудала. Позаботьтесь!
Егоров с доктором ушли, Нетребка убежал искать курицу, Мария помогает Ольге совершить туалет и уходит. Ольга зовет меня. Она по-прежнему бледна, но глаза живые, а не тусклые, как вчера.
— Как это называется? — спрашивает тихо. — То, что ты делал?
Вот те раз! Я думал: она в беспамятстве.
— Как? — не отстает она.
— «Тростник»… Это тибетский массаж.
— Ты был на Тибете?
— И в Индии тоже.
— Тебя учили лечить?
Киваю. Даром преподаватели время со мною тратили… То, что у меня получилось — чудо. Вполне возможно, что я ни при чем. Был кризис, организм справился…
— Покажи мне, как это делать!
— Потом! Ладно?
— Пожалуйста! — из-под одеяла возникает маленькая ступня.
До меня, наконец, доходит: Ольга смущена, ей неловко. Я видел ее обнаженной, трогал за всякие места. Это неприлично. Врач ее тоже трогал, но врачу можно. Мне предлагают компромисс. Я признаю, что касался ее ножки, это не так страшно. Об остальном предлагается забыть. Ладно! Провожу пальцами по теплой ступне.
— Щекотно! — она прячет ногу.
Вчера не жаловалась. Встаю.
— Павел! — окликает она. Оборачиваюсь.
— Спасибо!
На здоровье!
* * *
Безделье на фронте — штука тоскливая. Здесь нет политруков, чтоб занять личный состав, нет лекций о политике партии и правительства. Кино не привозят, газеты доставляют редко, книг в местечке не сыскать. Сидим на острове, отрезанном распутицей, убиваем время болтовней. Сергей у нас с Ольгой только что не ночует. Трезвым, однако, болтать скучно, а собутыльник из Рапоты никакой. Ольга не одобряет возлияния, считая их вредными для здоровья. Как будто здоровье мне пригодится! Сергей Ольге поддакивает: эта парочка спелась. Тоска!
В один из дней Ольга выходит к столу загадочная.
— Какое сегодня число? — спрашивает торжественно.
— Четырнадцатое апреля, — отвечаем в голос.
— Вам, господин прапорщик, это о чем-либо говорит?
Пожимаю плечами.
— Помнится, год тому, в госпитале, я призвала к порядку одного офицера, — она смеется.
— Точно! — Сергей хлопает себя по лбу. — Мы с Павлом в этот день познакомились! Он оправился от контузии, можно сказать, заново родился!
У женщин удивительная память на даты. Я здесь уже год. Давненько…
— Предлагаю отметить событие!
Они смотрят встревожено. Прапорщик полезет за бутылкой и станет глушить водку. Прапорщик не настолько глуп.
— Созовем гостей! Всех летчиков!
Предложение принимается. Иду созывать, Ольга, Сергей и Нетребка с Марией хлопочут об остальном. На приглашения откликаются дружно: не один я маюсь бездельем. «Ваню-Васю» привожу под конвоем. Ребята стесняются: в отряде недавно, за одним столом с героями… Это мне решать, кому быть за столом, в своем доме я хозяин. Увидев парочку, Сергей одобрительно кивает. Мы вместе воюем, стреляют в нас одинаково, почему одни наслаждаются обществом женщины, а другим — заказано?
Приходят Турлак, Зенько и Егоров. При виде «Вани-Васи» Турлак морщится, но мнения благоразумно не высказывает. Зенько с Егоровым здороваются с ребятами за руку.
На столе непритязательная закуска: соленые огурца, квашеная капуста, колбаса (Нетребка расстарался), вареная говядина и пирожки. Мария печет пирожки изумительно. Начинка простая: капуста или картошка, но пирожки тают во рту. Пшеничную муку в местечке достать трудно, стоит она дорого, но для нас слово «дорого» не существует.
Ольга принарядилась: на ней синее платье с кружевами. Сорок дней траура истекли, не попрекнут. Зенько принес бутылку вина и конфеты — он галантный кавалер. С вина и начинаем. Пьем его из чашек, бокалов нет. Нетребка расставляет граненые стопки — это для водки. Стопки достались от прежних хозяев, они разные по цвету и вместимости. Это не страшно: жидкость в них одинаковая. За мое второе рождение выпили, внимание переключается на хозяйку. Ольгу засыпают комплиментами. Особенно велеречив Зенько: он шляхтич и умеет говорить. Мы слышим о прекрасном цветке, распустившем свой бутон над обожженной войною землей. Одним своим видом цветок вдохновляет воинов. Воины не пожалеют жизней, дабы защитить цветок от супостата. Когда цветок слегка зачах, все переживались и молились за его выздоровление. Слава Всевышнему, что цветок оправился. (Прапорщик, ясен пень, здесь абсолютно ни при чем). Зенько щелкает каблуками и опрокидывает стопку. Вместо закуси целует ручку хозяйки, всем своим видом показывая, какое это несравнимое удовольствие.
Идея понравилась, к Ольге выстраивается очередь. Под шумок новорожденный прапорщик успевает себе трижды налить. Под огурчик с капусткой — я предпочитаю русскую кухню. Ручками пусть закусывают еще не резанные большевиками буржуи. Сергей заметил и смеется. Подмигиваю — жизнь хороша!
Ольга раскраснелась, улыбается. Она принимает комплименты всерьез. Зря! Как говорил наш комбат: «В армии и метла красавица!» И добавлял, указывая на контрактниц в камуфляже: «Никто из них не станет Голенищевым-Кутузовым! Зато никто не останется просто Голенищевой…»
Ольгу просят спеть. На стене висит гитара; я раздобыл ее по просьбе кузины. На грифе красуется бант — кузина повязала. Еще б кружавчики с оборочками… Ольга для приличия ломается и берет гитару.
Голос ее не плох, а вот исполнение… В это время обожают аффектацию и манерность. «Утро туманное, утро седое», «Гори, гори, моя звезда», «Не искушай меня без нужды» — все славные, русские романсы, только петь их нужно без завываний. Тем не менее, слушатели в восторге. Они аплодируют и целуют Ольге ручку. По-моему, им главное повод…
Гости расходятся за полночь. Они жмут мне руку и целуют ручку барышне. Странно, что не наоборот, сегодня мы хороши. Я от количества выпитого, они от качества закуски: за столом надо есть, а не целовать ручки. Гости благодарят за чудный вечер, в этом я солидарен: вечер удался.
Нетребка прибирает со стола, я курю на крыльце. В доме и без того не продохнуть. Ольга открывает двери — проветрить. Сердитый взгляд… В чем дело? Бросаю окурок, возвращаюсь под кров. Нетребка снес посуду в сени (Мария завтра помоет) и удаляется. Ольга смотрит в упор. Чем я провинился?
— Зачем столько пил?!
Здрасьте! Я один?
— Они комплименты говорили, ручку целовали, а ты? Не мог сказать приятное кузине?
Терпеть не могу семейные сцены! Но сегодня я добрый.
— К вам было не доступиться, Ольга Матвеевна! Я не знал, что сегодня соревнование: «Кто похвалит меня лучше всех, тот получит сладкую конфету!» Кстати, вот и она! — беру с тарелки шоколадную конфету, разворачиваю.
— Не заслужил! — она подскакивает, выхватывает конфету.
Женщин нельзя много хвалить: теряют разум. Для приведения в чувство рекомендовано физическое воздействие. Но это как-нибудь потом, не хочется портить вечер.
— Что сделать этому фанту, Ольга Матвеевна? Прочитать стишок, станцевать лезгинку или спеть серенаду?
— Серенаду! — она вот-вот рассмеется.
— Печальную?
— Непременно! — она подает гитару.
Первым делом снимаю мерзкий бант — я не пою под аккомпанемент кружавчиков. Быстро подстраиваю струны. Глаза у нее почти на лбу — думала, что шучу. На память приходят другие глаза: серые, в опахале пушистых ресниц…
Зацелована, околдована, С ветром в поле когда-то обвенчана, Вся ты словно в оковы закована, Драгоценная моя женщина!У Липы оковы самые прочные — золотые. Хотя внешне — всего лишь колечко на безымянном пальце…
Не веселая, не печальная, Словно с темного неба сошедшая, Ты и песнь моя обручальная, И звезда моя сумасшедшая.Говорят, умалишенные счастливы в своих мирах. Подтверждаю. Жаль, что меня излечили.
Я склонюсь над твоими коленями, Обниму их с неистовой силою, И словами и стихотвореньями Обниму тебя горькую, милую.Крепче следовало обнимать, господин прапорщик! Теперь поздно.
Отвори мне лицо полуночное, Дай войти в эти очи тяжелые, В эти черные брови восточные, В эти руки твои полуголые. Что прибавится — не убавится, Что не сбудется — позабудется… Отчего же ты плачешь, красавица? Или это мне только чудится? (Стихи Николая Заболоцкого)Ольга не плачет, но глаза ее влажные. Шоколадная конфета растаяла в ладошке, коричневая слеза просочилась меж пальцев. Эти строки написаны давно и незнакомым мне человеком, но будто о нас. Интересно, Липа плачет ночами?
— Спой еще!
Пожалуйста! Конфеты мне все равно не видать.
Песни у людей разные, А моя одна на века. Звездочка моя ясная, Как ты от меня далека! Поздно мы с тобой поняли, Что вдвоем вдвойне веселей, Даже проплывать по небу, А не то, что жить на земле…Обрываю на середине, кладу гитару на стул. На сегодня хватит.
— Павел! — она говорит шепотом. — Почему ты раньше не пел?
Не просили, вот и не пел! В госпитале я читал фантастику. В этих книгах современники попадали в прошлое, где распевали любимые песни. Туземцы балдели и засыпали героев баблом. Однажды я попробовал. У нас случилась стычка с бургундцами — короткая, но кровавая. После боя мы завалились в корчму, где славно выпили. На глаза мне попалась лютня или как там ее звали. Кое-как подстроив струны, я сбацал Высоцкого — душа просила.
— Вот что, Генрих! — сказал мне капитан, после того, как я умолк. — Ты славный рубака, парни тебя ценят. Но если впредь станешь кликать дьявола, я отправлю тебя на костер! Проклятые паписты жгут еретиков живьем, мы не такие — предварительно повесим! Заруби себе на носу!
Я зарубил: каждому времени — свои песни. Подхожу к окну. Снаружи дождь. Капли бегут по стеклу, сливаются и падают вниз. Окно как будто плачет. Похоже, это надолго. Что будем делать завтра?
— Петь! — говорит Ольга.
14
Наконец-то подсохло, летаем. «Мораны» — на разведку, «Ньюпоры» отгоняют немецкие аппараты, прикрывая нас. Ставку интересует, не готовит ли германец наступление? Не готовит: немцы увязли на Западном фронте, им не до русских. Немцы закапываются в землю, создают эшелонированную оборону — нам сверху это хорошо видно. Наступать будут русские армии, летом, по всему фронту. Однако Барановичи генералу Эверту не взять, удача будет сопутствовать Брусилову в Галиции.
У нас рутинная боевая работа. Разведка вспомнила обо мне, вожу шпионов за линию фронта. Это отчаянно храбрые люди: в случае провала их ждет расстрел. Шпионы одеты простыми крестьянами, но разоблачить их не сложно — выправка выдает. К счастью, обходится без происшествий. Урок с погибшим диверсантом пошел впрок. Я высаживаю разведчиков в одном месте, забираю в другом. Высаживаю на рассвете, забираю в сумерках. Это моя инициатива, подполковник-разведчик ее одобрил. Я освоил ночные полеты, это не сложно. Летное поле подсвечивают, луч прожектора, направленный в зенит, служит ориентиром для летчика. Это опасно только на первый взгляд: немцы пока не додумались бомбить нас ночами.
Вторая половина дня, я на летном поле и бездельничаю. Ночью я привез разведчика, более полетов не ожидается. «Ваня-Вася» отправились на разведку в сопровождении Рапоты, Турлак отдыхает. Механики готовят к полету «Ньюпор» Егорова, прогревают мотор. Штабс-капитан решил тряхнуть стариной. Летает он мало — раненая нога дает себя знать. Хожу вокруг «Ньюпора», облизываясь, как кошка на сало. Я не мальчишка, фанатеющий при виде оружия, я отболел этим давным-давно. Летать на «Ньюпоре» интересней, чем на тихоходном «Моране». Жизнь моя скучна: Ольга не позволяет мне пить, Сергей ее поддерживает, а вечерние посиделки у самовара — что может быть тоскливее?
Издалека доносится характерный звук «Гнома». Над летным полем появляется «Ньюпор», он идет на посадку. Это Сергей. У «Ньюпора» продолжительность полета меньше, чем у «Морана», у Сергея бензин наверняка на исходе. Маленький самолетик касается колесами земли и бежит по полю. Где «Моран»? Вот и он заходит на посадку. Все благополучно…
— Сзади! Смотри сзади!
Я кричу изо всех сил, хотя «Ваня-Вася» меня не слышат. Появившийся неизвестно откуда аппарат с крестами на плоскостях заходит на «Моран». «Ваня-Вася» не видят его: они почти дома и смотрят только вперед. Сзади!.. Стучит очередь, «Моран» переворачивается, вспыхивает и врезается в землю. Твою мать!
Из штаба отряда выскакивают люди, бегут к полыхающему на аэродроме костру. Вижу Ольгу с медицинской сумкой на боку. Она бежит, придерживая ее рукой. Поздно, там никого не спасти…
Немец словно издевается. Спустившись, он проходит над аэродромом. Вижу знакомые щит и шлем на фюзеляже. Все тот же гад! За аэродромом «ганс» разворачивается и на бреющем несется обратно. Сволочь! Словно в подтверждение слышу стук пулемета — черный барон бьет по бегущим людям. Они падают, спасаясь от пуль. Очень трудно попасть из летящего аппарата в человека, фашист просто развлекается. Однако Ольга вскакивает и бежит: кого-то зацепило. Немец разворачивается и снова стреляет.
— Заводи! — кричу застывшему у «Ньюпора» механику. Тот очумело бежит к винту. Заскакиваю в кабину. Шлем и очки Егорова здесь, очень хорошо. Надеть их пара секунд. «Гном» взревел, цилиндры под капотом пришли в движение. У ротативного двигателя коленвал закреплен неподвижно, винт вращается вместе с цилиндрами. Это сделано для лучшего охлаждения. «Ньюпор» бежит по полю и взмывает вверх. Если немец неподалеку, мне конец: нет ничего более легкого, чем сбить аппарат на взлете.
Набираю высоту, кручу головой. Немца не видно, по крайней мере, поблизости. Смотрю на запад, замечаю вдали черную точку. Даю полный газ. Мотор ревет, но расстояние сокращается медленно. Скорость у наших аппаратов примерно одинаковая, просто немец не спешит. Он добился своего: незаметно выследил вражеский аппарат и сбил его при посадке. Позволил себе шутку над русскими дикарями, обстреляв их с воздуха. Немец хитер и расчетлив, теперь он возвращается домой. Он никогда не видел «Ваню-Васю» и никогда не увидит. Ему наплевать, есть ли у них родители, братья-сестры или невесты, кто будет рыдать о погибших. Для него они — тарелочка в тире.
Встречный поток воздуха охлаждает мне голову. Ярость ушла, остался трезвый расчет. «Фоккер» приближается, мне надо решить, как атаковать. Я давно не летал на «Ньюпоре». Я ни разу не стрелял из пулемета, установленного на верхнем крыле. Я обязательно промажу, после чего мне каюк. «Ньюпор» легче и маневреннее, но в воздушном бою главное не железо, а мастерство летчика. Барон увеличит счет, я преподнесу ему себя, как конфету на блюдечке. «Льюис» хоть заряжен? Привстаю, откидываю пулемет — все в порядке. Ствол пулемета смотрит почти в зенит. Стоп! А если так…
Летчик в полете постоянно вертит головой — это насущная необходимость, противника надо разглядеть своевременно. Однако самый зоркий пилот не увидит врага в «мертвой зоне». У аппарата это сзади и внизу. Увидеть противника, прокравшегося в «мертвую зону», мешают фюзеляж и хвостовое оперение. Опускаю «Ньюпор» ниже. Расстояние до «Фоккера» постепенно сокращается. Вот он уже надо мной. Тяну ручку управления и медленно-медленно, аккуратно-аккуратно захожу немцу под брюхо. Он меня все еще не видит. Ему не до меня: под плоскостями — линия фронта, аппарат могут обстрелять. Однако снизу не стреляют. Во-первых, мы высоко. Во-вторых, как немцы, так и наши, разглядели в бинокли знаки на плоскостях. Мы буквально рядом, зацепить своего — проще простого. Я — под самым брюхом «Фоккера». Отчетливо вижу костыль, затем полотняную оклейку фюзеляжа. Кажется, встань и достанешь рукой. Это иллюзия — до немца метров двадцать-тридцать. Воздух на высоте разреженный, отчего предметы кажутся ближе.
Пора! Привстаю и кладу палец на спуск «Льюиса». Металл холодит кожу — перчаток в кабине не было. Лето, не замерзнем…
«Льюис» дрожит, извергая пули. Они прошивают фюзеляж немца, пробивают бензобак, бьют по мотору. «Фоккер» сваливается вправо. Падаю на сиденье и закладываю левый вираж. Вижу «Фоккер», он падает, кувыркаясь в белом облаке вытекающего бензина — и вспыхивает. Огненный факел несется вниз, врезается в землю за немецкими траншеями. Это тебе, «ганс», за «Ваню-Васю»! Гори, как они сгорели!..
Из наших окопов выскакивают солдаты, машут руками. Качнув крыльями, иду домой. Я отомстил за смерть друзей, я убил смелого и расчетливого врага, но радости нет. Место черного барона займет другой, карусель с воздушными схватками и смертями не остановится. В кабины аппаратов надо сажать тех, кто развязал эту войну. Кайзера Вильгельма, к примеру. В этом случае согласен на таран.
Вот и летное поле. У края валяется сгоревший «Моран», пламя загасили. Ребят уже достали из-под обломков, людей у «Морана» нет. Большая толпа собралась у фельдшерского пункта. Кого зацепило?
Сажусь, глушу мотор. Ко мне никто не бежит. Снимаю шлем и очки, кладу на сиденье, выпрыгиваю на поле. Быстрым шагом иду к толпе. От нее отделяется человек. Это Рапота. Сергей смотрит вопросительно. Указываю ладонью в землю, он кивает.
— Что здесь? — указываю на толпу.
— Зенько… — он морщится.
Значит, «ганс» все же попал. Надеюсь, ты горел заживо, сволочь!
Раздвигаю толпу. У крыльца на носилках лежит Николай Александрович. Белое лицо, застывшие голубые глаза, подсыхающая струйка крови на левой щеке. На груди бесполезная уже повязка. Рядом с носилками сидит Ольга, она держит Зенько за руку. Лицо ее странно застыло.
— Павел Ксаверьевич!
Это Егоров.
— Я вас прошу: уведите Ольгу Матвеевну!
Подхожу, беру Ольгу под мышки и ставлю на ноги. Она смотрит бессмысленно. Обнимаю ее за талию и веду прочь. Толпа перед нами расступается. Мы выходим на улицу, бредем к дому. Она шагает механически, как заводная кукла. Завожу ее в дом, сажу за стол. Она подчиняется без возражений.
Я запасливый человек, у меня всегда есть. Ставлю перед Ольгой стакан, наполняю до краев. В сенях — бочка моченых яблок, набираю миску. Мясо ей сейчас нельзя, вырвет от одного вида.
— Пей!
Она послушно берет стакан, пьет. Придвигаю яблоки, она ест. Внимательно слежу за ее лицом. Неподвижная маска начинает терять очертания, глаза наполняет влага, первые слезинки выбегают наружу. Подействовало…
— Павлик!.. — она всхлипывает. — Он… Я его бинтую, а он улыбается — меня успокаивает. Потом вздрогнул — и все… Он единственный сын у матери. Рассказывал мне о ней, говорил, будет счастлива со мной познакомиться. Как же это так? Сначала мальчики, потом Николай Александрович…
Сажусь рядом, глажу ее по головке. Она утыкается лицом мне в грудь и тихо всхлипывает. Так это, Оленька, так… Для тебя впервые, мы же насмотрелись… Дружил с человеком, про маму с ним разговаривал, кусок хлеба делил… И вот он лежит перед тобой, холодный и недвижимый, и про маму рассказать некому. Привыкнешь, войне еще длиться и длиться…
Она замирает. Беру ее за плечи, отодвигаю — готова. Встаю, подхватываю на руки. Она уже не пушинка, как в «Метрополе», мы ее хорошо питали в последнее время, однако все равно не тяжелая. Несу ее в спальню, кладу на койку. Быстро раздеваю, сую под одеяло. Она тихонько вздыхает. Глажу по головке: спи!
Возвращаюсь за стол, наливаю себе. Достаю из печи горшок со щами, вываливаю в миску, ем. Пообедав, закуриваю, пуская дым в потолок. Гимнастерка на груди еще мокрая от Ольгиных слез. Ребенок… У меня нет детей и никогда не будет. Женщины от меня не беременеют — проверено неоднократно. Кто-то следит, чтоб скиталец по телам не обзавелся потомством. Если б в своем времени я успел жениться, у меня могла быть вот такая дочь. Пусть легкомысленная и вздорная, но моя! Детей в отличие от жен не выбирают, они такие, какие есть.
За окном колышется ночь, я не заметил, как кончился день. Я не зажигаю лампу — сегодня яркая луна. Умываюсь, раздеваюсь и лезу в койку. Тяжелый был день, но завтра — еще тяжелее.
Ночью просыпаюсь от всхлипываний. Раздаются шлепки босых ног, фигура в белом появляется из-за ширмы и плюхается мне в койку. Беру ее под одеяло, обнимаю, глажу по головке. Она что-то бормочет и затихает. Когда дыхание ее становится ровным, встаю и отношу Ольгу за ширму. У меня узкая койка, я привык спать в ней один…
* * *
Похороны. Служба в местечковой церкви, сельский погост с тремя разрытыми могилами. «Ваню-Васю» отпевают в закрытых гробах, Зенько — в открытом. На кладбище не протолкнуться. Здесь не только свободные от службы офицеры и солдаты. Пришли почти все не выселенные жители местечка. Венки, много цветов. Их сейчас полно в палисадниках.
Полеты приостановлены — нет бензина. Это плохо — война помогает забыться. Настроение в отряде — хуже некуда. Никогда за всю историю части у нас не было таких потерь. В офицерскую столовую никто не ходит, все сидят по домам — сплошная мизантропия. Сергей столуется у нас. Выпиваем по чарке водки (Ольга более не возражает), едим, курим и расходимся. Ольга не плачет, но как-то странно смотрит на нас. Наверное, думает: «А вдруг и этих?»
Сижу дома, терзаю гитару. Я не умею сочинять песни, но могу переделать чужие. Ребята в роте постоянно просили: «Славка, переделай!», им нравилось. Я вышиваю крестиком по чужой канве, правда не всегда получается. От Сергея я таюсь, от Ольги не спрячешься. Она слушает, сложив руки на коленях, иногда просит повторить. Сама не поет.
Егоров присылает посыльного, иду. Егоров осунулся, похудел. Покойный Зенько был его близким другим.
— У меня к вам просьба, Павел Ксаверьевич, — говорит штабс-капитан. — Не могли бы мы собраться у вас, как бывало? Поговорить, послушать пение?
Просьба странная только на первый взгляд. По сегодняшней ситуации — самое то. Договариваемся на вечер. Запрягаю Нетребку и Марию в работу, Ольга вызывается в помощницы сама. У нее теперь мало пациентов: солдаты после происшедшего не беспокоят «фершалку». Я иду созывать.
В шесть вечера у меня — аншлаг. Егоров, Турлак, Рапота, мы с Ольгой. Лишние стулья спрятаны, но отсутствие погибших заметно. Выпиваем, закусываем, но разговор не клеится.
— Спойте нам, пожалуйста, Ольга Матвеевна! — просит Егоров.
Я предупредил Ольгу, но внезапно она говорит:
— Пусть лучше Павел! Он замечательно поет!
Гости смотрят на меня с изумлением. Все равно, если б Ольга сказала: «Кот Васька исполнит арию Индийского гостя»!
— Не подозревал за вами таких талантов, Павел Ксаверьевич! — язвит Турлак. Он давно ко мне не равнодушен.
Егоров смущен. С одной стороны нельзя обидеть хозяина, с другой — шли не за этим. Пока он терзается, Ольга приносит гитару.
— Про военлетов! — шепчет мне. Она становится за спиной и кладет руки мне на погоны. Семейный дуэт. Посмотрим.
Господа военлеты, вам, чье сердце в полете Я аккордами веры эту песню пою. Тем, кто дом свой оставил, живота не жалея, Свою грудь подставляет за Отчизну свою. Тем, кто выжил в шрапнели, в кого пули летели, Кто карьеры не делал на паркетах дворцов. Я пою военлетам, живота не жалевшим, Щедро кровь проливавшим по заветам отцов.Здесь нельзя петь «от солдатских кровей», здесь крови не жалеют — ни своей, ни солдатской. Ее действительно льют щедро. Здесь нет матерей, которые создают комитеты, дабы уберечь единственное, взращенное без мужа чадо, от грубых сапог и неучтивых сержантов. Здесь бабы рожают по десять и более детей, им некогда над ними трястись.
Военлеты, военлеты, сердце просится в полеты. За Россию, за Отчизну до конца. Военлеты, россияне, пусть Победа воссияет, Заставляя в унисон звучать сердца.Мне никогда не нравилось в оригинале «свобода воссияет». Для кого свобода? Для тех, кто грабил и продолжает грабить Россию? Пусть мы не увидим победы, но стремиться к ней надо.
Господа военлеты, вы сгорели в полете. На разрытых могилах ваши души хрипят. Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их. И теперь они вечно в глаза нам глядят. Вновь уходят солдаты, растворяясь в закатах, Позвала их Россия, как бывало не раз. И опять вы уходите, вы стремитесь на небо. И откуда-то сверху прощаете нас.Ольга вступает за спиной — тоненько и пронзительно:
Так куда ж вы уходите, может, прямо на небо? И откуда-то сверху прощаете нас.Финальный куплет поем дуэтом:
Военлеты, военлеты, сердце просится в полеты. За Россию, за Отчизну до конца. Военлеты, россияне, пусть Победа воссияет, Заставляя в унисон звучать сердца…У Егорова глаза мокрые, Сергей отвернулся, Турлак смотрит в стол. Не я тому причиной. Как удалось «эскадронщику» написать такую пронзительную песню, мне до сих пор непонятно.
— Что-нибудь повеселей нельзя! — спрашивает Турлак. Он говорит грубо, но я не в обиде: поручика тоже пробрало. Есть у нас и веселее.
— Про одно крыло споешь последней! — шепчет мне Ольга и убегает. Эта лисичка что-то задумала.
Дождливым вечером, вечером, вечером, Нам, военлетам, скажем прямо, делать нечего, Мы приземлимся за столом, Поговорим о том, о сем И нашу песенку любимую споем: Пора в путь-дорогу, Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем, Над милым порогом Качну серебряным тебе крылом… Пускай судьба забросит нас далеко, — пускай! Ты к сердцу только никого не допускай! Следить буду строго, Мне с верху видно все, — ты так и знай! (Стихи Соломона Фогельсона)Улыбаются. Эту песню мне не пришлось переделывать, она и без того хороша. Только пара слов… А Турлак не унимается:
— Хорошо вам, Павел Ксаверьевич, есть, кому крыльями качать. У вас кузина. А нам кому прикажете?
— Счас спою!
Мы друзья перелетные птицы. Только быт наш одним нехорош: На земле не успели жениться, А на небе жены не найдешь. Потому как мы воздушные солдаты! Небо наш, небо наш родимый дом. Первым делом, первым делом аппараты.— Ну, а барышни? — доносится из-за перегородки.
— А барышни — потом! Первым делом, первым делом аппараты. Ну, а барышни? А барышни — потом.Все смеются. А я добавляю:
Нежный образ в мечтах приголубишь, Хочешь сердце навеки отдать, Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, А назавтра — приказ улетать. Потому как мы воздушные солдаты! Небо наш, небо наш родимый дом. Первым делом, первым делом аппараты. Ну, а барышни? А барышни — потом. Первым делом, первым делом аппараты. Ну, а барышни? А барышни — потом.Ну, и финальный аккорд:
Чтоб с тоскою в пути не встречаться,
Вспоминая про ласковый взгляд. Мы решили друзья не влюбляться Даже в самых прелестных наяд.«Девчат» нельзя, это слово простонародное. А про наяд господа офицеры знают — на Пушкине с Лермонтовым росли.
Потому как мы воздушные солдаты! Небо наш, небо наш родимый дом. Первым делом, первым делом аппараты. Ну, а барышни? А барышни — потом. Первым делом, первым делом аппараты. Ну, а барышни? А барышни — потом. (Стихи Алексея Фатьянова)Из-за перегородки выглядывает Ольга, загадочно подмигивает мне. Понятно.
— Господа! — говорю. — Вы не устали?
— Нет-нет! — заверяют в один голос.
— Вы сочиняете песни сами? — интересуется Егоров.
— Нет, Леонтий Иванович! Их пели другие, я только запомнил. А сейчас песня английских летчиков.
Это не «английских», американских. Но Америка пока не воюет, к тому же нам без разницы.
Мы летим, ковыляя во мгле, Мы ползем на последнем крыле, Бак пробит, хвост горит, аппарат наш летит На честном слове и на одном крыле.Первый куплет предусмотрительно опущен. На аппаратах нет голосовых раций, в этом времени они размером с вагон. Играю жесткими аккордами, только так можно передать суровость песни. Из спальни появляется Ольга. На ней моя летная кожаная куртка с подвернутыми рукавами, летный шлем и очки. В руках — зажженная свеча. Ольга изображает подбитый самолет. Это очень модно в этом времени — живые картины. Одна рука Ольги — то самое последнее крыло, вторая со свечой отведена за спину — хвост, который горит. Покачиваясь, она кружит вокруг стола. Наивно, но гости смотрят, не отрываясь.
Ну, дела! Война была! Били в нас германцы с каждого угла, Вражьи летчики летали во мгле — Размалеваны, орел на орле. Но германец нами сбит, А наш «птенчик» летит На честном слове и на одном крыле. Ну, дела! Война была! Но германца разбомбили мы дотла!Ольга изображает сброс бомб. Где только видела?
Мы ушли, ковыляя во мгле, Мы к родной подлетаем земле. Вся команда цела, и машина пришла — На честном слове и на одном крыле. (Перевод Самуила Болотина)Финальный аккорд. Гости аплодируют. Ольга запыхалась, но улыбается. Господа офицеры не отказывают себе в удовольствии приложиться к ручке. Похоже, мы выполнили поставленную задачу.
— Господа! — говорит Егоров. — У меня для вас новость. Отряду предстоит высочайший строевой смотр.
Если б в дом вошло привидение, наше удивление было бы меньшим.
— Его императорское величество, верховный главнокомандующий, выразил желание приехать к летчикам. Нас выбрали по простому принципу: нигде нет столько награжденных.
Штабс-капитан, по лицу видно, доволен. Командовать отрядом, где у всех летчиков — грудь в крестах, почетно. Были у нас военлеты и без крестов, только недавно их похоронили. Если Е.И.В. останется довольным, наград в отряде добавится.
— Признаться, я сомневался, — продолжает Егоров. — Сами понимаете, военлеты не строевики. Даже хотел отказаться от чести. Сегодняшний вечер убедил меня в обратном. Павел Ксаверьевич — человек, наделенный многими дарованиями. Думаю поручить ему подготовку отряда к смотру. Как считаете, господа?
Господа в своем мнении единодушны. Они очень довольны, что поручают не им. Любая инициатива в любом времени наказуема исполнением. С какого бодуна я сегодня распелся?
— Согласитесь, господа, строевая песня у нас уже есть! — заключает Егоров.
* * *
Есть просьбы, в которых нельзя отказать, но и выполнить их страшно. Сан Саныч попросил: он был верующим человеком, сам он не мог. Айнзац-группа все же достала нас. Мы отбились, уйдя в лес, но пуля угодила полковнику в бедро. Поначалу он бодро хромал, но через день слег. Я пробовал его тащить, но одному, без помощников, — труба дело. К ближайшей деревне я его бы сволок, но все окружающие селения были заняты немцами — на нас шла охота. Слякотной осенью, в шалаше, без еды и медикаментов… Кожа вокруг раны полковника вздулась и почернела, при нажатии пальцем хрустела. Мы оба понимали, что это значит. Чернота добралась до паха; Сан Саныча не спасла бы даже ампутация.
— Уходи! — сказал он мне хмурым утром. — Ты молод, здоров и умеешь воевать. Ты дойдешь! Расскажешь там…
Я пообещал. У меня были большие сомнения насчет того, станут ли меня слушать, но умирающим не отказывают.
— Как только я впаду в забытье, — попросил он. — А сейчас отойди — я помолюсь.
Я отошел. Следовало собрать грибов — третьи сутки мы ели только их. Варили ночью: днем могли заметить дым. Вблизи шалаша грибов уже не было, пришлось идти далеко. Когда я вернулся, Сан Саныч был без сознания. Я поставил котелок с ненужными уже грибами и достал «парабеллум». Полковник дышал тяжело и хрипло, даже в беспамятстве он стонал от боли. Я приставил ствол к его груди — как раз против сердца, и нажал курок…
Через час я был в ближайшей деревне. Немцы только-только ее оставили, жители испуганно прятались по домам. Я достал «парабеллум» и очень внятно объяснил, что мне надо. В лес я вернулся на телеге в сопровождении двух угрюмых мужиков. Мы положили тело на повозку и отвезли в деревню.
Сан Саныч категорически запретил мне это делать, однако теперь я командовал сам. Пока мы ездили, кто-либо мог сбегать к немцам, однако я не боялся. Я сказал мужикам: в лесу полк Красной Армии, меня отправили с поручением. Если меня выдадут, деревню сожгут со всеми обитателями. Видимо, немцы рассказывали нечто подобное, дважды объяснять не пришлось. Покойного положили в наспех сколоченный гроб и похоронили на маленьком сельском кладбище. Я сам укрепил над могилой крест и попросил заказать в церкви панихиду по новопреставленному рабу божьему Александру. Мне собрали в дорогу еды, причем, нанесли столько, что часть я оставил. Деревня спешила избавиться от контуженного сержанта.
К фронту я не дошел — доехал. Армия — это хорошо организованный бардак, существует только разная степень организации. В сорок первом году бардак в тылу немецких армий был еще тот. Вермахт катился на восток, тылы поспешали следом, потому грузовик, едущий к фронту, никого не удивлял. Тем более что за рулем сидел немецкий ефрейтор, который, как все, ругался и скандалил на заправках, требовал от случайных попутчиков сигареты за проезд и проявлял интерес к деревенскому шпику и маслу. Никого не смутил мой немецкий. В вермахте хватало сброда из оккупированных стран, на вопросы я отвечал, что сам чех, этого хватало. Я держался уверенно и нахально. Мне было плевать, разоблачат меня или нет. Мне также было плевать, убьют меня или позволят уцелеть. Если мне говорили, что я заехал не туда, часть моя в другом месте, я просил указать дорогу, после чего благодарил. Я и линию фронта пересек за рулем — в то время она не была сплошной. В последней тыловой части мне сказали, чтоб не ездил вот этой дорогой — попаду прямо к русским, я сказал: «Данке шён!» и поехал. Русские меня тоже не остановили — поста на проселке не оказалось. Перед выездом на большак я переоделся в красноармейскую форму и покатил в ближайший город. Там у первого же солдата спросил, где НКВД.
Допрашивали меня недолго. На второй день в кабинет дознавателя вошел капитан. Дознаватель стремительно вскочил.
— Этот? — спросил гость. Дознаватель подтвердил.
— В самом деле, переехал фронт на машине?
— Так точно, проверили. Дорога в немецкий тыл никем не охранялась.
— Хорошо, что приехал он, а не танки! — сказал капитан. — Не то драпали бы к Москве. Вояки, вашу мать!
— Меры приняли! — смутился дознаватель.
— Ссать я хотел на ваши меры! — разозлился капитан. — Воевать надо! Вот как он! — капитан указал на меня. — Давай это сюда! — он сгреб со стола протокол допроса и кивнул мне: — Сержант, за мной!
Меня помыли, переодели и сытно накормили. Я рассказал капитану все, кроме того, конечно, кто я на самом деле и откуда. Он слушал молча, только курил, зажигая одну папиросу от другой.
— Про вас мы давно знаем, — сказал, когда я умолк. — Окруженцы, выходившие к своим, рассказывали. Военинженер и контуженный сержант, бьющие врага в немецком тылу. Мы даже собирались группу выбросить — установить с вами связь, но не знали, где искать. Жаль Самохина, очень бы пригодился.
— Он боялся: здесь его расстреляют!
— Это почему? — удивился капитан. — Суда над ним не было, приговора нет, а после того, что военинженер сделал, про арест не вспомнили бы. Идет война, сержант, и всякий, кто умеет бить врага, на особом счету. Таких у нас мало. Ясно? Теперь о тебе. Вернешься в артиллерию?
— Я забыл, как стрелять из пушки. Память не восстановилась.
— Резать немцев это не мешало! — хмыкнул он. — Хочешь во фронтовую разведку? Кормят по пятой норме, как летчиков, ну и все остальное… Плохо одно: живут разведчики недолго. Как?
— Согласен!
— Фамилию не вспомнил?
— Никак нет!
— Пиши! — капитан повернулся к писарю. — Бесфамильный Иван Иванович, сержант…
— Павлик! Павлик! — чья-то рука трясет меня за плечо. Очумело вскакиваю. Это не осень сорок первого… Передо мной Ольга в ночной рубашке.
— Ты скрежетал зубами и страшно ругался! — говорит она. — Я испугалась!
— Прости! Кошмар…
— Ты часто скрежещешь зубами, — вздыхает она. — Хочешь, дам брому? У меня есть.
— Не надо, я больше не буду. Извини!
— Ничего! Я думала, рана болит.
Болит, Оленька, только не рана…
Сажусь на койку, она пристраивается рядом. Ее босые ножки не достают до пола и болтаются в воздухе. Наши плечи не соприкасаются.
— Несчастливые мы с тобой! — говорит Ольга. — У меня папа и Юра погибли, у тебя жена умерла…
Я не рассказывал ей о жене, но есть поручик Рапота, наверняка просветил. Хороший у меня друг, только болтливый. Мы сидим и молчим. Две песчинки в океане мироздания, прибитые друг к другу прихотливой волной. Песчинкам бывает грустно. В этом случае им лучше молчать или спать.
— Пойду! — Ольга зевает и прикрывает рот ладошкой. — Спать хочется. Спокойной ночи, Павел!
— Спокойной ночи, кузина!
15
Сергей в погонах штабс-капитана. Кавалер ордена Святого Георгия (в том числе и Георгиевского оружия) имеет право на внеочередной чин. Автоматически чин не присваивается, его нужно истребовать. Сергей истребовал. Мне некогда этим заниматься, на мне строевой смотр.
«В армии пусть безобразно, зато единообразно!» — говорил мой комбат. С единообразием плохо. Нижние чины отряда имеют исправное обмундирование, но разномастное, так не годится. Императрица Екатерина II вновь хлопочет за нас, причем, трижды. На меньшее титулярный интендант не согласился, поскольку выдача внеочередная. Мой золотой запас похудел, зато солдаты — хоть на парад! Хуже с господами офицерами. Их обмундирование — просто инфаркт. Не армия, а Дом моды. Шаровары за одежду летчики не признают, у них галифе. Галифе — штука удобная, однако не уставная. Боковые карманы у галифе необъятного размера, но Е.И.В. это не оценит. К тому же шьют галифе, кому как вздумается. Турлак загнал в боковые швы стальные тросики, его штаны торчат в стороны, как паруса, он цепляет ими косяки дверей. Это неотразимо действует на женщин, но император у нас мужчина.
Обсуждение формы выливается в спор, Егоров прекращает его жестко. Всем одеться одинаково. Поскольку на дворе лето, вместо кителя — гимнастерка, это высочайше разрешено. Никаких галифе, тем более, с тросиками, хотя по бокам шаровары можно напустить. Головные уборы — пилотки, это выделит летчиков из армейского окружения. Решение принято, выполнять его мне. Господа офицеры не носят готовые мундиры, их шьют на заказ. Где взять портного в местечке без евреев? Да еще такого, чтоб построил мундиры быстро?
Беру грузовик, еду в Минск. Город забит безработными беженцами, портные находятся. Зовут их Мендель Гиршевич и Янкель Гиршевич, как нетрудно догадаться, это братья. Учуяв интерес, братья заламывают цену, торговаться мне некогда. Офицеры заплатят обычную сумму, разницу возместит прапорщик. Требую держать это втайне, иначе неприятности воспоследуют. Офицеры — люди гордые… Портные охотно соглашаются — им все равно. Закупаю материю и кожу. Ольга Матвеевна, прослышав о шитье, захотели обновку. Это мундир и кожаная куртка. Кузина считает, что имеет право на кожу, она причастна к летному делу. Я не спорю — не до того.
Портные поселяются в пустующем доме, где начинают кроить и стучать «зингерами». Я привез евреев в местечко, откуда их выселили; узнают в штабе — огребу по полной. Пусть! Шпионить братьям все равно некогда: работают, не разгибая спин. Через два дня военлетов не узнать. Все в новом и разглаженном, погоны на плечах блестят, ордена на груди сияют. А пилотки! Черные, с алыми выпушками и серебряной лентой крест-накрест поверху. Красота! Ольга примеряет перед зеркалом кожаную куртку и жалеет, что на дворе лето — в черном хроме щеголять жарко.
В остальном дела отвратительные. Все строевые смотры одинаковы. Построение, приветствие высокого гостя, после чего марш мимо него же с задорной песней. Я предполагал, что мотористы, механики и водители — неважные строевики, но действительность превзошла ожидания. Они вообще не умеют маршировать! Большинство нижних чинов — из запаса, многие служили при царе Горохе. Есть солдаты, которым за сорок, тридцатилетний — обычное дело. Авиаотряд — не то место, где солдат муштруют, здесь другие задачи. К тому же орлы-авиаторы не желают стараться. Народ большей частью городской, грамотный, следовательно, разбалованный. На лицах солдат явственно читается: «Господская забава! Офицеры за кресты стараются, нам-то что?»
Я стараюсь не за кресты — у меня их в избытке. На верховного главнокомандующего мне плевать. Но я офицер и не могу видеть отряд стадом баранов. Это моя воинская часть, мне за нее стыдно. Распускаю отряд на обед, после него продолжим. У меня есть идея…
Отряд вновь в сборе, Карачун докладывает. Внимательно оглядываю строй.
— Все в наличии?
— Так точно, ваше благородие!
— Не вижу, что все. Где рядовой Розенфельд?
— Так это… — фельдфебель не знает, что ответить. — Так она…
Я безжалостен.
— Приказано: всех свободных от службы — в строй! Так?
— Так точно!
— Розенфельд несет службу?
— Никак нет, больных не имеется.
— Сюда ее, живо!
Карачун бежит к медпункту. Строй галдит и шевелится: солдаты чувствуют потеху. Это вы зря…
— Смирно! — рявкаю во всю глотку. — Отставить разговоры!
Затихли, но на лицах предвкушение. Появляется Карачун, рядом семенит Ольга. За пять шагов до меня она переходит на строевой шаг и вскидывает руку к козырьку фуражки.
— Господин прапорщик, вольноопределяющаяся Розенфельд по вашему приказанию прибыла.
— Что ж вы, рядовой, пренебрегаете приказами? Или считаете: вас они не касаются?
Ольга молчит, так положено по сценарию. Его мы оговорили за обедом.
— Вы, наверное, считаете, что и без того изрядно маршируете? Сейчас проверим! Смирно! Ша-гом арш!
Ольга чеканит строевым.
— Кру-гом!
Она делает поворот, идет ко мне.
— На-пра-во!
Поворот направо — чисто, без огрехов.
— На-ле-во!..
С лиц солдат сползают ухмылки. Они не могут поверить глазам: «фершалка» чеканит шаг, как записной строевик. А вы как думали? Это дочь офицера, господа нижние чины, считайте, на плацу выросла. Она строевые приемы с младенчества наблюдала. К тому же весенним бездельем мы кое-чем занимались. Ольга сама попросила, господам офицерам идея понравилась. Занятия проходили вдали от любопытных глаз — во избежание разговоров. Сергей старался вовсю: выпускник Михайловского училища был придирчив и строг. Ольга не роптала. Барышня она упрямая, если вобьет что в голову… Ольга и стрелять умеет. Я подарил ей карманный «браунинг», научил с ним обращаться. Ольгу напугали бродячие псы, их много осталось в опустевшем местечке. Стая окружила Ольгу на вечерней улице, псы скалились и рычали. Прапорщик услышал зов и прибежал на выручку. Стаю мы уполовинили, а Ольга теперь пистолетом.
— На месте стой!
Ольга замирает.
— Стать в строй!
На лице ее удивление — об этом не сговаривались. Ничего не поделаешь — ситуация изменилась. Одного показа мало.
— Мне повторить?
Ольга занимает место на левом фланге.
— Отряд, слушай мою команду! На-пра-во! Шагом марш!
Шагают! Пока неуклюже, с ошибками, но стараются. Им только что показали пример, и кто? «Фершалка», пигалица, многим в дочки годится. Стыдно! Слава богу, им пока еще стыдно. Через год будет плевать.
У солдат получается все лучше, я увлекаюсь. Отряд шагает и шагает, делая повороты то на ходу, то на месте. Место Ольги в последней шеренге, я вдруг замечаю, что она отстает. Черт! Ольга — дочь офицера, но все-таки дочь, а не сын.
— Отряд стой! Разойдись! Карачун — ко мне! Розенфельд — свободна!
Вручаю фельдфебелю листки с текстом и с наказом разучить песню к утру. Не мешало бы проконтролировать, но есть дела важнее. Краем глаза вижу, как тяжело, едва не ковыляя, уходит прочь Ольга. Строевые занятия в охотку и на плацу не одно и то же. Строевая подготовка укладывает новобранцев, что говорит о женщине? Обрадовался, ёпрст! Бежать за Ольгой, однако, не спешу, чувства надо скрывать. Достаю папиросы. Странно, но солдаты не расходятся.
— Разрешите, Павел Ксаверьевич!
Это Синельников. Протягиваю коробку. Унтер-офицер берет папиросу, закуриваем. С Синельниковым у меня отношения дружеские, зовем друг друга по имени. Я извинился перед ним за случай с пулеметом, он не обидчив. Папиросы, однако, он ранее не стрелял, ждал, пока предложат.
— Люди обижаются за Ольгу Матвеевну, — говорит Синельников. — Ладно, мы, но ее гонять! Нельзя так с женщиной!
Синельников — образованный, говорит «женщина», а не «баба». Все ясно. Отряд недоволен и прислал ходатая. Инициативу надо поддержать. Только не сразу, не то заподозрят.
— Розенфельд не только женщина, но и солдат! — говорю строго. — Сама в армию просилась, никто не заставлял.
— Все равно нехорошо! — возражает Синельников. — Ольга Матвеевна — добрый фершал, дело знает. Люди ее любят. Женщин надо жалеть! — он смотрит укоризненно. Дескать, что ж ты? А еще кузен ей…
— Ладно! — соглашаюсь с видимой неохотой. — Пусть отдыхает. Но на смотре поставлю в строй!
Синельников кивает, идет к солдатам. Что-то говорит, солдаты улыбаются и расходятся. Люблю делать людям приятное! Теперь — домой! Ох, что нас ждет!
Предчувствия не обманывают. За порогом валяются Ольгины сапожки. Нетрудно представить, как она их стаскивала… Хорошо, что разулась в гостиной, получить сапогом в голову — удовольствие еще то. Аккуратно прибираю сапожки под лавку. В воздухе разлито ощущение грозы, кажется, поднеси палец к потолку — и схлопочешь молнию. Глубокий вдох…
Врываюсь в спальню. Ольга, одетая, лежит поверх покрывала, вытянув ноги. Знакомая поза, и мы когда-то лежали. Ноги у нее сейчас, ох, как гудят! Подбегаю, сдергиваю носки. От неожиданности она не находится, что сказать. Исследую ступни — мозолей и потертостей нет. Очень хорошо! Теперь большим пальцем вот сюда и с усилием вверх! Еще раз! Пальчики в горсть и перебрать каждый, чтоб суставчики расправились! Ладонью — по всей стопе…
Это не «тростник», это «язык тигра». Язык у тигра большой и шершавый, он сильный и ласковый одновременно. Когда тигрица вылизывает котят, те урчат от удовольствия. Этот прием я освоил в совершенстве, здесь мы не ленились. Рани любила делать «язык», обучила и меня. Ей самой такой массаж нравился.
Ольга дышит глубоко, глаза ее закрыты. Кладу на колени вторую ножку, все повторяю. Теперь обе ступни вместе… Ольга тихонько стонет. Стоп! Когда делаешь «язык», опасно перейти грань. Неконтролируемый взрыв эмоций, «сплетенье рук, сплетенье ног, судьбы сплетенье…» Ольга Матвеевна нам кузина, Рани ею не была. С Рани было можно, с кузиной — не положено. Ольга двигает ножки к моим рукам, ей хочется еще. Нет уж! Если дитя не понимает, то взрослые в полном рассудке. Снимаю ее ноги с колен, встаю. Она открывает глаза.
— Я хотела тебя убить! — говорит мрачно.
Кто б сомневался! Понимающе склоняю голову.
— Тебя учили этому в Тибете?
— В Индии. Снимает усталость ног.
И заводит женщину до исступления. Но об этом лучше молчать. Ольга приподнимает ногу, вторую, словно проверяя утверждение, и нехотя садится. Подаю тапочки.
— Подлиза! — говорит она, но по лицу видно: гроза миновала…
Е.И.В. прибывает на летное поле. В местечке полно жандармов и агентов в штатском. Отряд выстроен у ангаров. К нам катит сияющий лаком автомобиль. Николай выходит из распахнутой адъютантом дверцы. На нем защитная гимнастерка, полковничьи погоны, фуражка. На груди — орден Святого Георгия. Император шагает к нам, следом поспешает свита.
— Здорово, летчики-молодцы!
— Здравия желаем, ваше императорское величество!
Хорошо рявкнули! А то! Прапорщик неделю принимал «здравие» за императора.
Царь направляется к специальному возвышению, эдакой сцене с перилами. Чертежик из штаба передали. Досок подходящих не нашлось, разобрали дом в местечке. Казна заплатит.
— Отряд, равняйсь! Смирно! — это Егоров. — Ша-гом марш!
Пошли! Дни стоят сухие, с утра по полю бегали солдаты — поливали из ведер. Пыль прибита и не оскорбит высочайший взгляд. Офицеры — впереди, нижние чины — следом, где-то в последнем ряду — Ольга.
— Пе-сню… За-апевай! — командует Егоров.
Мы летим, ковыляя во мгле, Мы ползем на последнем крыле, Бак пробит, хвост горит, аппарат наш летит На честном слове и на одном крыле.Хорошо поют, стройно. Солдатам песня понравилась и слова легкие. А сейчас с подъемом!
Ну, дела! Война была! Но германца разбомбили мы дотла!Песню сократили до двух куплетов. Для прохождения маршем достаточно.
Мы ушли, ковыляя во мгле, Мы к родной подлетаем земле. Вся команда цела, и машина пришла — На честном слове и на одном крыле.А теперь с молодецким пересвистом, чтоб удаль звенела.
Ну, дела! Война была!
Но германца разбомбили мы дотла!
— Отряд стой, раз — два! В две шеренги становись!
Встали. Господа-офицера впереди, нижние чины за ними. Е.И.В. спускается с возвышения, по лицу видно — понравилось. Полковник-летчик, поспешающий следом (инспектор авиации фронта) прямо сияет — не подвели. Царь идет вдоль строя. Он изменился со времени нашей встречи, заметно осунулся и постарел. Дела в государстве хреновые. Газеты сообщают о похождениях Гришки Распутина, толсто намекают на его связь с царицей. В правительстве постоянные перестановки, причем, каждый новый министр или премьер хуже прежнего. Про дела на фронте мы и сами знаем. В феврале будущего года революция, в октябре — вторая, в июле восемнадцатого — подвал Ипатьевского дома. Жалко дурака, взвалил ношу не по плечу. Предупредить? И что? Он генералов своих не слушает, а тут прапор с глупым советом… «Желтый дом» прапору гарантирован. Оно-то пусть, только без толку.
«Солдат и офицеров, что возле Нарочи легли, тебе не жалко? — говорю себе. — Из-за него погибли! Действие или бездействие на войне одинаково смертельны. У тех, кто погиб, дети тоже имелись…»
Мне жалко царя. Неплохой по сути человек, образованный, начитанный, жену любит. Не тем делом занялся. Выбор у него был, лучше б сразу отрекся. Наверняка Александра Федоровна, раскудык ее немецкую мать, настояла. Немки пищом лезут Россией порулить. Екатерина I, Екатерина II… Последняя даже муженька придушила, правда, и тот немцем был. Вдова Павла I рвалась царствовать, еле остановили. Вот и эта… Ну что, Александра Федоровна, порулила? Страна на коленях, саму считают немецкой шпионкой, а тут еще Распутин с Вырубовой…
Инспектор авиации представляет летчиков. Полковник в отряде два дня, все проверил, пощупал собственными руками. Подивился строевой песне, но все же одобрил. Вечером мы его угостили, выдали полный репертуар — как я, так и Ольга, полковнику понравилось.
Егорову вручают Святого Владимира с бантом и мечами. Очередные Станислав и Анна у Турлака и Рапоты. Царь уже передо мной. Сказать? Внезапно судорога перехватывает горло. Пытаюсь говорить, но даже сипа не получается. Кто-то не желает, чтоб скиталец мешался не в свои дела. Е.И.В. уже передо мной.
— Прапорщик Красовский! — представляет полковник. — Сбил немецкий аппарат, летал в германский тыл для выполнения специальных заданий и диверсий. Проявил недюжинную храбрость.
— Я вас раньше видел, прапорщик? — спрашивает Николай. — Постойте, вроде в Осовце?
Ну и память у него! Судороги больше нет, урок мы усвоили.
— Так точно, ваше императорское величество! Вы пожаловали мне этот крест и поздравили прапорщиком.
Он кивает и поворачивается. Однако на подносе адъютанта — Георгиевские медали, орденов нет. Николай недоуменно смотрит на полковника.
— За проявленную храбрость и совершенные подвиги прапорщика представляли к очередному чину, — докладывает инспектор, — дважды.
Все ясно. Егоров убедился: его представления не проходят, попросил инспектора помочь. Покойный Розенфельд прав: родня у князей Бельских влиятельная. Царь задумчиво смотрит на мой кортик с темляком, словно вопрошая: «А сам чего не истребовал? Тут бы не отказали!» Мое право: хочу — истребую, хочу — нет. Может, к пенсии берегу!
— Дважды, говорите? Что ж… Поздравляю вас поручиком, господин Красовский!
Рявкаю благодарственные слова. Царь кивает и отходит. Все, опоздал! Рапота в порыве чувств тычет мне локтем в бок. Ну, да, теперь мы в равных чинах. Истребуем звездочку за Георгия — и мы штабс-капитаны! Зачем мне это? Я здесь ненадолго: только что напомнили…
Николай идет вдоль шеренги, раздает медали солдатам. Останавливается против Ольги.
— Вольноопределяющаяся Розенфельд! — сообщает полковник. — Военфельдшер. Дочь коллежского асессора Розенфельда, убитого германцами. Проявила храбрость: под германскими пулями спасала офицера.
К сожалению, перевязка не помогла — Зенько умер. Это не умаляет подвига.
— Не обижают вас в отряде, сударыня? — улыбается царь.
— Никак нет! — рапортует Ольга. — Люди хорошие. К тому же у меня здесь кузен.
— Кто он?
— Пра… поручик Красовский, ваше императорское величество.
— При таком не обидишь! — смеется царь. Свита подобострастно хихикает. — Похвально, сударыня! Мне пишут женщины, просят зачислить их в армию. Я право сомневался, но ваш пример… — Николай протягивает руку, адъютант вкладывает в нее медаль. Царь прикрепляет ее к гимнастерке Ольги. — Поздравляю вас зауряд-прапорщиком, госпожа Розенфельд!
— Спасибо, ваше величество! — лепечет Ольга. Она растерялась.
Царь улыбается, идет обратно. Краткое напутствие, прощание, уф! — свалил! Ну, царь, ну, удружил! Карачун обидится смертельно: отныне Ольга старше его чином, почти офицер. Ей даже кортик полагается с офицерским темляком. Вот так: мужик годами службу ломает, а дамочке звание — за красивые глазки! Ворчу, но самому приятно. Даже непонятно, почему…
* * *
Сражение за Барановичи то притихает, то разгорается. Полки бросают в бой, они сгорают в бесплодных атаках. Число братских могил растет. После Нарочанской неудачи, генерал Эверт боится наступать, бьет в немецкую оборону не кулаком, а растопыренными пальцами, бьет без толку и с огромными потерями. Мы летаем на разведку, это наша главная обязанность. «Фоккеры» с «Альбатросами» нас не беспокоят, у них хватает забот. К нам садится «Илья Муромец», отряд сбегается посмотреть. Огромный, четырехмоторный бомбардировщик вызывает восхищение и восторг.
«Муромец» изрешечен пулями. Двое из экипажа ранены, к счастью, легко. Ольга перевязывает летчиков. Один из них рассказывает. «Муромцы» летают под прикрытием истребителей, те входят в состав эскадры, так было и в этот раз. На задание пошли два «Муромца» и шесть истребителей. У нашего гостя забарахлил мотор, экипаж принял решение вернуться. Шли домой, как мотор заработал. Такое случается, и нередко. Командир корабля решил выполнить задание. «Муромец» полетел к фронту, однако без прикрытия. Станцию разбомбил успешно. Наскочили немцы, сразу три аппарата. У «Муромца» четыре пулемета, отбивались, как могли. Всех немцев вывели из боя, один загорелся в воздухе. Но гиганту досталось: повреждены моторы, фюзеляж и крылья превратились в решето. Еле дотянули до ближайшего аэродрома.
Механики занялись «Муромцем», ведем гостей обедать. Все четверо — поручики, всем за двадцать. Один смуглый, явный кавказец, и зовут его Фархад. Он ранен, Ольга перевязала его. Он смотрел на нее, не отрываясь, а после целовал ручку. Горячо так целовал… Угощаем гостей водкой; кавказец не пьет, он мусульманин. Нетребка приносит гитару, развлекаю гостей. Командира «Муромца» зовут Дмитрий, он сам неплохо поет. Песня английских летчиков ему понравилась, перенимает мелодию. Записываю слова. Гости рассказывают о житье-бытье. Аэродром «Муромцев» в Станьково, это неподалеку от Минска. Летчики бывают в городе часто. С их слов Минск — это вертеп. Рестораны забиты земгусарами, коммивояжерами и спекулянтами; те швыряют деньги без счета. Земгор снабжает действующую армию, а где снабжение — там хабар и воровство. На улицах Минска полно проституток, пройти не дают. Это я и сам видел. В Минске размещается штабы фронта и двух армий, масса тыловых частей, мужчин с деньгами много. Для проституток наступили золотые деньки. Не только для них: шубы и золотые украшения в магазинах разметают. Кому война, кому мать родна. Разложение армии наступает с разложением тыла. Интеллигенция в массовом порядке косит от армии, властители дум не спешат лить кровь за Родину. Совсем как в мое время…
Механики подлатали «Муромца», провожаем гостей. Фархад зыркает по сторонам — ищет Ольгу. Мы ее спрятали. Кавказский мужчина слишком красив, фельдшер самим нужна. Прощаемся, «Муромец» разбегается и взлетает. Случайная встреча, обычная на войне, наверняка больше не свидимся.
Зря так думал: меня командируют в Станьково. Немецкий дирижабль бомбит Минск. Дирижабль летает ночами, днем он слишком уязвим. Зенитная артиллерия успеха не имеет, решили применить истребители. У меня опыт ночных полетов, инспектор авиации вспомнил. Затея бредовая, но приказ есть приказ.
В Станьково меня встречает Фархад — как родного. Он ходит по пятам, выспрашивая про Ольгу. Он влюблен и не скрывает этого. Друзья смеются:
— Фархад увидел барышню — и сражен!
— Неправда! — обижается поручик. — Я много барышень видел, а полюбил Ольгу.
— Ты видел ее всего ничего!
— Ну и что? На Кавказе с одного взгляда влюбляются! Сразу — и на всю жизнь! Зачем долго смотреть? Сразу видно — хорошая барышня! И красивая…
Фархад — симпатичный парень и храбрый летчик. Грудь у него в крестах, товарищи его любят. Однако влюбленные — люди надоедливые.
— Поговори с Ольгой! — просит он. — Ты ее родственник, она послушает. Я хороший человек, кого хочешь, спроси! Думаешь, обижу ее? Никогда! У нас не обижают жен, у нас их обожают.
— Скажи ей сам! — предлагаю. — Возьми машину, съезди и объяснись!
— Я стесняюсь, — вздыхает он. — Вдруг прогонит?
Статный, красивый, усы лихо закручены — и стесняется.
— Как думаешь, — не отстает он, — Ольга меня полюбит?
Пожимаю плечами. Откуда мне знать?
— Я ей предложение сделаю! — горячится Фархад. — Как война кончится, поженимся!
— Я бы не спешил. Одного жениха она схоронила.
Фархад не понимает намека. Ему кажется, что убьют кого-то другого, он-то уцелеет.
— Напиши ей письмо! — даю совет. — Обратно полечу — отвезу.
Фархад уходит сочинять, я готовлюсь к полетам. Я не единственный, кому поручили задание. На фронте хватает пилотов, умеющих летать ночью. Большие силы собраны не случайно. Дирижабль прилетает не каждую ночь и в разное время. Мы дежурим в небе, сменяя друг друга. Кому выпадет честь (или беда) сразиться с германцем — дело случая.
Начальство затеяло этот цирк, вдохновившись успехами союзников — те сбивают дирижабли. Только у союзников на вооружении ракеты, специальные бомбы и зажигательные пули, у нас же ничего нет. Дирижабль — не аэростат, у него пулеметов — как у ежа иголок. Спереди и сзади, сверху и снизу. Дырявить корпус дирижабля — пустое дело. Давление водорода закроет отверстие, газ если и выйдет, то из отдельной секции. В корпусе цепеллина секций много. Однако приказы не обсуждают, летаем. «Ньюпор» кружит над ночным Минском. Светомаскировки в городе нет, что и понятно: нувориши развлекаются. Бомбить такой город — одно удовольствие. Слежу за временем по наручным часам. Срок выходит — лечу в Станьково. Аэродром далековат от Минска, есть и ближе, но мы специально взлетаем с разных полей. Навигация ночью плохая, аппаратам столкнуться при взлете и посадке проще простого. Хоть это продумали.
Утром узнаю — дирижабль прилетал. В воздухе дежурил наш «вуазен». Он рванулся к германцу и попал в луч прожектора. Стрелка-наблюдателя ослепило, пока он привыкал, моргая глазами, с дирижабля ударил пулемет. Раненый пилот посадил «вуазен», но стрелка не спасли. Дирижабль отбомбился и спокойно улетел.
Эта нам урок — держаться вдали от прожекторов, как своих, так и чужих. На дирижабле прожектор тоже имеется. Следующая ночь проходит спокойно. Я снова в небе, высота три тысячи аршин — дирижабли низко не летают. Черчу круги, поглядываю вниз. Дирижабль увижу, как вспыхнут прожекторы. Зенитки будут молчать — в небе свои. Это не единственная причина. Стаканы и осколки шрапнельных снарядов падают на город. Не лучшие осадки, обыватели жалуются. Кое-кого ранило.
Жму на педаль, разворот «блинчиком». Скоро возвращаться. Внизу вспыхивают прожекторы. Прилетел, голубь! Отчего ж и нет? «Вуазен» подбили, показали нам фрицеву мать, кого бояться? Ладно…
Пикировать на сигару нельзя. На площадках цеппелина дежурят стрелки, аппарат заметят. Снижаюсь по широкой дуге. Нельзя атаковать снизу и сверху, у дирижабля здесь мощная защита. По сторонам — слабее.
Прожектора держат цеппелин в перекрестии. Они слепят экипаж и подсвечивают цель. Сближаюсь. Туша дирижабля напоминает облако, моя цель на его боку совсем крохотная. Не промахнуться бы! Приникаю к прицелу. Я тренировался в стрельбе, но сейчас ночь. Ближе, ближе… Все! Тяну за тросик. «Льюис» над головой плюется гильзами. Ручку — влево, вверх, правая педаль — ушел!
Закладываю вираж, смотрю — ничего! Промахнулся? Придется идти на второй заход. Встретят из пулемета, теперь я раскрыт. Стоп! Язык пламени на боку дирижабля! Я все же попал в мотогондолу, перебил бензопровод. Один шанс из тысячи, но перебил. Рассчитывал повредить мотор, но добился большего. Цеппелин поворачивает, бомбардировка забыта. У «гансов» «алярм». Пожар на дирижабле — что может быть страшнее? Кругом водород, если огонь доберется до газа… Весь экипаж брошен на тушение, это к гадалке не ходи. Очень хорошо!
Можно улетать, но у меня азарт. Диск «Льюиса» наполовину полон. Правлю на дирижабль снизу, в бок. Прожектора ведут цеппелин, но свет их уже не силен — далеко. То, что нужно. Гондола экипажа в перекрестии прицела. «Льюис» стучит — привет тебе, «ганс», от тети Моти! Попал, ей богу, попал! Ручку — влево и вверх, вираж! Набираю высоту, смотрю в сторону, куда ушел цеппелин. Пламени не видно, пожар погашен. Пускай! По зубам мы им дали, теперь не скоро приползут…
По возвращению в отряд отдаю Ольге письмо. Она немедленно вскрывает. Читает и улыбается. Протягивает листок мне.
Качаю головой: я не читаю чужих писем.
— Зря! — укоряет она. — Ты слов таких не знаешь!
Не надо, а? Тоже мне Шахнаме! Златокудрая пери моих грез, райская гурия, сошедшая с небес и воспламенившая сердце неугасимым огнем…
— Он показывал письмо? — удивляется Ольга.
Я его диктовал!
Ольга возмущенно фыркает.
— Отвечать будешь? — спрашиваю.
— Непременно! На такое письмо нельзя не ответить. Он такой милый, этот Фархад!
— Пусть сочиняет! Только отправляет обычным порядком. Почтовым голубем я не нанимался!
Вечером Ольга терзает гитару: Скажи ты мне, скажи ты мне, Что любишь меня, что любишь меня. Скажи ты мне, скажи ты мне…Скажет! Еще как скажет! За Фархадом не заржавеет, кавказские мужчины это умеют. Отряд потеряет фельдшера. Ну и ладно!..
16
У нас пополнение — и какое! Авиатрисса, женщина-пилот! В штабе фронта рассуждали так: где одна женщина, там и вторая сгодится! Авиатриссу зовут Елена Павловна, она молода и красива. Пополнение сопровождает рой слухов. Дескать, подделав документы, Елена выдала себя за мужчину и поступила в летную школу в Гатчине. По окончании курса воевала на фронте, была ранена, в госпитале обман и раскрылся. В авиатриссу влюбился командующий, у них случился бурный роман. В дело вмешался лично государь. Женатому генералу пригрозили пальцем, разлучницу сослали с глаз долой.
Правды в этих слухах ни на грош. В школе проходят медицинский осмотр, разоблачить обман не трудно. Надо быть слепым, чтоб не разглядеть в авиатриссе женщину. У нее тонкие черты лица и заметная выпуклость спереди. Сомнителен и роман с Эвертом — генерал слишком стар. Разве что с кем моложе…
Егоров в ярости. Женщина-фельдшер куда ни шло, это привычно и понятно. Но женщина-летчик… У Семеновой (это фамилия новенькой) имеется диплом пилота, выданный до войны. Кому и как их давали, Егорову известно. Требовалось взлететь, описать «восьмерки» вокруг укрепленных на поле шестов, и благополучно приземлиться. Короче, взлет — посадка… С таким умением к скоростному аппарату подпускать нельзя. Авиатриссу надо переучивать, да только где? В школы берут исключительно мужчин…
Пока суд да дело, мне поручают устроить новенькую. В казарму к солдатам ей, ясен пень, нельзя, ищем дом в местечке. Выбор богатый: местечко по-прежнему пустует. Елене приглянулся дом близ аэродрома. Карачун обещает постельные принадлежности, посуду и прочее. Интересуюсь, нужна ли прислуга? Елена не офицер, всего лишь вольноопределяющаяся, денщик ей не положен. Почему бы не нанять служанку? Дом запущен, навести в нем порядок непросто. Елена возражает: не белоручка. Выглядит Семенова расстроенной: начальник отряда встретил прохладно. Мне жаль Елену, зову ее в гости. Она улыбается — впервые за день.
Посиделки провалились. Сергей на удивление скромен, Ольга хмурится, Елена ощутила и замкнулась. Отдуваться мне. Болтаю за четверых, беру гитару. Песни только о любви. Елена слушает, мечтательно улыбаясь, Ольга смотрит исподлобья. Вечер пропал. Сергей уходит, я продолжаю петь. Аудитория не внемлет. Елена благодарит и встает. Иду провожать: на темных улочках женщинам боязно.
К дому новенькой добираемся быстро. Елена внезапно берет меня за руку.
— Спасибо, Павел Ксаверьевич!
Пожимаю плечами: не за что!
— Вы единственный, кто встретил меня дружески. Вы добрый человек.
— Уверяю, Елена Павловна, другие военлеты не хуже. Им просто непривычно.
— Я знаю, что обо мне говорят! — вздыхает она. — Поверьте, Павел Ксаверьевич, это все сплетни. Ни в каком госпитале я не лежала, ничьей любовницей не была. Случилась война, я стремилась быть полезной Отечеству. Что из того, что я женщина? Почему нельзя? Сто лет назад, в Отечественную войну была женщина-кавалерист! Я вожу авто, умею летать, на фронте нужны специалисты. Писала прошения, мне отказали. У меня есть родственник-генерал, он знает меня с детства, потому взял шофером. Возила его. Однако родственник при штабе, я хотела на фронт. Упросила его, умолила, он похлопотал. Приехала сюда, а ваш Егоров…
— Он хороший человек, Елена Павловна, поверьте. Все образуется.
— Вы похлопочете за меня?
М-да, напросился.
— В меру моих скромных возможностей.
— Спасибо! — в порыве чувств она обнимает меня.
В отличие от Ольги, Елена высокая, щека ее касается моей. От ее волос пахнет ромашкой.
— Я пригласила б вас зайти, но мне угостить нечем, — говорит она, отстраняясь. — Как-нибудь в другой раз. Хорошо?
— Непременно! — я пожимаю ей руку. Елена предпочитает мужское приветствие.
Она идет к дому и скрывается за дверью. Представляю, как ей сейчас тоскливо: одна, в пустом доме… Хм! А что если?..
Ольга встречает меня неласково.
— Что так долго? Здесь же рядом!
— Поговорили…
Она смотрит в упор. Не нравится мне этот взгляд.
— Знаешь, — говорю торопливо, — я вот что подумал. Две женщины в отряде, почему б вам не жить вместе? Я переберусь в другой дом. Вдвоем вам будет веселее…
— Ни за что!
— Почему?
— Не хочу жить с аферисткой!
— Ольга!..
— Аферисткой, не спорь! Подделала документы, выдала себя за мужчину…
— Ничего она подделала!
Торопливо пересказываю сообщенное Еленой.
— Все равно не буду! — упрямится Ольга. — Не хочу и все!
Со мной нельзя так разговаривать, я тоже могу злиться.
— Не хочешь — не надо! Я сам съеду!
— К ней?
— Ольга!..
— Думаешь, не видела, как ты на нее смотрел? Весь вечер ей пел! Бесстыжая! Не воевать она ехала, а мужчин искать. Знаю я таких!
Ну, все! Моему терпению бывает конец. Чтоб в моем доме и меня же фейсом…
В спальне беру чемодан, бросаю на койку. Халат, тапочки, полотенце… Зубную щетку и порошок возьму в сенях. Переночую у Сергея, дальше видно будет…
— Павел!..
Оборачиваюсь. У нее в глазах озера, и озера эти вот-вот прольются. Семейных сцен мне не хватало!
— Садись! — указываю на койку.
Она садится на краешек. Ручки сложены на коленях — сама невинность. Минуту назад бушевала. Тянет ругаться, но нельзя.
— Пойми, пожалуйста, нам неудобно под одной крышей. Я мужчина, а ты женщина…
— Ты меня совершенно не стесняешь!
Ну, конечно! То, что меня могут стеснять, в расчет не берется.
— Мы с тобой родственники!
Причем, очень близкие. Нашему забору двоюродный плетень, как говорит Нетребка.
Молчит.
— Сама говорила: я скрежещу зубами, не даю тебе спать…
— Я привыкла! Даже не просыпаюсь!
Вздыхаю и сажусь на койку. Нас разделяет чемодан.
— Пожалуйста, Павел! Я больше не буду!
Будешь, обязательно будешь.
— Не сердись! Сама не знаю, что на меня нашло.
Я знаю…
— Ты мне самый близкий человек на свете! Мне с тобой покойно и хорошо.
Сейчас разрыдаюсь. Кузина упадет в мои объятья, и мы прольем светлые слезы. Как-нибудь обойдемся! Ладно, не сегодня… Открываю чемодан, достаю халат и тапочки. Ольга смотрит вопрошающе.
— Я переоденусь с твоего позволения.
Она кивает и уходит. Снимаю с себя все, накидываю халат и беру полотенце. Во дворе, под стеной дома — деревянная бочка, Нетребка натаскал в нее воды. За день вода прогревается… Залезаю — блаженство! Тихо, в саду стрекочут сверчки, небо усыпано звездами. Ветра нет, деревья стоят неподвижно. Приятно сидеть в теплой воде, наблюдая эту красоту. Так бы всю жизнь…
— Павел! Ты скоро?
Не хворать бы вам, дорогая кузина! Такой настрой испортить! Выбираюсь, растираюсь полотенцем, халат на плечи… Ольга, как и я, любит теплую воду. Мария ставит чугунок в печь, но он большой, кузине не вытащить. Опорожняю чугунок в бадью, ставлю его в печь, иду к себе. Засыпая, слышу, как Ольга плещется. Без меня ей с чугунком не справиться, об этом я не подумал…
Иду исполнять обещание, Егоров встречает неприветливо.
— Какой из нее летчик?! — он машет рукой.
— Будет летнабом, они тоже нужны.
— На летнаба, между прочим, учатся. Предположим, сами обучим. Что далее? Летнабу не только смотреть, стрелять надо. И, что хуже, в него стреляют. Забыли Лауница? Вдруг ее ранят или убьют? Она же женщина! Возьмете грех на душу?
Грех брать мне не хочется.
— Она водит автомобиль!
— Хм… — Егоров задумывается. Шоферов в отряде не хватает. — Надо попробовать.
Пробуем. Елена забирается в кабину «Руссо-балта», Егоров занимает место рядом. Грузовик бодро стартует и скрывается в облаке пыли. Елена не обманула — водить авто она умеет. Проходит полчаса, час… Облако пыли сигналит о возвращении. Грузовик тормозит у штаба, Егоров выбирается первым, галантно подает руку даме. Та-ак… Денщик бежит с водой и полотенцем — их благородие изрядно запылились. Егоров показывает на Семенову — вначале она, затем умывается сам, жизнерадостно фыркая.
— Посмотрю, как вы устроили Елену Павловну! — говорит он мне.
Парочка, оживленно беседуя, идет к местечку. Штабс-капитан что-то рассказывает, Елена смеется. Результата ждать не приходится: Нетребка получает заказ. Он краснодеревщик, ладит красивую мебель. Ефрейтор доволен: за мебель офицеры платят. Егоров велел не стесняться — все, что пожелает Елена Павловна. Ольга рада за денщика, но я подозреваю: Нетребка ни при чем. Довольны все, кроме поручика. Мы таскали каштаны, съедят их другие. Поручику не привыкать — планида у него такая…
* * *
Из штаба фронта приходит радио: в Минске концерт для раненых офицеров. Красовскому и Розенфельд прибыть для выступления. Ну, дела! Ольга в панике: одно дело петь в узком кругу, другое — в городском театре. Концерт состоится именно там. Готовиться некогда — выступление сегодня. Переодеваемся, цепляем награды, залезаем в кузов грузовика. В кабине занимает место Егоров. Нам с Ольгой надо обсудить программу. На всякий случай у нас баул с одеждой, но абсолютно неясно, что пригодится.
К счастью, нас встречают. Грузовик тормозит на улице Подгорной, Егоров входит в театр и возвращается со знакомым инспектором. Полковник жмет мне руку, галантно целует ручку Ольги.
— Споете песни военлетов, — объясняет он. — Те, что я слышал. Концерт самодеятельный, все армии представили артистов. Я вспомнил о вас. Не подведите! Пусть знают летчиков!
Нас ведут в театральную гримерку. Есть время умыться, привести себя в порядок. Нахожу служительницу, объясняю, что нужно. Она соглашается. Других женщин среди артистов нет, отчего не помочь? Идем с Ольгой на сцену. Занавес закрыт, на сцене — офицеры, есть вольноопределяющиеся. Это артисты, они волнуются. На Ольгу глядят с любопытством: женщина в форме — диковинка. Смотрим в щель занавеса. Зал полон. Золотых погон мало, главным образом, защитные. Фронтовики… Много бинтов; костыли, трости… Сотен пять зрителей — театр небольшой. Ольге дурно: выступать перед таким собранием! Веду ее в гримерку. Мы в конце списка, есть время собраться.
— Павлик, я не смогу! — лицо Ольги в пятнах. — Столько людей!
Приседаю перед стулом, беру ее за ручки.
— Оленька, это офицеры. Такие же, как Леонтий Иванович, Сергей, Турлак. Они хорошие люди. Они пострадали за Отчизну, их нужно развлечь.
— Я обязательно собьюсь или слова забуду!
— Они не будут строги. Они ведь знают, что мы не артисты.
— Может, ты один?
— Им приятно видеть женщину. Не волнуйся, у нас получится!
Успокоив кузину, иду за кулисы. Концерт начался. Самодеятельные артисты поют, декламируют под музыку. Это очень популярно в это время — мелодекламация. Выступают неплохо. Любой командир желает отличиться — показать, какие у него орлы, в корпусах отобрали лучших. Нас дернули второпях. В ложе — сам командующий фронтом, мне шепнул это Егоров. Ольге я не сказал — упадет в обморок. Генерал ощущает вину за проваленное наступление, для уцелевших в бойне устроили концертик. «Успокойся! — говорю себе. — Чего взъелся?» У меня просто мандраж; я, как и Ольга, паникую.
Разглядываю публику. Артистов принимают хорошо: аплодируют, кричат «браво». Однако не все. Замечаю штабс-капитана в третьем ряду. Он сидит с краю, вытянув в проход загипсованную ногу. В руке — костыль. Лицо у штабс-капитана хмурое, он не улыбается и не аплодирует. Где его ранили? Под Столовичами? Там лег цвет гренадерского корпуса. Под Барановичами? Дивизия генерала Саввича, потеряв 2600 офицеров и солдат только убитыми, захватила Болотный Холм, который немцы вернули к вечеру. При этом попали в плен 8 русских офицеров и 284 солдата… Русские дрались храбро, не их вина, что начальники бездарные.
На сцене корнет поет арию. Замечательно поет, наверняка брал уроки. Штабс-капитан кривит губы. Что ему до страданий опереточного графа? Внезапно понимаю: о погибших военлетах петь нельзя. Летчики — привилегированная часть армии, им служить легче и наград у них больше. Военлеты гибнут, но не полками. Нас не поймут, штабс-капитан с костылем не поймет.
Возвращаюсь в гримерку. Ольга в платье, судорожно мнет в руках платочек.
— Оленька! — говорю как можно ласково. — В песне про военлетов будут иные слова.
— Я не успею выучить! — она снова в панике.
— Подхватишь на лету, они не сложные. Ты у меня умница! — чмокаю ее в лоб. — Ты у меня самая лучшая!
Она вздыхает и утыкается лицом мне в грудь. Вот и славно. В гримерку заглядывают — наш черед…
— Военный летчик, поручик Красовский! — объявляет ведущий в мундире Земгора. — И его очаровательная спутница госпожа Розенфельд!
Чтоб ты сдох, земгусар! Какая Ольга спутница? Она зауряд-прапорщик! Поздно…
Выхожу на сцену. В зале легкий шорох — разглядели. Предыдущие артисты не блистали наградами. В зале фронтовики, они знают цену Георгиевскому оружию. Гитара…
Мы, друзья, перелетные птицы, Только быт наш одним нехорош: На земле не успели жениться, А на небе жены не найдешь…Из-за кулис появляется Ольга. На ней синее платье, в руках — кружевной зонтик. Кузина привезла его из Москвы — на фронте без зонтика просто никак. Пригодились кружавчики. Ольга гуляет, изображая недоумение. Зачем искать жену на небе, когда она на земле! Ходит без призора, в то время пока поручик поет. На лицах зрителей улыбки — у Ольги получается.
Потому как мы воздушные солдаты! Небо наш, небо наш родимый дом. Первым делом, первым делом аппараты.— Ну, а барышни? — капризный вопрос.
— А барышни — потом!В зале смеются и хлопают. Смотрю в ложу: командующий фронтом улыбается. Генерал запретил офицерам увлекаться женщинами. Злые языки утверждают: сам Эверт это правило нарушает. Это как всегда…
Чтоб с тоскою в пути не встречаться, Вспоминая про ласковый взгляд…Финальный аккорд, Ольга кланяется и бежит за кулисы. Зал аплодирует, штабс-капитан с костылем — нет. Остаюсь один; Ольга выйдет к последнему номеру. У нас четыре песни, ей еще переодеться.
«Дождливым вечером» и песню английских летчиков встречают тепло. Штабс-капитан не аплодирует. Кланяюсь, смотрю за кулисы — Ольга успела.
— Господа, мою партнершу неправильно объявили. Позволю себе исправить ошибку. Военный фельдшер, зауряд-прапорщик, Георгиевский кавалер Ольга Матвеевна Розенфельд! Прошу!
На Ольге новенький, построенный к смотру, мундир и летная пилотка. На груди — Георгиевская медаль. Ее встречают аплодисментами, офицеры вытягивают головы, чтоб лучше рассмотреть. Диковина! Штабс-капитан в третьем ряду кривит губы. Ах, ты!..
— Зауряд-прапорщик получила награду из рук государя-императора за храбрость, проявленную при спасении офицера.
Уточнение лишнее: Георгия вручают только за храбрость. Но мне не нравится штабс-капитан. Ага, перестал ухмыляться! Тебя, наверное, тоже спасали: останавливали кровь, накладывали повязку. Смотрю на Ольгу. Кузина раскраснелась, улыбается. То, что нужно.
— Песня посвящается офицерам-фронтовикам!
Ну, с Богом!..
Господа офицеры, по натянутым нервам Я аккордами веры эту песню пою Тем, кто дом свой оставил, живота не жалея. Свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в окопах, в атакующих ротах, Кто карьеры не делал на паркетах дворцов. Я пою офицерам, живота не жалевшим, Щедро кровь проливавшим по заветам отцов.Ольга стоит рядом, ей рано вступать. Сможет? Припев пою один, она молчит. Дальше…
Господа офицеры, как сберечь вашу веру? На разрытых могилах ваши души хрипят. Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их. И теперь они вечно в глаза нам глядятСлушайте, генерал от инфантерии, слушайте! Вы бросили полки в самоубийственные атаки. Вам они будут смотреть в глаза, вам будут сниться розовощекие мальчики, бежавшие на немецкие заграждения. Пробитые пулями, разорванные снарядами, исколотые штыками…
Вновь уходят солдаты, растворяясь в закатах, Позвала их Россия, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо? И откуда-то сверху прощаете нас…Ольга вступает неожиданно:
Так куда ж вы уходите, может, прямо на небо? И откуда-то сверху прощаете нас…Голос ее, высокий, чистый и необыкновенно сильный заполняет пространство театра. У меня перехватывает горло: вдруг сорвется, не вытянет? Нельзя, сейчас нельзя, этого не простят! Это не ария, это молитва. Держи, Оленька, держи! Я тебя расцелую, я для тебя что хочешь сделаю, только держи! Пожалуйста! Держит… Голос звучит. Он пронзает мундиры, проникает в тела, заполняет каждую клеточку сердца. В нем скорбь и горечь, в нем плач по утратам. Застывшее лицо штабс-капитана Зенько, закрытые гробы с обезображенными телами Иванова и Васечкина… Это они сейчас смотрят на нас, и я уверен, что прощают…
Глаза у штабс-капитана в зале влажные. Он елозит костылем по проходу, что-то собираясь сделать. Что? Штабс-капитан опирается на костыль и тяжело встает. Чуть помедлив, встает его сосед, затем офицер за спиной. Словно волна бежит по залу: один за другим офицеры встают, скоро стоит весь зал. Спазм перехватывает мне горло, но я беру себя в руки: мне надо петь. Завершаем дуэтом:
Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. За Россию, за Отчизну до конца. Офицеры, россияне, пусть Победа воссияет, Заставляя в унисон звучать сердца.Последний аккорд. В зале мертвая тишина. Кланяюсь. Вам, фронтовикам, кланяюсь. Я не артист, выпрашивающий аплодисменты, я один из вас. Я знаю, откуда вы пришли, и что там видели… Рядом кланяется Ольга. Выпрямляемся, стоим. Что дальше? Тихо…
Театр взрывается. Это не аплодисменты и не овации, это какой-то водопад. Зрители хлопают, кричат, штабс-капитан бьет костылем о пол. Многие бегут к сцене, протягивают руки, что-то пытаются сказать; только ничего не слышно — шум стоит невообразимый. Растерянно смотрим. Зал не унимается. Никто не кричит «бис!» — молитвы на «бис» не поют, однако прочих возгласов хватает. Смотрю в ложу: Эверта нет. Обиделся? Ну, и пусть!
Шум в зале внезапно стихает. Все смотрят нам за спину. Оборачиваюсь. Генерал Эверт появился из-за кулис, идет к нам. Следом поспешает свита. Замечаю полковника-летчика.
— Позвольте, господа, от вашего имени поблагодарить поручика и зауряд-прапорщика! — говорит генерал залу. — Нам известны подвиги поручика, это он повредил германский дирижабль над Минском, заставив супостата с позором удалиться. (Полковник-инспектор доложил, это к гадалке не ходи). Я не предполагал, однако, что поручик славно поет. Спасибо! — генерал жмет мне руку. — О таланте зауряд-прапорщика у меня вообще не слов! — Эверт смотрит на Ольгу, затем в зал: — Хороша, господа, правда? Чертовски хороша! А как поет! Я нарушу субординацию, но мне, старику, можно, — он обнимает Ольгу и троекратно целует. Старый сатир! — Вот, что я скажу, господа офицеры! Если женщины у нас такие храбрые, то мужчинам грех быть хуже. Одолеем супостата! Я прав?
Слова правильные, идеологически выдержанные. Я думал, что укорю генерала, а сыграл ему на руку. Не мне спорить с монстрами.
Зал аплодирует. Свита генерала спешит засвидетельствовать почтение. Мне жмут руку, к ручке кузины прикладываются. Полковник-инспектор прямо лучится: его подчиненные уели всех. Ярмарка тщеславия.
Из театра выходим сквозь строй. У служебного хода толпа офицеров, они аплодируют. Ольге вручают букет — кто-то расстарался. Счастливчик допущен к ручке, остальные завидуют. Вот и наш грузовик. Нас приглашали остаться на ужин, настойчиво приглашали (Ольгу, конечно, я — как приложение), но мы отказались — завтра полеты. Шофер бросает баул в кузов.
— Ольга Матвеевна! — Егоров открывает дверцу кабины. Штабс-капитан сидел в зале, все видел и слышал. Ему, как и другим, хочется сделать Ольге приятное.
— Я с Павликом! — возражает Ольга и лезет в кузов.
В глазах провожающих — острая зависть. Именно так, господа, Павлик! Заслужили! Можно сказать, непосильным трудом…
Садимся, грузовик трогается. Нам машут руками. На повороте Ольгу бросает ко мне. Обнимаю ее за плечи — шофер ведет грузовик чересчур лихо, на деревянной лавке усидеть трудно.
— Тебе тоже понравилось? — спрашивает Ольга. Голос у нее какой-то задавленный.
— Ты просто чудо, солнышко!
Чмокаю ее в висок.
— Сама не знаю, как получилось! — говорит она. — Смотрела на раненых офицеров и вдруг вспомнила. Николая Александровича, мальчиков…
Глажу ее по плечу. Она прижимается ко мне, затем находит мою руку. Едем, обнявшись, так теплее. Вечер прохладный, под брезент поддувает, а кожаные куртки мы не захватили. В местечко прибываем за полночь. Шофер тащит баул в дом, прощаемся с Егоровым. В доме тепло, Мария протопила. Достаю из печи пирожки, из сеней приношу горлач с молоком. Мы жутко проголодались. Ужин закончен, Ольга идет в спальню. Набрасываю халат, тащу из сеней деревянную бадью. Вода в чугунке теплая — в самый раз. Опорожняю его в бадью. Ольга в халатике и наблюдает за мной. Сидит на стуле и странно смотрит.
— Мойся! — говорю ласково. — Я воздухом подышу.
— Сил нет! — вздыхает она. — Кто б меня помыл?
Это не вопрос, это предложение. Что теперь? Я не хочу ее обижать, она не заслужила. Почему б не помочь кузине? Сама говорила, что не стесняется…
Беру ковшик. Ольга сбрасывает халат и забирается в бадью. Поливаю из ковша узкие плечи, спинку, грудь… С той поры, как видел ее обнаженной, тело Ольги округлилось. Это больше не галчонок, это взрослая женщина с заметными формами… Беру мыло. Я сделаю ей «тропический ливень», он восстанавливает силы. Всего лишь пальцами и всего лишь вдоль спины. Не сильно, но быстро. Это как душ, только струи у него толстые — как у тропического дождя…
Ольга тихо стонет, кажется, я перестарался. Надо «ливень», а не «язык»! Торопливо мылю ее, поливаю из ковшика. Все!
— Одевайся и в постель! — говорю строго. — Живо, не то простудишься!
Выбегаю во двор. Где моя бочка? Здесь! Вода в ней ледяная. Нетребка, лодырь, ясен пень натаскал с вечера, вода колодезная, прогреться не успела. Вот и славно, это то, что надо. Ухаю в ледяную купель и замираю. Терпи! Мерзни, мерзни, волчий хвост! Ты на что нацелился, на что покусился? Тебе ее хранить доверили, а не лапать! Сатир контуженный…
Славная штука холодная вода! Несколько минут, и мысли только о тепле. Нам никто и ничто более не нужно, нам бы только под одеяло! Зубы выбивают дробь…
— Павлик! Ты где? — Ольга на крылечке в одной рубашке.
Выскакиваю, набрасываю халат, бегу к дому. Вечер прохладный, а она после купания…
— Опять в бочке сидел? — она трогает мои руки. Ладошки у нее теплые-теплые. — Боже, ледяные! И зубы стучат… Ты с ума сошел! Заболеешь! Живо!
Погоняемый тычками, влетаю в дом. Толчок в спину несет меня к Ольгиной спальне. Постель ее разобрана и даже смята: я заставил ее встать.
— Дурак контуженный! — Ольга сдирает с меня халат. — Схватишь воспаление легких, чем я тебя вылечу? Я твоих «тростников» не знаю, ты мне даже не показал. Лезь под одеяло, живо!
Напутствуемый тычком, влетаю в постель. Она теплая, ее успели согреть. Блаженство! Ольга устремляется следом. Койка узкая, двоим лечь — только на боку. Еще лучше обнявшись, иначе тот, кто с краю, может упасть. С краю у нас Ольга…
— Господи, какой дурак! — она гладит меня по голове. — Сколько можно таиться? Я же вижу! Как ты на меня смотришь, как ты меня желаешь. Чего ты боишься? Что не отвечу взаимностью? Так я устала обратное показывать! Как только его не поощряла! Обнимала, целовала, пела ему… Даже разделась перед ним! Нет, он в бочку полез! Я вся истомилась, ожидаючи!
Она прижимается ко мне. Тело ее горячее, оно не согревает, оно обжигает. Ее рубашка ни от чего не защищает, это какая-то паутинка, а не ткань. Под рубашкой у нее ничего нет, я чувствую это каждой клеточкой.
— Милый мой, дорогой, желанный… — она обнимает меня за шею и покрывает лицо поцелуями. — Как я тебя люблю!
Руки у нее теплые, губы — мягкие, а я не железный…
* * *
Солнечный зайчик бьет мне в глаза. Я не в своей постели, солнце не будило меня раньше. Скашиваю взгляд. Ольга спит, свернувшись в клубочек. Ночью мы составили койки. Мне жалко будить Ольгу, но время не ждет. Осторожно глажу ее по плечику.
— Павлик! — бормочет она. — Не надо! Пожалуйста! У меня там все болит!
— Я не за этим…
Она резко поворачивается.
— Надо поставить койку на место.
— Зачем?
— Придут Мария с Нетребкой. Увидят составленные койки и все поймут.
— На дворе двадцатый век, а мы люди цивилизованные…
Отшлепать бы ее! От души! Поздно…
— Цивилизованные люди живут в Петрограде. Они нюхают кокаин и постигают французскую любовь. Я не цивилизованный, я офицер. Офицер не смеет выдавать любовницу за кузину, это низко и постыдно. Сослуживцы устроят ему бойкот и будут правы. Неужели трудно отнести койку на место?
— Нам каждый день ее таскать?
Можно, конечно, и не таскать, можно вернуться к прежним отношениям. Только поздно пить боржоми, если влез в постель кузины. Выход есть.
— Нетребка закончил мебель для Елены Павловны. Тебе, наверное, интересно глянуть?
— Вот еще!
— Я бы рекомендовал. Ты женщина, и немедленно захочешь мебель себе. Например, кровать — широкую и удобную. Тебе ведь надоело спать на узкой, не правда ли? Нетребка будет рад сделать — деньги он любит.
— Павлик! (Чмок!) Ты у меня! (Чмок!) Самый умный! (Чмок! Чмок!)
Был бы умный, спал один…
Тащим койку на место. Ольга смешно пыхтит — койка тяжелая. Ничего не поделаешь — в одиночку не отнести. Койка занимает законное место, Ольга ныряет под одеяло. Вот те раз: я собрался дремать в одиночестве. Ольга смотрит ждущим взглядом. Пристраиваюсь сбоку. Она накрывает меня одеялом, зевает.
— Поспим немножко, хорошо? Когда еще они придут! Мы теперь вместе спать будем. Всегда!
Моего мнения на этот счет, понятное дело, не спрашивают. Было у меня предчувствие, было…
17
Завершился год семнадцатый. Чему надлежало произойти, произошло. Отрекся от престола Николай. Армия в лице командующих поддержала отречение, кое-кто умолял царя это сделать. Бывают в истории моменты, когда безумие овладевает головами: люди с восторгом пилят сук, на котором сидят. Каким бы ни был царь, он оставался единственной скрепой, державшей государство. Убрали скрепу, и все поползло…
Генералы прогнулись перед Временным правительством — и совершенно зря: их стали снимать с должностей. Подозрительных командующих сменяли р-революционные. Но даже их либералы боялись. Пара дивизий, снятых с фронта, — в Петрограде монархия. Или, скажем, военное правительство. Временных выводят из Зимнего, вешают на фонарях… Надо было уничтожить армию, либералы этим занялись. Петроградский Совет ввел солдатские комитеты. Приказ распространили в войсках, армия заволновалась, офицеров начали убивать. Революционеры продолжили. Декларация прав солдата отменила дисциплину. Генералы умоляли Декларацию не принимать; однако Керенский — этот Горбачев семнадцатого года, документ подписал. Если Приказ подсек опоры, то Декларация их снесла. Армия как боевой организм смертельно заболела. Полки не подчинялись командирам, солдаты шли к немцам брататься, верные долгу части стреляли в изменников. На фронте и в стране наступил хаос. Керенский спохватился: союзники требовали воевать, но было поздно. Июльское наступление провалилось. У русской армии было все: мощная артиллерия, современное оружие, в достатке снарядов и патронов, но не было желания сражаться. Полки митинговали и не шли в атаку, а те, что пошли, сгорели в боях.
Отряд пережил год спокойно. Ушел командовать дивизионом Егоров, с ним уехала авиатрисса. Начальником отряда назначили Рапоту. Солдатский комитет возглавил Синельников, это помогло нам избежать эксцессов. Солдаты нас не задирали, мы держались вежливо. Нас перестали звать «благородиями» и отдавать честь; это было не страшно. Денщиков переименовали в вестовых, за работу мы им платили. Вот и все перемены. Мы летали, сражались, но больше по инерции, чем из чувства долга.
К ноябрю армия развалилась. Солдаты потянулись домой, в том числе и наши. Нетребка дезертировал одним из первых, на прощанье он попытался нас обокрасть. Я застал его с мешком на плечах и без лишних слов достал «Браунинг». Нетребка вытряхнул мешок на койку; я узрел среди вещей Ольгины панталончики и долго смеялся. Расстались мы по-хорошему. Я подарил вестовому сто рублей, он всхлипнул и назвал меня «благородием». Мы даже обнялись на прощание. Вслед солдатам двинулись летчики. В девятьсот шестнадцатом отряд пополнили, главным образом, офицерами. Кто-то из них подался на Дон, другие — бог знает куда. В отряде остались я и Рапота. В ноябре подписали перемирие, нам приказали вывозить имущество. Это было не просто, но мы справились. Сгрузили аппараты на Ходынском поле, получили расписку и пошли по домам.
С Ольгой мы обвенчались. Я не хотел жить «цивилизованно», она приняла мое предложение. Как мне показалось, с радостью. Офицеру для женитьбы нужно разрешение; я его испросил. Свадьбы не было: война… Обвенчались и Рапота с Татьяной. Став начальником, Сергей выписал невесту и зачислил денщиком. Денщик и начальник поженились…
В марте пришла телеграмма. Отец был краток: «Сколько у нас времени? Ты с нами?» Я отозвался короче: «Постарайтесь до октября, я остаюсь». Ответ прибыл назавтра: «Храни тебя Господь!» Посыльный отца привез мне пакет: маленький, но тяжелый. Три тысячи рублей золотыми монетами — отец сдержал слово. У меня оставались и бумажные деньги; на первое время должно хватить.
Москва встретила нас хмуро. Темный, заваленный снегом город мало походил на Москву шестнадцатого. Холодный прием ожидался у Ольгиной тетки. Москвичи ели картофельные очистки, а тут лишние рты… Ольга уверяла, что тетка у нее радушная, я позволил усомниться. Мы не поехали к тетке сходу. Извозчик попался смышленый: банкнота с портретом царя Александра немало тому способствовала. В квартиру тетки я ввалился с мешком. Пока Настасья Филипповна обнимала племянницу, я выложил на стол кульки с чаем, сахаром, буханку хлеба, шмат сала, в завершение вытащил тушку гуся. Он обошелся мне в «катеньку», но он того стоил. Гусь разлегся на полстола, свесив длинную шею. Это зрелище заставило родню умолкнуть. Настасья Филипповна и мальчики-подростки, ее сыновья, не отрываясь, смотрели на птицу.
— Его лучше варить или жарить? — спросил я, тронув мощный клюв.
— Кто же варит гуся? — возмутилась хозяйка. — Его жарят. Еще лучше — запечь!
— Дров нет! — пискнул один из мальчиков.
Это было правдой. В квартире царил холод, родственники были в пальто.
Я вышел и вернулся с вязанкой дров — извозчик посоветовал купить. Я же говорил: попался смышленый…
— Костя! — сказала тетка голосом маршала. — Тащи самовар! Миша! Руби лучину! Сначала для самовара, потом для печи. Не видишь, гости озябли?..
Гуся в тот вечер мы не попробовали. Настасья Филипповна захотела начинить его яблоками, в доме их не было. Жаркое отложили, и без него еды хватало. Мы поужинали и легли спать. После теплушки кровать показалась раем, мы с Ольгой уснули мгновенно.
Утром я отыскал смышленого извозчика. Мы с вернулись, груженные мешками и пакетами. Следом ехали сани с дровами. Мешки перетаскали в квартиру, дрова сбросили во дворе. Мальчики пилили замершие стволы, я колол, Ольга носила поленья в сарай. С дровами стоило спешить — в холодной Москве их воровали. Настасья Филипповна начинила гуся яблоками (мне удалось их купить), к ужину жаркое поспело. Устал я неимоверно, и, пожевав мясца, отправился спать. Ольга осталась с родней.
Она разбудила меня за полночь. Я спал, обняв подушку, что при наличии жены, смотрелось вызывающе. Ольга восстановила статус-кво и завозилась, устраиваясь удобнее. От нее вкусно пахло яблоками. Спать супруга не собиралась.
— Тетка считает: мне повезло с тобой, — сказала она, запуская руки мне под рубаху.
— Щекотно! — пожаловался я. Ольга не обратила внимания.
— Еще сказала: будь она помоложе, непременно тебя бы отбила!
— Она и сейчас хоть куда! — заметил я, недовольный происходящим.
В следующий миг я охнул: Ольга щипалась не хуже гуся.
— Больно? — спросила она заботливо.
Я подтвердил.
— А не болтай глупостей! Ты тетки моей не знаешь! Покойный дядя ей перечить боялся!
В тот миг я был не лучше покойного: Ольга распоряжалась моим телом, как хотела.
— Может, поспим? — предложил я робко.
— Вчера спали! — отрезала она. — Я законная супруга, у меня есть права!
— А у меня? — спросил я.
— У тебя — обязанности! Будь добр исполнять!
Я вздохнул и послушался.
* * *
Ольга лечит детей.
Это вышло случайно. На фронте я показал Ольге «тростник», она освоила. «В отряде «тростник» не применяли — нужды не было. В Москве пришлось. Заболел Костя — младший сын Настасьи Филипповны. Он вспотел, пиля дрова, и скинул пальто. В тот день было морозно…
Настасья Филипповна, измерив температуру, заволновалась. Костя был совсем плох, требовался врач. Мне продиктовали адрес. Я собрался идти, но Ольга остановила.
— Неси воду! — сказала твердо.
Я послушался — попробовать стоило. Врача бы я нашел, а вот лекарства… Тетку и старшего брата попросили выйти. Настасья Филипповна не возражала. С нашим появлением жизнь ее изменилась в лучшую сторону, тетка считала, что нам все по силам.
— Поможешь мне! — попросила Ольга.
Помогать не пришлось — у нее получилось. Скоро Костя спал, а назавтра попросился гулять. Тетка рассказала об этом подругам, те — своим. Сарафанное радио сработало быстро: через неделю в прихожей толпился люд. Орущие младенцы в одеялах, вялые от жара подростки, встревоженные мамы, хмурые отцы. В ту зиму в Москве болели часто — скудное питание, холод в домах…
Одну из комнат отвели под кабинет, организацией приема занялась тетка. Она же установила таксу: высокую, но справедливую. Мы попросили не брать плату с бедных, тетка заверила, что не посмеет. У меня на этот счет были сомнения, однако возражать я не стал. Люди в прихожей были неплохо одеты: Москва еще не растратила богатств. Мне поручили следить за порядком и сопровождать Ольгу на визиты.
Весной больные растаяли, мы с Ольгой бездельничаем. Времени много, убиваем его вместе. Я исполняю прихоти жены — все, что ей взбредет в голову. Добываю сладости, купаю ее в ванне, делаю «язык» и укладываю спать, разве что колыбельных не пою. Ольга счастлива. Она так счастлива, что мне стыдно. Ибо причина ее счастья — во мне. Ольга уверена: я полюбил ее с первого взгляда. Герои часто робки с женщинами, поэтому я долго молчал. У меня доброе сердце, я принял ее горе, как свое, и не смел тревожить ее признанием. Ей пришлось меня поощрять, но я не верил своему счастью. Оставалось прибегнуть к последнему средству…
Ольга развивает эту тему: ей она нравится. Она вспоминает новые подробности. В зачет идет все: спасение чести и жизни любимой, трогательная забота о ней же, исполнение мною любовных песен и моя ревность к Фархаду. В любой теории есть изъян, Ольгина не исключение. История с Липой в нее не вписывается. Ольга о Липе знает. Не понятно от кого, но знает. Ольга поступает как современный историк: если факт противоречит концепции, то неправилен факт, а не концепция.
Я не спорю, я не хочу ее огорчать. Мне хорошо с Ольгой. Мне хочется верить: одиссея солдатика кончилась. Я здесь более трех лет, это непривычно много. Я гоню от себя эти мысли. Как только поддамся, меня убьют. Причем, подгадают момент, чтоб побольнее. Так случилось с Айей. Я зверь стреляный, меня не проведешь. Пусть Ольга мечтает: ей останутся воспоминания. Я же… Приговоренные к смерти не бывают счастливы. Отсрочка затянулась, но приговор исполнят.
Мне нравится мирная жизнь, второй раз за мои странствия нравится. Никого не надо убивать, никто не стремится убить меня. Это продлится недолго. Москвичи ворчат и бегут из столицы: им скучно и голодно. Жизнь при царе их избаловала. Москва 1918-го не хуже России начала 90-х. Продуктов мало из-за плохого подвоза, но можно съездить в деревню и купить самому. Можно уехать насовсем, никто не мешает. Москвичи уезжают. В Москве много офицеров — армию распустили. Офицеры сидят без работы и денег. Прежней армии нет, новая под вопросом, спрос на военных — на юге у Деникина. Офицеры линяют к нему. Поезда хоть и плохо, но ходят, кордоны отсутствуют, птички долетают. Диктатуры не ощущается. Большевики делят власть с эсерами, им пока не до буржуев. Белогвардейцы на юге шебуршат, но вяло: их горстка против красных армий. Чехословацкий корпус пока в пути… В Москве спокойно, а при наличии денег — и сытно.
От безделья болтаюсь по рынку. К Ольге пришла белошвейка, это надолго. Меня, чтоб не мешал, отправили гулять. На рынке меня знают. Зимой нам платили не только деньгами (не у всех они были), приносили одежду и ценности, даже картины. Я переправлял это на рынок. Я знаю, кому и что здесь можно сбыть. Вот у столика Хасана торгуется женщина, она стоит спиной ко мне. Принесла колечко, брошь или серьги — Хасан скупает золото. Торгуется зря: Хасан в этом деле волк. Ей бы к Ахмеду… Поздно: Хасан довольно улыбается. Женщина прячет деньги в сумочку. Так, а это кто?
Юркий пацан подскакивает, рвет сумочку из рук женщины. Везет мне на гопоту! Воришка с добычей устремляется в подворотню. Ну да, а мы здесь зрители! Подножка, пацан бороздит носом пыль. Сумочку он роняет. Беру паршивца за воротник, вздергиваю на ноги. На грязном лице испуг.
— Дяденька, я больше не буду!
Так мы и поверили! Отвести сучонка в милицию? Кто их знает, пролетариев? Еще шлепнут сгоряча.
— Еще раз поймаю, пристрелю! Понял?!
Он усиленно кивает, похоже, проняло. Разворачиваю, пинок под зад… Воришка улетает. Поднимаю сумочку, надо вернуть хозяйке. Вот и она — бежала следом. Ты бы, конечно, догнала…
Этого не может быть! Я думал: ее нет в Москве! Ей незачем здесь оставаться!..
— Павел?
Машинально протягиваю сумочку. Она словно не видит, она идет ко мне валкой походкой. Лицо худое, бледное, наверняка голодает. Сейчас упадет…
— Павел!
Подхватываю.
— Господи, это ты!
Щека моя влажная от ее слез. Первым делом, конечно, накормить…
Липа ест. Она голодна и ест жадно. Половой унес миску из-под щей и подал вторую — с кашей. Липа берет ложку. Первый голод утолен, теперь она не спешит.
— Ты опять только смотришь?
— Я завтракал.
— Здесь, наверное, дорого?
— У меня есть деньги. Выпить хочешь?
Она кивает. Половой приносит две чарки — ей мне. Вина в трактире не держат, не та публика. В чарках — водка. Большевики продлили сухой закон, но его не соблюдают. Чокаемся, пьем, Липа снова ест. Она сильно изменилась. Исхудала, в уголках глаз — морщинки, а ведь ей только двадцать семь. Горе старит. Половой несет чайник и стаканы. Разливаю, пьем. Липа раскраснелась. Она сыта и хочет говорить.
— Ты давно в Москве?
— С декабря.
— Где живешь?
— У родных жены.
Она смотрит на мою руку. Обручальное кольцо на безымянном пальце, я его не прятал. Только разглядела?
— Давно женат?
— Больше года.
— Кто она?
— Дочь покойного Розенфельда.
Липа кивает, как будто ждала этого.
— А твой муж?
— Умер в ноябре. Сердечный приступ…
Теперь все ясно. Старый муж не жалел денег для юной жены. По смерти выяснилось: наследства нет. Это в лучшем случае, могли остаться долги. Липа растерялась, она привыкла, что ее опекают. Как жить дальше — непонятно, что делать — неизвестно. Будь у нее деньги, сообразила, но денег не оказалось. С квартиры пришлось съехать, прислуга разбежалась, друзья исчезли. Вчера целовали ручку, сегодня не узнают. Руки, кстати, у нее красные — стирает сама. Платье простое, лучшие, наверняка, продала. Пришел черед золотых украшений. Когда они кончатся, наступит голод.
— Ты не работаешь?
Она качает головой.
— Пробовала искать?
— Мест нет. В больницу сиделкой и то не взяли.
Сиделкой надо уметь. Прав был Розенфельд: одинокой женщине без ремесла не выжить. При царе девиц готовили в жены. Но жена — это не профессия, по крайней мере, в трудные времена. Скоро они выйдут на панель: в России и за границей. Вчерашние гимназистки, дворянки, даже княжны…
— Ты пришла за провизией?
Кивает.
— Идем!
Покупаю бездумно, спохватываюсь, когда доходит — не поднять. Картошка, капуста, крупа, мука, постное масло… Гружу мешки в пролетку, едем. Липа снимает комнату в старом доме. Комнатка маленькая, темная, обстановка спартанская. Помогаю рассовать продукты по углам и буфетам. На месяц-другой хватит.
— Вот еще! Держи!
Ольга знает о моем наследстве, я ей специально показал — вдове деньги пригодятся… Но заначка у нас есть. Тяжелые монеты с профилем царя, сто рублей за одну по текущему курсу.
— Павел!
Моя щека опять мокрая. Глажу ее по спине. Мне нужно уходить, обязательно нужно. Прошлое отболело, его не надо будить. Это ни к чему: ни ей, ни мне.
— Я похлопочу о месте для тебя. Вдруг получится.
— Спаси тебя господь, Павел! — она целует мне руку, я не успел ее убрать.
Поворачиваюсь, ухожу. На улице ловлю извозчика. Железо нужно ковать, пока горячо. Липе позарез нужна работа, хорошая, с продуктовым пайком. Без меня ей не выжить, а мой срок на исходе. В бывшем ресторане «Яр» на Петроградском шоссе разместилось Главное управление Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного Флота. Здесь служит Рапота. Сергей не по годам дальновиден: в большевики записался еще на фронте. Партийных летчиков мало, Сергея пригласили на службу. В управлении, по его словам, формируют воздушный флот. Ни хрена они не формируют, все власть делят…
В бывшем ресторане вкусно пахнет — кухня продолжает работать. Москва завидует красным летчикам — их хорошо кормят. Не так, конечно, как в прежние времена, но сытно. Сергей приходит, вызванный посыльным. Беру бока за рога.
— Тебе нужен работник? Грамотный, с дипломом гимназии? Протоколы писать, бумаги подшивать? Есть хорошая женщина.
— Ты об Ольге? — Сергей удивлен.
— Ее зовут Олимпиада.
— Та самая? Ты с ней снова?
Качаю головой.
— Тогда почему?
— Она овдовела, голодает.
— Многие голодают, — он морщится. — Жалеть каждую буржуйку!
Быстро он покраснел! Влияние среды…
— Ты тоже не пролетарий! Штабс-капитан, потомственный дворянин!
— Ладно тебе! — он оглядывается, берет меня за рукав и отводит в сторону. — Не кипятись! У нас военное учреждение, берем только проверенных. Нужна рекомендация члена партии.
— Вот и рекомендуй! Ты же большевик!
— Я совсем ее не знаю!
— Того, что знаешь, достаточно. Деньги собирала для раненых, таких как мы с тобой. Не эксплуататор.
— Прислуга, положим, у нее была.
— А у Ленина нет? У Троцкого? Товарищи готовят и стирают себе сами? Какая из Липы шпионка?
— Павел, не могу! — он качает головой. — Ты не понимаешь…
По лицу видно — не пробить.
— Да пошел ты!
Разворачиваюсь, ухожу. Был у меня друг и сплыл. Политика — мерзкая вещь, делает врагами даже родных. На душе погано: Липа обречена, зимы ей не пережить. Я знаю: умрет не только она, тысячи, миллионы людей сгорят в Гражданской войне. Погибнут на фронтах, умрут от тифа и холеры, просто от холода и голода. Но я не знаю эти миллионы, я не обнимал и не целовал их ночами…
Домой возвращаюсь затемно. Я зашел в кабак и нарезался. Я давно не пью — с тех пор как женился, но сегодня потянуло. Ольга будет ругаться, ну и пусть. Мне надоело быть пушистым и ласковым. Я бродяга, заплутавший в чужом мире, я тут никому не нужен. Одну-единственную женщину и ту не спас…
Удивительно, но Ольга не ругается. Встретила, обняла, прижалась щекою. Берет меня за руку и ведет в спальню. На кровати лежат обновки: ночная рубаха, панталончики — хотела похвастаться. Однако не хвастает. Села на стул, смотрит. Устраиваюсь напротив.
— Что случилось, Павел?
«Ничего!» — хочу буркнуть в ответ, но язык не повернулся. Если я нагрублю… Мне нельзя так с Ольгой. Я приручил ее, как лисенка, она мне поверила. Это хрупкий мост — доверие, но по нему сладко ходить. Сломать отношения легко, восстановить — трудно, если вообще возможно. Ольга не виновата в моих бедах, всему причиной только я.
Я говорю, я рассказываю — пусть знает! Некогда я любил женщину, но это было давно. С тех пор многое изменилось. У меня есть жена, у нее умер муж. Неважно, по какой причине мы расстались, важно помнить, что мы любили друг друга. Помнить и помочь…
Ольга смотрит с укоризной. Какая жена потерпит такое? Хлопотал о любовнице, пусть даже бывшей! Спать мне сегодня в прихожей! Заслужил…
— Зачем ты поехал к Сергею! — возмущается Ольга. — У тебя жены нет? Думаешь, раз женщина, так ничего не могу? Сергея не сегодня-завтра со службы попросят — не прижился он в управлении, Татьяна рассказывала. Этой зимой мы лечили мальчика, он сын большого советского начальника. Машину за нами присылали, ты совсем забыл! Нам еще сказали, если понадобится, обращаться без стеснения. Этим людям устроить на службу — только слово сказать!
Какой я дурак! Но Ольга! Умница! Неужели она…
— Ты похлопочешь за Липу?!
— Если тебе это важно…
— Оленька! — протягиваю руки. Она колеблется, но порхает мне колени. Обнимаю свое сокровище.
— Я люблю тебя, маленькая!
— Я не маленькая! — капризничает она. — Я давно взрослая! Мне двадцать три!
Целую ее в шейку, сразу под ушком. В губы не хочу — от меня пахнет водкой.
— Подлиза! — она гладит мою щеку. — Напился! Обещал ведь! Побить бы тебя!
— Не надо, маленькая! Это не повторится!
— Так я и поверила! Обновки смотреть будешь?
Киваю. Она вскакивает, тащит платье через голову. Помогаю расстегнуть крючки. Вместе с платьем слетает и лифчик. Ах, какой я неловкий! Смотрю, не отрываясь, на Ольгу — она такая красивая! Ольга делает шаг, прижимает мою голову к обнаженной груди.
С мужчинами это нельзя, у них пробуждается младенческий инстинкт. Ольга тихонечко стонет. Беру ее на руки, несу.
— Если хочешь, зови меня маленькой! — шепчет она.
18
В Свияжске соорудили памятник Иуде. Гипсовый Искариот, подняв кулаки, грозит небу. Лицом Иуда похож на Троцкого: скульптор ваял по приказу наркома, модель была перед глазами. Наркому памятник нравится: он считает Иуду первым революционером. Троцкому видней, на кого ему походить. Я же, проходя мимо, отворачиваюсь — чтоб не плюнуть.
Свияжск — город монастырей, святое место. В представлении Троцкого святость — преступление. С «преступниками» борются. Убит настоятель Богородице-Успенского монастыря, епископ Амвросий. Замучен священник Долматов, ветхий старец, обвиненный в вооруженном сопротивлении красным. Монашек Предтеченского монастыря расстреляли без всяких обвинений. А в назидание тем, кто уцелел, поставлен Иуда. На центральной площади — напротив храмов и монастырей.
Бои под Казанью идут с июля, мы здесь с августа. Меня мобилизовали, Ольга — доброволец. У красных хорошие аппараты: «Ньпоры», «Сопвичи», «Спады», «Фарманы» — все новые или почти новые. У белых аппаратов больше, но они старые. Белые захватили их в Казани. Совдепы удирали без памяти: брошен авиапарк, две авиашколы. Летчики перешли на сторону белых.
Мы с Ольгой живем в Свияжске. До аэродрома две версты, ходим пешком. Железнодорожная станция рядом. На запасном пути — поезд Троцкого. Нарком хлебает кашу, которую сам же заварил. В мае Троцкий велел разоружить чехословаков. О чем он думал тогда, неизвестно, наверное, об Иуде. Сорок тысяч штыков — это не тетки-ударницы у Зимнего дворца, чехословаки доказали это мгновенно. Захвачен Транссиб, Сибирь, Урал, Дальний Восток. К чехословакам примкнули недовольные — совдепы нажили много врагов. Пала Самара, где мгновенно образовался Комуч, создана Поволжская народная армия. Командует ею энергичный и решительный полковник Каппель. Армия заняла Казань, переправилась через Волгу, захватила Верхний и Нижний Услоны. Это плацдарм в сердце красной России.
Бомбим Казань. Приказ Троцкого: «буржуев» не жалеть! Бомбы летят в дома, церкви и просто на улицы. Стоит аппаратам появиться над Казанью, как жизнь в городе замирает. Брошенные пролетки, застывшие трамваи, обезумевшие кони мечутся по улицам… Вслед бомбам высыпаем листовки, здесь их называют «летучками». Пусть «буржуи» знают, за что кара! Казань разрушена и горит. Чувствую себя фашистом. Я русский и убиваю русских.
Вдобавок ко всему нас не кормят. Приварочное довольствие летчикам не положено. У нас жалованье: триста рублей. Это очень мало — продукты дороги. Иуда, говорят, был на редкость жадным. Сам Троцкий не скромничает: вкусно ест, сладко спит. Из его вагона льется музыка, слышен женский смех. Иуда выбился в знать и празднует. Деньги у меня есть, другим летчикам худо. Мы с Ольгой их подкармливаем. Военлеты стесняются, но голод не тетка. Щи, каша, картошка — не бог весть какая еда, но гости рады.
Военлеты перелетают к белым — там сытнее. Провиантское, приварочное, чайное, табачное довольствие… От нас сбежали двое. Из Москвы по этому случаю прибыл комиссар, в прошлом летчик. Он из анархистов, по поводу и без повода хватается за револьвер. Военлеты его боятся. Маразм…
Налет на поезд Троцкого. Летчики у белых никудышные: бомбы легли в отдалении. Я бы не промахнулся. Переполох вселенский: аппарат давно улетел, а на станции все стреляют. Красные витязи, буревестники революции…
Настроение у меня — хуже некуда. Всякое видел, но такое! Лавочник во главе армии, комиссар, шлепнутый пыльным мешком, запуганные летчики… Вчерашние «благородия», элита царской армии, открывавшая коньяк кортиком… Вечерами валюсь в койку и лежу, глядя в потолок. Ольга ложится рядом, молчит и дышит в ухо. Радость моя маленькая, лучик в темном царстве…
Человек Троцкого положил глаз на Ольгу. Приходит в фельдшерскую, сидит, треплется. Зовут его Иогансон. Ухажера распирает от собственной значимости: он со знаменитого парохода «Христиания». Пароход прибыл в Россию в марте семнадцатого, привез из Америки оружие, деньги, Троцкого и кагал иуд. В Америке Иогансон был захудалым портным, здесь он большой человек. Шариков… Глаза на выкате, зубы торчат, штаны болтаются на тощем заду. Евреи вообще-то люди красивые, но на сыне Иоганна природа отдохнула. Ольгу от него тошнит. Улучив момент, отвожу гостя в сторонку.
— У вас плохо со здоровьем?
— Не жалуюсь! — он удивлен.
— Зачем ходите к фельдшеру?
— Мне у ней нравится.
— А ей с вами?
— Она не говорила.
— Я скажу: Ольга терпеть вас не может! А я — так вдвойне!
Хоть бы бровью повел! Такому ссы в глаза…
— Как муж фельдшера настоятельно рекомендую визиты прекратить!
— Несознательный ты человек, Красовский! — говорит Иогансон. — Сразу видно: из офицеров. Собственник! Революция сокрушила пережитки прошлого. Это при царе муж распоряжался женой, революция освободила женщин. Они вольны выбрать любого мужчину.
— Неужели?
— Именно так!
— Есть образец для подражания? Жена Троцкого, к примеру? Она в общем пользовании? Могу навестить?
— Ну, ты! — он лапает кобуру.
Напугал! «Маузер» не швейная машинка, с ним надо уметь. Беру гниду за запястье, крепко сжимаю и слегка выкручиваю. Больно? Это я еще ласково…
— Пусти!
Пускаю. Потирает руку, смотрит исподлобья.
— Не наш ты человек, Красовский! Мне говорили… Сын богатого промышленника, буржуйская закваска! — он брызжет слюной.
— Твой Троцкий — сын пролетария? Как у него с закваской?
Умолкает. Папаша наркома был землевладельцем.
— Слушай меня, иуда! Не знаю, зачем ты здесь, но если за чужой женой, то ошибся адресом. Понятно? Увижу с Ольгой, испорчу здоровье. Всерьез и надолго!
— Это мы посмотрим! — бормочет он, но уходит. Дело дрянь. Эта публика на редкость злопамятна.
Перелетели к белым еще двое. Летчики отказались брать в налет бомбы. Прибежал комиссар с наганом. Под дулом револьвера бомбы загрузили. Летчики отвезли их белым — вместе с аппаратом. Комиссар обещает взять заложниками семьи беглецов. Слава богу, Настасья Филипповна в Лондоне. Я дал ей денег и велел уезжать, она послушалась. Отец мне обязан и устроит родню. Если нет, все равно не пропадут. Миша, считай, взрослый, пойдет работать, там и Костя подрастет. За границей спрос на работников — мужчины на войне. Эмигранты из России набегут позже. Настасья Филипповна бережливая…
Мой заложник — это Ольга. Бродяге нельзя быть женатому. Я не хотел брать Ольгу в армию, но она слушать не стала. Насупилась и сказала: «Еду!» Я связан по рукам и ногам. Один давно бы сбежал. Угнал бы аппарат, на прощанье разбомбил бы поезд Троцкого, или хотя бы обстрелял из пулемета. С великим удовольствием! У белых тоже не мед, дело их пропащее, но там, по крайней мере, иуд нету. На Гражданской мне не уцелеть, я и без того зажился, но умирать приятней среди приличных людей. Если я сбегу, Ольгу арестуют. Страшно думать о том, что с ней будет. Благородство не присуще иудам, им все равно, кого расстреливать — мужчину, женщину или ребенка… Над женщиной к тому же поглумятся. Тот же Иогансон… От этой мысли меня трясет.
Летим бомбить Нижний Услон. Прямое попадание в дом; крыша вспухает, деревянные обломки летят вверх. Второй аппарат разбомбил пристань. Достается и Верхнему Услону. Мы разозлили белых. Народная армия бьет с плацдарма. Наступление неожиданное и стремительное. Свияжск захвачен, цепи движутся к аэродрому. Силы у нас ничтожные: охрана поезда и летного поля. Сомнут мгновенно. В десяти верстах — латышский полк, но там не знают о наступлении.
Командир группы посылает вестника. Аппарат разбегается и взлетает. Пока долетит, пока помощь поспеет… Командир пытается организовать оборону. Мартышкин труд. Нас захватят и переколют штыками. Безжалостно! Мы у белых в печенках, разбираться с происхождением не станут. Что будет с Ольгой? Солдат он везде солдат, женщина — желанная добыча. Офицер отвернется, чехословаки его и слушать не станут. Утолят мужской голод, после чего приколют, чтоб не болтала…
Бегу к аппарату.
— Куда? — кричит комиссар.
К маме твоей! Механик заводит мотор, разбегаюсь. Белые цепи совсем близко. «Сопвич» чуть приподнялся, а они уже рядом. Нажимаю на спуск, «Виккерс» стучит длинной очередью. Попасть трудно, практически невозможно, но это не важно. К воздушной штурмовке невозможно привыкнуть: ни в начале века, ни в его конце. Несется дура, плюясь огнем — это очень страшно, особенно впервые. Цепи смешались, солдаты бегут. Разворачиваюсь, даю очередь вслед. Это для острастки. Подоспели латыши, белых выбили из Свияжска. Гипсового Иуду они разбить не успели. Жаль…
Меня награждают золотым портсигаром. У большевиков их много — награбили. Троцкий лично жмет руку. Ладонь у него маленькая и вялая. Полководец, мать его! Иуда Искариот…
Дни Казани сочтены. Красные при поддержке Волжской флотилии пошли в наступление. Миноносцы, переброшенные по водной системе, громят белых. Освобождены Верхний и Нижний Услоны, плацдарм ликвидирован. Белые вооружили пароходы, огрызаются. Летаем их бомбить. По возвращению вижу Ольгу, она бежит к аппарату. На ней лица нет, что-то случилось. Отвожу ее в сторону.
— Павел! — она кусает губы. — Я убила Иогансона.
— Что?!!
— Он пришел и стал приставать. Я оттолкнула, он схватил меня — и целоваться! Одежду рвал. У меня «Браунинг» всегда с собой…
Оглядываюсь. На аэродроме обычная суета. Механики заправляют аппараты, мой летнаб ушел отдохнуть. Никто не кричит, не бежит к нам с оружием.
— Тебя кто-нибудь видел?
— Мы были одни. Он упал, я выскочила — и сюда.
Времени у нас — совсем ничего. Убитого скоро найдут, если уже не нашли. Фельдшерская на станции, людей там много, от станции до аэродрома рукой подать.
Смотрю на аппарат. Механик заправляет «Сопвич», скоро закончит. На мне летная куртка, да и Ольга в коже. Сентябрь, прохладно, умница, что надела. Деньги я ношу при себе, в доме оставлять их опасно. Не пропадем.
Беру Ольгу за руку, веду к «Сопвичу». Помогаю забраться в кабину. Летнаб оставил шлем, очень кстати. Меняю ей фуражку на шлем. Механик улыбается: военлет тешит супругу. Внезапно он настораживается, смотрит мне за спину. Оглядываюсь: комиссар с красноармейцами и еще кто-то — всего человек десять, бегут к «Сопвичу».
— Заправляй!
Механик смотрит на пистолет.
— Заправляй, сказал!
Он испуганно кивает. Передаю «Браунинг» Ольге.
— Держи его под прицелом!
Снимаю «Льюис» со шкворня, дергаю рукоятку перезаряжания. Прыгаю на землю. До преследователей — шагов двадцать.
— Лежать!
«Льюис» бьется в руках, плюясь гильзами. Очередь над головами — для устрашения. Я не хочу убивать этих людей. Если, конечно, меня к тому не вынудят.
Падают! Комиссар остается стоять. Тянется к кобуре.
— Не двигаться!
Пули поднимают в землю у его ботинок. Комиссар отдергивает руку.
— Ты арестован! — кричит мне. Однако в голосе неуверенность. Умирать никому не хочется, даже анархистам.
— Первого, кто сделает шаг, расстреляю! Ясно!
Оглядываюсь: механик закончил заправку. Стоит у крыла, хлопая глазами. Замечательно, пусть стоит. Теперь уберем этих.
— Брось дурить, Красовский! — кричит комиссар. — Все равно не улетишь!
— Почему?
— Догоним!
— Ты воевал, комиссар? Сколько самолетов сбил?
Молчит.
— Сообщаю: я воевал и сбил четверых. Любой, кто взлетит, станет пятым. Или шестым. Как я стреляю, знаете.
Я блефую. «Ньюпор» с умелым летчиком догонит «Сопвич» на раз-два. Синхронный пулемет превратит нас в решето. Ольга — стрелок никудышный, а «Сопвич» — неповоротлив. «Ньюпор» у нас есть, летчики — тоже. Надо, чтоб пропала охота догонять.
— К тебе, Красовский, нет претензий! — не унимается комиссар. — Погорячились — и ладно. Забудем! Арестуем только жену.
— За что?
— Стреляла в Иогансона.
— Почему, знаешь?
— Расскажет в трибунале.
— Сам расскажу. Слушайте все! — набираю воздуха в грудь. — Иуда по имени Иогансон повадился ходить к моей жене. Я его предупреждал, я говорил ему это не делать. И что же? Он пытался изнасиловать Ольгу! Выбрал время, когда я в полете. А теперь подумайте! Он знал, что у Ольги есть муж? Отлично знал! Он понимал, что я не оставлю этого? Понимал! Почему же решился? Потому что чувствовал за собой покровителя. Кто этот покровитель? Иуда по фамилии Троцкий! Свой своего не выдаст. Это и есть твоя революция, комиссар? Дать свободу иудам, разрешить им делать, что хотят? Насиловать наших жен, к примеру? Ради этого мы бомбили Казань, ради этого убивали людей? Запомни, комиссар, и вы все запомните! Сейчас я сяду в аппарат и улечу. Если хоть одна сука шевельнется… Если кто, не дай бог, вздумает стрелять… Я из вас решето сделаю! Я вас шасси проутюжу и винтом изрублю! А потом выйду и добью каждого! Лично! Ясно?
Молчат, впечатлило. Бегу к аппарату, сую пулемет в шкворень. Оглядываюсь — не шевелятся. Забираю пистолет у Ольги, прыгаю к себе в кабину.
— Заводи!
Механик проворачивает пропеллер и отскакивает в сторону. Мотор остыть не успел, работает бодро. Оглядываюсь — все еще лежат. Даю газ и рулю по полю. На глаза попадается «Ньюпор». Чуть доворачиваю аппарат и жму на спуск пулемета. Пули бьют по фюзеляжу «Ньюпора», попадают в мотор. Теперь не догонят… Газ, разбег, ручка на себя — взлетели! Бросаю взгляд на поле. Люди застыли точками, никто не стреляет нам вслед. Ваше счастье! Жаль, что в кабине нет бомб. Поезд Троцкого я бы навестил…
19
Девятнадцатый год, а я все еще жив. Мы с Ольгой в Новочеркасске. Как пробирались на юг — разговор долгий и скучный. Деньги кончились, теперь мы — нищие. Служим за еду и мизерное жалованье, как тысячи офицеров Вооруженных сил Юга России. Хорошо, что в авиации. Зимой в Добровольческой армии на один аппарат приходилось четыре пилота, чтоб не сидеть без дела, мы взялись за винтовки. Рота, составленная авиаторами, хорошо ввалила красным на Маныче. Весной положение изменилось. Англичане прислали аппараты, снятые с Македонского фронта. Из Одессы прибыли «Фарманы» и «Анасали» — их вывезли из-под носа красных. Летчиков отозвали из пехоты. Я попросился в Новочеркасск, к Егорову. Леонтий Иванович командует отрядом, как некогда на германском фронте. Маловато для подполковника, но в Добровольческой армии это обычное дело — полковники командуют ротами, генералы — батальонами.
Встретили нас хорошо. Жена военлета, застрелившая комиссара, к тому же «жида» — лучшая репутация в Добровольческой армии. Летчики засвидетельствовали Ольге почтение, даже Турлак. Он в Новочеркасске и по-прежнему меня не жалует. Некогда из-за Ольги (Турлак пытался за ней ухаживать), теперь из-за службы у красных. Турлак считает, что честные офицеры, вроде него, еще в семнадцатом устремились к Корнилову. Трусы ждали, когда их мобилизуют. Вслух Турлак этого не говорит — дуэли в Добровольческой армии дело обычное, шепчет за спиной. Я не обращаю внимания — привык.
Летаем на разведку. Май, жара. Красные готовят наступление, но мы опередили. Корпуса Улагая и Покровского форсировали Маныч, красные дрогнули. На выручку брошены Буденный и Думенко, их кавалеристы на марше. Летим на штурмовку, аппараты заправлены бомбами и патронами. Степь покрыта красными конниками, сверху они кажутся муравьями. Только эти муравьи вооружены — и отменно. Их поток ползет и ползет, грозя поглотить наши войска. Заходим на боевой курс. Бомбы летят вниз, в муравьином потоке вспухают разрывы. Снижаемся почти до бреющего, работаем из пулеметов. Степь ровная, как стол. Обезумевшие кони мечутся, всадники пытаются найти укрытие, но его нет. Для красных кавалеристов наступает ад: сначала на земле, потом — на небе. Пулеметы косят людей и коней, по плотной массе промахнуться невозможно. Всадники падают на землю, кони топчут их копытами. Это не война, это уничтожение, но у нас нет жалости. В апреле, на Пасху, большевики бомбили Новочеркасск. Подгадали налет к крестному ходу. В толпе молящихся было мало военных: старики, женщины, дети… Бомбы упали точно — десятки убитых и раненых. Большевистские газеты захлебнулись восторгами: вот им, буржуям! Пусть знают! Мы были на похоронах. Восковые лобики убитых детей, теряющие сознание матери…
Израсходовав боеприпасы, летим на аэродром, пополняемся — и снова на штурмовку. Бомбим и стреляем, стреляем и бомбим… Конница красных рассеяна, отступает. Десять аппаратов остановили две дивизии. Другой отряд утюжит пехоту. Красные повсеместно бегут, Улагай с Покровским гонят их к северу.
Освобождена станица Вешенская, восставшая в марте. Троцкий проводил расказачивание. «Казаки — это своего рода зоологическая среда, — вещал нарком. — Старое казачество должно быть сожжено в пламени социальной революции… Пусть последние их остатки, словно евангельские свиньи, будут сброшены в Черное море!» Казаков, поверившим большевикам, ждало отрезвление — их стали расстреливать. Поклонник Иуды — редкостный идиот, история с чехословаками его не научила. Даже свинья, когда ее режут, сопротивляется. Сообразить, что казаки, эти профессиональные воины, не позволят над собой издеваться, смог бы и ребенок. Буревестник революции о таком не думал. Через двадцать лет ему пробьют голову. Интересно, там что-то найдут?
Наши конники потерялись в степи. Это маневренная война. Сегодня корпус здесь, завтра — и след простыл. Нас отряжают на поиски. В одном из вылетов замечаю на земле аппарат. На плоскостях красные звезды, у машины суетится пилот. Все ясно. У красных нет бензина, аппараты заправляют «казанской смесью». Это керосин, газолин, спирт и эфир в разных пропорциях. Смесь забивает карбюраторы, моторы глохнут. Летчик садится и прочищает. Решение приходит мгновенно: навестим большевичка!
«Ньюпор» садится и бежит к краснозвездному. Летчик увидел и заметался. Его пулемет над крылом смотрит вверх — стрелять бесполезно, аппарат надо поднять. У меня — синхронный «Виккерс», бьющий через винт, чуть что — разделаю в отбивную. Бежать большевику некуда — в степи не спрячешься. Красный понял и выходит навстречу. На нем кожаная куртка, очки на шлеме… Твою мать!
Глушу мотор и прыгаю в траву. Он смотрит недоверчиво.
— Павел?
Иду к Рапоте. Он колеблется: протянуть руку или нет? Не решился. Правильно: я бы не пожал. Он лезет в карман, настораживаюсь. «Браунинг» я на всякий случай взвел, он за поясом. Сергей достает коробку папирос. Живут же большевики!
— Угощайся! — он протягивает коробку.
Отчего нет? Трофей… Закуриваем. Он садится, я пристраиваюсь рядом.
— Бери! — он сует мне коробку. — У меня еще есть, у вас с куревом плохо.
Откуда знает?
— Механик от вас перелетел, рассказывал.
Было такое. Механик забрался в «Вуазен» и взлетел. Думали: балуется, механик мечтал стать летчиком. Погнались, стали прижимать к земле, а тут и линия фронта… Красные бросают листовки, завлекают щедрыми посулами. Летчики не ведутся, механик соблазнился. Один случай на всю армию.
— У нас теперь по-другому, Павел, не так, годом ранее. Хорошее снабжение, жалованье…
— А комиссары?
— В моей группе комиссаром Синельников.
Хм!
— Возвращайся, Павел!
Ну, Серега, ну орел! Кто кого в плен взял? Я ж не механик, чтоб купиться. Да меня сразу к стенке! Вместе с Ольгой. Кто нам комиссара простит?
— Ольга не убила Иогансона, только ранила. Причем, легко. Он сам очнулся и шум поднял. Если б вы не улетели, ничего бы и не было.
Так я и поверил!
— Твой случай, если хочешь знать, много шуму наделал. Товарищ Сталин возмущался, в Реввоенсовете вопрос ставил. Тридцать летчиков за год перелетели к белым! Разбирались почему, твой случай вспомнили. У военлета, который наркома спас, жену пытались изнасиловать! Кто будет воевать за такую власть? Троцкий ужом крутился, так ему надавали!
Революционный междусобойчик. Вожди борются за власть, едят друг дружку. Здесь каждое лыко в строку. Попался случай с пилотом, сгодится и пилот. Сталин Троцкого скушает — и поделом, но это будет не скоро.
— У нас мало хороших летчиков, Павел. Лучшие перелетели, в школах учат плохо. Люди бьются, гробят аппараты. Такие, как ты, на вес золота. Тебе сразу отряд дадут!
Догонят и еще дадут!
— Я за тебя поручусь.
Не факт.
— Ты из-за Липы? Не мог я ей помочь тогда, никак не мог! Меня бы слушать не стали! К тому же ты зря волновался. Не пропала твоя Липа! Замужем. Знаешь за кем?
Он называет фамилию. Я помню ее по учебнику. Этот деятель Сталина переживет. Липа — девочка умная, выбирать всегда умела.
— Вам с Ольгой опасаться нечего — Иогансона расстреляли.
Вот как! Попался нашим?
— Свои. Отправили вину искупать, он и отличился — загнал отряд под пулеметы. Рабочие, ополченцы — все погибли. Сталин был в ярости. Трибунал голосовал единогласно. Троцкий заступался, просил помиловать, но Сталин настоял.
Насчет расстрелять за товарищем Сталиным не заржавеет…
— Сталин — замечательный человек! Он сказал: «Когда таких, как Красовский, перетянем на свою сторону, контрреволюции конец!» Я ему рассказывал о тебе…
Пора заканчивать эту вербовку.
— Ты бомбил Новочеркасск в апреле?
Он удивлен, искренне.
— Я здесь третий день! Из Москвы прислали — из-за вашего прорыва.
Если так, то живи! Встаю. Он тоже вскакивает.
— Бывай! — подаю ему руку.
— Спасибо! — он горячо ее жмет.
— Квиты!
Иду к «Ньюпору». У меня был долг, я его вернул.
— Павел!
Поворачиваюсь.
— Ты все же подумай! Я не врал тебе.
— Я не вернусь, Сергей! Я не хочу бомбить города, убивать детей и женщин! Я офицер, а не палач! Скажи это Сталину, скажи Троцкому, скажи всем людоедам в Москве!
— Ваши не убивают? А как же белый террор? Вешать каждого десятого, если село помогало красным? А заложники? Насилия, грабежи? Я был в станице, где прошел Мамонтов. Ободрали людей до нитки! Даже тех, кто их с цветами встречал!
— Красные не грабят?
— Наших за это расстреливают! Железной рукой, красноармейцев и командиров! За белой конницей телеги тащатся, барахло грузить. Казачки, грабь-армия!
Не видел.
— С высоты не всегда видно. Люди вас ненавидят. На что вы надеетесь? Победить? Не будет этого!
Рапота прав — белые обречены. Я это знаю, в том-то и беда. «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, тот умножает скорбь». Красные знают, за что воют, белые — против кого. У вождей белого движения нет программы, есть только ненависть к противнику. В этом наша слабость. Армия без идеи — толпа, солдату должен знать, за что умирает.
— Прощай, Сергей!
— Увидимся!
Не дай бог, в воздухе…
— Передавай привет Ольге!
— А ты — Татьяне!
— Она будет рада. Сын у нас недавно родился. Прилетишь — крестным будешь!
— Большевики крестят детей?
— Татьяна хочет, — он смущен. — Почему бы и нет? Не запрещено!
Помечтай! Заскакиваю в «Ньюпор». Двигатель не успел остыть, заводится сразу. Разбег, взлет. Оглядываюсь. Аппарат Рапоты бежит по полю — карбюратор он все же прочистил…
Армия ушла вперед, подтягиваем тылы. Движемся медленно — транспорта не хватает. В одной из станиц бросаем якорь. Меня вызывают к Егорову. Подполковник квартирует в большом доме. В передней — незнакомые офицеры. Поджарые, настороженные, с острыми взглядами.
— Поручик Красовский!
— Так точно!
— Сдайте оружие!
Та-ак! Плохое начало.
— Я арестован?
— Пока нет. «Браунинг» позвольте!
Они и марку пистолета знают! Дрянь дело. Отдаю «Браунинг».
— Проходите, вас ждут!
В горнице двое: Егоров и полковник. Знакомое лицо. Девятьсот шестнадцатый, полеты за линию фронта, он тогда так и не представился. Военный разведчик, теперь контрразведчик, это к гадалке не ходи. Я — подозреваемый. У пилотов, направляемых в разведку, оружие не изымают.
— Узнали, господин поручик?
— Так точно!
— Хотел бы сказать, что рад встрече, но, к сожалению, не могу. Присаживайтесь!
Подчиняюсь. Егоров с полковником устроились напротив. Между нами стол. Умно. Пока вскачу и перепрыгну… Леонтий Иванович выглядит смущенным.
— Курите, Павел Ксаверьевич! — он придвигает коробку.
Это кстати. При допросе к месту курить. Можно перевести взгляд на папиросу, проследить за дымком, и никто не увидит, что у тебя в глазах. Полковник покосился, но смолчал — в доме хозяин Егоров. Чиркаю спичкой.
— К вам несколько вопросов, господин поручик, — вступает полковник, — но сначала кое-что разъясню. В станицах, освобождаемых нами, немало истинных патриотов. Они помогают разоблачать большевиков. Недавно один из патриотов сообщил нечто весьма любопытное. Его сын, пастушок, потерял овцу и отправился на поиски. В степи заметил два аэроплана. Они стояли рядом. У одного аппарата на крыльях были красные звезды, у другого — наши кокарды. Несмотря на это, военлеты беседовали и даже, пастушек в этом клянется, мирно курили.
Черт бы побрал всех глазастых пастушков! Лезут, куда не нужно…
— Закончив беседу, военлеты улетели. Пастушок запомнил день и время. Такое ведь не часто увидишь! Мы заглянули в журналы полетов. По всему выходит, что нашим военлетом были вы. Что скажете?
— Это так.
Егоров бледнеет. Видимо, до последнего считал подозрение ошибкой. Иметь в отряде шпиона — дело кислое. Извините, Леонтий Иванович, но отрицать глупо.
— Приятно, что вы не запираетесь, господин поручик! Надеюсь, вы объяснитесь?
— Непременно! В том вылете я заметил на земле аппарат красных: большевик сел на вынужденную. Я приземлился, чтоб взять его в плен.
— Отчего ж не взяли?
— Военлетом красных оказался Рапота.
— Сергей Николаевич? — это Егоров.
— Вы знаете его? — полковник смотрит на Леонтия Ивановича.
— На германской он войне служил в моем отряде, затем сменил меня в должности. Я его и рекомендовал. Храбрый и знающий офицер.
— Вы не ошиблись в нем, господин подполковник! Рапота действительно храбрый и знающий. Только воюет на противоположной стороне. Как понимаете, радости нам от этого мало. Он командир авиационной группы, самой боеспособной у красных. Устранение Рапоты — великая польза Отечеству. Отчего вы не пленили его, поручик?
— Он не сдался.
— Следовало стрелять!
— Я не убиваю людей, которым обязан!
— То есть?
— На германской войне Рапота спас жизнь поручику, — включается Егоров. — Посадил аппарат с истекающим кровью летнабом прямо у госпиталя. Павел Ксаверьевич не забыл.
— И по-рыцарски вернул долг. Спустя четыре года… Вы находите это правдоподобным?
— Отчего же? Обычное дело.
— Неужели?
— У нас разные представления о благородстве, полковник.
Ай да Леонтий Иванович! Хорошо врезал! Но контрразведчик — волк битый. Так просто не проймешь.
— Я помню ваши высказывания, подполковник, еще там, на Германской. Вы проявили себя рыцарем. Помню я и другое. Поручик в ту пору придерживался иных взглядов. Не так ли, господин Красовский?
— Считаете меня шпионом?
— Подозреваю. Слишком все красиво, господин Красовский! Вы перелетели к нам от красных. Ничего необычного, перелетели десятки военлетов. Но вы застрелили комиссара.
— Не я, а моя жена.
— Тем более! Романтическая история: жена военлета стреляет в насильника-жида! Патриоты в восторге. Идеальная легенда для разведчика.
— Вы слишком высокого мнения о красных!
— Противника нельзя недооценивать.
— Тогда почему они бегут? Повсеместно?
— Отчасти оттого, что мы знаем свое дело.
— Позвольте спросить! Зачем красным шпионы?
— Затем, что и всем! Добывать сведения.
— Какие?
— О замыслах врага.
— Проще говоря, о наступлении. Тогда объясните, почему я, будучи шпионом красных, не упредил их? Это не составляло труда. Мы вели разведку, летали над позициями красных, что стоило сбросить записку, предупредить о нашей коннице? Однако, как сами знаете, наступление застало большевиков врасплох. То же происходит и сегодня. Наши корпуса наступают стремительно, мы теряем с ними связь. Организованного сопротивления со стороны противника нет. Как такое возможно при наличии шпиона? Мы летаем поодиночке, совершенно не трудно, к примеру, сесть в расположении красных, сообщить важные сведения и улететь. Просто и безопасно. Зачем звать Рапоту сюда, где его легко обнаружить, что, в конечном итоге, и произошло? Если противник настолько умен, как вы утверждаете, к чему подобные глупости? Вам не кажется странным?
— Вы не просты, Павел Ксаверьевич, я и в шестнадцатом это заметил.
Потеплело. Добавим.
— И самое главное, господин полковник! Зачем сыну богатого отца служить красным?
— Им многие служат.
— Вопрос: кто? Прапорщики, ставшие комдивами? У них есть резон. Военлеты, вроде Рапоты, пролетарии по происхождению? С ними понятно, надеются сделать карьеру. Масса офицеров служит из страха, их семьи в заложниках. Я не подпадаю ни под одну категорию. Моя семья за границей, жена со мной. Чем красные меня прельстили? Верой в революцию? Мне и при царе жилось неплохо. В отличие от наших генералов, революцию я не поддерживал — ни в феврале, ни в октябре. Спросите любого. Я до конца исполнял воинский долг, армию покинул, когда ее не стало вовсе. Поэтому застрял в Москве и был мобилизован. Остальное вы знаете.
— Добавлю, — говорит Егоров. — Поручик удостоен пяти наград, в том числе Георгиевского оружия. Покойный государь дважды и лично производил его в чин. Я за него ручаюсь, господин полковник!
Контрразведчик встает. Вскакиваю.
— Что сказал вам Рапота, поручик?
— Предлагал перелететь к красным. Сулил хорошее жалованье, паек.
— А вы?
— Послал его подальше. Сказал, что думаю о Троцком и прочих людоедах. Посоветовал не встречаться мне вновь. В другой раз я буду стрелять!
— Почему не доложили о встрече?
— Это было личным делом.
Контрразведчик идет к двери.
— Господин полковник!
— Что еще? — он недоволен.
— Прикажите вернуть мне оружие. Это личный «Браунинг», куплен за свои средства.
— Ну да, вы же собрались стрелять! — он хмыкает. — Не промахнитесь, поручик! В другой раз не промахнитесь!
Это не совет — предостережение. Умному понятно. Егоров угощает меня папиросой, благодарю и выхожу. Мне возвращают «Браунинг», гости уходят. Курю во дворе. Рука с папиросой подрагивает. На околице станицы — виселица. Экзекуция состоялась третьего дня. Вешали большевиков — паренька и молоденькую девчонку. Их, как и меня, выдал патриот. Паренька перед казнью секли шомполами — долго и со вкусом. Девчонку отдали казачкам на потеху. Она пробовала кричать, ей заткнули рот. Приговоренных затем тащили к виселице, сами идти они не могли. Казненные висели два дня, утром их сняли. Вакантное место могли занять мы с Ольгой… Людоеды окопались не только в Кремле, людоеды вокруг. Сегодня они щелкнули зубами, показав намерения, завтра вцепятся. Зажился я здесь…
20
Погиб Егоров — и до обидного нелепо. В отряд перегнали «Сопвич Кэмел», начальник захотел испытать. Его предупредили: истребитель строг в управлении, Леонтий Иванович не послушал. При взлете «Кэмел» повело влево, аппарат накренился и упал. Егорова придавило обломками, когда мы подбежали, он не дышал…
Оплакать командира некому. С авиатриссой они расстались. Елена укатила в Париж, Егоров остался в России. Родители подполковника умерли, о братьях-сестрах ничего неизвестно. Безвестным холмиком в степи прибавилось. После похорон я выпил. Егоров напоминал мне Сан Саныча; чем-то они были похожи…
В отряде перемены. Начальником стал Турлак. Он забрал мой «Ньюпор» и отстранил меня от полетов. Возможно, похлопотали контрразведчики. Турлак сводит счеты: я поставлен заведовать обозом. Снабжать отряд трудно: база далеко, транспорта мало. Недостает всего, Турлак винит меня. Ему нравится читать мне мораль, он прямо упивается властью. Сволочь.
Зарядил дождь — не по-летнему мелкий и нудный. Сидим дома. Ольга выглядит озабоченной. Она выглядит так уже несколько дней. Что-то случилось, она не решается сказать. Я это вижу, я чувствую ее как себя. Скажет! Опять кто-то приставал? Если Турлак, убью! Застрелю как собаку! Руки чешутся.
Ужинаем. Наливаю в кружку спирт. Его у нас море — топливо для ротативных двигателей. Бензин лучше, но его мало. Спирт легко достать: винокуренных заводов хватает. Ольга покосилась, но молчит. У нее что-то серьезное. Опрокидываю кружку, закусываю.
— Павлик! — говорит Ольга. — Я беременна!
Ложка выпадает из моей руки. Этого не может быть! Это ошибка!
— Ты уверенна?
— Я фельдшер! Два месяца… Ты говорил: не будет детей! Я не принимала мер. И вот…
Я действительно такое говорил. Я знаю твердо: от скитальца женщины не беременеют. Что произошло? Почему? Я здесь пятый год, и Ольга забеременела. Гадалка предрекла: произойдет необычное. Это случайность или знак? Солдатик Петров странствия закончил?
— Ты не беспокойся, я сделаю аборт!
— Нет!
— Идет война… Какие дети?
— Нет!
— У нас нет денег, нам негде жить.
Похоже, она все просчитала.
— Я отправлю тебя в Лондон к отцу. Он будет рад невестке и внуку.
— А ты?
— Тебя демобилизуют по беременности. На меня это не распространяется.
— Без тебя я не поеду!
Вдвоем нам нельзя. Контрразведка в Добровольческой армии поставлена неплохо. Дезертира поймают и поставят к стенке. Ольгу надо отговорить!
— Аборт — это операция! Это опасно!
— Не обязательно! Я узнавала: в Новочеркасске есть гомеопат. Дает капли — и выходит само. Ничего страшного!
Она узнавала… Основательная девочка! Если Ольга заупрямится, мне не убедить. Она не представляет, что значит для солдатика Петрова этот ребенок. Она совершенно этого не представляет…
На улице пляшет дождик. Там тихо, темно и сыро. Присядем у нашей печки и мирно поговорим. Конечно, с ребенком трудно. Конечно, мала квартира. Конечно, будущим летом ты вряд ли поедешь в Крым. Еще тошноты и пятен даже в помине нету, Твой пояс, как прежде, узок, хоть в зеркало посмотри! Но ты по неуловимым, по тайным женским приметам Испуганно догадалась, что у тебя внутри.В госпитале была хорошая библиотека. Книги нам приносили и присылали простые люди. Им хотелось хоть как-то помочь раненым. Среди книг нашелся этот томик. Я учил стихи наизусть, они легко запоминались.
Не скоро будить он станет тебя своим плачем тонким
И розовый круглый ротик испачкает молоком. Нет, глубоко под сердцем, в твоих золотых потемках Не жизнь, а лишь завязь жизни завязана узелком. И вот ты бежишь в тревоге прямо к гомеопату. Он лыс, как головка сыра, и нос у него в угрях, Глаза у него навыкат и борода лопатой, Он очень ученый дядя — и все-таки он дурак! Как он самодовольно пророчит тебе победу! Пятнадцать прозрачных капель он в склянку твою нальет. «Пять капель перед обедом, пять капель после обеда — И всё как рукой снимает! Пляшите опять фокстрот!»Эти стихи еще не написаны. Они появятся не скоро, и приметы времени в них другие. Сейчас это не важно.
Так, значит, сын не увидит, как флаг над Советом вьется? Как в школе Первого мая ребята пляшут гурьбой? Послушай, а что ты скажешь, если он будет Моцарт, Этот не живший мальчик, вытравленный тобой? Послушай, а если ночью вдруг он тебе приснится, Приснится и так заплачет, что вся захолонешь ты, Что жалко взмахнут в испуге подкрашенные ресницы И волосы разовьются, старательно завиты, Что хлынут горькие слезы и начисто смоют краску, Хорошую, прочную краску с темных твоих ресниц?.. Помнишь, ведь мы читали, как в старой английской сказке К охотнику приходили души убитых птиц.Англия здесь в строку. Никаких сказок мы не читали, но Англия нам в помощь.
А вдруг, несмотря на капли мудрых гомеопатов, Непрошеной новой жизни не оборвется нить! Как ты его поцелуешь? Забудешь ли, что когда-то Этою же рукою старалась его убить? Кудрявых волос, как прежде, туман золотой клубится, Глазок исподлобья смотрит лукавый и голубой. Пускай за это не судят, но тот, кто убил, — убийца. Скажу тебе правду: ночью мне страшно вдвоем с тобой! (Стихи Дмитрия Кедрина)— Павлик! — она плачет.
Протягиваю руки. Она порхает мне колени, все такая же легкая. Прибавка в весе будет не скоро. Обнимаю, глажу ее по волосам.
— Я люблю тебя, Павлик!
— Я знаю, маленькая!
— Нет, ты не знаешь! Я расскажу. Я хочу, чтоб ты понял… Ты мне сразу понравился, еще в госпитале. Это было нехорошо — я дала слово другому. Поэтому я злилась, князя в парк повела… Я уехала, и чувство утихло, но не исчезло. Я вышла бы за Юру, я хотела за него выйти! Я забыла бы тебя! Господь рассудил иначе. Я молилась за троих: папу, Юру и тебя; уцелел лишь ты. Когда погиб Юра, я очень плакала. Я решила, что сама виновата: за тебя молилась искреннее. Я тебя возненавидела! Я не хотела о тебе слышать! Но ты приехал в Москву, и все изменилось. Мне захотелось тебя повидать. Я пришла на благотворительное собрание. Ты был там с этой женщиной… Вы так смотрели друг на друга! Я поняла: у вас связь. Я очень разозлилась! Если б ты знал, как я тебя ругала! Это было нехорошо: ты не принадлежал мне. Я была эгоисткой — вздорной и глупой, и Господь наказал меня: погиб папа…
Господь тут ни при чем, маленькая! За любовь не наказывают. Любовь — это не грех…
— Я шла в «Метрополь» не за любовью. Ты был единственный, кого мне хотелось видеть в тот день. Я не знала, как ты меня встретишь, готовилась к худшему. Но ты обнял меня и заплакал. Я ощутила, что ты не заносчивый, как мне представлялось. Ты родной и милый, самый дорогой мне человек. Мне захотелось, чтоб ты взял меня, чтоб ласкал, целовал и гладил; дал мне утешение. Я не знала, как подтолкнуть тебя к этому. В стакане была водка, я подумала: выпью и стану развязной. Я не рассчитала… Проснулась ночью одна, постель пахнет духами. Я поняла: здесь ты ласкал ту женщину, меня же не захотел. Мне стало так горько! Я пошла к тебе, а ты увидел и зажмурился. Я обиделась и нагрубила тебе утром. Потом сообразила: ты не возьмешь меня с собой! Я так испугалась! Я, в самом деле, стала бы на колени! Я валялась бы в ногах! Я уже не принадлежала себе. К счастью, ты согласился.
Мне хотелось взять тебя, Оленька! Тогда я не сознавал этого. Я чувствовал, чем это кончится, и боялся неизбежной утраты. Я и сейчас ее боюсь.
— Мне было радостно с тобой, Павлик! Я видела тебя, ела с тобой за одним столом, ночами я слышала, как ты дышишь, как скрипишь зубами и бормочешь. Папа писал, что ты много страдал, хотя ничего ему не рассказывал. Это правда: папа разбирался в людях. Я подходила к тебе ночью, смотрела на тебя, но не трогала — боялась. Ты переставал ругаться и умолкал. Только однажды ты не затих, и я тебя разбудила. Сергей рассказал мне о твоей жене. Ты тосковал по ней, я это видела. Мне хотелось тебя утешить, я не знала как. Ты держался строго. Заботился обо мне, но не приближал. Я стала поощрять тебя, но ты не откликался. Я думала вызвать ревность, сказала, что отвечу Фархаду, ты даже бровью не повел. В тот вечер я пела тебе, а ты подумал, что ему. Я не знала, как быть; женщине не должно открываться первой. Я боялась: ты отвергнешь меня. Внезапно появилась эта женщина, авиатрисса, и я подумала: ты можешь увлечься! Бросить меня и уйти к ней. Я испугалась. Я выбрала момент и соблазнила тебя. Я знала: ты порядочный человек и непременно женишься. Это было мерзко с моей стороны, но я не могла себя сдерживать. Я не владела собой, я изнемогала от любви. Все, что я говорила и делала потом — это от стыда. Мне хотелось думать: ты сам этого хотел. Прости меня!
Глупая моя девочка! Что прощать? Я действительно этого хотел. Вопреки доводам разума, вопреки рассудку, но хотел.
— Говорят: в браке любовь угасает. Вышло наоборот. Я люблю тебя все сильнее и сильнее. Ты не просто хороший, ты очень необычный человек. Ни на кого не похож, опытен и мудр не по годам. Много знаешь и умеешь, хотя почему-то скрываешь это. Во сне говоришь на языках, каких я никогда не слышала. А ведь я кончила гимназию! Ты много, где побывал. Я не понимаю, как ты столько успел! У тебя есть какая-то тайна. Я не требую, чтоб ты открыл ее мне. Я даже не прошу твоей любви. Мне достаточно, чтоб ты был рядом. Каждый день, каждую ночь. Это такое счастье! Если б ты только знал! Если ты хочешь ребенка, я его рожу! Я рожу тебе столько детей, сколько ты пожелаешь! Только не отсылай меня от себя! Пожалуйста! Я без тебя умру!
Глажу ее по спинке. Она приникла ко мне, как ребенок к матери. Я не должен скрывать от нее правду.
— Я кое-что расскажу тебе, маленькая! Тебе будет странно слышать, но ты пугайся. Я не сумасшедший. Я всего лишь скиталец. Однажды мне не повезло, и с тех пор я брожу, неприкаянный, по чужим мирам…
* * *
Ольга спит. Мне стоило труда ее успокоить. Ее не испугала моя история. Ей важна не причина, а следствие: солдатик Петров не заживался в своих мирах, Ольга боится меня потерять. Она спит, крепко прижимаясь ко мне, и чутко отзывается на любое движение. Стоит пошевелиться, как она вздрагивает. Мне неудобно, но я терплю. Пусть спит.
Мне нужно решиться. Я обязан спасти их. Ольгу и то крохотное существо, что зреет в ней. Любой ценой! У белых оставаться нельзя. Турлак ненавидит меня. Стоит мне оступиться, и расправа последует. Если обойдется, нас ждет другое. Белые наступают, но это ненадолго. Красные оправятся и нанесут удар. Мы покатимся на юг, в марте двадцатого — новороссийская катастрофа. Сотни затоптанных при посадке на пароходы, тысячи брошенных в горах. А Ольге в марте рожать… Убежать за границу не получится: контрразведка поймает дезертиров: вдвоем мы очень приметны. Остаются красные. Не самый лучший путь, но иного нет. Я не люблю большевиков, их не за что любить. Они циничны и безжалостны, они без раздумий льют кровь — свою и чужую, но за ними будущее. Придет время, им надоест играть в мировую революцию. Они воссоздадут то, что сами же разрушили. Они соберут страну и заставят мир ее уважать. Трудом и кровью, великим трудом и великой кровью они установят на планете мир; мир, в котором я когда-то родился. Если б они не закостенели догмах, я жил бы до сих пор, меня не убили бы в горах. Там просто не было б войны…
Спозаранок я хлопочу на аэродроме. У заведующего обозом много дел. Приезжают подводы, их нужно распределить и направить за амуницией. Одна из подвод привезла узел, в нем наши пожитки. Зачем поручику узел, возчик не знает; его попросили завезти, он и завез. Возчик из другой станицы, он уедет и обо всем забудет. Узел свален в палатке — после разберемся. Даю команду готовить «Анасаль». Это лучший из наших аппаратов. Относительно новый, с хорошим мотором и, главное, двухместный. Синхронный «Виккерс» спереди, «Льюис» на шкворне в задней кабине. Единственный аппарат, столь мощно вооруженный. Другие разведчики без пулеметов. Красные не ведут воздушной войны, у них на это нет сил.
Механик не задает вопросов — начальству виднее. Велели подготовить, он и готовит. «Анасаль» заправлен бензином и патронами. Мотор опробован и прогрет. Механик уходит. Скоро обед, солдаты тянутся к станице. Навстречу идет фельдшер, с ней почтительно здороваются. Фельдшер идет к мужу — обычное дело. Завожу Ольгу в палатку, помогаю надеть куртку и шлем. Переодеваюсь сам. Руки Ольги дрожат, но она справляется. Как можно небрежно идем к «Анасали». В руке у меня узел. Часовой у аппарата смотрит с удивлением. Окликнуть не решается — я офицер. Подхожу ближе.
— Ваше благоро…
Удар под ложечку — короткий, без размаха. Он роняет винтовку. Второй удар — по затылку. Отдохни, мобилизованный, очнешься, спасибо скажешь. Мог ведь и застрелить. Винтовочку — подальше, чтоб не сразу нашел! Помогаю Ольге забраться в кабину, бросаю туда узел. Теперь завести мотор…
Из кабины вижу: к аппарату бегут люди: не все ушли обедать. Хорошо, что мотор прогрет. Рулю по полю, разбегаюсь — взлет! Вслед нам стреляют, да только поздно…
Лететь нам долго. Набираю высоту. «Анасаль» устойчив и легок в управлении. Оглядываюсь. Ольга улыбается мне. Я приучил ее к высоте — вывозил на аппарате еще в германскую. Обращаться с пулеметом Ольга тоже умеет.
Мне нравится ее настрой. Утром Ольга напугала меня. Ей приснился сон. Странное сооружение из дерева, богато задрапированное тканями. Наверху — носилки.
— На носилках — ты! — рассказывала Ольга. — Бледный, больной. Я отчего-то знаю, что ты умираешь. Я поднимаюсь наверх, даю тебе питье из кубка. Ты пьешь, после чего я допиваю остаток. Ложусь и обнимаю тебя. Ты говоришь мне…
— Я люблю тебя, маленькая?
— Нет! Я люблю тебя, моя богиня!
У меня сжимается сердце. Я рассказал ей об Айе, но без подробностей: Ольге и без того впечатлений хватило. Только Айя знала, что означает «маленькая», только она. Но Айи давно нет…
— Это плохой сон? — тревожится Ольга. Я, верно, изменился в лице. — Может, отложим? В другой раз…
— Полетим сегодня, маленькая!
Не знаю, почему я это сказал. У меня чувство: откладывать нельзя. В конце концов, это только сон; я их тоже вижу. Сны — это обман, прихоть растревоженного ума. Вместо того чтоб нести забвение, они будят воспоминания. Ночью, когда я забылся, мне привиделся старик — тот, что напоил меня «эль-ихором». Он хотел что-то сказать и даже махал руками, но я не стал слушать. Старик обиделся и погрозил мне пальцем. Пусть! Все что колдун мог сделать, он сделал. Я больше не в его власти. Пусть ищет других.
Мотор гудит мощно и ровно. Кажется, аппарат завис в воздухе. Это оттого, что внизу степь. Ровная, без дорог и деревьев. Нет ориентиров, движение не заметно. На самом деле мы летим — и довольно быстро. Станица, откуда сбежали, далеко, до аэродрома красных близко. Как нас встретят? Не думаю, что Сергей врал, но он маленький начальник. Есть Сталин, есть Троцкий, есть десятки других: умных и глупых, трезвых и амбициозных. Хочется думать, что я им неинтересен. Не бог весть, какая фигура! Песчинка в бархане, листок на воде. Попрошусь заведовать обозом или учить пилотов. Убивать детей и женщин меня не заставят. Ни за что!
Вокруг нас — мир и покой. В огромном небе не души: ни птиц, ни аппаратов. Откуда им быть? Однако я верчу головой. В двухместном аппарате нет нужды оглядываться, но я привык. Мы с Ольгой встречаемся взглядами и улыбаемся. Славно!
Замечаю над шлемом Ольги черную точку. Птица, кто ж еще? Точка растет в размерах. Птица не в состоянии догнать аппарат. Погоня? Кто? Догнать нас можно только на «Ньюпоре». Единственный в отряде быстроходный аппарат. Надо очень сильно ненавидеть беглецов, чтоб устремиться в длительную погоню — мы уже над территорий красных. Это Турлак…
Показываю Ольге рукой. Она смотрит и расстегивает ремни. Приникает к «Льюису». Спазм перехватывает мне горло. Какая у меня жена! Держись, Оленька!
«Ньюпор» приближается. Хорошо видны круг пропеллера, крылья, шасси. Турлак летит выше нас, он намерен атаковать. Спикирует и зайдет снизу — в мертвую зону стрелка. Классика воздушной атаки. Только и мы пальцем деланные, не первый день воюем.
«Ньюпор» устремился вниз. Спешить мне нельзя. Рано, рано… Сейчас! Тяну ручку на себя. «Анасаль» задирает нос, киль и хвостовое оперение более не мешают Ольге. Слышу, как стучит «Льюис». Умница, догадалась! Попасть она не попадет, практики нет, но хоть напугает. В крыле «Анасали» появляются дырки — Турлак успел ответить. Метко стреляет, гад!
Отдаю ручку. У меня получилось: «Ньюпор» проскочил вперед. Теперь Турлак ниже нас. Мы поменялись ролями. Пикирую. Ближе, ближе… Турлак уйдет на вираж, он наверняка меня видит. Тогда довернуть… «Ньюпор», однако, летит прямо и как-то неуверенно. Похоже, Ольга попала. Девочка моя золотая, сокровище мое маленькое! Ловлю кабину в перекрестие прицела, жму на спуск. «Ньюпор» переворачивается и, кувыркаясь, летит вниз. Чтоб ты горел в аду, сволочь!
Выравниваю аппарат, оглядываюсь. Сердце замирает: Ольги нет! Она в своей кабине, я чувствую это по центровке, но не видна. Ранена? Или? Господи Иисусе Христе, сыне Божий, только не это! Я тебя прошу, я тебя умоляю! На коленях стою! Боже! Спаси ее! Возьми мою жизнь, делай со мной, что хочешь, только сохрани ее! Пожалуйста!..
Веду аппарат как в тумане, поминутно оглядываюсь. Ольги не видно. Где красный аэродром? Где? У них наверняка есть врач, он должен быть! Только бы не артерия! Она истечет кровью! Господи!..
Вижу летное поле. Аппарат едва ползет. Быстрее, быстрее, корова одесская! Захожу на посадку. «Анасаль» касается колесами земли, бежит по лугу и замирает. Выключаю мотор, выскакиваю, заглядываю к ней…
Ольга — на дне кабины: лежит, скорчившись. На задней стороне шлема — выходное отверстие от пули. Сочится кровь. Входное отверстие спереди, выше лба. Пуля прошила ей голову. Ольга умерла мгновенно, я молился за неживую…
Вот и все. Это конец. Со мной пошутили. Солдатика Петрова поставили на место. Он возомнил себе, ему напомнили: не ты хозяин в этом мире. Для тебя существуют правила. Сражайся и убивай, береги свою гребаную, никому не нужную жизнь и не вякай! Усвоил?!
Я усвоил! И вот, что вам скажу. Возьмите свои правила и засуньте себе в зад! Я больше не играю. Хотите смертей? Вы их получите! Я буду убивать! Но только себя. Всякий раз при каждом воплощении. Не будет оружия, оторву клок одежды и засуну в горло! Свяжут руки — разобью голову о стену! Прыгну с высоты, брошусь в воду или огонь! Лягу под колеса, наступлю на змею… Пусть меня вешают на крест, пусть тянут жилы, пусть рвут на части! Я буду это делать, буду! Я не позволю более собой помыкать! Я не стану проклинать вас, черноголовые, я не доставлю вам такой радости. Проклинать и возмущаться будете вы. Отныне я свободен. Ныне отпущаеши раба своего…
Достаю «Браунинг». Сейчас… Сильная рука хватает меня за кисть. Удар под ложечку…
— Застрелиться захотел, беляк? Ишь, чего! Мы тебя сами шлепнем, не сомневайся! Только сначала допросим.
Меня держат за руки. Красноармеец, ударивший меня, прячет в карман пистолет. Когда они набежали?
— Гайдамак! Ты что себе позволяешь?
Рапота… Бежал, запыхался.
— Товарищ командир, так то ж белый! Сел к нам по ошибке, застрелиться хотел. Револьвер достал…
— Это Красовский, он перелетел к нам по доброй воле. Я лично его звал. Под арест пойдешь!
— Я ж не знал…
— Не будешь руки распускать! Отпустить его!
Отпускают. Растираю кисти. Нам по фигу ваш арест, сами разберемся… Коротко, без замаха, бью Гайдамака под дых. Тот ойкает и сгибается. Лезу ему в карман, достаю «Браунинг». Мне нужнее. Рапота и красноармейцы смотрят, широко открыв глаза.
— Товарищ командир, там в кабине…
Сергей заглядывает, призывно машет рукой. Красноармейцы бережно извлекают Ольгу. Сергей склоняется над ней.
— Доктора! Живо!
Посыльный убегает. Зачем ей доктор? Зафиксировать смерть?
Сергей подходит, протягивает коробку. Беру папиросу, приговоренному к смерти полагается. Сергей подносит спичку. Втягиваю дым, он горяч и дерет горло. Она крепкая, моя последняя папироса…
— Кто это вас?
— Турлак…
— Сволочь! Стрелять в женщину! Попадется он нам!
— Не попадется…
Сергей удивленно смотрит и, поняв, кивает. Курим. Прибежавший доктор склоняется над телом. Красноармейцы плотно обступают их. Это хорошо, я не хочу видеть, как ее ворочают. Это слишком больно. Докурю и выстрелю в сердце. Это быстрая смерть, почти безболезненная. В голову стрелять рискованно: она маленькая и твердая. Есть опасность угодить не туда. Долгая агония, лишние мучения…
В просвет меж фигурами видно: доктор бинтует ей голову. Зачем? Чтоб лучше выглядела? Мертвым все равно, мне тоже. Мне не смотреть на ее похороны, мне рядом лежать. Сергей догадается насчет общей могилы, он умный. Красноармейцы укладывают тело на носилки.
— Осторожно! Не растрясите!
Как можно растрясти мертвую?
Доктор идет к нам. Сейчас объявит приговор. Сергей протягивает ему коробку. Доктор берет папиросу, закуривает. Ну?
— Повезло дамочке, невероятно повезло! Пуля угодила в пружину на шлеме, изменила направление и скользнула по черепу. Сорвала кожу. Всего лишь контузия, скоро очнется. Шрам, конечно, останется, но это не беда, волосами прикроет…
Мир вокруг темнеет и сворачивается. Меня подхватывают под руки. Резкий запах… Трясу головой.
— Здоровенный мужик, а падает в обморок! — доктор прячет пузырек. — Все летчики такие нервные?
Сергей смотрит на него укоризненно. Доктор крякает, достает кружку, наливает из фляжки прозрачную жидкость. Протягивает мне.
— Выпей, товарищ!
Пью…
Эпилог
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного…
Птах кружит над головой и возмущенно чирикает. Сейчас, маленький! Высыпаю на ладонь горстку пшена. Птах садится и начинает жадно клевать. Острые коготки царапают мне ладонь. Поделом мне — запоздал, птах привык с рассветом. Ночью Дмитрий заменил мне облачение: новое положил на лавку, пока я спал, а старое унес. Дмитрий хочет, чтоб я выглядел нарядно. Тщета человеческая! Старая ряса еще исправная: всего две прорехи, да и те заштопаны. Новая не обношена, неудобная. Карман, чтоб пшено носить, в другом месте, вот я и завозился, собираясь…
Птах наелся, но не улетел, как обычно. Задремал, устроившись на указательном пальце. У него теплые лапки, глаз затянут белесой пленкой. На весу руку держать неудобно, прижимаю ее к груди. Птах на мгновение показал черный глаз и снова закрыл. Спи, маленький! Я постою, мне еще рано.
…В двадцатом году нас направили к Буденному. Началась польская кампания. Паны и примкнувшие к ним петлюровцы захватили Киев. Шампанское за победу они пили недолго. Конармия Буденного смяла врага, поляки покатились на запад. Мы шли по их пятам. Конники вырвались далеко вперед, тылы отставали. Отряд летал на разведку, возил приказы и донесения. Рутинная работа. Однажды место летнаба моего «Де Хэвиленда» занял пассажир. Я узнал его — к тому времени его уже узнавали. Лететь предстояло в штаб конной армии.
У Житомира нас перехватили. Поляк на «Спаде» попался опытный, я почувствовал это сразу. Я крутился, как вьюн на сковородке: закладывал виражи, пикировал, и даже несся над рекой, едва не касаясь воды колесами; поляк не отставал. Он вцепился в нас, как лайка в медведя, и не отпускал. Пассажир мне попался не робкий. Он стрелял из «Льюиса», поляк отвечал. Синхронные «Виккерсы» «Спада» — вещь серьезная; к счастью, стрелял поляк хуже, чем летал. У нас кончились патроны, а затем — и бензин. Пришлось садиться на вынужденную. Поляк и здесь не оставил нас в покое: будто знал, кого я везу. «Спад» сбросил осколочные бомбы. Аппарат посекло, нас не зацепило.
Темнело; искать своих было поздно, да и опасно. Постоянного фронта в этой войне не имелось, нарваться на разъезд противника было проще простого. Мы заночевали в лесу. Я натаскал дров, развел костер, принес воды из ручья. Пассажир нарезал веток, сделал из них подобие постели. Мы попили кипятку. У меня завалялся сухарь, его разделили. Была фляга со спиртом — в конной армии он помогал решать вопросы. Я предложил пассажиру выпить, он отказался. Я употребил. Руки у меня еще дрожали. Мы могли пропасть без вести. Нырнуть в реку или упасть в лес… В штабе наверняка решили бы, что я перелетел к противнику. С таким пассажиром поляки встретили бы музыкой. Только для меня это был бы похоронный марш. В марте Ольга родила сына. Они жили в Харькове на съемной квартире. Семья военлета автоматически попадала в круг заложников, мне становилось дурно при мысли, что могло с ней стать в случае нашего исчезновения.
— Ты хороший пилот, товарищ Красовский, — сказал пассажир, по-своему поняв мое состояние. — Замечательно летал, спас командира. Я прикажу, чтоб тебя наградили.
«Засунь награду себе в ж…!» — подумал я, но промолчал.
— Наймиту буржуазии, который стрелял в нас, недолго радоваться. Польские дивизии бегут. Мы выйдем к границе Германии; в Европе заполыхает пожар…
— Не заполыхает!
Он посмотрел удивленно.
— К границе Германии мы не выйдем. Поляки опомнятся и дадут нам такого пенделя, что будем лететь от Вислы до Немана.
— Ты говоришь так, будто знаешь наперед! — хмыкнул пассажир.
— Не знал бы — не говорил!
— Ну, так расскажи! — предложил он. — А мы послушаем. Время есть…
Я рассказал. То ли спирт подействовал, то ли пережитая опасность (скорее всего, и то и другое), но я ничего не утаил. Развернул пассажиру всю его перспективу — от 1920-го до 1953-го и далее. Слушал он, не перебивая. Когда я умолк, вопросов не задавал. Лег на ветки и уснул. Или притворился, что спит.
Нас разыскали назавтра. Воздушный бой видели, Буденный приказал найти уцелевших. С пассажиром мы расстались сухо. Утром он не вспомнил разговор, но я знал: он не забыл. Этот человек никогда и ничего не забывал. Я чувствовал себя глупцом, но было поздно: слово — не воробей, вылетит — не поймаешь.
Польская война завершилась, как и должна была завершиться — позорным миром. Затем был Крым. По окончании Гражданской войны меня оставили в армии. Я командовал отрядом, эскадрильей, авиабригадой. Бывшего пассажира видел на портретах. Мне не помогали расти по службе, но и не мешали. Я знал, что меня не забудут, и готовился к этому. В тридцатом году меня вызвали в Москву.
— Ты не писал писем в ЦК? — спросил командующий ВВС, когда я доложил о прибытии.
— Нет.
— Странно. На Политбюро обсуждается вопрос об авиации. Велели пригласить тебя.
Я пожал плечами.
— Наверное, хотят слышать мнение снизу, — заключил командующий.
У меня были соображения на этот счет, но я оставил их при себе.
Заседание политбюро проходило в Кремле. Командующий доложил ситуацию, его выслушали, задали вопросы. Когда обсуждение затихло, мой бывший пассажир посмотрел на меня:
— Что думает по этому поводу товарищ Красовский?
Я встал.
— Готова наша авиация к предстоящей войне?
— Ни коим образом!
За столом послышался ропот. Командующий глядел зверем, но я знал: врать мне нельзя.
— Обоснуйте свое мнение! — сказал пассажир, пыхнув трубкой.
— Если позволите, я хотел бы составить записку.
— Сколько нужно времени?
— До вечера.
— Хорошо, — сказал пассажир. — Постарайтесь успеть — нам еще читать. Повторное заседание завтра. Вам предоставят стенографистку и все необходимое. Мы также позаботимся, — пассажир посмотрел на командующего, — чтоб вам не мешали.
Назавтра я сделал доклад. Моя записка лежала перед слушателями, выступление не затянулось. Слово взял командующий ВВС.
— Комбриг воевал в прошлой войне, — сказал он, — и не может ее забыть. Отсутствие в царской России собственного производства авиационных моторов, неготовность промышленности выпускать нужное количество аппаратов, недостаток в летчиках — все это просчеты буржуазного правительства. Оно втянуло Россию в длительную и бессмысленную войну. С тех пор многое изменилось. Современные войны быстротечны. Нам не нужно столько авиационных заводов, такое количество аппаратов и пилотов. Это огромные затраты. Стране это не по силам!
— В самом деле! — поддержал Калинин. — Купить за границей несколько заводов, пригласить лучших конструкторов… Это валюта, у нас ее мало. А завод алюминиевых сплавов! Ему нужна отдельная электростанция!
— Что скажете? — посмотрел на меня пассажир.
— Когда сильный враг нападает на слабого, война скоротечна. СССР не слабая страна. Мы владеем огромной территорией, людскими и материальными ресурсами. Быстро нас не победить. По той же причине слабый враг на СССР не нападет. Нам придется воевать долго, как в прошлую войну. Теперь о затратах. На Западе — экономический кризис, заводы стоят, станки продают по цене металлолома. По той же причине легко нанять лучших конструкторов — они без работы. Иностранцы не пробудут здесь долго. Уедут, как только переймем их опыт.
Члены политбюро загомонили, заспорили. Наконец все выговорились, за столом стало тихо. Все смотрели на моего пассажира.
— Я давно знаю товарища Красовского, — сказал он, набивая трубку. — У меня была возможность убедиться: он на редкость дальновидный и прозорливый человек. Поэтому сегодня он и здесь, — пассажир отложил трубку. — Думаю, нам нужно принять его программу. Это первое. Второе: воплотить намеченное в жизнь надо поручить тому же Красовскому. Он предложил, ему и отвечать.
— Красовский не член партии! — взвизгнул командующий.
— Неужели? — пассажир взял трубку. — Это ваша вина: партийно-политическая работа в авиации поставлена плохо. Лучшие кадры — и беспартийные! Надо исправлять. С товарища Красовского и начнем…
Мы с Ольгой перебрались в Москву. У нас была просторная квартира — все-таки пятеро детей. Трое наших и двое — Рапоты. Сергей до последнего был верен себе. Он с семьей отдыхал в Гаграх. Возвращались порознь: дети с няней — поездом, Сергей с Татьяной — самолетом. Рапоту вызвали в Москву, прислали аппарат. Самолет взлетел, Сергей прошел в кабину и сел за штурвал. Пилот не посмел отказать — член ЦК! При посадке самолет разбился… Первое, что сделала Ольга, узнав о беде, поехала к Рапотам и забрала мальчиков. Они прижились — да так, что я перестал различать, кто из детей мои.
Я редко видел семью. Сначала были заграничные командировки. Я мотался по Европе, ведя переговоры и заключая контракты. Труднее всего пришлось с конструкторами. Я сманивал англичан с «Роллс-ройса», они заломили цену. Я плюнул и поехал к немцам. Те пришли в восторг: Германия голодала. С алюминиевым заводом помог отец — у него были хорошие связи. Отец приезжал к нам в Москву, понянчил внуков и уехал чрезвычайно довольным.
— Я знал, что ты не пропадешь, — сказал он на прощание. — Ты все же Красовский! Но я подумать не мог, что ты взлетишь так высоко! Генерал, командующий… Одних контрактов подписал на миллионы!
Отец мог радоваться: наш заказ помог ему в кризисе. Сестренка Лиза вышла замуж за лорда. Жених не устоял перед ее красотой и приданным. Как мне показалось, второе обстоятельство было решающим. Родство с иностранцами в СССР не привечалось, но меня не трогали — за спиной маячил пассажир.
Мы создавали самолеты. Моторы конструировали немцы, планеры — русские. Я помнил их фамилии; оставалось найти людей и создать им условия. Я мотался по КБ и заводам: объяснял, настаивал, угрожал. Двигалось со скрипом: новое делать трудно. На политбюро меня ругали и хвалили; последнее — редко. Хоть медленно, но дело шло. Немецкие конструкторы уехали, но мы успели научиться: моторы получались хорошие. Как и самолеты. «Миги» и «Ла» появились в тридцать девятом. «Ил-2» освоили годом раньше. Штурмовик добавил мне седых волос: еле отстоял воздушного стрелка. «Пе-2» пошел с сорокового года, зато крупной серией. Не хватало авиационных пушек, дюраля. Скрепя сердце, я согласился на выпуск истребителей с деревянной обшивкой. По скорости они не уступали «мессерам», но мне хотелось, чтоб превосходили. Зато оружие истребители несли мощное. Комсомольский призыв дал стране тысячи пилотов. Учили их серьезно: я лег костьми, но отстоял программу. Я убедил пассажира не показывать врагу новинки. На парадах летали устаревшие образцы, нередко, не пошедшие в серию. Военные атташе лихорадочно фотографировали.
В круговерти забот многое шло мимо. История свершалась по заданному пути. Гремели политические процессы, карлик по фамилии Ежов выполнял планы расстрелов. Авиацию он не тронул. На этот счет был разговор, тяжелый и неприятный, но пассажир меня поддержал. С падением Ежова стало легче. Страна пела и радовалась жизни. Подрастали дети, в том числе мои. Николай Рапота и мой Матвей пошли в летчики. Я возражал, я знал, что их ждет, но мальчики настояли. Им так хотелось летать!
…Николай сгорел в июне сорок первого, прямо в штурмовике. Матвей уцелел. Его трижды сбивали, он попал в плен, бежал, но все-таки выжил. Что мы с Ольгой пережили в те дни, лучше не вспоминать.
Война началась в положенное время и по тем же причинам. Только в этот раз ее ждали. Я ждал. Пассажир до последнего не верил, он все еще надеялся: немцы не посмеют. У нас ведь была такая армия! Мы превосходили немцев по всем показателям: числу дивизий и танков, пушек и самолетов. Я не страдал иллюзиями. Войну количеством не выигрывают; немцы доказывали это не раз.
Июнь я провел в округах: проверял, исправлял, накручивал хвосты. Трудно пришлось в Западном округе. Павлов, как и пассажир, не верил в нападение. Соответственно держались его подчиненные. ВВС округа я подчинил себе (у меня были такие полномочия) и остался в Минске. В ночь на 22 июня я не спал. Мне позвонили в четыре пятнадцать: немцы начали! Воздушные флотилии пересекли границу, орудия стреляют по нашим позициям. Я скомандовал: «Ураган!»
С этой минуты история стала меняться, только я понял это не сразу. Я сидел в штабе ВВС округа: принимал донесения и отдавал приказы. Насчет связи я постарался: в Красной Армии она сохранилась только у нас. В шесть утра прибежал Павлов: он ничего не понимал. Я коротко объяснил и попросил не мешать. Павлов ушел, я его более не видел. Мне не было дела до терзаний командующего. От Мурманска до Севастополя в небе висели тысячи самолетов — наших и немецких. Происходило то, что позже назовут «Битвой за небо». Немцы разбомбили полевые аэродромы РККА — совсем как в моем времени. Только в этот раз мы им помогли — стащили туда списанный хлам. Современные машины ждали приказа в других местах. Приказ последовал. Первыми взлетели «Миги». Они вцепились в немецкие армады, как клещи в плоть, в воздухе закипели «собачьи свалки». Приказ у истребителей был прост: выбивать бомбардировщики. И они их выбивали: трудно, с большими потерями, но били. Бомбардировщик — оружие наступления, его долго и дорого строить, еще сложнее подготовить экипаж. Я запретил тараны, но их было множество. Размен фанерного истребителя на тяжелый «Юнкерс» считался выгодным, пилоты на него шли. Этих мальчиков взрастил комсомол, они не боялись гнева командующего. С мертвых спроса нет…
Немецкие эскадры ползли обратно, когда в воздух поднялись «Илы» и «Пе». Волна за волной они шли к армии вторжения. Бомбить, стрелять, сжигать — любыми средствами уничтожать фашистов! «Горбатых» и «пешек» прикрывали истребители. Они получили жестокий приказ: умереть, но штурмовики с бомбардировщиками сохранить! Они умирали, мои мальчики: сотнями, тысячами. Против них, не имевших боевого опыта, вылетали асы Геринга. Надменные, чванливые, отточившие мастерство на пространствах Европы. Они сбивали мальчиков, но и сами гибли: собранные в Ижевске авиационные пушки не знали пощады. За одного аса мы клали двоих летчиков, но этот размен в стратегическом плане был выгоден. Немцы планировали блицкриг, у них не было резерва пилотов. У нас был.
В первый день мы потеряли четверть самолетов, немцы — не меньше. В относительном исчислении, конечно. В абсолютных цифрах победили они, но это была пиррова победа. Враг не понимал: откуда у русских столько машин? Почему незнакомы модели? Почему самолеты так мощно вооружены?
Назавтра бои продолжились. Немцы осатанели: им, покорителям Европы, посмели задать трепку какие-то унтерменши! Небо почернело от их самолетов, но мы этого ждали. На войне люди учатся быстро. Уцелевшие в боях мальчики ощутили вкус побед. Они навалились на врага с новой силой: их вела жажда мести за погибших товарищей. Цифры потерь сравнялись. Из Минска я перелетел в Киев, затем снова в Минск, потом — в Ленинград… Отовсюду слал донесения в Кремль. Авиация не только воевала, она вела разведку. Наши данные были оперативными и точными. В Кремле им поначалу не верили, я получал приказы: срочно прибыть в Москву! Приказы слали каждый день. Я отвечал: обстановка не позволяет покинуть фронт! Мне нельзя было в Москву. Я нарушил строжайший приказ: не поддаваться на провокации! Я поднял авиацию до объявления войны. Мы бомбили немцев на их территории… Меня ожидал суд, скорый и неправый, и стенка в подвале. Стенка могла подождать. Я хотел осуществить задуманное. Сержант-артиллерист, в теле которого я воевал, не должен был погибнуть от бомбы, как тысячи других сержантов и рядовых. Неизвестных, бесфамильных…
Приказы перестали слать, молчание Москвы стало зловещим. Я старался не думать об этом. Мне хотелось погибнуть — смерть покрывает вину. Желание едва не исполнилось. При очередном перелете мой «Пе» атаковал «мессер». Немец убил стрелка и ранил штурмана. Я колебался недолго. Моя жизнь ничего не стоила, но пилот и штурман были не виновны. Я встал к пулемету. Фашист, получив очередь, резко отвернул; мы ушли. У «пешки» скорость будь здоров какая…
В июле война в воздухе кончилась: у немцев не осталось самолетов. Они заглотили наживку. Как некогда в Сталинграде им казалось: еще одна дивизия, полк, батальон — и перелом наступит. Они бросали в бой последние эскадрильи, пока те не сгорели дотла. А вот у нас самолеты были. Мало, но все-таки… Наступила пауза, и я вылетел в Москву. На аэродроме меня встретили. У офицеров, подошедших к самолету, были синие петлицы и околыши фуражек.
— Сдайте оружие! — сообщил старший, козыряя.
— Я арестован? — спросил я.
— Там объяснят, — буркнул синий.
По пути я гадал, куда меня повезут: в тюрьму или на Лубянку? Машина свернула к Кремлю. Меня ввели в знакомый кабинет. Люди, сидевшие за столом, были тоже знакомы. Выражение их лиц не сулило хорошего.
— Вот и товарищ Красовский! — приветствовал меня пассажир. — Пришлось доставить его под конвоем.
Я молчал.
— Товарищ Красовский записался в анархисты, — продолжил хозяин кабинета. — Мало того, что он игнорирует наши приказы! Как мне доложили, он заменяет стрелков в самолете. Если б самолет сбили, немцы обрадовались: командующий ВВС, генерал-лейтенант лично ведет бой. Значит, в Красной Армии больше некому. Так ведь, товарищ Красовский?
— Не так!
— Объясните!
— В 1920 году, в Гражданскую, я вез на аэроплане большого начальника. Он летел вместо стрелка. Когда поляк напал на нас, пассажир стал стрелять. Он отогнал врага. У нас тогда не было выбора. Как не было его у меня.
Пассажир посмотрел на меня долгим взглядом.
— Красовский не только анархист! — встрял Мехлис. — Он потворствует религиозным фанатикам. Как мне доложили, в авиационных полках шли богослужения, самолеты кропили святой водой.
В глазах пассажира мелькнули странные огоньки.
— Это правда, товарищ Красовский?
— Так точно!
— Как такое позволил коммунист! — причитал Мехлис. — Позор!
Я почувствовал, как внутри у меня закипает.
— Товарищ Мехлис, — спросил я как можно спокойнее, — что с вами станет, когда умрете?
— Ничего! — удивился он.
— Пустота?
— Небытие.
— Моих летчиков ждет вечная жизнь. По крайней мере, тех, кто в нее верил. С этой мыслью им было легче умирать. Вы знаете, сколько их погибло, я сообщил о потерях.
В комнате наступила тишина. Ее нарушил пассажир.
— Святая вода не мешала самолетам летать?
— Нисколько!
— Тогда пусть кропят. Поговорим о другом. Нам докладывают: авиации противника нет. Наши войска передвигаются свободно: как днем, так и ночью. В этом заслуга наших летчиков, они пригвоздили врага к земле. Плохо другое: у нас мало самолетов. Восполнить потери удастся не скоро. В этой ситуации оставлять Красовского командовать ВВС преступно. С делами справится его заместитель. Есть предложение: освободить генерала должности! Возражений нет?
За столом молчали.
— Очень хорошо. Поскольку Красовский теперь без работы, надо ему ее дать…
«С кайлом что ли? — подумал я. — Хоть не расстреляют…»
— Предлагаю назначить генерала заместителем Верховного главнокомандующего. Кто «за»?
Все подняли руки.
— Поздравляю! — пассажир повернулся ко мне. — И еще. Спасибо вам, Павел Ксаверьевич, за все, что вы сделали! Примите благодарность от меня, от всех присутствующих, от Родины, за которую вы сражались.
От неожиданности меня пробило.
— Вы устали, отдыхайте! — сказал пассажир, отводя взгляд. — К новым обязанностям приступите завтра. Кабинет вам приготовят…
* * *
Птах на руке встрепенулся, недовольно крикнул и улетел. За спиной шаги, оборачиваюсь. Дмитрий провожает птицу сожалеющим взглядом. Недавно я видел: послушник стоит, вытянув ладонь с пшеном. Птах к нему не прилетел. Это надо с молитвой, с миром в душе. Догадается…
— Отче! — Дмитрий приседает.
Что там? Велика беда — птичка на рясу капнула! Дмитрий счищает пятнышко, встает.
— Вас ждут, отче!
Идем. На поляне перед скитом вертолет. Надо же, не услышал, как он прилетел. Увлекся… Завидев нас, пилот запускает двигатель.
— Отче! — Дмитрий протягивает посох.
Зачем он мне? Я простой инок, не архимандрит. Дмитрий смотрит умоляюще. Беру, лезу в кабину, Дмитрий захлопывает дверь. Вертолет отрывается от земли, набирает высоту и ложится на курс. Лететь нам долго…
Блицкриг у фашистов все же получился, но не такой, как в моем прошлом. Авиация не в состоянии выиграть войну, но повлиять на ее ход может. Вермахт остался без поддержки с воздуха, танковые колонны мы проредили… Минск немцы взяли в июле, под Могилевом топтались до осени, у Смоленска застряли окончательно. К зиме мы потеряли миллион солдат — в разы меньше, чем в мое время. Костяк кадровой армии уцелел. Дальше были сражения и битвы — в других местах и с другими названиями. Берлин мы взяли в апреле 1944-го, а в мае наши танки вошли в Брест — французский Брест… Союзники высадились лишь в Италии, да и то застряли под Монте Кассино. Черчилль перехитрил сам себя: он стремился в «подбрюшье Европы», а укусил огузок. Черчиллю это стоило кресла премьера. Американцы вернулись домой, не попробовав французского вина. Река времени поменяла русло, листок более не плыл по течению. Он пытался им управлять.
Войну я закончил маршалом. Нас было десять, маршалов Победы, я не выделялся на общем фоне. Выделил меня пассажир. После войны он затеял реформы. Не знаю, что подвигло его к этому, думаю, он был старым. К старости начинаешь переосмысливать прошлое. С высоты прожитых лет многое видится иначе. Понимаешь, например, за что рушат твои памятники. Про памятники я ему сказал…
Суть реформ была проста — Конституция 1936 года, все, провозглашенное ей. Власть — советам, свободы — гражданам. Свободы реальные, а не декларативные. Компартия уходит в тень, занимаясь идеологией и кадрами. Глава государства — председатель Президиума Верховного Совета. Глава исполнительной власти — председатель правительства. Типичная парламентская республика с равномерно распределенной властью.
Старые кадры реформ не хотели. Им уютно жилось в прежней системе. Заговоры, перевороты, расстрелы — вот, что нас ждало. Пассажира могли убить, даже люди ближайшего круга. Нужны были помощники, верные и преданные. Пассажир предложил мне найти их, а для этого занять должность. Не самую главную к тому моменту в иерархии власти, но очень влиятельную.
Сказать, что я был удивлен, означало ничего не сказать. Я ждал любого назначения, только не этого.
— Почему я? — спросил изумленно.
— Потому, что не просрешь страну! — буркнул он. — А вот они просрут…
«Они» решились в пятидесятом. Река времени изменила даты — пассажир умер в этом году. Старая гвардия встрепенулась, но мы были готовы. Нарыв созрел, но не лопнул. Их взяли в ходе совещания: они обсуждали, кого устранить. Список был готов, моя фамилия стояла первой…
Их помиловали. Товарищи были против, но я убедил. Мне не хотелось начинать на крови. Газеты напечатали фотографии документов: списки 30-х годов с резолюциями «гвардейцев»: «Расстрелять как бешеных собак! Всех к высшей мере!..» Из ГУЛАГа освободили политзаключенных; им было интересно почитать эти тексты, поговорить с авторами резолюций. Гвардию спустили на пенсию — возраст большинства позволял. Пенсии дали не персональные, а обычные, поселили в гуще народной. Говорят, им было весело…
Я остался в прежней должности, несмотря на просьбы товарищей. Я был не молод — на высший пост поздновато. Страна нуждалась в энергичных и знающих руководителях, дел было — начать и кончить. Мы многое сумели. Отменили негласный принцип: любой руководитель — член КПСС. Партия избавилась от карьеристов, страна получила толковых начальников низшего и среднего звена. Депутатов стали выбирать на альтернативной основе. Разрешили частный бизнес, оставив за государством крупные производства. Мы демонтировали здание, построенное на крови и страхе. Вместо него возводили новое — медленно, этаж за этажом. Спешить не стоило: быстрые перемены пугают людей. В Европе появилось ССГ — Содружество Суверенных Государств. Поначалу нас было пятеро, но мы прирастали. Таможенных границ у Содружества не было, огромный рынок манил европейцев. Рубль стал общей валютой — не сразу, постепенно, но стал. С американцами кое-как, но поладили. Сходу не получилось. Речь Черчилля в Фултоне, холодная война… У нас появился аргумент. Война кончилась раньше, чем Манхеттенский проект дал плоды. Американцы проект закрыли: результат не ясен, стоит дорого. Мы остались при своем мнении и работы продолжили. Атомную бомбу испытали в сорок девятом. Американцы спохватились, да поздно: догонять всегда трудно. Поначалу они кичились отдаленностью: попробуй, долети! Появились баллистические ракеты — долететь стало не проблемой. Они предложили договор. Мы подписали его на наших условиях. Мирное соревнование двух систем, попытка принести куда-либо «демократию» на штыках — повод к войне. Они согласились. «Демократия» — это хорошо, это красиво, но жить хочется долго и счастливо.
Изменился взгляд на прошлое. Первую мировую признали освободительной, ее участников — ветеранами войны. Разрешили носить царские ордена. Первым, кто откликнулся, был Буденный. На прием к французскому послу он явился с Георгиями. Подскочили фотографы, кинохроника… Семен Михайлович крутил ус и улыбался. Маршал отличался редким благоразумием: ему посоветовали — он надел. Буденный предложил захоронить погибших, независимо от того, на какой войне они пали, обустроить могилы, поставить памятники. Инициативу поддержали, маршал возглавил движение. Это возымело неожиданный эффект: в СССР потянулись эмигранты…
Жизнь в стране наладилась: никто не голодал, не ходил раздетым. Строилось жилье, люди покупали машины. Не только свои. Те, кто богаче, рассекал на «немцах» или «французах» — Содружество имело общий рынок. В стране существовала система власти, не зависящая от прихоти одного лица. Так мне в ту пору казалось…
Мы осудили культ личности. Спокойно, без истерик и рыданий. Памятники пассажиру снесли. Не все: те, что представляли культурную ценность, оставили. В утиль пошли бетон и гипс. Городам и улицам вернули исторические названия. Портреты вождей на демонстрациях больше не носили, на здания их не цепляли. Газеты публиковали скупой официоз: кто с кем и где встретился, какой договор подписал. Партия следила, чтоб никого не восхваляли, и следила строго. Прокол случился там, где его не ждали. Я не ждал…
В шестидесятом сняли фильм «Операция «Ураган». Это был реквием пилотам, погибшим в начале войны. Генерал Красовский в сюжете присутствовал, без него было никак. Я одобрил сценарий. Генерал был второстепенной фигурой, на первом плане сражались и умирали мои мальчики. Я хотел, чтоб их помнили.
Случилось непредвиденное. Играть Красовского поручили Юматову — за внешнее сходство с оригиналом. Актеру не понравилась скромная роль, он уговорил режиссера. Сценарий изменили, не уведомив меня. На просмотре я обомлел. В центре сюжета был генерал. Нарушая приказ, понимая, что его расстреляют, он поднимал авиаполки. Он скрипел зубами, видя, как гибнут его мальчики, но слал их бой, иначе было нельзя. Генералу сообщали о смерти сына-летчика, он каменел лицом, но продолжал дело. Заменяя раненого штурмана, генерал становился к пулемету и стрелял во врага, вкладывая в это боль от утрат и ненависть к врагу … Юматов сыграл блестяще. Заключительная сцена, когда генерал стоит перед Политбюро, ожидая смертного приговора, потрясала. Неожиданное назначение, благодарность вождя, одинокая слезинка, бегущая по щеке… Кто им рассказал об этом? Я так и не узнал.
Я потребовал запретить фильм. Это был первый случай, когда меня не послушали.
— Если б героем был другой, вы бы одобрили? — спросил меня Председатель Президиума.
Я нехотя кивнул.
— Мы понимаем ваши чувства, Павел Ксаверьевич, — сказал Николай, — но вы сами учили не мешать личное с общественным. Это хороший фильм, нам такие нужны.
Картина вышла на экраны. В кинотеатры стояли очереди. Фильм купили десятки стран, на фестивалях он собирал призы. На Западе вспомнили Маяковского, шутили над «плачущим большевиком», но таких голосов было мало. Западу «Операция» понравилась.
За границей меня звали «Сфинкс» — за непривычную для Запада закрытость и молчаливость. Фильм пробудил интерес к личности «Сфинкса». Англичанин Скотт выпустил роман-биографию под названием «Сокол двух царей». Факты в книге были точными, изложение — уважительным, книгу перевели. Дали название «Красный сокол», издали миллионными тиражами — спрос на книгу был. Партия не получала субсидий из бюджета, жила за счет издательской деятельности, почему б не заработать? О последствиях не подумали.
По мотивам книги сняли фильм. Героя звали Павел Коротков, прямой аналогии не было, сценарий не согласовали. Получилась мелодрама: история любви летчика на фоне двух войн. Быстрицкая сыграла главную героиню, причем, настолько талантливо, что зрители плакали. На роль Короткова пригласили Юматова. Это было первой ошибкой: лицо актера в глазах зрителя имело прототип. Второй ошибкой стал финал. Юматов в мундире маршала стоял на трибуне, наблюдая за авиационным праздником. Это было цитатой. 12 августа каждого года я надевал маршальский мундир и ехал на аэродром — праздновать День ВВС. Фотографии с праздника печатали газеты, все мгновенно поняли…
Страна увидела: есть неизвестный герой. Он внес «решающий» вклад в Победу, но о нем забыли. Немедленно подсчитали награды; выяснилось: у меня их мало. Это было справедливо: я находился в Ставке, в то время как другие руководили операциями, но люди этого не понимали. Началась вакханалия. Вал публикаций в газетах, «восстанавливающих справедливость». Сотни воспоминаний и мемуаров в центральной и местной печати. По моей просьбе воспоминания проверили, подсчитали количество летчиков, якобы воевавших в одном отряде со мной. Их набралось более четырехсот! Причем, шестнадцать жили за границей. Один — в США, трое — во Франции и двенадцать — в Израиле. Газета «Правда» напечатала статью «Как сейчас помню», язвительно высмеяв «мемуаристов». Публикации прекратились, но было поздно.
Моих официальных портретов не существовало: я не занимал государственных постов. Фотографии переснимали из газет и книг, у того же Скотта. Их прикрепляли к лобовому стеклу автомобилей, это стало хорошим тоном. Летчики держали портреты в кабинах. Если б им позволили, рисовали бы на фюзеляжах. Во все времена люди нуждаются в идоле, они его нашли.
Я поставил вопрос на ЦК, меня не поддержали. Товарищи решили: это патриотическое движение. Большинство в комитете были молодыми, многие не воевали. Кино, книги и публикации повлияли на них. Они не понимали: создается культ личности. Он стал проявляться не только в восхвалении. Меня стали втягивать в несвойственные дела. Президенты и премьеры иностранных государств стремились встретиться со «Сфинксом». Считалось, что мое одобрения делает договор прочным. Иностранцам шли навстречу — так проще. Почти по всем вопросам мое мнение стало решающим. Я все более походил на покойного пассажира, не хватало только памятников на площадях. Памятники были не за горами. Это перечеркивало все, чего мы добились. Власть не должна зависеть от капризов одного лица, даже гения. Гении случаются злые.
Я подал в отставку, ее не приняли. Я подал снова — и с тем же результатом. Они не отпускали меня — боялись остаться без мудрого отца.
…В шестьдесят пятом умерла Ольга. Болезнь выявили поздно, операция запоздала. Диагноз не скрывали: от кого? От врача? Я взял отпуск — впервые за много лет — и провел его с ней. Она уходила во сне, ненадолго пробуждаясь между уколами морфия.
— Я прожила счастливую жизнь, — сказала Ольга в миг просветления. — Мне повезло. Стать твоей женой… А дети? Какие у нас замечательные дети!
— Дети — твоя заслуга! — возразил я. — У меня не было времени их воспитывать.
— Ты воспитывал их примером. Они боялись подвести тебя.
Мы помолчали.
— Я много думала: отчего мне повезло? Почему Господь дал мне тебя? Чем я заслужила? Ты мог попасть в другой госпиталь, и мы никогда бы не встретились!
— Мы не могли не встретиться! Это предопределено.
— Ты так считаешь?
— Уверен!
— Одного боюсь, — вздохнула она. — Я умру, а ты снова женишься.
— Мне семьдесят пять! — сказал я.
— Ну и что? Ты и сейчас хоть куда! За тебя любая пойдет!
— Я не собираюсь жениться. У меня другие планы.
Я рассказал ей. Она выслушала и одобрила.
— Не задерживайся здесь! — попросила на прощание. — Без тебя мне будет скучно. Там никто не назовет меня «маленькой»… — она заплакала.
Я вытирал ей слезы, а она все плакала и плакала…
Мы схоронили ее в августе; в сентябре умер маршал Красовский.
После того, что он натворил, маршал должен был умереть. Но не физически — это ничего бы не изменило. Гроб отвезли бы на лафете, соорудили памятник, стали лепить красивую легенду. У преемника появился бы соблазн повторить… Нужно было сделать так, чтоб соблазна не возникло.
Реформы пассажира дали свободу вере. Церковь возродилась. Ей не помогали, но не ущемляли — ее терпели. Заслуги церкви в годы войны признали, но и только. Доктриной государства оставался атеизм. Я пытался втолковать товарищам необходимость перемен и в этой сфере, меня не поддержали. Товарищи выросли в СССР, атеизм им был привычнее. Доктрина, тем не менее, размывалась. Коммунисты крестили детей, праздновали Пасху, на это закрывали глаза. Я встречался с патриархом, митрополитами, клиром — это никого не волновало. О чем мы говорили за закрытыми дверями, не сообщалось. Но даже для церкви мое решение стало неожиданным. Меня пытались отговорить, я настоял. У епископа, когда он постригал меня, дрожали руки…
Маршал Красовский умер обдуманно. Оставил письмо товарищам, попрощался с детьми и внуками. Сделал все тайно: что-что, а это мы умели. Отдаленный скит, выбранный мной, лежал в стороне от жилых мест: новоявленный инок желал уединения.
Его нарушили через неделю. На поляне перед скитом приземлился вертолет, на высокую траву шагнули люди. Никогда эти глухие места не посещала такая делегация — руководство самой большой страны в мире…
Они стояли на поляне и смотрели на скит, не зная, что делать. Я глядел сквозь окно и тоже не знал. Я ожидал гонца, но они явилось в полном составе. Я подумал и вышел. Николай метнулся навстречу.
— Павел Ксаверьевич!
Я обернулся к скиту.
— Отец Серафим! Отче…
Я развернулся к нему.
— ЦК не принял вашу отставку. Ваш пост оставлен за вами. Пожизненно!
Я пожал плечами: что из того?
— Руководить будет заместитель…
— Зачем прилетели? — спросил я строго.
— Беда, отче! — вздохнул он. — Ваш уход наделал переполоху. На Западе пишут о смене курса, предрекают возврат к старому. Утверждают, что вас убили или, в лучшем случае, заточили в тюрьму. Люди в стране волнуются, слухов — море…
— Скажите им правду!
— Сказали! Не верят! Никто не ждал… — он помялся. — Если б вы сами объяснили…
— Как?
— Мы пришлем киногруппу. Снимем сюжет, покажем по телевидению…
Я подумал, посмотрел на покосившийся скит. Дом был ветхий, в щели задувало.
— Хорошо! — сказал я. — Только мужчин. Желательно, умеющих держать в руках топор.
— И еще! — поспешил Николай. — Надо, чтоб вас видели вживую, хотя бы раз в год!
Я подумал и кивнул.
— 7 ноября! — обрадовался он.
— 12 августа, в день Военно-воздушного флота!
Николай склонил голову и сложил руки, я благословил.
Группа прилетела назавтра. Двое молодых, неразговорчивых парней плюс режиссер. Звали его Константином. Режиссер мне понравился, мы долго говорили. Константин рассказывал о себе, ему хотелось выговориться. Неудачный брак, развод, череда случайных связей. Богемная жизнь, водка… Константина мучила неудовлетворенность жизнью. Мы беседовали, оператор снимал. Я привык и перестал его замечать. Помощник оператора стучал топором, его работа интересовала меня больше. Через неделю киношники уехали, я остался один. Я мог, наконец, размышлять и молиться: за себя и других…
Константин явился с первыми морозами. Не знаю, как он добирался — через леса, в холод, но он дошел. Сбросил у порога рюкзак, пошарил в нем и протянул мне пакет. Я развернул. Это была киноафиша. Старец в рясе, творящий крестное знамение. Ниже — название: «Он молится за нас!»
Монахам нельзя ругаться, даже мысленно. Но я был молодым монахом. Я скомкал афишу и бросил в печь.
— Это мой лучший фильм! — сказал Константин, наблюдая за языками пламени. — Мы взяли архивные кадры, нарезали их к вашей беседе. Каждое слово получило подтверждение… Никогда не видел, чтоб так ломились на документальное кино. Люди в зале плакали…
— Говори, зачем пришел! — велел я.
— Отче! — склонил он голову. — Благослови на послушание!..
Так в скиту появился второй насельник. Теперь нас пятеро. Приходили многие, но остались единицы. Жизнь в скиту суровая, особенно, зимой…
Принимая постриг, я полагал: монашество не затянется — здоровье мое было никудышным. К моему удивлению хвори ушли. Я бодр, несмотря на годы. Господь дал мне возможность уразуметь. Люди часто думают: Бог наказывает за грехи. Они ошибаются: Бог не наказывает. Он отмеряет ношу по силам и духу каждого. Чем больше снесешь, тем больше сподвигнешь. Я не изменил бы мир, не пройдя отведенным мне путем, у меня не хватило бы сил. Рассчитывал ли на это колдун, давая мне «эль-ихор»? Не знаю. Колдовством мир изменить нельзя, это под силу только Творцу. Господь попустил отцу, потерявшему дочь, он милосерден. Дочь старика не погибнет, как и мальчик Петров. Войны в горах не случится, черноглазые девочки не наденут пояса с взрывчаткой; они даже не узнают, что такие бывают.
Почему мне позволили совершить задуманное? Я не знаю ответа на этот вопрос. Никому не ведом промысел Божий. Я стал орудием в Его руках, этого достаточно.
…Вертолет садится на бетонную полосу. Это не военный аэродром. Странно. Пилот выключает двигатель и выходит из кабины.
— Новый аэропорт! — поясняет в ответ на мой взгляд. — К Олимпиаде сдали.
Хороший аэропорт! Красивый!
Пилот склоняет голову под благословение. Вот имя Отца, и Сына, и Святаго Духа… Каждый раз меня везет другой пилот. Я как-то спросил, почему. Мне пояснили — это честь! Благословение отца Серафима! За это право идет борьба, побеждают самые достойные. Тщета человеческая!
К вертолету подкатывает машина. Зачем такая большая? Опять тщета… Водитель распахивает дверцу, сажусь. Внутри просторно, диван мягкий. Крыша снята — тепло. Машина выезжает из ворот, ее окружает эскорт мотоциклистов. Белые шлемы с гербом, белые перчатки, белые краги… Это чего они удумали? Я не государственный деятель!
Мы мчим по шоссе и сворачиваем в город. Странно, по кольцевой было бы скорее. Кортеж катит по улице, очищенной от транспорта. С обеих сторон на тротуарах стоят люди; они машут руками и что-то кричат. Мне? Да что здесь происходит? Отчего поперек улицы растяжки с цифрой «90», отчего такие же плакаты на домах? Что они празднуют? На дворе год 1980-й от Рожества Христова. Октябрьской революции будет 63, ВВС России исполнилось 68. Не сходится… Что произошло в России в 1890 году? Неужели? Я совсем забыл! Павел Красовский родился 12 июля по старому стилю, в день святых первоверховных апостолов Петра и Павла, и был назван в память одного из них. Это ему исполнилось 90. Однако, я больше не Павел! Я инок Серафим! Монахи не празднуют дни рождений. Зачем это? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного…
Кортеж въезжает на аэродром, катит к огромной, увитой цветами трибуне. Посреди нее вся та же цифра «90». А людей! Они что, полстраны сюда собрали?! Прежде было руководство страны, военные и мои близкие. Даже такого количества было много — в глуши отвыкаешь от многолюдства. Телекамеры, фоторепортеры… А это что? Почетный караул? Они с ума посходили!
Автомобиль замирает у красной дорожки. Подскочивший офицер в аксельбантах распахивает дверь. Я не пойду! Я монах! Мне не к лицу эта тщета…
Офицер смотрит сверху, он растерян. Если я не выйду, он расстроится — как тысячи других, пришедших на праздник. Уничижение паче гордости, надо терпеть.
Ступаю на красную дорожку. Над аэродромом взмывает призывный клич фанфар. Они поют все время, пока я иду. Черный, сгорбленный монах на красной дорожке. Видели бы меня святые угодники! Заплевали бы с головы до ног! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного…
Слава Богу, дорожка кончается.
— На караул!
Позабытый лязг оружия. Перед трибуной — блестящий частокол сияющих штыков. Поднимаюсь на трибуну, становлюсь впереди. Фанфары умолкли. Что еще они приготовили? В отдалении возникает гул, он нарастает, в небе появляются самолеты. Это самый странный строй, из всех, что мне приходилось видеть: самолеты выложили в небе цифру «90». Цифра приближается, вот она уже над нами; внезапно строй рассыпается. Реактивные истребители, испуская цветные дымы, ринулись в стороны, затем сблизились и заплясали в небе. Они что-то пишут. Что?
«По… здрав… ляем…» Влага смывает буквы с моих глаз. Мальчики мои, сынки…

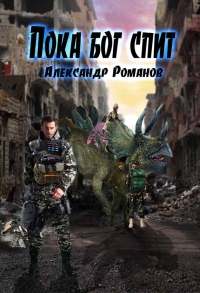

![Третья мировая. [СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/447439/primary-medium.jpg)
Комментарии к книге «Листок на воде», Анатолий Федорович Дроздов
Всего 0 комментариев