Ижевчанин Юрий Критический эксперимент
Техническое отделение практики
Я был в очередной раз в командировке в МГУ. Иду себе по коридору, намереваясь зайти в букинистический магазинчик, и слышу, как студенты переговариваются о том. что кто-то из знакомых пропал. Потом встречаю знакомого профессора Владимира Ильича Неленина, и он тоже сказал мне, что тут какая-то эпидемия пошла: неожиданно пропадают без всяких вестей профессора и студенты, а потом некоторые так же неожиданно появляются вновь. Вот и его знакомый философ отсутствовал пару недель, а потом вернулся какой-то унылый и совершенно постаревший, а лингвист наоборот, посвежевший и весьма радостный. Но никто никогда не говорил, что случилось и где он был.
Поднимаюсь я на мехмат к безумным программистам. Там сидит самый главный Олег Программенко, зашел с ним разговор о пропажах и он ехидненько так мне советует:
-- Спустись по левой лестнице около главного входа на третий подземный этаж (в спецлифт тебя не пустят). Найди комнату 7. Ничего не обещаю, но, может быть, будет нечто любопытное.
Спускаюсь я в загадочные МГУшные подвалы. Вижу дубовую дверь с номером 7 и с вывеской: <<Техническое отделение практики>>. Чуть пониже: <<Вход строго по пропускам.>>
Удивляюсь я, чего же любопытного может быть в режимной лаборатории, да и зачем мне туда соваться? Но на двери есть окошечко, я стучусь в него, и с меня требуют документы. Даю я свой пропуск, и мужик говорит: <<Подождите немного, сверюсь с базой данных>>. Через несколько минут он открывает окошко, возвращает пропуск и говорит: <<Вообще-то у нас вход строго по спецпропускам. Но в вашем случае я могу запросить начальника. Подождите минут пятнадцать.>>
Я удивился неожиданному повороту событий и жду. Показалось, что прошла вечность, но тут окошко вновь открылось и мне говорят: <<Вам выписан разовый пропуск>>.
Я беру пропуск, расписываюсь. Дверь отпирается, и я попадаю в комнату, где сидят несколько дам за компьютерами, в общем, типичная бюрократическая контора. В одну сторону дверь с табличкой: <<Директор>>, в другую — <<Лаборатория>>. Одна из дам кивает мне головой и приглашает:
-- Садитесь, Юрий Николаевич. Мы слышали о вашей нестандартной методике подготовки и готовы заключить договор о практике ваших студентов. Посмотрите, пожалуйста, наш стандартный договор. Я его для Вас распечатала.
Я начинаю просматривать совершенно заумный и запутанный длинный текст, и отмечаю про себя, что почему-то от каждого практиканта сразу же требуется заявление на перевод в МГУ, но перевод не гарантируется: <<Рассматривается по результатам первых двух месяцев практики>>. Там еще множество закорючек, я их помечаю.
Тем временем я чувствую, что за мной пристально кто-то наблюдает и идет какая-то скрытая деятельность. И неожиданно из лаборатории выходит мужичок, по виду похожий на агента КГБ (такой же неприметный, но с пытливыми глазами).
-- Юрий Николаевич, мы тут просмотрели данные о Вас. Если Вы желаете, можно показать кое-что в нашей лаборатории.
-- А меня после этого не заставят форму подписывать или что-то подобное?
-- Не беспокойтесь, не заставят.
Я почувствовал в голосе некоторое ехидство, но авантюризм оказался сильнее, и я пошел налево, в лабораторию. В ней на стене была вделана громадная электронная карта Земли, на которой горело несколько огоньков, и один из них ярче. Перед картой стоял молодой офицер (капитан, по звездочкам). Он пристально вглядывался в яркий огонек.
-- Если хотите, посмотрите внимательнее на то, куда глядит товарищ капитан, — сказал провожатый.
Я подошел, стал за спину капитана, тот даже не заметил. Гляжу я на звездочку, и она раскрывается в экран, а на нем уныло бредет куда-то небольшое войско в форме то ли XVIII, то ли начала XIX века, не разбираюсь я в этом. Вокруг разоренная земля, кое-где поломанные повозки, виднеется сожженный хутор. А что это около дороги валяется? Какая чернуха! Несколько неубранных, но обобранных трупов. А капитан все вглядывается в эту скучную и уж слишком мрачную батальную сцену. (Впрочем, какая тут баталия! Ничего не происходит. Солдаты даже не ругаются: по всему видно, смертельно устали).
-- Видите, как товарища капитана заинтересовала эта ситуация! Он рассматривает ее как профессионал, как эксперт. А Вы — как зритель батального фильма, — опять вмешался провожающий. — Садитесь за столик, я вас кое с чем ознакомлю.
Провожающий (он так и не представился) сказал:
-- По своему роду деятельности Вы знаете, насколько мощная сила творческий интеллект вместе со знаниями специалиста и с интуицией. И понимаете, насколько редко это встречается. Это сочетание особенно ценно в критические моменты, но почти никогда в них не оказывается на нужном месте достаточно адекватная личность, типа Цезаря Борджиа и его папаши, Игнатия Лойолы, Наполеона либо Гитлера.
-- Да, страшненькие примеры! Но я сам люблю такие беспощадные аналогии.-- заметил я.
Провожающий продолжил.
-- Мы тут одно из немногих звеньев системы, которая призвана направлять тех, кто может справиться с решением критической проблемы, в нужное место и нужное время.
Я отметил последние слова, сказанные как-то нарочито бесцветно.
-- Значит, Вы направляете в критическую точку пространства-времени того, кто мог бы в ней что-то важное сделать?
-- Все поняли. Так что не удивляйтесь, сейчас товарищ капитан пропадет. Он уже втянулся в критическую точку.
И капитан, действительно, вошел в карту и исчез. Осталась лишь его одежда. Вошла дамочка, собрала одежду в пакет, наклеила на него ярлык << Капитан Яковлев, 28.05.2009 >>, и положила в одну из секций на боковой стене, после чего вышла.
-- Бог дает некоторым людям талант, но Дьявол всячески отвлекает их от использования таланта. Он при этом пользуется и духовными, и материальными орудиями. И одно из самых страшных материальных его орудий — недочеловеки, недоличности, вообразившие себя элитой. Они стремятся рулить, не зная ориентиров и фарватера, и ни за что не подпускают к рулю тех, кто выше их по уровню. Именно поэтому назревшая проблема так редко решается. А даже плохо решенная проблема лучше вообще нерешенной. Сейчас карта перестроится под Вас, а я пока что Вас кое с чем ознакомлю.
-- Это российский спецпроект?
-- Это мировой спецпроект. Но точек реализации очень мало. Без такой подпитки цивилизация стремительно мчится в тупик, и очень скоро убьет себя об стенку.
-- Итак, Вы предлагает мне тоже втянуться куда-то? И чем же Вы поможете мне там?
-- Почти ничем. Страховка для Вашей семьи, вот, кстати, документики. Для Вас лично — гарантия переброски в место, где не будет непосредственной опасности, Вы автоматически получаете минимальные знания, чтобы не пропасть там, если приложите свои способности. Вы получаете также документы и их аналоги в соответствующем обществе, и психическое прикрытие на первое время, гарантирующее минимально положительное отношение окружающих.
-- Что значит <<минимально положительное>>?
-- Вас сразу же не сожгут, не посадят, как шпиона, и так далее. К вам нормально подойдут, когда вы попытаетесь войти в общество. А далее все зависит от вас. Мы не те, кто решают проблемы, и здесь мы не можем вам помочь.
-- Значит, никаких гарантий безопасности?
-- Никаких.
-- И сколько же там придется поработать?
-- Сколько надо. Для утешения могу сказать, что там, как на индийской горе Махамеру, год примерно равен дню. Пробудете там семь лет — сюда вернетесь через неделю.
-- Совсем стариком?
-- А это уж зависит от того, как Вы решите проблему. Если плохо, то ваши тамошние года с вами и останутся. Если средненько, вернетесь в том же возрасте, как и большинство из русского отделения. А если хорошо, можете даже помолодеть. И такое бывало.
-- И как же я вернусь? Дадите какое-то устройство? А если я его потеряю? Или оно не сработает?
-- Никакого устройства. Как только проблема будет решена, Вы почувствуете, что можете вернуться. Только не тяните, окно возврата открывается лишь на пару недель.
-- А если не решу ее?
-- Может быть, Вы и там спокойно доживете, но сюда уже не вернетесь.
-- Ничего себе условия! И ведь, сколько я понял, есть такие камикадзе?
-- Есть. А договор внимательно прочтите. Страховка очень приличная, больше миллиона уев. Но ваша семья должна будет молчать. С Вас лично мы подписку не берем: все равно Вам никто не поверит. Если вернетесь с успехом, Вас ждет премия, но, конечно же, раз в сто меньше страховки. Так что мы искренне желаем Вам вернуться.
-- Вы что, уже уверены, что я пойду на эту авантюру?
-- Я посмотрел на карту. Есть несколько ярких огоньков. Это значит, что Вы были бы в этих точках очень нужны, если, конечно, справитесь. Сейчас Вы еще можете, не глядя на карту, подняться и выйти, подписав договор о практике. Но Бог Вас начнет карать за трусость. А если Вы станете вглядываться в точки, а затем решите не идти, то Бог Вас навсегда лишит всех творческих сил.
Я почувствовал, что у меня тоже настала критическая точка. Хотелось встать и выйти, не оглядываясь. Но рука сама подписала договор об участии в критическом научном эксперименте, и я глянул на карту: на ней было пять ярких огоньков.
Я стал смотреть на них, и в том, который был около Балтики, мне показалось, я узнал Кенигсберг, только старый, века XVIII. Какое-то смутное желание попасть туда показало мне, что выбор уже сделан. И тут я осознал, что проблемы-то не знаю.
-- А проблема-то какая? — закричал я.
-- Товарищ капитан был умнее. Он даже не спрашивал об этом. Ваше дело ее увидеть, осознать и решить. Мы здесь помочь не можем.
Я уже не мог оторваться от карты. И тут женский голос сзади сказал (видимо, для дам это было также очень интересным зрелищем, как уходят камикадзе):
-- Все, горизонт событий пройден! Он уходит!
Русский Кенигсберг
Я оказался в комнате кирпичного дома. Комната была довольно просторная, из мебели в ней были кровать, сундук, два стула и стол. На одной стене было маленькое окно, у другой — камин. У сундука стоял мой то ли чемодан, то ли сундучок (откуда-то я знал, что это мое). Я стоял голый на кучке одежды. Я посмотрел: камзол, жилет, короткие штаны, чулки, треуголка, парик, белье, башмаки, а также шпага и кошелек. Ну как одевать эту непривычную одежду?
Открыл кошелек. В нем три серебряных полтинника и немного меди. Посмотрел на одежду. Верхняя одежда бархатная, судя по всему, дворянская, чистая, но старая и потертая. Нижняя — из дешевого полотна. Ботинки целые, но тоже поношенные. Достал шпагу. Тупая, потускневшая, но не ржавая. Открыл чемодан. В нем оказались зимняя меховая шинель, смена белья, пудреница с пудрой, бритва, наполовину использованный флакон духов (судя по всему, дешевых), нож и ложка. Корме того, был сверток бумаг. Я раскрыл сверток. Самая верхняя бумага была патентом на чин коллежского асессора, выданным шляхтичу Полтавского уезда Харьковской губернии Антону Петрову Поливоде, сыну хорунжего Изюмского казацкого полка. Следующая была рекомендательным письмом от предыдущего начальника. Мне бросилась в глаза фраза: <<Порою язвилъ начальство>>. Следующая была подорожная на русском и польском языках о том, что <<коллежскiй асессоръ Антонъ Петровъ, бывшiй столоначальникъ Харьковской губернской расправы, следуетъ во вновь обретенную губернiю Пруссiя въ распоряженiе его высокопревосходительства генералъ-губернатора Суворова>>.
Но тут в дверь постучали. Я сообразил, что стою весь голый, спрятал бумаги, закрыл чемодан. Стук повторился, весьма грубо и повелительно. Голос за дверью требовательно говорил что-то по-немецки. Я понял, что чуть-чуть знаю язык, но самих слов не понял. Только уяснил, что какой-то чин требует открыть дверь. Ну и что я буду делать с немцами в их стране? Тут я бессилен. И тут меня озарило: ведь <<вновь обретенная губерния Пруссия!>> Значит, это, может быть, Россия! И я грубо заорал по-русски:
-- Какого хрена надо, швайне? Почему беспокоишь русского дворянина?
За дверью наступило некоторое замешательство. Я стал лихорадочно одеваться. Через четверть часа в дверь вежливо постучали. Я открыл. Стояли полицейский пристав, какой-то чиновник и русский сержант.
Чиновник сказал длинную фразу по-немецки. Сержант <<перевел>>:
-- Эта немчура грит, шо ваше благородие должно убираться из дома, яко дом-от больше не того фон Штруделя, хто тебе, благородие, сдал комнату, а описан и продается за долги.
-- Ну и что мне делать?
Чиновник выдал еще несколько длиннющих фраз, а сержант лениво пояснил:
-- Немчура бает, шо ваше благородие может судиться с господином фон Штруделем, но сей фон кудай-то смылся от долговой ямы.
Я понял, что остаюсь на улице с двумя рублями денег и с рекомендацией весьма сомнительного свойства. Оставалось идти к генерал-губернатору за назначением. Туда я и направился.
Против ожидания, ждать меня заставили не очень долго. Судя по всему, чиновников был большой недобор. Генерал лично говорил с каждым кандидатом на должность. Но по разговорам чиновников я понял, что и после устройства будет не очень хорошо. Жалование регулярно недоплачивалось, начальник был строг и скуп, кормились чиновники в основном поборами.
Я успел заодно прочитать рекомендацию. Кое-что хорошее в ней было, говорилось об умении красно складывать слова, об умении быстро сочинить много длинных бумаг по случаю, о том, что ради праздников складывал недурные вирши, о том, что церковь никогда не хаял и регулярно причащался. Было и нечто, что могло и понравиться, и не понравиться. Не пьет, не курит, носов никогда не берет. Каких еще <<носов>>? А, тех, что с ударением на первом слоге: подношений! Были и прямо отрицательные характеристики: подвержен приступам лени, язвит начальство, в плохих отношениях со многими сослуживцами.
Генерал лично просмотрел мои бумаги и сказал:
-- Теперь понятно, почему до седых волос дожил, а остался асессором. Ну, у меня, братец, не поленишься. Пойдем, дам тебе работенку как раз для твоего красного слога. Может, там и вирши сложишь.
Я обреченно поплелся за генералом.
Застенок
Генерал спустился в застенок под замком. Я уныло следовал за ним.
В застенке на дыбу был вздернут рыжий мужичонка. Палач стоял в стороне, видно, передыхал. Мужичонка закусил губы и лишь постанывал. Спина его была в крови: видно, катюга уже как следует поработал кнутом.
За столиком сидел чиновник в сбитом набок парике и уныло смотрел на протокол.
Генерал спросил:
-- Ну как, вор и изменник Ванька? Молчит?
Чиновник ответил:
-- Не молчит, а матерится. А больше ничего от него не добились.
-- Ну ладно, иди к себе. Купцы уже заждались. Я тут постоянного писца привел.
Я вздрогнул. Значит, меня собираются заставить сидеть в таком месте и записывать показания, вырванные под пыткой, и наблюдать все эти мучения все время. Да, влип! Вот тебе и герой!
-- Ну-ка, погрей его веничком, а то у него спинка замерзла, — сказал кату генерал.-- Ты, асессор, записывай, чего сказывать-то будет сей предатель и вор. А я пошел.
Генерал повернулся и быстрым шагом вышел.
Кат взял березовый веник, окунул его в огонь, подождал, пока загорится, и как протянул Ваньку поперек спины. Меня чуть не вырвало, и, чтобы все это не смотреть, я стал механически записывать все, что орал Ванька:
<<Катюга сраный, мандавошка…ная! Кукишем крестишься…сос генеральский! Черти тебе на том свете за это всю…>> — и далее матом, матом, виртуозно, многоэтажно.
Кат дал Ваньке отхлебнуть воды, чтобы у того в горле не пересохло и пытуемый мог говорить дальше. Судя по всему, эта ругань его забавляла.
За всю пытку была сказана всего одна деловая фраза, но она мне все пояснила: <<Фридрихус всех наших древлих примает, а вас, кукишников, объ…бает!>> Стало ясно, что Ванька играет идейного агента пруссаков, старовера, который так ненавидит Россию, крестящуюся кукишем, что готов пойти против нее с любым союзником. Но по мату было видно, что старовер-то он весьма грешный, два пальца для него скорее прикрытие. Так что здесь пахло не идеями, а тем, что не пахнет.
По ходу дела Ванька выдал даже большой петровский загиб, и я его тоже занес в протокол.
Ваньку одели и увели. Я поднялся к генералу и попросил у него разрешения посидеть в конторе до утра при свече, дабы перебелить протокол. Тем более и идти-то мне на самом деле было некуда. Генерал несколько удивился такому служебному рвению, и разрешил.
Я вышел, купил пару хлебцев за копейку, вернулся в контору, сел и начал уныло смотреть на запись речей ругачего предателя. Перебелить, выкинув мат, означало оставить пару фраз. Вместо рвения выйдет сплошное выпендривание. И тут мне пришли в голову какие-то обрывки из исторических романов о характере Елисавет Петровны, которая очень любила шутку на грани фола, но именно на грани, и все время мучилась от скуки и искала свеженьких развлечений без откровенного неприличия. И мне пришла в голову безумная идея: переписать <<скаску>> в приличных словах, сохранив все загибы.
Начал я прямо с большого петровского загиба и получил следующий текст:
<<Мать твою поперек заднего места имети, грушу тебе в передницу, гвоздь в подпередницу, ведьму в зад, головню в рот, дьявола в затайное место, гноя на тайности, адмиралтейская дырища, гангрена подконечная, мышь любострастная, автомат дырявый, дорожная подприставалка, дерном дырища покрытая, дегтю влитая, удорык одноногий, чревотень безногая, хавронья недолюба, пипишка перелюба, глиста передодырная, говядина моченая, горшки прозевал, гусовал, передний гужевал, воронье гнездо во лбу, полк в переду, садник на кусте\dots>> и так далее до финала.
Далее перевести все заковыристые выражения Ваньки Подкаинщика было уже просто. Но заняло это всю ночь.
В пять часов утра пришел губернатор, глянул на мой текст, отругал за корявый почерк и массу ошибок (все время забывал еры да и с точкой, а яти вообще ставил как попало), но затем расхохотался.
-- Ну и что же с такой сказкой делать?
И тут меня понесло:
-- Я слышал, наша матушка-императрица очень любит хорошую шутку. Смею надеяться, ей понравится.
-- Будет она, что ли, читать такую длинную бумагу?
Я изобразил глубокое раздумие:
-- Правы, ваше выскоблагородие, я-то об этом и не подумал! В Харькове я обычно свои сочинения сам и читал начальству, дабы ему приятнее и понятнее было.
-- Ну и дурак же ты, Петров! Поручик князь Дундуков грамотен и с приятным голосом. Да и внешностью не подкачал. Пошлю-ка я его с пакетом и с коротеньким письмом, что он должен прочитать секретную бумагу лично императрице наедине.
Я отметил на всякий случай, что во времена Елисавет Петровны уже все русские офицеры были грамотными, так что князь на самом деле более чем грамотен.
Генерал направился к выходу и вдруг обернулся:
-- Ну, если матушке понравится, озолочу! А ежели нет — не обижайся, живота лишу.
На этом и порешили. Губернатор велел чиновнику переписать <<скаску>> красивым почерком, экзекутору — занести меня в списки канцелярии на должность письмоводителя и выдать мне деньги за прогоны, а меня самого отправил сортировать бумаги. Я, полубезумный от бессонницы, тем не менее ухитрился договориться, что меня отведут к вдове Шильдерше, что невдалеке от канцелярии губернатора сдает комнату со столом (на волне того, что все чиновники помирали со смеху, читая записи, и решили угостить меня вечером в трактирчике; раздобревший экзекутор даже выдал мне денежек, как другие сказали, больше, чем другим выдавал: целых три рубля двадцать одну копейку с полушкою).
Канцелярская рутина
Шильдерша оказалась опрятной тихой женщиной лет тридцати. Звали ее Гретхен. Переговоры с ней вел столоначальник губернский регистратор Абрам Шишкин. Я внимательно вслушивался в немецкую речь и понял, что решающим аргументом, с помощью которого Шишкин сбил цену за месяц до рубля с полтиною было то, что я не женат и пью только пиво, как немец, а не как русский. Я заплатил за месяц вперед, поднялся в малюсенькую и холодную комнатушку непосредственно под крышей и сразу уснул.
Проснулся я в четыре часа утра. К пяти утра надо было быть в присутстствии. Сонь генерал не жаловал. Как я и ожидал, завтрак был весьма скудным и невкусным: вареная капуста и кружка жидкого кофе. Но, слава Богу, теперь на некоторое время я хотя бы был лишен опасности умереть с голоду.
Опасной бритвой я пользоваться не умел и боялся, что даже <<унаследованных>> навыков будет достаточно лишь для того, чтобы не зарезаться, поэтому по дороге пришлось воспользоваться услугами цирюльника. Вылетело еще две копейки.
На утреннем <<разводе>> генерал велел князю вместе со мной прочитать протокол полностью, а затем отдать его для запечатывания в секретный пакет. Похвальная предусмотрительность, дабы в Москве князь читал гладко и без запинок. Князю этот юмор на уровне офицера тоже понравился, это был хороший признак. Да и генерал-аншеф был отнюдь не дурак и оценил шансы перед тем, как отправлять мое произведение <<изящной словесности>>.
Во дворе я увидел ката. Я с дрожью в голосе спросил его, не будет ли сегодня очередного дознания? Палач пояснил, что, поскольку Ванька уже сознался в преступлении, теперь должны в Питере решить, где будут дознавать его дальше и судить: в Тайной канцелярии или на месте. А поскольку каждый узник имеет право закричать <<Слово и дело!>> и после этого его должны отправить в Тайную канцелярию, нужды мучить Ваньку сейчас нет. Более того, генерал велел подлечить его и хорошо кормить, дабы подследственный набрался сил и расслабился.
-- Лучше будет, если Ваньку у нас оставят. Ужо повеселимся, — спокойненько сказал палач.
Мне осталось лишь поддакнуть.
До обеда у меня дел больше не было, поскольку я был подчинен непосредственно губернатору, и, похлебав жиденький супчик, я вновь отправился в присутствие ждать дальнейших указаний. Они мне были переданы через экзекутора: мне надлежало в течение недели каждый день сидеть в городской ратуше и вести вместе с коллежским регистратором Пафнутием Чухланцевым отчеты о заседаниях магистрата для самого губернатора. Я понял, что губернатор решил таким образом усовершенствовать меня в немецком языке. Но, конечно же, это поручение меня гораздо больше устраивало, чем пыточный застенок.
Когда я проходил мимо окошка темницы, Ванька обложил меня и обозвал всячески, в том числе и крысой суки Елисаветы. Я, воспользовавшись тем, что никого вокруг не было, спокойно ответил ему, что пусть он обкладывает и обзывает всех, но императрицу не трогает, тогда у него есть шанс остаться в живых и сохранить язык.
Вечером мы все направились провожать уходящий в Питер корабль. На нем уезжал князь с двумя слугами и кучей сумок бумаг: для Сената, для Синода, для канцлера, лично для императрицы (самая маленькая).
Рутина пошла день за днем. Я сидел в зале ратуши, вслушиваясь в скучные прения немцев. Пафнутий пояснял мне непонятные места (немецкий он знал неплохо, но по-русски перелагал все безобразно; зато почерк у него был намного лучше моего). Мы выработали такой стиль работы. Пафнутий, если я давал знак, говорил свои пояснения, я выдавал ему русскую фразу, он записывал. На третий день пояснений я уже запрашивал не на каждом шагу, а к концу недели не часто.
Единственной приятной особенностью службы было то, что по ходу заседаний ратманы дули пиво с колбасками и капустой, и нам тоже перепадало.
В воскресенье я сходил в церковь, отстоял службу и по дороге встретил Гретхен, идущую из кирхи. Я неожиданно для себя обратился к ней по-немецки: сказалась практика недельного сидения в ратхаузе. Она улыбнулась и сразу же вновь напустила на себя скромненький вид, опустив глаза, и ответила мне, что она рада видеть, что я честный, скромный и богобоязненный человек. Жаль только, добавила она, что не лютеранин. Но Мартин Лютер до России не добирался, как им говорил пастор.
И тут я увидел подвыпившего майора, явно прибывшего прямо с войны. Лицо его показалось мне знакомым. И тут я понял, что случилось. Я подошел к нему, офицер выпучил на меня глаза, а я тихонько сказал: <<Товарищ капитан Яковлев! Техническое отделение практики!>>
Майор остолбенел, затем расхохотался и сказал: <<Пошли в трактир. Посидим как следует.>>
Мы сидели в трактире до вечера. Премьер-майор Яковлев, оказывается, был выброшен в Пруссию три года назад в чине прапорщика (вернее, штабс-капитана, разжалованного в прапорщики за пьянку, драку и ругань в адрес начальства). Он оказался в группе брошенных своими офицерами солдат и предотвратил набег пруссаков на беспечного бездарного командующего, а затем перехватил английское письмо, в котором командующему предлагалось большое отступное за отступление из Пруссии. В тот же момент Яковлев почувствовал, что может уже вернуться, но он решил остаться здесь, где жизнь настоящая. Он ухитрился передать письмо в руки императрице, ему вернули чин штабс-капитана, наградили орденом и послали привезти по именному повелению генерала на суд императрице. Он прибыл в свите Апраксина, который был назначен новым командующим, Апраксин объявил командующему. что тот арестован, и Яковлев повез предателя в Петербург. Зная, что императрица никого не казнит, а здесь скорее всего изменник отделается выговором и отправкой в имения, он всю дорогу вел речь о том, что императрица собирается урезать генералу язык и сослать на Камчатку навечно. В итоге недалекий и трусливый генерал попытался бежать, и Яковлев вместе с солдатами убил его при попытке к бегству.
Императрица отругала его за то, что не довез изменника, но видно было, что в сердце она довольна. А Яковлев нашел блестящий ход, стал показывать, что он готов на все, как рыцарь императрицы, любящий ее всей душой (но благоразумно вел себя так, чтобы она не попыталась сделать его фаворитом: показывал, что он смертельно робеет при ее появлении). Императрица растаяла и подарила ему свою персону в золотом медальоне.
После этого Яковлев вернулся на войну. Случаев проявить храбрость и умение командовать ему представилось много. Он хвастал мне, как с горстью солдат удерживал холм, пока все войско не развернулось и не ударило пруссакам в тыл, как с казаками взял в плен знаменитого прусского генерала, упоминая при этом кучу немецких и русских фамилий. Поскольку все видели персону у него на груди, представлять к наградам его не забывали и он уже дорос до премьер-майора, на груди которого сияли русские звезды и австрийский орден.
Славился Яковлев также жестокостью по отношению к изменникам. Их до суда не довозили. А после того, как Яковлев разоблачил генерала Тотлебена, лично повез его в Питер и опять не довез, императрица скорчила ему рожу, назвала <<Мой верный Малюта>>, и дала титул барона Яковлева-Скуратова. Так что офицеры прозвали его Малюта Скуратов, но, как он хвастал опять, подчиненные и солдаты его любят и готовы всегда за него или вместе с ним жизнь отдать.
Мне стало завидно: вот человек нашел свое место в жизни, а я?
На следующей неделе я получил брань за неаккуратно сделанные отчеты о заседаниях и малюсенькую похвалу за их деловитость и стиль. Поручение осталось прежним. Должны были платить жалованье, но его, как всегда, задержали. Чиновники посмеивались надо мной, что меня посадили на такое место, где ничего не возьмешь, разве что ратманы, перепив пива, начнут ругать императрицу. Но немцы типы осторожные, и ничего такого никогда при русских не скажут.
А потом стало хуже. Кто-то подсмотрел мою рекомендацию, и меня начали травить. Все спрашивали, когда же я уязвлю Суворова? Чем же я жил, ежели носов не брал? И так далее.
К счастью, на следующей неделе вернулся князь. Он, весьма довольный, угостил меня и рассказал, что два дня они шли по морю, затем три дня он ждал оказии, дабы передать письмо императрице. Императрица изошла со смеху, но некоторые места были непонятны. Она позвала ближний двор и академика Баркова и велела читать вновь. Барков стоял с ней рядом и по ее знаку на ухо пояснял ей непонятные места. Двор под конец лежал на полу от изнеможения. Перед отъездом императрица велела еще раз прочитать протокол, опять смеялась и оставила Ваньку в нашем распоряжении, с тем, чтобы ей пересылали отчеты о дознании и суде. Князя произвели в штабс-капитаны и наградили деньгами, генерал также получил высочайшую благодарность. А Барков расспросил князя, кто же на самом деле писал протокол, и пригласил меня, ежели я буду в Питере, выпить с ним.
На разводе исключительно довольный губернатор при всех похвалил меня и сдержал слово <<озолотить>>: выдал мне золотой червонец. Эти десять рублей были с его стороны удивительной щедростью. Больше никогда я от него такого не видел. Князь поделился со мной своей наградой более щедро, и на некоторое время я был обеспечен деньгами.
А на следующий день экзекутор объявил мне, что меня произвели в столоначальники и дали мне в подчиненные Пафнутия и еще двух письмоводителей с хорошим почерком. Моя обязанность теперь была составлять протоколы дознаний и отчеты о заседаниях ратуши. Поскольку я уже понимал по-немецки, в застенке пришлось бывать чаще.
Ваньку вновь вздернули на дыбу, требуя рассказать, где его завербовали, кто вербовал, сколько заплатили, что он наделал и помогал ли ему кто-то. Последний пункт меня порадовал: в это время, слава Богу, понимали, что злодей может действовать и без сообщников.
Размякший за время приличного обращения и чувствующий, что выхода уже нет, Ванька вовсю ругал и палача, и меня, и Суворова, но не императрицу. Суворов сначала хотел выкинуть из протокола ругань по его адресу, но затем подумал и решил, что императрицу это повеселит еще больше.
Дознание длилось довольно долго. Размякший Ванька имел глупость признаться, что он разговаривал со многими местными ратманами и помещиками о помощи Фридриху. Губернатор велел не раздувать дела, поэтому на очных ставках мы более всего старались, чтобы показания сошлись, и вздевать Ваньку на дыбу пришлось всего три раза. Почти все обвиняемые, кроме спесивого аристократа с пышной фамилией фон Клюге унд цу Беринг, каялись, что боялись как русской власти, так и мести Фридриха, когда тот вернется, и поэтому слушали Ваньку, но ничего не делали, однако боялись и донести тоже. Нам противно было слушать этих выкручивающихся слизняков. Аристократ прямо сказал, что, когда принимали присягу императрице, он уклонился от этого, и, если бы не раненая нога, давно вернулся бы в армию своего короля.
После этого отчет вновь направили в Питер, а дело в суд. Ванька заорал благим матом, когда суд приговорил его к колесованию. Но приговор надлежало утвердить, поскольку казнить без высочайшей конфирмации было нельзя, и кат <<утешал>> Ваньку:
-- Матушка не казнит никого. Влеплю тебе сто кнутов, ослепят тебя, язык обрежут и сошлют навечно в Сибирь.
Всех, кто слушал Ваньку, за недонесение о государственной измене приговорили к высылке в центральные губернии России, но губернатор пообещал походатайствовать перед императрицей о милости. Лишь юнкер фон Клюге унд цу Беринг высокомерно отказался от милости, но губернатор заявил, что и ему будет ходатайствовать милость.
А в промежутках я вновь сидел (но уж далеко не всегда) на заседаниях магистрата, присутствовал на скучнейших допросах немцев по скучнейшими и мелким делам (даже убийство было всего-навсего из-за тяжбы о спорном клочке земли). Было тяжело: прошли уже месяцы, а я еще ничего не сделал. Единственно, что радовало: мой немецкий все улучшался.
Кстати, уже четыре месяца жалованья абсолютно не платили. Я радовался, что не заказал себе нового костюма, ограничившись башмаками и несколькими сменами белья, и что заранее заплатил еще за три месяца вперед за квартиру. Деньги почти кончились. Так что я в душе понимал тех, кто носы берет.
Конец дела Ваньки
Князь Дундуков, вновь посланный в Питер с приговором и материалами дела, в Кенигсберг уже не вернулся. Чтеца императрица уже нашла другого, но князь исхлопотал себе перевод в штаб Апраксина, в действующую армию. Конфирмацию и умягчение доставил поручик Ермилов. Он привез, как сразу же разнеслось по канцелярии, и сундучок с деньгами на жалование. Заодно он передал мне и стихотворный ответ Баркова на мои вирши, которые я переслал ему с князем. Стихотворение было, на мой взгляд, дубовое и неприлично до жути. Но я уже решил поддерживать контакт с академиком, и мы впоследствии также обменивались виршами. Я уже жил на квартире в долг, так что очень надеялся на жалование. Правда, по мелочи удалось кое-что заработать: составить вирши на именины секретарю Суворова Ивашникову, составить пару прошений ратманам, кои русским, конечно же, не владели. Но заработки были ничтожными.
Через несколько дней после приезда гонца (в воскресенье и в церковные праздники казнить не полагалось, да и эшафот надо было возвести) кенигсберские бюргеры, да и русские чиновники тоже, пришли на площадь перед ратушей. Там уже возвышались во всей красе плаха, колесо и растяжка для наказания кнутом. Горел очаг, на нем калились клеймо и щипцы. Я не хотел идти на площадь, но должен был по долгу службы. Гретхен же пошла с охотой в толпе кумушек.
Ваньку везли на позорной телеге в белой рубахе и со свечой в руке. Рядом шел священник и утешал его. Приговоренные по его делу бюргеры и юнкера уныло плелись кучкой за телегой. Секретарь суда коллежский регистратор Егор Пупкин взошел на эшафот, дрожащего Ваньку привязали к колесу, и секретарь начал читать приговор:
-- Вор и изменник Ванька Фролов, по прозванию Подкаинщик, будучи в граде Берлине, продался нашему врагу Фридрихусу, получил у него деньги на подкуп честных прусских бюргеров и юнкеров…
Далее шло длинное перечисление того, с кем он говорил, что лаял и так далее. Потом пошли сентенции суда.
-- Ратман Иоахим фон Рюбецаль, слушавший лаятельные речи, приговорен к высылке в Рязанскую губернию. По ходатайству нашего милостивого губернатора Сенат умягчил приговор, велев сказать сему ратману дурака, и предупредить, дабы больше в такие дела не совался, взыскать с упомянутого ратмана двадцать рублей на нужды армии и губернской власти, а ему самому публично покаяться в дурости.
Иоахима вытолкнули вперед, губернатор сказал ему строгим голосом:
-- Дурак, впредь будь умней!
Переводчик перевел,
Ратман заговорил нечто извиняющееся по-немецки, губернатор махнул рукой, ратман хотел был слинять с площади, но губернатор его удержал, приказав всем осужденным быть на площади до конца.
Так же поступили и с остальными, изменялись лишь суммы штрафа. Остались лишь длиннотитульный юнкер, стоящий с гордым лицом, опираясь на трость, и Ванька, изнемогавший на колесе в ожидании своей участи.
-- Юнкер Иоганн Фридрих Якоб фон Клюге унд цу Беринг благожелательно слушал вора, поддакивал ему, уклонился от присяги, изъявил намерение идти в армию Фридриха. Он приговорен к высылке в Сибирь, но наша милостивая императрица умягчила приговор, заменив его на пять ударов кнута.
Юнкер разразился страшными проклятиями, выхватил шпагу, но солдаты быстро скрутили его, раздели до пояса и привязали к деревянной кобыле.
Кат взял кнут, поиграл им и произнес одно из немногих немецких слов, которые он знал:
-- Доннерветтер!
После этого он размахнулся и изо всей силы нанес первый удар. Показалась кровь. Юнкер даже не вздрогнул и ничего не произнес.
Он зашел с другой стороны, опять поиграл кнутом и произнес второе из слов, которое он знал:
-- Думмкопф!
Вспух второй кровавый рубец. Юнкер вздрогнул, но лежал с каменным лицом.
Эта процедура повторилась вторично, и после четвертого удара юнкер выдавил из себя:
-- Руссише швайне! Барбарен!
Палач долго играл кнутом, примеривался, воскликнул третье слово:
-- Капут!
Удар был страшным. Юнкер завыл. Его положили на заранее подготовленную дерюгу и отправили домой. Ванька от ужаса завыл тоже.
На следующий день юнкер умер.
Секретарь обратился к Ваньке:
-- Вор и изменник Ванька признан виновным в измене императрице, в том, что он хулил власти и убил двух русских солдат и одного офицера. Он приговаривается к смертной казни через колесование.
Палач взял железную полосу и приготовился крошить Ваньку в студень. Губернатор махнул платком, палач поднял полосу, Ванька заранее завопил, но секретарь достал вторую бумагу.
-- Правительствующий сенат, рассмотрев дело, положил смягчить приговор. Приговорить упомянутого Ваньку к смертной казни через обезглавливание.
Ваньку сняли с колеса и положили его голову на плаху. Палач взял топор, поднял его, и тут секретарь продолжил:
-- А на плахе сказать ему, что ему оставляют его негодную жизнь, дабы он покаялся, и приговаривают его к тридцати ударам кнута, клеймению, вырезанию языка и ссылке в каторжные работы навечно.
Ваньку привязали к кобыле.
Секретарь достал еще одну бумагу.
-- Императрица Елисавет Петровна, утвердив приговор и сентенцию Сената, в великой милости своей повелела уменьшить ударов кнутом до пятнадцати, заменить вырезание языка вырыванием ноздрей, а каторжные работы ссылкой на поселение в Сибирь.
На сей раз было видно, что палач бьет еле-еле, только красные рубцы появились на спине. Затем Ваньке надрезали ножом ноздри, дабы сделать знак, заклеймили, перевязали раны и увезли в острог подлечить. Через неделю его отправили на галере в Питер, и больше мы о нем ничего не слышали.
Вечером Шильдерша, вся возбужденная от зрелища, буквально повесилась мне на шею. Утром же она делала вид, что ничего не произошло. Я тоже. Но отметил большую разницу психологии русских и немцев: для русских казнь и пытка нечто позорное и тяжелое, а для немцев просто зрелище, даже развлечение, если не относится к своим близким.
Первый шаг
На следующий день губернатор собрал всех русских чиновников и офицеров.
-- Императрица прислала нам половину жалования за полгода для гражданских чинов и все жалование для чинов военных. Посему я решил, что все военные чины получат сегодня же жалование полностью, и пусть господа офицеры идут получать жалование для себя и кормовые деньги для солдат.
Офицеры ушли к казначею.
-- Всем немецким чиновникам я заплачу полностью, поелику нам нужно приохотить местных жителей к русской власти. А русским я заплачу с разбором.
И губернатор начал выкликать фамилии, начиная с самого старшего: своего секретаря.
-- Надворный советник шляхтич Егор Фролов Ивашников, ты шельма изрядная, и не получишь посему ничего!
-- Несправедливо! — завыл Егор.
-- Молчать, скотина! — оборвал генерал-аншеф, и Егор притих.
После такого начала все воспринимали свои решения без слов.
-- Коллежский асессор столоначальник шляхтич Антон Петров Поливода, жалование получит сполна. Кроме того, за удачное расследование дела вора Ваньки, императрица наградила всех прикосновенных к нему. Антон Петров Поливода получает рубль награды.
-- Губернский регистратор письмоводитель Пафнутий Лукин Чухланцев не получает ничего, яко не заслужил.
Та же участь ждала и двух других моих подчиненных. Неожиданно для самого себя я встрепенулся.
-- Правды требую, ваше высокопревосходительство! Если я, их начальник, жалование получил, то и они должны! И к делу они прикосновенны, а без награды остались!
-- Ну что, твое жалование и твою награду, что ли, им отдать?
-- Не получится, ваше высокопревосходительство! Мое жалование меньше их трех, и по справедливости, если я награды рубль получаю, они должны получить по полтине!
Все воззрились на меня.
-- Молчи, дурак! — заорал генерал. Я уже закусил удила, и собрался еще что-то сказать, но генерал предупредил меня:
-- Сказал тебе, молчи! А этим трем жалование я велю заплатить сполна и выдать по полтине денег.
И все еще раз воззрились на меня.
-- Завтра все поименованные чиновники подойдите к казначею за жалованием.
На следующий день управление четко разделилось на две части: счастливые рыла тех, кто получал жалование и унылые хари тех, кого генерал счел недостойным. Мои подчиненные получили свои денежки и были счастливы безмерно. Когда же мы вернулись в свою комнатушку, они удостоверились, что посетителей и визитеров нет, и вручили мне еще двадцать пять рублей.
-- Вы уж извините, Антон Петрович!
Вот ведь как: достаточно было начальству показать, что оно со мной считается, и я уже <<вичем>> стал!
-- Мы тут, дабы прожить, брали с немцев, да и с русских тоже. Ведь вы можете любой протокол слегка повернуть так, что он станет в нужную сторону. Вот мы такое и объяснили, и объяснили также, что вы сами не берете и лишь разгневаетесь на нос, а мы замолвим перед вами словечко.
-- Крысы канцелярские! Ярыги! Дьячки приказные!
-- Ну, такие мы и есть, — расхохотались чиновники.
Я подумал. Не брать и брать одинаково позорно. Выдавать своих вообще не годится, тем более когда им жалование то ли заплатят, то ли нет. Но взять чуть-чуть лучше, по крайней мере врагов под боком не будет. Да и платье надо новое справить, уже совсем поизносился. Мне вспомнилось разъяснение Елисавет Петровны на запрос, как же жить чиновникам, коли жалованья не платят: <<Берите, но по чину и справедливости.>>
-- Ну смотрите, чтобы все по справедливости и по чину было! И чтобы бедных и сирот не обижать! Не хочу за вас в адской смоле гореть.
-- Ну исповедуетесь, и Бог простит! А мы стараемся уж по честности, поелику возможно. Начальник у нас справедливый, и мы должны быть такими же.
-- Нахалы вы, а не справедливые! Смотрите уж у меня!
Чиновники скромно потупили глаза, а вошедший визитер из местного гарнизона застал самую обычную сценку: начальник распекает своих подчиненных. Пожалуй, все остались довольны, кроме меня самого.
* * *
Генерал был скуп, но не жаден, и думал прежде всего о деле. Видно было, что на следующий день он посмотрел на меня без злобы, а после закрытия присутствия велел задержаться и позвал к себе в кабинет вместе с Егором Ивашниковым. Там уже ждали три рюмки доброй водки. Генерал сел, а мы выпили стоя.
-- Егорка, шельма такая, молодец, здорово придумал, себя первого без жалованья оставить! Все сразу притихли. А ты, Антон, коего черта, м. дило, в офицеры не пошел? Тебе бы с твоим характером не в ярыжках отсиживаться.
-- Пошел я в семинарию, тянуло меня узнать бездну премудрости. Вот и попал в чиновники. А в попы совсем не хотелось.
-- Ну и узнал свою бездну?
-- Да нет. Мудрствования много, а премудрости мало где найдешь. Зазубрили много, а понимают мало.
-- Правильно говоришь. Генерал немного помолчал и сказал:
-- Хочу я вам кое-что сказать. Но сначала выпьем еще по одной.
Он позвонил и велел налить еще по рюмке.
-- Теперь у меня две руки. Егорка шельма, пройдоха, мздоимец первостатейный, а ты, Антон, готов в драном камзоле ходить, голодать, лишь бы носов не брать. Но есть у вас общее. Оба вы за дело и за Россию болеете, оба вы себе на уме и люди верные. Так что теперь у меня две руки: правая и левая, чистая и грязная. Ежели нужно мне, чтобы дело было обязательно сделано, пошлю Егорку. Я знаю, он и схитрит, и украдет, что можно, но дело сделает. Если нужно мне, чтобы все было чисто и честно, пошлю тебя, Антон. Вижу, что на самом деле не рохля ты и не такой уж бессребренник и святоша, но ежели выбирать, чтобы дело сорвалось или словчить, выберешь первое.
Генерал допил свою рюмку. Мы сделали то же.
-- Канцлер и матушка-государыня велят мне, дабы приохотить как можно сильнее здешних людишек и знать к России. Немцы и мастера, и чиновники отличные, и вояки первоклассные, и к порядку приучены. Поблажек им больших давать нельзя, но и обдирать зря тоже не стоит.
Генерал с иронией глянул на Егора.
-- Ты, шельма, глаза цыганские, берешь ведь со всех, говоря, что за них передо мною словечко замолвишь. А говорил ли ты хоть раз за кого-то словечко?
Егор покачал головой:
-- Василий Иванович, я ведь знаю, что вы меня не послушаете, а наоборот, ежели я уж за кого-то заступаюсь, значит, дело нечисто.
--Верно думаешь, шельма! А отдавал ли ты хоть раз кому-то денежки, если их дельце не выгорало?
-- Да как-то так все время получалось, что они сами виноваты оказывались.
Я вспомнил вчерашнюю ситуацию с чиновничками, и сказал:
-- Ваше высокопревосходительство, а ведь вчера Вы мудро рассудили, кому платить, а кому нет. А я влез.
Суворов расхохотался.
-- А ты, скромник, приоденься получше. Тут замучили меня местные юнкера да ратманы со своими тяжбами. Буду посылать тебя распутывать эти дела и говорить мне, на чьей стороне справедливость. Я знаю, что ты криво не скажешь.
А насчет справедливости, теперь будешь мне помогать ее устанавливать. Думаешь, я сам все узнаю? А знать уж приходится много, даже такого, чего бы и не нужно знать, — и генерал тяжело вздохнул.
Я собрался с духом.
-- Ваше высокопревосходительство, а можно мне порою в университет здешний на лекции ходить?
-- Опять премудрости жаждешь! Ну поищи ее здесь, раз в Киеве не нашел. Да, заодно, когда мы наедине, можешь называть меня по имени-отчеству, как Егорка.
А Егор ухмыльнулся:
-- Думаешь, здесь чего-то найдешь? Местные профессора спесивые, сволочи, да, по-моему, почти все туповатые зубрилы. А ежели и есть здесь кто на самом деле умный, то он очень сильно себе на уме.
Генерал еще чуть-чуть посидел, и сказал нам:
-- Тебя, Егорка, я к награде и к повышению в чине представлю. А тебя, Антон, ни за что! Таких пройдох, как Егорка, немало, и его не уволокут, да и справиться с таким цыганищем мало кто может: другого он тысячу раз объегорит и подкузьмит. А ты, Антон, — редкий фрукт. Ежели тебя распознают, живо в столицу заберут. Ну а там чуть побудешь в фаворе, да потом скоро тебе за твои речи язык урежут и в Сибирь закатают.
Генерал поднялся, и мы распрощались и вышли. У меня неожиданно появилось чувство, что первый шаг сделан. Но вот куда? И что именно в разговоре наводило на этот шаг? Уж не Егорка ли здесь корень проблемы? Не обхитрил бы он всех и не подкузьмил бы он целую Россию, а то и целый мир! Но, с другой стороны, прав генерал, таких жуликов всегда было много… А вот если такой жулик оказывается в решающем месте и в решающее время… Не сможет ли он повернуть историю, как это сделал Талейран? Ну что же, первая гипотеза есть, пригляжу за Егоркой.
Но как обидно: Яковлев-то свою проблему чуть не в один день решил, а я за пять месяцев только один первый шажок сделал! Что же это за бяка, которая здесь имеется? Судя по темпам, это не срочное спасение чего-то или кого-то, а скорее неспешное распутывание какого-то безнадежно сплетшегося гордиева узла.
Я вышел из канцелярии. Домой идти сразу не хотелось. Пошел куда глаза глядят и куда ноги несут. Из-за угла вылезли три подозрительных пьяных типа. Инстинкт сработал: я вжался в стенку в дверном проеме, чтобы пропустить их и не ввязаться ни во что. Но они направились ко мне, и один из них, дыша перегаром и ухмыляясь, потребовал по-немецки: <<Кошелек или жизнь!>>
Видимо, бурсацкая выучка сработала: я не представлял, что могу быть столь хладнокровно жесток. Пальцами я ткнул в глаза переднему. Он схватился за глаза и завыл. Второй вынул кинжал, но передний, корчась, ему мешал, и я успел изо всей силы дать головорезу ногой в пах. Он тоже скорчился, правда, по-другому, а я выхватил свою тупую шпагу и заорал: <<Караул!>>
В те времена этот крик имел прямое значение и был порою действенен. Увидев, что случилось с его подельниками, да еще шпагу в моей руке, третий предпочел смыться как можно быстрее, пока не появился караул.
Ноги у меня подгибались и я весь трясся. Болели разбитые рука и нога. К счастью, на повторный крик подбежал патруль солдат, а за ним потянулись подвыпившие рожи моих коллег. Я оказался поблизости от кабачка, где они отмечали получку. Двух незадачливых типов забрали, и я уныло подумал, что завтра опять в застенок, где из них будут вытягивать имя третьего. А не идти теперь с коллегами в кабак было просто неприлично.
В кабачке сидели почти все. Егор махнул мне рукой и сказал:
-- Возьми своих, я возьму своих, пойдем в отдельную комнатку, я угощаю!
-- Пополам, — ответил я.
-- Справедливо, — сказал Егор.
Мы всемером уселись в маленькой грязной комнатке.
-- Ну ты и молодец! Ну ты и дурак! — сказал Егор.-- Деньги бы нажил, а жизнь бы потерял — уже ничего не надо.
-- Повезло мне, — ответил я.-- Эти немецкие шиши были уже вдрызг пьяны, да и думали, что попался им трусливый приказный. Нападали бестолково, а я чего-то неладное почувствовал и заранее забился в угол.
-- Ну ты и честный! — иронически сказал Егор. — Другой бы расписал, какой он герой, а ты: <<Пьяные да глупые они были.>> Давай уж выпьем за тебя. Вчера и сегодня ты славно погеройствовал. Верно генерал сказал: надо было тебе в офицеры идти, а не к нам в ярыги. Доволен он будет: как мы Королевец взяли, тут много шушеры было, думали, наши солдаты грабить будут, и они руки погреют. Ну а наши солдаты не цесарцы какие-то: они порядок знают! Вроде уж вывелись грабежи, да опять кто-то появился, да на тебя напоролся. Ну, выпьем за русскую армию и за ее победу!
Я выпил. Егор начал рассказывать, как идет война, и я тут понял, что история уже пошла наперекосяк. Наши, как ни странно, воевали вяловато, несколько раз победив Фридриха и столкнувшись с постоянной трусостью и вероломством австрийцев, они в основном удерживали занятые позиции. Фридрих тоже предпочитал их не задевать, видимо, дожидаясь кончины Елизаветы и вступления на престол преданного ему Петра III.
-- Французов Фридрих бьет в хвост и в гриву, — витийствовал Егор.-- Они думали, что англичане у них пойдут Ганновер забирать, откуда ихний король родом и коим они владеют, а англичане на Ганновер наплевали и стали у французов колонии забирать. Да просчитались они: им бы с королевской армией драться, где порядка нет совсем, а все командующие назначены королевскими блядями. А в колониях французы не те, дельные и смелые. Пошли англичане Канаду брать, да никто из них оттуда не вернулся, только один офицер приплыл, которого отпустили собирать деньги на выкуп пленных. Французишки-то хитрые. Мы сами, де, денег за пленных не берем, а вот наши индусы американские требуют. Да, тем более, французам повезло: командующего там убили, а американские офицеры у них дельные, не то, что парижские.
Люди поржали над уловкой и над шуткой о везении, и Егор продолжал:
-- А в Индии французы наголову разбили англичан. Будь у французов еще и король поумнее, и флот посильнее, они бы им везде жару дали. Но и сейчас заволоков им наставили на самые причинные места. Словом, выпьем за благо честных союзников, и за погибель нечестных.
Выпили. Егор продолжал:
-- А тут у нас самое гадюшное место. Вокруг поляки, торговать местные купцы ездят сейчас с ними да с цесарцами. Дальше Копенгагена плавать они боятся, англичане их с превеликим удовольствием похватают. А цесарцы да поляки нашим немцам всякие каверзы строят. Поляки смотрят на нас так, что только и жди удара в спину. Слава Богу, король у них честный, а то паны давно уже поскакали бы Кенигсберг брать, да даже если бы взяли, хрен бы потом его Фридриху отдали.
-- А взяли бы? — спросил один из чиновников.
-- Фигу бы они взяли! Но неприятностей много причинили бы, — уверенно сказал Егор.-- Ну что ж, выпьем за нашего губернатора. За императрицу нам пить не по чину, да и рюмки потом придется бить, а они здесь медные, трудно будет! — пошутил Егор.
Я еще раз выпил. И тут вдруг я вспомнил один из вопросов генерала к Егору.
-- Пафнутий, а ну, признайся, как на духу, возвращали ли вы деньги кому-то?
-- Пару раз было, Антон Петрович. Жалко было немцев: бедные, а дело-то их не выгорело.
-- Да ты что! — закричал Егор.-- Чтобы из своих рук деньгу выпустить? Ну и дураки же вы все!
-- А немцы говорят, что умные. Уже пошли разговоры, что мы честные чиновники, и люди к нам потянулись.
-- Ну ладно, — вздохнул Егор.-- Все равно к вам пойдут лишь те, у кого дело почти что чисто, а у таких денег мало. А на меня хватит и немцев, вообразивших себя жуликами. Уж русского-то обжулить у них кишка тонка!
Я отметил, что генерал был прав дважды, но тут разговор перешел на меня, верней, на Шильдершу.
-- Уже трех постояльцев она выгнала, мы тут спорили, сколько ты продержишься? А ты все живешь и живешь.
-- Выгнала она их потому, что они дураки были. А тебя не выгнала, поелику ты этих хитрецов и умников хитрее и умнее оказался, — неожиданно сказал Егор.-- Вы стали к ней приставать, а она вся из себя честная и скромница. Такую скромницу нужно не трогать, вести себя тихо, и тогда она сама к тебе в постель прыгнет.
<<Ну и пройдоха! Все вычислил>>, подумал я, а все воззрились на меня. Я хотел сказать <<No comment>>, но вовремя удержался от несвоевременного выражения и только уткнулся в кружку. Пьяная компания загоготала.
А затем пошел какой-то кошмар. Егор уж постарался напоить меня. Лишнего я не болтал, и под стол не упал, но домой шел в страшном состоянии, блевал на каждом углу. Всю ночь мучился, а Шильдерше, видно, было не впервой за пьяными ухаживать. Она мне чего-то выговаривала, а я почти ничего не понимал: весь немецкий отшибло.
Утром я, весь бледный, собрался в присутствие. Шильдерша хотела налить мне пива, но я отказался, сказав правду, что на спиртное теперь долго смотреть не смогу. Если кто из чиновников и пришел, то в состоянии не лучше. Генерал, зная русских людей, поругался для порядка, а потом дал каждому из начальников по одному простенькому делу, и велел потом убираться и не пугать немцев своим видом и запахом. Меня он заодно чуть-чуть похвалил за смелость и вновь вздохнул: <<Не при пере тебе бы ходить, а при шпаге.>>
Мне действительно пришлось идти в застенок. Поскольку грабили меня, я не имел права вести дело грабителей, но с меня сняли показания и заставили их опознать, после чего я поплелся спать домой. А Шильдерша выставила мне счет на 8 гривен и 8 копеек за уборку и уход.
Кант
Новая жизнь началась у меня: разъезды по всей Пруссии, разборки давнишних и запутанных дрязг, и близкое знакомство с жизнью простых пруссаков средней руки, да и сельских помещиков тоже. Мне казалось, что в маленьких поселениях немцы должны были поддерживать идеальный порядок, а вместо этого я увидел грязь, ругань на улицах и не такую уж аккуратность. В иных русских поселениях моего времени будет почище и поаккуратней, так что в это время немцы еще не полностью были выдрессированы на немецкий порядок.
Наконец-то выдался более или менее свободный денек, а тут я еще услышал, что в это утро в университете Иммануил Кант читает логику. Этот профессор уже был знаменит в то время, а я вообще считал его полубогом. Я пошел на его лекцию, надев свой лучший костюм (теперь-то у меня было целых три костюма).
Кант спокойненько излагал на своем трудном немецком языке силлогизмы, и среди них силлогизм Галена. Он никак не прокомментировал особого положения этого силлогизма. Я решил этим воспользоваться, дабы задать вопрос.
Когда я поклонился после лекции Канту, он удивился, увидев седого русского чиновника среди слушателей. Еще более он удивился, когда я сказал ему:
-- Герр профессор, я хотел бы задать Вам маленький вопрос, если позволите.
-- Извините, с кем имею честь?
-- Столоначальник Антон Поливода.
-- Герр столоначальник, согласно уставу университета я не имею права на его территории отвечать на какие-то вопросы официальных лиц без разрешения ректора. Если вам угодно меня допросить или расспросить, вызывайте меня через ректора в управу.
-- У меня вопрос как раз деловой, но в другом смысле. Я по поводу силлогизма Галена. Мне кажется, что он имеет совсем другую степень обоснованности и область применимости, чем остальные силлогистические фигуры. В самом дела, рассмотрим пример рассуждения по силлогизму Галена.
<<Все пруссы — язычники. Все пруссы живут в Пруссии. Значит, некоторые пруссаки — язычники>>
-- Но ведь посылка неверна: пруссов уже не осталось, — сказал Кант. — Понятие-то пустое.
-- Ничего себе пустое понятие, когда оно дало имя целой стране! — воскликнул я. — Если вы, немцы, уничтожили пруссов, то отсюда не следует, что их не было.
-- Ну, когда они были, тогда и силлогизм Галена был верен.
-- А, значит, сейчас он неверен? Ведь немцы не обращали пруссов в христианство, а просто изводили, так как язычников можно было держать в рабстве.
-- Это клевета на немцев! — внешне спокойно сказал Кант.
-- Но это ваше высказывание показывает лишь, что эмоции могут помешать восприятию логических доводов. Все-таки с силлогизмом Галена что-то не так. Допустим, рассмотрим другой силлогизм:
<<Все пруссы — язычники. Все язычники прокляты Господом. Значит, все пруссы прокляты Господом.>>
-- А теперь Вы, господин русский, делаете слишком уж жестокий вывод.
-- Отбросим эмоции. Разве эти два примера не показывают разницу двух фигур силлогизма?
-- Интересно. Где Вы учились?
-- В Киево-Печерской семинарии.
-- И кто вам там читал логику?
Я смутился. Скажешь вдруг невпопад, но ведь не знаю я, кто там читал логику. Помню только, что некоторое время преподавали то ли там, то ли в Москве, какие-то греки, и преподавали отвратительно.
-- Забыл я имя. Какой-то грек. Видно было, что он сам Аристотеля то ли не читал, то ли не понял.
-- Все понятно. Многие ученые мужи отмечали разницу силлогизма Галена и силлогизмов Аристотеля, так что Вы, господин Поливода, задали правильный вопрос. Жаль, что вам так дурно преподавали логику.
-- А почему же Вы сами не упомянули об этом студентам?
-- Зачем им забивать головы лишними вещами? Умный студент сам поймет, что, поскольку остальные силлогизмы аристотелевы, а этот галенов, то здесь что-то не так.
Этот ответ показал мне принципиальный подход Канта: умный сам поймет, а дураку объяснять нечего. Я заметил, что профессор очень не любил дважды повторять свою мысль и даже разъяснять ее: опять-таки умный поймет с одного раза.
Арест
И вновь я мотался по Пруссии. Малюсенькая в нынешние времена, в те времена конных повозок и бездорожья она казалась не такой уж маленькой. Теперь я выполнял заодно еще одно поручение губернатора: собирал данные о том, как цесарцы обижают наших купцов и подданных и как лают русских и императрицу. По его велению жалобы на поляков (которых было во всяком случае не меньше) я пропускал мимо ушей: видимо, с Польшей было ссориться совсем не с руки.
Пару раз за это время Шильдерша смотрела на меня по вечерам так выразительно, что мне ничего не оставалось, как ее приголубить. Но все остальное время она держалась скромницей.
Вернувшись из очередной поездки, я получил еще одно поручение генерала: подготовить доклад канцлеру и императрице, в коем без всякого смягчения, а поелику возможно, и с уярчением, выговорить все притеснения от австрийцев, такожде их лаянья по поводу России, русских и особливо по поводу персоны государыни. Я перепугался, что мне язык урежут за такой доклад, но губернатор утешил, что доклад ведь его будет, а он своих не выдает. Я понял, что зреет какой-то заговор.
Удалось еще раз сходить на лекцию к Канту. На сей раз я опять завел с ним разговор.
-- Герр профессор, мне почему-то кажется, что область применения логики, ясно, если отбросить сомнительные места типа галеновского силлогизма, недооценивают. Ведь все логические законы выполнены не только для реальных понятий, но и для воображаемых. Скажем, возьмем бесконечно малые в математике. Ведь единственный способ правильно работать с ними — работать логично.
-- Так что же, по-вашему, логика подходит для любой фантазии?
-- Нет, почему же! Если рассматривать бред Сведенборга, то там логики никакой нет. А если рассматривать труды Лейбница либо Эйлера, то там она есть.
-- Интересно. А не будете ли Вы любезны завтра в одиннадцать часов утра подойти в университет?
Я почувствовал некоторую иронию в приглашении, и ответил тоном человека, принимающего вызов на дуэль:
-- Конечно же, я буду считать делом чести явиться во-время.
Вообще говоря, отлучаться с работы я мог частенько и без разрешения губернатора, но сейчас я предуведомил его, сказав, что рассматриваю это дело как дело чести и постараюсь вернуться на щите. Он ухмыльнулся и пожелал: <<Удачи, Аника-воин!>>
Интуиция не обманула. Рядом с Кантом был еще один профессор, коего он представил как профессора геометрии и механики Вольфа. Вольф начал экзаменовать меня по математике.
Я не был столь самоуверенным, чтобы считать, что я легко забью <<невежественных предков>>. Но я не представлял, как придется попотеть. По геометрии я сам понял в результате экзамена, насколько посредственны мои знания, но несколько раз выкрутился, найдя решения при помощи анализа или алгебры, и затем коряво изложив на геометрическом языке. По механике я сразу отказался отвечать, сославшись на полное ее незнание, за исключением законов Ньютона. Вольф дикими глазами глянул на меня и начал экзаменовать по анализу и по небесной механике. Ну и интегральчики же брали наши предки! Но здесь удалось выкрутиться получше, хотя он неоднократно делал кислую мину, глядя на мои преобразования и мои аргументы.
-- Ну что же, могу подвести итог, — сказал Вольф через три часа, обращаясь к Канту.-- Знания по геометрии на уровне нашего среднего бурша. По анализу знания чуть повыше, но сразу видно самоучку: не знает принятых методов, изобретает более или менее удачно свои. Если бы его не загубило дурное обучение в русской академии, а кончил бы он приличный европейский университет, мог бы быть недурным геометром и механиком.
Вольф обратился ко мне:
-- Герр магистр Поливода, а откуда Вы знаете инфинитезимальное исчисление? Ведь в религиозной академии его не преподают, а геометрию Вы знаете весьма слабо.
-- Мне случайно попадали в руки труды Лейбница и Эйлера, по ним и учился. Просто покорила меня своей красотой эта область науки.
-- Весьма похвально, — сказал Вольф, и Кант поддакнул.-- Надо было бы Вам в наш университет поступать, а не в Киев.
Тут меня черт дернул за язык, и я ляпнул:
-- А приняли бы Вы и ваши коллеги в свой чистый университет грязного русского варвара?
Вольф немного смутился.
-- Ну, могли бы быть некоторые неприятности. Но те, кто истинно предан науке, их преодолевают.
Кант на сей раз раскланялся со мной намного более тепло. Но после разговора я в панике побежал в книжную лавку и взял на прочет Сведенборга, а то ведь эта пиявка в парике и на сей счет проэкзаменует! К счастью, экзамена по Сведенборгу не воспоследовало, и я через три дня сдал эту муть обратно, отметив, что в наши времена такие не повывелись, и вспомнив писания Андреева.
Генерал узнал итоги экзамена, видимо, перепроверил их через своих людей, через недельку прилюдно меня похвалил и сказал, что теперь он будет привлекать меня к проверке различных расчетов и обоснований, а также научных трактатов. Я спросил, разрешает ли он брать с проверяемых плату, и он милостиво разрешил, если я получаю материал не из его собственных рук.
Уже очень скоро мне пришлось составлять экстракт (как тогда говорили) на два прожекта: немецкий инженер предложил прожект нового моста через Прегель, а бургомистр вместе с парой профессоров — прожект расчистки и благоустройства кенигсбергского порта. Меня позабавил ритуал вручения прожектов. Генерал велел секретарю подать ему прожект моста, дескать, ему нужно еще кое-что глянуть, бегло просмотрел его и велел мне взять оба прожекта. Так что один из них я получил из собственных рук, а второй в ту же минуту от секретаря.
С Кантом еще пару раз мы говорили на тему логики. Я вспомнил Аристотеля о неприменимости закона исключенного третьего к фразе: <<Завтра будет морское сражение>>, и высказал мысль, что источником множестве логических ошибок является дурная привычка людей рассматривать понятия как полностью заданные. А на самом деле наши знания практически всегда неполны, и считать понятия завершенными абсурдно. Кант в своей витиеватой форме по сути дела согласился со мною, сказав, что тем самым я подтверждаю его идею о вещи для нас и вещи в себе.
На работе мы сверстали большой и еле-еле приличный мемуар о притеснениях и ругательствах цесарцев и отправили его в Питер.
Но однажды я вздрогнул. Экзекутор прибежал и сказал, что приехавший из Питера князь Вяземский и губернатор требуют меня сей же час к себе. Все-таки язык у меня порою чесался и мурашки по спине бегали…
* * *
Князь Вяземский выглядел как жаба, преисполненная сознания собственной важности настолько, что едва не лопается от этого. Он слегка кивнул головой в ответ на мой поклон и бесцеремонно воззрился на меня.
-- Так это и есть ваш второй Барков? Барков хоть выглядит веселым пьяницей, а сей бумагомаратель какой-то унылый ярыжка. Ну ладно, проверю его, и если подойдет, заберу. Императрице будет веселее с двумя такими шутами. Ну, милейший, сымпровизируй-ка мне что-нибудь неприличное.
Я внутренне весь похолодел, почувствовав, что сейчас все может сорваться. С другой стороны, я весь кипел от ярости: в свое-то время я перед такими надутыми индюками не кланялся. <<Ну что же!>> — подумал я, <<Сам нарвался!>>
Питерский пришел индюк,
Он в паху-то весь протух,
Кровью порченой кичится,
Над науками глумится.
Ты не станешь уж дурее,
Если мозг будет жижее.
И науки, как дурман
Для того, кто сам — кабан.
Князь взвыл:
-- Хам! Сволочь! Ты что меня оскорбляешь? — и замахнулся на меня кулаком.
Я успел уклониться от удара, князь растянулся на полу, а я приговорил классическую приговорку:
Не майорска, сударь, честь,
С кулаком да в рыло лезть!
-- Какой я тебе <<сударь>>? Какой майор? Я камергер ее величества и светлейший князь!
Князь схватил трость, я выхватил шпагу, чтобы отбивать удары, и по какому-то наитию заорал:
Я не твой, князек, холоп!
Мой начальник больно строг.
И коль нужно наказать,
Лишь ему располагать!
Удар я отбил, и раздался громовой голос генерала, на которого я не смотрел:
-- Немедленно прекратить! Чиновник прав: лишь я волен его наказать! Антон Петров, отдать шпагу!
Я подчинился. Генерал позвонил, вошли слуги.
-- Зовите караул.
Когда пришел караул, он гневным голосом приказал:
-- Возьмите сего буяна и немедленно посадите в самую лучшую камеру темницы! Я с ним разберусь!
Камера действительно оказалась самой лучшей: сухой и чистой. Через час зашел начальник караула и объявил, что на первый случай мне дали месяц строгого ареста на хлебе и воде. <<Ну, это не самое худшее!>> — подумал я и повалился спать.
Наутро дверь камеры отворилась, и вошел кат. <<Значит, все, что было насчет ареста, лишь комедия! На самом деле сейчас начнут вздевать на дыбу из-за ругательств по поводу императрицы, которые я так старательно переписывал!>> — с дрожью подумал я.
Кат, неожиданно для меня, приветливо поклонился и сказал:
-- Доброе утро, Антон Петрович! От сумы да от тюрьмы не зарекайся, говорят мудрые люди.
Я машинально приветствовал его, а он достал узелок и сказал:
-- Ну, если не побрезгуете, я Вам, ваше благородие, завтрак принес. А то ведь Вас на хлебе и воде присудили сидеть.
Я расхохотался.
-- Спасибо, Антип! Не ожидал! Не побрезгую.
-- Вот и хорошо. Сейчас поедим, а затем, если будет у Вас охота, в картишки перекинемся. А то со скуки помираю.
Я с удовольствием начал есть черный хлеб с репой, говядиной и луком. К нему прилагался еще и жбанчик кислого молока.
-- Пива-то утром русскому человеку не положено, а вечером я принесу.
Но тут наше общество потревожил начальник тюрьмы. Он воззрился на катюгу и сказал:
-- Ишь, умный! Кто тебе позволил! Убирай все свое и не смей больше приносить! По тайному приказу губернатора арестанта будут кормить с собственного его высокоблагородия стола. Только не болтай об этом! А вам, Антон Петрович, велено съедать все быстро и у себя держать лишь хлеб и воду, как и было сказано. Я буду убирать трапезу через полчаса.
Стол губернатора оказался не столь обилен, как стол палача, хотя и более утонченный. В дальнейшем во время отсидки я четко понимал, когда у губернатора торжественная пирушка, а когда простая трапеза: во втором случае все было весьма умеренно и просто.
Мне разрешили послать за книгами, а очень скоро губернатор лично побеспокоился, чтобы я не скучал: стал присылать чиновников с делами. Так что единственное, что у меня было хуже, чем на квартире — отсутствие свободы.
Через неделю князь Вяземский уехал в армию, куда он, собственно, и был послан. На следующий же день генерал лично явился ко мне и грозно спросил:
-- Ну что, длинный язык, каешься?
Я увидел веселые искорки в его глазах и понял, что надо подыграть.
-- Каюсь, ваше высокопревосходительство.
-- Ну что, у тебя было время покаяться и попоститься во искупление греха. Раз каешься, я тебя прощаю. Можешь идти к себе. А в три часа заходи ко мне.
Потом палач мне потихоньку сказал, что если, упаси Бог, мне придется попасть в его руки, он вспомнит мне хорошее отношение и что я не побрезговал его хлебом-солью и отплатит по-честному. Я мысленно помолился, чтобы мне не пришлось испытать на себе дружелюбие палача.
На квартире меня ждало сразу несколько сюрпризов. Мои вещи были перенесены на второй этаж, в бывшую комнату мужа Шильдерши. Там и комната была просторнее, и кровать мягче, и камин был. Камин весело горел. Шильдерша вышла в лучшем платье и стала угощать меня обильным и вкусным обедом. Я не понял, к чему бы это.
Генерал принял меня наедине.
-- Сработала моя задумка! Молодец! Вот тебе рюмка ренского за хорошие труды и за то, что князя отбрил. Неосторожно тебе было с Барковым сноситься, но теперь пойдет о тебе слава как о первостатейном грубияне и ругателе, и хорошо! Больше никто, дай Бог, на тебя не позарится.
Последствия
А история явно пошла наперекосяк. Вскоре мы получили известия, что русские войска пошли вперед, и что они берут все немецкие города на пути и ставят гарнизоны. Через месяц русские в третий раз, и на сей раз без боя, вошли в Берлин. Через пару дней началась вообще фантастика. В Берлин прибыл сам Фридрих и подписал соглашение о перемирии для переговоров о мире. Еще через месяц Фридрих торжественно короновался в Берлине короной королевства Ободритского в присутствии морганатического мужа императрицы Разумовского и канцлера Бестужева. Тем самым Россия признала его королем Ободритским, и в самой торжественной форме. На следующий день был подписан мир, в рекордные сроки обменялись ратификационными грамотами и через неделю Фридрих публично передал прусскую корону в руки Разумовского.
Кое-что о мире мне рассказали барон Скуратов, теперь уже подполковник, и сам генерал. По явным его статьям Россия удерживала за собой навечно Пруссию и Фридрих отказывался от всяких претензий на нее. Россия обязывалась посредничать в деле достижения мира между Фридрихом и Англией, с одной стороны, и Францией, Саксонией и Австрией, с другой, но договор был составлен так, что Россия вполне могла посредничать не совместно со всеми этими тремя странами, а по отдельности. Фридрих оплачивал военные издержки, и, пока они не были оплачены, в занятых русскими германских (теперь уже ободритских) городах стояли русские гарнизоны и немцы сами их содержали.
По тайным же статьям Россия обязывалась охранять занятые немецкие города от вторжений всякой третьей стороны, и передавать их лишь лично Фридриху или по приказу, подписанному и Фридрихом, и русской императрицей, а возможные дополнительные военные издержки подлежали отдельной оплате. Так что Фридрих получил свободу рук на других фронтах за весьма умеренную цену. Фридрих обязался при первой же возможности заключить взаимовыгодный мир с Францией без ущерба для какой-либо стороны, заключить мир с Саксонией, не трогая ни ее территории, кроме разве спорных мест, ни ее суверенитета, кроме необходимого для дальнейшего ведения войны и обеспечения уплаты военных издержек.
А вдобавок к этому Россия в секретных статьях соглашалась с возможными территориальными присоединениями Фридриха в Богемии и других местах, а также признавала, что он, как король ободритский, имеет права на Шлезвиг и ГОЛШТИНИЮ, Этот вопрос Фридрих обещал, поелику возможно, решить мирно с Данией, коя ими владеет сейчас, и не применять ни силу, ни угрозу ею, без согласия России. Так что Австрия оставлялась на милость Фридриха, в обмен на Пруссию.
Дальше — больше. Наследник престола Петр, по глупости своей, вознегодовал, что его родную Голштинию отдают Фридриху, и стал лаять императрицу и Фридриха, которому раньше поклонялся. Императрица прогнала его в ДАНИЮ. Мы смеялись: <<Лучшего места не найти! Датский король получил голштинского наследника в свои руки и теперь уж его живого не отпустит!>>
Вскоре императрица умерла, и по ее, заранее оглашенному, завещанию трон получил малолетний Павел Петрович при регентстве его матери Екатерины, получившей титул императрицы-матери.
Австрийцы попытались было нахрапом взять у русских Франкфурт, но гарнизон дал отпор, а затем подошла вся русская армия, и несчастный фельдмаршал Даун еле унес ноги, боясь сражения с грозными русскими. Естественно, после этого отношения с Австрией были разорваны, и австрийская Мария-Терезия поняла, что она и ее министры сами себя обхитрили, пытаясь заставить Россию таскать для них каштаны из огня.
Прусские же немцы поняли, что Пруссию Фридриху не вернут, и стали вовсю выслуживаться перед русской властью.
Шильдерша кормила теперь меня на убой, и каждый вечер выходила в пеньюаре, откровенно приглашая в постель, где уже отнюдь не вела себя, как скромница. Более того, она стала отказываться брать плату за квартиру. Я решил разрубить гордиев узел и предложил ей выйти замуж. Она пришла в ужас: ведь для этого надо было перекреститься в православие!
Василий Артамонов, переводчик губернатора, как-то раз во время очередной встречи рассказал, в чем дело. Губернатор прекрасно знал немецкий, но говорить по-немецки лично с людьми намного ниже его по положению, было, как он считал, невместно, и он брал переводчика, у которого по этим всем причинам работа была трудная и доставалось ему на орехи за неточности в переводе весьма часто. Когда я был под арестом, губернатор заехал к Шильдерше, лично попробовал ее обед и лично поднялся в мою комнатку, после чего распек ее через Василия по первое число. Василий передавал распеканцию примерно следующим образом:
-- Господин Поливода один из лучших чиновников, и я ведь знаю, что ты, хитрюга, вовсю берешь с просителей: дескать, я замолвлю за вас ему словечко. А сама, жадюга и ведьма, его голодом да холодом моришь! Что у тебя тут на втором этаже?
-- Комната покойного мужа, герр губернатор.
-- Так отдай ее постояльцу! А то рядовой солдат Фридриха жил лучше, чем живет русский чиновник! И корми его как следует! Да и, по справедливости, платы ты с него не должна брать!
-- Все будет сделано, герр губернатор.
-- А еще вот что. Хочешь за него замуж выйти, я лично благословлю вас, ежели ты в православие перейдешь. Если же не хочешь веру менять, то не допускай, чтобы он скучал. Будет у него сын от тебя или твоей служанки, я буду крестным отцом и исходатайствую ему узаконение. Так что род русского дворянина не прекратится.
Шильдерша побежала к пастору советоваться, и пастор сказал, что начальство ее поставило перед выбором между меньшим грехом: предаться незаконной связи, и большим, поскольку брак ее в любом случае погубит ее душу: если она перейдет в православие, то погубит лишь себя, а если чиновника уговорит перейти в лютеранство, то его душу спасет, но навлечет на всю немецкую общину и на себя громадное неудовольствие русских властей. Так что она может спокойно выбрать меньший грех, он с нее почти что снят, поскольку делает это она по велению начальства и по совету духовного отца.
Вот Шильдерша и расковалась! Видно было: ей очень хотелось, чтобы ее сын стал дворянином.
Сама Гретхен рассказала мне, что ей 28 лет. Ее муж был сапожным мастером и типичным немецким пьяницей: скупым, скучным, унылым и грубым. Скупость не дала ему пропить состояние, и Шильдерша после смерти его завела лавочку, с которой кормилась. Скупость же вместе с пьянством его и свели в могилу: он польстился на даровую выпивку, оказался завербованным в армию Фридриха и в первом же сражении с русскими был убит.
Шильдерше еще повезло, что сражение было в Пруссии. После него среди разбежавшихся солдат нашлись местные, которые знали мужа и сообщили ей, где лежит его тело. Она хоть похоронила мужа по-человечески.
Я, зная умение немцев судиться и склонность к сутяжничеству, наотрез отказался не платить за квартиру, и теперь платил по-прежнему уже за другое.
С Кантом я еще несколько раз встречался, разговаривал в основном о логике, рассказал ему, ссылаясь на Эйлера, идею представления соотношений между понятиями и суждениями в виде диаграмм. Она Канту понравилась, но неизвестно, включит ли он ее в свои лекции и в свой курс. Дело дошло до того, что Кант как-то пригласил меня пообедать вместе. Я знал, что Кант за обедом деловых разговоров не любит, но все-таки он отпустил шуточку насчет того, что никогда не думал, что русские приспособлены к пониманию логики. Я в ответ аргументировал, что, если русские как следует логикой займутся, то они быстро достигнут в ней громадных успехов, поскольку русский язык настолько нелогичен сам по себе, что нетривиальные рассмотрения потребуют строжайшей логики, и не удастся отговориться очевидностями, как в более логичных по своей структуре языках. Кант посмеялся парадоксальному рассуждению, и сказал, что-де магистр Шлюк как-то даже утверждал, что русский был бы лучшим базисом для универсального языка науки, чем латынь. Разговор сразу же перешел на другие, легкие, темы, а внутри меня появилось ощущение, что я еще на один шажок (и как быстро! Два года еще не совсем прошло!) приблизился к разгадке, в чем же проблема.
При дальнейших разговорах с Кантом я пытался осторожно расспросить его о магистре Шлюке, но Кант лишь отшучивался. На нескольких обидных конфузах я уже понял, что в моем случае любые попытки идти напролом лишь могут погубить дело, и поэтому стал (не скажу, что уж очень терпеливо, но без лишних движений!) ждать удобного момента, чтобы как-то использовать полученную информацию.
Мемель
Прошло еще несколько месяцев, которые были не очень богаты событиями для меня. Но постепенно начало нарастать раздражение рутиной жизни, где ничего существенного не происходило. Я помнил классические принципы <<Культурного эмбарго>> и <<Трудно быть богом>>, и не проявлял (во всяком случае, надеюсь, что не проявлял) ничего из того, что еще не было известно в то время. И вообще, жизнь и обстановка были такие, что приходилось рассчитывать и перепроверять каждый шаг, если это было возможно по времени.
Гретхен тоже внесла свою лепту. Вначале то, что она оттаяла, мне нравилось. Тем более, что она теперь с удовольствием обнажалась, а тело у нее было красивое. Но постепенно и платья у нее стали какими-то вульгарными, с претензиями на красоту, и она все более входила в раж и уже утомляла меня.
Я решил еще раз разрубить узел и опять предложил ей выйти замуж. Это было вечером, когда она сидела в пеньюаре и явно ждала постели. Она вновь отказалась, но на сей раз совсем в другом стиле. Жена, дескать, должна вести себя крайне сдержанно и скромно. Перед мужем она никогда не обнажалась. И она не представляла себе, насколько приятно может быть телесное общение с мужчиной, причем не только в момент слияния, но и просто при нежных ласках. Она и так верна мне, хотя ей, конечно же, лестно, когда на нее заглядываются другие мужчины. Но она не может теперь лишить себя таких моментов, как этот. И она демонстративно сбросила пеньюар и стала активно целовать меня, прижимаясь самыми соблазнительными частями тела и постепенно меня раздевая. Все закончилось бурной страстью.
Гретхен жила в обществе, где социальные роли были четко расписаны и критерии закреплены. Оказавшись выброшенной из списка <<добродетельных фрау>>, она перешла в список куртизанок и содержанок. И, выйдя из одной роли, она полностью восприняла другую, тем более, что она сама не подозревала, насколько она страстная. Вот только забеременеть ей никак не удавалось.
Все это меня просто довело. Да еще и погода была противная: кенигсбергская гнилая зима. В некоторый момент я просто собрал еды и немного денег, сказал Гретхен, что меня вновь услали, сел на извозчика, выехал из города в лес подальше и пошел, куда глаза глядят, выбирая самые тонкие тропки. Когда я выдохся, я увидел небольшую избушку углежога в глубине леса. Около нее был навален штабель дров, углежог, весь чумазый, сидел у дверей, улыбнулся мне и поклонился. Я поклонился ему в ответ, и мы назвали друг другу свои имена. Видно было, что Питер — простой и доброжелательный малый, хоть, может быть, и совсем не умный. Я достал припасенную бутылку пива, Питер разложил свой простой ужин, и мы разговорились.
Избушка была малюсенькая, но теплая, и мне показалась очень уютной. Ручеек с чистой водой тек поблизости. Место все более привлекало меня.
Когда я выяснил, сколько Питер зарабатывает за месяц, я предложил ему вдвое больше, если он сдаст эту избушку мне на два месяца и будет раз в неделю подвозить мне еду, а в другое время вообще не появляться. Мне, дескать, нужно поразмышлять и покаяться в грехах в одиночестве, чтобы суета не отвлекала.
Я просто наслаждался покоем и тишиной. Я не брился, но регулярно мылся, благо дров было более чем достаточно. С собой я захватил две книги, одну научную (том Лейбница), а другую — тупейший, зато толстенный, немецкий рыцарский роман, больше всего похожий на выродившегося дитятю <<Смерти Артура>>. Поскольку здесь не было опасности, что кто-то подсмотрит, а Питер все равно не знал ни русского, ни математического языка, а я прихватил грифельную доску, я отводил душу тем, что записывал на ней в терминах моего времени свои мысли, а потом без сожаления стирал. Что-то подсказывало мне, что, если я когда-то вернусь (в чем я уже начал сомневаться), то записи с собой не возьмешь. Поэтому приходилось просто думать и запоминать, но это меня устраивало.
Прошла неделя, Питер приехал с провизией и пивом. Мне даже пива пить не захотелось, и Питер обиделся, что я лишь символически выпил грамм сто. Кофе я тоже не взял. А вот за чай был благодарен, и попросил в следующий раз захватывать из напитков лишь чай.
К концу второй недели у меня что-то начало свербить в подсознании: а не пора ли возвращаться? Но я честно преодолел себя, положив прожить в <<медвежьей берлоге>> не менее месяца, а второй уж можно оставить в качестве премии за честность Питеру. Поскольку в домике было все время жарко, я уже часто и не одевался, часть дров подтащил поближе к входу, чтобы выскочить в одной обуви и их набрать, а за водой даже приятно было пробежаться нагишом, а потом опять попасть в жаркий домик.
В такой момент меня чуть не застал (а, может, и застал) Питер, который второй раз привез провиант. Но все равно, в одной шинели я выглядел весьма экзотично. Питер посмотрел на толстенные книги на столе, на меня и сказал, что по виду я напоминаю сейчас мемельского чокнутого магистра, бывшего учителя. Но он всех убеждает в своей гениальности, а я, судя по всему, действительно каюсь. Оказывается, у Питера в Мемеле живет сестра, и он туда регулярно ездит. А я сам в Мемеле никогда не был: поездки были в другие места.
Но третью неделю дожить не удалось. Оказывается, генерал, прекрасно зная русских людей, давно уже ожидал, какой же взбрык у меня будет. Ведь в тривиальный запой я не пущусь, и ему было любопытно, буду ли я язвить начальство или наступит приступ лени. Когда я исчез, он понял, что наступил приступ лени. Две недели на приступ он дал, как обычно на запой. А затем начал искать.
Найти было легко. Питер всем разболтал, что какой-то русский тип, чтобы покаяться, снял у него избушку на пару месяцев. При этом он нафантазировал кучу таких вещей, что местные, боясь проклятия отшельника (в данном случае было все равно, истинно ли он верующий или сатанист) не приближались к избушке. Но кто-то потихоньку подкрался и видел какого-то дикого человека, который с нечленораздельными воплями бегал за водой голым под дождем со снегом. Они решили, что этот отшельник сатанист, и что у него раб — троглодит. Но затем начали обсуждать, что ведь и святые отшельники диких зверей приручали, и так и не пришли к единому мнению.
Узнав об этих разговорах, генерал решил малость позабавиться. Он организовал нечто типа охоты, вспомнив свои военные навыки, потихоньку подкрался к избушке и внезапно ворвался в нее, когда я голый сидел за книгой.
-- Ну, значит, вот он, троглодит! А то местные уже боятся, что в лесу дикарь завелся! Хватит! На запой я отвожу две недели, а ты уже перебрал лишку.
Я стремительно накинул шинель.
-- Так у меня же не запой.
-- Запой, запой, только другой. Не возражать! Ты провинился, и получишь за это по первое число! И дел накопилось столько, что тебе долго за книжками сидеть не придется. Одевайся и поехали в город!
Потом генерал неоднократно рассказывал эту историю о том, как его чиновник сбежал в лес и изображал там то ли медведя, то ли троглодита.
-- Ну что возьмешь со стихоплета! — приговаривал он.
Против ожидания, у меня из жалования вычли лишь за те дни, что были сверх двух недель.
А новости шли одна за другой. Екатерина издала указ о вольности дворянства. Саксония капитулировала, Фридрих честно почти не тронул ее территории, забрав лишь спорные мелкие куски, но связал ее таким договором, по которому до конца войны саксонские солдаты оставались в армии Фридриха, а его армия могла свободно ходить по территории Саксонии и закупать провиант и другие необходимые припасы по фиксированным ценам (то есть практически реквизировать). Один пункт был умилительным. Поскольку Саксония теперь считалась другом Фридриха, прусским (тьфу ты, теперь ободритским) вербовщикам работать в ней запрещалось. Но, если такого вербовщика хватали, его должны были выдать для наказания в Берлин. И одновременно было прописано, что все завербованные в армию Фридриха саксонские солдаты отныне пользуются всеми правами наравне с прусскими (ободритскими, опять сбился!) подданными и должны производиться в чины наравне с ними. То есть было ясно, что схваченных вербовщиков будут ругать за неосторожность и вновь посылать работать.
Франция после этого также заключила перемирие. После своих блестящих побед она попыталась было захватить часть английских владений, но Англия в очередной раз показала бульдожье упрямство, вновь собрав армию и отвоевав почти все потерянное. Вероятнее всего, что мир будет заключен на ничейных условиях.
Так что несчастная Австрия получила свое: осталась в одиночестве на съедение Фридриху.
Прошла еще пара месяцев, и меня послали в Мемель. Мемель был в ту пору захолустным городишкой, как говорят русские, забытым Богом. И дело было скучнейшее, но длинное. Местные ратманы вдрызг перессорились друг с другом и надо было разобраться подробно во взаимных обвинениях, отругать всех, затем всех представить к не очень строгому, отеческому, наказанию со стороны губернатора, но с разбором: все-таки понять, кто виноват побольше, а кто поменьше. Меньше чем за неделю тут не управиться.
Узнав, что я еду в Мемель, всеведущий Егор сказал, что там есть всего три достопримечательности: старый полуразвалившийся замок и две чокнутые, каждая в своем роде, личности. Он пожелал мне чокнутым не попадаться, а если уж попадусь, получить от этого побольше удовольствия и поменьше гадостей.
Городок показался мне действительно скучным. Я остановился у бургомистра, как и полагалось чиновнику с особым поручением от губернатора. Весь день разбирался в дрязгах, искал, как бы распутать этот клубок ничтожных обид и достаточно крупных следствий этих обид. Действительно, как и предсказывал губернатор, потом пришлось на все это скучнейшее дело убить две недели.
На второй вечер перед уходом из ратуши меня застал слуга бургомистра, который начал говорить нечто весьма путаное и бестолковое. Я так и не понял, то ли бургомистр рекомендовал мне сегодня подольше не возвращаться, то ли возвращаться как можно быстрее. Поскольку я знал, что на меня уже жалуются ратманы, я решил не оттягивать неприятностей и побыстрее покинул присутствие.
У бургомистра я застал некую женщину весьма властного вида, одетую с какой-то демонстративно простенькой роскошью: <<Я здесь лицо, и весьма знатное!>> Бургомистр, вовсю кланяясь госпоже графине, почтительно ей что-то объяснял. Лицо его было весьма напряженное. Я хотел было выйти, но тут властный голос графини вернул меня назад:
-- А, это тот самый русский поэт, о котором мне говорили!
Я сдержанно поклонился.
-- Сразу видно, птица гордая, хоть и не крупная. Посмотрим, какова она будет на вкус. Господин бургомистр, прошу Вас официально передать ему мое приглашение на завтрашний ужин.
Я ощутил, что влип. Что-то подсказало мне, что эта графиня — одна из местных достопримечательностей. Всю ночь я ворочался в холодном поту, вспоминая взгляд графини, от которого можно было бы действительно в камень обратиться. А на улице вдруг я натолкнулся на ватагу мальчишек, вопящую: <<Вот идет великий магистр-трисмегист! Смотри, друг Канта, у тебя сквозь рваные штаны философия видна!>> И так далее. Я шел вместе с бургомистром и расспросил его, в чем дело. Это был магистр Шлюк, школьный учитель в отставке. Он был уволен за то, что полностью забросил дела, занявшись писанием какой-то книги и пожелал взять годичный отпуск. От него потребовали представить доказательства, что книга нужна, и отправили в университет, как говорят в наши времена, за отзывом. Отзыв ему не дали, а когда его уже уволили, он вдруг начал показывать какой-то отзыв от самого Иммануила Канта. Один из ратманов при поездке в Кенигсберг спросил у своих бывших профессоров, давали ли они отзыв на книгу Шлюка. Они вспомнили, что ходил здесь какой-то странный магистр со странной рукописью, но опус не подходил ни под одну из наук, и ему посоветовали оставить это дело. После этого магистра вызвали в ратушу и публично обвинили в обмане. От потрясения он стал почти ненормальным, впал в полную нищету, но книгу свою все дописывает. Домохозяйка не выгоняет его лишь из жалости.
Я почувствовал, что здесь что-то важное для решения моей задачи. Я подошел к Шлюку, вежливо приветствовал его. Он дико посмотрел на меня. Я спросил, не может ли он прийти ко мне в ратушу, он резко ответил, что в ратушу не ходит.
Вечер начинался вроде бы нормально: званый обед, но других гостей не было. Графиню явно интересовало, действительно ли у меня такое перо, что Фридриха с Россией помирило, я, естественно, все полностью отрицал (вот ведь какие, оказывается, слухи ходят в нашем захолустье! Я-то видел, что здесь был целый заговор, в первую очередь против наследника Петра Федоровича, в пользу Екатерины и России, а они думают, что все делается одной бумажкой!)
А затем было нечто ужасное. Меня изнасиловали, и еще заставили написать стишок в альбом этой хищницы. Утром я вышел, полностью понимая чувства женщин после насилия. Навстречу мне попался тот, кого я меньше всего хотел бы сейчас видеть: магистр Шлюк. Неожиданно он приветствовал меня по-русски, правда, с сильнейшим акцентом и довольно архаичном:
-- Здрав будь, господине!
Затем он по-немецки добавил, что и я попался в лапы этой паучихи. Я заметил, что он бледен, и понял, что он либо болен, либо голоден, либо, скорее всего, и то, и другое вместе. Деньги у меня теперь водились, и я ответил:
-- Я чувствую, что и вы побывали в роли высосанной мухи. Пойдемте в трактир, а то мне очень есть хочется. Я вас приглашаю.
Магистр поколебался и принял приглашение. Он удивился, когда вместо выпивки я заказал сытный обед. Но под конец обеда изголодавшийся ученый опьянел от еды. В таком состоянии я смог ему всунуть червонец на погашение долгов хозяйке и на ремонт штанов.
Вечером я сказал бургомистру, что завтра могу на несколько часов отлучиться. Я нашел магистра, вновь его угостил (на этот раз он почти не опьянел), и спросил о графине. Эта, как вежливо говорят, <<экзальтированная особа>> имела любопытный пунктик: она собирала автографы поэтов и ученых и коллекционировала заодно их самих как любовников, занося в свой список. Канта ей заполучить не удалось, но, затащив к себе тогда еще выглядевшего прилично Шлюка, она забрала у него письмо Канта. Шлюк, оглянувшись по сторонам, тихо сказал:
-- Но паучиха промахнулась. Я переписал письмо своей рукой, и автографа ей не досталось.
-- А можете ли вы показать и мне копию письма? Я все же получше паучихи.
-- А зачем? Ведь это все равно подделка, как постановил наш городской совет. А Кант ответил на мое отчаянное письмо маленькой записочкой, в которой написал, что он сделал все, что считал нужным, и просит его больше не беспокоить.
И несчастный магистр хрипло рассмеялся.
-- И тем не менее, лучше будет, если покажете. Кажется мне, что история с письмом часть мелочных и грязных интриг, которые я сейчас распутываю.
-- Ну да, все правильно. Господин бургомистр меня поддерживал, вот ему и показали, что поддерживал сумасшедшего мошенника.
И магистр вновь рассмеялся.
-- Ну, я понимаю, что оригинал письма — самое ценное после Вашей собственной рукописи, что у Вас осталось. Я не могу обращаться к Вам как ученый муж к ученому мужу, но все-таки я был допущен к Канту и он не брезговал вести со мной беседы на научные темы. Я надеюсь, что распознаю стиль великого профессора. Поэтому прошу именно копию.
-- Ну, попытка не пытка, как говорят у вас, — неожиданно вновь по-русски сказал магистр.-- Я через полчаса принесу письмо.
Вскоре я получил замызганные листки бумаги и, когда выдалась свободная минута, начал их читать.
Письмо о книге Шлюка
Вот то, что мне удалось запомнить из письма.
"Ученый собрат! Ваша примечательная и отлично оформленная рукопись <<Филодиания>> — попала в мои руки через посредство профессора Шварца, коему Вы благоразумно оставили ее. За неимением досуга к написанию серьезного отзыва, коий она заслуживает, я пытался в свою очередь передать ее лицам, способным оценить ее достоинства. Но, поскольку тех, кто знает математику, отпугивает филология, а тех, кто знает филологию, отпугивает математика, мне самому пришлось взять на себя труд ответить Вам.
Поскольку дело написания отзыва на такой труд весьма серьезное, оно требует длительного досуга, и посему я откладывал по разным причинам ответ со дня на день; кроме того, мне хотелось кое-что сообщить о том поучительном уроке, который я извлек для себя, чего я коснусь здесь лишь в самых общих чертах.
Последние годы мои усилия направлены к тому, чтобы ограничить спекулятивное знание человека лишь сферой чувственно воспринимаемых предметов; если же спекулятивный разум пытается выйти за пределы этой сферы, то он попадает в пространства вымысла, в которых нет для него ни дна, ни берега, т. е. вообще невозможно никакое познание.
В Вашей рукописи Вы рассмотрели другую сторону этой проблемы: преодоление границ познавательных способностей человека, человеческого разума в его чистой спекуляции, — но только с иной, а именно с филолологической стороны, которая связана с неоднозначностью и неточностью выражения мыслей на наших языках, даже на столь совершенных, как латынь, и вызывает разделение, основанное, как Вы и показываете, на невозможности правильно передать смысл предложения одного языка на другом языке. Более того, Вы не останавливаетесь на этом, и ставите перед собой задачу, которую я считал абсолютно выходящей за рамки человеческих сил: правильно передать не только основной смысл речи, но и все скрытые за ним побочные оттенки, что исключительно важно для понимания притч и произведений изящной словесности. Ваша работа основывается на прочных принципах и столь же нова и глубокомысленна, как и прекрасна и понятна.
Начнем с глубокомысленного, никем надлежащим образом еще не понятое, еще менее столь хорошо изложенное наблюдения, что выделить атомы в мире смыслов человеческой речи невозможно. Посему Вы предлагает в качестве замены атомов взять слова какого-либо развитого языка и выбираете в качестве такого языка латынь. Каждое слово другого языка Вы описываете через близкое к нему латинское слово и через его отличия от латыни. Таким образом, Вы представляете слово как латинский ключ и модификаторы, к нему приписанные.
Более того, Вы прозрели, что тем же самым способом мы можем описать как модификаторы роль каждого слова в предложении, и тем самым сохранить порядок слов предложения другого языка, точно описав изменения смысла, которые зависят от положения и соположения слов в данном языке.
Далее, Вы рассматриваете, как Вы их превосходно назвали, слои смысла в предложении, и описываете их как модификаторы целых частей предложения.
Выразив свое восхищение глубокомысленной и ясной идеей Вашей рукописи, я должен сделать следующие замечания, кои любезно просил бы Вас по мере возможности принять во внимание.
Число модификаторов можно было бы значительно сократить, если бы Вы использовали модификаторы модификаторов. Поелику Вы уже пользуетесь расположением текста как средством описания слоев смысла, можно было бы располагать модификаторы в несколько рядов: большими буквами, как и сделано у Вас, обозначать ключи, маленькими на том же уровне — модификаторы, еще меньшими и опущенными ниже — модификаторы модификаторов.
Поскольку такая идея, как у Вас, неизбежно вызовет вопль беотийцев, я просил бы Вас быть поосторожнее. Может быть, не стоит даже упоминать, что Вы взяли идею из китайского языка, поскольку ученое сообщество не любит учиться у варваров. Может быть, взять в качестве языка ключей какой-то другой язык, а не латынь, поскольку крупно написанные предложения из латинских слов, не соответствующие латинскому языку, вызовут ярость многих ученых мужей.
Больше нужно приводить примеров из языков цивилизованных народов, а ссылки на варварские языки, типа санскрита, славянского или китайского, надо бы убрать по силе возможности.
В целом я желаю Вам успеха в издании Вашего глубокомысленного и ученейшего труда.
Ваш покорный слуга и собрат
профессор И. Кант"
Я прочитал обстоятельную рецензию, и она мне что-то, но я так и не смог вспомнить, что, напомнила из того, что я знал в мое время по поводу Канта и какой-то другой работы. Стиль был, безусловно, кантовский. И это явно был один из редчайших случаев, когда Кант давал положительный и даже хвалебный отзыв. Что-то помешало ему просто забыть о рукописи.
Ну ладно, я подумал, что надо будет попросить разъяснения у самого Канта. А магистру я сказал, что практически убежден в подлинности письма и в подлости и невежестве ратманов. Магистр расцвел. Тогда я попросил показать рукопись.
Рукопись была выполнена на паре тысяч листов громадного формата (слава Богу, очень аккуратным почерком). Автор создавал универсальный язык для записи смысла предложений, основываясь на идее полной неуниверсальности любого языка. Я поговорил с ним еще о разных случаях из славянского языка, и заметил, что теперь у него два варианта ключей: латинский и русский. Это, видимо, было способом учесть замечание Канта. Но ссылки на <<варварские>> языки были на каждой странице, и я считал это абсолютно оправданным.
Итак, теперь было ясно, что делать дальше: как-то попытаться протолкнуть эту рукопись, на двести лет обогнавшую свое время, через жернова научного сообщества. А там, я уже чувствовал, и на окончательное решение проблемы выйду.
С этим решением я и уехал из Мемеля, еще раз обнадежив магистра Шлюка и оставив ему еще червонец. Да и бургомистр, когда понял, чем дело пахнет, рассказал мне, что таким образом очищали место для родственника одного из ратманов. Я все записал.
Симпозиум
Когда я вернулся, первым делом на меня набросилась изголодавшаяся Гретхен. Надо сказать, что она просто расцвела, тело ее налилось соками, а в глазах появилась этакая страстная искорка. Ночью, в момент отдыха от ласк, она вдруг стала спрашивать меня.
-- Ты говоришь, что у меня очень красивое тело?
-- Да, уж очень… И все расцветаешь и расцветаешь.
-- Как мне приятно, когда ты любуешься на него!
-- А как мне приятно на него любоваться!
И вдруг Гретхен вздохнула.
-- Знаешь, я даже чуть-чуть иногда завидую девицам из публичного дома. Они могут показывать свое тело многим мужчинам. Но я содрогаюсь при одной мысли о том, чтобы быть плевательницей для всяких подонков.
У меня родилась идея.
-- А ты слышала что-то об античных гетерах?
-- Слышала. Это что-то среднее между актрисами и проститутками, как я поняла.
-- Да нет, совсем другое. Гетеры свободно общались с мужчинами, получали от них подарки, но отдавались отнюдь не всякому и не всегда. Это были подруги царей и полководцев. В переводе <<гетера>> означает <<подруга>>. Мужи древности говорили, что у них жены — для продолжения рода, а гетеры — для души.
Я принес Гретхен пару книг об античных женщинах, и она, хотя читать до этого не очень-то любила, буквально впилась в них.
Через дня три она подошла ко мне и сказала:
-- Все так красиво и привлекательно, но у нас ведь обычаи другие!
-- Ну а мы сделаем как возрождение античной традиции. Ты сошьешь себе пеплос, я одену гиматий, выучишь песни Сапфо и Катулла на греческом и латыни, а на арфе ты ведь немного училась играть.
И у нас началась подготовка.
* * *
Я упомянул о магистре Шлюке в своем докладе, и губернатор велел восстановить его в должности учителя. Я еще несколько раз в подходящие моменты упоминал о его труде, и неожиданно для всех губернатор выделил из таможенных сборов, которые превзошли все ожидания, сто рублей Шлюку для подготовки рукописи его труда и представления его в научном сообществе. Конечно же, губернатор проследил, чтобы в бумаге о выделении денег был четко прописан срок (полгода), то, что магистр обязан представить рукопись в двух беловых экземплярах, и то, что в рукописи должно быть указано, что она подготовлена иждивением русского правительства. Я съездил и лично передал Шлюку приказ и деньги. Он был вне себя от радости и сразу же написал посвящение рукописи генерал-губернатору генерал-аншефу Суворову, в котором вычурным латинским слогом описал, как расцветают науки и искусства в Пруссии под скипетром гуманной и высокоученой императрицы-матери и ее просвещенных слуг. Я на следующий же день уехал.
* * *
А подготовка приняла неожиданный оборот. Гретхен вдруг оказалась весьма любознательной и способной особой, не желавшей просто заучить слова, а начавшей изучать греческий и серьезно поправлять латынь, которой ее чуть-чуть учили в школе. Мне пришлось изо всей силы учить языки вместе с ней, дабы не отстать, и вскоре иногда в постели мы начали изъясняться на латыни или на греческом. Уфф!!!
Одежда и поведение Гретхен опять изменились. Исчезли кричащие <<красивые>> наряды, она стала одеваться просто, но красиво. Исчезли и чрезмерные украшения. Вместо духов она стала пользоваться мягко пахнущими восточными благовониями. Вела она себя гордо и независимо.
Гретхен наняла новую служанку Анну. Это была вся пышущая здоровьем деревенская девица, которую выгнал отец из дома за то, что она прижила незаконного ребенка. Девица была неграмотна по причине полной тупости. Она обладала великолепной памятью, помнила все буквы, но совершенно не могла складывать из них слова. Она четко запоминала, что купить на базаре, сколько бы поручений ей ни давали, но выполняла все строго в заученном порядке и совершенно не умела считать, так что пришлось потребовать от нее, чтобы все торговцы давали ей расписки, сколько денег с нее взяли. Потом Гретхен проверяла суммы и деньги, и иногда затем шла скандалить с торговцами, но после нескольких таких скандалов попытки воспользоваться невежеством Анны закончились.
Мы заметили, что, хотя Анна не умела читать, иногда она могла разобраться в тексте, поскольку запоминала самые частые слова целиком, как китайцы иероглифы. Во время праздника она, как вдруг оказалось, зажигательно отплясывала и играла на дудочке. У Грехен появилась идея. Она сшила для нее хитон рабыни, заказала снимающийся железный ошейник и даже не поскупилась на обучение ее игре на флейте, чему Анна быстро выучилась. Со своей абсолютной памятью она выучила наизусть несколько греческих и латинских песенок, и научилась здороваться, прощаться и спрашивать: <<Чего изволите?>> по-гречески. Кроме нескольких названий блюд, дальше мы ее даже не пытались учить ввиду полной бесперспективности. Анна должна была представлять рабыню-варварку.
В некоторый момент Гретхен решила показать мне, что получается. Они с Анной, нагие (почти совсем, поскольку на Анне был ошейник…) и в античных прическах пели и плясали передо мной. Затем она отослала Анну и спросила, как все это нравится?
Я ответил, что получилось сверх всяких ожиданий, но сделал несколько замечаний, одно из которых было, что они не совсем нагие. Гретхен удивилась, как это так? Оказалось, что я имел в виду пучки волос на теле, которых в античности не носили. Вторая репетиция была еще лучше, и я согласовал с Гретхен детали подготовки к будущему событию.
Мы решили пригласить ученую братию, несколько уважаемых профессоров и доцентов, в том числе знатока античности профессора Амцеля и профессора Вольфа. Приглашения по моей просьбе и по моему латинскому черновику за полтинник написал красивым почерком переводчик Василий Артамонов.
В них было указано, что состоится античный симпозиум, на котором будут подаваться лишь античные блюда, вино, похожее на античное, и услаждаться гости будут изысканной беседой на греческом и латинском языке, античной музыкой и танцами. Предлагалось одеться в античном стиле. Изъясняться можно было лишь на греческом или же на латыни.
В назначенный момент любопытствующие гости пришли. Их встретил хозяин в хитоне, хламиде и венке, представившийся как Аристофан, хозяйка в пеплосе (под именем Лаида), контрастирующем с привычными тяжелыми одеяниями, и рабыня в коротком гиматии (ее имя мы не осмелились сменить, во избежание путаницы). Гости воззрились на ее красивые мощные ноги, но долго любоваться не пришлось: женщины исчезли.
Гости улеглись на ложа (единственной контрастирующей с античностью деталью был пылающий камин, но иначе было бы слишком холодно: все-таки Пруссия не Греция). Они не осмелились столь радикально подготовиться. Кто-то набросил на камзол нечто типа хламиды, кто-то принес с собой венок и надел его вместо парика.
Было налито вино, началась беседа, которая велась практически полностью на латыни, поскольку греческий хорошо знали лишь двое из гостей, а хозяин знал его весьма плохо. Открылись двери, и вошли две нагие прекрасные женщины. Лаида запела песнь Сапфо и стала плясать, Анна аккомпанировала ей на флейте. Затем Лаида взяла арфу, и Анна стала лихо отплясывать (скрывая за лихостью крайнее смущение), и пела любовные стихи Катулла.
Гости остолбенели. Когда песни кончились, раздались аплодисменты потрясенных гостей. Женщины исчезли. Через пару минут они вновь появились уже одетые. Лаида заговорила с профессорами по-гречески. Гости остолбенели еще раз. Анна по гречески спросила профессора Амцеля, которому явно чего-то не хватало: <<Чего изволите?>> Полностью ошеломленный профессор попытался что-то попросить по-гречески. Анна вытаращила на него глаза. И тут состоялся любопытный диалог.
-- Прошу меня извинить. Моя рабыня германка, она не знает ни эллинского, ни латинского, — улыбаясь, сказала Лаида.
-- Ну да, с варварами нужно разговаривать по-варварски, — сказал профессор.
-- Именно так, — подтвердила Лаида.
-- Ну тогда, можно, я буду ей говорить на варварском наречии? — спросил профессор.
-- Не только вы, но и все гости, знающее германское наречие, могут на нем давать указания служанке, — сказала Лаида.
Гости согласились давать указания по-варварски. Я внутренне посмеялся. Столько раз чванные немцы тыкали мне в лицо, что я — русский варвар, а теперь они сами себя признали варварами.
Под конец вечера еще раз женщины вышли петь и плясать, а затем в своей наготе обошли гостей и скромненько поцеловали их. Доцент Люцер вдруг схватил Лаиду за руку и возбужденно заговорил по-гречески:
-- Лаида, я пленен твоими прелестями и сгораю от страсти. Если бы я мог, я готов был бы принести тебе цену ста быков. Но я прошу тебя не пренебречь мною и моими скромными подарками, которые я поднесу тебе.
Вот так в эту ночь Гретхен начала свою карьеру гетеры. А мне она подложила в постель Анну. Тело Анны было пышное и привлекательное, но я видел, что она совсем не желает близости, и готова на нее лишь ради приказа хозяйки. Я просто погладил ее и сказал, чтобы она не беспокоилась, я буду вполне доволен, если она будет своим телом греть меня в постели. Анна тоже была не прочь пригреться, и мы спокойно уснули. Утром в полудреме я начал ласкать ее тело, и она вдруг начала сквозь сон показывать признаки возбуждения. Но уже было время подниматься, и, когда она во сне прижалась ко мне, я нежно ее разбудил:
-- Пора подниматься и подавать завтрак. Мы проспали, и мне влетит от генерала.
Анна потянулась, осознала, где она, вспомнила вечер, улыбнулась и сказала:
-- Мне так тепло и уютно было спать с вами, господин. А утром такой приятный сон снился. Даже просыпаться не хотелось.
И я подумал, что в жизни своей она встречалась лишь с неотесанными и грубыми хамами, не лучше покойного мужа Гретхен.
Вдруг Анна подскочила с постели и по своей глупости прямо сказала:
-- Ой, господин, фрау мне велела, чтобы я немедленно после вас хорошенько подмылась, а потом, дескать, могу вернуться в постель. Но сейчас уже времени не будет.
И я понял, что Гретхен очень не хотела, чтобы Анна забеременела.
Вечером Гретхен с нетерпением поджидала меня в пеньюаре, и увидев, что я тепло поцеловал ее и улыбнулся, радостно сказала:
-- Значит, все хорошо! Сегодня ночью я так хочу тебя! У этого доцента, хоть он и моложе, страсти много, а нежности мало. Но вот почему ты пренебрег Анной?
-- Она очень приятная женщина, но я не хочу иметь дело с той, кто принимает меня лишь по обязанности. Я слишком уважаю себя, и поэтому никогда не имел дела со шлюхами или с теми, кто отдается лишь из корысти.
Гретхен улыбнулась и впилась мне в губы, выныривая из пеньюара.
-- Ах, как я тебя люблю! И еще больше люблю сейчас, когда побывала с другим мужчиной. Я теперь понимаю, насколько ты хорош, а то я уж думала, что лишь мой муж и некоторые мужланы из черни — хамы, а в высшем свете все такие же ласковые и приятные. Но уж правда, эти люди, что были у нас, хоть не хамы, и с ними всеми можно иметь дело, если я и они захотят.
Ночь была бурной до полного изнеможения.
* * *
Слухи о симпозиуме разнеслись по городу, и вскоре сам ректор университета попросил показать ему симпозиум. Я попросил его подобрать пять-шесть достойных и приличных гостей и собрать некую сумму на угощение и подготовку. Они собрали впятером сто рублей, и мы приняли отборных гостей, включая ректора и профессора Канта. Впечатление их было тоже прекрасное, они сказали, что это, конечно, не для черни и не для толпы, но для мужей тонко чувствующих и знающих. Таким образом, я, дескать, возродил сам дух античных собраний. Я сказал, что без уникального ума и тонкости Лаиды ничего бы не получилось. Ученые мужи поклонились обнаженной гетере, потрепали по соблазнительным выпуклостям <<рабыню>> и откланялись, чуть-чуть пьяные и донельзя довольные. Попросить милостей у Лаиды никто из них не осмелился, хотя она посылала сигналы ректору.
А после этого пришлось раскошеливаться вновь самим и серьезно: к нам возжелал явиться сам генерал-губернатор вместе с питерскими гостями. Генерал-губернатор взял себе на симпозиум имя Конона, и я оценил его тонкость: имя принадлежало первоклассному, но отнюдь не самому знаменитому, афинскому стратегу. Гетера всячески соблазняла губернатора (правда, не переступая границ меры; не знаю, как уж говорить о приличиях, когда формально все тогдашние приличия были нарушены). Но Суворов четко сказал на прекрасной латыни:
-- Такие женщины, как ты, Лаида, прекрасны, соблазнительны и очень опасны. Я удивляюсь, как с тобою совладал Аристофан. А я уж не буду рисковать. Но ты так разгорячила меня, что я отведу душу с твоей рабыней, если ты и она не возражаете.
Анне даже в голову не пришло бы возражать, а Лаиде осталось лишь согласиться. Егор-Алкивиад подошел было к Лаиде, но затем передумал и сказал:
-- Вот колечко и бриллиантовая подвеска от меня в благодарность за зрелище. Но Конон слишком мудр, и я тоже поопасаюсь слишком тесного общения с тобой.
А мне он крепко пожал руку, а на следующий день публично расхвалил меня так, что я весь раскраснелся: как я сумел из заурядной фрау сделать первоклассную античную гетеру.
Другие знатные гости также преподнесли Гретхен и Анне подарки, и даже губернатор поднес какие-то мелкие безделушки, явно трофейные либо конфискованные у контрабандистов.
Когда я выходил, а Анна собиралась удалиться в спальню к генералу, я услышал, как Гретхен тихо сказала ей: <<Сегодня не подмывайся>>.
После третьего симпозиума симпозиумы стали повторяться регулярно. Знатные люди рассматривали их как достопримечательность Кенигсберга, а гетеру Лаиду — как его украшение. После ночей с любовниками она вновь возвращалась ко мне, но некоторое время не для соития. Наоборот, выждав несколько дней, она взяла с меня клятву полгода не иметь дело с женщинами вне дома и стала подкладывать мне раз в две ночи Анну. Я понял, что она очень хочет, чтобы Анна забеременела, и сопоставил это со словами Суворова в момент распеканции. Вот ведь тонкая штучка и хитрая бестия! Своего незаконного ребенка Суворов бы ни за что не узаконил, тем более, сыновья у него уже прекрасные, и откупился бы какой-то мелочью. А тут формально будет мой ребенок, но Суворов может втайне считать его своим, и вот его он и узаконит с удовольствием, и подарит ему гораздо больше!
Один из симпозиумов привел к неожиданному результату. Ротмистр фон Шорен, богатый помещик, активно ухлестывал за гетерой, и она согласилась провести с ним ночь, но в начале ночи прямо нагой сбежала ко мне в комнату, поскольку он попытался ее грубо насиловать, а не улещивать. Фон Шорен стал ломиться в дверь, я урезонил его, что так дворянин не делает, и мы договорились о дуэли. Гретхен хотела помчаться к губернатору, чтобы тот остановил дуэль, но я чувствовал, что дело будет не так опасно (все-таки уже XVIII век, и дуэли перестали быть столь кровавыми, как раньше). Провели формальные переговоры, за время которых фон Шорен, с одной стороны, поостыл, а с другой, без памяти втюрился, поскольку не ожидал встретить сопротивления.
Переговоры шли три дня, и на четвертый день я, поручик Сенжинский (мой секундант), вахмистр фон Цустер (секундант фон Шорена) и мой противник встретились рано утром на лесной полянке. Договорились стреляться в тридцати шагах, и в случае безрезультатности обмена выстрелами любой из дуэлянтов имел право потребовать повторения боя. Было прохладно, но мне захотелось снять камзол: в нем было как-то неудобно. Я снял его и повесил на дерево чуть в стороне. Фон Шорен, не желая, чтобы у него было хоть какое-то формальное преимущество, тоже повесил свой камзол на дерево. Мы разошлись на шестьдесят шагов и начали сходиться. Я уже видел, что дело идет к вежливому обмену выстрелами, и выстрелил первым чуть в сторону, туда, где висел камзол противника. Раздался звон. Фон Шорен вздрогнул и потребовал прервать дуэль и проверить, что же случилось. Оказалось что я попал в его золотую табакерку.
-- Чем перед Вами провинился мой камзол? — Раздраженно спросил фон Шорен.
Я решил чуть-чуть приврать. Стрелял я плохо, и попасть в камзол помогло некоторое везение, а уж табакерка была подарком судьбы.
-- Я не хотел бы, чтобы кто-то сказал, что я стрелял в Вас и промазал на милю, вот я и захотел прострелить камзол, дабы меня не упрекали в том, что я — законченный штафирка, хотя я такой и есть. А табакерка — это просто подарок судьбы нам обоим. Вы теперь сможете показывать простреленный камзол и табакерку и рассказывать всем, какая жестокая была дуэль, и вас спасла лишь табакерка.
Фон Шорен и секунданты расхохотались. После того, как фон Шорен успокоился, он насупил брови и строго потребовал меня к барьеру. Я вышел. Сердце учащенно билось, поскольку я теперь боялся, что он захочет показать свою меткость и по ошибке промажет в меня. Фон Шорен тщательно прицелился и тоже прострелил мой камзол.
-- Посмотрите-ка на камзол.
Я увидел, что пуля попала в пуговицу, и пуговица начисто расплющена. Ведь пуговицы тогда были металлическими и массивными.
-- Теперь Вы тоже сможете рассказывать, что я попал вам в сердце, но вас спасла пуговица.
Я внутренне содрогнулся. Фон Шорен, оказывается, был очень метким стрелком. Он вполне мог бы покалечить меня, не убивая, но предпочел моральный реванш.
Секунданты, корчась от смеха, посовещались и объявили свое решение, что дуэль считается результативной, поскольку дуэлянтам нанесен равный ущерб, и что все мы должны дать слово чести не отрицать никогда, что камзолы во время дуэли были на нас, и не проговариваться о том, где они висели, когда в них стреляли.
Таим образом, все было улажено. Мы искренне обнялись. Фон Шорен попросил меня передать его извинения Лаиде и попросить у нее разрешения прийти еще раз на симпозиум. Я обещал. Она со второго раза разрешила ему прийти еще разок, но не больше. Он пришел, задарил ее, но она осталась непреклонной, хотя и простила его. На второй раз она ему улыбнулась, но выбрала не его. На третий раз он добился своего и был на седьмом небе от счастья, но тут ему пришло давно просимое им назначение комендантом крепости на воинственную юго-восточную границу (он так мечтал о подвигах и о военной карьере!)
Фон Шорен придумал, как ему казалось, гениальный план. Отказываться от назначения, давно просимого, было позорно, отказываться от Гретхен не хотелось. Он подарил ей одно из своих имений (правда, самое маленькое, с десятью душами крестьян), а крестьян отписал на меня, поскольку она не была дворянкой и не имела права владеть крепостными. А с нее он взял расписку, что она ни за кого замуж не выйдет до его возвращения или смерти, или же до того, как он сам освободит ее от этого слова. В случае нарушения слова имение возвращалось фон Шорену.
Суворов заходил еще пару раз, и каждый раз удалялся с Анной. Я в первую же нашу ночь начал разогревать Анну, и Суворов отметил, что она стала намного страстнее. Но на третий раз уже было известно, что Анна беременна, и, как только она призналась в беременности, Гретхен перестала ее мне подкладывать, и сама возобновила свои ночи со мной.
Так что мое неофициальное положение стало весьма выгодным: официальный любовник популярной гетеры. У меня теперь появились отличные вещи и лучшая парфюмерия, за обедом подавались французские и итальянские вина, о водке и пиве я и думать позабыл бы, если бы не пирушки с сослуживцами, с ратманами и с профессорами.
Я сочинил оды императрице-матери в честь вольности дворянства, ее сыну Павлу I в честь его восшествия на престол под сенью любящей и мудрой матери и графу Орлову, любовнику Екатерины. Последняя была самой бесстыдной и фальшивой. Я воспевал его мужество и полководческий талант, хотя тот сидел в Питере возле своей всемогущей любовницы.
Вскоре стало ясно, что трон будет передан Павлу после его совершеннолетия. Петр Федорович скончался в Дании, как официально объявили, от белой горячки. Пил он, конечно, безбожно, так что это могло быть правдой. Екатерина имела глупость выйти замуж за Орлова, который получил титул светлейшего князя. Тем самым она полностью закрыла себе возможность самой взойти на престол, оттеснив сына. Она, конечно же, оставалась регентшей, и в этом качестве ее все признавали, но императрицей без приложения <<мать>> княгиня Орлова быть уже не могла.
Оду на этот случай я стал писать с большим прилежанием и вдохновением. Но сразу же возникла достаточно трудная задача, от решения которой, как я понимал, полностью зависит успех оды. Коронованную особу полагалось сравнивать с божеством. Но с кем сравнить Екатерину? Венера, Церера, Афина, Деметра, Гера, Юнона, Цирцея… (ох, еще и это слово вылезло!) Любое решение могло быть растолковано в неподходящую сторону и, безусловно, было тривиальным и односторонним. И тут пришла идея: Валгалла! Воспользоваться северной мифологией, где Фрейя соединяет в себе черты Венеры, Деметры и Афины! И все лыко стало ложиться в строку. Подобрать персонажа для Муженька уже не составляло труда: могучий пьяница Тор. Сын — Бальдр. Пошло!
В Валгалле нынче стол ломится,
Герои, асы — все спьяна!
Ведь Фрейя Северной Столицы
С российским Тором сочтена.
Ты мудрым взором осенила
Страну снегов, лесов, морей,
Властителя ей породила,
Роди ж ему богатырей!
Ода была, как и полагалось, длинная. В нее я вставил несколько шпилек, надеясь, что они будут восприняты благосклонно.
Любовь российскую отвергнув,
Полония удручена,
Своею спесью себя ввергнув
В горящу печь, как каплуна.
…
На поединке тяжком дрались
Добрыня с Зигфридом вчера.
А нынче оба побратались,
Сразившись честно до утра.
…
Вновь Север миром управляет.
Коль вымерла норманнов рать,
Варяжский род благословляет
Отныне Один: стяг поднять,
Мир водворить вокруг России,
Европу мощью усмирив,
И крест воздвигнуть на Софии,
Святое дело довершив.
Польская строфа была двойным намеком. Польский князь Понятовский был любовником Екатерины, затем сбежал при первых признаках неудовольствия Елизаветы, а затем возвратился, когда Екатерина уже стала императрицей, дабы попытаться занять прежнее место, но получил полный афронт.
Упомянул я всем известный недостаток Орлова, но в таком ключе, что он остался доволен:
Зеленый змий распался прахом,
Валгалла вся восхищена:
Тор меда бочку выпил махом,
Как будто я — бокал вина!
Ода пришлась как раз по времени. Прозвище <<Российский Тор>> прилипло к Орлову, и он им гордился. Внешнеполитические намеки также были поняты и одобрены. За эту оду я получил от императрицы в подарок тысячу рублей и поместье в сто душ на Украине (правда, мне доброжелатели передали, что в сельце на самом деле осталось душ тридцать), от светлейшего князя золотую табакерку, а от императора — золотой письменный прибор.
Университет провел официальную церемонию, на которой присвоил генерал-губернатору и мне звание почетного доктора: Суворову в честь его великих заслуг в развитии военной теории и в знак признательности за поддержку наук и искусств в Пруссии, мне — за заслуги в изящной словесности и как великому знатоку античности. Я втайне улыбался этой формулировке.
А Гретхен раскрыла мне свой план. Она будет делать вид, что тоже беременна, и всем говорить, что от меня. Ребенка же Анны по официальной версии отдадут в воспитательный дом, а на самом деле Гретхен окрестит его как своего в православие и будет воспитывать как своего сына или дочь, а сама Анна будет считаться кормилицей. Этот план она разрешила раскрыть лишь губернатору, чтобы он не почувствовал себя в случае чего обманутым. Тем самым она станет матерью дворянина и сможет завещать свое именьице сыну, как она очень надеется. А за время жизни она это именьице округлит и превратит в настоящее имение. Ну и коварство, прямо стратег!
Ученое собрание
События в мире все дальше развивались не так, как я помнил из истории. Франция заключила мир с Англией на условиях сохранения довоенных владений и уплатой Англией выкупа за возвращение Ганновера. Ободритские войска прошли через контролируемый французами Ганновер и неожиданно для всех атаковали Бельгию, тогда называвшуюся Австрийские Нидерланды. Французы же быстренько заняли Фландрию (северную часть Австрийских Нидерландов) под предлогом защиты владений союзника. Но по всему было видно, что эти земли они Австрии не вернут, и что Англия в какой-то форме попустила подобное действие в секретных статьях договора, поскольку протесты Англии против действий Фридриха и Франции были весьма вялыми и формальными. Австрия упорно, но пассивно, сопротивлялась, и было видно, что теперь война идет уже за окончательные условия мира. Эти условия в значительной мере будут определяться, во-первых, тем, удержится ли осаждаемая Фридрихом Прага, и во-вторых, действительно теперь искренним посредничеством Франции и Англии. Франция заинтересована в том, чтобы получить за посредничество Фландрию, а Англия боится слишком большого усиления своего союзничка Фридриха.
Я немного проиграл в голове возможные будущие события. Ясно было, что, как и в моей истории, Фридрих до конца жизни останется верным другом России. Вполне было возможно, что уже он, а не его правнучатые потомки, начнет собирать Германию. Просматривалась возможность второй Северной войны: поскольку Швеция традиционно была настроена крайне антироссийски, а Дания и ободриты занимают пророссийскую позицию, но между ними есть конфликт по поводу Голштинии, вполне могут Фридрих и Россия помочь Дании отвоевать Сконе и Готланд у Швеции, и тогда Россия получит Финляндию раньше, чем в моей истории, а Фридрих мирно выкупит Голштинию в благодарность за отвоевание Сконе. Что полностью совпадало с моей историей, это полное отсутствие перспектив у Польши. Ясно было, что России и Фридриху для обеспечения прочного мира нужно будет ублаготворить ободранную и обиженную Австрию, а лучший способ сделать это — поделить Польшу.
А я, вспоминая дальнейшую историю, все больше задумывался о дальней перспективе: выгодно ли России такое усиление будущей единой Германии?
Симпозиумы на некоторое время прекратились. У Анны уже был виден животик, и Гретхен была вынуждена подкладывать себе на живот подушку, не снимать пеплоса и избегать контакта с гостями. Многие искренне желали этим женщинам благополучно разродиться и вернуться к своему занятию.
На паре симпозиумов, когда они еще были полноценными, были французские гости: князь Ришелье и маркиз де Линь. Они рассказали о симпозиумах во Франции, и легенды разошлись по всей Европе. Французские куртизанки стали пытаться устраивать подобные же вечера, а за ними потянулись Италия и Англия. Лишь в Испании такое оставалось немыслимым.
Магистр Шлюк появился с двумя экземплярами тщательно переписанной книги. Суворов просмотрел книгу, выдал Шлюку червонец премии из каких-то казенных средств, поселил его временно при остроге на казенных харчах (но не в камере, а в помещении для служителей), и велел ему проследить, как его два письмоводителя перепишут еще два экземпляра книги, дабы послать в Петербургскую и Берлинскую академии наук. Впоследствии оказалось, что и здесь генерал был прозорлив…
После изготовления экземпляров один экземпляр собственноручной рукописи Шлюк передал в университет с нижайшей просьбой прочитать и устроить обсуждение, а сам уехал в Мемель. Суворов направил две копии в Академии наук.
Живот и подушка все росли, и я уже с нетерпением ждал, кто же родится? Анна пожаловалась, что ей холодно и скучно спать у себя, и Гретхен милостиво разрешила ей греть меня телом, как в первую нашу ночь. Постель была еще раньше заменена на широкую и роскошную, и на ней мы прекрасно умещались втроем. Я сам не ожидал, что спокойно восприму такое, но вот ведь как и я сам изменился…
Прошло три месяца, а ученейшие профессора все изучали книгу. Торопить их было неприлично, и мы со Шлюком ждали. А тем временем Анна родила прекрасного (как мне показалось, поскольку я давным-давно ждал) пухленького и здоровенького мальчика. Через семь дней состоялись крестины. Генерал помнил свое слово, но настоял, чтобы крестной матерью была только что перешедшая в православие Анна. Он-то прекрасно знал, кто настоящая мать.
Генерал все время вглядывался в ребенка. Ребенка окрестили как Павла Антонова Аристофанова, русского дворянина. Генерал публично сказал, что он послал прошение на высочайшее имя о признании только что окрещенного младенца законным сыном Антона Поливоды и о смене оному дворянину фамилии на Аристофанова в знак признания его литературных заслуг.
Выйдя на площадь перед церковью и увидев, какая толпа народа собралась посмотреть любопытное зрелище личного крещения незаконного ребенка генерал-губернатором, генерал сказал речь, против своего обыкновения, на немецком языке. В ней он заявил, что этот мальчик — первое свидетельство растущей искренней и глубокой любви между пруссаками и россами, и поэтому он назван в честь государя императора. Русское правительство, как и обещало, блюдет все традиционные права и вольности Пруссии, уважает протестантскую религию и признает пруссаков своими полноправными гражданами, которым открыты все города России для занятий ремеслом и беспошлинной торговли и все должности на российской службе. Так что служите, работайте и торгуйте! Россия необъятная, ей нужны и хорошие мастера, и оборотистые купцы, и толковые чиновники, и преданные офицеры и солдаты. А всеми этими качествами уроженцы Пруссии обладают. Он объявил о новой милости императрицы: для рекрутов и охотников-солдат из Пруссии срок обязательной службы сокращен до двенадцати лет, и после отпуска они вольны сами решать, возвращаться ли служить на унтер-офицерских должностях с перспективой по выслуге стать офицером и дворянином, или же уйти в отставку в следующем чине.
Он добавил, что этот ребенок также является свидетельством, как любезно будут приняты те, кто сами перейдут в православие либо обратят в него своих детей, но что, как до сих пор никаких утеснений в своей вере пруссаки не испытывали, так они испытывать и не будут. Если в каком-то российском городе соберется община прусских немцев, им всегда будет дано разрешение построить свою кирху и учить детей своей религии. Пруссия, сказал он, для молодого императора и его венценосной матери как любимое дитя России.
Наедине генерал сказал мне, что он внимательно изучал младенца, но так и не понял, на кого же больше похож маленький Павел: на него или на меня. Я признался, что тоже пока не понимаю.
<<На зубок>> младенцу генерал подарил целых тысячу рублей, так что Гретхен все-таки его подоила, хоть и не для себя лично!
Барков прислал мне письмо, что императрица-мать организует Российскую академию и приглашает меня переехать в Питер и стать академиком. Я отказался переезжать, и меня сделали почетным академиком.
Гретхен души не чаяла в младенце. Она уже отчаялась иметь своего ребенка, а дитя ей очень хотелось. Было умилительно смотреть, как две мамаши хлопочут над дитем. Но Гретхен позвала массажистку, и тщательно следила, чтобы Анна не обабилась. Поэтому она наняла еще и няньку.
Через полтора месяца после родов возобновились симпозиумы. По-моему, Гретхен и Анна стали еще прелестней, а Анна стала вроде даже чуть умнее. На первом симпозиуме произошел маленький конфуз. Поскольку по отношению к <<рабыне>> умеренные вольности дозволялись, один из гостей легонько сжал грудь Анны, когда она в конце вечера его целовала, и из груди брызнуло молоко ему на одежду.
-- Мою грудь может сосать лишь мой крестник, — обиделась Анна.
Все рассмеялись.
Симпозиумы для профессоров устраивались регулярно и намного дешевле, чем для знатных гостей, поскольку мы во время таких симпозиумов заодно проверяли детали соответствия античности (конечно же, мы не добивались полного соответствия, но все отступления должны были быть обоснованы) и тренировались в языках и в античной словесности. На таких симпозиумах мне и удалось подтолкнуть неповоротливую ученую массу, неспешно передававшую книгу один другому, к тому, что пора бы все-таки устроить ее обсуждение. Было решено через неделю, 12 мая, провести ученое собрание. Шлюка немедленно известили, и он приехал. От Петербургской и Берлинской академий никакой реакции после писем о получении рукописи не было. Наконец петербуржцы признались, что рукопись потерялась, а судьбу берлинской мы так и не выяснили.
Я пришел на ученое собрание, но уважаемые ученые мужи встретили меня враждебно.
-- Это не открытые слушания. Допускаются лишь ученые мужи из нашего университета.
-- Значит, я имею право на собрании быть! — отрезал я.-- Я ведь ваш почетный доктор.
Законопослушным немцам возразить было нечего, а я после такого демонстративно уселся в первый ряд. Да, начало не слишком многообещающее!
Начался ученый доклад. Магистр затянул свое выступление, упиваясь немыслимыми для большинства аналогиями с санскритом, арабским, китайским и русским. Местные профессора знали в основном лишь латынь, немецкий и французский, кое-кто разбирался в древнегреческом, русский и древнееврейский знали по одному человеку. Под конец ученое собрание уже откровенно скучало, а мне, наоборот, было крайне интересно.
Наконец-то Шлюк кончил. И тут я увидел хорошо скоординированную атаку стаи. Начинали, как и полагается, молодые шакалы. Приват-доцент латинской классической литературы (боюсь переврать его фамилию) показал всем красиво расписанное на целую странцу многоэтажное предложение и прочел в нем лишь латинские ключи.
-- Посмотрите, какая грубая, невежественная и даже ошибочная латынь! И это называется научный труд!
-- Это же не латинское предложение. Это строка из персидского поэта Саади, и слова эти передают лишь часть смысла соответствующих персидских слов, располагаясь в том же порядке, что и слова персидского стиха. Вот послушайте, как это звучит по-персидски — И Шлюк произнес красивое двустишие.
-- А теперь посмотрите, что получится, если буквально перевести это на латынь, — и Шлюк произнес правильную, но крайне тяжеловесную невыразительную латинскую фразу.
-- Мы, конечно же, не знаем языков диких народов, но судя по переводу данного двустишия, в нем нет ни изящества, ни мудрости, — вошел в бой экстраординарный профессор атаковавшего доцента.-- Так что незачем эти творения примитивных народов перекладывать на латынь, а тем более на столь грубое подобие латыни, которое нам только что было зачитано уважаемым доцентом.
-- Но ведь то, что он зачитал, не фраза. Это только последовательность ключей из перевода данного предложения на универсальный научный язык, коий представлен как весь текст на данной странице, — отбивался Шлюк.
-- Я не видел раньше в научных трудах такого термина: <<ключ слова>>.-- Откуда его взял наш высокоученый коллега, владеющий столькими языками? — внешне доброжелательно спросил ординарный профессор, ведущий специалист по античности университитета, проректор Эхинеус.
Шлюк воспрянул духом и начал объяснять, что в китайских иероглифах есть ключ и дополнения к ключу. Ключ передает основной смысл знака, а дополнения уточняют либо смысл, либо чтение.
-- Очень жаль, что высокоученый коллега предлагает нам учиться столь примитивного народа, коий до сих пор пишет рисунками, даже алфавиту не смог обучиться, — ехидно сказал Эхинеус.
И тут началось всеобщее нападение. Почти все как с цепи сорвались. Замечания в большинстве своем выдавали лишь полное непонимание и тупое неприятие, но тон их становился все резче и грубее.
Шлюк схватился за голову и произнес роковую фразу.
-- Прав был профессор Иммануил Кант, когда говорил мне, что нельзя строить универсальный язык на базе латыни, и лучше было бы на базе русского.
Все остолбенели.
-- Да, кстати, наш уважаемый коллега Кант до сих пор ни одного слова не сказал, — произнес ректор.-- Поскольку на него сослались, и мы знаем, что он читал и первый, и второй варианты рукописи и даже по слухам давал в своем письме отзыв на первый вариант, я просил бы уважаемого коллегу нарушить молчание, а ученое сообщество я попросил бы умерить страсти и в порядке выслушать то, что нам скажет профессор Кант.
Кант поднялся со своего места, вышел к кафедре и спокойным глуховатым голосом начал речь. Поскольку я вынужден полагаться лишь на память, я постараюсь передать ее поточнее, но боюсь ненамеренных искажений.
<<Высокоученое собрание и уважаемый коллега, ученый муж магистр Шлюк! Я считаю великой честью и обязанностью для себя дать правдивый и точный ответ на вопросы, возникшие в связи со мною. Я прочитал первый вариант рукописи, и поскольку некоторые идеи показались мне интересными, я направил автору пространное письмо, в коем изложил и положительные, и отрицательные моменты, и дал ему несколько советов. Как известно, на этом обязанности доброжелательного научного коллеги заканчиваются, и даже с избытком, и никто не может потребовать от него большего.
Но автор пытался вовлечь меня в технические дела, связанные с дальнейшей работой над рукописью, чего я не должен делать и для чего я досуга не имею. Уже тогда он проявил ту несдержанность и неумение вести себя в научной среде, кои он проявил и сегодня, во время обсуждения.
Тем не менее, получив второй вариант рукописи, я и его внимательно просмотрел. Я убедился, что часть моих замечаний автор учел, но некоторые указанные мною недочеты еще усугубил. В частности, я уже указывал ему, что выделенные большими буквами ключи слов внешне составляют в большинстве случаев грубо ошибочную латинскую фразу, и этого необходимо избегать. Но в своей реплике автор мог создать впечатление, что я ему подал идею строить свой язык на базе русского. Это совершенно не так. Автор еще в первом варианте подчеркивал, что в принципе любой развитый язык может быть поставщиком ключей для реализации его идеи. Он упоминал в качестве такого языка, в частности, русский диалект славянского. Я подчеркнул эту необычную идею автора в своем письме, и очень жалею, что ни один член высокоученого собрания при просмотре рукописи ее не заметил.
В целом я должен сказать, что я не отрекаюсь ни от одного слова, написанного в моем письме, и что первоначально идея меня поразила своей новизной, но реализация ее, по моему мнению, не стала намного более совершенной в новом варианте. То, что предлагается, могло бы стать полезным лишь в том случае, если бы такую идею восприняла некоторая часть ученого сообщества и стала бы ее развивать и поправлять, поскольку в нынешнем варианте представление текста выглядит все еще неудобообозримым. Но этому может помешать уже отмеченное несовершенство реализации идеи.
В целом я не отказываюсь от слов, что после серьезной доработки можно было бы попытаться книгу опубликовать как труд нашего университета, но не уверен, принесет ли она ему добрую славу.>>
Дальше начались содом и гоморра. Все восприняли выступление Канта как последний гвоздь в могилу, и пошли просто неприличные издевательства. Я грустно смеялся, глядя на все это. Но вдруг я, как кошка, почуявшая мышь, насторожил уши. Высокоученое собрание, формулируя решение, записало в него при всеобщем одобрении фразу:
<<Более того, с прискорбием стоит отметить, что автор отбрасывает давно известную благотворную роль классических языков, и предлагает цивилизованным народам учиться на примере таких недоразвитых, как китайский и русский.>>
А задиристый приват-доцент выкрикнул фразу: <<Он благодарит русских за поддержку, поскольку эта книга ставит варваров на место цивилизованных народов, а цивилизованных на место варваров! Так пусть и идет к своим русским варварам!>>
Я почувствовал, что это был шанс!
* * *
Шлюк выходил весь раздавленный, книга поминутно валилась у него из рук. Я поспешил домой, не желая на горячую голову докладывать губернатору. Но буквально через час я вдруг почувствовал, что задание на грани провала. Интуиция подняла меня из-за стола с вкусным ужином и ласковыми хозяйками, и я помчался в таверну, где остановился Шлюк. Он снимал маленький номер под самым потолком. Я спросил, вернулся ли Шлюк? Мне сказали, что вернулся, заказал шнапса и сосисок с капустой себе в номер, а затем не выходил. Я поднялся в его дешевенькую комнатку под самым потолком. На стук никто не отзывался. Я выбежал на улицу, кликнул караул и велел именем губернатора ломать дверь.
За дверью было ужасное зрелище. Все было залито кровью. Шлюк выпил бутылку шнапса почти без закуски и вскрыл себе вены, а затем начал жечь на свече свои бумаги. Сейчас он был без сознания и тихонько хрипел. Кровь шла медленно, так что шанс спасти его был.
Я увидел маленькие кусочки письма Канта и поврежденную, залитую кровью, но уцелевшую рукопись. Я туго перевязал Шлюку руку выше раны и велел срочно нести его к личному врачу губернатора. Сам я помчался к губернатору и рассказал ему все, стараясь не особенно сгущать краски. Он похвалил меня за старание и за оперативность, но сильно помрачнел. Я взял с него слово пока что ничего сгоряча не предпринимать против <<ученейших мужей>>. Шлюка он посоветовал поместить не в больницу, а в ту самую лучшую камеру, в которой сидел я. Там за ним и лучше присмотрят, и накормят как следует, и вещи целы будут. А формально он это заслужил как преступник, покушавшийся на самоубийство.
Так я и сделал. Ночью я не захотел ни с кем делить постель и вообще быть в одной комнате, закрылся на ключ и всю ночь видел кошмары. Под конец появился какой-то тип в католической сутане, подпоясанный веревкой. Я понял, что это инквизитор. Он произнес по-латыни: <<Дьявол лжет, даже говоря истину.>>
Развязываются узлы
На следующее утро я первым делом помчался проведать Шлюка. Он был совершенно бледным, но уже в сознании.
-- Ну что, заманили в ловушку, а теперь в тюрьму посадили! И ты, и Кант, оказывается, одного поля ягоды!
-- Помолчал бы! Ты — преступник перед Богом, покусившийся на собственную жизнь. Ты — преступник по законам Российской империи, как покушавшийся на самоубийство. По этим законам тебе грозит церковное покаяние. А в камере за тобой просто легче всего присмотреть, чтобы ты опять что-нибудь с собой не сотворил. Книгу ты уничтожить не успел, я ее спас. А вот письмо ты сжечь успел.
-- Ну и что теперь?
-- Пока что сиди и отдыхай. Кормить тебя будут хорошо, и врач будет за тобой присматривать. А я уж думаю, что сделать.
-- Знаю я, как Вы думаете! Кто надо мной смеялся во время ученого собрания?
-- Молчи, дурак! Смеялся я над тупостью и глупостью этих ученых мужей, которые вели себя как стадо толстокожих и безмозглых быков, увидевших красную тряпку!
Несколько дней я решил поразмыслить, что же делать. На Шлюка губернатору было, честно сказать, наплевать, но спустить такое отношение к России он просто не мог. Но события теперь мне начали подыгрывать.
На четвертый день после высокоученого собрания на улице я услышал крики мальчишек, продающих новый памфлет <<Об аварском языке в королевстве Арелат, или как ученый муж варваром заделался.>>
Я купил себе экземпляр листка, просмотрел его и купил еще несколько. Быстро прочитав, я помчался к Егору и губернатору. В лучшем стиле грубой и ругательной немецкой публицистики, дожившей со времен Лютера до времен Гитлера, там описывалось, как у просвещенного короля Франции варвары-авары отняли королевство Арелат, пользуясь тем, что он был занят войной с императором и с Англией. В его главном городе Монт-Рояль воссел аварский бек, который всячески задабривал жителей нового королевства, но все у него получалось не так, как надо. Когда у бека не выходило по-доброму, появлялся палач с бичом и милостивый бек присуждал несогласного всего к пяти ударам бича, а уж палач мог и убить последним ударом, и оставить калекой, и просто выпороть, в зависимости от тайных указаний.
В городе был знаменитый университет, и аварский каган велел, чтобы в нем теперь преподавали не по-латыни и по-французски, а по-аварски. Ученое сообщество воспротивилось, но нашелся некий магистр Шувуазье, коий написал целый трактат, что аварский подходит для науки лучше, чем латинский и греческий. Сам он написал трактат не по-аварски, а по-латыни, но на такой варварской и неправильной латыни, что всем было видно его непроходимое невежество. И теперь милостивый бек составляет список, кого бы из профессоров наказать пятью ударами бича, а магистра собирался сделать ректором университета, но тот от радости перепился и в белой горячке попал в тюрьму.
Я узнал лапу наглого приват-доцента, хотя подписи, конечно же, не было. Вот это был документик! Эти профессора окончательно обнаглели, ведь теперь у меня были все доказательства правоты моего отчета (хотя, конечно же, губернатор и так верил).
Обсуждение в тесном кругу (губернатор и его две руки) началось с получасового молчания. Я представил письменный отчет о заседании и листок с памфлетом. Его внимательно изучали и издавали лишь отрывочные фразы типа: <<Обнаглели, немчура!>>, <<Здесь кнутом не поможешь, надо что-то позаковыристее>>.
И вдруг у губернатора просияло лицо.
-- Есть информация, которую я не хотел раньше рассказывать даже вам, потому что я уже донес государю и государыне-матери, и получил от них совет замять дело полностью. Фридрих, конечно же, мечтает о том, чтобы вернуть Пруссию, но ссориться из-за этого с Россией никогда не будет. Он мастер загребать жар чужими руками. Известно, что он тайно сносился с покойным ныне (слава Богу!) Петром Федоровичем, и тот обещал Фридриху в случае, если ему помогут вернуться на престол, отдать за это Пруссию. Фридрих стал осыпать золотом местных дворян и вообще важных людей, да и в Петербурге кое-кого из крупных шишек и многих из гвардии. Они создали тайное общество для того, чтобы выкрасть Петра Федоровича и возвести его на престол, дескать, принадлежащий ему по праву. Но теперь деньги Фридриха пропали, а вот те, кто мечтают вновь попасть под его крылышко и считают Россию варварской, остались.
Губернатор налил себе рюмку вина, выпил и продолжил.
-- Есть и еще одна тонкость. Я получил личное письмо от государыни, коя просила побеспокоиться, дабы наш университет стал по мере возможности лучшим в Европе, поскольку это покажет, насколько Россия печется о просвещении и науках: не только там, где их не было, но и там, где они были издревле. На деньги она не поскупится.
-- Василий Иванович, и чем же это относится к данному делу? — спросил я, не выдержав.
-- Я подумал обо всем в целом. Нынешняя государыня столь же милостива, как и покойная матушка, да и указ о вольности дворянства теперь не дает мне даже кнутом наказать этих дурней. Но есть возможность все это обратить на пользу России. Если они считают русских варварами, пусть посмотрят, с какими варварами нам приходится иметь дело и помогут нести свет образования в необъятные просторы империи. У нас есть громадная и богатейшая земля — Сибирь. Я считаю, что нам нужно воспользоваться случаем. Мы можем полностью обновить профессорский состав университета, поскольку под все это я смело запрошу прекраснейшее жалованье и постройку роскошных казенных квартир для европейских профессоров. Более того, государыня согласна, если дело пойдет, открыть здесь Прусскую академию наук как отделение Российской. А я ей предложу старых профессоров послать в хороший сибирский город, например, в Иркутск, и создать там университет и Сибирское отделение академии наук для исследования и просвещения Сибири.
Мы просто закричали от восторга. Генерал достал три большие рюмки и бутылку старого вина.
-- Завтра же, Антон, составляй письмо государыне и проект положения о Прусской и Сибирской академиях наук. На ожидаемые расходы не скупись, но и не раздувай сверх меры. Работы много, но на все про все даю три дня. А потом сам тщательно просмотрю вместе с тобой все это. Это будет, видимо, моим прощальным подарком России и Пруссии. Я уже устал, и думаю подать в отставку.
Три дня я работал по двадцать часов в сутки, а потом уже из последних сил переписывал две трети написанного по указаниям генерала. Генерал сам повез проект и отчет о происшедшем в Питер. Знали о том, что он везет, лишь четыре человека, и слухов по городу не пошло.
Пока генерала не было, у меня был почти что отпуск. Я рассказал Гретхен о Шлюке и о высокоученом сборище, она возмутилась, поскольку уже сама убедилась, насколько русские (во всяком случае, высшие классы) просвещенные и любезные люди, и теперь ее уже коробило тупое самомнение на самом деле невежественных и грубых немецких обывателей. Шлюку мы теперь посылали лучшие кушанья с нашего стола, Гретхен навестила его в темнице, он был наслышан о ней, ожидал увидеть нечто вульгарное, но она его просто очаровала. Он вошел в экстаз, и начал говорить поэтические глупости типа: <<В моем отчаянии в мою темницу ко мне слетела эллинска богиня.>> Гретхен нежно расхохоталась и тихонько поцеловала его, после чего взяла с него клятву больше не покушаться ни на свою жизнь, ни на свою книгу, но пока что вести себя так, как будто он полностью раздавлен решением университета. Мы справили ему новый костюм, и он поехал к себе в Мемель.
А тут появился наш старый знакомец фон Шорен (теперь уже майор барон фон Шорен). Он приехал в отпуск для поправки после ранения. На груди у него был новенький орден, на боку висела золотая сабля за храбрость, рескриптом императора и императрицы ему вернули баронское достоинство, которого его род был лишен прусскими королями в наказание за непокорность.
Он сразу же поинтересовался, возобновились ли симпозиумы, и узнал, кто собирается на ближайший и когда. Шесть человек уже было, но он покорно попросил нас допустить его седьмым. Мы сочли это возможным, не в пример другим, в уважение к его подвигам и к отсутствию у него времени.
Сюрпризы не закончились. Было лето, но фон Шорен вышел из своей кареты в шубе и в сопровождении мальчика-слуги. Сбросив шубу, он оказался в костюме античного воина: короткая военная туника, бронзовый панцирь, медные поножи, стальной шлем, сандалии и военный плащ. Лишь на боку висел не античный меч, а золотая сабля. С ним вместе вошел пригожий мальчик в казахском костюме. Фон Шорен представил его как своего раба (что в данном случае было абсолютной правдой) и попросил разрешения рабу стоять около него и служить виночерпием. Лаида улыбнулась и разрешила. Фон Корен сказал рабу пару слов на татарском, и неожиданно для всех раб разделся донага, на нем остался лишь позолоченный рабский ошейник и скромный венок из полевых цветов на голове, и пошел вслед за господином.
-- Вот это красота! Прямо Ганимед! — воскликнули гости.
Во время первой части симпозиума фон Шорен оказался в центре внимания. На довольно хорошей латыни он рассказывал о битвах с киргиз-кайсаками и с мятежными башкирцами, о своем рейде в ставку киргизского хана, в результате которого хан изъявил покорность белому царю и получил от него свои земли в наследственное владение как вассал. Его лицо отнюдь не портил свежий шрам от сабли, и хромота тоже шла этому мужественному воину.
Сюрприз был впереди. Когда женщины попели и потанцевали, фон Шорен вдруг упал на колени и произнес, видимо, давно подготовленную греческую тираду:
-- О золотоволосая богиня! Твой образ вдохновлял меня в битвах с варварами и в тяжелых походах. Когда было уже невмоготу от усталости, голода и жажды, когда казалось, что варвары вот-вот одолеют нас, я вспоминал тебя, и мой боевой клич: <<О, Лаида!>> вел моих воинов к победе. Но сейчас я признаю свое полное поражение. Я твой раб, Лаида! Я твой преданный почитатель! Только не закрывай от меня свою красоту, я еще не налюбовался на нее. И я предпочту ослепнуть от твоей солнечной прелести, чем быть зрячим, но ее не видеть!
Лаида улыбнулась и ответила по-гречески, но барон (в данном случае он взял себе горделивое прозвище Фемистокл) побыстрее перешел на латынь. И было допущено третье нарушение правил симпозиума: ложе Лаиды было поставлено рядом с ложем барона, и она возлегла на него нагой.
Барон велел рабу открыть ящичек и преподнес подарки, подобранные с редким вкусом. Лаиде он подарил буддийского калмыцкого идола из яшмы, китайский фарфоровый чайник и чашечки, амулет с изречениями из Корана, снятый с главного киргизского бека. Анне он подарил довольно грубую, но массивную золотую цепь индийской работы с рубином, и та радостно надела ее себе на шею, что оттенило ее пышные прелести.
Лаида просто таяла в лучах такого искреннего и тонкого почитания. Анна тоже смотрела на барона влюбленным и на все готовым взглядом.
А под конец вечера барон велел Ганимеду, ошеломленному от женской красоты, которая была рядом, и поэтому выглядевшего несколько комично в своем мальчишеском возбуждении, поклониться Лаиде и торжественно преподнес ей своего раба в дар. Лаида при всех крепко обняла и расцеловала мальчика, что тоже нарушало правила. И последним нарушением правил было то, что она отправилась к барону в его карете, а не приняла его у себя.
Вернулась Лаида через пять дней. Она рассказывала, как ее обожает барон, как он покорен ее красотой, насколько он стал лучше по сравнению с тем, каким был раньше, но потом вздохнула и добавила:
-- Но к концу пятого дня мы оба уже немного устали.
Все эти пять дней Анна вовсю пользовалась своим монопольным положением в моей постели, и почему она не забеременела, можно объяснить лишь продолжающимся кормлением грудью. Мальчик спал в соседней комнатке с няней, посреди ночи няня тихонько стучалась к нам в дверь и сообщала, что сын просит есть. Анна мчалась кормить его, а затем возвращалась умиротворенная и еще более ласковая. Она сказала, что здесь, в доме госпожи Шильдер, она впервые в жизни почувствовала себя счастливой, а сейчас ей совсем хорошо: она вместе с сыном, сын у нее дворянин, у сына есть богатая мать, а сама она — любимая служанка и госпожи, и господина.
Через два дня барон попросил разрешения прийти к нам на ужин. Мы подумали и согласились. Он пришел в парадной воинской форме и с букетом цветов. После ужина, прошедшего, как говорили в мои времена, в теплой, дружественной атмосфере, в обстановке товарищества и полного единства взглядов (поскольку вопросов, которые могли бы нас разделить, мы избегали), барон торжественно попросил меня быть свидетелем того, что он сейчас скажет.
-- Прекрасная фрау Шильдер! Мне более пристойно называть Вас либо богиней моей мечты, либо несравненной Лаидой, но сейчас я должен обратиться к Вам на немецком языке и полностью официально. Я знаю, что теперь Вы вхожи в самое высшее общество, что Вы — мать русского дворянина, и поэтому искренне завидую вам, господин Аристофанов! Вы, моя госпожа, уже видели мои глубокие и искренние чувства к Вам. Когда я Вас увозил в карете, Вы посмеялись над моим античным вооружением, что я пришел на симпозиум так, как приходят на пир с врагами: в полной броне. Я на это уже тогда ответил, что эта броня лишь прикрывала мое копье, которое иначе действительно было бы оружием, видимым всем, и что я надеюсь своим оружием наконец-то достать до Вашего сердца и растопить его. Я теперь вижу, что мне удалось его растопить, но мне хочется большего. Я испытал мои чувства к Вам. Даже когда я обнимал других женщин, без чего воин в походе обойтись не может, я представлял себе, что обнимаю Вас. Когда я видел столичных красавиц, которые были не прочь попробовать героя, обласканного самой императрицей и молодым государем, я оставался холоден, как лед, так что меня даже прозвали: <<Снежный барон>>. Я ваш, и душой, и телом. И я хочу, чтобы и Вы были моей. Я не хочу больше завидовать Вам, господин мой Аристофанов. Я хочу, чтобы Вы, моя госпожа и моя богиня, стали матерью баронов. Я прошу Вас выйти за меня замуж.
Гретхен слегка покраснела.
-- И мы с Вами уедем в киргизские степи?
-- Нет. Такую драгоценность я к дикарям не повезу. Вы останетесь хозяйкой моих поместий. Я даже не буду возражать, если иногда у Вас будут друзья, ведь и я сам в походе не смогу полностью избегать женщин. Но детей я прошу, чтобы Вы рожали лишь от меня.
Гретхен собралась с мыслями.
-- Господин барон, Вы действительно растопили мое сердце. Я уважаю Вас и восхищаюсь Вами. Более того, я начинаю чувствовать любовь к Вам, как к герою, как к настоящему мужчине и настоящему благородному рыцарю своей дамы. А Ваше признание и Ваше предложение настолько искренни, что отказать просто нет сил.
Барон взвился от радости.
-- Завтра же идем в церковь! Господин Аристофанов, будете моим свидетелем?
-- Подождите, барон, и сядьте на стул. Я еще не договорила. Вы были настолько нежны и благородны все это время, что я, когда выйду за Вас замуж, буду ожидать того же самого всю жизнь. А всю жизнь прожить на таком взлете невозможно. Ведь вы сами, как человек военный, знаете, что можно быть настоящим героем, но нельзя быть таковым все время, каждый день и каждый час. Между вспышками героизма наступает рутина жизни. И, поскольку и Ваши, и мои ожидания исключительно высоки, я боюсь этой рутины.
-- Богиня! Моя золотокудрая богиня! — закричал барон.-- Клянусь, что я всегда буду любить Вас!
-- Верю! — ответила Гретхен. — Но любовь похожа на войну. Сейчас у нас был штурм крепости, мы оба были в азарте любовного сражения, а затем мы будем стоять лагерем и собирать силы. Поэтому я серьезно сомневалась бы даже в том случае, если бы не было у меня самого главного аргумента. Я не смогу стать матерью Ваших детей. Врач сказал, что и насчет этого ребенка он считает просто чудом, как мне удалось его зачать и выносить. Мое чрево любвеобильно, но бесплодно.
-- Мы можем усыновить ребенка от служанки или от рабыни, — сказал барон.
-- И ложь будет разъедать наш союз. Я буду лучше искренней подругой Вам, чем плохой супругой. Прошу больше никогда не заводить разговор о свадьбе, а сейчас я уже чуть-чуть передохнула от нашей битвы, и вызываю Вас на вторую любовную дуэль. На сей раз я надеюсь Вас победить. А чувства мои к Вам все расцветают и расцветают, и может статься, что через некоторое время мы будем почитать друг друга не как супруги, а еще выше: Вы меня, как свою добрую фею и вдохновительницу, а я Вас — как своего возлюбленного героя и полубога.
И, не давая фон Шорену опомниться, Гретхен расцеловала его и вновь уехала с ним на неделю.
Решение
Генерал вернулся лишь через полтора месяца. За это время кое-что в городе начало малость разлаживаться, поскольку до этого держалось на огромном авторитете и мудрости губернатора. Он устроил хорошую распеканцию чиновникам, и дня три приводил все дела в порядок. Но уже на второй вечер он зашел на симпозиум. Нам пришлось с извинениями отказать одному из гостей (теперь мы обычно собирали пять желающих, чтобы иметь возможность принять неожиданно пожелавшего прийти шестого) и перенести его визит на следующий симпозиум: с губернатором был герцог де Линь, отец которого уже умер и он унаследовал его титул. Герцог рассказал, что в Париже тоже кое-кто пытается устраивать симпозиумы, а затем начал их сравнивать.
-- У вас совершенно запрещены непристойные разговоры и подается лишь слабое вино. У нас подается шампанское и крепкое вино, хозяйки и все гости соревнуются в изящных непристойностях. У вас блюда больше похожи на античные, а у нас блюда практически такие же, как на обычных пирах знати, и лишь чуть-чуть замаскированы под античные. У вас строго соблюдается правило говорить лишь на классических языках, а у нас после первых трех чаш вина все переходят на французский. У нас хозяйки пахнут сильными духами и явно соблазняют гостей. У вас они ведут себя весьма тонко и пахнут отличными восточными благовониями, запах которых намного возвышенней. Вот в Англии я видел один салон, где было почти как у вас, но хозяйка его, как истая англичанка, добившись популярности, захотела зарабатывать больше, и расширила число участников до двенадцати-восемнадцати, а это уже многовато. Правда, у нее отличный юноша, играющий роль античного музыканта и поэта, он декламирует стихи собственного сочинения, и совсем неплохие. Так что я чуть-чуть разочаровался в французских женщинах. Раньше я считал их несравненными в мире.
Герцог вздохнул.
-- Я уже третий раз у вас, Лаида, но я чувствую, что и сегодня ты не выберешь меня. Почему же так? Неужели ты сомневаешься в моей нежности и щедрости?
-- Я не сомневаюсь, Филоктет, в том, что ты совершенно не влюблен в меня и просто хочешь добавить еще одно известное имя в свой список возлюбленных, — прямо ответила Лаида.-- Если я почувствую настоящую влюбленность, я отвечу, клянусь Афродитой.
-- Но ведь я хотел через пару дней ехать дальше в Петербург!
-- Филоктет, я тебе не мешаю плыть дальше по своему пути. А я поплыву по своему.
Герцог вошел в азарт.
-- Но ты не представляешь, какие подарки я тебе приготовил!
-- Я не о подарках говорю. Я не англичанка и не французская куртизанка, и не стремлюсь к драгоценностям ради драгоценностей и к деньгам ради денег. Вот когда ты влюбишься в меня, я их с радостью возьму и постараюсь тебя отдарить всем, чем сумею.
Никто не осмелился вмешиваться в диалог, и лишь Суворов с прямотой военного его подытожил.
-- Так что, дорогой мой друг Филоктет, хоть раз придется тебе подумать не только о себе и даже в первую очередь не о себе. Мне такая задача нравится! — неожиданно добавил он.
В эту ночь Суворов не пошел к призывно смотревшей на него Анне, заявив:
-- Я разорился на сына своего секретаря, а уж на своего сына мне придется разориться посильнее.
Он подошел к Лаиде, по-отечески поцеловал ее и сказал:
-- Родиться бы тебе в античности и мужчиной! Был бы выдающийся стратег, демагог и бабник!
Герцог задержался еще, но меня уже увлекли другие события.
***
На следующий день после симпозиума Суворов собрал университет и зачитал им письмо государыни и императора, в котором выражалось намерение сделать Кенигсбергский университет одним из лучших в мире и в связи с этим губернатору давались все полномочия для реорганизации университета, а все профессора, доценты и адъюнкты должны были подать в отставку, чтобы обеспечить ему свободу рук. Суворов заодно заявил, что он уже купил для казны четыре дома рядом с университетом, чтобы на их месте построить еще одно здание университета для вновь открываемых факультетов и дом для ведущих профессоров, которым разослала приглашения Петербургская академия наук.
После этих слов ученое собрание несколько успокоилось. Действительно, в таких случаях коллективная отставка с последующим приемом почти всех на те же должности была освящена вековыми обычаями. Но каждый в глубине души побаивался, а вдруг его-то не возьмут? Совершенно спокойны были лишь Кант, Ламберт и Вольф, полностью уверенные в своих заслугах.
Через четыре дня, когда все заявления об отставке были собраны, Суворов пригласил меня для разговора один на один.
-- Антон, я получил рескрипт государыни и императора об организации Сибирской Академии в городе Иркутске и о том, что Кенигсбергскому университету предоставлено почетное право стать основателем данной академии и Сибирского университета. Но меня просили проявить мягкость по мере возможности и даже до некоторой невозможности. Нам нужно обсудить, как действовать.
И тут меня озарило. Вот сейчас есть возможность решить задачу! Но я так и не понял: это просвещение Сибири или спасение труда Шлюка? Собираясь с мыслями, я спросил:
-- Василий Иванович, а как Ваши собственные дела? Вы раздумали уходить в отставку?
-- Нет, я уже подал прошение об отставке. Но меня попросили задержаться еще на год для решения вопроса об университете и для того, чтобы в порядке передать дела преемнику, которого еще не нашли. Все боятся, как бы следующий губернатор не напортил того, что уже сделано. А тебе я советую следующее, уже не как начальник, а как друг. Перепиши свое имение на сына, и езжай ко мне в имение на правах моего гостя и личного секретаря. Я дам тебе отставку и испрошу орден, да и в завещании тебя не забуду. Мне много еще чего нужно будет написать, а я не знаю, сколько мне Господь еще отпустил времени.
Я остолбенел. Я действительно был в некотором смущении, не зная, что же я буду делать после смены начальника. А теперь все решалось.
-- Василий Иванович! Я очень благодарен! Действительно, это решает все мои проблемы.
Я улыбнулся и добавил:
-- Правда, кроме одной. Я тут накопил грехов на душе за жизнь свою, и надо бы их отмолить перед смертью.
-- Ну, я всю твою жизнь не знаю, но я почему-то уверен, что ты никого не убивал, не разорял, не оклеветал, девственниц не развращал. А грехи твои настолько естественны, что их любой поп тебе отпустит.
И генерал довольно расхохотался.
-- Василий Иванович, вот в том-то и беда, что не верю я в отпущение грехов от попа. Я сам грешил, сам и должен просить прощения у Бога.
Генерал посуровел.
-- А вот это страшнейший грех! Какая гордыня! Я, дескать, подсуден лишь Богу, а в церковь не верю.
-- Почему же не верю? Я в церковь хожу, и молюсь по православному канону.
-- Нет, не веришь! Христос ведь ради того к нам сходил, чтобы нам, грешным, помочь, и оставил Святую Церковь после себя. Ты в гордыне своей полагаешься лишь на свои силы. А Дьявол все равно сильнее тебя, и ты сам себя лишь загубишь.
Я смутился, и у меня неожиданно вырвалось:
-- Грешен, батюшка!
Суворов подобрел и улыбнулся:
-- Ну, знаю я хорошего батюшку, отвезу тебя на месяц к нему на покаяние, он тебя на путь истинный наставит. Он строг, но умен и добр.
-- Спасибо, Василий Иванович!
-- А теперь вернемся к делам. Я тебя, грешник, знаю! — по-доброму ругнулся Суворов.-- Ты ведь время тянул, чтобы обдумать решение.
Меня громом поразило слово <<Решение>>. Вот он, решающий момент! И вдруг я уверенно сказал.
-- Есть решение, но я должен еще кое-что рассказать.
И я рассказал о выступлении Канта. Я попросил как личное одолжение в ходе решения проблемы направить Канта в Мемель (я злорадно подумал, что он никогда не выезжал никуда, а тут будет ему месть!)
Суворов расхохотался и неожиданно для меня сказал слова из сна:
-- Правду паписты говорят: черт лжет, даже говоря правду! А я добавлю: как это доказал честнейший профессор.
Мы обсудили детали, и разошлись довольные.
***
Вся академическая составляющая университета собралась на новое собрание. Как и всегда на таких собраниях, Суворов говорил на чистой классической латыни. Суворов поблагодарил всех за покорность указу монархов и объявил, что он всех назначает исполняющими те же должности с тем же жалованьем и привилегиями, кроме права избирать новых членов и по своей воле уходить в отставку. Все поуспокоились.
Суворов достал еще одну бумагу.
-- А теперь я зачитаю именной указ о создании в городе Иркутске Сибирской Академии наук как отдела Петербургской императорской академии.
Собрание сначала недоумевало, какое это имеет отношение к Кенигсбергскому университету, затем в середине длиннющего указа вроде бы сообразили, что от них потребуют посылки нескольких ученых в Сибирь, но условия для сибирских академиков были оговорены в указе действительно царские, и молодые магистры уже начали шушукаться, а не поехать ли туда?
Но последняя фраза указа всех громом поразила:
-- Почетное право основать Сибирскую академию и университет при ней даруется нашему возлюбленному Кенигсбергскому университету, и генерал-аншеф генерал-губернатор Суворов имеет для этого приказать всем выбранным им ученым мужам направиться в Иркутск для почетного и славного дела распространения просвещения и изучения необъятного края. Охотники тоже приветствуются.
Все были громом поражены. Итак, каждого из них губернатор теперь может послать в сибирскую глушь! Лишь несколько молодых адъюнктов закричали:
-- Слава императору и государыне-матери! Запишите нас в охотники!
-- С превеликим удовольствием, только проверю вашу квалификацию и репутацию,~-- ответил губернатор.-- Нам в Сибири плохие ученые не нужны.
И секретарь стал записывать охотников.
-- А теперь я перейду к самому главному. Тут пару месяцев назад вы под видом ученого собрания лаяли русскую культуру, русскую речь и русское правительство, а потом еще выпустили пасквиль на российское правление и на тех, кто сотрудничает с русскими. Вы все время строите заговоры, дабы вернуть Пруссию Фридриху, коий от нее полностью и навсегда отказался и лишь вас дурачит. Чтобы вырвать заразу с корнем, я объявляю всем вам, дабы вы в течение месяца готовились к переезду в Сибирь. Студентов через месяц распустим на годичные каникулы, а профессоров новых наберем. Ну, за этот месяц я кое-кому из вас велю остаться.
Собрание как громом поразило. Все представили себя сибирскими академиками, заседающими на сибирском морозе в собольих шубах вокруг русского самовара в окружении медведей и волков. Пара профессоров даже в обморок упала.
На следующий день, как и ожидал губернатор, на прием к нему попросился ректор университета. Суворов его не принял. Затем были суббота и воскресенье. В понедельник в шесть часов утра ректор вновь сидел в приемной. Опять его не приняли. Приняли его лишь в среду.
Суворов весьма холодно говорил с ним, но затем согласился поразмыслить о смягчении приговора университету (мельком Суворов заметил, что доктора Бернулли, Линнеус и Шееле уже дали согласие на переезд в Пруссию и скоро приедут в Кенигсберг, и ректор еще больше побледнел: он понял, что условия привлечения ведущих европейских профессоров такие, что в Кенигсберге скоро будет тесно от светил науки).
Через два дня состоялось новое собрание. Суворов сказал, что он способен простить большинство академического сообщества, но нужно, чтобы сообщество деятельно покаялось. Он потребовал, чтобы в университете позволили говорить и преподавать по-русски и поощряли изучение русского языка. Ученые мужи покорно согласились. Он, далее, потребовал немедленно извергнуть из своих рядов приват-доцента Шаумберга, автора гнусного пасквиля, участника всех комплотов и лаятеля всего русского.
-- Сей приват-доцент сегодня же имеет отправиться по этапу в Иркутск для подготовки приема первого отряда академиков. Ему не положено вспомоществование для переезда, поелику ехать он будет за казенный счет.
Собрание без возражений и с облегчением согласилось.
-- Честнейший и ученейший знаменитый профессор Иммануил Кант показал на собрании, как можно говорить правду таким образом, чтобы вышла круглая ложь. Он должен загладить свой грех, лично поехать в Мемель на месяц, извиниться перед Шлюком и помочь подготовить достойный третий вариант книги.
-- Я никогда никуда не езжу, — спокойно и с достоинством сказал побледневший Кант.
-- Не поедете в Мемель, поедете в Иркутск, — ответил губернатор.-- И не только вы. Более того, поедете в должности ректора вновь основанного университета и непременного секретаря Академии.
Кант побледнел. Видно было, что губернатор кажется ему утонченным садистом. Он снайперски подсунул профессору все то, чего Кант тщательно избегал. А выглядело это как почетное именное поручение императора и государыни.
-- Это беззаконие! Я подаю в отставку.
-- Вы сами покорились именному указу и теперь не имеете права уходить в отставку, — сказал Суворов.
Кант с достоинством поклонился собранию и вышел.
-- У вас есть день, дабы уговорить этого упрямца спасти вас. Послезавтра утром он должен выехать вместе с доктором honoris causa Аристофановым, — сказал губернатор.
Он продолжал оглашать требования, но я уже не слышал ничего. Меня распирало чувство, что вот-вот все будет сделано! Но я помнил восточную поговорку: <<Прыгая от радости, смотри, как бы у тебя из-под ног не выдернули землю.>>
Через день утром к карете подошел кислющий-кислющий Кант в сопровождении ректора и пары профессоров, которые сдали его с рук на руки мне.
За всю дорогу Кант произнес всего пару предложений.
-- Это вы, ученейший почетный доктор и мастер допросов, подговорили губернатора на такую месть?
-- Генерала ни подговорить, ни уговорить невозможно. Идея, не скрою, была моя, но ее развитие в виде ректорства и поста непременного секретаря — его собственное. Он еще ехидничал, что на этом посту Вы научитесь ценить талантливых людей и беречь их, поскольку увидите, сколько вокруг напыщенных ничтожеств и как они агрессивны.
-- Но все равно, я поехал не из-за ваших угроз, а из-за того, что все научное сообщество молило меня спасти их.
-- Я думаю, что очень скоро Вы оцените всю глубину благодарности этого сообщества и его отношение к Вам.
Кант почувствовал скрытую издевку, и замолчал.
В Мемеле, надо отдать ему должное, Кант сразу же честно принялся за работу, и уже через две недели мы вернулись. Я — в хорошем настроении, Кант — смертельно обиженный и выбитый из колеи.
За это время Иммануил Кант успел ощутить солидарность и благодарность научного сообщества. Суворов попросил университет добровольно выделить трех профессоров и шесть доцентов для основания академии наук. Профессоров назвали почтенные академики следующих: Кант, Ламберт, Вольф. Доцентов тоже выбрали самых способных. Суворов самолично заменил всех профессоров и половину доцентов, и тем самым спас Канта от переселения.
У меня появилась уверенность, что задача будет вот-вот решена.
* * *
Я вернулся домой, но был настолько рассеян, что ничего вокруг не замечал, и с симпозиума ушел в самом начале, сославшись на головную боль. Переодевшись в обычный костюм, я пошел в таверну, чтобы хоть там отвлечься. И тут меня изо всей силы хлопнули по плечу. Я вздрогнул и обернулся.
-- Привет, старина! Ты что же земляков не замечаешь! — гремел полковник Яковлев.-- Пошли тут в шикарное местечко, выпьем и поговорим.
Мы разговорились. Яковлев был доволен жизнью донельзя. Сейчас он ехал к Фридриху под Прагу, где шла последняя осада войны. Он спросил меня:
-- Ты тоже остался? Я твои стишки с удовольствием почитывал.
-- Да нет. Только сейчас, кажется, задача решается.
-- Ну, вы, штатские, и медлиты. Не то, что мы, военные. Выпей еще, черепаха!
Я еще немного выпил.
-- Значит, все-таки решается. Ну и как, остаешься?
Я сообразил, что мне придется принимать еще и это решение.
-- Пока не знаю. И то, и другое хочется. Мне здесь тоже понравилось.
-- Ну ладно, если надумаешь остаться, еще выпьем и не раз! Мне с тобой всегда приятно пообщаться. А если вернешься, должна же между нами остаться какая-то, хоть телепатическая, связь? Мне немного интересно, как там, в том времени, что изменилось из-за того, что мы натворили. Побаиваюсь я, что Германия слишком усилится и одолеет Россию.
-- Ну, если удастся, протелепатирую! — улыбнулся я.
На всякий случай я заранее побеспокоился о том, чтобы переписать благоприобретенную деревеньку и души на имя сына. Гретхен почувствовала неладное, и впервые за все время устроила нечто типа выяснения отношений.
-- Антон, я не хотела бы, чтобы ты уходил. Я всегда рада тебе, а ты подготавливаешь уход. Ведь если, упаси Боже, ты умрешь, то сын и так все получит по закону. Без отца сыну будет плохо. Да и Анна будет скулить: <<Почему господин нас бросил?>>
-- Это личная просьба губернатора, — признался я.
-- Но я знаю, что ты всегда умел исполнять лишь те просьбы, которые считал нужным исполнять. Почему же здесь ты бросился исполнять?
-- Потому что я тебя люблю, — соврал я и стал ее целовать.
Но так просто эту, теперь уже точно незаурядную, женщину оболванить было нельзя. Она с удовольствием расцеловала меня, а затем сказала:
-- Антон, видишь, как нам хорошо вместе! Но губернатор явно сделал тебе какое-то предложение, и ты готовишься навсегда нас покинуть.
Меня передернуло и неожиданно я зло сказал:
-- Ну да, я останусь, и кем я буду после отъезда губернатора? Официальным любовником прославленной гетеры?
Гретхен жестко ответила.
-- Ученый муж, Вы ошибаетесь. Вы — официальный отец моего официального сына. Сыном и его матерью мы связаны крепче, чем многие супруги браком. Это положение дает нам обоим и права, и обязанности по отношению друг к другу и к Анне. Но, в отличие от супружеского долга, это именно права, и реализованы они могут быть лишь по взаимному согласию, взаимопониманию и взаимной любви. А любви, согласия и понимания у нас вполне достаточно.
Гретхен продолжала:
-- Я понимаю, что именно ты позволил мне найти свое призвание и разбудил мои способности, о которых я и не подозревала. Зарытые таланты тяжким грузом давили мне на душу, и я все время чувствовала себя неполноценной. Я сама себе удивилась, когда, став твоей открытой любовницей, я вдруг ощутила себя не аморальной особой, не изгоем общества, а полноценной красивой женщиной. Тогда у меня и появилось ощущение того, что раскрылась одна сторона моей души: столько в душе было любви и желания быть любимой, что невозможность выплеснуть все это буквально съедала меня изнутри.
Я взял Гретхен за руку и стал нежно гладить. Она улыбнулась.
-- Как хорошо! Я же говорила о взаимопонимании и согласии. Сейчас мне именно это и надо было! Но я отвлеклась от главного. Когда меня перестала съедать неутоленная жажда человеческой нежной любви, соединенной с настоящей страстью, я стала чувствовать. что внутри меня таятся и другие силы. Ты видел, что я почти ничего не читала. Но Библию я знаю прекрасно, а другие книги, которые мне попадались до этого, были настолько грубы и дурны, что вызывали у меня отвращение. Меня до сих пор мучает мысль. В детстве, когда нас немного учили латыни в школе, я поражалась, как это другие не могут понять таких простых вещей, как законы латинского языка? А если бы я стала серьезно учиться еще тогда, то сколько бы языков и сколько бы интересного я могла бы узнать! Я могла бы стать второй Гипатией, и тогда, наверно, мои сограждане тоже растерзали бы меня, если бы я своевременно не убралась куда-то в Лондон или Петербург. А сейчас я стала всего лишь красивой драгоценностью, и в этом качестве город меня зауважал. Но я понимаю, что, если я сейчас бриллиант Пруссии — помнишь, что так меня неоднократно называли — то огранил этот бриллиант, который казался тусклым и бесформенным куском холодного и твердого камня, ты, и никто другой.
Гретхен продолжала.
-- Единственное, о чем я иногда жалею — что мы не встретились на десять лет раньше. Я бы себя нашла как раз вовремя. Но потом я вспоминаю, где я тогда жила, и понимаю, что в Пруссии это было бы невозможно. Все-таки Россия — намного более свободная страна.
Я внутренне ухмыльнулся и восхитился.
-- Вот это речь! Воистину прав Суворов: в тебе пропал стратег и демагог одновременно! А бабник просто перешел в другую ипостась!
И мы искренне и нежно обнялись, подарив друг другу одну из лучших наших ночей. А вопрос был временно исчерпан.
И почти что в тот день, когда радостный Шлюк приехал сдавать рукопись в печать, (не помню, в точности, чуть раньше или чуть позже) я почувствовал, что ЗАДАЧА РЕШЕНА. Теперь осталось сделать выбор.
Гретхен уже заметила, что я сам не свой, и покинула своего очередного любовника, чтобы меня утешить. Но я даже не смог с ней иметь дело. Она попросила Анну принести сына, и обе мамаши стали расхваливать успехи своего ребенка. Я оттаял, потеплел, стал играть с сыном, а Гретхен говорила, что она воспитывает его по-афински (не очень строго, но и не изнеживая), хочет, чтобы он стал офицером, ученым и поэтом, как его отцы. Я поневоле улыбнулся и стал ее просить, чтобы она не надеялась на все это сразу. Бог никогда всего не дает человеку. Главное, чтобы он стал хорошим офицером и человеком чести, а остальное приложится по мере того, как Господь позволит.
Анна каким-то инстинктом чувствовала что-то неладное, и вдруг ее инстинкт сработал полностью: она бегом унесла сына, который стал плакать, отдала его няне, а затем вернулась обратно, бросилась передо мной на колени и буквально завыла по-собачьи:
-- Господин, не уходите!
Она повторила это несколько раз. Я гладил ее, и постепенно утешил, а потом сказал, что у меня очень серьезные и неприятные дела. Гретхен заявила, что тогда она сегодня вечером устроит легкое пиршество и постарается развеять все мои печали, а потом, Бог даст, все уладится. Но я наотрез отказался, и заявил, что я хочу побыть один.
Я заперся в своей комнате и понял, что должен вернуться. На душе стало легче. А тут еще постучалась вконец обеспокоенная Анна. Я погладил ее, она принесла мне чаю, и мы обнялись на прощание (это я-то знал, что прощание). И я заснул, чтобы утром готовиться к возвращению.
Возвращение
Я весь последний день посвятил распродаже лишнего имущества (интуиция подсказала мне, что стоит это сделать). Написал прощальные письма обиженному на меня профессору Канту, магистру Шлюку, академику Баркову и своему начальнику Суворову. Текст их немного различался, но смысл был один и тот же: я благодарил их за хорошее отношение, просил прощения за нанесенные вольные и невольные обиды и сообщал, что я решил подготовить душу к свиданию с Богом и ухожу из мира.
Утром вышел к завтраку, вручил Гретхен плату еще за месяц вперед (ритуал ежемесячной платы у нас так и остался, теперь уже в качестве юмористического обычая) и сказал ей, что вновь уезжаю по делам. Письма всем, кроме начальника, отослал. Письмо начальнику оставил на столе.
Нанял извозчика, поехал в лесок. Перед лесом остановил возок, расплатился и пошел по тропинке, затем свернул с нее и наконец-то понял, что вокруг меня никого нет. Я раскинул руки, закрыл глаза и представил себе Технический отдел практики. Карта встала перед глазами и вновь потянула меня к себе, но на сей раз на ней был один огонек: Москва.
И вот я вновь стою в отделе практики. Голова немного кружится. Я совершенно голый, но рядом со мной несколько золотых и одна медная монета из той тяжелой кучи, что была у меня в кошельке, и старинный башмак на левую ногу. Дежурный (уже другой) улыбается и замечает:
-- Ну и делов Вы там натворили! Даже такая тяжесть, как башмак, с Вами перелетел! Такое редко бывает.
Затем дежурный достал ключик и открыл одну из многочисленных ниш, чтобы вручить мне мою одежду. Все в целости и сохранности. Даже мобильник не разрядился.
Я начал одеваться, и вдруг со смехом понял, что я уже подзабыл, как надевать современную одежду, и путаюсь в ней. Дежурный смеялся тоже.
-- А вот если бы Вы попали подальше да отсутствовали бы подольше, совсем комичное зрелище было бы.
-- По моим подсчетам, я должен был отсутствовать дня три, — сказал я.
-- Дня четыре либо пять: сейчас полночь.-- ответил дежурный.
-- Ну и куда же мне идти?
-- Есть у нас дежурная комнатка, где переспите до утра, а затем отправитесь куда хотите. Кстати, не продешевите: эти ваши монетки многого стоят. А утром вам выпишут премию.
-- А как моя семья?
-- Не знаем. Тридцатидневный срок ожидания, оговоренный договором о страховке, еще не прошел, так что мы им ничего не сообщали.
Я представил себе <<теплый прием>> дома, но эту неприятность искупало то, что я вернулся, и, судя по всему, не очень постаревший. Чувство подсказывало мне, что задача решена отнюдь не идеально, но удовлетворительно, а, может, и несколько получше. Я глубже вдохнул грязный московский воздух, вновь приучая легкие к современным гадостям, и попросил:
-- Дайте мне попить газировки, если есть! Ужасно соскучился по шипучкам!
-- А чаю или кофе не желаете? Можно и коньячку.
-- Коньячку чуть-чуть можно, а чай и кофе там не чета нашим.
-- Кстати, как там капитан Яковлев? Вы с ним попали в один мир, в близкие места и в близкое время.
-- Почитайте историю. Там, наверно, будет фельдмаршал Яковлев, герой Семилетней войны и прочих войн.
-- Слава Богу, это осталось на другой ветке мира. У нас-то ничего в прошлом не изменить.
-- Так, значит, я зря пластался, спасал нашу цивилизацию от тупика?
-- Господь дает каждой душе возможность испытать себя во всех возможных ситуациях. Вы старались не зря. Вы старались для другого воплощения вашей души в другом мире. В этом-то мире Вы уже не перевоплотитесь, да и говорить о перевоплощениях — упрощение. А нашей цивилизации, может быть, кто-то и поможет. Она сама себе помочь вряд ли уже сможет, разве что спасти кое-что для тех, кто выживет после катастрофы.
-- Не ожидал, что вы так хорошо разбираетесь в теологии.
-- Здесь много в чем разберешься! — просто ответил дежурный.
-- Но если это нам не помогает, зачем же мы все это делаем?
-- Четко действует закон взаимности. Хотим, чтобы нам помогли — помогайте другим. Чем больше проблем решите у других, тем больше визитеров-решателей приходит к нам.
-- И вы их знаете?
-- Ну, не стоит много болтать. Могу лишь сказать, что мы можем их достаточно точно подсчитать.
-- А если я захочу сюда вновь?
-- Заключить договор о практике можно будет в любой момент, если сами пожелаете. Зайти в эту комнату можно будет, лишь если кто-то здесь уже сделал выбор, и Вы хотите вновь пережить это вместе с другим, как зритель. Но Ваш выбор уже сделан. Критический эксперимент в каждой жизни бывает лишь один.
Я отхлебнул коньяку. На удивление, он оказался очень хорошим. Мы разговорились о том, как на самом деле все происходит при переходе и возвращении. Об очень многом рассказывать непосвященным нельзя, а вот кое-что из того, что можно. <<Закон горы Махамеру>> (год = день) выполнен лишь для отправки в абсолютное прошлое, когда ни один из тех, с кем в принципе можно встретиться, сейчас не живет. Забрать с собой по своей воле ничего нельзя, и хуже всего передаются вещи, несущие индивидуальную информацию (например, записи). А труднее всего во всех отношениях приходится тем, кто отправляется в будущее (но это происходит редко). И вернуться оттуда непросто, и свое тело постареет, и рассказывать о том, что ты там видел и что там было, нельзя: карается мгновенным тяжелейшим неизлечимым безумием. А иногда очень хочется что-нибудь передать, вот и говорят эти люди темными намеками, как и провидцы, чтобы пройти по краю безумия и тем не менее надеяться, что имеющий уши да услышит.
Есть наш, <<исправителей>>, сайт critical_experiment.gov. Большинство информации там зашифровано, не столько от хакеров, сколько ради них: если кто-то непосвященный ее прочтет, он сойдет с ума (не обязательно необратимо, но достаточно тяжело). Вы можете на него зайти, на основной странице там почти ничего интересного нет (кое-какие намеки Вы сможете понять, исходя из рассказанного мною), а дальше Вас попросят зарегистрироваться, и Вас проверят исправители. Не бойтесь, если Вы не проходили критический эксперимент, Ваша регистрация не пройдет.
Точно так же, если Вы духовно не готовы хотя бы к тому, чтобы Вас протестировать на пригодность к исправителям, не надейтесь, что Вам удастся поглазеть хотя бы на входную дверь. Мы с Олегом Программенко в сильном подпитии (праздновали удачное возвращение) пытались туда спуститься, и увидели лишь заваленный бетоном дверной проем.
Я удивился, что сайт в сети американского правительства, и мне рассказали любопытную вещь. Когда появилась возможность направлять экспертов для критических экспериментов, первыми это смогли сделать немцы во времена Гитлера, а их специалистов захватили американцы. Спустя каких-то тридцать лет США смогли на основе научного рационализма воспроизвести то, что сделали немцы на базе интуитивизма и потаенного опыта, сохранившегося в Тибете. Правда, американцы на это затратили колоссальную энергию и средства, но получилось у них гораздо более безопасно и надежно. А затем было доказано, что в данном случае альтруизм безусловно наивыгоднейшая стратегия, и во время перестройки был на американские деньги американскими специалистами создан московский центр. Любопытное было обоснование этого в секретном докладе: поскольку будущее все равно Pax Americana, то нужно привлекать к его улучшению всех (сами понимаете, исходя из того, что сообщают исправители будущего, никаких точных выводов сделать нельзя, но они перетолковали в данном смысле). Есть всего две нации, представителей которых категорически не допускают к критическим экспериментам: китайцы и англичане. Почему — можете вычислить сами.
Ну что же, критическая полоса кончилась, надо возвращаться к обычной жизни.
Этой ночью я увидел несколько снов. Растерянный асессор Антон Поливода, стоящий где-то в чаще леса совершенно голый на куче чьей-то роскошной одежды и такой россыпи золотых монет, вывалившихся из порванного кошеля, какой он за всю жизнь не видел. Я искренне жалел его и понимал, что для него теперь хороших решений просто не было: найди он дорогу в Кенигсберг, все бы отнеслись к нему как к неожиданно сошедшему с ума, а в другом месте ему придется не лучше. Это мне было напоминание, что за все платить надо, в том числе и <<подвиг>> всегда причиняет тяжкий ущерб кому-то невинному.
Проснувшись от кошмара, я вновь заснул и увидел барона Яковлева, настойчиво спрашивавшего меня: <<Ну как там у нас? Что изменилось?>>
Я ответил ему: <<Ничего. Мы меняли другой мир.>>
Яковлев сказал почти то же, что и я: <<Так зачем же пупок надрывали?>>
Я вздохнул: <<Долг платежом красен; и для дающего, и для берущего.>>
Связь прервалась, и я понял, что, даже если это был не совсем сон, то навсегда.
Третий мой сон был почтенный профессор Кант, написавший формулировку категорического императива и рассуждающий сам с собой, а как ее поправить, чтобы исключить возможность лжи правдой?
А четвертый мой сон был самым реалистичным. Я вновь стою в лесу, раскинув руки, и вдруг оказываюсь во тьме, где чуть-чуть пахнет чем-то сладковатым. Слышу звон золота рядом со мной. Вдруг мелькает аварийное освещение, которое в одном из углов временами то появлялось, то пропадало. И я вижу вдребезги разбитый экран и электронику от него, кучу осколков стекла и чего-то еще на полу. Я обуваю левую ногу, поднимаю тряпку рядом с собой, завертываю в нее другую ногу и золото, и осторожно пробираюсь к открытым шкафчикам. Одежда и вещи из них выброшены, мне как-то почти сразу удается найти свое. Деньги и документы исчезли, мобильник не работает, видно, что по одежде кто-то прошелся. Одеваюсь, роюсь в кучах других вещей, набираю немножко денег и пробираюсь к двери. Картина скорее не разгрома, а паники. Дверь изнутри бронированная и герметичная. Замок такой, что открыть его безнадежно. Но есть красная ручка, опечатанная и явно аварийного вида. Я берусь за эту ручку, молюсь, чтобы это оказалось аварийное открывание двери, и тут просыпаюсь. А ощущение такое, как будто, наоборот, я из реальности свалился в добренький сон.
Когда я вернулся домой и рассказал все моей семье, меня поразил один комментарий. <<А, может быть, и задачи-то никакой не было? Это был просто эксперимент на выживание!>> Потом я узнал на собственной шкуре, что немцы и японцы стремятся изо всех сил завлечь к себе тех, кто успешно прошел критический эксперимент. А вот американцы отстали от меня, проинтервьюировав по телефону и выяснив, что я крайне критически отношусь к <<универсальным ценностям западной демократии>> и к методам, которыми их насаждают США, в частности. Наше правительство ограничилось тем, что прислало мне анкету эксперта (которую я просмотрел и из-за ее полного идиотизма не стал на нее отвечать) и больше никаких действий не предпринимало, даже не поинтересовались, почему я не отреагировал на анкету.
КОНЕЦ







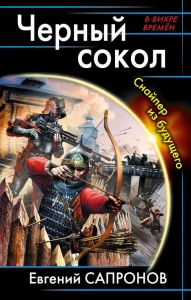
Комментарии к книге «Критический эксперимент», Юрий Ижевчанин
Всего 0 комментариев