ВАСИЛИЙ ЩЕПЕТНЁВ Дело о волхве Дорошке
1
— Женщины, они и после революции бабы, — решил товарищ Оболикшто, прочитав третью за неделю записку о происках некоего мазурика. Мазурик звал себя волхвом Дорошкой, жил подаянием и гадал на прошлое, настоящее и будущее. За гадание не брал ни гроша, только сухари, если кто даст, но нагадывал такое, что женщины — а обращались к Дорошке преимущественно они — уходили в расстройстве или в восторге, но обязательно и твердо веря, что все, сказанное волхвом, есть истина. Отсюда и скандалы в семьях. Мужья сначала гневались, потом пытались словом и делом образумить жен, а под конец в отчаянии писали записки товарищу Оболикшто с требованием разоблачить и наказать. Все бы ничего, только и жены и мужья жили за кремлевскою стеной и были видными и выдающимися деятелями, а один так даже вождем, хорошо, хоть не из самых главных. Но как знать, вдруг завтра…
Товарищ Оболикшто оборвал думу. Этак сам не заметишь, как впадешь в мелкобуржуазный пессимизм, а пессимизм, что гниль или ржа, все портит. Незаметно, тихонько, а глядишь — перед тобой уже не боец революции, а так… человек в очках. То есть против очков товарищ Оболикшто ничего не имел, если зрение ослабло, отчего ж и очками не попользоваться, но вот то, что прилагалось к очкам — шляпа, бородка, «будьте любезны» и, особенно, «естественные права гражданина» — недолюбливал. Ему пришлось посидеть на одном совещании, где долго, нудно и непонятно говорили об электрическом социализме, и главными были эти — в очках, с бородками и правами гражданина. Про права они не говорили, но даром, что ли, товарищ Оболикшто в партии с пятого года? Нагляделся на сочувствующую интеллигенцию, насквозь видит. То есть душой они за народ, что правда, то правда, но за народ выдуманный, вычитанный из книжек, написанных такими же сочувствующими в очках. Там у них все добренькие, как сахар в меду, и стоит очкастому сочувствующему помочь мужику на пятачок, так мужик в ответ непременно жизнь положит за други в очках.
Так не бывает. Но не в этом дело, очкастые говорили в тот раз не о мужике, а об электричестве, что нужно побольше заводов электричества настроить, электростанций. То правильно, строить нужно. Но строить нужно строгостью, под конвоем, а не гражданскими правами.
Ладно, будут указания насчет электростанций, тогда и посмотрим, пойдет их мужик строить с песнями, или как. Сегодня другая забота: волхв Дорошка. Волхв — это вроде чухны, кажется. Или из Волхова? По-настоящему этим должна даже не Чека заниматься, а кремлевская охрана. Политика — первое, Кремль — второе. Зачем МУСу на кол лезть? Но волхв Дорошка живет в городе, и вообще… дело деликатное. Лучше бы без Чека обойтись. Волхва-то они бы распотрошили мигом, так ведь найти нужно. А кремлевских жен потрошить не положено. Нет такого указания. Значит, что? Значит, вспоминают товарища Оболикшто. Товарищ Оболикшто все может и все умеет. Особенно работать с людьми. Люди у товарища Оболикшто спать не будут, есть не будут, пока не выполнят порученное задание. Придется — с бандой схлестнутся, пуль не боясь, вот каких людей подобрал и вырастил товарищ Оболикшто. Подход — вот точное слово. Нужный революционный подход. Кому поручить это дело? Другой бы взял того, кто посвободнее, приказал бы построже — и ждал результата. Товарищ Оболикшто прежде, чем приказывать, думает, сумеет ли подчиненный выполнить приказ. Тогда и строгость помогает, и душевный разговор, по всякому случается. В итоге преступник наказан по законам революции, сотрудник исполняется верою в свои силы, а товарищ Оболикшто… ну, товарищу Оболикшто только и нужно, чтобы дело двигалось вперед без помех.
Вот и сейчас — сотрудников он знает, и потому знает, кто не подведет. Есть один, словно нарочно для такого дела созданный, Александр Арехин.
Нарочно созданный Александр Арехин тем временем пошел слоном… Ход хороший, потому что простой. Истина это простота, простота истинна — вот то, что мы знаем на земле, вот все, что нам требуется знать.
Первокатегорник Вороновский задумался ненадолго, простоту хода оценил, остановил часы и протянул руку, поздравляя с победой.
Если бы можно было останавливать не часы, а время…
Арехин поговорил с судьей о следующем туре, оглянул зал.
Зал для игры был полутемным — таким, каким он любил. Время вечернее, все игроки пришли на игру после службы, каждый со своею свечой на случай перебоя с электричеством. Перебой случился, и свечи потихоньку догорали.
Да. Это вам не Карлсбад. Но проводить в Карлсбаде лично-командный чемпионат работников красных учреждений в ближайшее время вряд ли удастся. Мировая революция понуканий не терпела. Не созрели, значит, условия в Карлсбаде.
Игроки сидели в пальто, в шубах — у кого остались, один он в кожанке и при маузере — том самом, наградном. Это требовалось для дела: чемпионат был детищем Кюзи Берзиньша. Кюзя доставал пайки для игроков, добился, чтобы участников в дни игр отпускали со службы после полудня, опять же — помещение и призы. Следовало держать марку, поскольку играл Арехин от МУС-Чека, спортивного объединения двух организаций, созданного на время турнира. А раз Чека — то как же без кожанки и маузера? И для сомневающихся соответсвующий сигнал: раз уж Чека поддержало шахматы, значит остальным учреждением саботировать мероприятие никак нельзя, напротив, красное учреждение без собственного шахматного турнира обойтись не может. Спросят, и еще как спросят. Вон тот, в кожанке, при маузере и спросит.
Темным, холодным коридором он прошел к выходу. Никто за ним не последовал, не спрашивал мнения о сыгранной партии, не просил надписать афишку турнира — да и не было ее, афишки. С другой стороны, был бы он в цивильной одежде, может, и подошли бы. А то — с маузером на игру ходит. Поди, выиграй у такого — к стенке поставит, и весь разговор. Среди шахматистов первой категори, пожалуй, слух не поползет, а вот шахматисты третьей или четвертой уже разнесли по Москве версию. А учитывая, что последних много больше, нежели первых, и текстов партий нигде не публикуют, не удивительно, что соперники играют против него скованно, заранее обрекая себя на поражение. Пользы от таких турниров чуть — для него. Но ведь есть и другие щахматисты. Нужно подумать и о них. Если Кюзя старается, то уж Арехину манкировать турниром никак нельзя. Пусть смотрят на шахматиста с именным маузером и получают после каждого тура паек участника — небольшой, но дома встретят приветливо. Кормилец пришел, а не бездельник.
Арехин прошел длинным пустым коридором. Ни корреспондентов, ни въедливых знатоков, ни любопытствующей публики. Никого.
Он вышел из подъезда бывшего Приюта Иерусалимских Паломников, ныне же Дома Пролетарской Мысли. Фонарь не горел. Стареющий месяц светил вполсилы, но Трошин мигом углядел Арехина, и через несколько секунд Фоб и Дейм уже били копытами о мостовую. Мартовский снег еще держался, но скоро, скоро придется менять сани на дутики.
Пока он устраивался, вышли еще двое. Свои же братья-шахматисты. Молча смотрели вслед, и лишь потом заговорили — негромко, вполголоса. Скрип полозьев, свист ветра, топот копыт не помешали услышать очередное «продался большевикам, и как удачно продался». Ну-ну. Иуду в спину пускали не впервой, но всегда шопотом, в уверенности, что не услышит. Разве они виноваты, что Арехин слышит? Что ж их теперь, на дуэль вызывать, через платок стреляться? Да не станут они стреляться. И повод глупый. Какой же он Иуда? Иуда пешком ходил, маузера на виду не носил, и пары браунингов-спесиаль в потайных карманах тоже, оттого и был повешен. Нежелательных свидетелей устраняют, не так ли? Его, пожалуй, тоже захотят устранить. Но не сегодня, не завтра и даже не послезавтра. Это если брать в расчет власть. А так, конечно, желающих много. Да за один выезд собственный на клочки бы порвали, кабы не боялись. Хотя порой отчаянные головы и находятся. Клуб самоубийц Фоба и Дейма.
Нет, Иудой Искариотом Арехин себя не чувствовал совершенно. Какой же Иуда без Иисуса? Самодержавие в роли мессии? Даже не грустно. Вот Иудой Маккавеем — другое дело, на Маккавая он согласен. А в спину шипят только пресмыкающиеся. По свойству натуры.
Трошин привез в МУС. Конечно, можно было бы и домой, но что ему делать дома? Фройлян Рюэгг выехала с делегацией в Гельсингфорс, разбирать нынешнюю партию нет смысла — соперник сделал грубую ошибку на восьмом ходу, все остальное свелось к тому, чтобы показать сопернику, насколько сильно тот ошибся. Почитать последнюю книгу господина Уэллса, любезно присланную автором? Так ее выпросил на три дня Ленин, через которого, собственно, и была передана книга. Поэтому оставалось одно — выйти на службу. Дело обязательно найдется.
И оно нашлось.
2
— Как раз для вас, Александр Александрович, — товарищ Оболикшто был мягок и убедителен. А ведь мог бы просто приказать. — За стены Кремля кому ж и идти? А если кто и пойдет, пустят ли? А пустят, так растеряется человек, не зная ни людей, ни места. Во-вторых, уж больно заверчено дело, тайна на тайне. Откуда этому Дорошке знать про жизнь вождей такое, что и жена не знает? Я думаю, что он — шпик, провокатор, агент охранки еще с царских годов, ну, а вдруг дело в другом? Здесь деликатность требуется, ум, проницательность. И, наконец, нам это дело поручили, так сказать, доверяя. Чека не доверили, кремлевским не доверили, а нам — доверяют. Сами понимаете, отмахнуться никак невозможно. Ум, душа, чистые руки и вообще… Ваше это дело, Александр Александрович.
— Мое, — согласился Арехин и взял тоненькую папочку, в которой и был-то один листок, который с большой натяжкой можно было назвать заявлением. Следовало из того листка, что некий гражданин неопределенной наружности, именующий себя волхвом Дорошкой встретил однажды жену гражданина во время посещения оной картинной галереи. Встретил и сказал, что откроет ей тайны, ее касаемые, и даже сверх того, чтобы не была она бабочкой, бьющейся в закрытое окно, когда рядом — открытая форточка.
Сказал и затерядся в толпе. Только с тех пор он время от времени является жене во сне и говорит такое, чего жене его знать никак не положено. А если другие узнают о том, что жена его в курсе некоторых событий, то подумают, что это он рассказал, и он может потерять доверие партии. Поэтому волхва Дорошку следует немедленно изловить и наказать так, чтобы впредь он никому и ничего не мог рассказать ни наяву, ни во сне. И подпись: Кременев Владимир.
Других материалов в папке не было. Либо товарищ Оболикшто счел, что их лучше к делу не приобщать, либо их и вовсе не было, других заявлений. Во всяком случае, письменных.
Арехин посмотрел на часы. Домой. Ванна, легкий ужин — и в Кремль.
По пути домой ему стало смешно. Ведь, по сути, дело возбуждалось по факту сновидений гражданки Кременевой. Товарищ Оболикшто решил посмеяться. Заставить Арехина расследовать сны.
Только сны — они разные бывают. Иные сны и расследовать можно, да еще не забыть пару браунингов-спесиаль прихватить на всякий случай.
Он и прихватил. Побрился, одежду переменил на цивильную, от ужина, подумав, отказался.
3
За час до полуночи Фоб и Дейм домчали его до стен Кремля.
Последние месяцы завелась у вождей привычка — работать допоздна, до полуночи, и все чады и домочадцы тоже спать не ложились, а занимались важными делами, всяк своими. Спали только дети, которым реже мамы, чаще бонны на ночь рассказывали сказки про Красного Илюшу Муромского и Белого Змея Горыныча. Не выходило без прислуги никак. И то: если уж в ссылке, в Шушенском у Ильича была прислуга, как без нее в Кремле-то обойтись? Арехин понимал обязательность института прислуги, но было интересно — как объясняли это победившему пролетариату?
Вот у волхва Дорошки и спросишь, одернул он себя. Найдешь сначала, а потом спросишь.
Кременевых он знал шапочно. Сам Кременев считался лушим партийным теоретиком, чем гордился несказанно. Правда, в частной беседе Ильич сказал, что девичья, допартийная фамилия теоретика — Бревнов — совершенно точно определяет уровень мышления Кременева, да уж какой-никакой, но свой. Пусть будет. Нет гербовой, зато пипифакс под рукой, нескладно сочинил Ленин.
Жена Кременева — другое дело. Дочь преуспевающего киевского врача, она решила пойти по стопан Софьи Ковалевской, и пошла, да так, что и превзошла бы соотечественницу. На беду, отец ее с родными решил съездить в Кишинев, по Пушкинским местам. А там — погром. И ушла Лия Розенберг в революцию, и превратилась в товарища Зет, специалиста по шифровке. Прекрасного специалиста, уверял Владимир Ильич, для каждого респондента у нее был свой, особый ключ, вручаемый респонденту, и если вдруг что-то становилось известно охранке, тут же становился известен и источник. Тогда начиналась любопытная игра — через этот источник охранке скармливали «тухлую рыбу». Арехин виделся с ней мельком, один раз у Троцкого, другой — у Дзержинского, когда нужно было спасать Джунковского. Товарищ Зет, кстати, поддержала Арехина, и генерала перевели из тюрьмы в больницу. Все-таки успех. Товарищ Зет производила впечатление человека целеустремленного, исключительно здравомыслящего, и потому Арехину было любопытно, как это здравомыслие увязывалось с волхвами, являющимися во сне и наяву.
Товарищ Зет работала. Работала дома. В своем кабинете. Так сказала горничная, открывшая дверь квартиры.
— Как прикажите доложить?
Однако!
— Я без доклада. Мне можно. Куда идти?
Горничная с сомнением посмотрела на Арехина, но спорить не решилась. Провела в кабинет.
— Вот, Лия Баруховна, говорят, срочно.
Товарищ Зет сидела за столом, но что это был за стол… Чипэндэйл, не иначе. На столе толстая тетрадь, которую при виде Арехина Лия Баруховна тотчас же закрыла и спрятала в ящик стола.
Профессионал!
— Вам действительно срочно? Я работаю, товарищ…
— Арехин Александр Александрович. Сотрудник Московского уголовного сыска.
— Но я не обращалась в московский уголовный сыск, равно как и во всякий другой.
— Вы не обращались. Но дело определенным образом может касаться и вас.
— Какое дело?
— Дело о волхве Дорошке.
Товарищ Зет с любопытством посмотрела на Арехина.
— А ведь он предупреждал… Предупреждал, что придете именно вы, черный человек Арехин.
— Черный человек? — Арехин протестующе выставил руки вперед. — Отчего ж — черный?
— Душа у вас закрытая.
— А у вас, простите?
— Я думала, тоже — закрытая, но судя по тому, как Дорошка легко проникает в мои сны… Вы присаживайтесь, присаживайтесь.
— Благодарю. Значит, этот самый Дорошка проникает в ваши сны?
— Звучит глупо, даже безумно, но это так.
— Иными словами, он вам снится?
— Снится. А разве это преступление?
— Так ведь все зависит — какой сон. Вдруг он вас подбивает на что-нибудь нехорошее, и вообще…
— Ни на что такое он меня не подбивает. И вообще, сон есть дело личное.
— Не отрицаю. Но вот последствия сна…
— А именно?
— Например, человек убивает другого человека. И говорит, что это повелел ему дух Емельяна Пугачева, явившийся во сне.
— Тогда это область медицины, психиатрии, а не уголовного сыска.
— Но если раз за разом совершенно незнакомые люди в совершенно различных городах совершают подобные деяния, начинаешь задумываться.
— О духе Емельяна Пугачева?
— О чудесах науки. Если есть радиолучи, позволяющие передавать сообщения от аппарата к аппарату, то вдруг есть и другие лучи, позволяющие передавать мысли от человека к человека?
— Вы пришли поговорить? Вам скучно?
— Я пришел поговорить, но мне не скучно. Мне нужны от вас свидетельские показания: кто таков волхв Дорошка, где вы с ним встретились, и как он влияет на вас?
— Начну с последнего: никак. Просто мне приснился сон. И он, как говорится, оказался в руку.
— Вещий сон?
— Можно сказать и так. Но раз вы пришли сюда, вероятно, вам известны и подробности сна?
— Подробности как раз неизвестны.
— Хорошо. Я понимаю. Вы на службе. В общем, мое мнение, что сон только оформил некоторые подозрения, не более того. А впрочем… Мне приснилось, будто я зашла в кабинет мужа, а там его не было. И вот голос — можно допустить, что это был голос человека, именующего себя волхвом Дорошкой — голос сказал, что за картиной на стене находится вмурованный в стену железный ящик. Сейф. А ключ к нему в потайном ящике стола мужа. Наутро, когда мужа не было дома я — наверное, тут я действительно попала под влияние настроения — ради развлечения проверила то, что было во сне. И все совпало — и сейф за картиной, и ключ в потайном ящике стола, ящике, о котором я прежде ничего не знала. Я открыла сейф. В нем оказалось около двух сотен николаевских империалов, пачки денег — доллары Северо-Американских Соединенных Штатов и английские фунты, фунт алмазов и несколько паспортов, на разные фамилии, однако фотокарточки были моего мужа. В качестве жены в паспорт была вписана не я.
— Не ваша фамилия?
— Нет, не мое описание. Возраст и все остальное… Это помощница моего мужа. И когда муж вернулся, я спокойно спросила его — и про паспорта, и про бриллианты. А он сказал, что все это сделано по заданию партии. Предстоит-де выезд за рубеж для постановки революционного дела. Для этого и бриллианты и все остальное. А помощница записана женой для конспирации.
Я, конечно, не поверила.
— Почему?
— Будь это так, и документы, и драгоценности хранились бы не в его кабинете. Ведь поездка, как поспешил успокоить меня муж, только планируется, и, если и состоится, то не раньше лета. Кто ж заранее раздает бриллианты, фунтами?
— Тогда что ж это такое?
— Хомячкует муженек. Захоронку сделал, вдруг белые победят? Тогда он и убежит за границу. С деньгами, новой биографией, новой женой.
— Кстати, а бриллианты… Какие?
— Хотите посмотреть? Муж их унес, перепрятал, вместе с золотом и паспортами. Бриллианты как бриллианты, карат в пять-шесть…
— Понятно, — по крайней мере, одной заботой меньше.
— А мне нет. Мне непонятен ваш интерес к глупым бабьим снам.
— Но я уже объяснил…
— Если бы враги революции придумали прибор, выпытывающий мысли, они бы не мне рассказывали, а у меня спрашивали. Поверьте, у меня есть что спросить.
— Верю, я ведь и сам с вами говорю не для времяпрепровождения. Хорошо, вы считаете, что никакого мыслепередающего устройства у врагов революции нет.
— Да, я считаю именно так.
— Тогда откуда вы узнали о сейфе, ключе?
— Думала, наблюдала — подсознательно. Копилось все понемножку, а потом и созрела мысль. А что во сне — никакой мистики. Дмитрий Иванович Менделеев тоже свое открытие во сне сделал.
— А секрет потайного ящика стола?
— Это проще простого. В моем столе потайных ящиков тоже немало. Принцип, собственно, один.
— Допустим. Оставим пока сны в стороне. Но сам волхв Дорошка… Где вы с ним встречаетесь?
— Встречаюсь? Я и видела-то его однажды.
— Расскажите об этом.
— А и рассказывать особенно нечего. Я и еще несколько… эээ… обитательниц Кремля ходили в галерею Третьякова. Мы должны были решить, какие картины не представляют особой ценности для пролетариата. Освободить зал для нашего нового художника Соколова.
— А почему вы?
— А почему нет?
— Действительно…
— У входа к нам подошел человек. Одет просто, даже слишком. Худая обувь, худая одежда. Нет, не так: одежда обычная, но для мая, в лучшем случае — для апреля. А сейчас даже смотреть на него было холодно. А лицо… Знаете, типичное лицо провинциального трагика средних лет, из тех, что и пьесы сами пишут, и в режиссуре подвизаются, и поэмки в журналы посылают — и в лучшем случае успех четвертой звездной величины. Непризнанные таланты.
— Он к вам подошел?
— Нет. Да и не смог бы — охрана бы не пустила. С нами было пять человек кремлевских. Он издалека нам прокричал. Вернее, продекламировал, словно актер. «Вам жить среди рубиновых созвездий, лишь я спасу вас, бедных, от возмездья, ведет к спасению нелегкая дорожка, во снах ее покажет волхв Дорошка».
— Вы запомнили?
— Мне не трудно запомнить тридцать пятизначных чисел кряду. Но дело не в этом. Запомнили все, даже Леночка Шмелева, неспособная выучить Интернационал дальше первой строчки.
— Когда это произошло?
— Пять дней назад, 13 марта.
— Хорошо. Значит, прочитал этот человек свое заклинание, и что дальше?
— Ничего. Скрылся в толпе.
— Кремлевские его не преследовала?
— Кремлевские нас охраняли. Ловить безумных артистов — еще чего.
— Вы думаете, это был безумный артист?
— Во всяком случае, думала тогда.
— А когда этого человека вы увидели в следующий раз?
— Я уже сказала — больше я его не видела.
— Наяву, понятно. А во сне?
— Во сне… Во сне я его вижу каждую ночь, — сказала товарищ Зет.
— Значит, каждую ночь, — Арехин не стал напоминать прежние слова Лии Баруховны. — И что он каждую ночь себе позволял?
— Ничего особенного. Придет, посидит, расскажет и покажет историю, прямо как в синеме — и уйдет.
— А какие истории он показывал?
— Обыкновенные, революционерские. Каторгу, на которой мерзнут и гибнут от непосильного труда большевики. Застенки. Пытки.
— А еще что?
— Ничего иного. Пытки и застенки.
— А пытают в застенках — вас? Или ваших близких?
— У меня нет близких, если вы имеете в виду кровное родство. Революционеры — вот мои близкие. Их и пытали, не меня. Я просто при этом присутствовала — бесплотно, безопасно. Во сне… Во сне мне казалось все ясным, логичным, что все, происходящее сегодня и является причиной тех кошмаров. Но стоит проснуться, и понимаешь абсурд виденного.
— Почему же абсурд? И каторга была, и застенки…
— Да уж это я лучше вас знаю, поверьте на слово.
— Верю. Но почему все-таки абсурд?
— Потому что пытали революционеров тоже большевики, коммунисты, — товарищ Зет понизила голос. — У них в кабинете даже портрет товарища Дзержинского висел.
— Это еще полбеды — портрет. Вот если бы сам Феликс…
— Вам смешно?
— Нет, нисколько. Просто кажется, что вам — страшно. Запугал-таки вас этот волхв Дорошка. Конечно, сны беспокойные, но ведь и время такое. А что до пыток, до казней — Робеспьера ведь тоже не роялисты казнили, а свои же товарищи по революции. Вам все это хорошо известно, вы опасаетесь подобного поворота событий, отсюда и кошмары.
— Странно только, что кошмары снятся всем нам — тем, кто входил в комиссию по оценке картин и видел этого актера, или кто он на самом деле есть.
— И всем — одинаковые?
— В чужую голову не влезешь, если ты не волхв Дорошка. Или не следователь московского уголовного сыска. Я ведь не собиралась вам ничего рассказывать а вот — разболталась.
— Ничего, ничего. Ведь вы никого не оклеветали, даже не рассказали ни о ком, лишь снами поделились. И теперь вам будет легче.
— Вы думаете?
— Полагаю, — Арехин заметил, что товарищ Зет не отрицает, что сны для нее — тяжесть. Груз. — Хотя, возможно, и не сразу. Но этот Дорошка обещал давать спасительные советы. Давал?
— Еще нет. Не время, говорит. Разве что проверить потайной сейф, хотя в чем здесь польза для меня — не знаю.
— Ну, все-таки. Могли бы сделать выводы.
— Выводы-то я сделала, будьте покойны.
— А кто вместе с вами решал судьбу третьяковских картин? Какие оставить, а какие по музеям раздать, в запасники или вовсе с аукциона заграничным любителям русского искусства продать?
— Я как-то не помню…
— Полноте, вы только что уверяли, что запоминаете кучу чисел, а тут — несколько знакомых вам фамилий. Нет, не хоти те, не называйте, я могу спросить у Луначарского, или попрошу Ильича, пусть распорядится. Но это придаст делу официальный ход.
— А сейчас…
— А сейчас это всего лишь проверка сигнала. Есть ли вообще повод подключать МУС, или нужны валериановые капли и только. Как вы сами понимаете, контролировать сны — дело бесперспективное.
Товарищ Зет думала быстро. Она достала из стола листок бумаги и написала шесть фамилий — с указанием адреса и должности — если таковая была.
— И последнее, Лия Баруховна. Смешная, бессмысленная просьба, но прошу ее выполнить. Увидите во сне волхва Дорошку или почувствуете его присутствие — скажите ему: есть в Московском уголовном сыске Арехин Александр Александрович. Так прямо и скажите. Да он и так знает, раз вас предупреждал о моем визите. Пусть Дорошка со мною повидается. Если приснится ему трудно — пусть наяву приходит. Не хочет в МУС, на шахматном турнире меня можно увидеть. В доме Пролетарской Мысли. Завтра, то есть сегодня с пятнадцати до двадцати одного часа. До девяти вечера, иначе.
— Попробую передать, — сказала товарищ Зет.
4
Когда он вышел из квартиры Лии Баруховны (горничная подала ему шляпу, пальто и калоши, он же дал ей двугривенный серебром), время было позднее даже по кремлевским часам. Беспокоить остальных было и неудобно, и даже вредно: вдруг они уже спят и видят сны? А во сне — разыскиваемый Дорошка? Разбудишь, и спугнешь. Не говоря о том, что в списке, переданном ему товарищем Зет, были и те, кто охраняется персонально даже здесь, за кремлевскими стенами Поэтому он решил сначала подумать. Ведь и один случай — уже случай. Иногда и одного-то не было, а целые теории воздвигали, и какие теории…
Фоб и Дейм шли неспешно. Трошин не гнал, понимал — Арехин думает.
Итак, возможно ли общение людей между собой в сновидениях? Саша во сни видит Машу и наоборот — это явление самое обыкновенное, но считается, что Саша сам придумывает свою Машу, взяв за образец Машу реальную. Копирует в сознании. Но всерьез — всерьез этим делом интересовались мало. «Я тебя видел во сне, Саша! — И я тебя!» — вот и вся статистика, известная рядовому обывателю и даже работнику московского уголовного сыска. Нужно поговорить со специалистами. А кто в этой области специалист? Известно кто, академик Павлов. Или доктор Пеев, который хоть и не академик, зато единственный ученик профессора Бахметьева. И, что немаловажно, знакомый Арехина. А Павлов что, Павлов не убежит. Нужно будет — и к Павлову наведаемся. Но к Павлову заполночь неудобно. А Пеев, может быть, дежурит по госпиталю.
— Бывшую клинику Вандальского знаешь? — спросил Арехин Трошина.
— Знаю. Там теперь военный госпиталь.
— Так давай туда.
— Гнать?
— Только чтобы не забыли, как нужно бегать.
Фоб и Дейм не забыли. По счастью, снег еще лежал на мостовой, и обошлось без дикой тряски, только ветер свистел вслед, раздосадованный, что не угонится.
Славно ездить по ночной Москве: пара рысаков, пара «браунинг-спесиаль», да и у Трошина маузер и пара бомб. Народу никого, движения никакого, никто не мешает показать себя во всей красе. Не мешает, но и не видит, вот в чем особенная прелесть.
У госпиталя остановилсь.
— Еще бежать и бежать могут, — сказал Трошин, но начал обтирать коней, чтобы не простыли. — Вы надолго?
— Как получится. Вдруг вообще человека нет? Или спит?
Привратника ждать долго не пришлось. Тот выглянул в окошечко, побледнел и стал торопливо раскрывать ворота, не спрашивая ни кто, ни зачем.
— Доктор Пеев сейчас находится здесь? — счел необходимым уточнить Арехин.
— Да, да, здесь. Дежурят-с по госпиталю-с, — в речи появились словоерсы. — Прикажите доложить?
— Доложи. И проводи.
Привратник, не запирая ворот — потом, не убегут ворота, — подождал, пока Арехин неторопливо выберется из экипажа, и повел внутрь.
Хорошо, однако, поставил себя доктор Пеев. Или, вернее, помнят прошлый визит Арехина с последующим исчезновением вороватого хама-санитара. А теперь, когда еще и Фоб и Дейм во дворе… Чихнуть не успеешь, как пристрелит этот бешеный мусовец, пристрелит и оставит лежать в назидание медперсоналу и раненым красноармейцам, покуда собаки не растащат последние кусочки (см. «Дело о светящихся попрыгунчиках»). Еще и табличку рядом поставят для ознакомления пролетарских масс: «Он воровал у раненых».
А как не воровать, когда паек мизерный, а дома шесть ртов? Вот и приходится. По чуть-чуть, без наглости, а то ведь, если шлепнут, конец семье. Помрут с голодухи.
Доктор Пеев сидел в маленьком, но опрятном кабинетике, дверь держал открытой, читал толстую книгу и пил чай. Услышав шаги привратника (Арехин по привычке ступал мягко) он оторвался от книги.
— Что случилось?
— Вот к вам-с, Христофор Теодорович.
— А-а… — в возгласе Пеева радости не было. Да откуда ей взяться, все-таки не пиво пили вместе, а убийцу искали, причем Христофор Теодорович был за подозреваемого (см. «Дело о замоскворецком упыре»).
— И вам, доктор, доброго здравия, — ответил Арехин.
— Ох, конечно, добрый вечер, или, вернее, ночь.
— Я пришел к вам в надежде, что вы поможете разобраться в одном деликатном вопросе.
— Опять отрезанные головы?
— Нет, нет. Что это вы пьете?
— Это? А, чай. Морковный. Для зрения очень полезен. Желаете?
— Желаю.
— Не извольте беспокоиться, мигом, — засуетился привратник, и точно — мигом налил в кружку — большую, толстостенную, держащую тепло долго, — крутого кипятка из чайника, принесенного тоже мигом.
Доктор Пеев положил в кружку три чайных ложки сушеной моркови и накрыл блюдцем:
— Минут пять настоять нужно. А вы, Андрей Дмитриевич, можете идти.
— Уже иду доктор, уже иду, за воротами присмотрю, снег почищу…
Дождавшись, пока привратник уйдет, Арехин сказал:
— Вижу, порядок в госпитале на высоте.
— Благодаря вам. И еще — говорят, открывается новый институт, в котором и головы пересаживать будут, и прочее… Не слышали?
— Слышал, что собираются открыть лабораторию анабиоза, глубокого сна, и вас, доктор Пеев, прочат в руководство.
— Да, и это тоже говорят.
— Только говорят?
— Решится все в ближайшее время. Как раз этот госпиталь под лабораторию и должен отойти.
— И поэтому вам совершенно не нужны никакие новые неприятности.
— Признаюсь, да.
— Тогда я вас обрадую: мне требуется только научная консультация.
— Насколько это в моих силах — готов.
— Анабиоз ведь — это особый сон?
— Можно сказать и так.
— А что науке известно о снах простых? О снах и о сновидениях? И особенно любопытно, может ли один человек проникать в сон другого? Видеть чужой сон, участвовать в нем, навязывать свои сюжеты и персонажи? Могу ли я мучать соседку, насылая ей во сны драконов, пьявок и грозя концом света?
— Наука категорически отрицает подобную возможность, — без колебаний ответил доктор. — По этому вопросу и покойный профессор Бахметьев, и ваш покорный слуга могут считаться весьма квалифицированными экспертами.
— Значит, категорически отвергает.
— Даже думать об этом не хочет, — подтвердил Пеев. — Вы попробуйте, попробуйте чаек. Острота глаза в вашем деле не помешает.
— Пробую.
Чай был морковный, и других определений просто не требовалось. Но Арехин пил, отчасти из вежливости, отчасти потому, что чувствовал жажду, а отчасти и потому, что морковь, действительно, улучшала и зрение, и слух. Вернее, не улучшала, а питала. А вовремя питаться глазам и ушам нужно столько же, сколько и желудку.
— С другой стороны, любой великий ученый поначалу напрочь отвергался, осмеивался и оплевывался этой самой наукой, — продолжил доктор Пеев. — Галилей, Левенгук или Дарвин могли бы много об этом рассказать, но их с нами уже нет. Целая академия наук просвещенной Франции в свое время считала бреднями сообщения о падении камней с неба. Беспроволочный телеграф не смогла вообразить даже фантазия Жюля Верна. Петенкофер отрицал микробы, как причину эпидемий. Сей профессор даже выхватил у профессора Коха колбу с культурой холеры и демонстративно выпил на глазах у академической публики — дело было во время заседания ученого общества.
— И что?
— И ничего. Холерой Петтенкофер не заболел. Однако холерные запятые Коха все-таки есть причина холеры.
— Любопытно… — протянул Арехин.
— Да уж. Ваши версии?
— Вероятно, Кох в целях безопасности принес с собою не натуральные холерные микробы, а что-нибудь на них похожее. Все-таки холера — она холера, фамильярностей не терпит. И оказался прав. Но Петенкофер-то хорош! А вдруг бы заболел? А вдруг бы еще сто человек за собой утащил? Или сто тысяч?
— Он, наверное, об этом не думал, поскольку не верил в микробную природу холеры, считал ее ошибочной. Все, мол, от миазмов. Но к чему я рассказал эту историю: наука не есть некое безошибочное божество. Она меняется, порой меняется стремительно, и то, что вчера считалось ересью и чушью, сегодня — общепринятый научный постулат.
— То есть проникновение в чужие сны… — Арехин замолк, отдавая должное морковному чаю.
— Сегодня это повод для помещение в психиатрическую клинику, а завтра — не знаю. Если угодно, я приведу десятки случаев, когда люди были уверены, что кто-то читает их мысли, навязывает им свою волю, насылает кошмары. Но все это описано в книгах по психиатрии и трактуется как безусловно болезненное расстройство рассудка. Трактуется — и все, никаких следственных мероприятий или систематических изыскании не проводилось. А кто и проводит, помалкивает, чтобы не прослыть среди коллег шарлатаном, поклонником шаманов. Научная среда страшно консервативна, профессор Бахмаетьев, а с ним и я это ощутили в полной мере. Известно, что во время сна активны иные участки коры головного мозга, подавленные в бодрствующем состоянии. Чем они занимаются, эти участки? Профессор Бахметьев считал, что они регулируют ремонт организма, и потому если поспать в анабиозе достаточно долго, можно проснуться молодым и здоровым. В свете последних событий, я думаю и о других возможностях. Так что сами решайте, без оглядки на науку. Один факт перевешивает амбар схоластических рассуждений. И если есть признаки того, что кто-то читает чужие сны, вы уж лучше положитесь на собственный разум. Скорее, сами поможете науке, раскрыв тайну подглядывателя снов.
— Ну что ж, утешили.
— Больше скажу — когда вы его поймаете, дайте знать. Мы его обследуем так, как нигде в мире обследовать не сумеют. Глядишь, и найдем мыслепередающую извилину.
— Почему это «нигде в мире не сумеют»?
— У них — буржуазный гуманизм, даже над собакой опыты ставить сложно. А мы за милую душу череп вскроем да и поглядим что и как — у живого.
— Разве так… Кстати, вы как будете подбирать людей для погружения в анабиоз?
— В первую очередь, конечно, пойдут здоровые добровольцы. А что?
— Нет, ничего. Может, и я вам сгожусь?
— Может, и сгодитесь. Лет через двадцать пять ляжете на профилактику, годик-другой поспите и проснетесь опять тридцатилетним.
— Через двадцать пять лет? Хорошо, наведаюсь, если раньше вам мыслевнушателя не приведу. Для опытов.
— Их еще телепатами называют.
— Кого, простите?
— Мыслевнушателей, сноподглядывателей. Тех, кто способен принимать и передавать мысли без аудиовизуального контакта с объектом.
— Аудиовизуального… Хорошее слово. Обязательно вставлю в отчет.
— И вы отчеты пишите?
— В отчетах, Христофор Теодорович, наша сила. Что ж, чай допит, вопросы заданы, ответы получены, пора и откланиваться.
Он так и сделал. Вернулся в экипаж, велел Трошину ехать домой не торопясь, укрылся медвежей полостью и стал думать.
Аудиовизуальный контакт… Действительно, иные мастаки читают, а, скорее, угадывают мысли по мимике, по реакции зрачков, по запаху, наконец. Иные шахматисты считают, что противник способен узнать цель задуманного хода, особенно, если эта цель авантюрна. Некоторые даже темные очки надевают. Зачем далеко ходить — он и сам их надевает, темные очки. Правда, с иной целью, но это частности. В глазах соперников он, Арехин, прячет за темными стеклами очков коварные замыслы и хитрые планы. Трезвомыслящие считают подобное поведение чудачеством. Пусть считают.
Вопрос: является ли товарищ Зет чудачкой, сумасшедшей или просто любительницей пошутить? Аудиовизуальный контакт говорит не в пользу любой из трех версий. Хотя этот самый контакт может и подвести. Он-то, Арехин, не видел ни сейфа, ни паспортов и бриллиантов в этом сейфе — то есть материальных свидетельств нематериального сна. Хотя сами по себе они отнюдь не подтверждали правдивость рассказов о сне — о сейфе Лия Баруховна могла узнать совершенно прозаическим образом, а на сон сослалась, потому что нужно было хоть на что-то сослаться.
Ладно, все это гадание на морковной гуще. Нужно опросить остальных дам, а уж затем строить предварительные, рабочие, окончательные, представительские и прочие версиии.
А сейчас уже близится утро, и потому можно поспать. Вдруг ему приснится главный фигурант дела волхв Дорошка и все разъяснит приятным речитативом?
Хотя с чего он решил, будто этот Дорошка вовсе существует? Из-за скверных стихов, которые услышала — якобы услышала — товарищ Зет?
Одно хорошо: пока никто никого не убил.
5
Снов своих Арехин уже много лет не любил. Задолго до того, как кончилось детство. Или детство просто слишком рано кончилось — вместе с добрыми снами — и наступила пора безвременья. Его, личное, Арехинское безвременье. А потом — раз, и он уже взрослый. Последние годы сны не нравились куда больше, и потому он старался их забывать еще до пробуждения. Обычно получалось, но сегодня он сделал исключение и запомнил то, что видел. Ничего отрадного, но и ничего, связанного с волхвом Дорошкой, Лией Баруховной или еще кем-нибудь из списка товарища Зет. Поэтому расследование следует продолжить традиционным методом, наяву, либо вызывая проходящих по делу к себе, либо самому являясь к ним. Обыкновенно практиковался первый метод: их много, проходящих по делу, к каждому не набегаешься, да и МУСовские стены давят так, что признания сами наружу просятся. С другой стороны, в МУСе человек один, без окружения, а окружение говорит порой о человеке больше, нежели он сам.
Но все это досужие объяснения. Ехать придется самому, поскольку в список товарища Зет попали люди положения хоть и не слишком высокого (заниматься картинами вообще и устройством зала для художника Соколова в частности люди положения высокого занимаются исключительно не выходя из кабинета: бумажку подпишут, в крайнем случае в телефон поговорят), но и не низкого — все-таки дело культуры есть дело политики. В искусстве, будь то живопись, драма или вовсе литература, партийность правила балом. Не всякому дано расставлять художников по рангу — этот первостепенный, этот второстепенный, а этот и вовсе буржуазная отрыжка, в Урюпинск его, в Гвазду или продать на западном аукционе, а деньги — на развитие Мировой Революции! Таких людей повесткой не вызовешь, а и вызовешь — не дождешься. Потому он вышел из дому и в Кремль пошел пешком.
Лошади пусть отдохнут. Им положено. Иначе потеряют и вид, и резвость, и озорной норов. А вот ему пройтись очень даже не мешает. Не все ж на Москву из окна экипажа смотреть.
Москва с высоты собственных ног представляла зрелище фантасмагорическое. Старые вывески, муляжные окорока в разбитых витринах — и пустота на тротуарах. Редкие прохожие шли кто куда. Одни на службу — узнавались по деловитой походке и портфельчику либо сверточку под мышкою. В портфельчике или сверточке находились судки или коробки, в которые можно будет сложить часть казенного обеда, полагавшегося служащим прямо на работе. Сложить и отнести домой. Другие шли по-привычке ходить на службу: портфельчиков у них не было, походка не то, что деловита, а боязливая, как у нижнего чина в городском саду — а ну, как шуганут взашей — да и весь вид говорил: «Господа, не трогайте нас, мы ничего плохого не делаем, а так, погулять вышли». Третьи шли по своим делам — выменять одно что-нибудь на другое что-нибудь, и непрестанно косились по сторонам. Четвертые — хищники, выискивали третьих. Впрочем, добыча обещала быть мизерной, и хищники потому тоже были мизерны. Одинокие крысы на свалке. Да, обидно, что он встал так рано. Мог бы поспать до полудня, все равно кремлевские дамы раньше не принимают. Или принимают? Некоторые, он знал наверное, даже служат. Одни, как товарищ Зет, в учреждениях неприметных для постороннего глаза, даже тайных, другие во всем блеске и сиянии возглавляют «комитет по освобождению женщин» — как Александра Тюнгашева, например. Вот к товарищу Тюнгашевой и пойдем. Муж Тюнгашевой, вернее, товарищ — мужей, как и сам институт брака Тюнгашева не признавала принципиально, считая это элементом закрепощения, — был в партии величиной весьма умеренной, и греться в лучах его славы и влияния могла разве что кухарка. Но Александра Тюнгашева кухаркой не была, напротив, она хотела извести кухарок, как отжившее явление. А еще она хотела управлять государством, рассуждая просто: женщин больше, чем мужчин, значит, и главою государства в итоге должна стать женщина. В итоге — потому что предстоит долгий путь. Сначала избавиться от домашней работы — кухни и прочего, затем от материнских забот — родила и в дом коммунистического воспитания отдала, а вместо этого женщина должна пополнить ряды пролетариата. Миллион женщин к станку! Товарищ Ленин говорит о ста тысячах тракторов для объедененного сельского хозяйства. Прекрасно. Сто тысяч подруг на тракторы! А шахты, а железная дорога. Наконец, армия!
Но с армией пока приходилось годить. Сначала следовало отвлечь женщин от кухни и научить читать. Скудость продуктов и коммунальные квартиры с уплотением помогали отваживать от личной кухонной плиты. Учить читать женщин предполагалось во Дворце Грамотности, который предстояло построить где-нибудь на месте сегодняшних купеческих особняков, но строить можно было только после окончания войны с буржуазией. Пока же писались планы и рассылались циркуляры. А рассылались они как раз из купеческого особняка, отданного под комиссию по освобождению женщин.
Туда Арехин и направлялся.
Сегодня пришла отттепель, но не беда — он уже третий день надевал калоши, добрые старые калоши. То есть не совсем старые, напротив, новые: камердинер, прослышав про февральскую революцию, первым делом купил две дюжины калош: «воровать будут, Александр Александрович, а начнут с калош. Так в прошлое безобразие было, а это-то похлеще выходит, потому две дюжины калош, без сомнения, пригодятся» — объяснил камердинер Арехину свое приобретение.
По счастью (вообще-то счастья как раз и не было, несчастье помогло, но это отдельная история) дом на Пречистенке получил охранную грамоту, подкрепленную крайне весомыми аргументами (в частности, любого, явившегося в дом без ордера, подписанного лично Очень Значительным Большевиком, можно было рассматривать как взятого с поличными врага военного времени и поступать с ним согласно законам военного времени, для этого даже особый закуток в подвальчике отвели. Закутка того жители других домов видеть не видели, но слышать о нем слышали, и если отчаянные головушки, вдруг расплодившиеся даже в самых приличных семействах, не говоря уже о семействах не самых приличных и даже вообще не о семействах, вдруг исчезали бесследно, знающие люди одними губами произносили беззвучно «Закуток», и все становилось ясно. Шпана дом на Пречистенке обходила стороной, а с тех пор, как в конюшне дома поселились Фоб и Дейм, вообще в квартал не совалась, и калоши из подъезда не пропадали. Но ведь приходилось бывать и в других домах, или вот в присутственных местах, и здесь возникала проблема: оставлять ли калоши, как в прежнее, «царское» время внизу, в вестибюле, с большой вероятностью оставить навсегда, или идти в калошах и дальше. Тогда калоши, конечно, сохранялись, но терялся самый смысл калош — предохранять внутренность дома от уличной грязи. Дальнейшее уплотнение жилья само решило проблему, решило диалектически, и теперь у калош основным предназначением стало сберечь обувь хозяина, а уж дома будем от грязи очищать потом, когда белых разгромим и коммунизм построим. Не баре. Но шесть пар калош Арехин-таки потерял. Ну-ну. Когда наступит очередь последней пары, возьмет да и уедет. Париж, Нью-Йорк, дале везде. Но пока калоши еще имелись, да и в последние месяцы как-то пропадать перестали. У других пропадают, а у него нет. Боятся, что пристрелит на месте, из-за калош? Тем более, что его калоши — как новенькие, почти не стоптаны, сверкают. Издалека видны. Такие на свою обувь надевать опасно. Можно, правда, в портфельчик, да домой. А потом на толкучке выменять на что-нибудь. Немножко крупы взять, кашку детям сварить. Дети любят кушать.
Арехин оглянулся. Еще одна странность, помимо калош: после дела о пропавших эшелонах (см. «Дело о пропавших эшелонах») к нему перестали подходить сироты. Наверное, людской телеграф разнес слух, как выловил он одного около вокзала, затащил в экипаж да и отвез в ЧеКа, откуда сирота не вышел до сих пор.
И у купеческого домика беспризорников, как для благопристойности звали сирот, тоже не было. А зачем им здесь быть? Служащий котлеткой не поделится, у него на котлетку и так рты дома есть. Деньги? Не смешите меня, гражданин.
Зима унесла до тридцати тысяч сирот по одной Москве, слышал он от одного специалиста. Никто точно не считал, конечно. Кому считать и зачем? Будь зима посуровее и подлиннее, мы бы вообще покончили с беспризорниками, продолжал специалист. А теперь пригреет, и повылазиют они из щелей, где как-то зимовали, или придут с Юга, куда откочевали на зиму. Но это попозже, в апреле, в мае. Дел МУСу прибавится: сироты, сбиваясь в стаи, ничем не уступают взрослым бандам, скорее, наоборот.
Вот и погулял, развеялся, заключил Арехин, поднимаясь по ступеням в дом.
Часовых здесь не водилось, зато была баба-вахтерша, виду злого и сварливого, а когда рот открыла, стало ясно — горластая, одним криком с ног собьет.
— Вы куда, гражданин? Здесь женское учреждение!
— А мне как раз в женское и нужно. Товарища Тюнгашеву повидать пришел.
— Эк куда хватил. Высоко, значит, летаешь?
— Высоко ползаю.
— А мандат у тебя есть? Чтобы ее драгоценное время тратить?
— Есть, есть, — но никаких бумажек и пистолетов показывать не стал. Просто улыбнулся, и до вахтерши дошло: это ж не гражданин, а чистый господин из прошлой жизни. И она сама тут же соскользнула в прошлую жизнь, перешла на вы и даже хотела принять пальто, шляпу и калоши.
Шляпой и пальто Арехин рисковать не желал, а калоши, что ж калоши… Станет ближе к Берлину, только и всего.
Вахтерша показала, куда и как идти, да он и сам знал: в лучшую комнату, куда ж еще. А лучшие комнаты в домах, подобных этому, всегда располагались в бельэтаже, в левом крыле, рядом с большой залой, где и балы задавать можно, и бостончик соорудить, и просто вечерами ходить в сознании собственной значимости, величины и неколебимости.
— Товарищ Тюнгашева занята! — перед этой главной комнатой была другая, небольшая, и в ней сидела гражданка с «Ундервудом» и пяток гражданок так, безо всяких инструментов. Первая, очевидно, была секретарем-порученцем, а остальные — служащими среднего ранга. Низший ранг сюда не допускался вовсе, разве в особые приемные дни. Нет, аппарат — всегда аппарат, как бутылка — всегда бутылка. Неважно, что внутри — вино, зельтерская вода или чистый спирт. Форма важнее содержания, сделал Арехин походя философский вывод.
— Она одна занята или с кем-нибудь?
— У товарища Тюнгашевой сейчас находится товарищ Коллонтай!
— Ах, как хорошо! Они-то обе мне и нужны! — и он прошел мимо секретарши. Вот в чем сила и в чем слабость системы: мелкого человека отсеет и перемелет, а того, кто покрупнее, допустит внутрь, и, как знать, может, даже переварит и встроит в свой организм.
Товарищ Коллонтай и товарищ Тюнгашева смотрели на него, смотрели и не узнавали. Так и должно быть: обе близоруки и обе стесняются носить очки.
Арехин поздоровался.
— А, это вы, Александр Александрович, — товарищ Коллонтай знала его и по одному пустяковому делу с шубой, и несколько раз видела в обществе кремлевских вождей. — Вас сюда служба занесла или просто — нелегкая?
— Предчувствие, уважаемая Александра Михайловна, предчувствие. Схватило за руку и повело, не отпуская.
— Предчувствие его не обмануло, — сказала Тюнгашева, борясь за внимание публики, пусть эту публику составляли всего двое. — Вы, товарищ, хоть и мужчина, однако разумом наделены и мужчины — в определенной степени, конечно.
— Надеюсь, — сказал Арехин, ожидая подвоха.
— Как вы относитесь к кастрации?
— Позвольте уточнить, к кастрации кого?
— Всех! А в первую очередь остатков буржуазного слоя!
— Почему ж непременно кастрировать? Кастрация — какая-никакая, а операция. Если делать ее хорошо, это ж сколько врачей потребуется. А они, врачи, как раз и есть остаток буржуазного слоя, поэтому…
— Нет, вы не поняли идеи. Идея в том, что земля перенаселена. Взять ту же воронежскую губернию. Крестьян больше, чем пахотной земли. Отсюда разлад в крестьянской среде. Разлад будит вредные инстинкты — накопительства, желания закабалить ближнего у тех, кто посильнее, и беспробудного пьянства у натур слабых. К тому же не стоит забывать, что большая часть произведенного продукта крестьян, равно как и фабричных рабочих, уходила на содержание буржуазии. Теперь, когда буржуазия стоит на пороге полной и всеобщей ликвидации, возникает вопрос: а что, собственно будет делать освобожденный пролетариат и беднейшее крестьянство? Размножаться безудержно? Вот здесь и встает вопрос о кастврации.
— Рано ему вставать, вопросу. Пусть еще полежит. Сейчас перед нами задача — бороться с гидрой мировой контрреволюции. И здесь понадобится столько людей, что кастрация есть некоторым образом саботаж. В отношении скопцов у нас, во всяком случае, есть ясные и недвусмысленные указания — ответил Арехин, и, не давая дискуссии окончательно разгореться в неугасимое пламя, добавил:
— А любопытно, что по этому поводу говорит волхв Дорошка.
Произнесенное имя погасило полемический задор.
— Вы… Вы сказали — Дорошка? — спросила Коллонтай.
— Да, именно.
— Вы его увидите? Имею в виду — наяву?
— Возможно.
— Устройте, обязательно устройте мне с ним встречу.
— Но разве вы его не видите?
— Во сне — это разве видеть?
— А мне он сказал, что мы и так увидимся, очень скоро — в голосе Тюнгашевой явно слышалось превосходство.
— Где? И как скоро? — спросил Арехин.
— А вам-то зачем знать?
— По роду службы.
— Так он что, преступник, Дорошка?
— Мы ищем не только преступников. Недавно вот картины вернули в галерею Третьякова (см. «Дело о похищении Европы»).
— Ну, Дорошке в галерее делать нечего. Не картина. Кому нужно — сам покажется, а не покажется — значит, и не нужно.
— Что ж… Прошу извинить, что побеспокоил, мне пора, — и Арехин покинул кабинет с чувством полного провала. Ничего-то он не узнал, ничего не выведал, кроме тайных планов поголовной кастрации. Но прежде они, поди, и до пацифизма докатятся, тут-то укорот и получат. Плохо другое: он допустил ошибку. Следовало перекинуться парой фраз, извиниться, что вмешался в важный разговор и ретироваться, чтобы позднее поговорить с каждой наедине. Разве можно опрашивать двух дам разом о сокровенном? А Дорошка, похоже, из категории сокровенного. Да они из-за соперничества и приврут, и, наоборот, умолчат о том, о чем могли бы рассказать тет-а-тет. Ладно, сорвалось, так сорвалось. Один факт все-таки установить удалось: Коллонтай хочет его увидеть наяву. Не означает ли это, что он перестал ей сниться?
У входа вахтерши не было. Отошла куда-то, сказала пробегавшая мимо девица с кучей папок в руках.
Не было и калош.
6
До пятнадцати часов Арехин успел и в МУС заскочить, где коротенько доложил товарищу Оболикшто о проводимом расследовании, и домой забежал, где выпил чаю с медом, и даже на полчасика вздремнул в библиотеке с опущенными шторами. Потом, уже не пешком, а в экипаже, поехал на шахматный турнир. Голова работала, как хорошо расстроенный рояль. Аккорды выходили скверные, даже в зубах ломило. А что делать? Ментальную оборону, строившуюся годами, предстояло самому же и ослабить. Не везде, не везде, разумеется. Только в одном месте показать уязвимость. Брешь. Место, которое могло бы привлечь таинственного волхва Дорошку.
Но перед партией никакой Дорошка к нему не подходил, хотя и чувствовал Арехин на себе взгляды разные, большей частью недоброжелательные. И то: дома он переоделся, и теперь выглядел чекист-чекистом, да еще кобура на ремне. И лицо довольно сытое и румяное после всей дневной беготни. Но он-то после беготни и поспал в тепле и уюте, и чаю с медом выпил, а его соперник, крепкий первокатегорник, был бледен, изнурен и хорошо, если выпил кружку кипятку с сахарином.
Играл соперник вязко, в стиле прячущейся в темной реке анаконды. Думал подолгу. Ну-ну. Возьмет и проиграет по времени в равной позиции на пятнадцатьм ходу, а потом хвастать станет перед публикой, мол, кабы не часы, он бы и не проиграл — позиция-то ничейная!
Публики было мало, человек двадцать. Фанатики шахмат, помнившие Чигорина, Пильсбери, Капабланку, буфет, рестораны, расстегаи и гурьевскую кашу…
Сделав ход, Арехин встал из-за доски, прошелся по залу. Так многие делали, больше для того, чтобы согреться. Ему холодно не было, просто хотелось дать мышцам разгрузку. Игра — тот же бой, организм не понимает, что бой ментальный, сердце стучит, мышцы готовы к отпору, когти… Ладно, с когтями он погорячился.
Он оглянулся. На что уходит время? Победить полуголодного первокатегорника — велика ль заслуга? К чему это?
И здесь с ним рядом стал человек из публики.
— Вы хотели меня видеть?
— Да, если вы тот, о ком я думаю, — ответил Арехин. Прямо конспиративная встреча двух агентов на вражеской территории.
— Положим, думали вы сейчас о другом — о былых титанах Чигорине и Пильсбери, а также о прежних разносолах — гурьевской каше и прочем.
— Значит, вы…
— Волхв Дорошка к вашим услугам.
Арехин посмотрел на собеседника. Тоже, как и у него самого — темные очки. Одет неотличимо от толпы — в поношено-военное. Борода, явно фальшивая и парик, опять же не из первосортных. И нос немножко не свой.
— Да, я маскируюсь, — ответил на незаданный вопрос Дорошка. — Я ведь в первой жизни, до посвящения, был актером, признаюсь с гордостью — заурядным актером. Почему с гордостью? Потому, что обыкновенно всяк норовит себя выставить гением, признанным или непризнаннным. Я — нет. Мне достаточно истины.
— Отлично. Мне тоже. Так вы теперь кто? Гипнотизер? Маг?
— Скорее, последнее. Причем не в цирковом понимании слова. Просто у меня открылись способности. Как у вас, только немного другие.
— Как у меня?
— Вам дано двигать фигуры, видеть комбинации, готовить жертвы — на шахматной доске. Мне же — в жизни. Правда, мои фигуры своевольны, а силы порой покидают меня ненадолго — видите, я не скрываю своих слабостей. Почему? Потому что они, слабости, выставленные на обозрение, имеют свойство исчезать. И я чувствую, как моя сила растет.
— И какова же ваша цель?
— Исправить то, что можно исправить.
— А именно?
— Революцию отменить не в моих силах. В моих силах в океане хаоса выгородить островок порядка. А потом островок вырастет в остров, а остров — в материк. Как Австралия. Лежит себе Австралия в сторонке, живет своей жизнью, а исчезни завтра — никто и не заметит.
— Ага. Потаеное царство покоя в бурлящей России.
— Не покоя, нет. Порядка, разумного порядка.
— И вы считаете, что у вас получится?
— Я считаю, что обязан сделать все, чтобы получилось.
— Каким образом? Являясь во сне женщинам?
— Для начала и это неплохо. Женщина инстинктивно стремится к порядку. И женщин недооценивают, что хорошо.
— Хорошо?
— Когда ваш ход, вашу фигуру, вашу жертву недооценивают — разве плохо? Недооценивают, а потом, глядишь — эта недооцененая фигура и ставит мат королю противника.
— Какому же королю вы хотите поставить мат?
— Нет, нет, короли пусть остаются на шахматной доске. А говорить вам заранее, что и как, я не могу. Не сбудется. Вот вы Капабланке разве будете за доскою вслух разъяснять смысл своих ходов?
— Капабланка далеко…
— Не так уж и далеко, имейте немного терпения. А сейчас я должен уйти: Пришло в Россию время беззаконья, в рекак вскипела жарко кровь драконья, вас не спасут наганы и калошки, отныне все в руках волхва Дорошки.
Уйти, как же. Арехин хотел схватить волхва за руку, но промахнулся — пальцы ухватили только пустоту. А второй попытки у него не было: Арехин стоял один. Куда он делся, скверный стихоплет?
— Вам нехорошо, Александр Александрович? — к нему спешил судья.
— Мне? — медленно ответил Арехин.
— Да, уже минут десять вы тут стоите и вроде как сами с собою разговариваете. А ваше время идет. Я позвал раз, позвал два, но вы не отвечаете…
— Позвольте, минуточку. Переутомился, верно. Я тут один стоял?
— Ну да. Сначала к вам подошел человек из публики, лохматый, бородатый, вы с ним парой фраз обменялись, и он сразу ушел. А вы продолжали стоять, разговаривая сами с собой. Я подумал было, что он вам какую-то шахматную идею подсказал, вы знаете, правилами соревнований это запрещено, но потом думаю — ну кто может подсказать Александру Александровичу? Разве дух Чигорина? А этот, бородатый, на дух никак не походил. Вот я и решил, что с вами нехорошо.
— Нет, нет, ничего. Спасибо. Он по другим делам подходил. По служебным.
— А… — судья понятливо кивнул. — Это меняет дело. Так я напоминаю — ваше время идет.
Арехин вернулся к ожидавшиму сопернику. Вот, значит, как. Действительно, силен Дорошка.
— Предлагаю ничью, — сказал он.
— Согласен, — немедленно ответил соперник.
Они пожали друг другу руки. Джентльменский ритуал. Оба выпустили пули в воздух. Промазали. Или, если угодно, стреляли так метко, что пуля налетела на пулю.
Арехин устал, будто сыграл сеанс со всеми участниками турнира. Еще бы не устать. Ловушка сработала и как сработала: он выудил у Дорошки куда больше, чем тот хотел сказать. Почувствовал превосходство, ну, и потерял бдительность. Теперь-то он знает о волхве много больше, нежели утром. Во-первых, он существует, Дорошка. А во-вторых…
7
— Александр Александрович!
Арехин оглянулся. Оказывается, он так и сидел за доской. Ничего, со стороны думают, что он переживает по поводу ничейного исхода. Но сейчас его беспокоил не судья, а посыльный из кремлевских. Если у Арехина была кожаная куртка коричневого цвета, то у кремлевского — черное кожаное пальто, и черные же перчатки.
— Вам срочный пакет, Александр Александрович, — сказал посыльный, доставая пакет из полевой сумки — опять же кожаной.
Пакет был тоже — кремлевский, с пятью сургучными печатями. Для надежности, говорили одни. Для представительства — другие. Сургуча девать некуда, большие запасы остались от царской власти, считали третьи.
Швейцарским складным ножичком Арекин аккуратно вскрыл конверт. Рвать плотную бумагу руками, ломать печати, оставляя после себя крошки сургуча — в высшей степени моветон.
На листке знакомым почерком было написано:
«Сашенька, приезжайте поскорее, у нас здесь несчастье. Н.К.»
— Вы с мотором? — спросил он кремлевского.
— Да, «паккард» ждет у выхода.
Интересно, почему одно и то же место называют то входом, то выходом? Зависит от точки зрения человека. Если ему нужно войти, то вход. А выйти — выход.
Арехин нарочно давал разгуляться мыслям простым, примитивным. Восстановление ментального щита требовало сил и сил немалых, потому на мысли содержательные и глубокие энергии недоставало. Ничего, пока доедем до Кремля, пока разберемся, прореха и залатается. Но что за несчастье случилось у Крупской, если она вот так, срочно послала за ним кремлевского курьера, да еще на моторе? Ведь пришлось, скорее всего, воспользоваться именем Ильича, а этого Надежда Константиновна очень не любила. Видно, действительно — несчастье.
Арехин велел Трошину ехать домой, сменить сани на колесный экипаж. А он — он пока на «Паккарде».
«Паккард» оказался старым знакомцем. Только шофер другой, неизвестный. Молодой. Дверей перед Арехиным распахивать не стал, не сколько от врожденного бескультурья, сколько от простого незнания обязанностей. Мол, мое дело — машину вести, и только. Обобществленный шофер. Школить некому.
Вечерняя Москва шла мимо «Паккарда», стараясь не попасть под его колеса. Чего хорошего — попасть-то? Погибнешь — плохо, жив останешься — так не обрадуешься: покушался на жизнь вождей… А шофер правил автомобилем как раз в манере «Раздайся, грязь, едет князь». В черную работу его? Котлован рыть? Так ведь двадцать раз могли одернуть парнишку. А не одернули.
Он взял каучуковую трубку-переговорник:
— Послушай, ты! Мне не нужно, чтобы вся Москва завтра гудела, что в Кремле случилась такая беда, что шофер голову потерял и несся, как угорелый. Как хочешь, а ехать старайся незаметно.
Шофер что-то буркнул, но ход сбавил. Наверное, считает: раз поучает, значит, право имеет. Действительно, за простым человеком разве пошлют его, кремлевского шофера при кремлевском «Паккарде»? За простым человеком труповозку пришлют, телегу, запряженную полуживой кобылой.
Но доехали они без происшествий, и часовые пропустили «паккард» без досмотра, как своего. А вдруг он, Арехин, набил бы автомобиль динамитом? В «паккард» много динамита войдет. Хотя и Кремль построен крепко. И потом, что взрывать? Целей-то много, а взорваться можно только раз.
Они подъехали к знакомому подъезду.
Тут уж посыльный выскочил, открыл дверь Арехину и сказал тоном, не допускающим возражения:
— Я вас провожу.
Безопасность все-таки блюдут. Это хорошо. Стоит отметить, что за последнее время в Кремле стало строже. С тер пор, как одного вождя средней руки нашли мертвым при весьма страннных обстоятельствах. Крысы загрызли. Прижизненно.
Посыльный шел грамотно — сзади, под правую руку. Чтобы я не успел наган вытащить. А что на груди два браунинга-спесиаль, то посыльный не знает. Да и не нужно ему этого знать. Все-таки не своей волей с улицы подобрал, а по четкому приказанию. Наверное, на словах добавили, что обращаться следует очень вежливо и деликатно. Как с вождем. Ладно, не с вождем, это слишком, а с выдающимся деятелем. Или даже просто видным. Главное — имеющим право при посещении вождей иметь при себе оружие. Именное, кстати. И какое именное! Три вождя его наградили, самых главных вождя!
Голова потихоньку приходила в порядок. Ментальная брешь затянулась, но еще саднила, как саднит любая заживающая рана.
Они прошли в покои Ленина, но посыльный повел не в кабинет Ильича, а к Надежде Константиновне. Логично, если учесть, что Крупская его и вызвала.
Посыльный постучал в дверь. И это добрый знак, прежде красноармейцы, при всем уважении к вождям в двери не стучали. Не приучены были. Много ли дверей в бедняцкой избе? Теперь, похоже, приучают. Значит, верят, что поселились всерьез и надолго. Хоть и держат в сейфах на всякий случай паспорта, бриллианты, золото и доллары.
Дверь открылась стремительно.
— Сашенька, голубчик, проходите пожалуйста, — Крупская кивком поблагодарила посыльного, и тот тихонько ушел.
Приучают!
— Что-то случилось, Надежда Константиновна?
Вид у Крупской, и без того не слишком здоровый, сейчас был совсем нехорош.
— Инесса… Инесса Федоровна умерла. Сегодня утром еще была совершенно здорова, а в полдень… В полдень ее нашли мертвой.
— Причина смерти?
— Врачи подозревают… Врачи подозревают отравление, — сказав главное, она стала собраннее, из голоса ушла растерянность.
— Чем?
— Точно не знают. У нас тут кругом полно мышьяка и прочей дряни — знаете, очень много крыс развелось. Возможно, случайно яд попал в еду.
— Возможно. Но тогда зачем вам я?
— Мы с Инессой Федоровной утром прямо здесь пили чай. Она, я и Володя… Владимир Ильич. Потом он ушел к себе, очень много работы, а мы поговорили о предстоящей женской конференции. Пили чай. С булочками.
— Понятно. Пили-ели вместе, а умерла одна Аберман.
— Да. Конечно, в лицо никто ничего не говорит, но… И Володя… — выдержки хватило не надолго. Она заплакала, сдерживаясь и оттого еще отчаяннее. — Я не знаю… Я сама лучше…
— Глупости, Надежда Константиновна. Глупости и паникерство. Думать не думайте травиться. Это даже политически близоруко. Представьте, какая дискредитация Ильича получится: Аберман отравилась, Крупская отравилась… Просто Синяя Борода, право.
— Но что же… Что же делать? Вы думаете, это не случайное отравление?
— Возможно. Но есть факты, заставляющие думать об убийстве. О политическом убийстве, направленном против Владимира Ильича в частности и советской власти вообще.
— Но кто? Как? Каким образом?
— Еще несколько минут я ничего не знал о смерти Инессы Федоровны, и потому взять да и с порога назвать вам убийцу было бы с моей стороны несерьезно. Нужно работать.
— Да! Конечно, — услышав о политическом убийстве, да еще врагами Ленина, Крупская успокоилась совершенно. Уж в чем, а в этом подозревать ее невозможно.
— Но на территории Кремля у меня нет полномочий. Охрана мне работать не даст.
— То есть как не даст? Пусть только посмеет! Идемте, Александр, идемте — она взяла его за руку и целеустремленно повела в кабинет Ленина.
— Вот, Володя, Александр Александрович уверен, что гибель Инессы — это не случайность, а политическое убийство! — сказала она с порога, сказала громко — пусть все слышат.
8
Ленин поднял голову и посмотрел на Крупскую так, что если бы взгляд убивал — трупы лежали бы до самой линии горизонта. Потом взял себя в руки и даже нашел силы улыбнуться. Улыбка вышла кривая, слабая — уж больно много энергии ушло на взгляд.
— Вы действительно так считаете, товарищ Арехин, — перешел он к самой сути. Раз товарищ Арехин — значит, не закомый какой-нибудь, а сугубо официальное лицо. А с официиального лица и спросить можно — по-ленински.
— Да, — коротко ответил Арехин. — По агентурным данным из ненадежных источников стало известно, что опасности подвергаются шесть человек — все видные и значимые деятели революционного движения. Среди них была и Инесса Федоровна Аберман.
— И почему вы ничего не предприняли? Не приставили охрану?
— Эти деятели революционного движения — вне нашей компетенции, товарищ Ульянов (Служили два товарища, ага… Служили два товарища в одном и том полку…). Специальным распоряжением — по инициативе товарища Богданова, но за вашей и товарища Джержинского подписями — МУСу запрещено предпринимать любые розыскные и следственные действия в отношении видных деятелей партии без особого на то указания.
— Почему не сообщили кремлевским?
— Видите ли, сведения поступили как раз от кремлевской охраны, — невозмутимо продолжил Арехин. — Вернее, именно человек, как у вас выражаются, курирующий кремлевскую охрану, и сообщил нам о готовящемся заговоре.
— Так он и есть ваш ненадежный источник? — что-что, а до сути докапываться Ленин умеет.
— Один из. Владимир Ильич, источники потому и называются ненадежными, что копни чуть глубже — то ничего и не окажется, кроме разве что горшка, набитого не царскими червонцами, а горящими угольками.
— Что-то я не уловил смысл. Из Гоголя, что ли?
— Из него. А смысл — чертовщины много, а на поверку вдруг да окажется фук, больше ничего. Но фук явно противуправительственный, так что нужно работать. Ловить. Поймать.
— Но Инесса? Почему?
— В бою ищут слабое место у противника. Чтобы ударить посильнее.
— Побольнее… Товарища Беленького ко мне!
Кому сказал — непонятно. Сказал и стал ходить по кабинету. Потом, будто вспомнив, посмотрел на Крупскую.
— Ты иди. Мы потом поговорим. Позже.
Надежда Константиновна ушла бесприкословно, только мельком взглянула на Арехина. Мельком-то мельком, а понимающему хватит.
Абрам Хацкелевич, он же Яковлевич, явился через пять минут. Запыхался, но одышку сдерживал, мол, и не бежал вовсе, а так, просто. Вернее, бежал со всех ног, но вам этого лучше не знать.
— Итак, товарищ Беленький, что вы знаете о заговоре, направленном против… Против кого, Александр?
Ага. Теперь в товарищи угодил Абрам Хацкелевич, а своим стал Арехин. Тактика! Это вам не контратака Тракслера.
— Вот список — и он перечислил все шесть фамилий.
— А, эти… Этих гипнотизер околдовал, некий Дорошка. Мы знаем.
— Знаете? — Ленин едва побледнел. — Кто же этот Дорошка?
— Предстваляется колдуном, волхвом. Предположительно владеет гипнотической силой. Мелкий фокусник, балаганный фигляр.
— И где этот фигляр сейчас находится? В Чека? У нас на кафедре?
— Мы посчитали нужным сначала понаблюдать за Дорошкой. Выявить связи, контакты, явки.
— Выявили?
— Мы работаем, но пока…
— Вы вообще-то видели Дорошку? Не вы лично, Абрам Хацкелевич, а кто-нибудь из кремлевских?
— Да, видели! — и Беленький описал уже известную сцену у подъезда галереи купца Третьякова.
— Позвольте, — сказал Арехин нарочито смиренно, — а с тех пор его еще кто-нибудь из ваших агентов видел? Знает, где он живет? Ну, и как вы говорили, связи, контакты, явки?
Беленький посмотрел на Арехина с сомнением.
— Владимир Ильич, посторонним при обсуждении работы Кремлеской Безопасности быть не положено.
— Он, возможно, стоит один всех ваших кремлевских вместе с вами, еще и добавить придется, — оборвал Беленького Ленин. — Отвечайте на вопрос.
— Мы не считали работу по этому направлению первостепенной, и потому не торопили событий. Хороших людей у нас немного, и всем есть работа здесь, в Кремле. А Дорошка — что Дорошка? Шут, если посмотреть прямо.
— Вы, товарищ Беленький, неправильно оцениваете роль личности в истории, — внешне спокойно сказал Ленин, но Арехин чувствовал, что это спокойствие гранаты перед броском. — Вы думаете, Романовых народ свалил? Или мы, сидючи в Швейцарии и сочиняя брошюрки, которые в России читали только жандармы, и то по долгу службы? Нет. И даже не война. Романовых свалила близость с Распутиным, проходимцем-магнетизером, не шибко умным мужиком без связей, паролей и явок. Просто поглядел народ, с кем водится Николай, и решил, что власть совсем сдурела. Вы хотите, чтобы Дорошка сыграл роль Распутина?
— Нет, конечно, нет. Потому мы и принимаем меры…
— Отвечайте на вопрос, вы знаете, где он, или нет? — Ленин побледнел еще больше, и, видя это, Беленький поспешно сказал:
— Нет, не видели и не знаем. Пока. Но я распорядился, и на поиски этого Дорошки будут направлены лучшие люди Кремлевской Охраны. Также считаю целесообразным привлечь ЧеКа.
— Ну-ну, привлекайте. Ступайте, не смею вас задерживать. Одно только скажу: первым делом распорядитесь, чтобы вот этому человеку, Арехину Александру Александровичу, сотруднику Московского уголовного сыска, отныне и впредь до особого распоряжения дозволяется проводить любые следственные действия, включая допросы любых лиц любым способом, включая кафедральный на территории, подведомственной Кремлевской Безопасности. Любой сотрудник Кремлевской Безопасности обязан бесприкословно выполнять распоряжения товарища Арехина, выдавать незамедлительно любые сведения, включая особо секретные. Любая волокита в отношении запросов и распоряжений товарища Арехина должна рассматриваться как злостный саботаж и караться по всей строгости революционного закона. Пока вы будете готовить этот документ, мы с Александром Александровичем тут попьем чайку да поговорим о том, о сем.
Товарищ Беленький ушел шагом быстрым, стремительным. Спешил выполнить поручение, конечно. Но еще показалось Арехину, что Абрам Яковлевич спешил, чтобы не высказать все, что он думает об Арехине. Этакий сливкосниматель, любимчик вождей. А каких вождей? Не будет Ленина, Троцкого и Дзержинского — съедят ведь. Живьем. Треугольник — фигура прочная, жесткая. Убери любую из сторон — Ильича, Льва Давидовича или Феликса, что останется? Посыпется его позиция, посыпется стремительно, шумно, и тот же Беленький его на кафедру и потащит.
Арехин знал, что кафедрой Ленин звал пыточные застенки, расположенные в подземельях Кремля. Кафедра — потому что на пытке человек становился очень разговорчивым, как профессор или архиерей. Со времен Екатерины Скавронской пытать в Кремле уже не пытали, другие места были в ходу, но пыточную со всем инструментом сохранили в полном порядке.
И вот — пригодилась. Теперь он может хватать кого угодно — ну, почти кого угодно, — и тащить на кафедру. Дыба там, железная дева или испанский сапог, Арехин не знал и знать не хотел. А вот товарищ Беленький, вероятно, знал, и думал, что Арехин мечтает стать заведующим кафедрой, а то и вовсе на место Беленького метит. И это Беленький ему припомнит если сможет.
Чай, однако, пить они не стали. Ильич сел за стол, бледность потихоньку уходила с лица. Ну и славно, что уходила. А то Арехин помнил, как у одного подследственного (человек обвинялся в краже трех полотен из Эрмитажа, и как не обвинить, если его арестовали именно с этими полотнами, когда он в Москве пришел в квартиру-мышеловку) во время допроса тоже появилась нехорошая бледность. Не от страха — от гнева. Он обличал революцию за вырождение, говорил, что она станет рассадником таких гадов, по сравнению с которыми Романовы, даже Петр, покажутся милейшими людьми. Он обличал, Арехин слушал, давая выговориться, и вдруг — бах, и у человека инсульт. Ишемический инсульт, как потом уточнил знакомый профессор, делавший вскрытие. Арехин хорошо запомнил ту бледность и теперь с тревогой следил лицом Ильича.
Сегодня минуло. А завтра? А через год?
Ладно, в распоряжении Ленина — лучшие российские врачи из оставшихся в живых. Приглашаются ежемесячно и берлинские светила. Дороги в России хуже, чем прежде, однако гонорары… Ни одно светило ехать в Россию крови, мрака и слез не отказалось!
Ленин поднял голову.
— Вы действительно думаете, что Инессу убили?
— Считаю, что убийство весьма вероятно. Другое дело — способ убийства.
— Способ?
— Абрам Яковлевич только что сказал, что Дорошка — ярмарочный гипнотизер, жалкий фигляр. Но иногда под личиной фигляра скрываются силы весьма могучие, если не сказать — могущественные. Он мог путем гипнотического воздействия влиять на товарища Аберман.
— Такие могущественные, что он заставил Инессу совершить самоубийство? — Ленин явно не верил в подобный поворот событий.
— Нет. Заставить человека себя убить — это против природы. Но он мог внушить ей, что крысиная отрава — обыкновенный сахарин. Захотела выпить чаю, взяла сахарин, а в результате смерть…
— Как-то это все…
— Сложно? Это для простого убийцы сложно. А для Дорошки как раз легко. Вот проникнуть в Кремль с револьвером или ножом, стрелять, подвергаться опасности быть схваченным — это, действительно, сложно. А внушить, что в пакетике под столиком сахарин — свалился случайно минуту назад — это просто.
— Крысиный яд под столики не кладут.
— Вы уверены? Была команда: крыс травить, яду не жалеть. Вот и не жалели.
— Значит, такова ваша версия?
— Убийство могло быть совершено и другим способом. Просто подали чашку чая с ядом.
— Кто? — Ленин поднялся, наклонился над столом, вглядываясь в лицо Арехина.
Говорят, император Николай — не нынешний, а Николай Павлович, имел взгляд гипнотический. Возможно, правда, возможно, императору льстили. Но вот во взгляде Ленина гипноза никакого. Просто — гнев и страх. Страх, что отравитель — жена.
— Полагаю, что опять-таки волхв Дорошка.
— Но как?
— А так. Возможно…
Но тут разговор их прервался — вернулся Беленький с заготовленной бумагой.
— Вы подпишите, Владимир Ильич?
Ленин взял бумагу, внимательно ее прочитал и подписал.
— Теперь вы, — вернул он бумагу Беленькому.
Тот расписался ниже и протянул бумагу Арехину. Ага, печать заранее поставил. Хорошо.
Александр Александрович тоже прочитал документ. Дуболепный канцелярский язык с сельским прононсом, но такой только и понимают люди, ставшие недреманым оком Революции. Даже печать — глаз в треугольнике. Ничего, пообвыкнуться и заменят чем-нибудь более солидным.
— Я могу идти? — всем видом Беленький выказывал готовность к немедленному, решительному и всесокрушающему действию.
— Позвольте еще вопрос, — Арехин подал Беленькому листок с фамилиями лиц, видевших Дорошку у галереи и, позднее, во снах. — Эти люди живут в Кремле? Если да, то мне нужен план, на котором указаны их квартиры.
— Срочно нужен?
— Сейчас.
— Хорошо, я распоряжусь. Только вот Товарищ Коллонтай живет вне Кремля. В особняке Кувшинского, что на Малой Дворянской.
— Я буду ждать плана — мне достаточно самого простенького, лишь бы видно было, кто где живет, без деталей.
После ухода Беленького Ленин вернулся к разговору:
— Вы думаете, что убийца живет здесь, в Кремле?
— Живет… или служит… Вариант Халтурина.
— Да, это возможно, — после короткого раздумья заключил Владимир Ильич. — Без обслуживающего персонала не обойтись никак. А брать приходится тех, кто есть. Старых большевиков со стажем на подобную работу не назначишь. Оно к лучшему, среди них могли быть, да что могли — были и провокаторы, агенты охранки. Поэтому брали людей по рекомендации. Но если допустить наличие провокаторов среди рекомендателей, отчего ж не быть им среди рекомендуемых. Да, это возможно, — повторил Ленин, явно предпочитая иметь дело с предателями и провокаторами, но не с гипнозом и прочей не поддающейся простому обнаружению материей. А вдруг и не материей.
— Хорошо, Владимир Ильич. Я пойду работать.
— Работайте. С чего вы думаете начать?
— Со всего сразу. Время не ждет.
Ответ Ленину неожиданно понравился, на секунду серое лицо его ожило — но тут же и угасло.
— Вы его постарайтесь живым взять. Понимаете — живым!
— Понимаю. Чего ж тут не понять. Живым так живым.
И он ушел.
9
Никакого плана ему, конечно, не дали. Готовили. К вечеру будет. В крайнем случае — к завтрашнему утру. План Кремля кому угодно чертить ведь не доверишь, нужны особо проверенные люди, да еще способные изобразить карандашом на бумаге план особо секретного объекта.
Спокойно, без пыла, Арехин объяснил, что белогвардейцам, монархистам и прочим враждебным элементам Кремль известен гораздо лучше, нежели его сегодняшним обитателям, и потому секретом быть никак не может. Потом попросил адреса указанных в списке товарищей. Адреса были у товарища, который сейчас занят.
— Пять минут, — сказал Арехин, демонстративно открыл крышку «Мозера», а рядом положил именной наган.
Кремлевские к такому обращению привыкли — только с другой стороны. Наганы показывать, а то и стрелять для острастки. Поэтому чего ждать — знали и предоставили адреса пусть не через пять, но через восемь минут точно. Но тут у Арехина претензий не было — писали при нем, старались, а что скорописью не владели, так то не вина. Он попросил провожатого: раз плана нет, иначе нельзя. Не спрашивать же у посторонних, где живут эти товарищи. Утечка сведений, она чревата… Только провожатого знающего, не первогодка неразумного.
Где ж непервогодков взять, резонно возразили ему. Служба новая, люди тоже новые, одни не прижились, другие направлены на фронт, третьи заняты непосредственной охраной вождей…
Но нашелся смышленый и знающий — телефонист при Кремлевской Безопасности.
Сначала они прошли в квартиру Аберман — скромную, чистую и пустую. Тело унесли, не оставив даже мелового контура. Никаких признаков того, что покойная что-либо готовила здесь, не было. Нужно будет узнать, где вообще завтракала, обедала и ужинала Аберман. Для людей определенного уровня питание доставляли прямо на стол, люди звания пониже ходили за едой на коммунистическую кухню — с судками, естественно. Третьи просто питались в кремлевской столовой. К последним, похоже, относилась и Аберман — ни судков, ни посуды в крохотной двухкомнатной квартирке не нашлось. Только две чашки, сахарница и коробка шоколадных конфет. Свежих, швейцарских. Кто-то балует Инессу Федоровну. Баловал.
Потом он обошел жилища остальных, оставляя товарища Зет на потом. Хотелось услышать ее мнение насчет гибели Аберман, ведь Инесса Федоровна была в этом списке. Списке Зет. Очень конспиративно, как в пинкертоновских романах.
Квартира товарища Тюнгашевой была недурна, но немного запущена, хотя две горничные должны были содержать ее в блеске и бережении. У Коллонтай квартиры в Кремле нет. Лазарчуки были в Питере — поехали туда рано утром, внезапно, а вернуться собирались не ранее, чем через три дня. Дома же оказалась лишь одна, Елена Шмелева, которая непрерывно рыдала, пила ландышевые капли и говорила, что Дорошка ну никак не мог быть связан со смертью бедняжки Инесс, ищите в другом месте. Дорошка — человек высокого порыва, а здесь — обыкновенная ревность.
Хорошо, что разговор шел с глазу на глаз, поводыря Арехин оставил за порогом, нечего ему смущать людей. Успокоив рыдавшую, Арехин исподволь стал расспрашивать про Дорошку, но узнал чрезвычайно мало нового. Он замечательный, возвышенный, небесный — разве это словесный портрет для разыскиваемого субьекта? А что они делали во сне? Ничего непристойного, стыдно даже и думать! Он просто показывал, что будет, если его не слушаться и пустить дело на самотек. Ничего хорошего, если не сказать хуже. Ее возьмут и посадят в тюрьму. И мужа посадят в тюрьму — и уже не выпустят. А детей — у нее будет двое детей — отдадут в детдом, специальный, для детей, чьи родители пропадут. Вот так возьмут — и пропадут, да. Вы придете к друзьям, с которыми еще вчера смотрели в театре «Кармен» — а друзей нет, лишь на двери красная сургучная печать. Ужасно, ужасно, ужасно… А что делать? Дорошка никому говорить не велел, только вам. Прямо так и сказал: будет меня спрашивать черный человек, с ним можете быть откровенной, больше ни с кем. Откуда я знаю, что вы черный человек? Так он показал вас — во сне. Во сне вы играли в какие-то шашки, или шахматы, уж и не помню. Не здесь, а в Ницце. Да, я была в Ницце, совсем еще девочкой. И вы были. Я вас запомнила — тогда. Вы-то на меня внимания не обратили, мне-то и было всего десять лет. А во сне? Во сне не знаю. Старше, наверное. Может, даже двадцать пять. Нет, не вам, мне. А сейчас мне девятнадцать, но все говорят, что я выгляжу на двадцать. А Дорошка и сказал, что когда муж поедет в Ниццу или в другое место — по партийным делам, я должна поехать с ним, и там остаться. На что жить? Я прекрасно играю на скрипке, и мои скрипки — а их у меня четыре — сами по себе стоят целое состояние. Амати, Гварнери, Страдивари и еще раз Страдивари. Нет, не до революции. Это в революцию у врагов изъяли. А муж мне принес, чтобы я оценила. Я ведь хорошо играю на скрипке. Это я уже говорила? Но это говорил и маэстро Арденн, и маэстро Люччо, лучшие скрипки мира. Я у них училась. Нет, не до семнадцатого. Я в Россию приехала только в январе двадцатого. Как зачем? Здесь мой муж, и здесь скрипки. Я и сейчас продолжаю учиться, у лучших наших скрипачей, но думаю, пустая это трата времени. По-настоящему лучшие давно уехали или умерли, а те, кто остался, играют хуже, чем я два года назад. Но все равно — играть нужно каждый день. Хотите, я вам сыграю? Некоторые смеются, что я слов «Интернационала» не знаю. Зато я его могу сыграть так, как сыграл бы Паганини. Это просто: я представляю, будто Паганини — это я. И из незатейливой мелодии получается вот что: Шмелева взяла в руки скрипу и смычок, все было настроено для игры, видно, она играла и перед его приходом.
В интерпретации Шмелевой это была музыка-наваждение, искус, водопад, взрыв, все, что угодно, только не та песня, которую вразнобой затягивали по разным поводам музыкально малоодаренные бойцы революции.
— Да, эта штука посильнее «Трели» Тартини, — подумал он, когда Шмелева опустила смычок. Подумал, а вслух сказал:
— Вам на гастроли нужно. В Европу. Пропагандировать революционное искусство.
Та в ответ только коротко кивнула, вернее, тряхнула головой, скупо улыбаясь. Наверное, дух Паганини все еще пребывал с ней.
Попрощавшись со Шмелевой, он вышел из квартиры. Да, есть женщины в русских селениях…
Он зашел в кремлевскую столовую и поужинал соответственно значимости в иерархии. А ну как решительный человек из противников большевизма проберется на кухню, да и отравит человек сто разом? Или даже двести? Да, здесь должны работать только действительно проверенные люди. И всеобщий контроль друг за другом. Ладно, он уверен, что товарищ Беленький знает, что кухня во дворце ли, кремле ли или просто в дивизии есть один из главнейших пунктов, требующих внимания неусыпного. Другой вопрос, долго ли его будут кормить севрюжатиной с хреном? Ну, как не угодит грововержцам, переведут на чистый хрен, что тогда?
Ему-то что, а ведь многие вокруг едят именно с такой мыслью. У каждого ли в квартире есть сейф, где ждут своей минуты фунты бриллиантов, пачки фунтов и европейские паспорта?
Сейф не сейф, а кубышка, пожалуй, есть. Сотня николаевских десяток, немного драгоценностей. Жизнь революционера приучает создавать запасы при первой возможности. Чуть что — и на нелегальное положение. Если белые в Кремль войдут, например.
Только белые в Кремль не войдут!
10
Какие белые…
Арехина уже трижды останавливали кремлевские, спрашивали, кто таков.
— Я от Беленького, — отвечал Арехин, и охранники верили на слово, мандат не проверяли. Спрашивали «фамилие» и все. Будем надеяться, что товарищ Беленький снабдил всех подробным словесным портретом Арехина, и потому нужды в бумагах не было. Да и читать их темно. Все равно, следовало бы отвести в караульное помещение, да и выяснить, вдруг это никакой не Арехин, а замаскированый волхв Дорошка.
И — нашла коса на ногу! Четвертый патруль кремлевских, услышав, что он от Беленького, словам не поверил и приказал следовать в особую часть. Однако — особая! Что ж, посмотрим и особую. Все равно, непонятно, что делать.
Особая часть оказалась обыкновенной кремлевской квартирой, приспособленной для нужд охраны. Интересно, почему ее не устроили в том помещении, где прежде была охрана царская? Ответ очевиден — того помещения не хватает, потому и потребовалась дополнительная площадь. Может, таких квартир не одна. Второй же ответ — аккурат напротив разместилось и жилье товарища Беленького. Видно, патруль, который задержал Арехина, был не просто патруль, а обер-патруль, партуль высшего ранга.
Догадка оказалась верной. Через минуту в комнату вошел товарищ Беленький и похвалил патрульных, мол, молодцы. Подозрительный — сюда, здесь и проверим. Если что — товарищ нас поймет. Нужно, чтобы стало бдительнее, много бдительнее!
— Товарищ вас понял, — ответил Беленькому Арехин.
— Они с вами культурно обращались?
— Да, — коротко ответил Арехин.
— А то у нас две беды: смущение, доходящее до ужаса перед начальством, и хамство ко всем остальным. Люди-то новые. По рекомендациям из армии взяты, кто преданность делу революции доказал. Почти каждый ранен, некоторые и дважды, и больше. Кровью доказали преданность. Без сомнения. Но вот с культурой пока не очень. Культурных откуда ж взять? Культурные на фронте за белых воюют или вовсе к буржуям за границу уехали. А непролетарскому элементу из оставшихся в кремлевской охране места нет, не было и не будет.
— Меня, значит, вы бы не взяли? — сказал Арехин.
— Это не разговор. В рядовой состав вы и сами не пойдете, а в начальствующий — если назначат сверху, значит назначат, наше дело приказы исполнять.
— Не назначат. Но вот насчет остальных, не охранников. Горничных, прачек, дворников, конюхов, поваров, буфетчиков, официантов, слесарей, столяров, работающих здесь, в Кремле — их-то откуда набрали?
— Слесари и столяры пролетарии. Да и остальные тоже из угнетенных.
— Я ведь не дискуссию предлагаю, кто угнетенный, кто нет. Я просто спрашиваю, откуда набрали обслуживающий персонал.
— Ну, частью прежний остался. Те же слесари. Посторонний Кремль три года изучать будет, прежде чем поймет, а тут свой брат пролетарий. Но многих и со стороны приняли. Иногда товарищи вожди, а чаще их жены рекомендовали. Я так думаю, не сами все они этих горничных-буфетчиков знали, даже почти никого не знали, в тюрьме, на каторге да в эмиграции как-то без буфетчиков обходились. Просто знакомые, знакомые знакомых, седьмая вода на киселе. Тут нам чутье класовое помогает. Иному откажешь, иного и на кафедру сводишь, поговоришь по душам. Всяко бывает. Но насчет оружия мы обыскиваем их на входе.
— Понятно, — подумал Арехин. Понятно, что если человек захочет убить вождя, то возможность такая у него будет. Обыскивают на входе? Да у поваров и буфетчиков ножи всех размеров, на любого вождя подойдут. Не говоря уж о том что и с времен достопрежних полно в Кремле укромных уголков. Нет-нет, а и алебарду стрелецкую найдут, и фузею. Не исключено, что и маузеров да наганов ящик-другой лежит в потаеном местечке. Халтурин в Зимний не один пуд динамита перетаскал. Проворонили.
А вождей, их, конечно, любовь народная охраняет. Любовь и страх, как же без страха. Каждому показывают железную бочку, в которой горела Фанни Каплан. Вид этой бочки напрочь выдувает мысли о геройствах.
И все же, и все же… Но ведь Дорошке не нужно ни револьвера, ни динамита. Он им во сне является и словесно наставляет. Во сне — значит ночью. И является не всем. Товарищу Коллонтай вот не является, хоть та об этом и просит. Чем отличается товарищ Коллонтай от остальных? Многим. В частности и тем, что живет она не в Кремле.
Если бы Дорошка являлся ночью не ментально, в нави, а в яви, можно было бы заключить, что он может перемещаться по ночному Кремлю. Так может, он и перемещается? В конце концов, ментальный контакт потребовал личного присутствия обеих сторон — его и Дорошки. За неимением гербовой, то есть других идей, можно предположить, что и с дамами Дорошке нужен если не контакт, то, по крайней мере, близкое соседство. Оттого-то Коллонтай и оказалась вне круга, что вне Кремля она.
— Вы, наверное, устали? Хотите, я вас у себя на ночь устрою, а то разъездой машиной отвезем вас, куда скажете? — предложил Беленький, приняв Арехинскую сосредоточенность за сонливость.
— Благодарю, но не стоит беспокоиться. Скажите, у вас в Кремле есть какой-нибудь ночной буфет, где можно чаю попить или еще чего-нибудь?
— А как же. Многие ночами работают, и чай, бутерброды, закуску им обеспечивает как раз ночной буфет. Некоторым на дом носят, остальные и сами придут, если нужно. Кремль, конечно, большой, но не такой уж, чтобы очень. Десять минут, пятнадцать по свежему — некоторые даже любят ночами ходить, напряжение снимать. После сибирских-то ссылок… У нас безопасно, кругом патрули. А патрульные всех постоянных полуночников в лицо знают, и даже по походке узнают. Не беспокоят. В крайнем случае, удостоверение спросят или сюда приведут. Но это редко. Одного в неделю, двух.
— Будем надеяться, что я своим появлением беспокойства на эту неделю исчерпал, и впредь их не будет.
— Будем надеяться, — подтвердил Беленький, но видно было — не надеется он на это, напротив: Арехин и есть главное беспокойство, а остальное — рутина.
— Я тогда в ночной буфет и пойду. Чайку попью, если дадут, и вообще… — он не стал уточнять, что таится за неопределенным «вообще». И так ясно — ночная прислуга разных людей видит меньше, и потому помнит о них дольше. А поскольку Дорошка — волхв преимущественно ночной, то…
— Вас патруль проводит, в буфет-то. А то в темноте искать долго, да и другие патрульные могут не понять, за злоумышленника примут…
О тот, что, приняв Арехина за злоумышленника, другие патрульные могут и пристрелить, Беленький не добавил — умному и так достаточно.
— Буду признателен, — сказал Арехин.
Спустя минуту они уже шагали по ночному Кремлю. Вероятно, все действующие электростанции энергию в первую очередь отдавали в Кремль, а уж что останется, поскребыши — остальной Москве. Да, не скоро озарится электрическим светом провинция. Подождет. Была б жива, с нее и довольно.
11
Ночной буфет оказался и правда неподалеку. Двое патрульных довели Арехина и один из них, верно, старший, посоветовал там до утра и пересидеть — хорошее, мол, место, и не только чаем в нем потчуют.
Арехин ответил, что крепко на это надеется и они расстались, довольные друг другом.
То ли Беленький за эти минуты переговорил с буфетом по телефону, то ли популярность Арехина среди кремлевской обслуги была много больше, чем он считал, но встретили его в буфете радушно. Пожилая женщина усадила его за столик в углу, где уже ждала холодная закуска — селедка с луком (разумеется, разделанная, очищенная, в селедочнице, приправленная уксусом и растительным маслом) и графинчик с водочкой, запотевший, только со льда.
— Есть жаркое, картошка жареная, щи суточные — перечисляла женщина, и перечисляла с душой, как долгожданному гостю, а не докучливому посетителю.
— Спасибо, может быть, позже. Я ведь до утра тут собираюсь пробыть, если не прогоните.
Женщина просто вспыхнула от радости. Видно, Беленький очень крепко внушил, что они должны удержать Арехина в буфете как можно дольше. Разумеется, от греха подальше. Чтобы не простыл. И под ногами не болтался.
Арехин налил рюмку, пригубил. Оно самое, хлебное вино Смирнова, очищенное. Старые запасы. Или работает заводик? Не весь, конечно, а маленький цех, только для Кремля. Все ж не электростанции, водочному цеху удержаться на плаву легче.
И селедка оказалась недурна. Женщина ушла — вы только кликните, и я приду, или другой кто, — ушла за стойку, куда наведывались один за другим кремлевские полуночники невысокого разряда. Шумно ввалился человек в распахнутой шубе. Запахнутая уже и не по сезону, жарко, а распахнутая и греет, все-таки холодно ночью, и демократично получается, и барственно одновременно. Точно Шаляпин.
Только это был не Шаляпин а поэт.
Поэт подошел к буфету.
— Эй, буфетчик! Мое обычное!
Женщина, что встречала Арехина, ответила:
— Кузьмы Ефимовича нет, обслуживают лично, но я вам мигом приготовлю ваше обычное.
Поэт кивнул, оглянулся.
— Позвольте с вами посидеть, или вы как — одиночество предпочитаете больше компании?
— Это не вопрос предпочтений. Скорее — обстоятельств.
Приняв ответ Арехина за согласие, поэт уселся напротив.
— Вождей великих, выдающихся и видных я знаю всех. А вот вас не знаю, — сказал он.
— Не хотите ли? — Арехин показал на графин.
— Благодарю, благодарю. Я вообще-то пью мало, но по сегодняшнему случаю водочки выпью. Лизавета Петровна, пока суд да дело, рюмку!
Женщина поставила рюмку, поэт наполнил из графина, и, без поползновений чокнуться, выпил.
Выпил и стал ждать, не спросит ли Арехин, что за случай подтолкнул поэта к водке.
Арехин не спрашивал.
Не спросил и поэт, а просто налил — и немедленно выпил.
— Вы закусывайте, закусывайте, — пододвинул и селедочницу Арехин.
— До третьей не закусываю, — ответил поэт и налил третью. Но пить не стал. Видно, сам вид налитой рюмки уже грел — после двух-то выпитых.
— Значит, обычно-то я трезвенник. Но по сегодняшнему случаю… он опять сделал паузу, но, поскольку Арехин опять промолчал.
— Я стихотворение написал. Хорошее. Почти поэму. Или даже на самом деле поэму.
— Это бывает, — заметил Арехин.
Поэт несколько опешил.
— Вы, случаем, сами не пишите?
— Стихов я никогда не писал — ответил Арехин.
— И правильно. Давай, товарищ, на брудершафт!
— Отчего ж нет, товарищ?
Они выпили на брудершафт.
— Слушай, а как тебя зовут? — в том, что сам он известен всему миру, поэт не сомневался.
— Александр Арехин.
— А меня-то знаешь, как звать? — на всякий случай спросил поэт.
— Кто ж не знает Демьяна Бедного, — ответил Арехин.
— Да встречаются… — неопределенно сказал Демьян. — Так говоришь, стихов не пишешь? Молодец, хвалю. Не писал стихов, и не пиши!
— Что так?
— Адски трудное это дело, если таланта нет.
— А если есть?
— Вдвойне адское. Со стороны чего там: сел, двадцать строчек написал — вот и стихотворение. Только порой не то что двадцать — две строки неделю куешь. Зато уж и выйдут — булата прочней. Нам, большевикам, поэзия нужна стальная, острая, как сабля, могучая, как кувалда. Перековывать мозги — дело не простое.
— Я в этом уверен.
Тут подали и «обычное» Демьяна. Не уху, как можно было предположить, а вареную картошку, соленые огурцы, копченое сало. И, разумеется, графинчик. Пьет он редко… В смысле — только ночью?
— Я человек простой, и еду люблю простую. Вы, я вижу, тоже, — брудершафт брудершафтом, но поэт — натура тонкая, понимающая, где «ты» неуместно просто из соображений эстетики. — Еда — это всего лишь еда, не следует делать из нее культа.
— Культа, наверное, ни из чего делать не следует.
— Из чего — правильно. А вот из кого — тут надо подумать. Особенно если кто — не личность, а например, народ. Можно ли, стоит ли, нужно ли делать культ из народа?
— Так ведь и народ — понятие неоднозначное. Одни под народом понимают исключительно крестьян, другие — вообще беднейшие слои общества, третьи — всех без исключения — ответил Арехин.
— Народ я противопоставляю личности. Где личности нет, или она слаба, плывет по течению — то и народ.
— А вот вы — Арехин тоже понимал условность брудершафтов, — вы — безусловно личность. Но вы — народ? Нет?
— Вышли мы все из народа, знаете такие строки? Очень жестокие. Но правдивые. Вышли. И обратно уже не войдем. В этом и заключается проблема интеллигенции. Вот я — происхождения наиподлейшего, говоря по-старому. По-новому — из беднейшего крестьянства. Но сам уже — не народ. Дай мне землю, коня, плуг, скажи: отныне и навсегда ты землепашец — умру. Удавлюсь. Оторвался, так оторвался. Вы-то, я вижу, военспец, или что-то близкое к этому.
— Близкое, — подтвердил Арехин. — В уголовном сыске служу.
— Ну вот, с бандитизмом воюете. А я — кавалерист стиха, — поэт усердно ел и усердно пил. — Днем-то ни крошки во рту не было, — посчитал нужным объяснить свой аппетит поэт. — Только чай. А вот сейчас, как говорили в нашей деревне — Жрун напал. Дедок такой маленький, с лапоток. Из-под лавки зыркнет — и сразу есть захочешь, да так, что спасу нет. Все, что есть в избе, съешь. Здесь, в Кремле, хорошо придумали — ночной буфет. Вот кончится война, построим коммунизм — по всей Москве будут такие ночные буфеты. Не рестораны, как при буржуях, а именно для трудящихся.
— А не в Москве? В вашей деревне?
— Ну, в деревне — то вряд ли. Деревенский — человек самостоятельный, у него и печь в доме, и корова, и всякое другое. Найдет, чем закусить. Хотя позже… Не знаю. Увидим. Может, и будет по селу буфетчик разъезжать с судками для работников-полуночников, вот как здесь сейчас. Вы знаете, их здесь пятеро работают. Двое на кухне, готовят, греют, разливают. А трое при буфете.
— Не вижу я троих что-то.
— А они на квартиры носят судки. Мне, правда, не носят, — загрустил вдруг поэт. — Не пиши стихов…
Опьянел он внезапно, вдруг. Словно шел по вешнему льду, шел, шел — да и провалился. Глаза остекленели, язык завязался в узел. Поэт встал, и не прощаясь, зашагал к вызоду. Шел он механически, как заводная кукла.
— Дойдет, — сказала женщина, убирая посуду поэта. — Он всегда доходит. Недалеко ему. Не впервой. Кушать хотите?
— Еще нет, благодарю.
Арехин сидел и ждал. Ошибся — так и ошибся, эка невидаль. Что он — маг, в самом деле? Он — сотрудник московского уголовного сыска, и должен руководствоваться логикой. А логика говорит, что если есть десять версий одного события, то минимум девять из них ошибочны. А зачастую и все десять.
Люди приходили, но все не те. Зайдут, быстренько хлопнут рюмку, закусят кто сушкой, кто кусочком сыра, и побегут дальше. К Арехину не подсаживаются.
Наконец, дождался. Не он один:
— Что ж это ты, Кузьма Ефимович, задержался? — спросила женщина у вышедшего в зал из кухни буфетчика.
— Да ведь требуют уважение оказать, — ответил буфетчик. — Пока одно, другое. Спешить нельзя. Уважение — штука тонкая.
Говорили они тихо, чтобы не беспокоить Арехина, но он услышал.
— Уважение — это хорошо. А наваждение — плохо, — сказал Арехин, поднимаясь со стула. — А уж доводить мороками до смерти — вообще преступление. Очень серьезное.
12
Буфетчик отпираться не стал. Подошел к столику Арехина и сказал, глядя в глаза:
— Что ж, Дорошку вы поймали. Дальше что?
— Дальше ничего, Кузьма Ефимович. Мое дело, как вы изволили выразиться, поймать. А определять меру наказания будут другие.
— Любите вы грязную работу на других перекладывать.
— Всякий любит.
— Руки вязать будете, или как?
— Или как. Доставлю вас товарищу Беленькому, да и хватит с меня.
— Ведите, — согласился буфетчик.
— Только после вас, — отверит Арехин.
— Воля ваша.
Буфетчик шел, но шел иначе, чем вечером. Тогда Дорошка был полон силы, энергии, этакая грозовая туча, а сейчас от тучи остались жалкие ошметки. Вышло все, истощилось. И походка смертельно уставшего человека. Так задержание подействовало? Или так ловко притворяется, а потом возмет, да и очарует до смерти?
Нет, не похоже. Да и он сам, Арехин, сейчас тоже другой. В ментальной броне, и смотрит — через перископ.
Ночное небо давило. Облака низкие, ветер сырой, и еще собака воет неподалеку. Совсем как в деревне.
Дорошка остановился.
— Знаете, а вы сами не можете меня того… пристрелить, да и все? При попытке бегства?
— Не могу, — ответил Арехин.
— Ну, конечно… Вам ведь доказательства нужны, что я волхв Дорошка, а не простой буфетчик?
— Лично мне они не очень-то и нужны.
— А кому нужны? Не отвечайте, сам скажу. Ульянову-Ленину.
Арехин промолчал.
— Ну, хорошо, может, оно и к лучшему. Это я так, перенапрягся, вот и хочется кончить все разом. Но можно ведь еще и пожить?
— Это вряд ли.
— Ну, хоть до завтра?
— До завтра — другое дело, — согласился Арехин.
Молча дошли они до особой части. У самых дверей встретились с патрулем — тем самым.
— Что, домой хотите? Сейчас организуем… — сказал старший.
— Нет, не домой. Мне товарища Беленького.
— Зачем?
— Сдать ему человека, пусть сам разбирается. Это дело кремлевское.
Товарищ Беленький, судя по всему, тоже еще не ложился.
— Принимайте, — сказал Арехин. — Вот он, волхв Дорошка, убийца товарища Аберман.
— Вы уверены? Это ж буфетчик, Кузьма Ефимович.
— А вы у него самого спросите.
Беленький посмотрел на буфетчика.
— Око за око, зуб за зуб, — невозмутимо сказал буфетчик. Похоже, силы возвращались к нему, и возвращались быстро.
— Не понял? — Беленький сел на стул. Арехин тоже. Один буфетчик продолжал стоять.
— Фанни Каплан, ту, которую вы сожгли, моя сестра.
— Вы в этом признаетесь?
— С гордостью. И признаю, что путем гипнотического внушения заставил Инессу Аберман насыпать себе в чай отравы.
— А причем здесь Инесса Аберман? — спросил Арехин.
— Вы не знаете. А он, — кивнул Дорошка на Беленького, — знает.
— Товарищ Аберман участвовала в вынесении приговора Фанни Каплан, — подтвердил Беленький. — Она и предложила способ наказания.
— А остальные женщины причем?
— Не при чем, — ответил Дорошка. — Остальным ничего не угрожает, напротив, они спасутся.
Арехин почувствовал, что теперь уже из него энергия выходит, как вода из опрокинутого ведра. Не Дорошка тому причина — Кремль.
— Человек у вас есть, признание у вас есть, дальше разбирайтесь сами. А я пойду домой. Вы обещали мотор.
— Да, конечно, — засуетился Беленький. Вызвал патруль. — Заковать. Отвести на кафедру, стеречь. Решать, что и как, будем утром.
— Кого заковать? — спросил старший.
— Ну, конечно, его — Беленький указал на Дорошку. — Да, и скажите, пусть разъездной мотор подадут побыстрее.
Когда буфетчика увели, Беленький спросил:
— Как же вы все-таки угадали, что буфетчик и есть Дорошка?
— Он сам ко мне подошел вечером. Видно, был в своих силах уверен. Оказалось — зря. Я его запомнил — не столько в лицо, он хорошо гримируется, а по запаху.
— По запаху?
— Сытые люди пахнут иначе, нежели голодные. А нюх у неня пусть не собачий, но вполне приличный. Хотя и лицо тоже запомнил.
Прошло пять минут, десять.
— Что-то опаздывают, не иначе — поломка, — Беленький по-прежнему хотел, чтобы Арехин оказался за кремлевской стеной. Снаружи, естественно.
За окном послышался звук мотора.
— Засим — прощайте, — поднялся Арехин. — А почему вы отложили допрос Дорошки до утра?
— Ну, не я один буду допрашивать. Товарищи сказали — до них Дорошку не трогать, чтобы волос с головы не упал.
— Понятно, — Арехин не стал спрашивать, какие товарищи. Ясно какие. Тех, кто мог указывать Беленькому — на пальцах одной руки можно перечесть, еще и останутся, пальцы-то.
Он сел в автомобиль, назвал шоферу адрес.
— Я почему не сразу-то, — оправдывался шофер. — Нас двое, очередь была Аркадьева, но тут подошел какой-то, наверное, большой человек, и Аркадьев его повез.
Уйдет Дорошка, понял Арехин. Уже ушел. Загипнотизировал, заставил расковать, потом очаровал этого Аркадьева…
Ну, теперь это целиком и полностью забота товарища Беленького. И других кремлевких товарищей.
13
Так он и сказал три дня спустя Надежде Константиновне. Крупская приехала к нему на квартиру — посоветоваться, как она сказала. Уж больно Владимир Ильич переживает. Но сама она не переживала вовсе. Ушел Дорошка, и ушел. Видно, тоже считала справедливой ветхозаветную формулу «око за око». Под конец, правда, спросила:
— А вы, Александр, не хотите в Кремль?
— Я, Надежда Константиновна, предпочел бы перейти в Коминтерн. Поработать за границей.
— Думаю, это можно уладить. Партии для заграничной работы очень нужны преданные, образованные, культурные и умные люди.
Арехин скромно потупился.


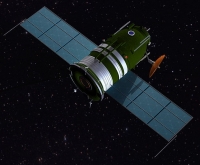

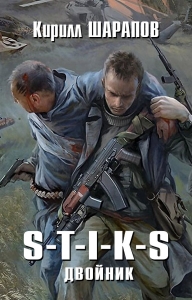


Комментарии к книге «Дело о волхве Дорошке», Василий Павлович Щепетнёв
Всего 0 комментариев