Праздник урожая
Дмитрий Иванов
Праздник урожая
Славик протянул руку к крану горячей воды и убавил напор. Напор тонких струй стал слабей. Славик с удовольствием подставил голову под воду. Он был, что называется, и ладно сложен, и крепко сшит. Длинные ноги — сейчас обтянутые струями воды. Задница — крепкая, жилистая. Спина боксера — последний раз подававшего надежды лет десять назад. Славику тридцатник.
Он принимал душ уже минут десять, старательно. И улыбался. Наконец выключил воду. Потянулся за полотенцем, выставив мокрую ногу из душа. Вытерся — с ног до головы, не торопясь, с удовольствием. По-детски яростно, почти насухо растер шевелюру. Потом одну ногу, вторую. Грудь. Живот. Пах. Руки — одну, вторую. Спину. Накинул халат. Маленькое, а удовольствие. После душа — в уютный махровый халат. Посмотрел на себя в зеркало. Следующую минуту посвятил прическе — волосы уложил на аккуратный пробор. Пшикнул флакон одеколона.
Славик посмотрел на себя, шутливо-сурово, в зеркало. Легко похлопал ладонью по гладко выбритым щекам. Быстро и глубоко наклонил голову влево-вправо — боксерская привычка. Теперь бесполезная, но пусть будет. Что, мешает? Нет, не мешает.
Потом он открыл дверь ванной и бодро шагнул через порог.
В трех шагах от него стоял человек. Лицо Славик не успел разглядеть — потому что увидел пистолетное дуло.
Оно смотрело ему прямо в лоб.
Человек держал пистолет в вытянутой правой руке.
Через секунду он выстрелил Славику в голову.
Больше ничего Славик не видел.
* * *
Я постараюсь рассказать все так, как оно было.
Это — дерево, наше старое дерево. Длинные побеги старого виноградного дерева тянулись вдоль всего двора.
Вдоль всего двора, от калитки до самой дальней квартиры, на уровне крыш — для кроны дерева, для его жилистых, суставчатых рук поставлены были опоры, между ними — паутина из тонких металлических труб. На этой самодельной конструкции проходила жизнь дерева, вдоль нее разрастались по двору в поисках нового пространства его чуткие всеядные руки.
А еще — наше общее дерево тогда было небом, оно укрывало собой большую часть бесконечной — так говорят — вселенной, над старым двором. Примерно на его середине, прямо над квартирой номер три, в которой жил тогда я, рук у дерева становилось меньше, они были толще и жилистей, суше, это были его главные руки, и кое-где на них уже старчески топорщилась сероватая древесная кожа. Потом, спускаясь вдоль опор, с неба к земле, руки вдруг сливались в один толстый изогнутый ствол — внутри палисадника он, наконец, встречался с землей. Там было начало дерева, там были его крепкие корни.
Моя память следует дальше, по старому асфальту, к самому центру двора — хотя это и не асфальт уже вовсе: участков, на которых растет, потихоньку выпучивая и разламывая его, упрямая простая трава, гораздо больше. В линиях разлома, кроме того, можно обнаружить пару полуконспиративных муравейников.
Теперь моя память на секунду остановится на канализационном люке — он древний, большой, по диаметру больше и по форме выпуклей нынешних, и, наверное, очень массивный. В центре люка, как в центре древнего боевого щита, — старый, королевский герб и изрядно оплешивевшая от времени надпись: MUNICIPIA — то есть Город. Но город был где-то там, за пределами, за зеленой калиткой, и к нам, к нашей жизни тогда — он не имел отношения.
В тот день в самом центре двора стояла могучая бочка. В ней, потемневшей от времени и виноградного сока, в Праздник урожая, то есть сегодня, — давили собранный с нашего общего дерева темный виноград. Сегодня был праздник, в центре праздника была бочка, а в ней — была Рая.
Ноги у нее действительно были адски красивые — этого нельзя было не видеть, и нельзя было не смотреть. Они давили виноград безжалостно и весело. Синевато-красные брызги и раздавленные виноградинки летели во все стороны. На ней было желтое, солнечно-желтое платье, бессовестное, как все на юге, Рае совсем не жалко было этого платья — оно порядком уже было забрызгано виноградным соком, но Рая продолжала дико выплясывать в бочке, под оголтелую, бесконечную и не думающую вовсе о том, что будет завтра, мелодийку — ее наяривал расположившийся здесь же, во дворе, в паре метров от бочки, оркестр.
Хотя оркестр — это очень громко сказано, на самом деле это просто шестеро неизменно нетрезвых лабухов, играющих всюду, где заплатят или, в крайнем случае, неоднократно нальют. Вот состав оркестра, я помню ясно их лица: это Трубач, а это Аккордеонист, а это Скрипач дядя Петря, а это вот Доба — большой барабан, он висит на ремне, на плече лабуха, который радостно бьет в большой барабан толстой палкой, и так понимает, что жив, и улыбается красным лицом. А это вот Туба — медный инструмент, с гигантским раструбом, помятым, по-цыгански неистово отливающим на солнце лживой позолотой; Туба — точнее, играющий на ней, обычно выполняет в ансамбле функцию баса, если еще в состоянии ее выполнять. И, наконец, вот Цимбал — ударный инструмент, у него дрожащий печальный звук, на цимбале играют сидя, поэтому обычно он составляет композиционный центр ансамбля, играют на нем двумя длинными палочками, кончики которых плотно обмотаны грязноватыми тряпицами. Надо признать, вид у оркестра очень разнузданный, что в полной мере можно отнести и к репертуару.
От лабухов, наяривающих бешеную хору (хора — это такой быстрый танец для людей, считающих, что жизнь коротка и не следует делать из этого трагедию), моя память следует дальше и поочередно встречается со всеми соседями.
Прежде всего с Вахтами.
Старого Вахта звали Вэйвэл Соломонович, а старуху Вахт все звали просто Ривой. По Вэйвэлу Соломоновичу можно было сразу сказать, что в его жизни давно и прочно первое место среди увлечений заняло столовое вино. По этой причине Вэйвэл ходил с палочкой — суставчатой дешевой тростью, сделанной из вишни и покрытой красноватым грубым лаком. Эта трость появилась у Вахта после того, как однажды зимой, посетив винный погреб Мош Бордея — это имя переводится с местного наречия — Деда Погреба, Вахт ушел куда-то в город, там еще пил, потом упал и сломал себе ногу. Вэйвэл Вахт высок, сутул, как это бывает с высокими, костляв, как это бывает с сутулыми, горбонос, как это бывает с многими в этой местности, серовато-сед и ворчлив. По-своему пижонист, как это бывает с людьми его поколения. На Вэйвэле Соломоновиче я помню старенький, но всегда тщательно вычищенный пиджачок, а брюки слегка коротковаты, но тоже — всегда идеально отутюжены. Вахт делает это старым, тяжелым, ржавым утюгом. Да, и — туфли. Еще помню его туфли. Отчаянно нагуталиненные.
Сейчас это практически все, что стоит сказать о Вэйвэле Вахте. Остальное он расскажет о себе сам. Начнет рассказывать — не остановишь.
Да. Парадные туфли Вахта производили на меня большое впечатление, когда я был маленьким. И особенно в солнечный день. В них отражался весь — мой тогдашний — мир. Мне казалось, что, когда Вахт ходит, в его туфлях отражаются деревья, и небо, и голуби, которые в те времена всегда летали в небе. Да, и вот что я вспомнил: такое состояние туфель Вахта тесно связано с днем субботним.
Утром дня субботы Вахт просыпался растерзанный и, отмахиваясь от кошмаров вечера пятницы, сразу бросался на кухню, где принимал стаканчик розового. Настроение Вэйвэла Соломоновича исправлялось прямо на глазах. Он съедал в качестве закуски одну большую редиску и улыбался. Потом выходил на порог и включал электробритву. Она называлась «Харькiв», была примитивная, очень массивная, как это часто бывает со всем примитивным, и имела длинный, жутко путающийся сам в себе крученый шнур. Машинка, как это полагается примитивным моделям, громко гудела. И еще — переливалась на солнце. Если дело происходило, например, летом, наглое южное солнце влезало в зеркало Вахта — круглое старое зеркальце с ручкой, и по всему двору тогда разлетались солнечные зайчики.
После бритья Вахт несколько раз громко дул в машинку — выдувал из нее седые волосы, потом уходил на минуту в дом и снова появлялся на пороге — уже с флаконом одеколона. Вэйвэл обильно, причмокивая от удовольствия синеватыми губами, дезинфицировал щеки и шею — одеколоном «Русский лес». В чем был определенный цинизм. Как теперь мне кажется.
Потом Вахт надевал накрахмаленную белую рубашку, с запонками. Старый шелковый галстук, расцветки такой, о которой можно сказать, что такую не носят уже лет тридцать и вот-вот начнут снова носить — галстук был бархатно-красный, с желтым и черным. Пиджачок, штаны и — туфли, яростно начищенные с вечера.
Потом, нагнувшись — осторожно и не слишком резво, как это делают энтузиасты столового розового, — Вэйвэл проходился разок-другой бархоткой по носам туфель. Брал трость, прихрамывая, проходился по двору и наконец уходил, сказав Риве, вышедшей его провожать на порог:
— Я иду в синагогу! — громко и отчетливо.
— Скажи ребе, я умираю, — громко говорит в ответ Рива. — Пусть придет!
— Не морочь ребе голову, — жестоко отвечает ей Вахт. — Когда сдержишь слово, придет.
— Не пей! — громко и безнадежно кричит Вахту вслед Рива, когда он уже хлопает калиткой.
В субботу Вахт шел в синагогу. Я не знаю, что он там делал. Зато я знаю, что он делал потом. После синагоги в день субботний Вахт направлялся в рюмочную, на углу улиц Армянской и Пирогова, где до самой ночи пил вино. Хотя «до самой ночи» — это не всегда получалось. Как скажет вам любой энтузиаст столового розового, сумерки разума часто наступают раньше сумерек природы. Особенно в этой местности.
Вахт шел из синагоги в рюмочную, по узким улицам одноэтажного города, со своими друзьями — все они были старые, пьющие, не удавшиеся в этой жизни евреи. У входа в рюмочную в день субботний обычно играли лабухи. Когда они играют еврейские песни, даже лица у них становятся еврейские: грустные, без Родины.
— Да-а-а! — с печальным пафосом заявлял уже в рюмочной Вахт своим друзьям, допивая стакан вина. — Знаете, что сказала моя мама, когда ей первый раз показали меня в родильном доме? Она сказала: боже мой, смотрите, какие у него уши, это настоящие аидише уши, теперь таких нет!
В рюмочной Вахт общался со своими горбоносыми приятелями, предавался религиозным и прочим, рефлекторно возникающим у него на почве алкоголя чувствам.
Потом — Вэйвэл уже не входил, а вваливался во двор, и, теряя по дороге запонки и пуговицы, волочился в свою, самую дальнюю, двенадцатую квартиру.
Когда, натыкаясь на подлые стулья, нарочно старающиеся задеть Вэйвэла Соломоновича, Вахт старался тихо раздеться — Рива, страдавшая, в числе много другого, бессонницей, всегда очень громко спрашивала:
— Вэйвэл! Ты напился? Ты напился?
Вэйвэл отвечал ей просто:
— Нет.
Он Риве лгал.
Утром воскресенья Вахт был мрачен. Осторожно ступая по двору, как это бывает с людьми, не помнящими половину вчерашнего вечера и потому не уверенными, ходили они тут вчера или нет, он искал. Запонки и пуговицы.
Рива Вахт всегда была нелюдима, видом довольно страшна, похожа на Бабу-ягу, только еврейскую. Сколько я себя помню, Рива во двор выходила редко — она всегда болела, никто не знал чем. У нее было очень плохое зрение. Еще я помню гребешок, старый, которым она чесала свои длинные седые патлы. И — шаль, у нее была старая, серая пыльная шаль, какая непременно должна быть у всякой ведьмы. И у Ривы она была. Ну а главной слабостью Ривы были голландские белые куры. Рива так говорила про них:
— Это настоящие голландские куры! Смотрите, какие у них ноги! Разве у простых кур такие ноги?
Рива тратила всю свою пенсию на то, чтобы кормить этих белых кур, отборным зерном и всякими удобрениями, чтобы лучше росли их ноги. Кур у Ривы было пять. Они несли яйца. По большим праздникам, когда во дворе устраивали общий стол, а в углу с важностью большого симфонического оркестра разыгрывались, издавая отрывистые душераздирающие звуки, лабухи, — на их лицах написано было раздраженное ожидание опаздывающего дирижера, а на лице дяди Петри, скрипача, написано, пожалуй, было даже нечто большее: обреченное понимание того, что дирижер не придет; по большим праздникам, когда Мош Бордей шел в погреб с двумя помощниками, это случалось только в большие, настоящие праздники (с двумя помощниками — это значит, что вина нужно вынести из погреба столько, что самому Мош Бордею не справиться), по большим праздникам Рива выставляла, с рациональностью учительницы математики — до пенсии она работала в школе — на общий стол двенадцать яиц: столько, сколько квартир во дворе. Красивый это был натюрморт — двенадцать домашних, пахнущих курятником, навозом и жизнью яиц, на большой тарелке, посредине длинного, накрытого белой скатертью стола. Рива сообщала соседям:
— Это настоящие голландские яйца. Кушайте, пожалуйста.
А сам праздничный стол накануне Мош Бордей выносил из нашего сарая, в виде кучи досок, а потом доски под ударами молотка Мош Бордея становились столом, а стол женщины накрывали белой скатертью. Так происходили в нашем дворе праздничные приготовления.
Еще во дворе вижу друзей, моих лучших друзей — Борю и Славика.
Значит, Боря Кац. Он был еврей, но неправильный еврей.
Здесь неизбежно нужно сделать отступление о правильных и неправильных евреях. Правильными евреями в этой местности называли евреев менее пьющих и работающих — либо врачами, стоматологами и гинекологами, либо фотографами в ателье. Можно сказать, что правильные евреи — это евреи, зарабатывающие себе на хлеб либо знанием человеческого организма, либо его изображением. Неправильные евреи — пьющие и работающие поэтому в металлоремонте, обувных мастерских, часовых мастерских — но последнее касается только умеренно пьющих неправильных, неумеренно же пьющие, как правило, рано или поздно из часовых мастерских уходили в обувные — меняя, таким образом, кистевой удар молоточком на локтевой удар молотком. Неправильные евреи, как можно заметить, зарабатывали себе на хлеб тем, что чинили аксессуары. Душевное состояние еврея такого рода можно охарактеризовать как аксессуарное. Наиболее полно его определил мой друг Боря Кац, происходивший из семьи смешанного типа: папа Бори был часовым мастером, но много пил и стал обувным, то есть неправильным евреем, а мама Бори была гинекологом, то есть правильной еврейкой — ею была, ею и остается. Боря в папу. Так вот, Боря мышление неправильного еврея, то есть свое собственное, определяет так:
— Нет такого предмета, который нельзя было бы починить. Или, в крайнем случае, выбросить.
Боре в тот год исполнилось двадцать лет. Он был высок, черняв, горбонос, интеллигентен и картав. Боря Кац умел все, что должен был уметь еврейский ребенок: хорошо играл в шахматы и на пианино. Он любил математику. И должен был заниматься финансовым учетом. Так хотела мама Бори.
Славик Петров был старше меня и Бори Каца. Он был из тех старших товарищей, чье дурное влияние делает годы юности незабываемыми. На бокс его отдал отец, лет в десять, и Славику там сразу же сломали нос. Я этого не помню. Говорят, Славик выглядел очень жалким, когда появился на улице со сломанным носом, и его чуть было не прозвали как-то обидно. Но Славик сам сломал нос тому, кто его чуть не прозвал обидно. Наверное, поэтому обидное прозвище до нас не дошло.
Когда Славику было двенадцать лет, его папа и мама сильно поссорились и бросили друг друга, а заодно и Славика. Папа Славика уехал строить мосты в Сибири, где женился и завел новых детей, а мама уехала в Крым, лечить на нервной почве астму, и там на нервной почве вышла замуж, и тоже завела новых детей. Славика хотели забрать в интернат, за ним даже приезжали две очень сильно причесанные женщины, оттуда. Но Славика не отдали — соседи, жильцы нашего двора — Мош Бордей и другие. Они и воспитывали Славика — с согласия его сибирского папы и крымской мамы.
Период с десяти до двадцати лет Славик Петров отдал спорту. Вырос в обаятельного бандита. За пределами двора, в пределах целой улицы, и говорят, что даже следующей улицы, не было ни одной рожи молодого и среднего возраста, которую бы Славик хоть раз не бил, — кроме двух.
Во-первых, моей. Ко мне он относился хорошо, хоть и не бескорыстно. Дело в том, что после двадцати лет Славик перестал отдаваться боксу и отдался допингам. Запил вино. Так, как это делают спортсмены, — упорно, по нарастающей, постоянно идя на рекорд. При этом он все еще считал себя спортсменом, как бы готовящимся к тренерской работе. Выражалась подготовка к тренерской работе в том, что Славик собирал вокруг себя троих-четверых пацанов помладше, сначала заливал им про жестокий спорт, примерно так:
— Конечно, нагрузки сумасшедшие. Мускулы плюс голова. Ну и воля. Не сила, а воля. Все время через боль. Бокс — это жестокий спорт, пацаны…
А потом, под этим сомнительным предлогом — что спорт жесток, — раскручивал пацанов на три рубля, с которыми отправлялся к Мош Бордею за банкой. За три рубля в те времена Мош Бордей продавал трехлитровую банку отличного домашнего «Каберне» — таков был тогдашний курс валют.
Потом Славик, досыта налакавшись красного сухого, рисовался перед пьяненькими пацанами помладше, подружками и просто жильцами двора. Он выходил на веранду — в его квартире была такая, летняя веранда. Там между потолком и полом была натянута груша — как знак вечного пребывания Славика в боксе. Выходил и принимался бешено лупить по груше, так что во дворе стоял такой стук, сопровождаемый выкриками пацанов, что можно было подумать, что на профессиональном ринге происходит зрелищное убийство. Правда, в последнее время показательные бои Славика с грушей случались все реже: все чаще Славик был слишком пьян, а если и пытался поколотить грушу, то хватался за печень после первой же серии.
Пить и не находиться в состоянии вассальной зависимости от Мош Бордея было нельзя — он был хозяином и хранителем дворового винного погреба, он и делал вино. Такая во дворе действовала стихийная экономическая модель: соседи под управлением Мош Бордея каждую осень собирали виноград, Мош Бордей делал из него вино, часть которого выпивали за общим столом в праздники, а часть — продавалась. Как правило, коммерческая реализация действовала от силы до февраля. И оставался только золотой запас, которым Мош Бордей распоряжался скупо и мудро, как бог. А я был внуком Мош Бордея — если я этого не говорил прежде, то сейчас самое время сказать: я был внуком Мош Бордея. Поэтому мою рожу Славик ни разу не бил.
А второй была рожа милиционера, который недавно женился, его жену звали Рая. А милиционера звали Гена. Бить милиционера — как говорил Славик, это — крайняки. А мы против крайняков. Так Славик говорил.
В тот день Гена смотрел, как танцует Рая, в бочке с виноградом. Гена успел привыкнуть к фокусам, которыми характер Раи был чрезвычайно богат, и все же, как все прочие мужчины во дворе, он не мог удержаться. Он смотрел на ее голые, забрызганные виноградным соком ноги.
И еще мне казалось, что иногда он быстро переводил взгляд на меня — я стоял прямо напротив него, и только Раины ноги заслоняли нас друг от друга.
Гена был красивый здоровенный мужик, тридцати шести лет. Он говорил басом и каждые две недели стриг затылок. Он жил в нашем дворе, по меркам местной истории, недавно — три года. Вообще, он был темная личность. До того, как Гена женился, он вел образ жизни скрытный, для милиционера, можно даже сказать, подозрительный. Уходил рано утром, приходил поздно вечером, и почти всегда с какими-то хмурыми мужиками. Изредка заходил к Мош Бордею, брал банку вина и полуночничал со своими хмуряками.
Мош Бордей — мой дед — не любил Гену, за глаза называл его «Кыне», что с местного наречия значит — «Пес».
Но однажды в жизни Гены появилась Рая. Сразу было заметно, что Гена сильно, как-то по-собачьи сильно полюбил Раю — и стал как-то менее темен и подозрителен. Хмуряки стали появляться с Геной все реже, а Рая — все чаще.
А потом, однажды утром, во двор вышла Рая и стала развешивать на веревке полотенца и наволочки — в общем, стала в нашем дворе жить.
В тот день, в праздник урожая, во двор вышла еще баба Саша. Она была очень старая и страшная цыганка. Глаза у нее были, как у орла — выпуклые, черные и смотрели в разные стороны. Волосы у нее были белые, она заплетала их в две короткие толстые косы. В детстве, когда я думал про смерть, я думал, что смерть выглядит как баба Саша, и у смерти тоже две белые косы, и она тоже улыбается человеку золотыми зубами, прежде чем забрать его навсегда. Баба Саша меня угощала конфетами. Позовет меня, мне страшно, но подхожу, и на меня смотрит один ее глаз, а другой глаз смотрит в тучи на небе. Баба Саша кладет мне руку на голову, сверху. У нее сухая, большая ладонь. И вдруг куда-то девается все — и время, и место. Альберт Эйнштейн так хотел, но не мог. А баба Саша могла. И вот я стою один посредине двора и держу в руке конфету. А бабы Саши нет уже рядом. Исчезла. Цыганка, что с нее возьмешь.
Еще во дворе вижу дядю Яшу. Фамилия у него была Яковлев. Дядя Яша воевал, был на войне сыном полка и имел награды. После войны он стал работать в тюрьме. Это была легендарная тюрьма — она находилась недалеко от нашего двора. Легендарна она была трехвековой историей, очень высокой стеной вокруг и героем Гражданской войны Григорием Ивановичем Котовским, бежавшим однажды из мест заключения посредством прыжка через очень высокую стену. Кем работал в тюрьме дядя Яша, никто в нашем дворе не знал. Вообще, никто и не интересовался особенно — тюрьма и тюрьма, мало ли кем там человек работает. Жена дяди Яши, тетя Лена, была или слишком молчалива от природы, или давно поломана дядей Яшей. Она всегда молчала.
Дядя Яша собирал фотографии. На стенах в его квартире висело их множество. В основном это были портреты, черно-белые, любительского качества. Периодически дядя Яша вешал на стену новые — откуда они брались, мы не знали. Я думал, и мы это даже обсуждали с пацанами, что, может быть, это портреты его родственников.
— Например, — говорил я, — у него есть родственники, они живут в другом городе, он с ними переписывается, и они ему шлют свои фотки.
— Более того! — говорит в ответ мой друг Боря Кац. — Может, он ищет и находит своих предков. Устанавливает свое происхождение. Это называется — генеалогическое дерево.
Славик очень не любил, когда Боря так говорит: «это называется».
— Че за дерево?! Че ты гонишь? — наступал тогда Славик на Борю. — Ты видел, сколько он этих чертей у себя по комнатам развешал?! Это не дерево, это целая роща!
Действительно, для «родственников» — фотографий было слишком много, это был уже, скорее, клан. Но на члена клана дядя Яша не был похож. Он был похож на синяка — это от глагола «синячить», то есть пить. Дядя Яша был одним из самых заядлых синяков нашего двора и всей улицы. У него была и самая большая доля в дворовом винном фонде, потому что возле его дома росло очень много винограда.
И наконец, рядом с бочкой в тот день, в праздник урожая, — стоял Мош Бордей. Мой дед. Ему было тогда девяносто с лишним. Сколько себя помню, его возраст звучал так: девяносто с лишним.
У Мош Бордея в раннем детстве были сильно поломаны ноги — попал под телегу. Он остался калекой. Всю жизнь хромал. Зато у Мош Бордея крепкой, как дуб, была верхняя половина тела. Он был плечист и мускулист, как гимнаст, при этом действительно здоров — никогда ничем не болел, дрова рубил самой холодной зимой во дворе, в нательной белой майке, сидя, одной рукой. Так и вижу эту картину: кладет здоровенное сучковатое полено, которое, кажется, столько заключает в себе крепости, что не взорвать и бомбой такое полено, ставит его на специальный пень для рубки дров, пень, похожий на коренной зуб, замахивается одной рукой, крякает и ка-ак жахнет топором в центр полена, откуда годичные кольца расходятся. И все. Топор воткнут в пень, а две половинки полена лежат слева и справа в снегу.
Мош Бордей был потомственный винодел — от этого дела питались, росли, процветали, разорялись, погибали, и снова рождались, и вырастали, и процветали, и погибали все его предки. Однажды мы с Борей и Славиком решили подсчитать, сколько за свою жизнь выпил Мош Бордей.
— Интересно! — первым предложил математический эксперимент, конечно, пытливый ум Бори Каца. — Сколько твой дед выпил вина за свою жизнь?
— Не знаю, — говорю я. — Много.
— Ну хорошо. Сколько он выпивает стаканов каждый день? — разгорается научное любопытство в Боре.
— Ну утром — два, днем — два-три, вечером — четыре-пять, — оглашаю я общеизвестные факты.
— Десять стаканов. Так, хорошо, — начал подсчет Боря.
— В праздники — больше! — возражает Славик, в котором, как оказалось, тоже не дремлет беспристрастный ученый.
— Праздниками мы пренебрегаем, это называется — среднее значение! — говорит Боря.
Славик недобро, плохо смотрит на Борю — он не любит, когда Боря так говорит: «это называется».
— Теперь умножим на количество дней. Сколько лет твоему деду? — рвется к истине Боря.
— Не знаю, — честно отвечаю я.
— Хорошо, возьмем среднее значение — сто лет, — говорит Боря. — За год он выпивает: 365 дней умножить на 10 стаканов, получаем 3650 стаканов. В стакане двести грамм, это получается 730 литров. Теперь умножим 730 литров на сто лет, получается — семьдесят три тонны! — восхищенно заключает Боря.
— Слышь! — возражает Славик. — Он че, по-твоему, как родился, так каждый день по десять стаканов долбит?
— Да, — признает Боря. — Первые годы жизни следует вычесть. Но сколько первых лет жизни — твой дед не пил?
— Не знаю, — говорю я. — Ну… Лет пять, может.
Дед почти не ест. Это совершенно особенное состояние организма — это не алкоголизм, это более высокая, космическая форма взаимодействия человека и винограда, когда достигается полная гармония стимулятора и стимулируемого. То есть от вина организм получает все необходимые питательные вещества. Почти исключается, таким образом, потребность в еде. В ней Мош Бордей, тем не менее, толк знал — за праздничным столом если и прикасался к мясу, так только к тому, которое еще час, от силы пару часов назад — бегало по двору, будучи курицей. Вообще, мой дед знал толк во всем, чем занимался, все умел делать своими руками, причем не только любую мужскую работу, но и многую женскую — он лихо шил на машинке, вышивал и вязал и отлично готовил: молдавскую, болгарскую, румынскую, венгерскую, еврейскую, гуцульскую, гагаузскую, в общем, любую представленную в этой местности национальную кухню.
Вспоминаю, как дед растапливает печку. Не торопится. Он никогда не торопился. Он был молчун. Слова не вытащишь. Но коренная, виноградная его мудрость всегда была со мной.
Вот старый, вечный, настенный календарь Мош Бордея. Дед опять отмечает в нем что-то. Мош Бордей не был даже грамотным — он не умел читать и писать. Зато разработал собственный календарь. Он висел у нас в коридоре.
По календарю Мош Бордея в году не было дней, а были только праздники. Календарь у деда был не квадратный, а круглый, и не бумажный, а деревянный — дни нанесены на круглый толстый срез старого дерева, с бесчисленными тонкими годичными кольцами. На срезе старого дерева обозначены праздники. Их много. Советские — обозначены звездочками. Еврейские праздники отмечены звездами Давида, православные — желтыми крестиками. Древние, языческие праздники — всякими рисунками, похожими на пещерную живопись. Полнейшая теологическая путаница, царившая в этой системе праздников, для деда была основой дворового миропорядка. А поскольку Мош Бордей управлял винным погребом, принятый им миропорядок так или иначе, вольно ли невольно ли, разделяли все жители двора. Рядом с каждым символом, обозначающим праздник, на календаре вырезана цифра: «100», «150», «200». Значение этих магических цифр очень любил объяснять Вэйвэл Соломонович Вахт. Часто его можно было застать у календаря Мош Бордея — Вахт с гордостью показывал его своим горбоносым друзьям из других дворов и улиц, когда те приходили по праздникам к нам.
— Вот, пожалуйста. Восьмое марта — сто пятьдесят литров. Первого мая — двести литров. А на Пасху — четыреста. Это сколько мы выпьем. Это же известно заранее. Мош Бордей знает людей. Нас с вами. Добрый вечер! — говорит с радостью Вахт, когда к календарю подходит сам Мош Бордей, и скромно добавляет. — Мош Бордей, я извиняюсь. Там, во дворе, просят еще баночку.
— Кто просит? — спрашивает Мош Бордей хмуро.
— Я, — после паузы тихо признается Вахт.
— Я, — не бросает Вахта в позорном одиночестве Славик — он тоже всегда там, где праздник.
— Я! Я! — раздаются из-за спины Славика голоса горбоносых друзей Вахта.
Теперь Вахт — не один, теперь он представляет народ. Вахт улыбается, потому что не был уверен, что народ встанет за ним, так быстро. Мош Бордея — по одиночке — боятся. Ходить к нему за вином стараются толпой. Народу не откажешь. Так считается.
— Принеси, — говорит Мош Бордей хмуро и протягивает Славику ключи от погреба.
На лицах пьяниц от великодушного решения Мош Бордея расплывается одна, общая на всех, улыбка.
Личные праздники составляли меньшинство в календаре Мош Бордея. Точной даты своего рождения, например, дед не знал, потому что его пьющий отец, мой, стало быть, прадед, по пьянке не завел на сына при рождении никаких документов, и документы деду выписаны были много позже, представителем управы, и дата рождения поставлена была самая общая: 1 января 1900 года. Но первого января и так праздник — светского происхождения, так что день рождения деда в этом смысле всегда праздновался не только нашей семьей, но и всей страной.
В году Мош Бордея было пять времен года: Осень, Зима, Весна, Лето и Снова Осень. Понять эту систему жизнеисчисления может только винодел.
Однажды к Мош Бордею пришли Боря и Славик. Они явно спорили о чем-то последние полчаса, и Славик был уже близок к тому, чтобы побить Борю. Боря чувствовал это и пытался спасти — не столько истину в споре, сколько себя.
— Мош Бордей! — сказал Боря. — У нас вот тут со Славиком непонимание.
— Слышь, Циолковский! Это у тебя непонимание! А у меня — нормально все! — тут же обрисовал картину спора Славик.
— Вот, Мош Бордей, вот что такое вино? Вот Вахт говорит, вино — это радость предков! — спрашивает все-таки Боря, косясь на кулаки Славика.
— Конечно, Вахт говорит, — смеется Славик. — На предков списать проще всего, свое поведение…
— А я считаю, вино — это форма энергии! — говорит горячо Боря. — Вот у матери, к примеру, молоко. Она кормит им ребенка, правильно? А у земли — вино. Она кормит им взрослых. Это называется — метод аналогии.
— Бредит, — говорит Славик, указав деду на Борю. — Много читает и плохо себя чувствует. Наука, я так считаю, Мош Бордей, еще никого до добра не довела. Че, я не прав? Я лично считаю, вино — это проверка. Вот выпьет человек — сразу видно, че он такое. Вы же сами говорили, Мош Бордей, — у плохого человека даже вино не получается. Да?
— А вот что такое вино, с вашей точки зрения? — настаивает Боря, прячась за авторитетом Мош Бордея от Славика.
— Идите отсюда, — говорит в ответ Мош Бордей. — Если буду глупости думать, кто вино будет делать?
Не менее важной, чем виноделие, частью жизни Мош Бордея было сидение на скамейке, перед палисадником. На скамейке Мош Бордей сидит в паузах между работой по дому или винограднику. Перед собой дед ставит на землю кувшин с вином и большую глиняную кружку. В качестве закуски присутствует пара толстых ломтей свежего темного хлеба, зеленый лук, фиолетовая влажная редиска и красные яблоки. Так выглядит стол Мош Бордея.
Дед выпивает первую кружку вина и ставит ее на землю с таким вздохом и видом, что вот сейчас, значит, хорошо будет посидеть, закусить, поразмыслить. А сам тут же наливает вторую — и пьет ее уже медленнее. Потом пьет третью. Еще медленнее. А потом сидит, тянет трубку, щурится на солнце своими желтыми глазами. Очень космическое, в плане слияния с незримыми ветрами природы, это зрелище — когда Мош Бордей сидит на скамейке.
Ну вот. Кажется, все лица нашего двора я вспомнил. Но людей во дворе, конечно, в тот день было больше. Полно людей — ведь сегодня большой праздник. Праздник урожая.
* * *
Мой отец спился. Это было давно — мне было тогда десять лет. Я помню, как это было. В нашей квартире тогда жили мама, папа и я. В большой комнате стояло пианино, черное, старое, с желтыми потрескавшимися клавишами. Папа приходил домой всегда пьяный. Обычно — поздно ночью, часа в три. Садился за пианино и играл. Он хорошо играл и пел. Всегда один и тот же романс — «Были когда-то и вы рысаками». Мама всегда на всякий случай оттаскивала меня подальше, когда папа таким образом концертировал. Но я совсем не боялся его. Мне нравилось, как он поет. Однажды зимой, в феврале, он пришел домой и не стал садиться за пианино. Он был тихий и какой-то растерянный. Прилег на диван и попросил маму укрыть его.
— Плохо мне. Знобит. Мерзнут руки и ноги, — пожаловался он маме.
— Это был инфаркт. Через полчаса папа умер, — рассказала мне потом мама.
Я этого не видел. Я спал.
Похороны отца я помню смутно. Было холодно, шел снег. Скрипач дядя Петря играл «Были когда-то и вы рысаками». Похоронами руководил Мош Бордей. Поэтому все было легко. Я хотел заплакать, но мне не разрешил Мош Бордей. Он сказал:
— Плакать на похоронах хорошего человека нельзя. Не плачь. Вспоминай. Все хорошее, что помнишь про него.
Я стал вспоминать. Но помнил только, как папа пел свой романс. Тогда я прижался к деду. Его тяжелые ладони гладили меня по голове.
После похорон отца прошел год. Моя мама за этот год стала худой, серой. Однажды она пришла к Мош Бордею, они долго разговаривали. А потом мама мне сказала:
— Я уезжаю, Вовушка. На время.
А Мош Бордей сказал мне:
— Будешь жить со мной.
Мама уехала на остров Куба. Там она осталась, надолго. На Кубе хорошо. Это видно на фотографиях. Мама часто звонит нам с Мош Бордеем. И плачет в трубку. Там, на Кубе, мама все время видит во сне наш двор, каким он был много лет назад. Во дворе она видит моего отца. Много лет назад он только начинал синячить. Он был красивым и был чемпионом города по прыжкам в воду с вышки. Это считалось очень модно тогда — прыгать в воду с вышки. Отец носил белые парусиновые туфли и белые брюки. Таким я видел его на старых черно-белых фотографиях в нашем семейном альбоме, который хранит Мош Бордей. Отец зовет мою маму, в ее снах, на танцы. Она соглашается. И просыпается. Звонит нам с Мош Бордеем и плачет в трубку.
Иногда мама присылает открытки и подарки, их приносит почтальон, пьяница и друг Вахта, он еще от ворот радостно сообщает:
— Вам открытка с Острова Свободы!
На открытках — мама с сотрудниками консульства и местным населением Острова Свободы, у населения вместо лиц — улыбки.
Вахт спрашивает моего деда, Мош Бордея:
— Вы можете узнать у дочки? Фидель Кастро — еврей?
Вахт всех людей, у которых в жизни что-то получилось — считает евреями.
Почтальон однажды принес нам от мамы коробку, в ней были четыре темно-зеленые красивые бутылки с кубинской синькой.
— Тростниковое вино! — уверенно, как будто всю жизнь прожил на Кубе, определил Вахт, оказавшийся, как всегда, рядом с местом розлива.
Открыли бутылку. Налили в стаканы.
Мош Бордей попробовал кубинскую выпивку. Помолчал и сказал:
— Бедные кубинцы.
В тот же вечер в рюмочной на углу Армянской и Пирогова три бутылки тростникового вина распил со своими горбоносыми друзьями Вэйвэл Вахт. Лабухи, которых он широко угощал, играли кубинскую революционную песню «Команданте Че Гевара», с сильным отпечатком болгарской мелодики в аранжименте. А Вахт сказал:
— Это вино прислали нам с Кубы. Вы видели Фиделя Кастро? Вы видели, какие у него уши? Я вам говорю — он аид!
Праздник урожая, в календарной системе Мош Бордея — большой праздник. В этот день заканчивается сбор нового урожая. Соседи вечером символически допивают последний кувшин из урожая прошлого года. Текущий, а точнее, текший до этого момента год, таким образом, официально объявляется прошлым.
— Последний кувшин прошлого года! — говорит вечером Славик, высоко поднимая кружку, и весь двор взрывается криками радости. — С Новым годом, товарищи!
Лабухи неожиданно, кажется, даже для самих себя — извергают из всех своих раструбов Гимн Советского Союза, в печальной молдавской адаптации. На глазах Вахта — слезы. Он пытается даже петь гимн, но не помнит слов.
Лица жителей нашего двора легко объяснят, если на них посмотреть, почему Мош Бордей не прибегал, или почти не прибегал — сотня литров не в счет, — к такому методу виноделия, как выдержка. Потому что весь урожай одного года, собранный осенью и превращенный в вино, выливался в глотки и души жителей двора, за пять времен: Осень, Зиму, Весну, Лето и Снова Осень. Дед не прибегал к выдержке, но дело вовсе не в том, к чему не прибегал Мош Бордей, а в том, как часто к нему самому прибегали — жители нашего двора, и жители других дворов, и каждый со своей судьбой: судьбы у всех людей разные, а вот просьба к моему деду — всегда одна и та же.
* * *
Здесь, наверное, нужно привести диалог.
Диалог такого или почти такого рода происходил всегда между дедом и пришедшим за вином ходоком, таких разговоров я наслушался с самого раннего детства, так что привожу его в наиболее типическом виде. В данном случае принять за ходока можно — да хотя бы Славика. Вот Славик, например, за вином к Мош Бордею ходил так.
Двор, скамейка возле палисадника. На скамейке сидит Мош Бордей и курит трубку. На плешивом асфальте перед скамейкой — кувшин и кружка.
— День добрый, Мош Бордей! — это Славик: подходит, и начинает — подобострастно и в то же время как бы рассеянно и ни к чему.
Мош Бордей молча затягивается трубкой.
— Как же он меня подвел… Как подвел меня, да? — Славик, провокаторски.
Мош Бордей молчит. Славик садится с ним рядом на скамейку.
— Я ж хотел к вам — как положено прийти. С деньгами! Собирался взять у вас двадцать литров и еще хотел отдать вам вперед, за следующие двадцать — ну, чтоб сразу. Чтоб два раза не бегать, правильно? Плюс хотел вам отдать все, ну, по долгам, и по тем, с восьмого марта, и по тем, про которые вы сказали, что за них уже и не надеетесь. Я же теперь при деньгах буду! У меня же дядя умер, в Черновцах. По ошибке, по пьянке. Простыл, ну и все. Был человек. И нет человека. Мне от него гараж остался. А гараж у меня попросил дружок дядин, он ему как брат был, даже ближе. Продай, говорит. Ну, я продал, зачем мне гараж в Черновцах? Ударили по рукам, по телефону. Он должен был привезти мне бабки, мои, за гараж. Вчера еще. Я же наследник теперь. Ну а я бы сразу к вам, с деньгами, как положено. А он че сделал? Не приехал сегодня. Подвел меня. Ну что за люди, а?
На этом месте пауза. Славик переводит дыхание. Мош Бордей пыхтит своей трубкой, греется на солнце. И даже не смотрит на Славика.
— Че вы думаете?! — вдруг агрессивно произносит Славик, вскочив со скамейки. — Я без денег пришел? Че, думаете, без денег пришел, и типа еще на что-то рассчитывает, пониманье там, взаимопониманье там, да? Че думаете, синяк я, что ли, по типу, плетет че-то, когда трубы горят?
Мош Бордей выдыхает дым и хмуро смотрит на Славика.
— Ну горят, да, горят, — неожиданно тихим, доверительным до вкрадчивости голосом признает Славик. — Ну надо, надо, дядя ушел, этот подвел, а я же отдам. Мне же так, ерунда, одну баночку, в счет долга. А, Мош Бордей?
Мош Бордей лезет в карман своей старой жилетки и протягивает Славику связку длинных зубастых ключей, отполированных пальцами всех энтузиастов, торопливо вертевших ключи в замках винного погреба.
У Славика глаза триумфатора. Надо сказать, это в высшей степени бессовестные глаза.
* * *
В тот день. Я помню. Когда Рая слезала с бочки, все мужчины, стоявшие поблизости, кинулись к ней, толкая друг друга, и протянули Рае руки. Все, кроме Гены. Он великодушно взирал на успех, которым пользуется во дворе его Рая.
Я тоже протянул руку. Она выбрала — как-то увидела, почему-то увидела, из всех рук — мою. И спрыгнула с бочки, и обняла меня за плечи на секунду.
Я никогда этого не забуду.
Когда допили последний кувшин урожая прошлого года, был уже поздний вечер. Стемнело. Во дворе зажигаются лампочки. Их столько же, сколько квартир, — двенадцать. Они протянуты высоко над двором, в винограде. Когда лампочки включены, виноградный покров выглядит как одна большая зеленая люстра. У лампочек, как в гирлянде, даже разные цвета. У Вахтов лампочка мутно-желтая. У нас — самая яркая, белесо-желтоватая. У Гены и Раи — бледно-розовая. У Бори — голубоватая. Я смотрел на бледно-розовую лампочку над входом в квартиру Гены. Во дворе теперь играл только Аккордеон. Все соседи и лабухи были в приличном красивом подпитии, были добры и светлы, как бывают добры и светлы люди, уверенные в том, что все лучшее — урожай нового года — впереди. Мой дед о чем-то беседовал со Славиком — судя по жестикуляции Славика, он опять разводил Мош Бордея на кассацию старых долгов. Боря Кац разговаривал со своим папой, дядей Феликсом. О шахматах. О шахматах в нашем дворе евреи говорят, когда хотят оставить разговор непонятным для окружающих. Евреи не могут без подтекста. Лиши еврея подтекста — и ты лишишь его всего.
Дядя Яша пил в одиночестве и, по-моему, был уже очень хороший.
Баба Саша вдруг запела — цыганскую песню, и к Аккордеону тут же добавились вдруг, один за другим — скрипач дядя Петря и Цимбал, а за ними и другие лабухи, песня была такая старая, что даже баба Саша в ней не все слова знала. Когда она замолчала, глядя в разные стороны своими черными глазами, сейчас же запел Вэйвэл Вахт, еврейскую песню, лабухи знали ее, они знали все песни, которые есть на свете, и им никакого труда не составило подыграть тут же старому Вахту, а когда и Вахт умолк от одышки — тогда тетя Дуся запела. Украинскую песню — она была украинка.
А я смотрел на Раю. Она была старше меня на целых восемь лет. Ей было двадцать пять. У нее были серые такие глаза, а волосы ярко-каштановые, целый костер, роскошные, вьющиеся. В общем, я был влюблен в нее. Сильно. С момента ее появления в нашем дворе.
* * *
Это было в мае прошлого года. Да, в конце мая. В такие дни света становится много, так много. Сначала тонкие лучики пролезают кое-как сквозь виноградные листья, потом их становится больше, они становятся ярче и шире, они ищут друг друга, и находят, и уже вместе ныряют под виноград, как под одеяло, и все тогда вспыхивает, и растворяется в солнечном свете. В такой сияющий день распахнулись ворота и во двор въехала грузовая машина. В кабине сидели водитель, здоровый и рыжий, и Гена. В кузове была мебель.
Когда водитель с Геной стали выгружать мебель, вышли соседи. Соседям всегда интересно, что такое, соседи иначе не могут, особенно в этой местности.
Сначала спустили на землю диван. Большой, черный, кожаный, в прошлом весьма недурной, да и сейчас, несмотря на явное «б/у», он все еще был, для нашего двора, прямо-таки аристократический. Конечно, первым поближе подошел Вахт.
— Гена, — спросил он умело, — ты что, все? Привез вещи?
— Ну, так получается! — ответил радостно Гена.
— Так у тебя, что? Большая радость? — развил успех Вахт.
— Обмоем! Еще как! — Гена заржал, такая у него была привычка смеяться — ржать, и фамильярно похлопал пожилого Вахта по плечу. — Забираю Райку к себе, все! Женюсь, так получается!
— Ну-у! — только и смог сказать Вахт: информация превзошла все его ожидания.
Живой еврейский ум Вахта уловил в этой новости не только известие о сегодняшней пьянке по поводу Раиного новоселья, но и анонс грандиозной синьки — свадьбы.
В это время стукнула калитка. И во двор влетела Рая. Она вообще девушка была довольно порывистая, в хорошем смысле слова, ветреная, и чаще всего не входила, а влетала, не шла, а как бы бежала вприпрыжку, не садилась, а бухалась, ну и так далее. В то утро она пронеслась по двору и плюхнулась весело на черный диван. Протянула вверх голые руки. Она была уже в легком платье, без рукавов. Потянулась, как после сна. И сказала:
— Ой, Ген! Как мне здесь нравится! Я хочу прожить тут всю жизнь!
— Хороший диван, — заметил Вахт, откровенно разглядывая Раины ноги.
— Старый, — презрительно отозвался Гена. — Да и позолота вон кое-где… — Гена громко поскреб ногтем подлокотник. — Ну что, Райка! Добро пожаловать на жилищную площадь!
А я не слушал в это время — ни Вахта, ни Гену. Я был занят. Я влюблялся в Раю.
Ожидания Вахта оправдались. Действительно, была большая пьянка — новоселье Раи. А потом была свадьба, Раи и Гены. Я не пошел. Но что значит, в сущности, не пойти на свадьбу — во дворе, в котором живешь? Три дня беспрестанной синьки и всеобщего веселья. А ежевечерние тренировочные пьянки соседей и родственников — все это начинается и вовсе за неделю до свадьбы. Я в этой свадьбе, на которую якобы не иду — живу, все это время. Я сижу вечером в комнате, сам у себя взаперти. Я затянул на окне шторы, чтобы не видеть, что там, во дворе. Я не вижу, но я все слышу.
Стучит молоток Мош Бордея — дед с дядей Феликсом ставят столы. Шум. Гвалт. Это родственники — Гены, Раи и еще бог знает кого. Уже нажрались, хотя свадьба только послезавтра. Смех. И куча других предсвадебных звуков. Вот этот, например — поставили на стол стаканы. Решительно поставили. Это не женщина. Это мужик, кто-то из энтузиастов. Скорее всего, Вахт. Куча чисто вымытых стаканов, в тазе. Посуду в нашем дворе перед праздниками носят в тазе. Эмалированном, белом. И Вахт сейчас сидит, наверное, и смотрит на эту кучу сияющих граненых стаканов, как на святые мощи.
А потом сама свадьба. Музыка — трое суток.
— Горько! — дружный ор присутствующих.
Смех. Стук стаканов.
— Вован! Выходи! — орет наглый голос Славика. — Во-ва-ан!
Я ненавижу, конечно, каждого присутствующего на этом сборище. Я думал, что и саму Раю возненавижу, или разлюблю. Да, я думал так, и жег в темноте спички. Но нет. Этого не случилось. Я не разлюбил Раю — напротив, я понял, что в моей жизни наступило настоящее мужское горе. Горе неразделенной любви. И поскольку это взрослое чувство стало теперь для меня доступно, я решил испытать и другие чувства, присущие настоящему мужчине в этой местности. Так я обратил внимание на винный погреб деда.
Это удивительно, но я впервые обратил внимание на винный погреб деда — не как на часть двора, а как на путь, довольно поздно. В семнадцать лет. До этого, конечно, я мог накатить стаканчик за столом, но всегда получалось, что за семейным столом, а там — стаканчик, больше не выпьешь — Мош Бордей не даст. А Славик и его приятели в свою компанию меня брать не спешили — я ведь был внук Мош Бордея.
— Мош Бордей узнает, — цинично рассуждал Славик, — скажет, я спаиваю его внука, и больше в долг давать не будет. Мне таких раскладов не надо.
Это случилось в тот день — Праздник урожая. Был вечер. Во дворе играл Аккордеон. Я смотрел на Раю и решил напиться. Она тоже смотрела на меня. Гена не замечал этого, и никто, кажется, не замечал. Да и кто мог заметить — всем уже было хорошо. Рая потягивала вино из большой, Гениной глиняной кружки, и каждый раз, когда, держа двумя руками кружку, она делала глоток, она смотрела на меня. Ее глаза. Они смеялись. Когда она отнимала кружку от губ, лицо ее было серьезным. Но я же видел, я все видел.
И я отвел в сторону Славика. У нас с ним состоялся мужской разговор.
* * *
В то время он был местом тайных сделок и мелких делишек пацанов, а также настоящих, мужских разговоров — длинный, метров десять, узкий — двое взрослых мужчин не разойдутся, — проход в самой глубине двора разделял сараи, принадлежавшие соседям. Слева и справа — двери сараев, деревянные, размашисто выкрашенные в разные цвета.
— Ну ты дура-ак! — вместо вступления сказал Славик, когда мы остались одни.
— Че это я дурак? — возразил я с лицемерным удивлением.
— Че ты пялишься на нее, как конченый? Че ты надеешься там словить? — спросил Славик.
— Ничего я не надеюсь! — ответил я очень фальшиво.
— Че — ниче?! — заводится Славик. — Сидишь и смотришь на нее, как Пушкин. На свою, эту, как ее. Я на тебя смотрю, думаю, че он так смотрит на нее, че он, не видит — там нечего ловить, а он как будто не видит, и смотрит, и смотрит! Ну дура-ак!
— Да ну ладно! — говорю я. — Все я вижу.
— Че ты видишь?! — спрашивает Славик и вдруг неожиданно, как всякий психопат, смягчается. — Видишь, что муж у нее? Понимаешь, муж. Есть такое слово, старичок. Му-у-ж. Это такой человек, который набьет тебе все табло. Если увидит. А он видит.
— Че он видит? — спросил я и непроизвольно потрогал себя за подбородок.
— Все видит. Она же! Просто, с тобой… Она же — взрослая баба! Ну, понимаешь?! — Славик безнадежно махнул на меня рукой, как врач, понявший, что ради этого больного можно даже руки не мыть.
Мы молчим, некоторое время. Славик смотрит на меня и ехидно улыбается, явно представляя, как обезобразится моя рожа от милицейских кулаков.
— Она, конечно, ниче, — говорит Славик уже откровенно издевательски. — Я бы тоже… наверное, смог бы… Но если б это был я! Хоть что-то бы ментяре, так сказать… Противопоставил бы скорость! — И Славик изобразил несколько мощных ударов снизу.
Он был в хорошем подпитии, был возбужден, удары изображал преувеличенно, и по всему было видно — сегодня он не против набить чью-то рожу.
— Ладно, — сурово сказал я. — Хорошо, что это не ты. А что, думаешь… Она меня вообще…
— Че «вообще»? — спросил Славик отечески высокомерно.
— Ну… не воспринимает? — выдавил из себя я.
— Воспринимает, — сказал Славик. — Но крутит динамо. Нормальное явление.
— Слушай, — сказал я решительно. — Давай забухаем.
Славик посмотрел на меня с испугом. И спросил:
— Че это вдруг, мне бухать с тобой?
— А че не забухать? — наступал я. — Разведу деда на баночку.
— Ты, «разведешь»?! — Славик засмеялся даже. — Он тебя самого разведет. Один к двум.
— А если выставляю — банку из золотого запаса? — в ответ хлестко провоцирую я. — Тогда забухаем?
— Забухаем, — тут же соглашается Славик с огнем в глазах.
И я иду к деду.
А в это время Рая встает из-за стола и подсаживается к Мош Бордею. О чем-то говорят, Рая смеется, она смешливая такая. А я уже иду. Славик это видит. Отступать уже нельзя — засмеет подлец Славик, а идти… Но как? В общем, подхожу.
Дед вопросительно смотрит на меня. Рая — тоже, с насмешкой. Вечной своей.
— Есть разговор, дед, — я начинаю низким, мужским, с моей точки зрения, голосом, но даю непоправимого петуха, откашливаюсь тут же.
— Я мешаю? — спрашивает Рая.
Дед вопросительно смотрит на меня. Я — на Раю.
— Нет, — идиотически уверенно заявляю я.
— Ну, тогда говори! — смеется Рая.
— Мне бы, дед. — Я набираю воздух в легкие и несу одним потоком сплошную ахинею, отчего-то непроизвольно копируя хамские интонации Славика. — Ну, в общем, мы тут с пацанами приглашены, в одну компанию, к девчонкам, и надо бы винчика с собой зацепить, чтоб не с пустыми руками, ну и дед, конечно, к тебе, выручи, как обычно, надо взять, как обычно, ерунда — баночку, одну. Пообщаться, с девчонками…
Мош Бордей смотрит на меня удивленно.
У меня пылают, кажется, не только щеки, но вся голова.
Мош Бордей все понимает. Хмуро протягивает мне ключи и говорит:
— Возьми, одну банку.
Мы спускаемся в бордей со Славиком. Славик потрясен моей крутизной, но виду не подает.
Мы открываем самый главный замок во дворе и спускаемся в бордей. Теперь пора сказать несколько слов и о самом бордее.
Бордей — это такой погреб, присутствующий в каждом дворе в этой местности и занимающий большое, а в отдельные времена года центральное место в жизни и системе ценностей местного народа. Именно виноделие, связанное с ним и трепетно передаваемое из поколения в поколение полное отсутствие воли, а также высокоразвитый музыкальный фольклор делают здешний народ одним из самых веселых на планете. Бордей используется для хранения, хотя правдивее было бы сказать, для охлаждения вина и сопутствующих продуктов — то есть закуски. Внутрь бордея ведет крутая каменная лестница, инженерно решенная таким образом, что схождение происходит моментально, а восхождение — завтра. Вино в бордее хранится в бочках, еда — в бочках. Объемы позволяют спокойно предаться беседе, не унижаясь суетой. Посуда — глиняная. Кувшины и кружки. Потолки низкие. Здесь холодно. Но если спуститься в бордей из июльского полдня — это кайф. Здесь очень чисто. Из достижений цивилизации в бордее — только голая лампочка на шнуре, включаемая из нашей квартиры. Я с детства знал, что, если дед втыкает красную вилку в розетку — свет в бордее, — значит, будут гости. Бордей — явление коллективное, хотя и не всегда. Если не нашлись собутыльники, то, в конце концов, целеустремленному человеку достаточно кружки и рта. На коллективность, тем не менее, указывают маленькие деревянные скамейки. На них сидят, пьют и закусывают. Вообще, бордей — это целая вселенная, даже больше. В детстве, когда я спускался сюда, я был наповал заинтригован увиденным и дал себе слово, что, когда вырасту, отдам все силы этому делу. Теперь я вырос.
Славик ориентировался в бордее как на ринге — знал здесь каждый уголок. Умиленно, как на старых друзей, смотрел он на ряды пустых уже — или пустых еще, ведь сегодня праздник урожая — высоких кувшинов, оплетенных виноградной лозой. Похлопал, как по плечу, все четыре бочки Мош Бордея. Высокие синюшные бочки, пахнущие всем, чем пахнет бордей — холодом и вином. Бочки — это главное винохранилище Мош Бордея. В каждой бочке — тысяча литров. Всего — четыре тонны вина. Славик смотрел на бочки по-особому — с большим уважением, пониманием их ценности и вместе с тем по-свойски — так служитель Алмазного фонда смотрит на бриллиант, не имеющий равных в мире, который он, служитель, вот так вот запросто, каждый день протирает тряпицей.
Я присел на скамейку, пока Славик общался с тридцатилитровым бутылем. Посуда — это еще одна особенность бордея. Такой посуды сейчас, конечно, не делают. Мош Бордей, как алхимик, собирал всю жизнь эти высокие пузатые бутыли, на самый разный, и всегда нестандартный по сегодняшним меркам литраж — пятнадцать литров, восемнадцать литров, тридцать литров. Зеленоватого, желтоватого, коричневатого стекла бутыли. В горлышки вставлены старые деревянные пробки. Именно из таких бутылей сливалось вино в емкости меньшего объема — банки, кувшины, сердца.
Славик налил полкувшина вина.
— Дед сказал — целую банку можно, — широко сказал я.
— Куда торопиться? Банка не убежит, — усмехнулся Славик и посмотрел на меня.
Мне показалось, что его все еще одолевают сомнения — трусливые, но притворяющиеся моральными.
— Зачем тебе бухать? — подтвердил мою догадку Славик. — Думаешь, лучше будет?
— А что, не будет? — спросил я бодро.
— Да как те сказать, — вздохнул Славик, упиваясь своим превосходством. — По-всякому бывает.
Мы наливаем в глиняные кружки.
— Ну че, — говорит Славик. — Давай. Побазарим.
Славик стукает мою кружку своей и делает первый глоток.
* * *
Когда мы со Славиком вышли из погреба, во дворе было совсем пусто.
Соседи разошлись — все, кроме Вахта. Он сидел за столом и был ангельски пьян.
Я был тоже пьян, и сильно. У меня кружилась голова, слегка подташнивало, но в целом было хорошо. Я присел на скамейку Мош Бордея. Славик куда-то исчез.
У меня в глазах сливались, размывались, плыли яркие цветные пятна лампочек в винограднике.
Потом я встал и пошел. Откуда-то сзади послышался голос Славика. Он кричал:
— Вова-ан! Будь же ты мужиком!
Мне было наплевать на то, что кричит Славик. И вообще на все. Кроме Раи. Быть пьяным мне нравилось. Все как будто стало красивей и проще.
Я пошел прямо к дому, в котором жил Гена. Окна были довольно высоко, заглянуть в них снизу было невозможно. Света в окнах не было.
Я подошел к входной двери в квартиру Гены. Она была распахнута настежь. Так всегда делают ночью в этой местности — жарко. В проеме двери чуть колебалась от сквозняка тонкая сетчатая занавесь. Осторожно — хоть и пьян был, а страшно все равно — я нырнул внутрь квартиры. Оказался в коридоре. Сделал еще несколько шагов и вдруг услышал стук. Из кухни вылетела Рая.
Я поспешно нырнул за вешалку — в коридоре стояла древняя рогатая вешалка. Тут же раздался голос Гены — он гнался за Раей.
— Стой! — кричал Гена.
Были звуки короткой, довольно отчаянной потасовки.
Я выглянул из-за вешалки. По молодости и пьянке я не понимал, что происходит и уже собирался защищать Раю, если придется.
Но защищать Раю не пришлось — Гена прижал ее лицом к стене. Рая захохотала и выгнулась.
Всего остального я не видел. Хотя оно было. Я оставался там, в этом темном чужом коридоре, за вешалкой, пока оно было.
Потом Гена на руках унес Раю.
А я тихо вышел во двор.
Во дворе я тут же встретил Славика, бухнулся в его пьяные боксерские объятия и — забылся. Ничего больше не помню.
* * *
Утром я проснулся оттого, что на меня смотрела целая толпа народа. Собственно говоря, это было уже не утро, а полдень. Жизнь во дворе шла своим чередом, и мне, оказывается, нужно было срочно к ней присоединяться. У моей кровати стоял дед, Мош Бордей, он добродушно усмехался, ухмылкой ветерана, наблюдающего первые потуги новичка. В руке он держал стакан, в котором был помидорный рассол. Рядом с дедом стоял Славик, выражая лицом самую горячую и несколько агрессивную дружескую поддержку. А рядом со Славиком стоял Боря, о котором можно было сказать и вовсе коротко — Боря сиял. Чем насторожил меня — если не сказать, напугал.
— Ну ты крас-савец! — с энтузиазмом воскликнул Славик и больно ткнул меня кулаком в живот.
Мош Бордей протянул мне стакан с рассолом.
Я покорно принял стакан и сделал глоток холодного рассола. Это был кайф, и я выпил до дна.
— Нормально вчера дали, да? — радостно спросил Славик.
Мош Бордей посмотрел на него коротко, и Славик молниеносно — только он так умел — очистил лицо от радости и наполнил его товарищеской озабоченностью.
Боря по-прежнему сиял, таким ровным и чистым сиянием, что я не удержался и осторожно спросил:
— Борь? Ты чего?
— Все! — сказал Боря и просиял еще сильней.
— Что — все? — испуганно сказал я и посмотрел на Славика и деда, ища в них поддержки.
— Дали согласие! Первого октября! Вот, — Боря указал на деда и Славика. — Все уже знают.
Боря домогался руки и сердца Женечки-химика уже целый год — причем у своих родителей. Боря и Женечка были влюблены друг в друга довольно давно и нежно, но очень скоро столкнулись, точнее, Боря столкнулся с преградой в лице своих родителей — дяди Феликса и тети Доли. Собственно, истинной преградой была тетя Доля, которая, как было сказано много выше, работала гинекологом, была строгой женщиной и правильной еврейкой. Брак Бори с Женей она категорически отвергала. По всем соображениям тети Доли, Женечка была Боре не пара. Женечка была не еврейкой, а хохлушкой, родители ее работали на военном заводе, а сама Женечка последний год бывала дома только наездами: она поступила в Ленинград, на химический факультет. Поэтому ее называли в нашем дворе «Женечка-химик».
Папе Бори, дяде Феликсу, работавшему обувным мастером, как неправильному, пьющему еврею, были до лампочки социальные и расовые предрассудки, мешавшие тете Доле. Но он вынужден был присоединиться к ее генеральной линии — такова была сила воли тети Доли, и дяде Феликсу пришлось стать дополнительной плотиной, отделявшей Борю и Женечку-химика от счастья.
Настоящие драмы разыгрывались в те дни в квартире Бори. Вот Боря пытается погрузиться в шахматную партию — он играет в шахматы с отцом, дядей Феликсом. Над ними нависает тетя Доля.
— Мам! — говорит Боря куда-то в шахматную доску. — Хотел тебя предупредить.
— Что?! — спрашивает тетя Доля, заранее хватаясь за сердце.
— Мам, я сегодня вечером приду поздно. Ночью, скорей всего. У мамы Женечки — день рождения, — говорит Боря, не подымая глаз.
— Опять Женечка! Опять день рождения, и опять ночью! Почему все ее родственники рождаются ночью? Я, например, родилась утром. Боря, ты что, правда, хочешь иметь жену-химика? Феликс, скажи, что у химиков больные дети!
— Больные, — подавленно говорит дядя Феликс, делает ход слоном и виновато подымает глаза на Борю. — Тебе мат…
Когда Боря понял, что средствами убеждения сломить маму с папой невозможно, он прибег к шантажу. Бледный и решительный, однажды утром он вышел на кухню из своей комнаты и заявил тете Доле:
— Мама. Я решил уйти из университета. Я не буду учиться на финансовый учет. Я буду работать. Как все.
Боря и раньше угрожал тете Доле уходом из финансового учета. Но тетя Доля все равно держалась, надеясь, что Боря блефует. Боря, конечно, блефовал, работать «как все» — ему вовсе не хотелось, он ведь был хоть и неправильный, но все-таки еврей. Изобретательный ум подтолкнул Борю к сговору со Славиком.
— Я буду работать, кормить семью, — сказал в то утро Боря гордо.
— Какую семью? — теряя землю под ногами, спросила тетя Доля.
— Нашу, с Женечкой, — ответил Боря и так посмотрел на тетю Долю, что она отступила на шаг назад. — Славик порекомендовал меня своему дяде. Меня берут. На завод! — сказал Боря.
— На завод? Нет… Боря… — тихо оседала на стул тетя Доля.
— Вот. Справка. Для начала — учеником мастера, — зная, что попал в болевую точку, хладнокровно добивал маму Боря.
Днем раньше Славик и Боря сидели у Славика на веранде, ночью. Славик изготовил справку, согласно которой Борю Каца якобы ждут с распростертыми объятьями на самом промышленном, самом вонючем заводе города. Славик даже поставил самопальную печать на справку и прочитал с иезуитским удовольствием:
— В цех мазутной смазки. «Мазутной смазки». Ништяк! Может, еще про разряд дописать, а?
— Учеником мастера, в цех мазутной смазки, с присвоением ученического разряда, — прочитал на следующее утро Боря и предъявил тете Доле справку. — Вот. Все. Я рабочий, мама.
Славик просчитал все точно. «Мазутной смазки» и «ученический разряд» — эти слова сломили тетю Долю.
Полчаса ее отпаивал валерьянкой дядя Феликс, а тетя Доля посиневшими губами шептала:
— Рабочий… рабочий…
Через день она дрожащим голосом сказала Боре:
— Боря. Я согласна. Лучше хохлушка-химик, чем еврей-рабочий.
И теперь Боря сиял.
— Дядя Феликс сегодня придет к Мош Бордею. Говорить за свадьбу, — сообщил Славик и подчеркнуто уважительно заглянул в глаза деда.
Дед утверждающе кивнул.
— Я уже рассказал Вахту! — сказал Боря победоносно. — Вахт побежал сразу! В рюмочную, на углу Армянской и Пирогова!
— Через пять минут о свадьбе узнает вся улица! — радостно продолжил Славик, это явно была его идея.
— Поздравляю! — сказал я и пожал руку Боре.
И тут я вспомнил все вчерашнее. Мне стало плохо. Перед глазами поплыла согнутая голая нога Раи. Я отвалился на кровать.
* * *
Меня толкнул в плечо какой-то старичок. Народу во дворе — тьма. Первое октября. Весь цвет нашей улицы сегодня пришел на эту свадьбу. Да и не только цвет — в общем, все пришли.
Описать чисто еврейскую свадьбу можно, и чисто русскую, и цыганскую — но свадьба Бори и Женечки-химика сочетала в себе черты каждой. За долгие годы своей хорошей жизни Мош Бордей соединил богатое наследие разных народов в систему совершенно особых, космических церемоний. Например, перед входом во двор, в котором происходит свадьба, Мош Бордей ставит большой, тридцатилитровый бутыль с вином. Рядом — кувшин и кружка. Любой прохожий может налить себе кружку вина и выпить за молодоженов. А если прохожий хочет зайти во двор и остаться на свадьбе, появляется Славик. Он говорит гостю:
— Добро пожаловать на свадьбу! Гроздь винограда есть у вас? Каждый гость дарит нашим молодым гроздь винограда. Такой порядок. Если принесли, добро пожаловать!
— А зачем нужна гроздь винограда? — спрашивает прохожий.
— Как зачем? — удивленно спрашивает Славик, приоткрывает калитку и указывает в глубь двора. — Вон там. Видишь? Маленькая бочка. В нее нужно положить свою гроздь. Бочка заполнится виноградом, Мош Бордей из него сделает вино. Молодые будут держать это вино в своем кувшине. В погребе у Мош Бордея есть такой шкафчик! — вдруг, доверительно, по секрету, сообщает прохожему Славик. — В нем кувшины с вином. Сколько кувшинов — столько свадеб. На каждом написано — в какой день свадьба была, в какой год, как зовут жениха и невесту. Если десять лет вместе проживут — откроют кувшин свой, выпьют. Крепкое будет. Десять лет выдержки. Ну, если двадцать проживут. Еще крепче. Ну, что, понял? — завершает объяснение Славик, улыбнувшись нагло, прохожему в лицо.
— А если нету у меня с собой грозди винограда? — спрашивает прохожий.
— Тогда накатишь со мной еще кружку и пойдешь искать, — хлебосольно улыбается Славик.
Играют лабухи. Играют уже очень хорошо — значит, уже хорошо выпили. В два ряда по всему двору поставлены столы и длинные скамейки. Над двором натянут брезентовый тент — на случай дождя.
Они пришли с опозданием — Рая с Геной. Сначала сели очень далеко от нас. Мы со Славиком сидим по левую руку от Бори — от жениха, то есть. От Бори нас отделяют его родители и две толстые бровастые подруги тети Доли. Боря очень страдает, потому что не может с нами общаться. Славик показывает Боре на часы — мол, пару часов всего сидим, не боись, сейчас накатим и пообщаемся.
А потом Рая что-то сказала Гене на ухо. Он заржал, они встали и через минуту оказались за нашим столом, прямо напротив меня. Рая улыбнулась мне. Гена мне подмигнул.
Я отвел глаза и встретился взглядом с Мош Бордеем. Дед смотрел на меня раздумчиво и хмуро. Дед, как всегда, все понимал.
И сейчас же закрутилась свадьба. Было такое свойство у массовых веселий в этой местности, особенно у тех, к организации которых как-то причастен был Мош Бордей. В определенный момент вдруг образуется воронка, втягивающая тебя куда-то, вниз, или вверх, моментально и радостно. Напрямую это явление никем вроде бы не управляемо. Но есть Мош Бордей. Он, как мне до сих пор кажется, и создавал всегда это явление. Конечно, внутри воронки можно постараться выделить ряд сил и течений. Люди начинают танцевать, например. Встают из-за стола, берутся за руки, образуя один широкий круг, и пускаются в танец, вокруг столов, стульев, знакомых и незнакомых людей, круг сходится и расходится, иногда все одновременно отпускают руки, с улюлюканьем разворачиваются на ходу, и снова берутся за руки — круг выворачивается наизнанку, и опять несутся по двору, сходятся и расходятся, распадаются на пары, кто-то идет за новым вином с Мош Бордеем, и сам я тоже иду, но не дохожу, потому что хватает меня за руки, трясет, поздравляет, целует зачем-то меня какой-то старичок, и какая-то еврейская тетка что-то мне говорит, и плачет зачем-то; мелькает Славик — он спаивает Гену, мелькает Боря — он ищет Славика, а вот Рива Вахт — она ищет Вэйвэла, а вот и Вэйвэл, он никого не ищет, он пьян, он уже все нашел. Пританцовывают и подмигивают друг другу раскрасневшиеся, почуявшие свою великую силу лабухи — дядя Петря со скрипкой идет вдоль столов, за ним Доба, Туба, за ними тетя Доля с подносом, на котором деньги — собирают для молодоженов. А вот цыганка баба Саша говорит что-то Славику, на ходу пытаясь поймать его в перекрестье своих черных глаз, говорит — пропадешь ты, пропадешь ни за грош, а Славик смеется в ответ — не верит, что пропадет.
Под конец первого дня этой свадьбы Гена скис, и его куда-то оттащили. Это Славик постарался. Он всегда находит себе в пьянке товарища, и, пока не споит его до потери сознания, — не успокоится. Такой уж Славик Петров человек. Свалит одного — ищет второго. Когда Гена скис, Славик переключился на кого-то, мне незнакомого, по виду довольно хлипкого и уже синего. Так что скоро будет Славик искать следующего, это точно. Лицо у него сейчас нагловато-печальное. Конечно, не иметь постоянного, крепкого, настоящего собутыльника — это тоска. Но где его взять, с другой стороны?
Я тоже был пьяный. Я танцевал как проклятый и уже ничего перед собой не видел. Голова от молдавских танцев, надо сказать, кружится страшно. Потом я как-то вытек из танца и присел на скамейку.
И тогда меня вдруг сзади обняли за шею ее руки. Я сразу протрезвел — так мне, во всяком случае, тогда показалось. Сердце заколотилось так, что заглушило Добу — большой барабан, в который стучит мордатый чумной молдаванин с гипертрофированным пониманием роли ударных в оркестре. Я не мог даже обернуться — так и сидел, как дурак, улыбаясь зачем-то, и не зная совершенно, что делать. Потом я прикоснулся к ее рукам. Рая сразу же отпустила меня, и тут же властно схватила за руку и куда-то поволокла. Я ничего не понял.
* * *
Мы как-то оказались в доме Гены и Раи, в дальнем темном коридоре, перед лестницей на чердак. В доме, где жили Гена и Рая, был чердак. Рая смотрела на меня, в темноте я видел только ее глаза, мне было страшно, потому что ее глаза блестели по-сумасшедшему. Она звякнула ключами от чердака и полезла по лестнице. Ее голые ноги оказались прямо перед моим лицом, когда она там наверху возилась с замком. Я хотел поцеловать ее ноги или хотя бы дотронуться до них, но у меня так закружилась голова, что я схватился за лестницу, чтобы не упасть.
— Иди сюда, — раздался сверху решительный шепот Раи, она уже победила замок.
На чердаке было темно, я боялся сделать шаг, чтобы не наткнуться на что-нибудь. Но через секунду вспыхнула спичка — Рая зажигала свечку. Тоненькую, желтую — такие ставят в церкви. Свечка разгорелась быстро и ярко, распространив по чердаку запах воска и дав мне возможность осмотреться.
Вокруг была масса старья, как и полагается чердачному жанру — этажерка, люстра, чемодан, еще один, и еще — этот прямо не чемодан, а целый шкаф с ручкой. Старые стулья. Широкая железная кровать. Прошлого века, наверное.
Я сразу заметил — вещи расставлены и, кажется, не так уж запылены. Совсем не запылены. А кровать заправлена пледом — явно не в прошлом веке.
— Здесь я прячусь, — сказала шепотом Рая. — Это моя секретная комната. Садись.
Рая уверенно присела на край кровати.
Я обалдел от всего происходящего и не знал — ни что говорить, ни тем более что делать.
— Не бойся, — сказала Рая.
На улице вовсю грохотала свадьба.
И все равно мне казалось, что вся улица и весь мир слышит, как скрипит эта проклятая кровать прошлого века.
А потом Рая плакала. А я целовал, целовал ее ноги — сколько хотел.
Нас никто не искал на этой свадьбе. До самого утра.
У Раи была специальная коробочка. Когда-то она была довольно претенциозной дамской шкатулкой. Лет сто назад. Теперь это была коробочка без всяких претензий. В ней лежали свечки — их было десятка два, может, больше. Когда Рая достала очередную свечку — сгорают они быстро, превращаясь в янтарно-желтые кляксы — она сказала мне:
— Когда в этой коробке кончатся свечки, ты меня забудешь.
* * *
Вторую неделю шли дожди. Дожди в этой местности затяжные — зарядит, и стоит стеной целый день, потом еще накрапывает неделю. Но дождь теплый. И ночи в октябре еще теплые. Вообще, в октябре хорошо. Ночами мы выпивали со Славиком, на его веранде.
По пьянке я показывал Славику фотографию, которую сам изготовил, взяв, с одной стороны, фотку, на которой был я со Славиком — мы снялись год назад на память, в ателье у одного правильного еврея. Я отделил ножницами себя от Славика. Отложил с уважением оставшегося в одиночестве Славика в сторону. Потом взял вторую фотку. На ней была Рая с Геной. Я выпросил эту фотку у Раи. Я с радостью отделил ножницами Раю от Гены. Склеил себя и Раю — так и получилась эта фотография.
А в стороне остались лежать отрезанные мной Славик и Гена.
На эту фотку я подолгу смотрел сам. Ее я показывал по пьянке Славику.
— По типу, ваша семейная карточка. Я щас заплачу от умиления! — язвил Славик.
— А по-моему, мы хорошо смотримся, — сказал я.
— Ну дура-ак! — только и сказал в ответ Славик.
Утром, пока Гена делал зарядку с двумя облупленными гирями и принимал холодный душ, Рая забиралась на чердак, в свою секретную комнату, и начинала меня ждать.
А я вставал рано утром, похмелье в этом возрасте — сущая ерунда, поболит и пройдет, садился на веранде с кувшинчиком вина и смотрел на дождь.
Потом появлялся Гена. Он бодро шел по лужам к выходу из двора, радостно со мной здоровался:
— Здарова, Вовка! Что встал так рано? Как петух! — ржал и уходил наконец.
Тогда я шел к Рае. И мы были вдвоем, на чердаке, иногда весь день. Поначалу мы всегда разговаривали шепотом в секретной комнате, передвигались по чердаку на цыпочках. Но потом осмелели. Мы смеялись до упаду, падали с кровати прошлого века и катались по полу.
Однажды мы вот так смеялись, смеялись. А потом я спросил:
— Кого ты больше любишь — меня или Гену?
— Дурацкий вопрос! — сразу перестав смеяться, ответила мне Рая.
— Почему дурацкий? По-моему, это серьезный вопрос. Ты, вообще, меня любишь?
— Если не люблю, что я тут делаю? — спросила Рая с насмешкой.
— Ну, а… его? — спросил я.
— И его люблю, — ответила Рая.
— Разве можно любить двоих? — удивился я.
— Можно любить всех, — сказала тихо Рая.
— Всех? Ну ты даешь! — я засмеялся. — Любить всех… Всех подряд, что ли…
— Дурак! Дурак! — закричала и вскочила на ноги Рая.
Я испугался. Первый раз, я очень испугался — поссориться с ней.
— Прости! — сказал тут же я. — Я не хотел… Я просто хотел…
— Что ты хотел?! — спросила Рая зло.
— Чтобы ты любила. Только меня, — сказал я.
— Дурак! — последний раз сказала Рая, с усмешкой.
Она не умела долго сердиться. Мы не поссорились. Мы вообще ни разу не поссорились.
Иногда мы засыпали рядом. А иногда я притворялся, что засыпаю, чтобы Рая тоже уснула. Тогда я тихонько вставал, и незаметно подбрасывал в Раину коробочку новые свечки. Тонкие желтые церковные свечки.
* * *
Славик знал все о нас с Раей. Он вставал рано утром, похмелье в его возрасте — уже не ерунда. Славик выходил на свою веранду, с полминуты вяло лупил грушу и присоединялся к моему кувшину с вином.
Вообще-то, не только Славик знал. Знал Мош Бордей. Я понял, что он знает, когда однажды клянчил у него, в очередной раз, кувшинчик вина, и он дал мне к вину еще тарелку всяких фруктов. Мош Бордей никогда, никому из пьющих его вино мужчин — не давал фруктов.
И Боря знал. Я сам рассказывал ему по пьянке. А Боря наверняка рассказывал Женечке-химику — у них было такое трогательное правило: не иметь секретов друг от друга.
Знали лабухи. К Мош Бордею заходили утром опохмелиться Аккордеон и скрипач дядя Петря. Оба — закоренелые синяки, по утрам на них давили — сверху небо, снизу — земля, и Мош Бордей милосердно наливал им выпить. Лабухи часто видели, как я иду к квартире Гены с кувшином вина. Они все понимали. Они много видели в жизни.
А однажды я сидел на веранде один, попивал вино. Во двор вышла Рая. Она развешивала белье. Я смотрел на нее во все глаза. Рая тянулась к веревке, и я смотрел на ее голые, напрягшиеся, оттого, что встала на цыпочки, смуглые ноги, выглядывающие из-под короткого платья.
— Райка! — в следующую же секунду на пороге своего дома появился вдруг Гена. — Ты где?
И Рая ушла к нему, в дом. Я решил, что напьюсь, как собака, сегодня. И в этот момент со мной рядом вдруг появился дядя Феликс. Отец Бори Каца.
— Деда нет, дядя Феликс, — сказал я. — Он в городе, внука тети Ани крестить будет…
— А я не к деду, — сказал дядя Феликс. — Я к тебе.
— Ко мне? — удивился я.
— Да, — сказал дядя Феликс.
— Да вы не волнуйтесь за Борю! — секунду подумав, сказал тогда я уверенно. — Тетя Доля думает, Славик на него плохо влияет? Совсем наоборот! Славик рад, что Боря учится на финансовый учет!
— Я, конечно, тебя понимаю, Владимир, — сказал в ответ дядя Феликс. — Я понимаю…
Я удивленно посмотрел на дядю Феликса.
— Доля — она же была замужем, когда мы с ней познакомились, — вдруг сказал дядя Феликс.
— Тетя Доля?! — я совсем растерялся.
— Да. Мы встречались тайком. Ее муж был намного старше ее. Ей — двадцать, ему — сорок семь. Он был профессор, уролог, союзной величины. Когда он узнал, что у Доли есть я, он закрыл ее в доме. У него была собака, доберман. У нее было много медалей. Очень злая. Но она любила компот. Доля сварила собаке компот. На спирту. — Дядя Феликс улыбнулся. — Компот был градусов тридцать. Ночью, пока доберман спал, она выпрыгнула в окно. И ушла ко мне — в одной ночной рубашке. С паспортом.
— Тетя Доля?! — переспросил я, не веря ушам своим. — Наша тетя Доля?!
— Да, — сказал дядя Феликс. — Мне было девятнадцать. Ей двадцать. Нам было очень хорошо. Очень хорошо…
Дядя Феликс какое-то время молчал, и я тоже молчал, и смотрел на дядю Феликса, пытаясь хоть как-то совместить то, что я всегда знал о тете Доле, с тем, что узнал только что. У меня не получалось.
— Она так верила в меня, — сказал потом дядя Феликс. — Бросила уролога, союзной величины. А я? Не оправдал. Мне должно быть стыдно. А мне почему-то не стыдно…
Я не знал, что ответить. Потом решил сказать так:
— Вы хороший человек, дядя Феликс!
Дядя Феликс посмотрел удивленно на меня. И спросил:
— Ты правда так думаешь?
— Правда! — подтвердил я.
— Спасибо, Вова, — сказал дядя Феликс.
Выпил кружку моего вина. И ушел.
Да, все знали о нас с Раей. Все, кроме Гены. Все-таки он был дурак.
Тогда, в тот день, был дождь. Славик с утра был как-то особенно похмелен и зол. Он пришел ко мне на веранду, сел, выпил с ходу почти все мое вино и сказал:
— Плохо все это кончится. Готовь табло к бою.
Вышел как раз из дождя Гена, с зонтиком. И спросил нас со Славиком, по своему обыкновению, остроумно:
— Что встали так рано? Как петухи!
— Слышь, Геннадий! — скривив губы, ответил своим гундосым наглым голосом Славик. — Петухи, чтоб ты знал, просыпаются раньше лосей!
— Почему лосей? — не понял Гена и заржал. — Ну ты как скажешь!
И Гена ушел на свою милицейскую службу.
— В натуре, лось… — сказал Славик, презрительно глядя вслед уходящему Гене.
Потом я оставил Славика наедине с его похмельем и пошел к Рае. Славик мне сказал на прощание:
— Дурак!
Я ничего не ответил.
Потом мы с Раей сидели на кровати прошлого века. Она заплела мне на голове десяток мелких тугих косичек. Смеялась и говорила, что я похож на индейца. И вдруг мы услышали громкий, требовательный стук — кто-то стучал в дверь Гениной квартиры. Я испугался. Рая тоже. Она стала быстро одеваться, и мне пришлось застегивать пуговицы на ее платье — они были на спине. Нет на свете более идиотского занятия, чем в спешке застегивать крошечные пуговицы на спине женщины. Меня трясло.
Потом мы с Раей посмотрели друг другу в глаза, и она быстро сжала мою руку своими ладонями. Мы подумали на двоих — одну мысль. Что сейчас что-то случится. Что-то давно должно было случиться, и вот сейчас оно случится, и будет очень плохо. Одна мысль, на двоих.
Потом Рая, едва не сломав себе ноги, спустилась по лестнице и пошла к двери. Я остался на чердаке. У меня просто не было другого выхода.
— Где он?! — услышал я в коридоре голос Славика, и сразу же камень упал с души.
Видимо, что-то такое почувствовала и Рая, потому что она хихикнула.
— Вовка тут? Пускай мотает отсюда! — угрожающе сказал Славик.
— Что случилось? — Рая нервно рассмеялась.
Вместо ответа послышался какой-то шум, щелкнул замок двери.
Славик зашел внутрь квартиры.
Через несколько секунд кто-то дернул дверь. Потом дернул еще раз — как-то удивленно.
Потом раздался низкий, взрослый голос Гены:
— Рай! Ра-ай!
Я боялся даже дышать. Послышались тихие шаги — это Рая со Славиком отошли от двери. Между ними произошла краткая перебранка шепотом. Потом секунда тишины. И вдруг — дверь открылась.
— О! Генацвале! — раздался наглый голос Славика. — Че ты так рано? Че-то забыл?
— Не понял юмора, — честно сказал Гена. — Ты что это… делаешь здесь?
— Да я в гости зашел, Ген, — спокойно заявил Славик. — Че, нельзя?
Я часто вспоминал потом эти секунды. Представлял себе наглую обаятельную морду Славика. Тупое и серьезное лицо Гены. Я не знаю, какой была в эти секунды Рая. Знаю только, что все это могло закончиться совсем не так, как закончилось.
Славик спасал меня. Плюс к этому его перло. Это было присущее Славику — прирожденному королю улицы — состояние. И видишь, и знаешь, что расклад не в твою пользу, но именно поэтому прет тебя, навстречу этому раскладу не в твою пользу. Прет так — удержать невозможно.
— Что значит «в гости зашел»? — медленно заводился на Славика Гена.
— Гена! — это сказала Рая.
— Ну-ка, — Гена, отстранил ее. — Что значит «в гости зашел»? Что это вы дверь закрыли?
— Ну, закрыли. И че? Моя милиция меня ж не бережет. А береженого бог бережет! — все, Славик перешел на «блёндер буду».
* * *
Здесь я сделаю небольшое отступление, посвященное двум типам речи и Славику, теоретику и практику обоих. Славик Петров, еще в ранней своей юности, разработал два типа речи, называемые им «блёндер буду» и «будьте любезны». Первый применялся для дворового общения, для оскорблений в ходе дворового общения, а также для распекания дворовой молодежи в рамках тренерской работы, описанной много выше. Второй тип также служил для оскорбления, но более закамуфлированного. Первый тип — «блёндер буду» — представлял собой, по сути, далекую копию блатной фени, но построен он был не столько на новых словах, сколько на непостижимых комбинациях старых. «Блёндер буду» роднила с феней иносказательность — это была смесь всех пословиц, поговорок и подколок, сказок, басен и побасенок, когда-либо слышанных Славиком. Наиболее характерные тирады из «блёндер буду» ясно выдавали хаос, царивший в Славикиной голове, что, впрочем, его самого нисколько не смущало. Например:
— Че ты убитый такой, как Юлий Цезарь? — или:
— Че ты мечешься, как Красная Шапочка, идти к бабушке, идти к дедушке? — или:
— Че вы смотрите на меня, как Змей Горыныч на свое яйцо? — это Славик говорит Вахту, чем ставит Вэйвэла Соломоновича в тупик.
Речь «будьте любезны», напротив, представляла собой набор подчеркнуто напыщенных, возвышенных фраз — призванных, правда, не возвысить, а унизить собеседника:
— Ну что вы, я ж не настолько пьян, чтоб верить в чистую любовь… — это за столом Славик говорит очередной подружке, та хихикает, дура;
— Товарищ, как вы могли подумать, что я могу ударить в лицо человека! — а это на пьяном застолье Славик заявляет какому-то мордовороту, с соседней улицы, при этом Славик уже вынул руки из карманов и явно выключит мордоворота, секунды через три, своим коронным крюком слева.
— Простите, милорд, я не поздоровался, я вас как-то не заметил… — это Славик говорит Вахту, чем снова ставит Вэйвэла Соломоновича в тупик — любит Славик ставить в тупик Вахта, ничего не поделаешь.
Конечно, Славик никогда раньше не разговаривал с Геной на «блёндер буду». Гена был мент, живущий в нашем дворе. Оскорблять мента-соседа — это уже крайняки. А Славик всегда был против крайняков. Но сейчас он спасал меня.
— Гена, — это Рая, она уже почти плачет.
— Уйди, — это Гена — Рае, уже грубо. — Что ты плетешь тут мне? — это опять Славику, тоже — уже грубо.
— Я че плету? — Славик, изумленно и дерзко. — Старуха у синего моря плетет! Сети для рыбки, понял?
— Чего-чего? — по нарастающей, Гена. — Какая рыбка?! Слышь, ты!
И Гена толкнул Славика в грудь.
Все, что случилось дальше, Славик пересказал бы мне, когда-нибудь потом — если бы успел — примерно так:
— А я ж тебе говорил. Подвязывай. Да, она ниче. Не спорю. Но у нее муж. В натуре, сука, лось. — На этих словах Славик крепко врезал бы по груше, на своей веранде. — Не моя весовая категория. А ты, так вообще… Мозги и кеды. Ну, и вот. Утречком выхожу со двора, продышаться, посмотреть, как вопросы решаются. Смотрю — о! Вахт! У него ж пенсия, вторник. Красный день календаря. Я ему говорю: Соломоныч, пенсию не отметить — очень плохая примета, в курсе? Он говорит — ну что ты, Славик, я только «за». Ну, договорились посидеть с ним, как люди, вечерком, когда солнце позолотит верхушки деревьев, ну ты понял. Вдруг! Смотрю — подъезжает ментовской жигуленок. Вернулся, лось. Забыл че-то дома. Рога. Ну, думаю, приплыл Вовочка. Че делать? Задержать? Как? А мент из машинки своей выползает, дворники снимает. Любит он вещи. Он и Райку так любит. Были б у Райки какие-то части, которые можно, когда припаркуешь, снять, чтоб не стырили — точно снимал бы. Ну, я — ноги в руки, и — к вам. Стучусь, колочусь — не пускают! Пока открыла мне любовь твоя, слышу: калиточка — хлоп! Дальше — как на ринге. Думать некогда. Пусть тренер думает. Прыгаю внутрь, закрываю собачку. Ну, думаю, ты и дура-а-ак, Вован! А мент уже дергает дверь. Ломится. А мне смешно — первый раз в жизни застукают с бабой — и то не с моей! За это забухать не грех, честное слово! Ну, открываю. А она… Стоит рядом, плачет, как умирающий лебедь. Ну че он мог подумать? «Прости, Геночка, мы согрешили». Да… Но и он был не прав! Да, не прав! Я ж его не пихал в грудак! Ну, раз пошел такой расклад — или я его, или — да кто он такой! А у меня же рефлексы, — тут Славик иллюстрирует свой рассказ преувеличенной злой пантомимой. — Левую ногу — в упор, доворот, и левый крюк. Как тренер мой говорил — «поставивший жирную точку в поединке». Ну, дальше че. Лосяра выбивает дверь своей тушей, и с копыт, вниз, по ступенькам! Я думал, дом развалится! Классика! Ну, и вот… Слышь! — тут Славик заразительно рассмеялся бы, не удержался бы. — Теперь на улице одна рожа осталась, по которой я не стучал! Твоя, Вовчик!
Славик пересказал бы мне, если бы успел, все это так.
Но он не успел.
* * *
Все видели. Так бывает в этой местности. Когда происходит что-то плохое, нехорошее, все это видят.
Это видел Вахт. Он шел домой. Чтобы донести домой пенсию. Конечно, не всю.
Это видел Мош Бордей — он выходил покурить трубку, на скамейке.
Это видели Боря и Женечка-химик.
Баба Саша видела даже, своими кривыми глазами.
Это видели все.
Славик ударил со всей дури. Гена вылетел во двор, упав с высоких ступенек. Попытался сразу же встать на ноги, но не смог, был в нокауте. На него было жалко смотреть — всем, кто смотрел. У него были порваны на колене брюки.
Гена встретился взглядом с Вахтом, открывшим от удивления седой рот. Потом грубо оттолкнул подбежавшую к нему, плачущую Раю. И вышел со двора.
Спустя целую вечность я слез с чердака. Раи в квартире не было. И Гены не было.
Я пошел домой. Озираясь, как вор.
По всему двору, в бесчисленных изъянах асфальта, блестели лужи, после дождя. Во дворе было сыро и неуютно. Первый раз в нашем дворе было так — неуютно.
На скамейке сидел Мош Бордей. Он смотрел на меня. Я хотел что-то сказать ему, но не смог. Дед не смотрел мне в глаза. Он смотрел на мои волосы. На моей голове так и остались заплетенные Раей тугие косички.
* * *
— Подлец, трус и подлец.
Я говорил так, потом, сам себе. Когда сидел в погребе и пил, чтобы не чувствовать холода. Чтобы не чувствовать вообще ничего. Кроме того, что я подлец.
Прошло три дня с тех пор, как все это случилось. Славик два дня был в бегах — скрывался у каких-то своих родственников, в городе. Он думал, и многие во дворе так думали — что Гена посадит его. Но Гена ничего не сделал.
— Да-а… Теперь во дворе нет покоя! — в те дни тревожно сообщал Вахт своим горбоносым приятелям.
Приятели Вахта, в стареньких пиджачках, кивали головами, разделяя, таким образом, тревогу Вахта на равные доли, и с печалью смотрели в стаканы.
Потом Славик вернулся во двор. Мы посидели даже один раз, у него на веранде. Коричневая старая боксерская груша Славика была мокрой, от дождя. Славик не бил по груше. Не пил. Молчал. Был на себя не похож.
Я, наоборот, каждый день напивался.
Если смотреть на лампочку в погребе деда долго, долго, а потом отвести взгляд — в глазах остается желтое пятно. В этом пятне я снова видел, как первый раз вбегает в наш двор Рая. Пролетает по двору. Бухается на диван. Смеется. Говорит, что хотела бы жить тут, в нашем дворе — всю жизнь. В то утро было так много солнца. А теперь осталась одна лампочка.
Так я думал, когда услышал: кто-то спускается по ступенькам вниз, в подвал. Быстро спускается. Значит, не Мош Бордей. Он не может так быстро, хромой. Если не дед, тогда все равно, кто это. Дед бы отругал — я ведь без спроса взял ключи от погреба. Украл, то есть. Но чего мне стесняться теперь, подлецу?
Это спускается Боря. Он кричит:
— Славика убили!
* * *
— Его нашел Боря! — потом рассказал соседям и зевакам из соседних дворов Вахт — как всегда, он уже знал все, вторым после Бога. — Боря пришел к Славику, с бутылкой вина, поговорить за их дела. А Славик на полу. Пуля попала Славику прямо между глаз. Мне страшно! А вам нет?
Убийца проник в квартиру Славика легко — дверь была не заперта. Он никогда не закрывал ее. Он был королем улицы.
Во двор понаехали менты и люди в белом. Соседи заглядывали в квартиру Славика через спины ментов. Видно было, что худая бледная женщина в перчатках осматривает тело на полу. Тело Славика. Торчали из-за двери две голые пятки.
Руководил обыском мент, лейтенант. Он ходил по квартире, равнодушно брал в руки предметы, равнодушно их ставил на место.
Допросили соседей. Спросили Вахта, на какой почве был конфликт у Славика с Геной — кто рассказал, что он был, я так и не узнал. Вахт сказал, что конфликт был на нервной почве.
Потом дошли до меня. Лейтенант спросил:
— Убитый поссорился с кем-нибудь? Ты что-то знаешь?
Я сказал:
— Нет.
Через два дня вернулся из командировки Гена.
В этот день хоронили Славика.
* * *
Мош Бордей, когда узнал о смерти Славика, сказал:
— Пойду в погреб. Принесу вина.
Но до погреба дед не дошел — упал на руки Вахта.
Мош Бордей любил Славика. С позором выгонял порой с порога, когда тот после полуночи приходил клянчить ключи от погреба, ругал за долги, и — любил. Он ведь вырастил Славика.
— Стенокардия, — сказал потом врач «скорой помощи», осмотрев деда. — Алкоголь употребляете?
Неизменно присутствующий там, где нужен совет мудреца, Вахт горячо заверил врача:
— Что вы, товарищ доктор. Только по праздникам, — это была чистая правда, ведь в календаре Мош Бордея не было дней, а были только праздники. — Мы же тут все приличные люди.
— Ему надо в больницу, — сказал доктор про деда.
Потом машина «скорой» уезжала со двора, увозила Мош Бордея в город.
Я сидел в машине рядом с дедом. Первый и единственный раз я видел его таким. Растерянным.
Мош Бордей слег на месяц. Он провел его в больнице.
Двор изменился за это время. Стало тише. Как будто во дворе стало жить меньше людей. В нем действительно стало жить меньше, на одного человека. Моего друга, Славика Петрова.
На похоронах собрались все. Его знали все. Дядя Феликс сколотил стол и скамейки, для поминок. В глубине двора поставлены были табуретки для гроба. Пришли горбоносые приятели Вахта, из рюмочной на углу Армянской и Пирогова. Был Боря с Женечкой-химиком. На Женечке была очень странная черная шляпа, почему-то с пером. Вообще, Женечка-химик, конечно, «была не совсем при себе», как говорил Славик.
Дядя Яша Яковлев, как председатель дворового комитета — оказалось, в нашем дворе есть такой комитет — вынес венок с лентой. На ленте было написано:
«Незабвенному Мстиславу Петрову от соседей»
Я никогда не знал, как звучит полное имя Славика. Славик и Славик. Он, оказывается, был Мстислав.
На похоронах скрипач дядя Петря подошел к Вахту и спросил:
— Что играть? Какой национальности, я извиняюсь, был покойный?
Вахт посмотрел на фамилию «Петров» на траурном венке. И сказал — наверное, лучшее, что мог сказать о покойном:
— Еврейской.
Скрипач дядя Петря взял в руку смычок. Занес над скрипкой уже. Но не стал играть. Не получилось. Лабухи посмотрели на него и тоже не стали дуть в свои раструбы. Дядя Петря любил Славика — они пили вместе. Он выпил еще один, полный стакан вина. И только тогда стал играть.
Вынесли гроб к одиннадцати. Славик был сильно напудрен на лбу — где была дырка от пули. Боря и Женечка-химик заплакали. Они все делали вместе.
Пришли Гена и Рая. Гена вернулся в этот день из командировки, он был в отъезде, когда Славика убили. Выглядел Гена уставшим. Рая была в черном бархатном платье. Она была красива, какой-то нехорошей, заболевающей красотой.
Я вынес вина. Всем раздали маленькие граненые стаканчики. Соседи выпили.
Самым ярким событием этих похорон, если уместно такое выражение, стала надгробная речь Вахта.
— Вот, Славик, и кончен твой путь! — сказал Вахт и причмокнул губами — он делал так, когда был сильно нетрезв. — Вот! — повторил скорбно Вахт. — Путь оказался короче, чем мы все хотели, для Славика. Я любил его, хотя не взаимно, как вы знаете. Но я вам всем хочу сказать! — Вахт грозно обвел присутствующих взглядом старческих янтарных глаз. — Убийцы ответят! Я жизнь прожил! И я вам скажу, — и тут Вахт разрыдался. — Сукины вы дети!
Вот такая была речь Вахта. Он рыдал на полном серьезе еще минут пять. Как оказалось, он тоже любил Славика. Хотя и не взаимно.
Хоронили Славика на бескрайнем городском кладбище. Без Мош Бордея было плохо. Все путались в обычаях. Дядя Феликс спорил с Вахтом:
— Вино в могилу надо вылить перед тем, как опускают гроб?
— После! — возражал Вахт.
— А не перед?
— После! Я, слава богу, половину друзей похоронил! — уверял Вахт.
Соседи покидали камни в могилу. Вахт вылил в могилу две бутылки вина. Одну до того, как опустить гроб, и одну после. Закопали Славика двое пыльных ребят очень быстро.
Воткнули обтянутый красной материей столбик с табличкой:
МСТИСЛАВ ПЕТРОВ
1954 — 1984
Потом во дворе были поминки. Все напились.
Я в этот вечер забрал себе боксерскую грушу Славика и натянул ее на нашей веранде.
Не помню, когда разошлись, когда и как я уснул.
* * *
Когда я проснулся, за окном был снег. Наступила зима.
Зимой дни становятся короче, а сны длиннее.
Иногда во сне я видел Славика. Он был живой.
— Уголовное дело закрыли, — говорит Вахт, он идет по двору, он пьян, я поддерживаю его под локоть. — Говорят, нашего Славика убили наркоманы. Уже знают кто. Но пока не могут найти. А Риве сегодня ночью снился ангел. Звал ее к себе, Рива говорит, что умрет, теперь уже точно. «Умрет»! У нее крепкое сердце. Она меня похоронит. Я же знаю…
Зимним утром Рива стоит на пороге, глядя куда-то в бесконечность своими подслеповатыми глазами. На седых ведьминых патлах Ривы — снег.
На винограднике снег.
Мош Бордей, в нательной майке, выходит на улицу рубить дрова. К нему подходит худой еврей, это врач из больницы. Он навещает Мош Бордея теперь регулярно.
— Я принес вам рецепты, — говорит врач. — Вот они. Это таблетки, очень хорошие, укрепляют сердечную мышцу, у вас от них будет сердечная мышца, как бицепс. Пить надо два раза в день, после еды. Вы запомнили?
Мош Бордей ничего не отвечает. Рубит дрова сидя. Врач осуждающе смотрит на него.
— Вы вообще что себе думаете? Сердце — это не игрушки! Я вам сказал гулять полчаса в день. А не рубить дрова! Как вы одеты? Сердце не любит холод. Да что это такое! Дайте сюда!
Мош Бордей, крякнув, разрубает очередное полено. Врач бросается к топору, пытается вынуть его из толстого серого пня. Но у него не получается. Мош Бордей смотрит на врача. Улыбается. Врач чуть не плачет.
Потом дед растапливает печку. Не торопится. Кладет в печку дрова. Разводит огонь, поджигая спичкой рецепты. Огонь разгорается. Дед смотрит на огонь. Так проходит зима.
Зимой Гена запил. Началось это после похорон Славика.
В один из вечеров к деду пришел Гена и взял вина. С тех пор он стал появляться у нас каждый вечер.
— Ты приходишь каждый день, — сказал однажды дед Гене.
— Вы тоже каждый день пьете, Мош Бордей, — сказал Гена.
— Я старый, а ты молодой, — сказал дед.
— Да, да, — безучастно подтвердил Гена.
— Горе не вино. Все не выпьешь, — сказал дед.
Гена ничего не ответил. Только посмотрел удивленно на деда. У Гены стали мутные, измученные глаза.
Зимой дни становятся короче. А сны длиннее.
Один раз во сне я видел Раю. Она держала на руках младенца. Благолепно так — прямо мадонна нашего двора.
— Рая, — я говорю ее имя шепотом, когда просыпаюсь.
Однажды, за неделю до Нового года, я вышел во двор покурить. После смерти Славика я закурил. Было красиво. В снегу виноград. От люка с надписью «MUNICIPIA» идет пар. И вдруг во двор вышла с бельем Рая. У нее в руках были выжатые простыни, от них на морозе тоже шел пар.
Она увидела меня, отвела взгляд сразу. А я подошел и помог ей, как-то у меня это легко получилось, просто подошел и спустил веревку, для этого надо отставить длинную палку. И у Раи, я сразу увидел, как будто темная тень исчезла с лица.
— Как ты живешь? — спросил я.
— Хорошо, — ответила Рая и улыбнулась. — Разве не видно?
— Видно, — сказал я. — Может, поговорим?
— Поговорим, — согласилась Рая. — А о чем?
— Ну… Что, не найдем, о чем? — спросил я.
— Найдем. Когда-нибудь, — сказала Рая, лицо ее было бледным.
— Ты чего? — спросил я, заглянув Рае в глаза.
— Ничего, — ответила Рая. — У меня все хорошо. Даже очень.
Я был сбит с толку, и я был рад. Мы заговорили — мы произнесли первые слова. Я смогу скоро рассказать ей, какой я подлец, но как сильно я ее люблю. И она простит меня. И все будет опять хорошо у нас. Вот какие радостные ветры дули после этого разговора в моей голове.
Тем же вечером я пошел в бордей. Зимой там очень холодно. Я протянул в погреб спиральную печь. Было уютно смотреть на раскаленную, ржаво-красную спираль печки. Я накатил уже две кружки вина, и мне стало тепло. Бывает так от вина — все кажется поправимым, временным, все кажется черновиком, настолько предварительным и, что называется, «никуда не идущим», что… да что там! Все будет хорошо!
Вдруг на лестнице раздались, медленные такие, шаги. Я обрадовался. Это было похоже на то, как спускается дед, на своих больных ногах, медленно, осторожно, по мшистым кубикам ступенек.
— Дед! — крикнул я. — Дед, я тут!
Но, когда человек вышел на свет, оказалось, это был Гена.
Я испугался. Сам не знаю чего. Вернее, я знаю чего.
Гена подошел ближе. Он шумно дышал. Он был пьян.
— Здарова! — сказал Гена. — Не помешаю?
— Нет, — хрипло ответил я и откашлялся.
— Посидим, — сказал утвердительно Гена и присел на одну из скамеек. — Как дед? Как у него мотор?
— Нормально, — сказал я. — Хорошо.
— Да… — сказал Гена. — Ну, так… Наливай или как?
Я налил — сначала Гене, потом себе. По большой полной кружке. Мы стукнулись чашками, выпили.
— Тоскуешь? — потом спросил Гена.
— Да, — ответил я, ответил сразу, не задумываясь, сам не знаю почему.
— Он же был твой кореш, — сказал Гена.
Я посмотрел на него удивленно. И сказал:
— Я подлец.
Гена усмехнулся только.
— Что смешного? — спросил я.
— Ты понятия не имеешь, что значит «подлец», — сказал Гена.
— А кто — имеет? — спросил я.
— Я — имею! — Гена вдруг придвинулся ко мне и сказал тихо: — Кореша твоего. Славика. Царство небесное. Я пристрелил. — Гена дышал перегаром мне в лицо. — Как собаку. Вот. Этой рукой, — Гена сунул мне прямо в лицо свою широкую, темную ладонь, она пахла табаком и потом.
Потом Гена убрал свою ладонь от моего лица. И сказал:
— Прости меня, Господи.
И в несколько шумных глотков допил свою чашку.
— А знаешь, — сказал я, сквозь дрожь внутри ребер. — Я был, с Раей, тогда. Не Славик. Я на чердаке был. Дурак ты, Гена.
Гена смотрел на меня — темно и долго.
Потом молча налил себе в кружку еще вина. В тишине погреба оглушительно громко пробулькало красное вино в кружку. Уль, уль, уль, уль.
Потом Гена выпил. И ушел.
Я остался один. Я смотрел на пустую кружку Гены.
Когда я вышел из погреба, Гена сидел во дворе, на скамейке Мош Бордея. Он не посмотрел на меня, когда я прошел мимо. Он смотрел в небо. Шел снег. Снежные ночи бывают так красивы в этой местности.
* * *
На следующее утро меня разбудил Мош Бордей.
«Пес» умер!» — это были первые слова, которые я услышал в то утро. «Пес» — так Мош Бордей называл Гену.
Гена замерз, в ту ночь, на скамейке Мош Бордея.
Опять в наш двор набежали в большом количестве менты. Они ходили по двору, целый день, бесцельно и глупо, как куры.
— Они нашли в кармане Гены пистолет, — рассказал потом всем Вэйвэл Вахт. — Из него убили нашего Славика.
Ночью я не спал. Никто не спал.
Все слышали, как на чердаке плачет в голос, кричит Рая.
* * *
Весной наступает праздник Пасхи. Мош Бордей почитает этот праздник. За неделю до Пасхи весь двор полуночничает — готовят тесто, пекут куличи, режут птицу. Праздничный стол на Пасху в нашем дворе — всегда был самый большой и обильный.
Я видел Раю той, пасхальной ночью. В церкви. Она провела всю ночь в церкви. Она была такой красивой, в платке.
Я надеялся увидеть ее во дворе, за самым роскошным столом года. Но она не пришла.
А потом, однажды, я пришел из города, пьяный. И у ворот в наш двор встретил Вахта. Он отвел меня в сторону. Взял меня за локоть, своей крючковатой рукой. И сказал:
— Вова. Я не должен тебе говорить. Но я скажу. Рая беременная.
Я ничего не сказал. Я напился.
Той же весной родители Бори Каца, тетя Доля и дядя Феликс, приняли решение уехать в Израиль.
Израиль был в моем представлении загадочной страной. Чтобы попасть в нее, еврей, которому неплохо живется и в этой местности, бросает — все то, за счет чего ему здесь неплохо жилось. В течение многих месяцев стоит в километровых очередях на оформление бумаг. Потом собирает манатки, накрывает стол для друзей и соседей, как бы подытоживающий то, как неплохо ему здесь жилось, и уезжает. А потом шлет оставшимся евреям и соседям — пестрые дешевые открытки.
Именно так решили поступить и дядя Феликс с тетей Долей. Вещи они собирали долго. За супружескую жизнь, оказывается, родители Бори разжились нехилым скарбом. Это все тетя Доля, конечно.
— Зачем нам столько теплых вещей? Мы же едем в Израиль! — удивлялся дядя Феликс. — Там же Красное море, а не Белое!
— Вещи кушать не просят! — отвечала ему тетя Доля.
На прощальной пьянке была Рая. Я тоже там был. Я смотрел на Раин большой живот. Рая на меня не посмотрела ни разу.
На следующий день, рано утром, в наш двор приехали громадные военные грузовики, от властей города.
— Кто здесь Кацы? — спросил, заглянув в бумажку, представитель властей, коротко оценив скопление нетрезвых заплаканных людей во дворе. — Феликс Кац, Доля Кац, Борис Кац, Евгения Кац?
— Это мы, — сказала тетя Доля и усадила власти за стол.
Во дворе еврейскую мелодию заиграли лабухи. Рыдал как дитя, обняв Феликса и тетю Долю, Вахт. Выползла на свет и тихонько всхлипывала, виновато помаргивая невидящими глазами, Рива.
Мош Бордей вынес из погреба много вина, несколько бутылок дал в дорогу дяде Феликсу. Выпили на посошок.
— Пишите! — говорил Вахт тете Доле.
— Обязательно! — отвечала сквозь слезы тетя Доля.
— Пишите! — говорил я, обнимая Борю и Женечку-химика.
— Пишите! — говорила беременная Рая и плакала тоже.
— Обязательно! — отвечала тетя Доля. — Феликс, я не могу, у меня сердце сейчас разорвется!
— Ну все, пора! — сказал решительно представитель властей, которому тоже, кажется, было трудно пережить все это.
Тетю Долю, дядю Феликса, Борю и Женечку-химика на наших глазах увезли на историческую родину.
Дольше всех смотрели им вслед мы вдвоем с Вахтом.
Лабухи играли, а потом замолкли на середине мелодии. И разошлись.
* * *
Летом, в июне, Раю забрали в больницу.
Она родила мальчика. Назвала его Димой.
На пороге роддома Раю встречали соседи. Я тоже там был. Акушерка торжественно показала нам всем ребенка.
— Ну что, папаша, похож? — торжествующе спросила акушерка — почему-то меня.
Я удивился. Я был дурак.
Рая заплакала. Так я узнал, что это мой ребенок.
Я прибежал к Мош Бордею:
— Дед! Ты стал прадедом!
Мош Бордей посмотрел на меня. И засмеялся. Я никогда не видел, чтобы дед смеялся — не улыбался, а смеялся. И никто, наверное, не видел. Наверное, в последний раз это видел только мой отец. Когда сообщил деду о том, что родился я. Но это было давно.
Рая отказалась переехать к нам с ребенком. Хотя сам Мош Бордей предложил ей это.
Она позволяла мне быть рядом, с ней и сыном, сколько хочу. Но она не была со мной. Ни минуты.
А потом, вечером, Рая сказала мне:
— Давай поговорим.
— Давай, — сказал я.
Мы сели на скамейку Мош Бордея во дворе.
— Я уезжаю, — сказала Рая и посмотрела на меня.
Я кивнул.
— Появилась возможность. Чтобы… Не вспоминать…
Я снова безропотно кивнул.
— Что ты молчишь? — спросила Рая.
— Оставь у нас Димку. Пока у тебя все наладится, — сказал я.
— Хорошо, — сказала Рая. — Ты прости меня. Пожалуйста.
Я пил в бордее весь день. И заснул прямо в погребе.
Когда я проснулся и вышел во двор, я увидел, что на скамейке сидят Мош Бордей с Вахтом. Лица у них были грустные. Перед скамейкой стояли кувшин с вином и три глиняные кружки.
— Рая уехала, — сказал Вахт.
Через два дня приехали новоселы. Отец, мать, две чернявые дошкольные дочки. Они были очень радостные и шумные. И очень хозяйственные. У них было два грузовика вещей.
Отец семейства тут же познакомился с Вахтом. Собственно, другого выхода у него не было. Потому что Вахт сам подошел к нему и спросил — он умел это делать:
— Так вы что, наши новые соседи?
— Да-да! — смутился отец семейства, почтительно склонив голову перед сединами Вахта. — Моя фамилия Кифа, Василий Иванович. Девочки! Надя! Идите сюда!
Изящная брюнетка Надя и две чернявые дочки послушно подошли.
— Это Надя, моя жена, — сказал Василий Кифа.
— Надя! Простите, что не познакомились, голова кругом от этих вещей! — весело сказала Надя, в точности воспроизводя интонации мужа, и почтительно улыбнулась Вахту. — Девочки! Скажите, как вас зовут!
— Маша Кифа!
— Наташа Кифа! — послушно сказали девочки.
— У вас прекрасная семья! — заключил Вахт.
— Спасибо! — хором ответили Василий и Надя и также хором рассмеялись.
— Да-а… Новоселье — большая радость! — философски заметил Вахт.
Василий Кифа пару секунд обдумывал эту мысль, и наконец до него дошло.
— Ой, простите ради бога! У нас же есть шампанское! Надя, где шампанское?!
— Ой! — засуетилась Надя. — Где же оно?
— Молодые люди! — произнес Вахт отечески. — Шампанское — это много пены и мало радости. У нас, здесь, другие традиции.
— Конечно! Простите, — виновато сказал Василий Кифа. — А какие традиции?
— Старые, молодой человек, — сказал назидательно Вахт. — Когда у человека большая радость, человек пьет вино!
Конечно, Василий Кифа тут же обильно «проставился». Что ни говори, это правда — Вахт умеет разговаривать с людьми.
Потом новоселы разоряли секретную комнату. На улицу вынесли кровать прошлого века. Она была теперь не заправленная, с голой железной сеткой. Вынесли люстру, стулья, чемоданы и тот огромный — не чемодан, а целый шкаф с ручкой. Вынесли все. Несколько часов эта куча хлама лежала посредине двора.
Я подошел ближе. Хотел удержаться, но не смог — подошел.
Я нашел Раину коробочку. В ней все еще лежали свечки — две тонкие желтые церковные свечки.
Когда секретной комнаты не стало, началась осень. Снова Осень — последнее время года по календарю Мош Бордея.
* * *
В тот день, когда началась Снова Осень, мы сидели во дворе, с дедом и Вахтом. Вдруг из-за ворот раздался нахальный автомобильный гудок. Потом еще и еще. Вахт пошел посмотреть, что случилось. Вышел в калитку.
Когда он вынырнул обратно, во двор, на лице его было то особое лучезарное выражение, которое означало: будет синька. Вахт тут же открыл настежь ворота, и во двор въехала огромная черная «Чайка». Из «Чайки» тут же высыпались празднично одетые незнакомые люди. А потом — красивый мужчина в костюме жениха. И Рая. В платье невесты. Это была ее свадьба.
Вышли все соседи. Я вынес сонного Димку. Мош Бордей сказал мне:
— Иди, принеси вина!
Но жених уверенно заявил:
— Да не надо, у нас все с собой!
И достал из машины шампанское. И бокалы. Хрустальные.
Тут же во дворе, издалека почувствовав праздник, появились лабухи со своими помятыми трубами и такими же лицами, но жених сказал им тоже:
— Да не надо, мы же так, чисто символически, да у нас и музыка с собой!
И достал из машины портативный магнитофон. Из него заиграл оркестр Поля Мориа. Лабухи мрачно слушали. Им не понравился Поль Мориа.
Все пригубили шампанского, вежливо. Вахт, осторожно понюхав даже зачем-то шампанское в своем хрустальном бокале, произнес тост:
— Ну… Что я могу сказать… Будь счастлива, Раечка!
Я смотрел на Раю. А она смотрела только на Димку и Мош Бордея. Дед улыбался ей.
Потом гости попрыгали обратно в машину.
«Чайка» нелепо-торжественно, задним ходом, выехала из двора.
Потом я сидел во дворе, на скамейке Мош Бордея, и смотрел на тополя. Я сказал о нашем дворе уже так много лишнего и не сказал главного: вокруг него растут тополя. Высокие белые тополя. Бывает так в этой местности осенью — быстро чернеет небо, и вот уже в лиловом небе вспыхивают молнии, но нет ни грома, ни дождя. Дождь идет — но где-то там, далеко.
Мош Бордей сказал в тот день цыганке бабе Саше:
— Дождя нет. Винограду нужен дождь. Давай, сделай.
Баба Саша кивнула. Пошла в свой дом, в котором я никогда не был, и никто из соседей не был, по-моему.
Когда она вышла во двор — стала ходить кругами и сыпать на старый асфальт белые желтые точки — крупу. Потом глянула в небо своими разными глазами, так, как будто небо ей что-то должно, и сказала по-цыгански что-то быстро и очень сердито. И ушла опять в свой дом, в котором никто не был.
Той же ночью хлынул ливень. Лил всю ночь, из тысячи ведер. Вот почему у нас во дворе все боялись бабу Сашу. Цыганка, что с нее возьмешь.
* * *
Винограду хватило — и ливня, и солнца. В ту осень, Снова Осень, урожай был большим. Мош Бордей суетился целыми днями, и все во дворе суетились, помогали ему. Указания Мош Бордея жителями двора всегда выполнялись точно и быстро, как в бою. Все знали, что от этих дней — зависит весь год.
Небо над двором все наполнилось темными налитыми гроздями. Дед все время посматривал вверх. Был доволен. Один раз даже сказал:
— Да. Давно такого урожая не помню.
Во дворе новосел Василий Иванович Кифа сколачивал столы и скамейки — теперь он был за дядю Феликса. Его жена Надя носила чистую посуду, в эмалированном белом тазе — она была за тетю Долю. Мне казалось, что я слышу сквозь стук молотка и звон посуды — гундосый наглый голос Славика. Звонкий смех Раи. Басовитый голос Бори, который говорит: «это называется».
Я хорошо выпил. И танцевал на бочке. Играли лабухи — Аккордеон, Туба, Цимбал, Доба и скрипач дядя Петря. Играли хорошо.
А потом Мош Бордей принес Димку. Ему было уже четыре месяца. Мош Бордей поставил Димку в бочку, придерживая его бережно, к шумному восторгу синих соседей. Димка потоптался на бочке своими игрушечными голыми ножками. Сначала подумал, не улыбнуться ли ему по этому поводу, но потом его что-то расстроило — наверное, виноград был холодный. И он заревел.
А Мош Бордей опять засмеялся — я второй раз в жизни видел, как дед смеется.
Потом он отдал мне Димку. И сказал:
— Пойду в бордей. Нужно подготовить еще одну бочку и бутыли. Нужно успеть. Все успеть.
Он был доволен, когда шел в бордей. Таким я видел его в последний раз.
В погребе он сел на скамейку, перед четырьмя своими главными бочками. Оглядел ряды чисто вымытых, приготовленных для нового урожая бутылей. И умер.
* * *
Я снова вспоминаю, каким был праздник урожая в нашем дворе.
Я помню лица. Я помню голоса.
Я теперь не живу в нашем дворе. Прошло много лет с тех пор.
И Вахты в нашем дворе не живут — они умерли. Сначала — Рива, она всегда болела. Потом — Вэйвэл Соломонович. И цыганка баба Саша. И дядя Яша Яковлев, который работал в тюрьме. И скрипач дядя Петря. Прошло много времени.
В нашей третьей квартире теперь живет Димка, мой сын. Он уже вырос, он уже смотрит на девочек. И на тополя.
Рая уехала, сначала далеко, потом еще дальше. Я не знаю, получается у нее не вспоминать? У меня — нет.
Теперь в нашем дворе много новоселов. Больше, чем старожилов. Но во дворе все так же нет дней, а есть только праздники, и год все так же состоит из пяти времен года: Осень, Зима, Весна, Лето и Снова Осень.
Живо и виноградное дерево. Дальше и дальше разрастаются по двору в поисках света его чуткие длинные руки.
Я слышал, новоселы даже расширили погреб моего деда. Традиции легко переживают своих создателей. Так бывает. Особенно в этой местности.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
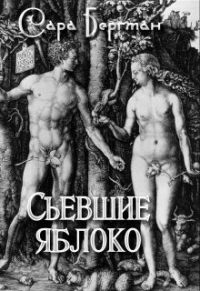


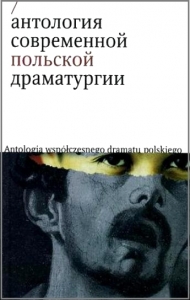

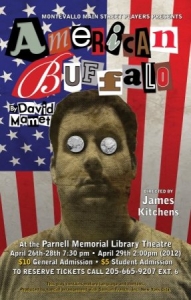
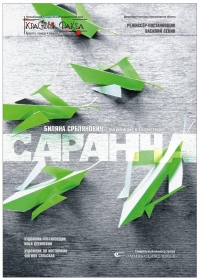



Комментарии к книге «Праздник урожая», Дмитрий Владимирович Иванов
Всего 0 комментариев