Бертольт Брехт Стихотворения. Рассказы. Пьесы
{1}
Бертольт Брехт
О жизни Брехта — его жизни в обществе и в искусстве — меньше всего можно было бы сказать, что она протекала безоблачно и бесконфликтно. Этот художник неукротимо дерзкой мысли подвергался преследованиям и гонениям. Он всегда доставлял опекунам общественного мнения на Западе немало огорчений и беспокойств, вокруг его имени кипели (кипят и по сей день) страсти отнюдь не только эстетического свойства, и его врагов отделяло от его друзей не только различие художественных вкусов. Когда в Мюнхен, Париж или Лондон приезжал на гастроли из ГДР театр Брехта, раздвигался занавес с эмблемой сторонников мира — голубем Пикассо, и со сцены звучали слова писателя-марксиста, страстного поборника социалистического строя, то, как легко себе представить, многие критики и журналисты в зрительном зале испытывали чувства, мешавшие им предаваться бескорыстному наслаждению искусством.
Но несмотря на все споры (а отчасти и благодаря им), вот уже пятнадцать, а то и более, лет, как универсальный гений Брехта — драматурга, поэта и прозаика, режиссера и теоретика театра — завоевал всемирное признание. Его пьесы завладели подмостками театров Берлина и Гамбурга, Москвы и Нью-Йорка, Парижа и Варшавы, Праги и Лондона, Милана и Токио. Его эстетические идеи оказывают могучее влияние на современное художественное развитие во всем мире. Еще при жизни Брехта известный швейцарский писатель Макс Фриш написал статью «Брехт как классик». Несомненно являясь классиком в сознании миллионов читателей и зрителей, литературоведов и театроведов, Брехт вместе с тем сохраняет и в настоящее время неувядаемую актуальность и остроту и достойно представляет художественные завоевания нового, социалистического мира на международном форуме искусств.
* * *
Бертольт Брехт родился 10 февраля 1898 года в Аугсбурге. Родители его — по происхождению из коренных шварцвальдских крестьян — принадлежали к довольно состоятельным гражданам этого, в то время небольшого, баварского города. Отец будущего писателя, начав карьеру торговым служащим в 1914 году стал директором крупной бумажной фабрики. Своим детям он создал материальные предпосылки для солидного буржуазного будущего. Но старший сын еще в юные годы порвал с семейными традициям и, стал изгоем и бунтарем против мещанского уклада жизни.
Оглядываясь впоследствии на пройденный путь, Брехт писал:
Мои родители Нацепляли на меня воротнички, растили меня, Приучая к тому, что вокруг должна быть прислуга, Учили искусству повелевать. Однако Когда я стал взрослым и огляделся вокруг, Не понравились мне люди моего класса, Не понравилось мне повелевать и иметь прислугу. И я покинул свой класс и встал В ряды неимущих.Литературное и художественное призвание пробудилось у Брехта очень рано. С 1914 года стихи и эссе шестнадцатилетнего гимназиста стали уже регулярно появляться в печати. В 1918 году Брехт — в то время студент-медик и санитар в военном госпитале — пишет (ныне знаменитую) «Легенду о мертвом солдате», в которой в форме сатирического гротеска изобразил империалистическую вильгельмовскую Германию, обреченную гибели и уже тронутую трупным тлением. Впоследствии, через пятнадцать лет, это стихотворение послужило гитлеровцам основанием для лишения Брехта германского гражданства.
В том же 1918 году поэт становится драматургом. Возникают первые пьесы Брехта — «Ваал», «Барабаны в ночи», «В чаще городов». Из захолустного Аугсбурга писатель переезжает в Мюнхен, позднее, в 1924 году, в Берлин — в центры немецкой художественной и театральной жизни 20-х годов. Здесь он пробует свои силы в качестве режиссера, здесь его пьесы впервые видят свет рампы. После премьеры «Барабанов в ночи» в Мюнхене 29 сентября 1922 года влиятельный берлинский критик Герберт Иеринг писал в газете «Берлинер берзенкурир»: «Двадцатичетырехлетний художник Берт Брехт в течение одного дня изменил художественный облик Германии». Результатом этой премьеры было присуждение молодому драматургу самой почетной в Германии литературной премии — премии имени Клейста за 1922 год. С этого момента Брехт перестает быть лишь кумиром узкого круга поклонников — его имя завоевывает всегерманскую известность.
Между тем переезд в Берлин вселил в писателя ощущение совсем других масштабов жизни; социальная действительность огромного индустриального города поставила его лицом к лицу с новыми конфликтами. Логика общественного развития и внутренние потребности творческого процесса — все это властно приводит Брехта к решающему рубежу на его пути, к марксизму. Жизнь заставляет его обратиться к книгам (в октябре 1926 года он с увлечением изучает «Капитал» Маркса), книги вооружают его, дают ему компас, которым он руководствуется в запутанном лабиринте социальной жизни.
Обращение Брехта к марксизму не подсказывалось ему жизненным опытом Представителя угнетенных низов, не вытекало из повседневной практики классовой борьбы пролетариата. Оно было прежде всего вызвано интеллектуальней и нравственными мотивами, остротой проблем, с которыми он, художник и мыслитель, сталкивался в жизни и творчестве. Это было свободное решение, продиктованное бескорыстным разумом и чувством социальной справедливости.
В конце 20-х годов литературная слава Брехта быстро растет. Успех его «Трехгрошовой оперы» (1928), в котором немалую роль сыграла великолепная музыка Курта Вайля, был необычен даже для богатой яркими событиями театральной истории Берлина. Имя Брехта приобретает широкий международный резонанс. И вместе с тем, по мере все большего сближения писателя с идеологией революционного рабочего класса, обостряется его конфликт с буржуазной публикой, премьеры его пьес все чаще сопровождаются скандалами и обструкциями. Травля Брехта становится организованной. За ним, как «убежденным коммунистом и в качестве такового действующим в интересах КПГ писателем», устанавливается полицейская слежка, ряд его произведений подвергается цензурным и административным гонениям.
В мае 1932 года Брехт впервые посетил Советский Союз. Его приезд был связан с премьерой фильма «Куле Вампе» (режиссер Златан Дудов, сценарий Брехта и Отвальда, музыка Ганса Эйслера) в Москве. Когда писатель вернулся в Германию, в стране уже повсеместно ощущалась грозная опасность гитлеровского переворота. Брехт пишет «Песню о штурмовике», «Когда фашизм набирал силу» и другие антифашистские стихотворения. Но развязка неумолимо приближалась, и Брехт знал еще с ноября 1923 года (когда во время гитлеровского путча в Мюнхене его имя было занесено фашистами в черный список лиц, подлежащих уничтожению), что в условиях нацистской диктатуры ему пощады не будет. 27 февраля 1933 года объятый пламенем рейхстаг подал Брехту сигнал: пора, промедление смерти подобно! — и на следующий день писатель покинул Германию.
«Меняя страны чаще, чем башмаки», Брехт отправился в свои эмигрантские скитания. Путь его лежал через Прагу, Вену, Цюрих, Париж. Летом 1933 года по приглашению датской писательницы Карин Михаэлис он со своей семьей переехал в Данию. Писатель хотел держаться поближе к германской границе, чтобы всегда быть готовым вернуться на родину и чтобы иметь лучшие возможности для ведения антифашистской пропаганды в Третьей империи. И его перо, и общественная деятельность в эти годы подчинены прежде всего одной задаче — борьбе против германского фашизма. Он выступает в 1935 году в Париже с трибуны Конгресса в защиту культуры, пишет боевые песни, памфлеты, статьи, в 1936–1939 годах становится совместно с Вилли Бределем и Лионом Фейхтвангером соиздателем выходившего в Москве литературно-художественного журнала «Дас ворт».
Активная антифашистская деятельность Брехта создавала для него трудности и опасности в странах, где он жил на положении политического изгнанника. Над ним не раз навивала угроза выдачи на расправу гитлеровским властям, и по мере расширения фашистской агрессии в Европе эта угроза становилась все более реальной. Понимая, что готовится вторжение в Данию, Брехт успевает в апреле 1939 года переехать в Швецию. Но после нацистской оккупации Дании и Норвегии у него и здесь накаляется почва под ногами, и в апреле 1940 года он переселяется в Финляндию, а еще через год, накануне вступления Финляндии в войну, пересекает в транссибирском экспрессе Советский Союз и И июня 1941 года отплывает из Владивостока на шведском пароходе в США.
В Америке Брехт провел шесть с лишним лет, после Дании это была вторая длительная остановка на его эмигрантском пути. Здесь он встретился со многими своими друзьями и соратниками времен веймарской Германии: с Лионом Фейхтвангером, Эрвином Пискатором, Гансом Эйслером, Альфредом Деблином и другими, здесь вокруг него образовался круг американских друзей, к которому принадлежали Чарли Чаплин, Чарльз Лафтон, переводчики, пропагандисты его творчества. И все же, как нигде еще, Брехт чувствовал себя чужим в США, в атмосфере, где все области жизни — от политики до искусства — были отравлены духом коммерции. Творчество писателя в общественном смысле не реализуется, он не находит себе издателей, Голливуд равнодушен к его идеям и сценариям, его новые пьесы — их уже свыше десятка — одна за другой складываются в ящик, оставшись не воплощенными на сцене.
Когда в Европе отгремели последние залпы второй мировой войны, а из Азии докатилось эхо первых атомных взрывов, Брехт уже деятельно готовился к возвращению на родину. Он несколько задержался — сначала добровольно, чтобы подготовить совместно с Чарльзом Лафтоном американскую премьеру «Жизни Галилея», а затем уже вынужденно: комиссия конгресса США по расследованию антиамериканской деятельности, предприняв «охоту на ведьм», привлекла и Брехта к ответственности по подозрению в принадлежности к «коммунистическому заговору в Голливуде». Он был вызван на допрос в Вашингтон, но его спасли глупость и невежество конгрессменов, которых он сумел запутать, сбить с толку, перехитрить. Он покинул здание конгресса без стражи, но разумно решил дольше судьбу не искушать. Подобно тому как, преследуемый Гитлером, он покинул Германию на следующий день после поджога рейхстага, так и теперь, на следующий день после допроса, он покинул США. 31 октября 1947 года он вылетел самолетом в Париж, а 5 декабря уже был в Швейцарии, где прожил около года.
22 октября 1948 года Брехт вернулся в Берлин — завершилось продолжавшееся свыше пятнадцати лет кругосветное путешествие. В эти дни он писал:
Когда я вернулся, Волосы мои еще не были седы, И я был рад. Трудности преодоления гор позади нас, Перед нами трудности движения по равнине.Настало время жатвы. В эмиграции Брехт за редкими исключениями был оторван от театральной практики. Теперь первая забота писателя — вдохнуть в свои пьесы сценическую жизнь. Он начинает с постановки «Мамаши Кураж». 11 января 1949 года состоялась ее премьера, вылившаяся в подлинный триумф Брехта как драматурга и режиссера. Вслед за тем Брехт организует театр «Берлинский ансамбль», в спектаклях которого наконец осуществляет свои годами накопленные творческие идеи, экспериментирует, пролагает новые пути. Он становится крупнейшей фигурой в художественной, культурной и общественной жизни Германской Демократической Республики.
Его влияние приобретает международный характер, его слово звучит во всех уголках земного шара. Смотреть его спектакли съезжаются люди со всех пяти континентов. В свою очередь, гастроли «Берлинского ансамбля» в Париже и Варшаве, Москве и Лондоне, Ленинграде и Риме и т. д. утверждают славу театра Брехта во всем мире и способствуют широкому распространению брехтовской драматургии, которая завоевывает театральные подмостки десятков стран.
В 1951 году Брехт был удостоен Национальной премии ГДР первой степени. В 1953 году он был избран президентом Германского ПЕН-центра, в 1954 году — вице-президентом Академии искусств ГДР. В декабре 1954 года в ознаменование его заслуг в деле укрепления мира и дружбы между народами Брехт был награжден Международной Ленинской премией «За укрепление мира», и в мае 1955 года приезжал в Москву, где ему вручалась высокая награда. Он был убежденным патриотом своей республики, горячо поддерживал ее миролюбивую политику, гордился социальными завоеваниями германского государства трудящихся. Отметая как злобные нападки, так и заигрывания со стороны реакции, Брехт с достоинством писал: «У меня такие убеждения не потому, что я здесь (то есть в ГДР. — Я. Ф.); я здесь потому, что у меня такие убеждения».
В 1955 году здоровье Брехта начало ухудшаться. Уже давно он работал с непосильным напряжением. Весной 1956 года ему пришлось прервать репетиции пьесы «Жизнь Галилея» и лечь для продолжительного лечения в больницу. Затем он снова вернулся к работе. 10 августа после очередной репетиции он почувствовал резкую слабость и 14 августа 1956 года скончался от инфаркта миокарда. Он похоронен на кладбище Доротеенфридхоф, по соседству с могилами Гегеля и Фихте.
* * *
Слава Брехта — драматурга, теоретика театра, революционного преобразователя сценического искусства — часто заслоняет и отодвигает на задний план, особенно вне стран немецкого языка, другие стороны его творчества. Но талант его был воистину универсален, и теперь, когда в ГДР и ФРГ завершились многотомные издания стихотворений Брехта, становится для всех очевидным, каким глубоким по мысли, неповторимо самобытным и оригинальным поэтом он был.
Стихи Брехта начали появляться в печати еще в годы первой мировой войны — первое десятилетие его поэтического творчества было подытожено to 1927 году сборником «Домашние проповеди». В немецкую поэзию он вошел как современный вагант, слагающий где-то на уличном перекрестке песни и баллады и исполняющий их перед публикой под аккомпанемент гитары. Стихи молодого Брехта были проникнуты отвращением к лицемерным и постным добродетелям буржуазного мира, к нравственным прописям преуспевающего мещанина. Поэт с беспощадной зоркостью видит, что вся официальная мораль — выражена ли она в господних заповедях или в правилах хорошего тона — призвана лишь завесой фарисейских фраз прикрыть подлинную жизнь буржуазного индивида, оргию хищнических инстинктов, волчий эгоизм, разгул корыстных страстей.
Герой «Домашних проповедей» — аморалист, человек, свободный от всякого нравственного бремени. К этому герою-хищнику Брехт относится двойственно. Поэту отчасти импонирует его беззастенчивая прямота, дерзость, с которой он, ни перед чем не останавливаясь, овладевает всеми радостями жизни. Чем, в сущности, этот «естественный человек» хуже добродетельного буржуа? И более того: разве он в своем откровенном бесстыдстве не лучше тех жалких ханжей и трусов, которые стремятся прикрыть свои низменные действия возвышенными и лживыми фразами? И разве, наконец, его жадное жизнелюбие не более естественно и правомерно, чем аскетическое прозябание в духе поповских проповедей о бренности земного бытия?
Брехт отнюдь не солидаризируется со своим аморальным и асоциальным героем, но и не тычет в него обличающим перстом. Он знает: человек таков, каким его делают условия его жизни, и безнравственность его обусловлена уродствами общественной действительности. Социально-критическая тема в «Домашних проповедях» тесно связана с антирелигиозными мотивами поэзии молодого Брехта. Исполненные боли и сострадания и в то же время язвительно-саркастические рассказы о бездомных бедняках, замерзающих в рождественскую ночь («Рождественская легенда»), о голодных, требующих хлеба и расстреливаемых войсками и полицией при ленивом равнодушии сытых обывателей («Литургия дуновения»), о круговороте социальной несправедливости, освященной деспотическим авторитетом божественного промысла («Гимн богу») и т. д., — эти рассказы поэт облекает в форму пародии на хоралы, церковные песнопения, тем самым резко сталкивая теорию и практику религии, моральные заповеди христианства с социальной действительностью общества, исповедующего христианское вероучение.
Брехт вообще широко обращается к приемам пародии. Пародируя религиозные псалмы и хоралы, нравоучительные мещанские романсы из репертуара уличных певцов и шарманщиков и хрестоматийно популярные стихи Гете и Шиллера, он эти столь благочестивые и респектабельные формы наполняет стремительными и дикими, то нарочито наивными, то вызывающе циничными рассказами о преступниках и развратниках, пиратах и золотоискателях, находящихся в смертельном единоборстве с природными стихиями и враждебными силами общества.
Литературная генеалогия «Домашних проповедей» восходит к разным источникам. Брехт развивает традицию уличных романсов и баллад, то наивно-сентиментальных, то насмешливо-пародийных, нравоучительных и циничных одновременно, традицию эстрадно-песенной поэзии, так называемого бенкельзанга, представителями которого в недавнее время были Франк Ведекинд и поэты знаменитого мюнхенского кабаре «Одиннадцать палачей». Вместе с тем в стихах молодого Брехта ощутимо влияние Франсуа Вийона, Артюра Рембо, Редьярда Киплинга, Франка Ведекинда. Эти поэты, в большинстве сами люди шальной судьбы, дерзкие жизнелюбы, слагавшие баллады об авантюристах, солдатах, богохульниках, естественно и свободно вписывались в поэтический мир молодого Брехта и одновременно обогащали новыми красками его художественную палитру.
С середины 20-х годов, вскоре после переезда Брехта в Берлин, облик его поэзии начинает существенно изменяться. На смену океанским просторам, тропическим джунглям, буйному цветению «покладистой», равнодушной к добру и злу природы приходит серый, сумрачный, железобетонный, жестоки и и бездушный индустриальный город, на смену пиратам и бродягам — «жители городов». Соответственно меняются язык и стиль. Дикая, почти хаотическая красочность речи, безудержно расточительная образность, язык, полны и страсти и аффектов, кипящий поток ослепительно ярких метафор, грубых и удивительно самобытных сравнений — все это уступает место поэтике сдержанности, деловитости, конкретности. «Хрестоматия для жителей городов» — так должна была называться вторая книга стихов Брехта, над которой он работал в 1926–1927 годах, но которая так и не вышла в свет. В стихах, написанных для этой «Хрестоматии», поэт с необычайной по тем временам остротой общественного восприятия (хотя в известной мере интуитивно, больше чутьем, чем зрелым сознанием) запечатлел социальный феномен отчуждения личности в индустриально-техническом капиталистическом мире…
Стихи для «Хрестоматии» имели в творчестве Брехта переходное значение. После того как Брехт пришел к последовательно революционному мировоззрению и его поэзия и творчество в целом окрылились коммунистической идейностью (то есть начиная с рубежа 20-30-х годов и в особенности в сбор никах периода антифашистской эмиграции «Песни, стихотворения, хоры» и «Свендборгские стихотворения»), основная и неизменная черта его поэзии — преданность трезвой и суровой правде без прикрас и всяческих «красивых» слов и «благородных» чувств — перешла в новое качество. Отныне пафосом всего его поэтического творчества стало опирающееся на ясное марксистское сознание разоблачение всех видов социальной лжи господствующих классов.
Зрелой поэзии Брехта присуща грубая простота выражений, за которыми чувствовался поэт, привыкший не стыдиться «низменности» своих воззрений на жизнь, не приукрашивать и не маскировать их патетической фразой.
Не признавая «благостной лжи», Брехт самые неприятные вещи называет своими именами. Он враг «возвышенного», ибо знает, что за ним скрывается и из каких источников проистекает подозрительное пристрастие к красноречию и пафосу.
Те, что крадут мясо с нашего стола, Проповедуют довольство жизнью. Те, что получают мзду, взимаемую с нас, Требуют жертвенной готовности. Нажравшиеся досыта обращаются к голодным с речами О грядущих великих временах, —так говорит Брехт в своих «Азах о войне — немцам», а несколько выше замечает:
У высоких господ Разговор о еде считается низменным. Это потому, что Они уже поели… …Если люди из низов Не будут думать о низменном, Они никогда не возвысятся.Своей поэзией Брехт учил по-настоящему понимать то, что многим лишь кажется понятным. Он обнажал простые истины классовой борьбы, грубые и «низменные» истины, столь часто маскируемые напыщенными рассуждениями о «чести», «славе», «долге» и т. д., он вскрывал материальную подноготную самой «идеальной» лжи. В сотрясаемой экономическим и политическим кризисом предгитлеровской Германии, а затем в странах своего изгнания он пытливо всматривался в социальные аномалии капиталистического мира, создавая неповторимо оригинальную поэзию, удивительный сплав философской мысли и искусства слова. Он сумел подняться на уровень самой высокой интеллектуальности в работе над темами, которые под пером иных его литературных соратников оставались элементарной (хотя и зарифмованной) политграмотой. Для него поэзия лишь начиналась там, где для многих других она заканчивалась. Он умел заставить читателей поражаться новизне того, что те привыкли считать старым, он был ярко оригинален даже в таких тематических областях, которые давно уже казались кладбищами трюизмов, он умел делать драгоценные открытия при разработке, казалось бы, уже истощенных месторождений.
В тяжелые для человечества годы, годы мирового экономического кризиса, фашизма и второй мировой войны, поэзия Брехта была неотступно сосредоточена на главных вопросах современной жизни, на вопросах революционной переделки несправедливого социального строя и на общественной позиции, общественной активности человеческой личности. Счастье и муки любви, величие и красота природы, наслаждение искусством и духовным богатством человечества — все это влекло к себе поэта и в «тяжелые времена».
Но «тяжелые времена» оскверняли светлые и радостные стороны жизни и временно оттесняли их в поэзии Брехта на задний план:
Во мне вступили в борьбу Восторг от яблонь цветущих И ужас от речей маляра, Но только второе Властно усаживает меня за стол.Один немецкий критик справедливо заметил: «Брехт настолько драматург, что многие его стихотворения следует понимать как высказывания сценических персонажей». Подобно тому, как в драме автор, как правило, не выступает непосредственно от своего имени, а высказывается через персонажей и их отношения в диалоге и действии, так и стихи Брехта — в том числе и написанные от первого лица — не всегда бывают формой лирического самовыражения автора, а иногда представляют собой как бы монологи того или иного действующего лица, ярко и выразительно передающие его характер и социально-психологические черты. При этом, как и бывает обычно в драме, Брехт в стихах предоставляет слово не только лицам, с которыми он солидарен, но и персонажам, ему чуждым или враждебным.
Ограничимся лишь одним примером — возьмем стихотворение «Голливуд»:
Чтобы заработать себе на хлеб, я каждое утро Отправляюсь на рынок, где торгуют ложью. Уповая на успех, Я становлюсь посреди продавцов.Это стихотворение является самовысказыванием художника, превратившего свой талант, свое мастерство в предмет купли-продажи, поставляющего ложь, поскольку на правду нет спроса. Автор выражает осуждение своему персонажу; но он вкладывает в его слова также и еле уловимую ноту какого-то частичного признания вынужденности его поведения. Ведь он не только поставщик дурмана и, следовательно, соучастник преступлений господствующего класса, но одновременно и жертва, объект эксплуатации. Он продает себя, чтобы не умереть с голоду. Он надеется на успех, но к его надежде примешивается в то же время и некоторое сознание своей виновности, и чувство стыда по поводу неблаговидности своего ремесла. Все это его не оправдывает, но в то же время приводит читателя к мысли, что не менее виновно и буржуазное общество, строй, основанный на экономическом принуждении.
Правда, можно возразить, что процитированное крохотное стихотворение не содержит в себе того, что мы ему приписываем, во всяком случае, не содержит всего этого в полном объеме, в абсолютно ясной, развернутой и законченной форме. Если все это и есть, то не более как в зародыше, в намеке. А кроме того, возможно и несколько иное толкование. Может быть, персонаж стихотворения — истинный и честный художник, он не может и не хочет торговать ложью и не продает свою совесть. И хотя он идет на рынок, но среди продавцов он — белая ворона, и шансов продать свой товар у него нет. А его надежда на успех — лишь дань его честной наивности, лишь следствие того, что ему недостает трезво-циничного понимания действительности, в которой он живет. При таком толковании оценочный тезис (Голливуд — рынок, где торгуют ложью) остается незыблемым, но в этих пределах возможные ситуации существенно варьируются.
Во всех этих и подобных возражениях есть свой резон. Признавая это, мы приходим к одной характерной особенности поэзии Брехта. Он стремился своими стихами активизировать мысль читателя. Поэтому он ищет предельной лаконичности, часто давая в стихах не весь ход своих мыслей во всех деталях, а лишь ярко и выпукло сформулированные отправные пункты для дальнейшего домысливания. Поэтому так экономна и четко организована его поэтическая речь, в которой строго взвешены и продуманы каждое слово, малейший интонационный оттенок. Достаточно обратиться к стихотворениям «Ночлег» или «К потомкам», чтобы увидеть, как рациональна поэтическая конструкция Брехта, как еле заметными, легчайшими прикосновениями к привычным, почти банальным словам он указывает на их скрытый, глубинный смысл, как уводит он читателя в область трудной мысли и ставит его перед необходимостью принять ответственные интеллектуальные решения. Он как бы приглашает читателя в соавторы. Поэтический смысл его стихотворений бесконечно богаче их прямого дословного смысла.
И особенно это относится к позднему творчеству Брехта, к его стихам 50-х годов, к «Буковским элегиям». Эти элегии по своему лаконизму и емкости напоминают классиков древнекитайской поэзии Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюй-и. Брехт их внимательно изучал, некоторых переводил. Стихи-миниатюры, занимающие сами по себе пространство минимальное, оставляют в то же время обширное пространство для лирических ассоциаций и осмыслений. За их непосредственным содержанием угадываются размышления о смысле жизни, о красоте природы и величии человеческого труда, о счастье и горе, добре и зле… Так на протяжении десятилетий — от «Домашних проповедей» до «Буковских элегий» — поэт выступает в изменяющихся обличиях. Брехт страстный. Брехт логичный. Брехт мудрый.
* * *
Первые пьесы Брехта по выраженному в них жизнеощущению были сродни балладам из «Домашних проповедей». Герой пьесы «Ваал» (1918) — человек жизнелюбивый, но аморальный, талантливый, но находящийся во власти самых низменных инстинктов: пьяница, развратник, насильник, наконец, убийца. И все же в нем заключена какая-то частица правды, ибо подавляемое в буржуазном обществе стремление человека к земному, материальному счастью естественно и неистребимо. В этом смысле между «Ваалом» и некоторыми героями позднего Брехта протянулись связующие нити. В мамаше Кураж и в поваре Ламбе, в Аздаке и даже в Галилее сохранялись какие-то восходящие к Ваалу начала — жадное жизнелюбие, плотская чувственность и влечение к земной радости. Но у героев позднего Брехта эти качества находятся в очень сложных и подчас продуктивных отношениях с жизнью общества, у Ваала же влечение к счастью носит односторонне-асоциальный, примитивно-эгоистический, более того, хищнический и разрушительный характер.
Проблемы нравственной природы человека, стоявшие в центре ранних произведений Брехта, выступают в пьесе «Барабаны в ночи» (1919) в новом аспекте: здесь они из условной, вневременной обстановки, в которой протекает действие «Ваала», перенесены в конкретно-историческую ситуацию германской революции. Берлин, январь 1919 года. Шикарный ресторан «Пиккадилли-бар», в котором собрались военные наживалы и шиберы, словно сошедшие с картин Отто Дикса или Георга Гросса. За окнами грохочут барабаны революции, из газетных кварталов доносится шум уличного боя — восстание «Спартака». В этот реально-исторический фон вплетена судьба вернувшегося из плена солдата Андреаса Краглера.
Краглер состоит в некотором родстве с Ваалом. Правда, эгоизм и индивидуализм Ваала носят деструктивно-анархический характер и заключают в себе дерзкий вызов буржуазной морали и правопорядку, в то время как эгоизм Краглера, как оказывается, вполне укладывается в рамки бюргерской морали и законности. Ваал необуздан и страшен, а обиженный и разгневанный мещанин Краглер способен не более чем на истерику. Как личность, он калибром помельче, но и он, по понятиям молодого Брехта, «естественный человек», не знающий иной морали, кроме правила: своя рубашка ближе к телу.
В «Ваале» Брехт больше задавался вопросом о сущности человека как определенной биологической особи; облик героя этой пьесы лишь в очень малой степени объяснялся условиями его общественного бытия. В «Барабанах в ночи», напротив, личная мораль Краглера светит отраженным светом морали того общества, в котором он живет, и «естественность» его шкурнического поведения — «естественность» не биологическая, а социальная. Он является не только жертвой жадных собственников, спекулянтов и нуворишей, но и их выучеником: глядя на них, он понял, что на пути к личному преуспеянию не стоит быть разборчивым и совестливым, что собственное благополучие завоевывается ценой чужого, ибо «конец свиньи есть начало колбасы».
Такая картина буржуазного общества и его морали заключает в себе немало объективной правды. В наблюдениях Брехта было много справедливого и в более узком, конкретно-историческом смысле. Революционные ряды были засорены случайно примкнувшими, неустойчивыми, примазавшимися элементами, временными и ненадежными попутчиками, готовыми на любом крутом повороте, в минуты решающих испытаний стать ренегатами, вернуться в свое мещанское болото. Это была одна из слабостей германской революции 1918–1923 годов. Но, увидев эту слабость, Брехт не сумел осознать объективное значение революции и историческую роль пролетариата в ней. Оценивая спустя три с половиной десятилетия свою юношескую драму, автор писал: «Видимо, моих знаний хватило не на то, чтобы воплотить всю серьезность пролетарского восстания зимы 1918/19 года, а лишь на то, чтобы показать несерьезность участия в нем моего расшумевшегося «героя».
Когда в мировоззрении Брехта начали обозначаться знаменательные перемены, связанные с переходом к марксизму, то есть со второй половины 20-х годов, писатель примерно в это же время формулирует «в первом приближении» основные положения своей знаменитой теории эпического театра — теории, которая сказалась самым существенным образом на всех аспектах театрального творчества самого Брехта. Собственно, и приход Брехта к марксизму, и его творческие искания, нашедшие свое выражение в идее эпического театра, проистекали из единого источника — из наблюдений над современной действительностью, над всеми социальными проявлениями империализма. Жизнь требовала своего идейно-философского осмысления (его орудием стал для Брехта марксизм), она требовала от художника и своего воплощения в искусстве в адекватной ей эстетической форме. «Такие крупномасштабные явления, — писал Брехт, — как война, деньги, нефть, железные дороги, парламент, наемный труд, земля, фигурируют там (в литературе, на сцене, в кино. — Я. Ф.) сравнительно редко, по большей части как декоративный фон…»
Таким образом, представление об эпическом театре, каким оно постепенно складывалось у Брехта в конце 20-х годов, питалось поисками средств для выражения новой исторической действительности с ее новыми темами и масштабами событий, с новыми конфликтами, новыми героями, новыми сферами действия. Обращение к «крупномасштабным явлениям» определило уже в 20-е годы такие особенности эпической драмы Брехта, как отказ от камерного действия, замкнутого в кругу частных отношений, отказ от классического деления на акты и замена его хроникальной композицией со сменой эпизодов и сцен и т. д.
Раскрытие общественных закономерностей средствами искусства и социальное просвещение зрителя — в этом Брехт видит главную задачу своего эпического театра, равно как и основной норок современного буржуазного театра в том, что по самому своему классовому назначению этот театр является рассадником иллюзий или, как говорят о кинематографии определенного рода, «фабрикой снов». Он призван оказывать на зрителя наркотическое, усыпляющее действие, внушать ему настроения фаталистической покорности и пассивности, отвлекать от жизни и борьбы и переносить его в мир мечты и обмана, давая ему тем самым иллюзорную компенсацию за бесправие и унижения, которые он терпит в реальной жизни. Этот театр-дурман («отрасль буржуазной торговли наркотиками») должен быть, по мысли Брехта, заменен театром, имеющим противоположные задачи — воспитывать в зрителе классовое сознание, научить его понимать и анализировать сложные явления жизни, политически активизировать его и направить его социальное поведение по правильному пути, то есть вызвать у него стремление к революционному изменению жизни, внушить ему уверенность в возможности переделки природы, переустройства общества, перевоспитания человека на началах разума и справедливости.
Теория эпического театра была теорией универсальной, то есть охватывающей все области театрального искусства и обобщающей принципы, на которых строится творческая работа драматурга, режиссера, актера, художника, композитора и т. д., вплоть до гримера и осветителя. Брехт различает два вида театра: драматический и эпический. Драматический стремится подчинить себе эмоции зрителя, чтобы он испытал катарсис через страх и сострадание, чтобы он всем своим существом отдался происходящему на сцене, сопереживал, волновался, утратив ощущение разницы между театральным действием и подлинной жизнью, и чувствовал бы себя не зрителем спектакля, а лицом, вовлеченным в действительные события. Эпический же театр, напротив, должен апеллировать к разуму и учить, должен, рассказывая зрителю об определенных жизненных ситуациях и проблемах, соблюдать при этом условия, при которых тот сохранял бы если не спокойствие, то, во всяком случае, контроль над своими чувствами и во всеоружии ясного сознания и критической мысли, не поддаваясь иллюзиям сценического действия, наблюдал бы, думал, определял бы свою принципиальную позицию и принимал решения.
Приведем сопоставительную характеристику драматического и эпического театра, сформулированную Брехтом в 1936 году:
«Зритель драматического театра говорит: да, я уже тоже это чувствовал. — Таков я. — Это вполне естественно. — Так будет всегда. — Страдание этого человека меня потрясает, ибо для него нет выхода. — Это великое искусство: в нем все само собой разумеется. — Я плачу с плачущим, я смеюсь со смеющимся.
Зритель эпического театра говорит: этого бы я никак не подумал. — Так не следует делать. — Это в высшей степени поразительно, почти невероятно. — Этому должен быть положен конец. — Страдание этого человека меня потрясает, ибо для него все же возможен выход. — Это великое искусство: в нем ничто само собой не разумеется. — Я смеюсь над плачущим, я плачу над смеющимся».
Создать между зрителем и сценой дистанцию, необходимую для того, чтобы зритель мог как бы со стороны наблюдать и умозаключать, чтобы он смеялся над плачущим и плакал над смеющимся, то есть чтобы он дальше видел и больше понимал, чем сценические персонажи, чтобы его позиция по отношению к действию была позицией духовного превосходства и активных решений, — такова задача, которую согласно теории эпического театра, должны совместно решать драматург, режиссер и актер. Для последнего это требование является особо обязывающим. Актер должен показывать определенный человеческий характер в определенных обстоятельствах, а не просто быть им; он должен в какие-то моменты своего пребывания на сцене стоять рядом с создаваемым им образом, то есть быть не только его воплотителем, но и его судьей.
Чтобы создать предусмотренное теорией эпического театра отношение публики к сценическому действию, Брехт теоретически обосновывает и сознательно вводит в свою творческую практику в качестве принципиально обязательного момента так называемый «эффект очуждения». По существу «эффект очуждения» — это определенная форма объективирования изображаемых явлений, он призван расколдовать бездумный автоматизм зрительского восприятия. «Что такое очуждение? — спрашивает Брехт и отвечает на этот вопрос: — Произвести очуждение определенного события или характера — это прежде всего значит лишить это событие или характер всего, что само собой разумеется, знакомо, очевидно, и напротив — вызвать по его поводу удивление и любопытство». Зритель узнает предмет изображения, но в то же время воспринимает его образ как нечто необычное, «очужденное»… Иначе говоря, с помощью «эффекта очуждения» драматург, режиссер, актер, художник показывают те или иные жизненные явления и человеческие типы не в их обычном и примелькавшемся виде, а с какой-либо неожиданной и новой стороны, заставляющей зрителя по-новому посмотреть на, казалось бы, старые и уже известные вещи, активнее ими заинтересоваться и глубже их понять. «Смысл этой техники «эффекта очуждения», — поясняет Брехт, — заключается в том, чтобы внушить зрителю аналитическую, критическую позицию по отношению к изображаемым событиям».
Итак, в основе «эффекта очуждения» лежит вполне намеренное отклонение от привычного, видимого облика явлений и предметов, сознательный отказ от того, чтобы посредством искусства создавать иллюзию действительности. Этот принцип осуществляется Брехтом как в его драматургии (начиная с сюжетосложения и образотворчества и вплоть до применения сонгов и таких особенностей языка, как частое употребление парадоксов, нарочито наивное применение слов, собственное значение которых противоречит смыслу, придаваемому им контекстом, и т. д.), так и в способах сценического воплощения пьес (перестройки на сцене при раздвинутом занавесе, условно-намекающий характер декораций, маски и т. д.).
Первым произведением, в котором отчасти отразилась новая идейно-эстетическая ориентация Брехта и его принципы эпического театра, была комедия «Что тот солдат, что этот» (1924–1926). И уже в полной мере это сказалось в «Трехгрошовой опере» (1928) и последующих пьесах. Но, выдвигая свои теоретические положения, Брехт не сопровождал их никакими монополитическими притязаниями или нигилистически высокомерным отрицанием других форм реалистического искусства. Он не отвергал их даже в пределах собственной творческой практики, и, например, написанные им в 30-е годы одноактная пьеса «Винтовки Тересы Каррар» (1937) и сцены «Страх и нищета в Третьей империи» (1935–1938) были выдержаны вполне в духе драматического театра, в духе бытового и психологического «жизнеподобного» реализма.
В сценах «Страх и нищета в Третьей империи» Брехт вскрыл фальшь и двусмысленность, которые проникли во все поры общественного и приватного быта граждан фашистского государства. В империи страха и лицемерия произносимые вслух слова далеко не всегда выражали действительные мысли и чувства людей, их подлинное душевное состояние. Такие сцены, как «Правосудие», «Жена-еврейка», «Шпион», «Меловой крест» и др., свидетельствуют о высоком совершенстве, достигнутом Брехтом в искусстве диалога, лаконичного, точного и в то же время бесконечно богатого различными оттенками мысли, косвенными и привходящими значениями, тонким и выразительным подтекстом. Они демонстрируют филигранное мастерство, с которым писатель корректирует прямой смысл произносимых слов переосмысляющими их обстоятельствами сценического действия и сюжетных ситуаций.
«Страх и нищета в Третьей империи» как образчик драматического театра является в творчестве Брехта вершиной, достигающей высоты лучших творений его эпического театра. Эти лучшие творения Брехта следуют непрерывной чередой, начиная с его исторической хроники «Мамаша Кураж и ее дети» (1939) и параболической легенды «Добрый человек из Сычуани» (1938–1940).
«Мамаша Кураж и ее дети» писалась в преддверии второй мировой войны. Перед мысленным взором писателя уже вырисовывались зловещие очертания надвигающейся катастрофы. Его пьеса была словом предостережения, в ней был заключен призыв к немецкому народу не обольщаться посулами, не рассчитывать на выгоды, не связывать себя с гитлеровской кликой узами круговой поруки, узами совместных преступлений и совместной ответственности и расплаты.
Анна Фирлинг по прозвищу «мамаша Кураж» — маркитантка времен Тридцати летней войны. Она и ее дети — сыновья Эйлиф и Швейцеркас и немая дочь Катрин — с фургоном, груженным ходовыми товарами, отправляются в поход вслед за Вторым финляндским полком, чтобы наживаться на войне, обогащаться среди всеобщего разорения и гибели. Фельдфебель провожает фургон зловещей репликой:
Войною думает прожить — За это надобно платить.Проходит двенадцать лет. Следуя по дорогам войны, фургон мамаши Кураж исколесил Польшу, Моравию, Баварию, Италию, Саксонию… И вот он появляется в последний раз. Его влачит, низко согнувшись в непосильном напряжении, немощная одинокая старуха, неузнаваемо изменившаяся под тяжестью перенесенных страданий, не разбогатевшая, а, напротив, обнищавшая, заплатившая войне дань жизнью всех своих детей. Они стали жертвами войны, которая была бы невозможна без участия, поддержки, самоубийственной заинтересованности в ней сотен и тысяч таких, как Кураж. Прочь иллюзии и тщетные надежды: война не для маленьких людей, им она несет не обогащение, а лишь страдания и гибель.
Мамаша Кураж ничему не научилась, не извлекла уроков из судьбы своей семьи. Пережив потрясение, она узнала о его общественных истоках «не больше, чем подопытный кролик о законах биологии». Она даже не понимает, что сама является виновницей гибели своих детей. Из уст ничему не научившейся Кураж зритель не услышит полезного назиданья, но ее трагическая история, разыгрывающаяся перед глазами зрителя, просвещает и учит его, учит распознавать и ненавидеть грабительские войны. Слепота мамаши Кураж делает зрителя зорким.
И еще одна философская идея заключена в исторической хронике о Тридцатилетней войне. Детей Кураж приводят к гибели их положительные задатки, их хорошие человеческие свойства. Правда, эти положительные задатки по-разному развились в каждом из них, но в той или иной форме они присущи всем троим. Эйлиф погибает жертвой своей неутолимой жажды подвигов, своей (извращенной в условиях разбойничьей войны) храбрости; Швейцеркас расплачивается жизнью за свою — правда, наивную и недалекую — честность; Катрин, совершив подвиг, умирает из-за своей доброты и жертвенной любви к детям. Так логика сценического повествования приводит зрителя к выводу о глубокой порочности и бесчеловечности такого общественного строя, при котором лишь подлость обеспечивает успех и процветание, а добродетель ведет к гибели.
Эта мысль о диалектике добра и зла, об органической враждебности всего жизненного уклада буржуазного общества добрым («продуктивным», как их называет Брехт) началам человеческой натуры с большой поэтической силой была выражена в следующей пьесе писателя — «Добрый человек из Сычуани». Брехт нашел удивительную форму, условно сказочную и одновременно конкретно чувственную для воплощения, казалось бы, отвлеченной философской идеи. Взаимно враждебные и друг друга исключающие действия «доброй» Шен Де и «злого» Шои Да оказываются взаимно связанными и друг друга обусловливающими, да и сама «добрая» Шен Де и «злой» Шои Да, как выясняется, — вовсе не два человека, а один «добро-злой». Так, через необычный своеобразный сюжет Брехт раскрывает противоестественное и парадоксальное состояние общества, в котором добро ведет к злу и лишь ценою зла достигается добро.
Но пьеса «Добрый человек из Сычуани» не ограничивается констатацией и анализом этого уродливого социального феномена. Постно-филантропической позиции трех богов, которые требуют, чтобы человек был добр, и при этом ханжески закрывают глаза на общественные условия, мешающие ему быть таковым, — этой позиции писатель противопоставляет революционное требование изменения мира.
В «Добром человеке из Сычуани» Брехт достиг высокого искусства эпической, повествовательной драматургии. В частности, он очень широко и изобретательно применяет технику «цитирования», то есть такого построения сценического действия, при котором оно является как бы цитатой в устах повествователя, живой материализацией его рассказа.
В восьмом эпизоде пьесы госпожа Ян, выйдя к рампе и обращаясь к публике, говорит: «Я должна вам рассказать, как мой сын благодаря мудрости и строгости всеми уважаемого господина Шои Да превратился из опустившегося человека в полезного…» После еще нескольких повествовательных фраз госпожи Ян ее рассказ передается уже в виде сценического действия и диалога, время от времени прерываемых комментариями госпожи Ян, которая выступает в этой сцене главным образом как рассказчица, но так же и как действующее лицо своего рассказа.
Сценический рассказ госпожи Ян о карьере ее сына на табачной фабрике, как правильно подметил польский критик А. Вирт, свидетельствует о том, что Брехт в поисках расширения изобразительных возможностей драмы обращался не только к эпосу, но и к смежным областям искусства, в частности к кино. Рассказ госпожи Ян (в первой его части) представляет собой перенесение в драматургию приема, с помощью которого в кино передаются рассказ о событиях прошлого или воспоминания. Камера надвигается на рассказчика (вспоминающего), его лицо дается крупным планом, затем наплыв, оно исчезает, и на экране возникают первые кадры рассказа (воспоминания), в которых мы уже видим рассказчика (вспоминающего) в качестве действующего лица. Так и здесь: прожектор освещает госпожу Ян, стоящую у рампы, — ее вводные повествовательные слова — затемнение — прожектор освещает глубину сцены, где разыгрывается действие с участием госпожи Ян в качестве Одного из персонажей…
Последней пьесой, написанной Брехтом в годы второй мировой войны, был «Кавказский меловой круг» (1943–1945). В этой пьесе писатель использовал сюжет старинной восточной легенды о тяжбе двух женщин из-за ребенка и о мудром судье, хитроумным способом распознавшем действительную мать. Брехт внес в сюжет принципиальную новацию: судья отклоняет притязания действительной, кровной матери, равнодушной к ребенку и преследующей лишь корыстные цели, и присуждает маленького Михеля «чужой» женщине, которая спасла ему жизнь и самоотверженно ухаживала за ним, подвергаясь опасностям и лишениям. Дело не в кровном родстве, а в интересах ребенка и общества. Перед судьей Аздаком стоит по существу вопрос не о праве одной из «матерей» на ребенка, а о праве ребенка на лучшую мать.
Эта притча о тяжбе за Михеля, о судье Аздаке и его меловом круге тесно связана с другим сюжетным мотивом, развернутым в прологе, с другим спором — двух кавказских колхозов о долине, которая принадлежала одному из них, но в силу особых обстоятельств военного времени оказалась возделанной другим. Смысл сближения этих двух сюжетов — о ребенке и о долине — становится особенно понятным в свете того философского и поэтического обобщения, которое вложено в заключительные стихи пьесы:
Все на свете принадлежать должно Тому, от кого больше толку, и значит: Дети — материнскому сердцу, чтобы росли и мужали, Повозки — хорошим возницам, чтобы быстро катились, А долина тому, кто ее оросит, чтоб плоды приносила.Так из двух «частных» сюжетов вполне органически вырастает обобщающий вывод огромного исторического и социально-этического значения, рождается апофеоз социалистического гуманизма и социалистического общественного строя.
В конце пролога, перед спектаклем, представитель спрашивает певца: «Надолго эта история, Аркадий?» И тот отвечает: «Здесь, собственно, две истории…» Действительно, история о меловом круге распадается на две самостоятельные, параллельно идущие линии: это история служанки Груше Вачнадзе и история деревенского писаря Аздака. Обе истории протекают синхронно. Они начинаются одновременно — в день мятежа князей: в этот день Груше с маленьким Михелем бежит из города в горы, а Аздак предоставляет в своей хижине ночлег спасающемуся от заговорщиков великому князю. В течение последующих двух лет у Груше и Аздака — у каждого своя жизнь, и лишь в конце пьесы их пути скрещиваются у судейского кресла.
Аздак — одна из наиболее сложных фигур брехтовской драматургии, не поддающаяся прямолинейной сценической интерпретации. Рассказ деда о революции в Персии и привезенная им оттуда песня крепко запали Аздаку в голову, он, несомненно, стоит на стороне угнетенных и свой нежданно-негаданно доставшийся ему пост судьи использует во благо беднякам. Он руководствуется не юридическими нормами, а народным здравым смыслом, и если и опирается на формальный закон, то лишь в самом буквальном смысле этого слова — седалищем. При этом Аздак — вовсе не рыцарь без страха и упрека и не самоотверженный борец. И дело не только во взяточничестве, пьянстве и блуде, но и в той слабости его жизнелюбивой натуры, которая (слабость) заставляет его клонить голову перед опасностью. Страшась виселицы, Аздак дважды совершает акт отречения, униженно заискивая перед латниками и подобострастно выражая Нателле Абашвили свою покорность, но каждый раз, когда опасность минует, казнит себя за отступничество. В противоречиях Аздака многое напоминает драму Галилея (при всех разделяющих их различиях). Гуляка и озорник из грузинского аула совершил тот же роковой просчет, что и великий итальянский ученый, полагая, что «наступило новое время». Этот просчет побудил их обоих к рискованным действиям, за которые они расплачиваются бесславным отречением, презирая себя за собственную слабость…
«Кавказский меловой круг» был в творчестве Брехта, пожалуй, самым совершенным и последовательным воплощением принципов эпического театра. Все происходящее в этой пьесе — рассказ. Не в том условном смысле, что это драма, обогащенная повествовательными приемами рассказа, а в самом прямом и точном смысле этого слова — рассказ певца Аркадия Чхеидзе, восседающего на просцениуме и излагающего колхозникам старинную легенду о меловом круге. Брехт создал специальную фигуру «рассказчика», вернее — певца, из уст которого исходит все то, что зритель видит на сцене. Сценическое действие и диалог здесь не иллюстрация к рассказу, а сами от начала до конца суть рассказ, но рассказ сценический, то есть такой, в котором средства и возможности эпоса помножены на выразительность и сил у воздействия драмы.
Спектакль, над которым Брехт работал в последние недели своей жизни, был посвящен трагической и поучительной истории великого Галилея. Не случайно перед лицом великой революции в науке, таящей в себе и могучие созидательные, и страшные разрушительные возможности, писатель, охваченный тревогой за человечество, обратился к вопросу об общественном поведении ученого. И хотя герой пьесы Галилей, а не, скажем, Альберт Эйнштейн (кстати, в последние годы своей жизни Брехт работал над пьесой об Эйнштейне), и действие ее происходит не в наши дни, а в эпоху Возрождения, также эпоху великих социальных и научных революций, и, наконец, в пьесе нет попытки подменить Италию XVII века исторически костюмированной современностью, — все же читатель и зритель обязательно увидят в конфликте Галилея с верховной властью поразительное сходство с моральными проблемами, возникающими перед многими современными учеными. Ибо пьеса Брехта заставит задуматься над вопросами о долге и ответственности ученого перед человечеством, о полезном употреблении и опасном злоупотреблении плодами «чистой мысли», о взаимной связи интеллектуального и морального начал в науке, об общественном, гражданском лице ученого…
Галилей — каким его изображает Брехт — человек Возрождения, его плоть и дух освободились от власяницы средневекового аскетизма, он по-язычески влюблен в земную жизнь, а жизнь небесную стремится постичь уже не через священные тексты, а через телескоп. Но вскоре читатель начинает замечать обратную сторону жизнелюбия Галилея. Жизнь для него тождественна наслаждению, и моральный закон, гласящий, что во имя истины нужно иногда уметь поступаться удовольствиями, что долг выше удовольствия, с его точки зрения, абсурден. В этом заключена страшная опасность: пройдут годы — и поставленный перед неумолимым выбором Галилей пожертвует высокими радостями творческой мысли ради низменных плотских удовольствий и бытового комфорта.
Учение Галилея становится фактором жестокой классовой борьбы. Господа его преследуют, ибо оно противоречит Библии, а они прекрасно знают, к чему ведет подрыв авторитета Священного писания, которое «обосновывало необходимость пота, терпения, голода, покорности…». Зато на рыночных площадях славят «Галилео — разрушителя Библии». Народ переносит принципы передовой астрономии с неба на землю: в открытиях Галилея, который перевернул вверх тормашками всю почитаемую веками иерархию мироздания, он видит сигнал к перевороту в общественной иерархии. Простые люди чтят Галилея как своего друга и союзника и ненавидят его врагов, которые «приказывают Земле стоять неподвижно, чтобы их замки не свалились». А сам Галилей лишь постепенно, лишь после того, как это понял народ и поняли князья, поняли помещики и монахи, начинает понимать, что его учение является могучей революционной силой не только в сфере научной мысли, но и в области общественных отношений. И тем более пагубно предательство со стороны человека, который всегда проповедовал народность науки и мечтал о времени, когда «об астрономии будут разговаривать на рынках». И вот, дожив до этого времени, завоевав доверие и поддержку плебейских масс, имея возможность превратить науку в рычаг народного благоденствия, Галилей, поддавшись своим плотским слабостям, изменил народу, науке, делу своей жизни, самому себе…
В четырнадцатой картине пьесы любимый ученик Галилея Андреа Сарти, отрекшийся от своего учителя после того, как тот отрекся от истины, приходит к нему с прощальным визитом перед отъездом за границу. Он все еще любит своего падшего учителя и поэтому, узнав, что тот все эти годы тайно продолжал свои исследования, легко поддается соблазну понять и оправдать его поведение. Он готов увидеть разумный смысл во всех поступках Галилея — и в том, что тот продал венецианскому сенату подзорную трубу, изобретенную другим, и в его сервильном подобострастии перед великим герцогом Флоренции, и, наконец, в акте отречения, которым было выиграно время для совершения других великих открытий. Андреа оправдывает Галилея, но сам Галилей и вместе с ним Брехт не знают оправдания отступничеству.
Когда-то на робкий вопрос маленького монаха: «А не думаете ли вы, что истина — если это истина — выйдет наружу и без нас?» — Галилей ответил со страстью и гневом: «Нет, нет и нет! Наружу выходит ровно столько истины, сколько мы выводим. Победа разума может быть только победой разумных!» Галилей понимал, что научный прогресс невозможен без мужества и активности людей науки. И, капитулировав перед темными силами, он не только нанес поражение делу разума, но и совершил роковой по своим историческим последствиям акт — разорвал тесные узы между наукой и народом. Осуждая себя за это и предвидя, на какой уродливый и опасный путь может ступить наука, не считающая для себя высшим законом служение народу, Галилей пророчески восклицает: «Пропасть между вами и человечеством может в один прекрасный день стать настолько огромной, что на ваши крики торжества по поводу какого-нибудь нового открытия вам ответит всеобщий вопль ужаса».
«Жизнь Галилея», в своей окончательной редакции возникшая под впечатлением атомного финала второй мировой войны, предостерегала против третьей. Она была словом предостережения, обращенным к совести и разуму человечества и прежде всего интеллигенции, то есть людей, чьи знания могут стать источником великого блага или великого бедствия.
Своими пьесами, спектаклями, своими стихами и теоретическими работами — всем своим творчеством Брехт всегда и до последней минуты своей жизни служил общественной и духовной борьбе за мир и социализм, за счастье нынешних и грядущих человеческих поколений.
И. ФРАДКИН
Стихотворения
Переводы под редакцией И. Фрадкина
Стихотворения 1916–1926 годов
Песня железнодорожников из Форт-Дональда Перевод Арк. Штейнберга
{2}
Мужчины из Форт Дональда{3} — эгей! Двинулись против теченья к пустынным лесам, что растут искони, Но леса окружили их вплоть до озерных вод. По колена в воде стояли они. — И день никогда не придет, — сказали они. — Мы захлебнемся до зари, — сказали они. И, слушая ветер, вдруг замолчали они. Мужчины из Форт-Дональда — эгей! С кирками и рельсами мокли в воде и смотрели на небо туда и сюда. Уже вечерело, и ночь из рябого озера гибко росла. Ни надежды, ни неба, куда ни взгляни. — И мы умрем сказали они. — Если заснем, — сказали они, — Не разбудит нас день никогда. Мужчины из Форт-Дональда — эгей! Молвили: — Стоит нам только заснуть, и прощай наши дни! А сон вырастал из воды и тьму, и они очумели от этой брехни. И сказал один: — Спойте-ка «Джонни-моряк». — Да! Нас это поддержит! — вскричали они. — Да! Мы это споем! — закивали они. И они запели «Джонни-моряк». Мужчины из Форт-Дональда — эгей! Барахтались в этом темном Огайо, среди утопающих рощ, Но они распевали, словно им было бог весть как хороши. Никогда еще так не певали они. — Где ты, Джонни-моряк! — распевали они. — Что ты делаешь ночью! — орали они. И Огайо под ними взбухал, а вверху были ветер и дождь. Мужчины из Форт-Дональда — эгей! Будут петь и не спать, пока не заснут навсегда. Но ветер сильнее мужских голосов, И вода их зальет через пять часов. — Где ты, Джонни-моряк! — распевали они. — Слишком много воды, — бормотали они. А когда рассвело, только ветер гудел и вода… вода… Мужчины из Форт-Дональда — эгей! Поезда над ними к озеру Эри жужжат сквозь мрак. И на старом месте ветер поет и гонит над лесом огни, И сосны кричат вослед поездам: эгей! — В тот день заря не взошла никогда! — кричат они. — На рассвете их задушила вода! — кричат они. Наш ветер частенько поет их песенку «Джонни-моряк».1916
Легенда о девке Ивлин Ру Перевод Д. Самойлова
{4}
Она бывала сама не своя Весной на морском ветру. И с последней шлюпкой на борт прибыла Юная Ивлин Ру. Носила платок цвета мочи На теле красы неземной. Колец не имела, но кудри ее Лились золотой волной. «Господин капитан, возьмите меня с собой до Святой земли, Мне нужно к Иисусу Христу». «Поедем, женщина, мы, бобыли, Понимаем твою красоту!» «Вам это зачтется. Иисус-господь Владеет душой моей». «А нам подари свою сладкую плоть, Господь твой помер уже давно, и некому душу твою жалеть, И ты себя не жалей». И поплыли они сквозь ветер и зной, И любили Ивлин Ру. Она ела их хлеб, пила их вино И плакала поутру. Они плясали ночью и днем, Плывя без ветрил и руля. Она была робкой и мягкой, как пух, Они — тверды, как земля. Весна пришла. И ушла весна. Когда орали на пьяном пиру, Металась по палубе корабля И берег в ночи искала она, Бедная Ивлин Ру. Плясала ночью, плясала днем, Плясала сутки подряд. «Господин капитан, когда мы придем В пресветлый господний град?» Капитан хохотал, лежа на ней И гладя ее по бедру. «Коль мы не прибудем — кто ж виноват? Одна только Ивлин Ру!» Плясала ночью. Плясала днем. Исчахла, бледна, как мел. Юнги, матросы и капитан — Каждый ее имел. Она ходила в грязном шелку, Ее измызгали в лоск. И на ее исцарапанный лоб Спускались патлы волос. «Никогда не увижу тебя, Иисус, Меня опоганил грех. До шлюхи не можешь ты снизойти, Оттого я несчастней всех». От мачты к мачте металась она, Потому что тоска проняла. И не видел никто, как упала за борт, Как волна ее приняла. Тогда стоял студеный январь. Плыла она много недель. И когда на земле распустились цветы, Был март или апрель. Она отдалась темным волнам И отмылась в них добела. И, пожалуй, раньше, чем капитан, В господнем граде была. Но Петр захлопнул райскую дверь: «Ты слишком грешила в миру. Мне бог сказал: не желаю принять Потаскуху Ивлин Ру». Пошла она в ад. Но там сатана Заорал: «Таких не беру! Не хочу богомолку иметь у себя, Блаженную Ивлин Ру!» И пошла сквозь ветер и звездную даль, Пошла сквозь туман и мглу. Я видел сам, как она брела. Ее шатало. Но шла и шла Несчастная Ивлин Ру.1917
О грешниках в аду Перевод Е. Эткинда
1
Беднягам в преисподней От зноя тяжело, Но слезы друзей, кто заплачет о них, Им увлажнят чело.2
А тот, кто жарче всех горит, Охваченный тоской, За слезинкой в праздник приходит к вам С протянутой рукой.3
Но его, увы, не видно. Сквозь него струится свет, Сквозь него зефиры дуют И его как будто нет.4
Вот вышел Мюллерэйзерт{5}, Слезой не увлажнен, Потому что невесте его невдомек, Что в Америке помер он.5
Вот вышел Каспар Неер{6}, Никто вослед ему Не пролил пока ни единой слезы — Бог знает почему.6
А вот и Георге Пфанцельт{7}. Он полагал, глупец, Что ждет его не то, что всех нас, — Совершенно другой конец.7
Прелестница Мария, В больнице для бедных сгнив, Не удостоена слезы Тех, кто остался жив.8
А вот стоит и сам Берт Брехт — Там, где песик пускал струю. Он слез лишен, потому что все Полагают, что он в раю.9
Теперь в геенне горит он огнем… Ах, лейте слезы рекой, А то ведь ему тут вечно стоять С протянутою рукой.Песня висельников Перевод Ю. Левитанского
{8}
Ваш скверный хлеб жуя под этим небом, Мы хлещем ваше скверное вино, Чтоб вдруг не подавиться вашим хлебом. А жажда нас настигнет все равно. За несколько глотков вина дурного Мы ужин ваш вам дарим всякий раз… У нас грехи — и ничего иного. Зато мораль — мораль, она у вас. Жратвою мы набиты мировою — За ваши деньги куплена она. И если наша пасть полна жратвою, То ваша пасть молитвами полна. Когда повиснем над землей, как лампы, Как ваш Исус, как яблочко ранет, Пожалуйста, возденьте ваши лапы К тому, кого на самом деле нет. Бабенок ваших лупим как угодно, За ваш же счет мы учим их уму. И так они довольны, что охотно Идти готовы с нами хоть в тюрьму. Красоткам, что пока не растолстели, Чей бюст еще достаточно упруг, Приятен тип, что спер у них с постели Те шмотки, что оплачивал супруг. Их глазки похотливые — в елее, Да задраны юбчонки без стыда. Любой болван, лишь был бы понаглее, Воспламенит любую без труда. Твои нам сливки нравятся, не скроем, И мы тебе однажды вечерком Такую баню знатную устроим, Что захлебнешься снятым молоком. Пусть небо не для нас, но мы земною Своею долей счастливы стократ. Ты видишь небо, брат с изломанной спиною? Свободны мы, да, мы свободны, брат!1918
О Франсуа Вийоне Перевод Д. Самойлова
{9}
1
Был Франсуа ребенком бедняков, Ветра ему качали колыбель. Любил он с детства без обиняков Лишь небосвод, что сверху голубел. Вийон, что с детских лет ложился спать на траву, Увидел, что ему такая жизнь по нраву.2
На пятке струп и в задницу укус Его учили: камень тверже скал. Швырял он камни — в этом видел вкус, — И в свалке на чужой спине плясал. И после, развалясь, чтоб похрапеть на славу, Он видел, что ему такая жизнь по нраву.3
Господской пищей редко тешил плоть, Ни разу не был кумом королю. Ему случалось и ножом колоть, И голову засовывать в петлю. Свой зад поцеловать он предлагал конклаву, И всякая жратва была ему по нраву.4
Спасенье не маячило ему. Полиция в нем истребила честь. Но все ж он божий сын, и потому Сумел и он прощенье приобресть — Когда он совершил последнюю забаву, Крест осенил его и был ему по нраву.5
Вийон погиб в бегах, перед норой Где был обложен ими, но не взят — А дерзкий дух его еще живой, И песенку о нем еще твердят. Когда Вийон издох, перехитрив облаву, Он поздно понял, что и смерть ему по нраву.1918
Гимн богу Перевод В. Куприянова
1
В темных далеких долинах гибнут голодные. Ты же дразнишь хлебом их и оставляешь гибнуть. Ты восседаешь, незримый и вечный, Жестокий и ясный над вечным творением.2
Губишь ты юных и жаждущих счастья, А смерти ищущих не отпускаешь из жизни. Из тех, кто давно уже тлен, многие Веровали в тебя и с надеждою гибли.3
Оставляешь ты бедных в бедности, Ибо их вера прекрасней твоего неба, Но всегда они гибли прежде твоего пришествия, Веруя, умирали, но тотчас делались тленом.4
Говорят — тебя нет, и это было бы лучше. Но как это нет того, кто так умеет обманывать? Когда многие живы тобой и без тебя не умрут — Что по сравнению с этим значило бы: тебя нет?О, Фаллада, висишь ты! Перевод Арк. Штейнберга
{10}
Я волок мой полок из последней силы, До Франкфуртер Алле дополз едва, Закружилась моя голова, Ну и слабость! — я подумал, — о, боже! Шаг или два — я свалюсь полудохлый и хилый; Тут я грохнулся оземь всеми костьми, через десять минут, не позже. Едва со мной приключилось это (Извозчик пошел искать телефон), — Голодные люди с разных сторон Хлынули из домов, дабы урвать хоть фунт моей плоти. Мясо живое срезали они со скелета. Но я же еще дышу! Что ж вы смерти моей не подождете! Я знавал их прежде — здешних людей. Они сами Приносили мне средство от мух, сухари и сольцу, И наказывали ломовику-подлецу, Чтоб со мной по-людски обращался жестокий возница. Нынче они мне враги, а ведь раньше мы были друзьями. Что же с ними стряслось? Как могли они так страшно перемениться? Не пойму я — в силу каких событий Исказились они? Я себе задаю вопрос: Что за холод прошиб их, что за мороз Простудил их насквозь? Озверели, что ли, от стужи? Поскорей помогите же им, поспешите, А не то такое вас ждет, что даже в бреду не придумаешь хуже.1920
Календарные стихи Перевод Д. Самойлова
Хоть и вправду снег разъел мне кожу И до красноты я солнцем продублен. Говорят, что не узнать меня, ну что же! Кончилась зима — другой сезон. На камнях спокойно он разлегся, Грязь и тина на башке растут, Звезды, что начищены до лоска, Знать не знают, толст он или худ. Вообще созвездья знают мало, Например, что он изрядно стар. И луна черна и худощава стала. Он продрог на солнце и устал. Ах, на пальцах черных толстый ноготь, Лебедь мой, не стриг он и берег, Отпускал, не позволяя трогать. Лишь просторный надевал сапог. Он сидел на солнышке немного, В полдень фразу он произносил, Вечером легчало, слава богу, По ночам он спал, лишившись сил. Как-то хлынула вода, зверье лесное Исчезало в нем, а он все жрал, Воздух жрал и все съестное. И увял.1922
Баллада о старухе Перевод Д. Самойлова
{11}
В понедельник стало полегче старой, И всем на диво она поднялась. Грипп ей казался небесной карой. Она с осени высохла и извелась. Два дня ее не отпускала рвота. Она встала буквально как снег бела. Продукты в запасе, но есть неохота. И она один только кофе пила. Теперь она выкрутилась. Рановато Петь над нею за упокой. От своего орехового серванта Она не спешила — вон он какой, Пускай червяк в нем завелся, а все же Старинная вещь. О чем говорить! Она его жалела. Спаси его, боже. И стала еще раз варенье варить. И она купила новую челюсть. Когда есть зубы, иначе жуешь. К ночи, когда себе спать постелешь, Их в кофейную чашку уютно кладешь. Письмо от детей ее не волнует, Но о них она будет бога просить. А сама еще с богом перезимует. И черное платье еще можно носить.1922
Мария Перевод Д. Самойлова
{12}
В ночь ее первых родов Стояла стужа. Но после Она совершенно забыла Про холод, про дымную печку в убогом сарае. Про то, что она задыхалась, когда отходил послед. Но главное — позабыла она чувство стыда, Свойственное беднякам: Стыд, что ты не одна. Именно потому это стало казаться в позднейшие годы большим торжеством, Со всем, что подобает. Пастухи прекратили свои пересуды. Позже, в истории, стали они королями. Студеный ветер Стал ангельским пением, А от дыры в потолке, сквозь которую дуло снаружи, Осталась звезда, глядевшая вниз. Все это Исходило от лика сына ее, который был легок, Любил, когда пели, Приглашал к себе бедняков, И привычку имел жить среди королей И ночью видеть звезду над собой.1922
Рождественская легенда Перевод Д. Самойлова
{13}
1
В рождественский вечер холод лют, И мы сидим здесь, бедный люд, Сидим в холодной конуре, Где ветер, словно на дворе. Войди, Иисусе, на нас взгляни, Ты очень нам нужен в такие дни.2
Сидим кружком и ждем зари, Как басурмане и дикари. Снег ломит кости, как болесть, Снег хочет к нам в нутро залезть. Войди к нам, снег, без лишних слов: Не для тебя небесный кров.3
Мы нынче гоним самогон, И он горяч, как сам огонь, Нам станет легче и теплей. Гуляет зверь среди полей. Войди к нам и ты, бездомный зверь, У нас для всех открыта дверь.4
Лохмотья сунем мы в очаг, Огонь согреет нас, бедняг, Но только эта ночь пройдет, Нам руки холодом сведет. Входи к нам ветер, уже рассвет, Ведь и у тебя отчизны нет.1923
На смерть преступника Перевод Д. Самойлова
1
Слышу я: скончался тот преступник. И когда совсем закоченел он, Оттащили в «погреб без приступок», И осталось все, как прежде, в целом: Умер только лишь один преступник, А не все, кто занят мокрым делом.2
Мы освободились от бандита, Слышу я, и не нужна здесь жалость, Ведь немало было им убито. Ничего добавить не осталось. Нет на свете этого бандита. Впрочем, знаю: много их осталось.Я ничего не имею против Александра Перевод В. Куприянова
Тимур{14}, я слышал, приложил немало усилий, чтобы завоевать мир. Мне его не понять: Чуть-чуть водки — и мира как не бывало. Я ничего не имею против Александра{15}. Только Я встречал и таких людей, Что казалось весьма удивительным, Весьма достойным вашего удивления, Как они Вообще живы. Великие люди выделяют слишком много пота. Все это доказывает лишь одно: Что они не могли оставаться одни, Курить, Пить И так далее. Они были, наверное, слишком убоги, Если им недостаточно было Просто пойти к женщине.Гордиев узел Перевод Е. Эткинда
1
Когда Македонец Рассек узел мечом, Они вечером в Гордионе{16} Назвали его «рабом Своей славы». Ибо узел их был Одним из простейших чудес света, Искусным изделием человека, чей мозг (Хитроумнейший в мире!) не сумел Оставить по себе ничего, как только Двадцать вервий, затейливо спутанных — для того, Чтобы распутала их Самая ловкая в мире Рука, которая в ловкости не уступала Другой — завязавшей узел. Наверное, тот, завязавший, Собирался потом развязать, Сам развязать, но ему, К сожаленью, хватило всей жизни лишь на одно — На завязыванье узла. Достаточно было секунды, Чтобы его разрубить. О том, кто его разрубил, Говорили, что это Был еще лучший из всех его поступков, Самый дешевый и самый безвредный. Справедливо, что тот, неизвестный, Который свершил лишь полдела (Как все, что творит божество), Не оставил потомству Имени своего, Зато грубиян-разрушитель Должен был, словно по приказу небес, Назвать свое имя и лик свой явить полумиру.2
Так говорили люди в Гордионе, я же скажу: Не все, что трудно, приносит пользу, и, Чтобы стало на свете одним вопросом поменьше, Реже потребен ответ. Чем поступок.Гость Перевод В. Корнилова
Уже стемнело, но она усердно Про все семь лет спросить его стремится. Он слышит: режут во дворе наседку, И знает: в доме не осталось птицы. Теперь нескоро он увидит мясо. — Ешь, — просит, — ешь! — Он говорит? — Потом. — Где был вчера? — Он говорит: — Скрывался. — А где скрывался? — В городе другом! Торопится, встает, скрывая муку, Он улыбается: — Прощай! — Прощай!.. — В руке Не удается удержать ей руку… И только видит прах чужой на башмаке.Корова во время жвачки Перевод Д. Самойлова
Наваливаясь грудью на кормушку, Жует. Глядите, как она жует, Как стебелька колючую верхушку Медлительно захватывает в рот. Раздутые бока, печальный старый глаз, Медлительные челюсти коровьи. И, в удивленье поднимая брови, Она на зло взирает, не дивясь. В то время, как она не устает жевать, Ее жестоко тянут за соски, Она жует и терпит понемножку. Ведь ей знакома жесткость той руки, И ей давно на все уже плевать, И потому она кладет лепешку.1925
Сонет о жизни скверной Перевод Ю. Левитанского
Семь лет в соседстве с подлостью и злобой Я за столом сижу, плечом к плечу, И, став предметом зависти особой, Твержу: «Не пью, оставьте, не хочу!» Хлебаю свой позор из вашей чаши, Из вашей миски — радости свои. На остальные ж притязанья ваши Я говорю: «Потом, друзья мои!» Такая речь не возвышает душу. Себе в ладонь я дунул, и наружу Пробился дух гниенья. Что за черт! Тогда я понял — вот конец дороги. С тех пор я наблюдаю без тревоги, Как век мой краткий медленно течет.1925
Любим ли ими я — мне все равно… Перевод Е. Эткинда
Любим ли ими я — мне все равно, Пусть обо мне злословят люди эти; Мне жаль, что нет величия на свете, — Оно меня влечет к себе давно. Пошел бы я с великими в кабак, За общий стол мы вместе сесть могли бы; Была бы рыба — ел бы хвост от рыбы, А не дали — сидел бы просто так. Ах, если б справедливость под луною! Я был бы рад, хотя б она и мною Безжалостно решила пренебречь! А может, нас обманывает зренье? Увы, я сам — трудна мне эта речь! — Питаю к неудачникам презренье.Из книги «Домашние проповеди»
{17}
О хлебе и детях Перевод С. Кирсанова
1
Они и знать не хотели О хлебе в простом шкафу. Кричали, что лучше б ели Камень или траву.2
Заплесневел этот хлебец. Никто его в рот не брал. Смотрел он с мольбою в небо, И хлебу шкаф сказал:3
«Они еще попросят — Хоть крошку, хоть чуть-чуть, Кусочек хлеба черствый, Чтоб выжить как-нибудь».4
И дети в путь пустились, Блуждали много лет. И им попасть случилось В нехристианский свет.5
А дети у неверных Болезненны, худы, Им не дают и скверной Постной баланды.6
И эти дети просят Дать хлебушка чуть-чуть, Кусочек самый черствый, Чтоб выжить как-нибудь.7
Заплесневел ломоть хлеба. Мышами в лапки взят. Найдется ли у неба Хоть крошка для ребят?1920
Апфельбек, или Лилия в долине Перевод М. Ваксмахера
{18}
1
С лицом невинным Якоб Апфельбек Отца и мать убил в родном дому И затолкал обоих в гардероб, И очень скучно сделалось ему.2
Над крышей ветер тихо шелестел, Белели тучки, в дальний край летя. А он один в пустом дому сидел, А он ведь был еще совсем дитя.3
Шел день за днем, а ночи тоже шли, И в тишине, не ведая забот, У гардероба Якоб Апфельбек Сидел и ждал, как дальше все пойдет.4
Молочница приходит утром в дом И ставит молоко ему под дверь, Но Якоб выливает весь бидон, Поскольку он почти не пьет теперь.5
Дневной тихонько угасает свет, Газеты в дом приносит почтальон, Но Якобу не нужно и газет, Читать газеты не умеет он.6
Когда от трупов тяжкий дух пошел, Был Апфельбек сдержать не в силах слез. Заплакал горько Якоб Апфельбек И на балкон постель свою унес.7
И вот спросил однажды почтальон? «Чем так разит? Нет, что-то здесь не то!» Сказал невинно Якоб Апфельбек; «То в гардеробе папино пальто».8
Молочница спросила как-то раз: «Чем так разит? Неужто мертвецом?» «Телятина испортилась в шкафу», — С невинным он ответствовал лицом.9
Когда ж они открыли гардероб, С лицом невинным Апфельбек молчал. «Зачем ты это сделал, говори!» «Я сам не знаю», — он им отвечал.10
Молочница вздохнула через день, Когда весь этот шум слегка утих: «Ах, навестит ли Якоб Апфельбек Могилку бедных родичей своих?»1919
О детоубийце Марии Фарар Перевод Д. Самойлова
{19}
1
Мария Фарар, неполных лет, Рахитичка, особых примет не имеет. Сирота, как полагают — судимости нет, Вот что она сообщить имеет: Она говорит, как пошел второй месяц, У какой-то старухи ей подпольно Было сделано, говорит, два укола, Но она не скинула, хоть было больно. Но, вы, прошу вас, не надо негодованья, Любая тварь достойна вспомоществования.2
Все же деньги она, говорит, отдала, А потом затягивалась до предела, Потом пила уксус, перец туда клала, Но от этого, говорит, ослабела. Живот у нее заметно раздуло, Все тело ломило при мытье посуды, И она подросла, говорит, в ту пору, Молилась Марии и верила в чудо. И вы, прошу вас, не надо негодованья, Любая тварь достойна вспомоществования,3
Но молилась она, очевидно, зря, Уж очень многого она захотела. Ее раздувало. Тошнило в церкви. И у алтаря Она со страху ужасно потела. И все же она до самых родов Свое положенье скрывала от всех. И это сходило, ведь никто б не поверил, Что такая грымза введет во грех. И вы, прошу вас, не надо негодованья, Любая тварь достойна вспомоществованья.4
В этот день, говорит, едва рассвело, Она лестницу мыла. И вдруг словно колючки Заскребли в животе. Ее всю трясло, Но никто не заметил. И ей стало получше. Ломала голову — что это значит, Весь день развешивая белье. Наконец поняла. Стало тяжко на сердце. Лишь потом поднялась в свое жилье. А вы, прошу вас, не надо негодованья, Любая тварь достойна вспомоществованья.5
За ней пришли. Она лежала пластом. Выпал снег, его надо убрать с дороги. День был жутко длинный. И только потом, К ночи, она принялась за роды. И она родила, как говорит, сына. Сын был такой же, как все сыновья. Но она не как все, хотя нет оснований, Чтоб за это над ней издевался я. И вы, прошу вас, не надо негодованья, Любая тварь достойна вспомоществованья.6
Так пусть она рассказывает дальше О своем сыне и своей судьбе. (Она, говорит, расскажет без фальши!) Значит, и о нас — обо мне и о тебе. А потом, говорит, выворачивать стало Ее, словно качало кровать, И она, не зная, что от этого будет, С трудом заставляла себя не кричать. Но вы, прошу вас, не надо негодованья, Любая тварь достойна вспомоществованья.7
Из последних сил, говорит, она Из своей каморки, ледяной как погреб, Едва дотащилась до гальюна И там родила, когда — не упомнит. Видно, шло к утру. Говорит — растерялась, Какой-то страх ее охватил, Говорит, озябла и едва держала Ребенка, чтоб не упал в сортир. А вы, прошу вас, не надо негодованья, Любая тварь достойна вспомоществованья.8
Вышла она, говорит, из сортира, До этого все было молчком, Но он, говорит, закричал, и это ее рассердило, И она стада бить его кулаком. Говорит, била долго, упорно, слепо, Пока он не замолк и стал неживой. До рассвета с ним пролежала в постели, А утром спрятала в бельевой. Но вы, прошу вас, не надо негодованья, Любая тварь достойна вспомоществованья.9
Мария Фарар, незамужняя мать, Скончавшаяся в мейсенской каталажке, Хочет всем тварям земным показать Их подлинный облик без всякой поблажки. Вы, рожающие в стерильных постелях, Холящие благословенное лоно, Не проклинайте заблудших и сирых, Ибо грех их велик, но страданье огромно. Потому, прошу вас, не надо негодованья, Любая тварь достойна вспомоществованья.Литургия дуновения Перевод В. Куприянова
{20}
1
Откуда-то тетка пришла говорят2
У нее помутился от голода взгляд3
Но весь хлеб поедал солдат4
Она упала в канаву от истощенья5
И забыла навеки как есть хотят.6
А кроны дерев без движенья И птичий не слышен хор И на вершинах гор Ни дуновенья.7
И тут же лекарь пришел говорят8
Он сказал; этой тетке место в могиле9
И голодную тетку зарыли10
И как будто бы в этом никто не виноват11
И лекарь ухмылялся без тени смущенья.12
А кроны дерев еще без движенья И птичий не слышен хор И на вершинах гор Ни дуновенья.13
Но нашелся один человек говорят14
Интересы порядка — ничто для него15
Но история с теткой задела его16
Он сочувственно выразил недоуменье17
Он сказал, само собой, люди есть хотят.18
Но кроны по-прежнему без движенья И птичий не слышен хор И на вершинах гор Ни дуновенья.19
И тут полицейский пришел говорят20
Он руки человеку завернул назад21
И стукнул его два-три раза подряд22
И тот уже не говорил, чего люди хотят23
А полицейский сказал в заключенье:24
Ну вот, кроны дерев без движенья И птичий не слышен хор И на вершинах гор Ни дуновенья.25
Тут три бородатых пришли говорят26
И сказали: это дело одному не под силу27
Но они поплатились за это ученье28
Их слова свели их к червям в могилу29
Так они позабыли, чего хотят.30
А кроны дерев без движенья И птичий не слышен хор И на вершинах гор Ни дуновенья.31
Тут пришло сразу много людей говорят32
Они захотели чтоб их выслушал солдат33
Но сказал за солдата его автомат34
И забыли эти люди, чего они хотят35
Но на лбу их морщина залегла с тех пор.36
Хотя кроны дерев все еще без движенья И птичий не слышен хор И на вершинах гор Ни дуновенья.37
Тут пришел большой красный медведь{21} говорят38
Чуждым был медведю местный уклад39
Но он стреляный был и не лез наугад40
Стал он жрать этих птичек всех без исключенья.41
Вот тут-то кроны пришли в движенье И птичий всполошился хор И на вершинах гор Есть дуновенье.1924
О покладистости природы Перевод М. Ваксмахера
Ах, душистым парным молоком угощает прохладная кружка Стариковский, беззубый, слюнявый рот. Ах, пес приблудный, любви взыскуя, Порой к сапогу живодера льнет. И негодяю, который насилует в роще ребенка, Кивают приветливо вязы тенистой листвой. И дружелюбная пыль нас просит забыть поскорее, Убийца, след окровавленный твой. И ветер крики с перевернувшейся лодки Старательно глушит, заполняя лепетом горы и дол, А потом, чтобы мог сифилитик заезжий поглазеть на веселые ноги служанки, Приподымает услужливо старенькой юбки подол. И ночною порой в жарком шепоте женщины тонет Тихий плач проснувшегося в углу малыша. И в руку, которая лупит ребенка, угодливо падает яблоко, И собою довольная яблоня чудо как хороша. Ах, как ярко горят глаза мальчишки, Когда под отцовским ножом с перерезанным горлом на землю валится бык! И как бурно вздымаются женские, детей вскормившие груди, Когда полковые оркестры разносят маршей воинственный рык. Ах, матери наши продажны, сыновья унижаются наши, Ибо для моряков с обреченного судна любой островок благодать. И умирающий одного только хочет: дожить до рассвета, Третий крик петухов услыхать.1926
Песня за глажкой белья об утраченной невинности Перевод Д. Самойлова
{22}
1
Наверное, это неправда, Хоть мне твердила мать? Себя испаскудишь и будешь не рада, Ведь чистой уже не стать. Такого не бывает Со мной или с бельем; Все пятна отмывает Рекой или ручьем.2
В одиннадцать лет творила Такое, что молвить — срам. И плоть ублаготворила К четырнадцати годам. Пусть грязь к белью пристала, Но есть на то вода, Чистехонькое стало, Как девичья фата.3
Я пала уже до предела, Когда появился он, И до небес смердела, Как город Вавилон. Когда белье полощут, Не надо рук жалеть, Почувствуешь на ощупь, Что начало белеть.4
Когда меня обнял мой первый И я обняла его, Почувствовала, как со скверной Рассталось мое существо. Вот так с бельем бывает, Так было и со мной — Всю скверну отмывает Бегущею волной.5
Но зря меня отмывали, Пришли худые года, И падлом и дрянью меня обзывали, И падлом я стала тогда. От жмотства мало толка, Им бабу не спасешь. Храни белье на полке — Оно грязнится все ж.6
Но вечно не быть дурному, И вновь явился другой. И все у нас было совсем по-иному, И вновь я стала иной. Его снесешь на реку, Есть сода, ветер, свет, Подаришь человеку — И грязи больше нет.7
Что будет? — пусть меня спросят, А я отвечу одно: Уж если белье не износят: Зазря пропадет оно. А станет вдруг непрочным, Его река возьмет, И заполощет в клочья. И так произойдет.1921
О приветливости мира Перевод В. Корнилова
1
На пустой земле, где ветер лют, Каждый поначалу наг и худ. Зябко ждет, когда придет черед: Женщина пеленкой обернет.2
Не желал никто его, не звал И за ним повозки не послал, Был он неизвестен никому, Но мужчина руку дал ему.3
И с пустой земли, где ветер лют, В струпьях и в коросте все уйдут. Наконец, полюбят этот свет, Если горсть земли им кинут вслед.О лазании по деревьям Перевод Д. Самойлова
1
Когда из ваших вод вы вылезаете к ночи — Ведь вы должны быть голы, а кожа упруга, — Карабкайтесь тогда на большие деревья. А небо должно быть белесым. А ветер дуть с юга. Ищите тогда кроны, что черно и огромно Колеблются вечером все тише и тише, И ждите полночи в лиственной чаще. И ужас вокруг и летучие мыши.2
Кустарников тугие, жесткие листья Вам спину корябают, поэтому лучше Прижаться к стволу; ну так лезьте скорее, Негромко кряхтя, на верхние сучья! Прекрасно качаться на самой вершине, Но только ее не толкайте стопою, Прильните к верхушке, ведь дерево это Сто лет качает ее над собою.О плавании в озерах и реках Перевод Д. Самойлова
1
Бесцветным летом, когда ветры веют Лишь поверху, свистя в высоких кронах, Лежите тихо в реках и озерах, Отмачивайтесь, как белье в затонах. В воде легчает тело. И когда Из речки в небо падает рука, Ее легко качает слабый ветер, Наверно, спутав с веткой лозняка.2
Днем тишину предоставляет небо. Летают ласточки. Тут, в лоне ила, Прикрой глаза. А пузырьки набухнут, Знай: сквозь тебя рыбешка просквозила. Я весь — живот, и бедра, и рука, — Прижавшись тесно, мы лежим на дне. И лишь когда сквозь нас проходят рыбы, Я ощущаю солнце в вышине.3
Когда к закату станешь от лежанья Совсем ленив, недвижен и разнежен, Все это нужно без оглядки, с плеском, Швырнуть в теченье рек, на самый стрежень. Так лучше делать вечером, когда Акулье небо с жадностью стоит, Бледнея, над рекою, и предметы Приобретают их исконный вид.4
Конечно, лучше будет на спине Лежать, как и обычно вы лежите. Не надо плыть, а делать так, как будто К подонной гальке вы принадлежите. Смотрите в небо, словно бы несет Вас женщина, на это и похоже, Плывите, как в своих прудах и реках Ты плаваешь ночами, добрый боже.1919
О городах Перевод Е. Эткинда
{23}
Под ними текут нечистоты. Внутри — ничего, а над ними клубятся дымы. Мы были внутри. Мы там заполняли пустоты. Мы быстро исчезли. Исчезнет и город, как мы.1927
Большой благодарственный хорал Перевод Е. Эткинда
{24}
1
Люди, воздайте хвалу наступающей ночи. Близок предел Всех ваших суетных дел. Жизнь ваша на день короче.2
Пойте хвалу насекомым, животным и птицам. Всем им, как вы, Жившим средь сочной травы, С жизнью придется проститься.3
Дубу воздайте хвалу, из навоза растущему к небу. Дуб этот рос, И кормил его жирный навоз, Но устремлялся он к небу.4
Пойте хвалу небесам, у которых забота иная! К счастью для вас, Небо забыло про вас — Память у неба дрянная.5
Пойте хвалу темноте, нисходящей холодным покровом! Ночь на пути… Мирно из мира уйти Не помешает никто вам.Баллада об искателях приключений Перевод К. Богатырева
Солнцем иссушенный, дождями избитый, С краденым лавром над шапкой кудрей, Он забыл свою молодость, только сны ее не забыты, Крыша забыта, только не небо над ней. О вы, адом исторгнутые во гневе, Убийцы, познавшие горе с лихвой, Зачем не остались вы у матери в чреве, Где спалось так уютно в лад с тишиной? А он все ищет, плывя по полынному морю, Хоть и мать успела о нем забыть, Ругаясь и плача, но с усмешкой во взоре, Страну, где можно было бы жить. И ему, прошедшему сквозь огонь и воду, Исхлестанному адом и раем земным, Снится порой кусочек небосвода И лужайка маленькая под ним.1917
О сподвижниках Кортеса Перевод В. Зоргенфрея
{25}
Прошло семь дней. Повеял легкий ветер, Поляны посветлели. Встало солнце, И отдохнуть они решили. Вскрыли Бочонки с водкой, выпрягли быков. И к ночи часть зарезали. Когда же Прохладно стало, нарубили веток В болоте, жестких, толщиною в руку. Потом глотали, на закате, мясо, И запивали водкою, и пели. А ночь была свежа и зелена. Охрипнув, вдоволь водки наглотавшись. С холодным взором, в звезды устремленным, Они заснули в полночь у костра. И спали крепко, но под утро слышал Иной из них сквозь сон мычанье бычье. Они проснулись в полусне — в лесу. Отяжелев, со взором остеклелым, Они встают, кряхтя, и в изумленье Над головами видят свод из сучьев, Сплетенных тесно, листьями покрытых И мелкими, пахучими цветами. И начинает свод уже давить И, кажется, густеет. Душно. Солнца Не видно, неба тоже не видать. — Где топоры? — взревел начальник дико. Их не было. Они лежали дальше, Там, где быки мычали. Спотыкаясь, Проклятья изрыгая, рвутся люди Сквозь поросль, обступившую стеной. Руками ослабевшими, рыча, Кустарник рвут, — а он слегка дрожит, Как будто бы колеблем легким ветром. Два-три часа бесплодно потрудившись, Они угрюмо приникают лбами, Блестящими от пота, к жестким сучьям. А сучья разрастаются, теснее Сплетаясь. Позже, к вечеру, который Был темен, — листья сверху разрослись, — Они сидят, как обезьяны в клетке, В молчании, и голод их томит. В ночь гуще стала поросль. Но, должно быть, Взошла луна. Светло довольно было. Они друг друга видели еще. Лишь к утру лес разросся так, что больше Они уж ничего не различали. Днем раздалось в лесу как будто пенье, Но глухо. Перекличка, может быть. Потом затихло. И быки молчали. Под утро словно долетел до слуха Их рев, но издалека. А потом И вовсе стало тихо. Не спеша, При легком ветре, под лучами солнца, Лес поглотил в короткий срок луга.1919
Баллада о пиратах Перевод Д. Самойлова
1
Осатанев от тьмы и водки, Промокнув в пекле диких гроз, Сорвав морозной ночью глотки На марсе, белом, как мороз; Под солнцем голы, как ладонь, Перенеся жару, как тиф, Пройдя сквозь голод, боль и вонь, Орали те, кто еще жив: О, неба синего настой! Дуй, ветер, в парус! Всё к чертям! Но ради Девы Пресвятой Оставьте только море нам!2
Ни поле, ни луна над домом, Ни туз бубновый, ни кабак, Ни танцы с бабами и ромом Их не удержат — все пустяк. Обрыдли драки по притонам, Воротит душу от бабья. Им нужен, родины лишенным, Лишь борт родного корабля. О, неба синего настой! Дуй, ветер, в парус! Всё к чертям! Но ради Девы Пресвятой Оставьте только море нам.3
Всех крыс его и все изъяны, Его нутро, его чуму Они ругали, когда пьяны, Но были верными ему. Прикручивали волосами Себя к снастям в дни непогод. Они б спознались с небесами, Когда б там был небесный флот. О, неба синего настой! Дуй, ветер, в парус! Всё к чертям! Но ради Девы Пресвятой Оставьте только море нам!4
Шелка, парча — им все едино, В трюм валят золото, холсты, И льют награбленные вина В подтянутые животы. Гниющим трупом пахнет джонка, Прогорклым ладаном — шелка. Напившись, в драке, как ягненка, Заколют из-за пустяка. О, неба синего настой! Дуй, ветер, в парус! Всё к чертям! Но ради Девы Пресвятой Оставьте только море нам!5
Убьют беззлобно и проворно, Кто попадется — всех подряд. Веревкою затянут горло, Как на рангоуте канат. И дуют чистый спирт над трупом, За борт в беспамятстве летят И, издеваясь друг над другом, Босой ногою шевелят. О, неба синего настой! Дуй, ветер, в парус! Всё к чертям! Но ради Девы Пресвятой Оставьте только море нам.6
Перед лиловым горизонтом, Когда обледенеет снасть, При месяце, настолько тонком, Что и друг друга не узнать, Шныряют в океанской шири, Как волки, всем суля напасть, Поют, как мальчики в сортире, Чтобы от скуки не пропасть. О, неба синего настой! Дуй, ветер, в парус! Всё к чертям! Но ради Девы Пресвятой Оставьте только море нам!7
Расположась в отбитых шлюпах, Жуют жратву без суеты, И кое-как на чьих-то шлюхах Укладывают животы. Красив звериный их обычай! Под нежным ветром хлещут ром! Порой, мыча от страсти бычьей, Одну терзают всемером. О, неба синего настой! Дуй, ветер, в парус! Всё к чертям! Но ради Девы Пресвятой Оставьте только море нам!8
Когда в ногах довольно танца, А в брюхе прогорает спирт, Пусть солнце и луна не тмятся, Плевать! Любой по горло сыт. Их звезды светлые качают, Покой и музыку даря. И ветер в парусах крепчает, Неся в безвестные моря. О, неба синего настой! Дуй, ветер, в парус! Всё к чертям! Но ради Девы Пресвятой Оставьте только море нам!9
Но вечером, в апрельской сини, Когда беззвездно и темно, Медлительное море ими Вдруг пресыщается само. И небо, то, что так любимо, Нахмуривается слегка. И ветры, словно клубы дыма, Натаскивают облака. О, неба синего настой! Дуй, ветер, в парус! Всё к чертям! Но ради Девы Пресвятой Оставьте только море нам!10
И ветер утренний, играя, Их тихо смахивает в ночь, Лазурь вечерняя без края, Смеясь, не хочет им помочь. И чувствуют, как, их жалея, Волна еще щадит штурвал. Но к полночи рука борея Их убивает наповал. О, неба синего настой! Дуй, ветер, в парус! Всё к чертям! Но ради Девы Пресвятой Оставьте только море нам!11
Еще взнесет последним валом Корабль, еще один порыв, И там, в рассвете небывалом, Они увидят острый риф. И напоследок в шуме взводней Послышится сквозь буйный шторм, Как на пороге преисподней Споет осатанелый хор. О, неба синего настой! Дуй, ветер, в парус! Всё к чертям! Но ради Девы Пресвятой Оставьте только море нам!1918
Баллада о Ханне Каш Перевод Д. Самойлова
1
С глазами черней, чем омут речной, В юбчонке с десятком заплаток, Без ремесла, без гроша за душой, Но с массой волос, что черной волной Спускались до черных пяток, Явилась, дитя мое, Ханна Каш, Что накалывала фраеров, Пришла с ветрами и ушла, как мираж, В саванну по воле ветров.2
У нее ни туфель, ни пары белья, Она даже молитвы не знала, И серою кошкой, не имевшей жилья, Занесло ее в город, в гущу гнилья, Словно между дровами зажало. Она мыла посуду за малый баш, Но не мылась сама дебела, И все же, дитя мое, Ханна Каш Почище других была.3
Как-то ночью пришла в матросский кабак С глазами черней, чем омут, И был там Дж. Кент среди прочих гуляк, И с нею Джек-Нож покинул кабак, Потому что чем-то был тронут. И когда Дж. Кент, беспутный апаш, Чесался и щурил глаз, Тогда, дитя мое, Ханна Каш Под взглядом его тряслась.4
Они стали близки там, где рыба и дичь, Там сошлись колеи их путей. У них не было койки и дома, где жить. И они не знали, где пищи добыть И как называть детей. Но пусть ветер и снег впадают в раж, Пусть саванну зальет потоп, Все равно, дитя мое, Ханна Каш Будет мужа любить по гроб.5
Шериф говорит: он подонок и мразь. Молочница: кончит он худо. Но она говорит: уж раз я взялась, То пусть он будет подонок и мразь, Он муж мой. И я с ним буду. И нету ей дела до драк и краж, И простит она брехуна, Ей важно, дитя мое, Ханне Каш, Любит ли мужа она.6
Там, где люлька стояла, — ни крыши, ни стен, Их трепала беда постоянно, Но за годом год они шли вместе с тем Из города в лес, где ветер свистел, За ветром дальше — в саванну. И так, как идешь, покуда не сдашь, Сквозь ветер, туман и дым, Так шла, дитя мое, Ханна Каш Вместе с мужем своим.7
Хотя бы один воскресный денек, Хоть пару приличной одежки, Хотя бы один вишневый пирог, Хотя бы пшеничной лепешки кусок И вальс на губной гармошке! Но каждый день все тот же пейзаж, И солнца нет из-за туч. Но все же, дитя мое, Ханна Каш Сияет порой, как луч.8
Он рыбу крал, а она — соль, Крала, ничуть не унизясь. И когда она варила фасоль, У него на коленях ребенок босой Вслух читал катехизис. Полсотни лет — его верный страж, Одна с ним душа и плоть. Такова, дитя мое, Ханна Каш, И да воздаст ей господь.1921
Воспоминание о Марии А Перевод Д. Самойлова
1
Тогда при голубой луне сентябрьской, Под сливою, под юным деревцом, Я бледную любовь в руках баюкал, Я обнимал ее, как милый сон. А наверху, в прекрасном летнем небе, Стояло долго облако одно, И было белым и необычайным, Но поднял я глаза — и где оно?2
И много лун проплыло вниз и мимо С тех пор, и много утекло воды. Наверное, и сливы те срубили, А что с любовью — спрашиваешь ты. Я отвечаю, что никак не вспомню, Хоть знаю, что имеешь ты в виду. Но, правда, я лица ее не помню. Я помню больше: поцелуй в саду.3
И поцелуй забыл бы я, наверно, Когда б не это облако одно. Оно — я знаю — было очень белым И сверху опустилось к нам оно. А может быть, цветут все те же сливы И семерых растит моя мечта. И все же облако цвело минуту, Но глянул я — а в небе пустота.1920
Баллада о дружбе Перевод К. Богатырева
1
Как две тыквы, сгнив, по теченью Плывут на стебле одном По желтой реке — они в карты Коротали время вдвоем, И стреляли в цель по желтым лунам, И любились всем чертям назло: Столько ночей неразлучны были, И когда солнце пекло.2
В зеленых кустарниках жестких, Под небом паршивым, как пес, Как финик прогорклый, каждый К губам другого прирос. И когда у них позднее зубы Стали гнить, всем чертям назло: Они много ночей неразлучны были, И когда солнце пекло.3
И в джунглях, в хижинах вшивых, Куда приводил господь, С бабой одной и той же Свою они тешили плоть. А по утрам стирали рубашки И отплывали всем чертям назло, И много ночей неразлучны были, И когда солнце пекло.4
Когда же земля остывала, А холод без крыши тосклив, Они под лианами спали, Друг друга в объятьях обвив. И болтали звездными ночами, И, как прежде, им опять везло — Столько ночей неразлучны были, И когда солнце пекло.5
И однажды сошли на остров, Там и прожили долгий срок. Когда время приспело ехать — Один из них ехать не мог. И друг другу в глаза не смотрели, — Только на море. Время шло — Много ночей неразлучны были, И когда солнце пекло.6
«Езжай без меня, товарищ, Мне море — дорога ко дну, А здесь — неделю-другую, Быть может, еще протяну». И больной лежит у моря На друга смотрит, пока светло — Ведь столько ночей неразлучны были, И когда солнце пекло.7
«Тут удобно лежать. Езжай, товарищ!» «Время есть. Не гони силком!» «Но если тебя здесь застанут дожди, Гнить нам тогда вдвоем!» И стоит человек на соленом ветру, И на море смотрит зло: Ведь столько ночей неразлучны были, И когда солнце пекло.8
И день подошел расставанья. Сплюнь финик, ты, чертов сын! Ночь вдвоем провели у моря, А уехал утром один. Курили, шатались в свежих рубашках, Покуда не рассвело — Ведь столько ночей неразлучны были, И когда солнце пекло.9
«Товарищ, ветер крепчает!» «Да ты до утра не тужи!» «Товарищ, ты к дереву крепко Веревкой меня привяжи!» И привязывал к дереву друга, И курил всем чертям назло — Ведь столько ночей неразлучны были, И когда солнце пекло.10
«Товарищ, все небо в тучах!» «Их ветер прогонит еще». «Товарищ, у дерева стоя, Я вижу тебя хорошо!» И давно уж веревка прогнила, И болью глаза свело. Ведь столько ночей неразлучны были, И когда солнце пекло.11
Пролетели дни и недели, И корабль по волнам летит. Столько всего позабыто, Но у дерева друг не забыт. И беседы звездными ночами, И потехи всем чертям назло — Ведь столько ночей неразлучны были, И когда солнце пекло.1920
Хорал о Великом Ваале Перевод Е. Эткинда
{26}
1
В дни, когда для бурной жизни созревал В животе у своей матери Ваал, Мир, которого Ваал тогда еще не зрел, Был уже могуч, и наг, и зрел.2
Небосвод, который был неистово лилов, Укрывал Ваала, как покров, По ночам, когда хмельной Ваал Опьяненных женщин целовал.3
Всегда и всюду было небо рядом с ним, Потому Ваал вовек не уставал И неукротим, неутомим Шел по миру, как девятый вал, —4
По земле, которая металась и стонала, Словно жадно-похотливая вдова. Наготу великого Ваала Укрывала неба синева.5
Страсть свою Земля дарит тому, Кто готов на смерть в ее объятьях; Но Ваал бессмертен, видно, потому, Что умеет вовремя отъять их.6
Без любви Ваал не горевал, У его любви вселенские масштабы. Хватит места, говорит Ваал, Хватит всем на лоне этой бабы.7
Есть ли бог — не все ль ему равно? Может, есть, а может, нету бога! И Ваала гложет лишь одна тревога: Есть ли водка? Где достать вино?8
Если баба все Ваалу отдавала, Это только вызывало смех Ваала. А в любовниках Ваал не видел зла; Только бы она не понесла!9
Всякий грех — учил Ваал — хорош, Самому же грешнику — цена дырявый грош; Грех приятен людям до седин, Только два грешка полезней, чем один!10
Не жалей того, кого ограбил: Блажь твоя превыше всяких правил. Лучше пусть тебя корят за воровство, Чем за то, что ты не сделал ничего.11
Лень отбросим, похотью горя: Наслажденье не дается зря. Лень поможет отрастить живот, А живот блаженства не дает.12
Слабостью своей врагов не радуй, Обессилев, никогда не падай. Старость не способен побороть Тот, кто ночью убивает плоть.13
Разломав игрушку, посмотри, Что таится у нее внутри; Никогда игрушку не жалей, Потому что с правдой — веселей.14
Так блестит Ваалова звезда. Пятна грязи — это не беда! Все равно его звезда струит свой свет, Да к тому же у него другой в запасе нет.15
Коршун бы Ваалу печень расклевал, — И над спящим жадно кружит он! Только — мертвецом прикинулся Ваал И сварил себе из коршуна бульон.16
Под луной, сияющей с небес, Чавкая, сожрет он все кругом. А потом уйдет Ваал в бессмертный лес И забудется великим сном.17
Пусть настал его последний час — Ничего, Ваал по горло жизнью сыт. Столько неба у него в глубинах синих глаз, Что и мертвый в небо он глядит.18
И когда, обрушившись в провал, В мрак небытия ушел Ваал, Мир, которого Ваал теперь уже не зрел, Был, как прежде, синь, и наг, и зрел.1918
Об утонувшей девушке Перевод Д. Самойлова
1
Когда она утонула и вниз поплыла Из ручьев в речки и в реки, Так светились небесные купола, Словно труп упокоить хотели навеки.2
Осока и тина ее облекли, И она постепенно отяжелела. Возле ног ее рыбы хороводы вели, И водоросли задерживали тело.3
По ночам было небо темным, как дым, И несло на весу звезды, как свечи. По утрам становилось оно голубым — Для нее еще были утро и вечер.4
И когда ее бледное тело превратилось в гнилье, Постепенно господь забывал, каково оно было: Позабыл он лицо, руки, волосы, всю позабыл он ее, И тогда она падалью стала и частью подонного ила.1920
Легенда о мертвом солдате Перевод С. Кирсанова
{27}
1
Четыре года длился бой, А мир не наступал. Солдат махнул на все рукой И смертью героя пал.2
Однако шла война еще. Был кайзер огорчен: Солдат расстроил весь расчет, Не вовремя умер он.3
Над кладбищем стелилась мгла, Он спал в тиши ночей. Но как-то раз к нему пришла Комиссия врачей.4
Вошла в могилу сталь лопат, Прервала смертный сон. И обнаружен был солдат, И, мертвый, извлечен.5
Врач осмотрел, простукал труп И вывод сделал свой: Хотя солдат на речи скуп, Но в общем годен в строй.6
И взяли солдата с собой они. Ночь была голубой. И если б не каски, были б видны Звезды над головой.7
В прогнившую глотку влит шнапс, Качается голова. Ведут его сестры по сторонам, И впереди — вдова.8
А так как солдат изрядно вонял — Шел впереди поп, Который кадилом вокруг махал, Солдат не вонял чтоб.9
Трубы играют: чиндра-ра-ра, Реет имперский флаг… И выправку снова солдат обрел, И бравый гусиный шаг.10
Два санитара шагали за ним. Зорко следили они: Как бы мертвец не рассыпался в прах — Боже сохрани!11
Они черно-бело-красный стяг Несли, чтоб сквозь дым и пыль Никто из людей не мог рассмотреть За флагами эту гниль.12
Некто во фраке шел впереди, Выпятив белый крахмал. Как истый немецкий господин, Дело свое он знал.13
Оркестра военного треск и гром, Литавры и флейты трель… И ветер солдата несет вперед, Как снежный пух в метель.14
И следом кролики свистят, Собак и кошек хор — Они французами быть не хотят. Еще бы! Какой позор!15
И женщины в селах встречали его У каждого двора. Деревья кланялись, месяц сиял, И все орало «ура!».16
Трубы рычат, и литавры гремят, И кот, и поп, и флаг, И посредине мертвый солдат, Как пьяный орангутанг.17
Когда деревнями солдат проходил, Никто его видеть не мог — Так много было вокруг него Чиндра-ра-ра и хох!18
Шумливой толпою прикрыт его путь. Кругом загорожен солдат. Вы сверху могли б на солдата взглянуть, Но сверху лишь звезды глядят.19
Но звезды не вечно над головой. Окрашено небо зарей — И снова солдат, как учили его, Умер, как герой.1918
Против соблазна Перевод Ю. Левитанского
{28}
Не смейте поддаться соблазну! Дорога назад не ведет. Стемнеет, и полночь настанет, И в доме вам холодно станет, И утро уж не придет. Не смейте поддаться обману! Срок малый у жизни, увы. И надо спешить, торопиться, Хоть досыта ею упиться, Увы, не успеете вы. Не смейте поддаться надежде! Ведь времени мало у вас. Прочь мрачные мысли гоните! Ваш век уже в самом зените; За часом уносится час. Не смейте поддаться соблазну Безгласным остаться скотом! Не бойтесь, в конечном-то счете Со всеми зверями умрете — Ничего уж не будет потом.О бедном Б. Б Перевод К. Богатырева
{29}
1
Я, Бертольт Брехт, зачат в лесах дремучих. Мать моя вынесла меня в города В чреве своем. И холод лесов дремучих Во мне останется навсегда.2
Асфальтный город — мой дом. В нем я с детства Тайнам святым и дарам приобщен; Газетам, а также табаку и водке. Я ленив, недоверчив и умиротворен.3
С людьми я, в общем, приветлив. И обычно, Как принято у них, ношу котелок. Я говорю: это очень странно пахнущие звери, Впрочем, и я такой же. Это не порок.4
По утрам в мои пустые качалки Я рассаживаю знакомых дам. Смотрю на них беззаботно и говорю им: «А я ведь не из тех. Ездить на себе не дам!»5
По вечерам меня навещают мужчины, — Все больше джентльмены, воспитанные господа. Они рассуждают, ноги на стол закинув: «Дела пойдут на поправку». А я не спрашиваю когда.6
На рассвете в тумане писают ели, Скребутся ветвями под птичьим дерьмом. А я допиваю стакан свой в постели, Бросаю окурок и сплю беспокойным сном.7
Так легкомысленно мы и жили В домах, неразрушимых по нашим данным. (Вот мы и настроили длинные корпуса на Манхеттене И антенны, беседующие с Атлантическим океаном.)8
От этих городов останется ветер, насквозь их продувший. Дома набивают едою утробы нам. Мы знаем — мы здесь не навечно, Но чем нас заменят? Да ничем особенным.9
Я надеюсь, что в пору грядущих землетрясений От горечи не затухнет сигара моя. Так думаю я, Бертольт Брехт, из лесов дремучих Занесенный матерью в эти асфальтные края.1922
Из «Хрестоматии для жителей городов»
{30}
Не оставляй следов… Перевод С. Третьякова
Отстань от товарищей на вокзале, Застегнув пиджак, беги раненько в город. Сними квартиру и, когда постучит товарищ, Не открывай, о, не открывай дверей. Наоборот. Не оставляй следов. Встретив родителей в городе Гамбурге или еще где, Мимо пройди, как чужой, за угол заверни, не узнав. На глаза натяни шляпу, подаренную ими. Не показывай, о, не показывай лица. Наоборот. Не оставляй следов. Есть мясо? Ешь его, впрок не запасайся. В любой дом заходи, если дождь, на любой стул, который найдется, садись. Но не засиживайся и не забудь шляпу. Я тебе говорю — Не оставляй следов. Дважды не повторяй того, что сказал. Если найдешь свою мысль у другого, отрекись от нее. Подписи кто не давал, кто не оставил портрета, Кто очевидцем не был, кто не сказал ни слова, Как того поймать? Не оставляй следов. Если решишь умирать, позаботься, Памятника чтоб не было — он выдаст, где ты лежишь. Надписи тоже не надо (она на тебя укажет). И года смерти не нужно — он тебя подведет. Напоминаю — Не оставляй следов. (Так обучали меня.)О пятом колесе Перевод В. Куприянова
Мы с тобой в тот час, когда ты замечаешь, Что ты — пятое колесо, И надежда тебя покидает. Но нам Еще ничего не заметно. Только то, Что ты тороплив в разговоре, Ты ищешь слова, с которым Ты можешь уйти, Так как прежде всего Ты не хочешь уйти незамеченным. Ты встаешь, не закончив фразу, Говоришь раздраженно, что хочешь идти, Мы говорим: «Оставайся!» — и тут замечаем, Что ты — пятое колесо. А ты слова садишься. Так что ты остаешься с нами, в тот час, Когда мы замечаем, что ты — пятое колесо. Но ты Уже этого не замечаешь. Так пусть тебе скажут, что ты — Пятое колесо. И не думай, что я, сказавший тебе об этом, Что я негодяй, И не за топором тянись, а тянись За стаканом воды. Я знаю — ты уже ничего не слышишь, Однако Не говори так громко, что мир этот плох, Говори это тише. Ведь четыре — это не слишком много, лишнее лишь Пятое колесо. Мир этот неплох, Этот мир — Переполнен. (Ты не раз уже слышал об этом.)1926
Об опасности ни слова! Перевод В. Куприянова
Об опасности ни слова! В танке вы не пройдете через решетку канала: Выйти придется, И оставьте свой кипятильник, Проверьте, пройдете ли сами. Но деньги должны быть при вас, Я не спрашиваю, где вы их возьмете, Но без них пробиваться нет смысла. А здесь вам оставаться нельзя. Здесь вас знают. Если верно я вас понимаю, Вы намерены все-таки съесть еще два-три бифштекса, Прежде чем сойти с дистанции! Оставьте жену где угодно! У нее у самой пара рук И к тому же еще пара ног. (Они больше вас не касаются!) Попробуйте сами пробиться! Если вам еще есть что сказать, так Мне скажите, я это забуду. И ни к чему вам блюсти манеры: Больше никто не смотрит на вас. Если вы пробьетесь, Вы большее совершите, Чем исполните долг человека. Не за что благодарить.Оставьте все ваши мечты… Перевод В. Куприянова
Оставьте все ваши мечты, будто для вас Исключение сделают; Безразлично, Что вам говорила мать. И оставьте при себе свой контракт, Здесь его соблюдать не станут. Оставьте ваши надежды, Будто вы рождены для поста президента. Но — разбейтесь в лепешку — Научитесь себя вести по-иному, Чтобы стало возможным терпеть вас на кухне. Заучите еще азбучную истину. Азбучная истина такова: С вами справятся. И не размышляйте над тем, что вы хотите сказать: Вас не спрашивают. Все едоки в сборе, И одно лишь надобно здесь — рубленое мясо. (Но это пусть вас Не лишает присутствия духа!)Четыре предложения человеку с разных сторон в разное время Перевод В. Куприянова
1
Здесь твой дом, Здесь ты можешь сложить свои вещи. Мебель можешь переставить по своему вкусу. Скажи, что тебе еще нужно. Вот тебе ключ. Оставайся здесь.2
Здесь жилье на всех нас, И для тебя комната и постель. Ты можешь нам подсобить на дворе. У тебя есть своя тарелка. Оставайся здесь с нами.3
Здесь твой угол, Постель еще совсем чистая, Здесь спал только один человек. Если ты брезгуешь, Сполосни оловянную ложку в бочке. Она станет чистой. Оставайся у нас здесь.4
Здесь моя комната, Давай быстро, а то можешь остаться И на ночь, но за это особая плата. Я не стану тебя беспокоить. Впрочем, я не больна. Здесь тебе будет не хуже, чем где-нибудь. Так что можешь остаться.1926
Мне часто снится ночами… Перевод В. Куприянова
Мне часто снится ночами: я Уже не могу заработать на жизнь. Сколачиваю столы, а в этой стране Они никому не нужны. Торговцы рыбой Говорят по-китайски. Мои ближайшие родственники Отчужденно глядят на меня. Жена, с которой я спал семь лет, Вежливо раскланивается со мной в прихожей И проходит с улыбкой Мимо. Мне известно, Что крайняя комната опустела, Мебель уже вынесли, Выпотрошены матрацы, И сорвана занавеска. Короче, все сделано для того, Чтобы мое грустное лицо Побледнело. Белье, висящее на дворе Для просушки, — мое белье, я узнаю его Точно. Вглядевшись пристальней, вижу, Разумеется, Швы и заплатки. Кажется, Будто меня раздели. Другой Кто-то живет здесь и даже В собственном моем Белье.Обращение к властям Перевод В. Куприянова
В день, когда неизвестный павший солдат Под орудийный салют уходит в могилу, В этот день от Лондона до Сингапура Прерывается всякий труд — В полдень, с двенадцати двух До двенадцати четырех, — на целых Две минуты, так будет почтен Неизвестный павший солдат. Но, наперекор всему, не следует ли Распорядиться, чтобы Неизвестному пролетарию Из больших городов обжитых континентов Была наконец оказана почесть. Неизвестному из прохожих, Чье лицо неотчетливо, Чья странная суть ускользает, Чье имя затеряно в шуме. И в интересах всех нас, Чтобы этому человеку Оказали почесть по праву, Назвав по радио адрес: «Неизвестному пролетарию». И чтобы На минуту замерли люди На всей рабочей планете.1927
Стихотворения 1927–1932 годов
Триста убитых кули докладывают Интернационалу Перевод Б. Слуцкого
Из Лондона сообщают по телеграфу:
«300 кули, захваченных в плен
войсками китайских белых армий и
отправленных на платформах в Пын Шень
погибли в дороге от голода и холода».
В родных деревнях мы остаться хотели. На это нам разрешенья не дали. К несчастью, риса мы взять не успели В ту ночь, когда нас на платформу загнали. Крытых вагонов нам не осталось. Скоту Их предоставили. Он чувствителен к скверной погоде. Все мы простыли в ночку холодную ту, Куртки у нас отобрали в походе. Мы все добивались, кому же мы все же нужны, Но наша охрана не отвечала на это. «Кто дышит в ладони, тому холода не страшны». Другого от них не слыхали ответа. Поезд доехал до крепостных ворот. «Скоро приедем». Мы слушали это доверчиво. Холоден слишком для бедных людей этот год. Шел третий день. Все мы замерзли до вечера.1927
О деньгах Перевод В. Корнилова
Талера, дитя мое, не бойся,
К талеру, дитя мое, стремись.
Ведекинд Знаю, тебя не прельстит работа! Нет, не работой жив человек. Но ради денег не жалко пота, Денег еще никто не отверг! Страшная злоба миром владеет, Каждый каждому ставит капкан. И потому добивайся денег! Злобы сильнее любовь к деньгам! Деньги имеешь — и все на свете Липнут к тебе. Ты солнечный свет. Денег нет — отвернутся дети, Объявят: у них, мол, родителя нет. Деньги имеешь — и все трепещет! Без денег и славы не обретешь, Деньги свидетелей обеспечат! Деньги — истина. Деньги — мощь! Тому, в чем жена поклялась, доверься. Без денег — тебе не видать жены, Без денег — вырвет тебя из сердца, Без денег — звери одни верны. Люди так никого не боготворили, Даже богу воздали меньшую честь. Если хочешь, чтоб корчился враг в могиле, Напиши на надгробье: здесь деньги есть.1927
Сонет о любовниках Перевод Д. Самойлова
Признаемся: у нас тонка кишка! С тех пор как переспал с женою друга, Я плохо сплю: не пропущу ни звука, Перегородка у меня тонка. Их комната соседствует с моей, И вот что изнуряет совершенно: Когда он с ней, я слышу через стену, Когда не слышу, то еще скверней. По вечерам, когда сидим и пьем И у него погасла сигарета И значит, что они уйдут вдвоем. Я доливаю рюмку дополна, Хочу, чтобы она была пьяна И утром чтоб не помнила про это.Жестокий романс о Мэки-Ноже Перевод А. Эппеля
(Из «Трехгрошовой оперы»)
У акулы в пасти зубы, Пожелаешь — перечтешь! А у Мэки — острый ножик, Только где он — этот нож?! Ах, красны акульи зубки, Если кровь прольет она. А у Мэки на перчатках Ни соринки, ни пятна. Вдоль зеленой нашей Темзы Горожане мрут и мрут, — То не мор и не холера — Мэки-Нож резвился тут. Найден труп у парапета, А убийцу не найдешь. В переулок скрылся некто По прозванью Мэки-Нож. Где ж вы, денежные люди? Где Шмуль Майер, где старик? И у Мэки деньги Шмуля, Но на это нет улик. Отыскалась крошка Дженни, Но, увы, с ножом в груди… Вдоль реки гуляет Мэки — Проходи, не подходи! Где искать Альфонса Глайта? Где его убийцы след? Может, кто и в курсе дела — Мэки-Нож, конечно, нет. А пожар, спаливший в Сохо Старикашку и внучат, Средь зевак фигура Мэки. Он молчит — и все молчат. А вдова-отроковица Не сумела честь сберечь. Надругались над вдовицей… Мэки-Нож, о ком здесь речь? И рыбешки все пропали. Суд в смятенье — чья вина? Намекают на акулу, Но она удивлена. И не помнит! И не вспомнит! Обвиняемый безлик. Ведь акула — не акула, Если нет на то улик.Пиратка Дженни, или Мечты судомойки Перевод Е. Эткинда
(Из «Трехгрошовой оперы»)
1
Господа, я здесь вытираю стаканы И стелю господам постели. И вы пенни мне даете, улыбаюсь я вам. Я обслуживаю пьяных и бесстыжих ваших дам В этом грязном портовом отеле. Но однажды грянет громкий крик из порта, Вы решите, что это начинается война. И я буду хохотать, а люди спросят; «Почему хохочет тут она?» И военный корабль, Сорок пушек по борту, Бросит якорь в порту.2
Все кричат мне: «Эй, рюмки мой, не скучай!» И бросают мне пенни на чай. Что же, ваши чаевые получать я не прочь, Но никто не будет спать в эту страшную ночь: Ведь никто еще не знает, кто я. Но однажды грянет громкий крик из порта. Спросите вы: «Что такое? Что произошло?» И вы спросите: «Что видно ей в окошко?» Почему она хохочет зло? И военный корабль, Сорок пушек по борту, Вдруг откроет огонь.3
Господа, будет вам в этот день не до шуток, Не до вин, и не до эля, Потому что весь город рухнет во прах, И охватит, господа, вас тогда смертельный страх В этом грязном портовом отеле. Соберутся толпы, будут все дивиться, Почему гостиница одна не сожжена. Из подъезда я выйду к ним гордо. Люди скажут: «Тут жила она!» И военный корабль, Сорок пушек по борту, Черный выкинет флаг.4
С бригантины в город спустятся сто молодцов, И город задрожит от страха. И будут молодцы мои чинить правый суд И каждого ко мне в кандалах приволокут, Спросят: «Всех ли тащить на плаху?» В городе наступит тишина, как в могиле, Когда спросят: «Кого казнить?» Я отвечу: «Казните всех!» И когда упадет голова, я воскликну: «Гоп-ля!» И пиратский корабль, Сорок пушек по борту, Унесет меня вдаль.О ненадежности житейских обстоятельств Перевод С. Апта
(Из «Трехгрошовой оперы»)
Что мне нужно? Лишь одно: Замуж выйти, стать женою. Неужели и такое Человеку не дано? У человека есть на счастье право. Ведь бытия земного краток век, И хлеб вкушать, и радоваться, право, Имеет право каждый человек. Да, таково его святое право. Но слыхано ль, чтоб кто-нибудь однажды Осуществил права свои? Увы! Осуществить их рад, конечно, каждый, Да обстоятельства не таковы. Доброй быть хочу с тобой, Все отдать тебе я рада. Мне ведь лучшая отрада — Счастье дочери родной. Стать добрым! Кто не хочет добрым стать? Раздать бы бедным все добро свое! Какая бы настала благодать, Какое было б райское житье! Стать добрым! Кто не хочет добрым стать? Но вот беда — на нашей злой планете Хлеб слишком дорог, а сердца черствы. Мы рады жить в согласье и в совете, Да обстоятельства не таковы. Он прав — кто возразить бы мог? Зол человек, и мир убог. Я прав — кто возразить бы мог? Зол человек, и мир убог. Мы рады бы устроить рай земной, Да обстоятельства всему виной! Кто с братом жить в ладу не рад? Твой брат тебе, конечно, друг. Но станет в доме тесно вдруг — И налицо домашний ад. Кто верным долгу быть не рад? Жена тебе, конечно, друг. Но ей любви не хватит вдруг — И налицо домашний ад. Твой сын тебе, конечно, друг. Кто верным долгу быть не рад? Но станешь сыну в тягость вдруг — И налицо домашний ад. А быть хорошим всякий рад. Вот это-то и скверно, И гнусно беспримерно. Зол человек, и мир убог, Он прав — кто возразить бы мог! Я прав. Кто возразить бы мог? Зол человек, и мир убог. И мы бы не были черствы, Да обстоятельства не таковы. И значит, в мире нет добра, И значит, это все мура. Зол человек, и мир убог. Я прав. Кто возразить бы мог! Вот это-то и скверно, И гнусно беспримерно. И значит, в мире нет добра, И значит, это все мура!Баллада о приятной жизни Перевод Е. Эткинда
(Из «Трехгрошовой оперы»)
{31}
Советуют нам умники иные: Живите, дескать, духом, а не брюхом. Ну, нет, святым не прокормиться духом, Куда сытней свиные отбивные. Пускай, кто хочет, истязает плоть! Довольно, братцы, я поголодал, Достаточно я косточки глодал. Ах, умники, не надо чушь молоть! Нужна ли нам свобода их речей. Жизнь хороша, но лишь для богачей. Епископ наш покорен Иисусу, Он ближнему готов отдать сорочку, Но винную он тоже любит бочку, Да и девчонка пастырю по вкусу. Всё то, что можно взять, берет любой. Кто с этим спорит, тот бесстыдно лжет И совести своей не бережет. Кто в этом признаётся — тот герой. Кто меньше всех берет, тот всех тощей. Жизнь хороша, но лишь для богачей. Не трудно быть хвастливым горлопаном, При всем честном народе разоряться, За справедливость и свободу драться И нравиться восторженным мещанам! Трибун такой на всех идет войной, Толкая зажигательную речь, А после, в ножны свой упрятав меч, Ложится спать с холодною женой. Зачем голодным треск пустых речей? Жизнь хороша, но лишь для богачей. Я записаться мог бы в демагоги, Болтать о духе, позабыв о хлебе И обещать бессмертие на небе. Но с болтунами нам не по дороге. От пустословья нынче проку нет, Оратору цена — дырявый грош. Речами людям брюхо не набьешь. И не заменишь ими звон монет. Не растолстеешь от таких харчей. Жизнь хороша, но лишь для богачей.Чем жив человек Перевод Ю. Левитанского
(Из «Трехгрошовой оперы»).
1
Вы, господа, что нас безгрешно жить, Жить праведно извечно обучали, Жратвы нам не забудьте предложить, Потом валяйте — но жратва вначале. Вы, брюхо волокущие едва, Вы, что учить нас честности хотите, Запомните одно: сперва жратва, Потом уже мораль, как ни крутите. Сперва бы надо бедному разок От той буханки отломить кусок. Ведь чем жив человек? Он ежечасно Другого давит, жрет из века в век. Да, тем он и живет, что он прекрасно Забыть умеет, что он человек. Так полно, господа, на том стоим: Грехом жив человек, и только им!2
Вот учите вы баб: держаться строго Или не строго — свой всему черед. Жратвы нам дать бы надо хоть немного, Потом учить, а не наоборот. Вы, господа, что жить легко хотите, Нас наделив позором и стыдом, Как ни крутите вы, как ни вертите, Сперва жратва — мораль, она потом. Сперва бы надо бедному разок От той буханки отломить кусок. Ведь чем жив человек? Он ежечасно Другого давит, жрет из века в век. Да, тем он и живет, что он прекрасно Забыть умеет, что он человек. Так полно, господа, на том стоим: Грехом жив человек, и только им!Песня о тщете человеческих усилий Перевод С. Апта
(Из «Трехгрошовой оперы»)
1
Своею головой Никак не проживешь. Увы, своею головой Прокормишь только вошь. В человеке скуден Хитрости запас. Где вам видеть, люди, Как дурачат вас.2
Составь прекрасный план, Умом своим блесни, Составь другой. А толку-то, А толку-то — ни-ни: В человеке скуден Подлости запас. Но идеалы, люди, Украшают вас.3
За счастьем ты бежишь. Но лучше погоди! Настигнуть счастье ты спешишь, А счастье позади. В человеке скуден Скромности запас, И наша воля, люди, Морочит только нас.4
Недобр и нехорош Твой ближний. Ну так что ж! Ударь его ты промеж глаз, И будет он хорош. В человеке скуден Доброты запас. Бейте смело, люди, Ближних промеж глаз.Любящие Перевод Д. Самойлова
(Из «Величия и падения города Махагони»)
Как клином журавли летят, взгляни! Уже тогда их тучи провожали В их дальний трудный путь, когда они Из прежней жизни к новой отлетали. Они летят со скоростью одной — И журавли и тучи — в те же дали. Журавль и туча делят меж собой Просторы неба, рядом пролетая, И продолжают свой полет двойной, Друг друга ни на миг не покидая, И только ветер чувствуют сквозной, И лишь парят — и та и эта стая. Так пусть несет их ветер в никуда, Соседствующих в дальнем поднебесье. Им никакая не грозит беда: Пока две стаи остаются вместе, Они уберегутся без труда От ливней ледяных, от пуль и мести. И так летят сквозь ночи и сквозь дни Неразлучимые две стаи эти. Куда? И от кого? От всех на свете. Давно ли вместе так летят они? Недавно. А расстанутся ли? Скоро. Вот так любовь для любящих — опора.Сонет к новому изданию Франсуа Вийона Перевод Е. Эткинда
{32}
Сюда его Большое Завещанье{33} С истлевших перенесено страниц, И здесь во всех ему знакомых лиц Комком дерьма он бросил на прощанье. В него плевали вы; где те плевки? Где сам он, тот, что вами был оплеван? Веселый стих его не арестован, Над песнею не властны пошляки. Купите эту книжку за три марки, Ее цена — десяток сигарет; Я знаю, что, как мертвому припарки, Поможет вам ее благой совет, Но все ж она вам преподаст урок. Я сам немало из нее извлек!{34}1930
Песня солидарности Перевод Е. Эткинда
(Из фильма «Куле Вампе»)
{35}
Встаньте, все народы света, Поднимитесь в грозный час! Ваша общая планета Станет матерью для вас. Вперед! Наша сила — Знамя вместе нести! Чтобы смерть не косила — Вперед! Наша сила В солидарности! Белый, желтый, красный, черный! Братскую не лейте кровь! Мир, достаточно просторный, Обеспечит людям кров. Вперед! Наша сила — Знамя вместе нести! Чтобы смерть не косила — Вперед! Наша сила В солидарности! Смерть безжалостная косит, В одиночку нас губя. Кто в беде другого бросит, Бросит самого себя. Вперед! Наша сила — Знамя вместе нести! Чтобы смерть не косила — Вперед! Наша сила В солидарности! Власть имущим скорбь и горе, Если ты — товарищ мне. Ведь покамест мы в раздоре, Власть имущий — на коне! Вперед! Наша сила — Знамя вместе нести! Чтобы смерть не косила — Вперед! Наша сила В солидарности! Под пятой людского рода Извивается тиран. В единении — свобода, Пролетарии всех стран! Вперед! Наша сила — Знамя вместе нести! Чтобы смерть не косила — Вперед! Наша сила В солидарности!1931
Хороший, но для кого? Перевод Б. Слуцкого
(Из «Книги перемен»)
Подойди. Говорят, Ты хороший человек. Ты неподкупен. Впрочем, Молния, ударившая в дом, — Тоже. Ты не отступаешься От того, что когда-то сказал. Но что ты сказал? Ты честен: что думаешь, то и говоришь. Но что ты думаешь? Ты храбр. Но в борьбе против кого? Ты умен. Но кому служит твой ум? Ты не заботишься о своей выгоде. А о чьей? Ты хороший друг. Но хороших ли людей? Слушай же, мы знаем: Ты наш враг. Поэтому Мы тебя поставим к стенке. Но, учитывая твои заслуги и твои достоинства, Мы поставим тебя к хорошей стенке И расстреляем тебя из хороших винтовок хорошими пулями, А потом закопаем Хорошей лопатой в хорошей земле.Ночлег Перевод Б. Слуцкого
Говорят, что в Нью-Йорке На углу Бродвея и Двадцать шестой авеню В зимние месяцы каждый вечер становится человек И, обращаясь с просьбой к прохожим, Обеспечивает ночлегом собирающихся там бездомных. Мир от этого не изменяется, Отношения между людьми не улучшаются, Век эксплуатации от этого не сокращается, Но несколько человек получают ночлег, На одну ночь укрываются от ветра. Снег, предуготовленный им, падает на мостовую. Человек, не захлопывай книгу, которую ты сейчас читаешь. Несколько человек получают ночлег, На одну ночь они укрыты от ветра. Снег, предуготовленный им, падает на мостовую. Но мир от этого не изменяется, Отношения между людьми не улучшаются, Век эксплуатации от этого не сокращается.Три параграфа Веймарской конституции Перевод Е. Эткинда
Параграф I Государственная власть исходит от народа
1
Власть исходит от народа. — Но куда она приходит? — Да, куда ж она приходит? До чего ж она доходит? И откуда происходит? Полицейский выходит из дома. — Но куда же он приходит? — и т. д.2
Вон отряд шагает важный. — А куда же он шагает? — Да, куда же он шагает? Ведь куда-то он шагает! Дом обходит трехэтажный… — Но куда же он шагает? — и т. д.3
Эти власти — вот напасти — Вдруг застыли на дороге. — Это что там на дороге? — Что-то есть там на дороге! Вдруг как гаркнут грозно власти: — Живо уносите ноги! — Разойтись? Уйти с дороги? Почему ж уйти с дороги?4
Что за митинг? Живо! Слазьте! Кто-то спрашивает что-то? Задает вопросы кто-то? Почему-то, отчего-то!.. Дали тут, конечно, власти Очередь из пулемета. И тогда свалился кто-то, Как-то сразу отчего-то Повалился наземь кто-то.5
Власти ходят по дороге. — Кто лежит там на дороге? Кто-то протянул тут ноги, Труп какой-то на дороге. Э, да ведь это народ! Как, в самом деле народ? Да, в самом деле народ.Параграф 111 Право на собственность
1
Рабочий, спеши! Ныне право дано Осесть и тебе, непоседе. Ты можешь купить себе землю равно Близ озера Ваннзее{36} И близ Николасзее. Зачем ты мечтаешь о жалком обеде, Когда на именье, когда на наследье Нам право дано? Отныне оно Парламентом нашим провозглашено.2
Рабочий, постой-ка! Участок ведь тот Другому уже продается, Который по праву именье найдет Близ озера Ваннзее И близ Николасзее. Теперь погоди-ка, пока он загнется, И снова именье тебе улыбнется, Возьмет его тот, Чей тучен живот: Он право свое в кошельке обретет.Параграф 115 Неприкосновенность жилища
1
Конституция про нищих не забыла, Это нынче каждый честный нищий Скажет откровенно. Если бы у нас жилище было, Было бы тогда сие жилище Неприкосновенно.2
Кто посмеет тронуть нас? Нахала Суд тотчас же призовет к ответу, Суд с нахала взыщет. Нам жилище бы принадлежало, Если б нам принадлежало где-то Вообще жилище.3
Потому как нет у нас жилища. Под мостом приходится бродягам Спать обыкновенно. Под мостом холодный ветер свищет. Там мы, не знакомы с этим благом — Неприкосновенным.1931
Ах, доктор… Перевод Е. Эткинда
{37}
Ах, доктор, ведь нынче просто… Вздор, вы помогать должны Естественному приросту Населенья своей страны. Ах, доктор, ведь мы без крыши… Вздор, есть же у вас кровать? Пока вас никто не слышит, Советую помолчать. Для армии непобедимой нашей Придется вам, дружочек, стать мамашей. И скажу вам притом: рассудите о том, Что послужите делу своим животом. А прочее — вздор! Рожаем, и весь разговор. Ах, доктор, мы нищи и тощи, Куда нам иметь детей?… Безработным, фрау Реннер, проще: Рожай, да и богатей! Ах, доктор!.. Рыдать без причины, Поглаживая живот? Государству нужны мужчины, Рабочие — на завод. Для пользы всей промышленности нашей Придется вам, фрау Реннер, стать мамашей. И скажу вам притом: рассудите о том, Что послужите делу своим животом, А прочее — вздор. Рожаем, и весь разговор. Ах, доктор, нам так некстати… Как вы не возьмете в толк: Резвились ночью в кровати, Теперь уплатите долг. Фрау Реннер, закон не шутка, Для вашего блага он. Советую вам не лишаться рассудка И помнить: закон есть закон. А потому во имя мощи нашей Придется вам, фрау Реннер, стать мамашей. И скажу вам притом: рассудите о том, Что послужите делу своим животом. А прочее — вздор! Рожаем, и весь разговор.Изо всех вещей Перевод А. Исаевой
Изо всех вещей мне дороже всего Бывшие в употреблении. Медные посудины С вмятинами и сплющенными краями. Ножи и вилки с деревянными ручками, Стесанными прикосновением многих рук: форма их Кажется мне благородной. Или вот каменные плиты возле старых домов, Стертые поступью многих, стоптанные, сточенные, А между ними пробивается травка. Это Счастливейшие из вещей. Поступив в обращение, Они непрерывно менялись, шлифуя форму, и теперь драгоценны: На них есть проба. Даже фрагменты статуй, обломки с отбитыми руками мне дороги. И они Тоже жили, я вижу. Если их уронили, значит, куда-то несли. Раз опрокинули, значит, где-то они стояли, не так высоко. Развалины зданий Вновь обретают контур незавершенных строений: Словно набросок вчерне — их силуэты Уже угадываются; но от нас это требует Мысли. С другой стороны, Они уже отслужили, да, отжили век свой. Всем этим Я осчастливлен.Ни единой мысли не тратьте на то, чего нельзя изменить Перевод Е. Эткинда
1
Ни единой мысли не тратьте на то, чего Нельзя изменить! Ни единого усилья на то, чего Нельзя улучшить! Над тем, чего нельзя спасти, не проливайте Ни единой слезы! Но: То, что есть, разделите между голодающими, То, что можно одолеть и растоптать, Растопчите и одолейте. Растопчите себялюбивого негодяя, хватающего вас за руку, Когда вы тащите из шурфа своего брата, Веревкой, которая так доступна. Ни единой мысли не тратьте на то, чего нельзя изменить! Но: Вытащите все человечество из шурфа веревкой, Которая так доступна.2
Прекрасна победа того, что полезно! Даже альпинист, который не застрахован канатом, Никому ничего не обещавший, кроме как себе самому, Радуется, достигнув вершины и торжествуя победу, Ибо сила его оказалась полезной для него, а значит, Она будет полезна и для других. Вслед за ним Тотчас придут они И приволокут на вершину, ставшую ныне доступней, Приборы, которые крестьянину предскажут погоду И облачность — самолету.3
То чувство солидарности и торжества, Которое объемлет вас при виде восстания на броненосце «Потемкин»{38} В момент, когда матросы сбрасывают в море своих мучителей, — Это то же чувство солидарности и торжества, которое Мы испытываем при виде Перелета через Южный полюс. Рядом со мной сидели Эксплуататоры, но и они были охвачены Тем же переживанием солидарности, глядя На действия революционных матросов, значит, Даже подонки общества не могут Противостоять неодолимым соблазнам возможного И строгим радостям логической мысли. Подобно тому, как опытный инженер Стремится испытать с таким трудом созданный им И непрестанно улучшаемый автомобиль на Наивысшей скорости, чтобы выжать Все, на что способен мотор, а крестьянин — Вспахать свое поле улучшенным плугом, а мостостроитель — Пустить гигант экскаватор по песчаному руслу реки, — Так и мы стремимся до конца довести дело Исправления нашей планеты Во имя всего живущего на ней человечества.Переезжая границу Советского Союза Перевод К. Богатырева
{39}
Переезжая границу Союза, Родины разума и труда, Мы увидали Над рельсами взвитый плакат: «Пролетариям пролетарский привет!» Но, возвращаясь в страну беспорядка и преступлений, Возвращаясь на родину, Мы увидали плакат С обращением к поездам, уходящим на запад: «Революция Сметет все границы!»1932
Тем, кто может уйти Перевод Б. Слуцкого
Те, кто может уйти, должны уйти. Не нужно просить их остаться. Остаться должны только те, кто не может уйти. Разве удержишь того, У кого есть возможность уйти? Ослабевшие не в силах Удержать кого бы то ни было. Но и в хорошее время Не удерживайте тех, кто может уйти, Потому что может наступить плохое время. С нами пойдут в бой Лишь те, кому грозит то же, что и нам. Что нам за толк, если кое-кто Любит нас за красивые глаза? Скажем же им: сегодня От нас еще есть дорога, Кольцо вокруг нас еще не сомкнулось. Может уйти каждый, у кого есть убежище там, снаружи, У кого есть друг среди врагов, Тот, кто еще может уйти. Чтоб мы наконец остались одни — Только люди, Которые не могут уйти.Когда фашизм набирал силу… Перевод Б. Слуцкого
Когда фашизм набирал силу в Германии И даже рабочие массы притекали к нему все сильнее, Мы сказали себе: мы боролись неверно. По красному Берлину нагло шлялись Четверки и пятерки нацистов, Обмундированные с иголочки, и убивали Наших товарищей. Однако погибали не только наши люди, но и люди Рейхсбаннера{40}. И мы сказали товарищам социал-демократам: Должны ли терпеть мы убийства наших товарищей? Давайте вместе бороться в боевом антифашистском союзе! В ответ мы услышали: Мы бы, пожалуй, боролись вместе с вами, но наши вожди Предупреждают нас, чтобы мы не отвечали Красным террором на белый террор. Ежедневно наша газета, сказали мы, пишет против индивидуального террора, Но также ежедневно она пишет, Что мы добьемся своего только с помощью Единого Красного фронта. Товарищи, поймите, то самое меньшее зло, О котором твердят вам из года в год,{41} Чтобы удержать вас от борьбы. Уже сейчас означает терпимость к нацистам. И вот на предприятиях и на биржах труда Мы видим, что работяги хотят бороться. В восточном Берлине социал-демократы Приветствуют нас «Рот-Фронтом»{42} И даже носят значки «Антифашистского действия». Пивные В часы вечерних дискуссий переполнены. И вскоре нацисты Уже не решались ходить в одиночку по улицам нашим, Потому что, по крайней мере, улицы оставались нашими, Даже когда дома уже были захвачены.1932
Из книги «Песни, стихотворения, хоры»
{43}
Эпитафия 1919 Перевод В. Корнилова
И Красной Розы{44} тоже нет. Она — Никто не знает где — погребена. За слово правды беднякам земли Богатые с земли ее свели.1929
Колыбельные песни Перевод В. Корнилова
{45}
1
Когда я тебя рожала, твои братья выли, Они просили супу, а где было взять суп? Когда я тебя рожала, за свет платить было нечем, Мир, в который пришел ты, на освещенье был скуп Покуда тебя носила во чреве, С твоим отцом о тебе говорила мать, Но на доктора не было денег. Деньги Нам нужны были, чтобы не голодать. Когда ты родился, даже надежды На работу и хлеб не осталось у нас. Но сказано было у Маркса и Ленина, Чего добьется рабочий класс.2
Когда я тебя носила, Трудно нам было. И тот, Кого ношу, говорила я, В мир нехороший войдет. И вот я тогда решила, Чтоб мир добра не затмил, Тот, кого я ношу, обязан Улучшить недобрый мир. За забором горой рос уголь. Ну, что же, сказала я, Тот, кого я ношу под сердцем, Добудет для нас угля. Я видела хлеб за витриной, Он был бедным не по зубам. Но сказала я: тот, кого я ношу, Добудет хлеба и нам. А они послали отца на войну, Чтобы там его погубить. Тот, кто в чреве моем, говорила я, Так не даст с собой поступить. Когда я тебя носила, Говорила часто себе самой: Ты, кого я ношу под сердцем, Будь отважен и тверд душой.3
Тебя родила я. На это Отвага нужна и борьба. И это была победа — Взять и родить тебя. Дитя мое, Блюхер и Мольтке{46} Не побеждали так. Перед битвою за пеленки, Ватерлоо — просто пустяк. Хлеб, глоток молока — сраженья, За тепло бесконечный бой. И, не ведая пораженья, День и ночь я дралась с бедой. Бастовать мне пришлось немало, Чтобы ломтик хлеба достать, Побеждать пришлось генералов, Против танков пришлось стоять. Человека растить не просто. Если ж вырастешь, мой малыш, Вместе с нами будешь бороться, И верю, что победишь!4
Мой сын, что бы с тобою в грядущем ни сталось, Они уже теперь наготове и подняли дубье. Так что тебе, мой сын, на этой земле осталась Мусорная свалка, и то отнимают ее. Мой сын, позволь, я скажу тебе, и ты верь мне, Что тебя ожидает жизнь, схожая лишь с чумой. Но не для того я носила тебя во чреве, Чтобы ты спокойно смирялся с этой судьбой. То, чего не достиг, не считай, что тебе не под силу, То, чего не дают, сам добудь, иди напролом. Не для того я под сердцем тебя носила, Чтобы когда-нибудь ты ночевал под мостом. Может быть, ты и сделан не из особой плоти, И у меня для тебя денег нет и особых молитв, но я Жду, что не будешь бездельничать ты и вздыхать о работе, Отмечаясь на бирже труда и теряя время зазря. И когда я ночью лежу в бессоннице частой, С тревогой вслушиваясь в дыханье твое, Они, должно быть, планируют войны с твоим участьем, Но я хочу, чтобы ты не попался на их вранье. Твоя мать, мой сын, никогда тебе не внушала, Что ты из особого теста и подобных нету нигде, Но не для того я носила тебя и рожала, Чтобы ты за колючей проволокой рыдая молил о воде. Сын мой, держись рядом с тем, кто тебе подобен, Чтобы ваша сила развеяла в прах врагов. Ты, мой сын, и я, и все те, кто нам с тобою подобен, Своего добьемся, ставши рядом бок о бок, Чтобы не было в мире отныне людей двух сортов.1932
Песня о штурмовике Перевод С. Третьякова
{47}
Урчит пустое брюхо, Сплю с голодухи я, Вдруг слышу крик над ухом: «Проснись, Германия!» Гляжу. Идут. Их много. «В третье царство!» — зовет орда. Увязался я с ними вместе. Иду — все равно куда. Шагаю, а рядом шагает Толстенный такой живот. Я ору: «Работы и хлеба!» То же самое он орет. Я был от голода тощим, Был благоупитан он. Я хотел, чтобы стало по-новому, Он хотел добрых старых времен. Мне охота шагнуть налево, Направо клонит его. И воли моей сильнее Пузатого колдовство. Он — в сапогах высоких, А я ковыляю бос, Но мы шагаем рядом Сквозь дождь и сквозь мороз. Я голоден и бледен, Но не думаю ни о чем И шпарю в «третье царство» Совместно с брюхачом. Далось ему «третье царство»! Ну, прямо вынь да подай! Он шлет меня в атаку, Он говорит: «Стреляй!» Он револьвер дает мне: «Сади врагу заряд…» И целюсь я и вижу; Там мой брат. Да это же мой братишка, И голод у нас один, И враг у нас у обоих — Упитанный господин. «Прости! — кричу я брату. — Я дурень, мне это урок…» И я повернул оружье И взвел на господ курок. Мы с братом пойдем плечом к плечу, Взведя на врага курок.Песня о классовом враге Перевод Е. Эткинда
{48}
1
Меня научили в школе Закону «мое — не твое», А когда я всему научился, Я понял, что это не все. У одних был вкусный завтрак, Другие кусали кулак. Вот так я впервые усвоил Понятие «классовый враг». Я понял, как и откуда Противоречья взялись. Так и будет всегда, покуда Дождь падает сверху вниз.2
Твердили мне: будешь послушным — Станешь таким, как они. Я же понял: не быть тому мясником, Кто ягненком был искони. Иной стремился к богатству, И втирался к богатым он. Я видел, как искренно он удивлялся, Когда его гнали вон. А я не желал дивиться. Я знал уже в те года: Дождь может лишь книзу литься, Но вверх не идет никогда.3
Загремели вдруг барабаны: «Собирайся, народ, в поход, В богатые дальние страны, Где нас место под солнцем ждет». С три короба нам сулили Охрипшие крикуны, И жирные бонзы вопили: «Вы драться как львы должны!» Мы годами не ели хлеба, Веря в радужные пути. А дождь все струился с неба И вверх не хотел идти.4
А потом порешило начальство, Что республику создадут, Где каждый будет свободен и сыт, Тучен он или худ. Тогда голодный и битый Очень возликовал, Но толстопузый и сытый Тоже не унывал. А я говорил: «Едва ли! Это, наверно, ложь! Где и когда вы видали, Чтобы вверх поднимался дождь.5
Они бюллетени нам дали, А мы им — оружье свое, Они нам — свое обещанье, А мы им — свое ружье. Они говорили: с охотой Должны, мол, помочь мы им. Мы, мол, займемся работой, Они же всем остальным. И я замолчал, беспричинно Поверивши в чудеса. Я подумал: дождь молодчина. Он польется назад, в небеса.6
Они нам сказали вскоре, Что трудный момент прошел, Что, терпя небольшое горе, Избегнем мы больших зол.{49} Мы поверили: лучше поп Брюнинг, Лишь бы Папен не был у дел. А потом: пусть уж юнкер фон Папен, Лишь бы Шлейхер на шею не сел. И вслед за попом был юнкер, За юнкером — генерал,{50} И обрушился с неба на землю Не ливень, а целый шквал.7
Пока мы их выбирали, Они прикрыли завод. Голодные, мы ночевали Под биржей труда, у ворот. Они нам тогда говорили: «Дождемся мы лучших дней! Чем будет острее кризис, Тем будет расцвет пышней». Я же сказал ребятам: «Это классовый враг говорит. Мечтая о будущем, ищет Он только себе профит. Дождь не взлетает кверху, Он совсем не таков. Но он может пройти, если солнце Выглянет из облаков».8
Однажды они зашагали, Новый вздымая флаг. И кто-то сказал: «Устарело Понятие классовый враг».{51} Но я узнавал в колоннах Немало знакомых рож, И голос, оравший команды, На фельдфебельский был похож. И дождь уныло струился Сквозь флаги ночью и днем, И чувствовал это каждый, Кто ночевал под дождем.9
Они стали стрелять учиться, Они слали проклятья врагам, Грозя кулаком границе, Врагам своим — значит, нам, Потому что враги мы с ними. Беспощадна будет борьба, Потому что они подохнут, Потеряв своего раба. И вот почему, о мести твердя, Они за нами гнались, Бросаясь на нас, как потоки дождя Бросаются сверху вниз.10
Тот, кто от голода умер — В сраженье честно пал. Другой на площади умер, Убит был наповал. Они того удавили, Кто голодать не любил. Они челюсть тому своротили, Кто хлеба у них просил. Тот, кому обещали хлеба, Палачами растерзан был. В цинковый гроб был запрятан тот, Кто правды не утаил. А тот, кто им поверил, Что он им друг и брат, Тот, видимо, думал, что ливень Польется в небо назад.11
Мы с ними враги по классу, — Надо раз навсегда сказать. Кто из нас не отважился драться, Отважился умирать. Барабаном своим, барабанщик, Не покроешь ты грохота драк. Генерал, фабрикант, помещик. Ты — наш классовый враг. Мы станем с тобой друзьями Лишь после дождя в четверг. Так же немыслим союз между нами, Как дождь не польется вверх.12
Напрасно ты будешь стремиться Замазать вражду, маляр!{52} Здесь нам обоим не поместиться, Нам тесен земной шар. Что бы ни было, помнить нужно: Пока мне жизнь дорога, Мне навеки пребудет чуждо Дело классового врага. Соглашений с ним не приемлю Нигде, никогда, никак. Дождь падает с неба на землю, И ты — мой классовый враг.1933
Из «Хоралов о Гитлере» Перевод Е. Эткинда
{53}
II
На мотив «Господу нашему
слава, царю и владыке вселенной!»
1
Немец, проси маляра сократить и понизить налоги! Впрочем, с другой стороны, Для укрепленья казны Нужно повысить налоги.2
Хлеб наш насущный пускай дорожает на благо крестьянам. Впрочем, с другой стороны, Низкие цены должны Жизнь облегчить горожанам.3
Переселенцам пускай отведет он в деревне наделы. Впрочем, с другой стороны, Юнкеры вечно должны То сохранять, чем владели.4
Пусть он повысит оплату несчастному пролетарьяту, Впрочем, с другой стороны, Для укрепленья казны Пусть он понизит оплату.5
Мелким торговцам поможет он — пусть процветают бедняги! Впрочем, с другой стороны, Их уничтожить должны Крупные универмаги.6
Немец, проси маляра тебе должность и службу устроить! Все в государстве равны! Только — для немцев должны Должности дешево стоить.7
Фюреру слава, вождю, без которого нет нам оплота! Видите, топь впереди? Фюрер, вперед нас веди, Прямо веди нас — в болото.III
На мотив «Всевышнему навеки…»
1
Себя ты на поруки, Теленок, отдаешь В заботливые руки Того, кто точит нож. Отныне он имеет Власть над твоей судьбой. Поверь, что он сумеет Разделаться с тобой.2
Ах, ты, теленок, очень Понравился ему, И нож его наточен, Наверно, потому. Под нож не суйся сдуру И жди — наступит миг, Когда с теленка шкуру Решит содрать мясник.3
Всегда запанибрата С хозяином твоим Те рослые ребята, Какими он храним, Он к этим великанам Тебя сведет, сынок. Чтоб их великим планам Реально ты помог.4
Ты нужен командирам Для их больших затей. Бессилен сильный мира Без маленьких людей. Тебя зарежут? Что же, Теленок, счастлив будь, Что пригодиться можешь И ты на что-нибудь!5
Не требуй же оплаты За сей почтенный труд, Но молви виновато: — О господин, я тут! — На бойню он учтиво Тебя сведет тогда И скажет терпеливо: — Мой друг, ложись сюда!6
Блуждал по свету много Ты в поисках пути, Но наконец дорогу Сумел к нему найти. Как брошенный ребенок, Скитался ты, пока Не пал ты, о теленок, В объятья мясника.7
Тебе, теленок жалкий, Высокий жребий дан. Поверь тому, кто палкой Колотит в барабан. Вручи ему с почтеньем Ключи к твоей судьбе. Конец твоим мученьям И заодно — тебе.Баллада о дереве и ветвях Перевод С. Болотина и Т. Сикорской
И пришли они в своих рубахах коричневого сукна, А хлеба и масла уж нет. И пожрали единым махом все, что было в горшках, до дна, Весь наш скудный обед. — Здесь можно поселиться! — кричат они. — Здесь будем веселиться! — кричат они, — Минимум тысячу лет! — Ладно! — ветви сказали, Но ствол безмолвно ждет. — Давай! — орут гости в зале. Но хозяин предъявит счет! И они ищут теплых местечек, тащат стол «рококо» в кабинет, Нажимают небрежно звонок. За расходы никто не ответчик, счету средствам казенным нет — Всякий взял себе, сколько мог! — Здесь нравится нам лично! — кричат они. — Здесь можно жить отлично! — кричат они И сидят во дворцах без сапог. — Ладно! — ветви сказали, Но ствол безмолвно ждет. — Давай! — орут гости в зале. Но хозяин предъявит счет! И они патрулируют по двое и стреляют в любого из нас Тычут в горло нам сталь штыков. Но три марки за этот подвиг платит им золотая казна — Их волчий обычай таков. — Здесь можно поживиться, — кричат они. — Казна не истощится, — кричат они, — До скончанья веков! — Ладно! — ветви сказали, Но ствол безмолвно ждет. — Давай! — орут гости в зале. Но хозяин предъявит счет. Маляром бесноватым выкрашен в коричневое их дом, Жизнь окрашена в тот же цвет. — Недовольным зубы повыкрошим, упирающихся перебьем, Сильнее нас в мире нет! — Мы рассчитали точно! — кричат они. — — Мы рейх построим прочно, — кричат они, — На тысячи тысяч лет! — Ладно! — ветви сказали, Но ствол безмолвно ждет. — Давай! — орут гости в зале. Но хозяин предъявит счет!1935
Борцам концлагерей Перевод Б. Слуцкого
Вы, едва достижимые! Похороненные в концлагерях, Отсеченные от любого человеческого слова, Пытаемые, Избитые, Однако неопровергнутые! Исчезнувшие, Однако не забытые! О вас мы слышим немного, но все же слышим: вы Неисправимы, Вас нельзя убедить, то есть заставить отречься от рабочего дела, Нельзя разуверить, что и сейчас в Германии Есть люди и люди: угнетатели и угнетенные, И что только классовая борьба Может освободить массу Городскую и сельскую. Мы слышим, что вас ни батогом, ни дыбой Нельзя заставить Признать, что дважды два — пять. Итак, вы Исчезнувшие, но Не забытые, Избитые, но Неопровергнутые, Вместе со всеми неисправимыми борцами, Не переубежденными сторонниками правды Продолжаете оставаться Подлинными вождями Германии.1933
Погребение подстрекателя в цинковом гробу Перевод Арк. Штейнберга
{54}
В этом цинке, здесь, Покоится человеческий труп, Или его ноги, или голова, Или еще меньшая кроха его, Или вообще ничего, ибо он был Подстрекателем. Он изобличен как первопричина зла. Заройте его. В лучшем случае Только жена его последует за ним на живодерню, Ибо его сообщники Тоже изобличены. Это Нечто, лежащее в цинке, Подстрекало вас ко многому: Чтобы сытно есть, И чтобы жить в сухих жилищах, И чтобы кормить детей своих, И чтобы за свою копейку стоять, И чтобы солидарным быть со всеми Угнетенными, подобно вам, и Чтобы думать. Это Нечто, там в цинке лежащее, вам говорило, Что необходимо ввести иную систему производства И что вы, миллионные массы труда, Должны взять в свои руки власть, Без этого вам ничего не добиться. И вот потому, что Находящееся там в цинке говорило так, Оно и попало в цинк и подлежит погребенью В качестве подстрекателя, подстрекавшего вас. И тот, кто говорит здесь о сытной еде, И тот из вас, кто хочет жить в сухом жилье, И тот из вас, кто стоит за свою копейку, И тот из вас, кто хочет кормить своих детей, И тот, кто здесь размышляет и объявляет себя солидарным Со всеми угнетенными, Тот должен отныне и вовеки Быть запаян в цинк, подобно этому Нечто, Запаян как подстрекатель и погребен.1933
Послание товарищу Димитрову в те дни, когда он боролся с фашистским судом в Лейпциге Перевод Б. Слуцкого
Товарищ Димитров! С тех пор как ты борешься с фашистским судом, Сквозь толпы бандитов-штурмовиков и убийц, Сквозь свист шомполов и резиновых дубинок В самом сердце Германии Слышен Громкий и внятный голос коммунизма. Его слышат во всех странах Европы Те, кто — сами во тьме — вслушиваются во тьму за границей, Его слышат также Все избитые, ограбленные И несгибаемые Борцы Германии. Экономя и рассчитывая, ты, товарищ Димитров, Используешь каждую минуту, тебе данную, Используешь эту маленькую площадку, Еще открытую гласности, Ради всех нас. Едва владеющий чужим языком, Постоянно прерываемый окриками, Многократно вытащенный из зала, Истощенный кандалами, Ты вновь и вновь задаешь наводящие страх вопросы, Обвиняешь виновных и Заставляешь их орать, вытаскивать тебя из зала{55} И тем самым подтверждать, Что за ними не право, а только сила, Что тебя можно только убить, но не победить. Потому что, подобно тебе, этой силе сопротивляются Тысячи борцов, не столь заметных, как ты, Даже те, кто истекает кровью в застенках. Их можно убить, Но не победить. Подобно тебе, все они заподозрены в борьбе с голодом, Обвинены в восстании против угнетателей. Привлечены к суду за борьбу с эксплуатацией, Изобличены В справедливейших действиях.1933
Хвала коммунизму Перевод С. Третьякова
(Из пьесы «Мать»)
Он серьезен, он всем понятен. Он так прост. Ты не кровопийца ведь. Ты его постигнешь. Он нужен тебе, как хлеб, торопись узнать его. Глупцы зовут его глупым, злодеи зовут его злым, Мерзавцы зовут его мерзким. А он против зла и против глупости. Обиралы кричат о нем: «Преступленье!» А мы знаем: В нем конец их преступлений. Он не безумие, но конец безумия. Он не хаос, но Стройный порядок. Он то простое, Что трудно свершить.1931
Хвала диалектике Перевод М. Ваксмахера
(Из пьесы «Мероприятие»)
Кривда уверенным шагом сегодня идет по земле. Кровопийцы устраиваются на тысячелетья. Насилье вещает: «Все пребудет навечно, как есть». Человеческий голос не может пробиться сквозь вой власть имущих, И на каждом углу эксплуатация провозглашает: «Я хозяйка теперь». А угнетенные нынче толкуют: «Нашим надеждам не сбыться уже никогда». Если ты жив, не говори: «Никогда»! То, что прочно, непрочно. Так, как есть, не останется вечно. Угнетатели выскажутся — Угнетенные заговорят. Кто посмеет сказать «никогда»? Кто в ответе за то, что угнетенье живуче? Мы. Кто в ответе за то, чтобы сбросить его? Тоже мы. Ты проиграл? Борись. Побежденный сегодня победителем станет завтра. Если свое положение ты осознал, разве можешь ты с ним примириться? И «Никогда» превратится в «Сегодня»!1930
«Баллада о старухе»
Баллада об одобрении мира Перевод В. Корнилова
{56}
1
Пусть я не прав, но я в рассудке здравом. Они мне нынче свой открыли мир. Я перст увидел. Был тот перст кровавым. Я поспешил сказать, что этот мир мне мил.2
Дубинка надо мной. Куда от мира деться? Он день и ночь со мной, и понял я тогда, Что мясники, как мясники — умельцы. И на вопрос: «Ты рад?» — я вяло вякнул: «Да».3
Трус лучше мертвеца, а храбрым быть опасно. И стал я это «да» твердить всему и вся. Ведь я боялся в руки им попасться И одобрял все то, что одобрять нельзя.4
Когда народу не хватало хлеба, А юнкер цены был удвоить рад, Я правдолюбцам объяснял без гнева: Хороший хлеб, хотя дороговат.5
Когда с работы гнали фабриканты Двоих из трех, я говорил тем двум: Просите фабрикантов деликатно, Ведь в экономике я — ни бум-бум!6
Планировали войны генералы. Их все боялись — и не от добра Кричал я генералу с тротуара: «Техническому гению — ура!»7
Избранника, который подлой басней На выборах голодных обольщал, Я защищал: оратор он прекрасный, Его беда, что много обещал…8
Чиновников, которых съела плесень Чей сброд возил дерьмо, дерьмом разил, И нас давил налогами, как прессом, Я защищал, прибавки им просил.9
И не расстраивал я полицейских, Господ судейских тоже я берег, Для рук их честных, лишь от крови мерзких, С охотой я протягивал платок.10
Суд собственность хранит, и обожаю Наш суд кровавый, чту судейский сан, И судей потому не обижаю, Что сам не знаю, что скрываю сам.11
Судейские, сказал я, непреклонны, Таких нет денег и таких нет сил, Чтоб их заставить соблюдать законы. «Не это ль неподкупность?» — я спросил.12
Вот хулиганы женщин избивают. Но, погодите: у хулиганья Резиновых дубинок не бывает, Тогда — пардон — прошу прощенья я.13
Полиция нас бережет от нищих И не дает покоя беднякам. За службу, что несет она отлично, Последнюю рубашку ей отдам.14
Теперь, когда я донага разделся, Надеюсь, что ко мне претензий нет, Хоть сам принадлежу к таким умельцам, Что ложь разводят на столбцах газет,15
К газетчикам. Для них кровь жертв — лишь колер. Они твердят: убийцы не убили. А я протягиваю свежий номер. Читайте, говорю, учитесь стилю.16
Волшебною горой почтил нас автор{57}. Все славно, что писал он (ради денег), Зато (бесплатно) утаил он правду. Я говорю: он слеп, но не мошенник.17
Торговец рыбой говорит прохожим: Вонь не от рыбы, сам он, мол, гниет. Подлаживаюсь я к нему. Быть может, И на меня охотников найдет.18
Изъеденному люэсом уроду, Купившему девчонку за гроши, За то, что женщине дает работу, С опаской руку жму, но от души.19
Когда выбрасывает бедных Врач, как рыбак — плотву, молчу. Ведь без врача не обойтись мне, Уж лучше не перечить мне врачу.20
Пустившего конвейер инженера, А также всех рабочих на износ, — Хвалю. Кричу: техническая эра! Победа духа мне мила до слез!21
Учителя и розгою и палкой Весь разум выбивают из детей, А утешаются зарплатой жалкой, И незачем ругать учителей.22
Подростки, точно дети низкорослы, Но старики — по речи и уму. А почему несчастны так подростки — Отвечу я: не знаю почему.23
Профессора пускаются в витийство, Чтоб обелить заказчиков своих, Твердят о кризисах — не об убийствах. Такими в общем представлял я их.24
Науку, что нам знанья умножает, Но умножает горе и беду, Как церковь чту, а церковь уважаю За то, что умножает темноту.25
Но хватит! Что ругать их преподобья? Через войну и смерть несет их рать Любовь к загробной жизни. С той любовью, Конечно, проще будет помирать.26
Здесь в славе бог и ростовщик сравнялись. «А где господь?» — вопит нужда окрест. И тычет пастор в небо жирный палец, Я соглашаюсь: «Да, там что-то есть».27
Седлоголовые Георга Гросса{58} Грозятся мир пустить в небытие, Всем глотки перерезав. Их угроза Встречает одобрение мое.28
Убийцу видел я и видел жертву. Я трусом стал, но жалость не извел. И, видя, как убийца жертву ищет Кричал: «Я одобряю произвол!»29
Как дюжи эти мясники и ражи. Они идут — им только волю дай! Хочу им крикнуть: стойте! Но на страже Мой страх, и вдруг я восклицаю: «Хайль!»30
Не по душе мне низость, но сейчас В своем искусстве я бескрыл и сир, И в грязный мир я сам добавил грязь Тем самым, что одобрил грязный мир.1930
Померкшая слава Нью-Йорка, города-гиганта Перевод Е. Эткинда
1
Кто еще помнит О славе Нью-Йорка, города-гиганта, гремевшей В первое десятилетие после мировой войны?2
Эпические песни слагались в честь исполинской чаши, которой в то время была эта Америка! Cod’s own country![1] Мы ее называли по одним лишь начальным буквам — США, Словно известного всем, единственного Друга юности.{59}3
Все знали, будто всякий, кто бы туда ни попал, Через дважды две недели, Выварившись в этой неисчерпаемой чаше, становится неузнаваем. Все племена, причалив к этому ликующему континенту, Забыв свои от века укоренившиеся обычаи, Как дурные привычки, Старались изо всех сил Стать как можно скорее такими же, Как проживавшие здесь всегда. А эти принимали их великодушно и беззаботно, Как нечто от них совершенно отличное (Отличное только отличностью их жалкого существования!) Подобно хорошей опаре, они не боялись — Нового теста можно подбрасывать сколько угодно. Они знали: Словно дрожжи, они впитаются всюду. Какая слава! Какой век!4
Ах, эти голоса их женщин, звучащие из патефонов! Так пели люди — о, сохраните эти пластинки! — в золотом веке! Благозвучие вечерних вод в Майами! Неудержимая веселость поколений, мчавшихся по нескончаемым улицам! Покоряющая скорбь поющих женщин, Оплакивающих широкогрудых мужчин, но все же по-прежнему окруженных Широкогрудыми мужчинами.5
В огромных парках они собирали редкостные человеческие особи Откармливали их со знанием дела, купали и взвешивали, Чтобы их несравненные телодвижения запечатлеть на пленке Для будущих поколений.6
Свои колоссальные здания они возводили с небывалой расточительностью, тратя Лучший человеческий материал. Совершенно открыто, на глазах всего мира Они выкачивали из своих рабочих все, что в них было, Расстреливали их в каменноугольных шахтах и выбрасывали их изношенные кости, Их отработанные мышцы на улицу С добродушнейшим смехом. Но с удовлетворением истинных спортсменов они сообщали О такой же грубой жестокости, проявленной рабочими во время стачек Гомерических масштабов.7
Нищета там считалась позором. В кинолентах этой обетованной земли Мужчины, попав в беду и увидев жилище бедняка, где стоят кожаный диван и пианино, Тотчас кончали с собой.8
Какая слава! Какой век! Ах, нам тоже хотелось иметь такие костюмы из грубошерстной ткани, С ватными валиками на плечах, от которых мужчина становится таким широкоплечим, Что трое таких мужчин заполняют весь тротуар. Мы тоже старались затормозить наши движения, Неторопливо засовывать руки в карманы и медленно подниматься Из кресел, в которых мы полулежали (словно никогда не собирались вставать), Так подниматься, как будто переворачивается целое государство. И мы тоже набивали рот жевательной резиной (Beechnut), O’ которой говорили, что она при долгом употреблении Способствует укреплению нижней челюсти, И мы тоже сидели и вечно работали челюстями, как корова, жующая жвачку. И мы тоже стремились придать нашим лицам пугающую непроницаемость Тех poker face men[2], которые казались своим согражданам Неразрешимой загадкой. И мы тоже всегда улыбались, как до или после успешной сделки, Той улыбкой, которая говорит об отличном пищеварении. И мы тоже весело похлопывали собеседников (все они — будущие клиенты!) По плечу, по ляжке или между лопаток, Стремясь любыми путями получить власть над этими людьми, Лестью или угрозой. Так поступают с собакой. Так мы подражали этой прославленной породе людей, Которая, казалось, призвана к господству над миром, Подвигая его вперед.9
Какой оптимизм! Какой подъем! Эти заводские цехи: величайшие в мире! Автозаводы вели пропаганду деторождения: они производили автомобили (в рассрочку) Для тех, кто еще не родился! Тем, которые Выбрасывали вон почти не ношенные костюмы (но так, Чтобы они тотчас же погибали, желательно в яму с негашеной известью), Выплачивались премии! Эти мосты: Цветущую землю они соединяли с цветущей землей! О, они бесконечны! Величайшие в мире! А эти небоскребы: Они, взгромоздившие груду камней на такую высь, Что всех переросли, озабоченно наблюдали из своего поднебесья, как новостройки, Которые только что поднялись над землей, угрожали Подняться выше их, городских мамонтов. (Кое-кто начал было опасаться, что рост городов Уже нельзя будет остановить, что людей Задушат те двадцатиэтажные города, которые вырастут над ними, И что их замуруют в гробах и погребут друг под другом.)10
И все же: какой оптимизм! Даже трупам Румянили щеки и подрисовывали благодушную улыбку (Я воспроизвожу эти черты по памяти, другие Я позабыл), так что даже Усопшим не позволяли утратить надежду.11
Что за люди! Боксеры их — самые сильные в мире! Изобретатели их — самые практичные! Их поезда — самые быстрые! И самые многолюдные! И все это, казалось, создано на тысячу лет. Ведь жители города Нью-Йорка твердили, Что их город построен на скалах и поэтому он Незыблем.12
В самом деле, вся их система общественной жизни была несравненна. Какая слава! Какой век!13
Впрочем, этот век Продлился каких-нибудь восемь лет.14
Ибо в один прекрасный день по миру пронесся слух о небывалых катастрофах,{60} Потрясших прославленный континент, и все стали Отталкивать с отвращением его банкноты (вчера еще столь вожделенные) Как гнилую, смердящую рыбу.15
Сегодня, когда стало известно, Что эти люди обанкротились, Мы на других континентах (которые, правда, тоже обанкротились) видим все вещи Совсем иными, чем они нам представляются внешне.16
Что такое эти небоскребы? Мы смотрим на них спокойней. Небоскребы — да ведь это просто жалкие сараи, когда они не дают дохода. Устремляться так высоко — при такой нищете? До самых облаков — будучи по уши в долгах? Что такое эти поезда? В поездах, подобных отелям на колесах, Нередко теперь не проживает никто, И никто никуда не едет С несравненной быстротой. Что такое эти мосты? Они соединяют (Самые великие в мире!) свалки со свалками. А что такое эти люди?17
Говорят, они все еще румянятся, однако Теперь только затем, чтобы оторвать местечко. Двадцатидвухлетние Женщины нюхают теперь кокаин, прежде чем идти Завоевывать себе место у пишущей машинки. Отцы и матери впрыскивают дочерям под кожу яд, Придающий им более пылкий вид.18
Все еще продаются пластинки, хотя и не так уж бойко, Но о чем, собственно, поют эти козы, которые никогда Петь не учились? Каков Смысл этих песен? Собственно говоря, Что они пели нам все эти годы? Почему нас теперь раздражают те голоса, которые прежде вызывали взрывы рукоплесканий? Почему Фото этих городов не производят теперь на нас впечатления? Потому что всем теперь стало ясно: Эти люди — банкроты!19
Потому что все теперь знают, что их машины свалены в исполинские кучи (величайшие в мире!) И ржавеют, Подобно машинам старого мира (сваленным в меньшие кучи).20
Еще происходят всемирные матчи боксеров перед несколькими зрителями, случайно оставшимися в зале. Но даже победители этих матчей Не в силах восстать против загадочного закона, Изгоняющего людей из магазинов, В которых ломятся полки.21
Сохраняя улыбку свою (это все, что теперь им осталось), Стоят отставные чемпионы мира На путях последних, еще действующих трамваев. Трое таких надменных людей заполняют тротуар, однако Неизвестно, что наполнит им брюхо, прежде чем вечер наступит. Они мерзнут. Вата греет лишь плечи тем, кто бесконечными вереницами День и ночь бредет по пустынным ущельям Среди безжизненных каменных громад. Их движенья замедлены, словно движенья голодных, ослабевших животных. Медленно, как будто переворачивается целое Государство, они пытаются подняться из канавы, в которой они лежали (Как будто никогда не собирались вставать). Говорят, оптимизм их Все еще жив; он основан на зыбкой надежде, Что завтра дождь пойдет снизу вверх, в небеса. Говорят, что они неудержимо ликуют, Когда видят кусок мяса, выставленный в витрине.22
Но говорят, будто кое-кто еще может найти работу: там, где Пшеницу целыми эшелонами сбрасывают в океан, который Называется Тихим. И еще говорят, что те, кто ночует на скамейках в парке, Перед тем как уснуть, смотрят на пустынные небоскребы, Предаваясь отнюдь не благонамеренным мыслям.23
Какое банкротство! Какая Великая слава погибла! Какое открытие: В их системе общественной жизни такой же Безнадежный порок, что и в системе общественной жизни Более скромных людей.Песня поэтов, честно заслуживающих свой гонорар Перевод А. Голембы
1
Данный опус изложен в стихотворной форме! Подчеркну этот факт — ведь у многих понятия нет, Что такое стихи и зачем существует поэт, В наше время поэзия очень умеренно кормит!2
Замечать не случалось вам, что в повременной печати Совершенно исчезли стихи? Не заметили вы ничего? В чем же дело? А в том, что нас прежде любили читать и Стихотворцу охотно платили за вирши его.3
Ну, а нынче ни пфеннига нам не начислят за строчку! Потому-то стихи появляться не стали совсем. Современный поэт с ходу требует: «Деньги на бочку! Нет ни денег, ни бочки? Ну, значит, не будет поэм!»4
Но в душе он терзается: «Ах, мне мой грех неизвестен! Я за деньги готов был на все, я старался, лез вон я из кожи! Разве не был всегда я в делах по-коммерчески честен? Уверяют меня живописцы, что полотна их тоже5
Не идут! А ведь искусствоведы мазню восхваляли! Натюрморты и жанры в замшелых подвалах — навалом… Господа, господа! Что же вы нам платить перестали, Хоть, в довольстве живя, с каждым днем обрастаете салом?..6
Мы ли не воспевали, набив благородный желудок, Мы ли не восхваляли и медным стихом и латунным Все, что вам по душе: телеса ваших жен полногрудых, И осеннюю грусть, и ручей в освещении лунном…7
Сладость ваших плодов! И листвы опадающей шорох! Снова плоть ваших женщин! И домыслы ваши о боге! И орнамент на урнах, на траурных урнах, в которых Упокоитесь вы, сражены несвареньем в итоге!8
Не одним только вам мы несли утешения слово — И к отверженным мы обращались с надежды словами: Осушение слез пресловутого брата меньшого Было миссией нашей. И щедро оплачено вами.9
Сколько мы вам услуг оказали! Так служат фидельки и моськи! Гонораров просили, свиваясь в кольцо для салфетки! Сколько пакостей мы учинили! Ради вас! Ради вашего блага! А с каким упованьем жевали мы ваши объедки!10
В колымагу впрягли мы громчайшие четверостишья, Чтоб в крови и дерьме не увязла войны колымага! «Полем чести» загон скотобойни назвали, а гаубицы ваши «Железногубыми братьями» — и это стерпела бумага!11
Что за клише к налоговым повесткам Мы рисовали — блеск! А все для вас! Мурлыча наши пламенные гимны, Шли граждане к дверям приходных касс!12
Приготовляли мы для вас микстуры Из лучших слов — тех, что как медь звенят! Седые волки от литературы, Мы сделались покорнее ягнят!13
Артистически мы сочиняли исторические параллели Между вами и теми, кому наши предки несытые льстили! Меценатов мы ублажали, потому что кушать хотели, И, преследуя недругов ваших, мы кинжалы стихов точили!14
Загляните к нам, толстосумы! Не совсем оскудел наш рынок! Если можно, ешьте быстрее, доедать мы объедки будем. Чего изволите, ваше степенство? Дифирамбов или картинок? Знайте, что без рекламы нашей не так уж дороги людям.15
Берегитесь вы, меценаты! Мы прилипчивы словно черти! И привлечь ваш взор благосклонный возмечтали мы с пылом старым, Мы задешево вам продались бы, вы уж нам, господа, поверьте, Но, естественно, наши стихи и полотна мы не можем отдать задаром!»16
Поначалу я рифмовал также первую с третьей строкою, Сочиняя стихи об упадке эстетных ремесел… Но потом оказалось, что рифмы мне стоят усилий. Я подумал; «А кто мне за это заплатит?» — и бросил.1930
Германия Перевод К. Богатырева
Пусть другие говорят о своем
позоре, я же говорю о моем.
О Германия, бледная мать! Сидишь среди народов Вся вывалянная в дерьме, Среди изгаженных Самая грязная. Беднейшего из твоих сыновей Забили до смерти. Когда он взвыл от голода, Другие твои сыновья На него подняли руку. И об этом узнали все. С поднятыми руками, Руками, поднятыми на родного брата, Они нагло вышагивают перед тобой И смеются тебе в лицо. И об этом известно всем. В доме твоем Звериным рыком Изрыгают ложь. А правда молчит. Разве не так? Почему тебя славословят твои тираны, почему Обвиняют тебя угнетенные? Эксплуатируемые Тычут в тебя пальцами, Эксплуататоры до небес возносят порядок, Задуманный в доме твоем. Но при этом все видят, что ты Подвернула стыдливо подол, Обагренный кровью Лучшего из твоих сыновей. Люди смеются, слушая речи, Раздающиеся в доме твоем. Но тот, кто видит тебя, хватается за нож, Как при виде грабителя. О Германия, бледная мать! Благодари сыновей своих, Превративших тебя в посмешище Или в пугало Для народов всех стран!1933
Стихотворения 1933–1938 годов
Время от времени, с той поры, как мы вместе работаем Перевод Ю. Левитанского
Время от времени, с той поры, как мы вместе работаем Для блага многих и для грядущего, Исчезает один из содружества нашего, Чтоб уже не вернуться. Они ему рукоплещут. Они загоняют его в роскошный костюм. Они с ним подписывают договорчик солидный. И он изменяется день ото дня заметней. Он сидит на старом стуле своем, как гость. Нет больше времени у него работать для будущего. Он не участвует в выработке формулировок (Ему жаль свое время на это тратить). Он легко восхищается. Он принимает весьма задушевный вид. Он обижается быстро. Некоторое время еще Он подшучивает над своим роскошным костюмом. Еще временами он говорит, Что решил обмануть их, тех, кто платит ему (Это грязные люди). Но мы знаем — не долго он будет сидеть у нас. Потом исчезает один из содружества нашего, Нас одних оставляет с нашей трудной работой Обычным идет путем.Говорят, что ты больше не хочешь работать с нами Перевод Б. Слуцкого
1
Говорят, что ты больше не хочешь работать с нами, Ты слишком устал. Ты избегался. Ты слишком вымотан. Ты больше не в силах учиться. Ты конченый человек. С тебя нечего спрашивать, потому что ты выдохся. Так знай же, Мы требуем, чтобы ты знал: Когда ты устанешь и заснешь, Никто больше не разбудит тебя и не скажет: — Вставай, еда на столе. — Откуда возьмется еда? Если ты уже избегался, Ты останешься лежать. Никто Не сыщет тебя и не скажет: — Революция свершилась. Заводы Ждут тебя. — Откуда возьмется революция? Когда ты умрешь, тебя похоронят, Виновен ты в своей смерти или нет. Ты говоришь, Что сражался слишком долго. Что ты больше не в силах сражаться, Знай же: Твоя вина или нет, Но если ты больше не в силах сражаться, ты погибнешь.2
Ты говоришь, что надеялся слишком долго. Что ты больше не в силах надеяться. На что ты надеялся? Что бороться легко? Но это не так. Наши дела хуже, чем ты думал. Они обстоят таким образом: Если мы не свершим нечто сверхчеловеческое, Мы погибли. Если мы не сделаем такое, что никто не в праве у нас потребовать С нами покончено. Наши враги ждут, Пока мы устанем. Чем борьба ожесточеннее, Тем борцы утомленнее. Борцы, которые слишком устали, проигрывают сражение.Не требуйте слишком большого ума Перевод М. Ваксмахера
Не требуйте слишком большого ума: Вряд ли нужно так много ума, чтобы сообразить, Что единица побольше, чем нуль. Не ждите какой-то особенной преданности: От единственного кормильца И так никто не откажется. Не рассчитывайте на одних только мужественных: Спасать свою жизнь Многим достанет мужества.Потеря ценного человека Перевод В. Куприянова
Ты лишился ценного человека. Он ушел от тебя, что не значит, Будто он не ценен. Признай: Ты лишился ценного человека. Ты лишился ценного человека, Он ушел от тебя, от доброго дела, Ради пустых дел. Но признай: Ты лишился ценного человека.Когда изгнали меня на чужбину Перевод Ю. Левитанского
Когда изгнали меня на чужбину, В газетах маляра писали они, Что все оттого, мол, что в некоем стихотворенье Я надругался{61} над солдатом минувшей войны. Действительно, в предпоследний год той войны, Когда тогдашний режим, чтоб свое пораженье отсрочить Снова бросал в огонь Рядом со стариками и семнадцатилетними Инвалидов, расстрелянных трижды, Я описал в одном стихотворенье, Как выкопан был из земли убитый солдат И под восторженные вопли убийц и завзятых лгунов Под конвоем был снова доставлен к переднему краю. Теперь, когда они вновь мировую готовят бойню, Решив превзойти преступленья той, предыдущей, — Они убивают таких, как я, или их изгоняют заране, Как предавших Сговоры их.Время, когда я был богат Перевод И. Фрадкина
Семь недель в своей жизни был я богат. На доходы от пьесы купил я Дом с большим садом. К нему я приглядывался Дольше, чем жил в нем. В разное время дня, А также и ночью я, бывало, прохаживался мимо, чтоб увидеть, Как в предрассветную пору деревья склоняются над лужайками, Как с утра под дождем зеленеет пруд, подернутый ряской, Чтоб посмотреть на живую изгородь при ярком полуденном солнце Или — когда отзвонят к вечерне-на заросли белого рододендрона. Я поселился в том доме с друзьями. Моя машина Стояла под соснами. Мы огляделись и не нашли в саду такого места, С которого он просматривался бы весь до конца — Склоны, поросшие травой, и деревья Заслоняли изгородь. Дом был тоже красив. Пологая, с резными перилами лестница, Искусно сработанная из древесины благородных пород. В белых комнатах потолки, отделанные деревянными панелями. Железные печи изящной формы были украшены литыми изображениями Работающих крестьян. В прохладный вестибюль С дубовыми столами и скамьями Вели массивные двери. Их медные ручки Были не из лучших, и гладкие каменные плиты, окружавшие дом, Осели под тяжестью проходивших по ним Прежних хозяев. Какая благородная соразмерность! Любая комната не похожа на другую, и любая Лучше другой! А как менялся их облик в разное время дня! Как он менялся в разное время года (несомненно, восхитительное зрелище), Этого мы не увидели, так как После семи недель богатой жизни Мы бросили нашу собственность и вскоре Бежали за границу.Против объективных Перевод В. Корнилова
{62}
1
Когда борцы с бесправием Показывают свои раны и увечья, Неистовствуют те, кто пребывал в безопасности.2
На что вы жалуетесь? — раздраженно спрашивают они. — Вы сражались с бесправием, и оно Вас победило. Поэтому молчите!3
Тот, кто борется, они говорят, должен быть готов к потерям, Кто в драку лезет, подвергает себя опасность Кто прибегает к насилью, Не должен обвинять насилье.4
Ах, друзья из укрытья, Зачем вы злитесь? Неужто мы, Враги бесправья, — ваши враги? Ведь оттого, что мы побеждены, Не обратилось в справедливость бесправие.5
А пораженья наши говорят О том лишь, что нас было Слишком мало. Мы, те, кто против подлости восстал, От тех, кто наблюдал со стороны, Ждем, чтобы им хотя бы стало стыдно.Скитания поэтов Перевод В. Куприянова
У Гомера не было дома. И Данте пришлось дом свой покинуть. Ли Бо и Ду Фу скитались в гражданских войнах, Поглотивших тридцать миллионов жизней. Еврипиду грозили судом. Умирающему Шекспиру зажимали рот. Франсуа Вийона привлекала не только муза, Но и полиция. «Любимым» прозванный, Удалился Лукреций в изгнание. И также Гейне, и также Брехт бежал под соломенную крышу в Дании.1933
Плохим ты оказался доброхотом… Перевод Б. Слуцкого
Плохим ты оказался доброхотом И места в доме гостю не нашел. Пожаловался он перед уходом: Спешил прийти и, торопясь, ушел. Последний нищий черствого куска Не пожалеет дать для угощенья. Твой гость и не просил бы помещенья. Ему в тени хватило б уголка. Он понял, что не рады здесь ему — Так с ним спешили поскорей расстаться, Так обращались с ним нетерпеливо. Его лишили мужества остаться. Себе он показался самому До неприличья слишком торопливым.1933
Песнь о животворной силе денег Перевод В. Корнилова
(Из пьесы «Круглоголовые и остроголовые»)
1
Деньги на земле считают грязью, Но земля без денег холодна. А с деньгами не могла бы разве Стать гостеприимною она? Мир вчера был полон безобразья; Av сегодня — просто золотится! И повсюду солнце лед грызет, Всяк имеет то, к чему стремится. В розовое крашен горизонт, И труба над крышею дымится. Да, стал мир действительно хорош! И сердца восторженнее, зорче стали взгляды, И еда обильней, и красивее наряды, И мужчина на мужчину стал похож.2
Ах, не правы те, кто утверждает, Будто деньги дрянь. Наоборот! Высохнет река — и угрожает Нашим земледельцам недород. И за горло друга друг берет. Мир вчера был золотом согрет, А сегодня, как зимою, мерзнет. Доброты, любви — простыл и след, Матери, отцы и братья — в розни. Над печной трубою дыма нет. Страх и гибель никому не по душе. Ненависть и зависть наши души саднит. И никто теперь не лошадь, каждый — всадник. Мир замерз, не отогреть его уже.3
Так со всем хорошим и великим Обстоит, и, если мир иссяк, То никто, обремененный лихом, Не придет к величью натощак. Потому что малодушен всяк, Не к любви он, а к деньгам стремится. Но добряк, когда он при деньгах, Может добротою насладиться. Если ж ты добра и света враг, Вверх взгляни: опять труба дымится. Так опять поверишь в человечий род. Благороден человек и добр (стихотворенье Гете). Вновь сознание растет. Сердце укрепляется и крепнет зренье, Где тут всадник, где тут лошадь — нет сомненья. Да и праву правом стать пришел черед.Баллада о водяном колесе Перевод С. Кирсанова
(Из пьесы «Круглоголовые и остроголовые»)
1
О великих в этом мире Нам легенда сообщила, Что они, как звезды, всходят И заходят, как светила. Утешает знанье этих песен, Но для нас, дающих пить и есть им, Безразличны их закаты и восходы. Кто несет издержки и расходы? Несомненно, колесо несется, Сверху вниз перенесется всё. Но воде всё так же остается Только вечно двигать колесо.2
Мы господ имели много, Среди них гиены были, Тигры, коршуны и свиньи, Мы и тех и тех кормили. Все равно — получше ли, похуже! Ах, сапог подходит к сапогу же! Он топтал нас; вы поймете сами — Хорошо б покончить с господами. Несомненно, колесо несется, Сверху вниз перенесется всё. Но воде всё так же остается Только вечно двигать колесо.3
Они грызлись за добычу И ломали лбы и ребра, Звали прочих жадным быдлом, А себя — народом добрым. Мы их видим в драке и раздоре, Вечно в споре. Стоит нам подняться И кормежки их лишить, как вскоре, Спор забыв, они объединятся. Ведь тогда и колесо застрянет. Баста! Хоть рукой его верти! А вода с могучей силой станет Мчать себя лишь на своем пути.Расследование Перевод В. Куприянова
Власти начнут расследование. Так объявлено. В городских кварталах Никто нынче не спит по ночам. Никому не известно, ни кто лиходеи, Ни в чем преступление. Под подозрением все. Если народ вынужден от своих дверей отметать подозрения, То никто уже не заметит Бесчисленных преступлений Властей.Только из-за растущего хаоса… Перевод Е. Эткинда
Только из-за растущего хаоса В наших городах классовой борьбы Кое-кто из нас в эти годы решил Не говорить больше о портовых городах, о снеге на крышах, о женщинах, О запахе спелых яблок в подвале, о радостях плоти, Обо всем, что делает человека счастливым и человечным, А говорить отныне только о хаосе И значит стать односторонним, сухим, погруженным Только в политику, в сухой «недостойный» словарь Политической экономии, Чтобы чудовищная мешанина Снегопадов (они не только холодные — мы это знаем!), Эксплуатации, восставшей плоти и классового суда Не заставила нас оправдать этот столь Многосторонний мир и найти Радость в противоречьях этой кровавой жизни. Вы поймете меня.Медея из Лодзи Перевод И. Фрадкина
{63}
Старинные преданья Сообщают легенду одну, О том, как попала Медея В чужую злую страну. Иноземец, ее полюбивший, Увез Медею с собой. Сказал: «Ты будешь как дома В стране, где дом мой родной». Но были ей непонятны Здешние речь и молва. Для «хлеба», «воды» и «неба» У них другие слова. Им странны ее наряды, Обычаи, цвет волос. И часто косые взгляды Ей замечать довелось. О судьбе Медеи Рассказывает Еврипид. В хорах его слышен отзвук Давних злодейств и обид. Беспощадно она покарала Негостеприимный кров. И покрылись прахом забвенья Развалины городов. Минули тысячелетья, И распространился слух, Будто снова Медеи У нас появились вдруг. Средь антенн, заводов, трамваев Ожил древний навет — В двадцатом веке, в Берлине, В преддверье страшных лет.1934
Перечитывая «Время, когда я был богат» Перевод И. Фрадкина
Сладкий вкус собственности я почувствовал хорошо, и я рад, Что я его почувствовал. Гулять в своем парке, принимать гостей, Обсуждать строительные планы, как это делали до меня Другие люди моей профессии, — все это Мне нравилось, в чем и признаюсь. Но семи недель С меня хватило. Я ушел без сожаления или почти без сожаления. Когда я это писал, мне уже было трудно себя вспомнить. Ныне, Спрашивая себя, был ли бы я готов много лгать Ради того, чтобы сохранить эту собственность, Я знаю: много — нет. Поэтому я думаю — Ничего плохого не было в том, что я владел собственностью. Это было немало, но есть Нечто большее.Когда распались мы на Ты и Я… Перевод Б. Слуцкого
Когда распались мы на Ты и Я, Расставив наши ложа Здесь и Там, Пришлось избрать простое слово нам, Чтоб значило: касаюсь я тебя. Казалось: что я словом сделать мог? Прикосновение незаменимо, Но все-таки «она» не так ранима, Хранима, словно отдана в залог. Отобрана, но все-таки и снова Сохранена, чужой не становясь, И остается не со мной — моей. Когда одни среди чужих людей Употребляли вскользь мы это слово, Мы знали — нерушима наша связь.Песня о Сааре Перевод В. Корнилова
{64}
Весь край от Мозеля по Неман Колючей проволокой сжат. За нею кровью истекает Германский пролетариат. Но от зверья Саар удержим, Саар удержим от зверья И новую начнем страницу С тринадцатого января. Царит зверье в земле Баварской, В земле Саксонской держит верх, Сегодня тяжко ранен Баден, Смертельно ранен Вюртемберг. Но от зверья Саар удержим, Саар удержим от зверья И новую начнем страницу С тринадцатого января. Стал в Пруссии постоем Геринг, Разбойник Тиссен занял Рейн, Они в Тюрингию и Гессен Суют нацистских главарей. Но от зверья Саар удержим, Саар удержим от зверья И новую начнем страницу С тринадцатого января. Те, кто Германию большую Ограбил, в клочья истерзал, Теперь протягивают лапы, Чтоб сцапать маленький Саар. Но от зверья Саар удержим, Саар удержим от зверья И новую начнем страницу С тринадцатого января. И разобьются эти звери О наш Саар своей башкой, Тогда, Германия, ты станешь Германией совсем иной. Так от зверья Саар удержим, Саар удержим от зверья И новую начнем страницу С тринадцатого января.1934
Сообщение из Германии Перевод Е. Эткинда
Нам рассказали, что однажды в Германии, В годы нацистской чумы, Над крышей машиностроительного завода На ноябрьском ветру заструился флаг, Красный флаг запрещенной свободы! Среди серого ноября Падала с неба смесь дождя и снега, Но это был день седьмой: день Революции! И вот оно, красное знамя! Рабочие — в заводских дворах — Держат руку козырьком над глазами и смотрят — Сквозь мокрый снег смотрят на крышу. На грузовиках примчались штурмовые отряды, Прижали к стене каждого, на ком рабочая роба, Связали веревкой все мозолистые кулаки. От бараков после допроса, Шатаясь и обливаясь кровью, брели избитые люди, Из них ни один не назвал человека, Поднимавшегося на крышу. Выгнали всех, кто молчал, — Пусть остальные боятся! Но на другой день развевается снова Флаг пролетариата Над крышей завода. И снова В мертвой тишине гремят Шаги штурмовиков. Во дворах Уже нет ни одного мужчины. Женщины Стоят с окаменевшими лицами, руку Держат козырьком над глазами и смотрят — Сквозь мокрый снег смотрят на крышу. И опять — избиения. На допросах Женщины показали: знамя — Это простыня, на которой Мы унесли одного, он умер вчера. Мы не виноваты в том, что оно такого цвета: Оно стало красным от крови убитого.1935
Последнее желание Перевод И. Фрадкина
При налете на рабочий квартал в Альтоне Они захватили четверых наших товарищей. Быть свидетелями их казни Они приволокли еще семьдесят пять наших. И те увидели следующее: Самый младший — высокий парень — на вопрос, Каково его последнее желание (так предусмотрено правилами), Сухо ответил, что хочет перед смертью потянуться. Его развязали, он потянулся и изо всей силы Обоими кулаками нанес удар в челюсть Нацистскому вожаку. Лишь после этого Они смогли прикрутить его к узкой доске, лицом вверх, и отрубили ему Голову.1935
Дырка в ботинке Ильича Перевод Б. Слуцкого
{65}
Вы, устанавливающие статую Ильича Двадцатиметровой высоты на Дворце профсоюзов{66}, Не забудьте при этом, что в его ботинке Был знак нужды — засвидетельствованная многими дырка, Дело в том, что, как говорят, его рука Указывает на Запад, где многие по этой дырке В ботинке Ильича Признают в нем своего.1935
Что толку в доброте? Перевод Б. Слуцкого
1
Что толку в доброте, Когда добрых немедленно убивают или убивают тех, Кому они сделали добро? Что толку в свободе, Когда свободным приходится жить среди несвободных? Что толку в разуме, Когда пищу, без которой никто не обойдется, добывает одно лишь неразумие?2
Чем всего лишь быть добрым, Постарайся создать условия, при которых доброта возможна, а еще лучше; Сделайте ее излишней! Чем всего лишь быть свободными, Постарайтесь создать условия, при которых все свободны И даже любовь к свободе Делается излишней! Чем всего лишь быть разумными, Постарайтесь создать условия. При которых неразумие Никому не выгодно!1935
Об учении без учеников Перевод В. Куприянова
Учить без учеников, Писать без признания Трудно. Радостно выходить по утрам Со свежеисписанными листами. Наборщик ждет тебя, ты спешишь через шумный рынок, Где торгуют мясом и рукомеслом; Ты продаешь слова. Шофер ехал быстро. Он не успел позавтракать. Он рисковал на поворотах. Он входит в дверь торопливо: Тот, за кем он приехал, Уже в пути. Там говорит тот, кого никто не слушает: Он говорит слишком громко. Он повторяется. Он говорит неверно. Его никто не поправит.Пассажир Перевод М. Ваксмахера
Когда-то давно я учился Шоферскому делу, и, бывало, инструктор приказывал мне Закурить сигару, и стоило ей — В какой-нибудь уличной пробке или на крутом повороте — Погаснуть, он меня гнал от руля. А еще Он рассказывал мне во время езды анекдоты, и если, Целиком поглощенный рулем, я не смеялся, он у меня Руль отбирал. «Мне становится не по себе, — говорил он, — Мне, пассажиру, тревожно, если я вижу, Что водитель так поглощен Процессом вожденья». С тех пор, когда я работаю, Я стараюсь не слишком углубляться в работу. Я поглядываю по сторонам, А то и совсем прерываю работу, чтобы чуть-чуть поболтать. Ездить со скоростью большей, чем та, при которой я в силах курить, Я отвык. Я думаю О пассажирах.«Правдивая история о крысолове из Гамельна»
Размышления девушки из ревю во время стриптиза Перевод В. Корнилова
Моя судьба такая-растакая! Батрачить на искусство мне пришлось, В мужчинах слабых похоть растравляя… Но на вопрос, Что все же ощущаю, всякий вечер На сцене щеголяя без всего И выставляя тайное, — отвечу: — А ничего… Помчусь к автобусу… Двенадцать скоро… Сыр надо брать в соседнем магазине… Толстуха плачется: топиться впору… Ножом грозил мне… Полупустой… В субботу!.. Скоро полночь… Прибавь улыбки… Воздух — жуть одна!.. А ну, заткнись! Я показала… Сволочь! За комнату должна… Что ж, молока не буду брать… Немножко Сегодня надо задом повилять, Но не показывать им весь… Кормежка Такая в «Желтом псе», что тянет рвать.1936
Если камень говорит, что он хочет упасть на землю… Перевод Ю. Левитанского
Если камень говорит, что он хочет упасть на землю, Когда в воздух его швыряешь, — Верь ему. Если вода говорит, что вымокнешь ты, В воду войдя, — Верь ей. Если пишет тебе подруга о том, что хочет приехать, — Не верь ей. В этих вопросах Не участвуют силы природы.Зачем называть мое имя? Перевод Е. Эткинда
1
Я подумал: в далекие годы, когда Развалится дом, где я проживаю, И сгниют корабли, на которых я плавал, Люди имя мое назовут Вместе с другими.2
Потому ли, что я славил полезное, то, Что в мои времена не считалось высоким, Потому ли, что с религией бился, Потому ли, что с угнетеньем боролся, или Еще по какой причине.3
Потому ли, что я был за людей, и на них Полагался, и чтил их высоко, Потому ли, что сочинял стихи и любил свой язык, Что учил их активности или Еще по какой причине.4
Вот почему я подумал, что имя мое Назовут, на гранитной плите Начертают, из книг Возьмут его в новые книги.5
Но сегодня Я согласен — пусть оно будет забыто. Зачем Спрашивать о пекаре, если вдоволь хлеба? Зачем Восхвалять уже растаявший снег, Если скоро выпадет новый? Зачем Нужно людям прошедшее, если у них Есть будущее?6
Зачем Называть мое имя?1936
Мысль в произведениях классиков Перевод М. Ваксмахера
{67}
Голая и неприкрашенная, Она не робея подступает к тебе, потому что уверена В своей полезности. Ее не смущает, Что с нею ты некогда был знаком, ей довольно того, Что ты ее позабыл. Она говорит с грубой прямотой, Как подобает великим. Без околичностей, Без предисловий — Она пред тобой возникает, ожидая внимания, Ибо полезна. Ее слушатели — нищета и нужда, которым ждать недосуг. Холод и голод следят За вниманьем слушателей. Малейшее невниманье Обрекает на гибель. Но хоть и властно она выступает, Все ж признаёт, что без слушателей она ничто. Если б они ее не принимали, она бы не знала, Куда ей идти и где оставаться. Их не уча и у них не учась, у них, своих слушателей, Которые еще вчера коснели в невежестве, Она бы мгновенно утратила всякую силу, сошла бы на нет.Каждый год в сентябре, к началу школьных занятий… Перевод М. Ваксмахера
Каждый год в сентябре, к началу школьных занятий, Стоят по рабочим окраинам женщины в писчебумажных лавках И покупают для детей учебники и тетради. В отчаянии выуживают они последние гроши Из потрепанных сумочек и сокрушаются, Что знание нынче так дорого. Они не догадываются, Насколько плохо то знание, которое Предназначено для их детей.Бедным одноклассникам из предместья Перевод Д. Самойлова
Бедные одноклассники в худых пальтишках Приходили на первый урок с опозданьем, Потому что матери заставляли их разносить молоко и газеты. Педагоги Им записывали выговоры в журнал. Пакетиков с завтраком у них не было. На переменах Они уроки готовили в уборной. Это запрещалось. Перемена Существует для отдыха и еды. Когда они не знали значения «пи», Педагоги спрашивали: «Почему бы Тебе не остаться в той грязи, из которой ты вышел?» Про это они знали. Бедным одноклассникам из предместья Маячили мелкие должности на государственной службе, Потому они и долбили В поте лица Параграфы из захватанных учебников, Учились подлипать к учителям И презирать своих матерей. Мелкие должности бедных одноклассников из предместья Лежали в земле. Их конторские табуреты Были без сидений. Их надежды Были корнями коротких растений. Какого черта Их заставляли зубрить Греческие глаголы, походы Цезаря, Свойства серы, значение «пи»? В братских могилах Фландрии, для которых они предназначены, Что им нужно было еще, Кроме небольшого количества извести?Разбойник и его слуга Перевод Ю. Левитанского
(Из «Детских песен»)
Два разбойника в гессенских землях Промышляли ночной порой. Был один из них тощ, как голодный волк, И был толст, как прелат, второй. Дело в том, что один господином был, А другой был его слугой. Все сливки снимал с молока один, Что осталось — хлебал другой. И когда крестьяне повесили их На одной веревке тугой — Был один из них тощ, как голодный волк, И был толст, как прелат, другой. И стояли крестьяне в сторонке, крестясь, И вопрос обсуждали такой: Понятно, что толстый разбойником был, Ну, а тощий — он-то на кой?1937
Император Наполеон и мой друг каменщик Перевод И. Фрадкина
(Из «Детских песен»)
Император великий Наполеон Росточком был карлик Мук, Но вздрагивал мир, если задницей Издавал он чуть слышный звук. Неужто вся сила в заднице? Нет, конечно: имел он пушки И мог всех раскромсать на гуляш, А если кто не вздрагивал, Тех брал он на карандаш. Но, впрочем, всякий вздрагивал… Есть друг у меня, он каменщик, — Знай вкалывай, не ленись! Но стоит ему чего захотеть, В ответ он слышит: «Заткнись!» Говорят ему грубо: «Заткнись!» А имел бы каменщик пушки, Так хоть пьянствуй весь день и ленись, Он всем бы владел, чего захотел, И никто б не ответил: «Заткнись!» Не посмел бы сказать: «Заткнись!»1937
Читать на ночь и утром… Перевод В. Куприянова
Тот, кого я люблю, Мне сказал, Что ему без меня трудно. Потому Я так себя берегу, Я смотрю на дороге под ноги, Я боюсь каждой капли дождя, Как бы она меня не убила.1937
Проезжая в удобной машине… Перевод В. Куприянова
Проезжая в удобной машине, Мы заметили в сумерках, под проливным дождем Человека в лохмотьях на грязной обочине, Который махал нам рукой, чтобы мы его взяли, И низко кланялся. Над нами была крыша, и было еще место, и мы ехали мимо. И услышали все мой неприязненный голос: «Нет, Мы не можем взять никого». Мы проехали путь, равный, возможно, дневному пешему переходу, Когда я вдруг содрогнулся от сказанных мною слов. От моего поступка и от всего Этого мира.В мрачные времена Перевод М. Ваксмахера
Говорить не будут: «Когда орешник на ветру трепетал», А скажут: «Когда маляр над рабочими измывался». Говорить не будут: «Когда мальчишка прыгучие камешки в реку швырял», А скажут: «Когда готовились большие войны». Говорить не будут: «Когда женщина вошла в комнату», А скажут: «Когда правители великих держав объединились против рабочих». Говорить не будут: «Были мрачные времена», Но скажут: «Почему их поэты молчали?»Сомневающийся Перевод И. Фрадкина
Каждый раз, когда нам казалось, Что ответ на вопрос найден, Один из нас дергал за шнурок: Висевший на стене свернутый в рулон китайский экран, падая, Раскрывался, и с него смотрел на нас человек С выражением сомненья на лице. «Я — Сомневающийся, — Говорил он нам. — Я сомневаюсь в том, что Работа, которая съела у вас столько дней, Вам удалась. В том, что сказанное вами, Будь оно хуже сказано, само по себе могло бы Кого-нибудь заинтересовать. Но также и в том, Хорошо ли вы это сказали, не положились ли только на Силу правды сказанного вами. В том, что вы выразились ясно и однозначно, — если вас не так поймут — Ваша вина. Но это может быть и однозначно, настолько, что Противоречия предмета исчезли — не слишком ли однозначно? Тогда то, что вы говорите, не годится, ваш труд оказался безжизненным. Находитесь ли вы действительно в потоке событий? Согласны ли Со всем, что будет? А будете ли вы? Кто вы? К кому Вы обращаетесь? Кому будет полезно то, что вы говорите? И кстати: Насколько это трезво? Можно ли это перечесть утром на свежую голову? Связано ли это с тем, что реально есть? Использованы ли идеи, высказанные до вас, или, По крайней мере, опровергнуты? Все ли доказано? Чем — опытом? Каким? Но прежде всего — Каждый раз и прежде всего: как надо действовать, Если поверить тому, что вы говорите? Прежде всего: Как надо действовать?» Задумчиво и с любопытством смотрели мы на Сомневающегося, Синего человека на экране, смотрели друг на друга и Начинали работу сначала.Прощание Перевод И. Фрадкина
Мы обнимаемся. Я возьмусь за богатую тему, Ты — за скудную. Короткое объятие. Тебя ожидает трапеза, За мной — шпики. Мы разговариваем о погоде и о нашей Давней дружбе. О чем-либо другом Было бы слишком горько.Сыновья фрау Гермер Перевод Ю. Левитанского
Фрау Гермер перед судом — полотна белей: «Да смилуется господь над моими сынами!» И никто из сограждан руки не подал ей. «Герр мельник, бессовестно врали твои весы: Да смилуется господь над моими сынами!» И мельник прошел себе мимо, ухмыляясь в усы. «Герр пастор, в одних лишь поборах ты ведал толк: Да смилуется господь над моими сынами!» И пастор прошел себе мимо, сморкаясь в платок. «Герр лавочник, ты-то пять марок за нож огреб: Да смилуется господь над моими сынами!» И лавочник встал: «Ты еще мне должна за гроб!» — «Герр мясник, ты по опыту знаешь — где нож, там кровь: Да смилуется господь над моими сынами!» И мясник прошел себе мимо, насмешливо вскинув бровь. «Эй, сосед, ты ссудил им денег, ты сам им поднес: Да смилуется господь над моими сынами!» И сосед прошел себе мимо, напевая что-то под нос. «Герр писарь, ты сам пострадавшего звал подлецом: Да смилуется господь над моими сынами!» И писарь прошел себе мимо с неподкупным лицом. «Фрау докторша, муж твой бедняге дал кровью истечь тогда: Да смилуется господь над моими сынами!» И докторша мимо прошла, горя от стыда. «Капитан, ты сказал:-Кто с оружьем, тому поверит любой. — Да смилуется господь над моими сынами!» И мимо прошел капитан, любуясь собой. «Закон — он что дышло, — не ты ли сказал, герр судья? Да смилуется господь над моими сынами!» И судья прошел себе мимо: «Ну, конечно, не я!» «Герр учитель, ты сам учил нас, что награды сильнейшего ждут. Да смилуется господь над моими сынами!» И учитель прошел себе мимо: «Что и было доказано тут!» Тихо старая фрау Гермер ушла из суда: «Да смилуется господь над моими сынами!» И пошла в свой сарай, где веревка висела всегда.Цитата Перевод Ю. Левитанского
Поэт Кин{68} говорил: Как писать мне бессмертные сочиненья, не будучи знаменитым? Как отвечать мне, если меня не спрашивают? Зачем мне терять над стихами время, если время их потеряет? Я пишу мои предложенья достаточно прочным слогом, Ибо я опасаюсь, что не скоро придет им время осуществиться. Чтоб достигнуто было большое — большие нужны измененья. Малые изменения — враги больших изменений. У меня есть враги. Значит, я должен быть знаменитым.Жалоба эмигранта Перевод В. Куприянова
Я ел свой хлеб, как и любой из вас, Я жил, как все, я врач, я был врачом, И я считал, что вовсе ни при чем Ни длинный нос, ни цвет волос и глаз. Жена, с которой спал я восемь лет Щека к щеке, живот над животом, Вменила мне в вину перед судом Мой цвет волос, вот этот черный цвет. И ночью я бежал, почти без сил (Я матерью не той рожден на свет), Ища страну, где нам не быть в беде. Когда же я на хлеб себе просил, То все мне говорили о стыде. Я не бесстыден. Но исхода нет.Хвала сомнению Перевод И. Фрадкина
Хвала сомнению! Приветствуйте Радостно и с уважением того, Кто проверяет каждое ваше слово, как подозрительную банкноту. Будьте мудрыми и не считайте Ваше слово непогрешимым. Читайте историю, и вы узнаете, Как непобедимые армии спасались паническим бегством. Любые неприступные крепости Однажды берутся приступом. И хотя Отплывавшая Великая Армада была неисчислима{69}, Вернувшиеся корабли Было легко сосчитать. Настал день, и человек одолел Неодолимую горную вершину, И корабль достиг берегов Безбрежного океана. Как прекрасно недоверчивое покачиванье головой По поводу бесспорных истин! Хвала врачу и его храброму вторжению В болезнь, почитаемую безнадежной! Но прекраснейший вид сомнения — это Когда отчаявшиеся и ослабевшие Вновь подымают головы, перестав верить В несокрушимую силу своих угнетателей! Сколь нелегок был путь к этому выводу! Скольких стоил он жертв! Как трудно было увидеть, Что это именно так и никак не иначе! Однажды, вздохнув облегченно, вписал человек свой закон в Книгу Знаний. Уже долго он значится в ней, и многие поколенья Живут, признавая его как вечную мудрость И презирают тех, кто ему не обучен. Но может случиться, что новый опыт Когда-нибудь возбудит недоверье к закону. Возникнет сомнение! И вот однажды Другой человек, все продумав и взвесив, Вычеркнет из Книги Знаний старый закон. Погоняемый грубыми окриками, выстукиваемый Бородатыми врачами на предмет определения Его годности для казармы и фабрики, надзираемый Блюстителями порядка со значками и бляхами, наставляемый Велеречивыми попами, которые вколачивают ему в голову Книгу, сочиненную самим господом богом, поучаемый Раздражительными педантами, — Стоит бедняк и слышит, Что наш мир есть лучший из миров и что дыра В крыше его лачуги богом самим предусмотрена. Конечно, ему нелегко Этот мир подвергать сомнению. Обливается потом рабочий, строящий дом, в котором не он будет жить, Но ведь ишачит и обливается потом и тот, кто строит дом для себя. Сколько их, благонадежных, никогда сомненья не ведавших! Их пищеваренье великолепно, непогрешимы их взгляды. Фактам не верят они, верят одним лишь себе. Коль на то уж пошло, Сами факты должны им верить. Их терпенье к себе Безгранично. И убедительнейший аргумент Встречают они с тупой подозрительностью стукача. Благонадежным, которые никогда не сомневаются, Противостоят размышляющие, которые никогда не действуют. Они сомневаются не для того, чтобы к решенью прийти, а Для того, чтоб от него уклониться. Головы им Затем лишь нужны, чтоб покачивать ими. С озабоченной миной Предупреждают они пассажиров тонущих лайнеров О том, сколь опасна вода Под топором убийцы Их занимает вопрос: а он разве не человек? Под нос себе бормоча, что предмет еще мало изучен, Они отправляются спать. Вся их деятельность состоит В том, что они колеблются. Их любимая фраза; Выводы делать рано. Итак, хвалу воздавая сомнению, Не превращайте его в самоцель — Так недалеко и до отчаянья! Чем поможет способность к сомненью тому, Кто решенья принять не способен! Тот, кто довольствуется немногими основаниями, Действуя, может ошибиться; Но кто нуждается в слишком многих, Тот в минуту опасности бездействует вовсе. Ты, коль скоро ты вождь, не забывай: Ты им стал потому, что ты сомневался в вождях! Так признай и за ведомыми Право на сомнение!Хвала забывчивости Перевод Б. Слуцкого
Спасение в забывчивости! Как иначе Ушел бы сын от матери, его вскормившей, Передавшей ему свою силу, А теперь мешающей ему себя испытать? Как иначе Ученик покинул бы учителя, Передавшего ему знания? Ведь когда знания переданы, Ученик должен выходить на свою дорогу. В старый дом Въезжают новые жильцы. Если бы там оставались строители, Места для всех не хватило бы. Печка греет. О печнике Не вспоминают. Пахарь Не признает свой каравай. Как мог бы человек вставать с постели утром, Если бы не стирающая все следы ночь? Как мог бы шестикратно сбитый с ног Встать в седьмой раз, Чтобы перепахать каменистую землю, Чтобы взлететь в грозные небеса? Силу человеку Придает слабость его памяти.Костыли Перевод Е. Эткинда
Много лет не будучи счастливым, К доктору пошел я на прием. — Для чего, — спросил он, — костыли вам? — Я ответил: — Я, профессор, хром. Молвил он: — Скажу тебе заране, Вовсе ни к чему тебе врачи. Ты хромаешь из-за этой дряни, Ну, теперь шагай, беги, скачи!.. Хохоча, взмахнул он костылями, И, переломив их пополам, Он обломки, точно старый хлам, Кинул в печку, где гудело пламя. Смехом исцелен я. Без усилья Я теперь хожу, как он и ты. Лишь увидев издали костыль, я Чую приближенье хромоты.1938
Парад старого нового Перевод В. Куприянова
Я стоял на холме и оттуда увидел приближение Старого, но оно выступало в обличии Нового. Оно выползало, опираясь на новые костыли, никем не виданные доселе, и смердело новым гнилостным духом, никому не ведомым до сих пор. Камень волокли как самое новейшее изобретение, а разбойный рев горилл, молотящих себя кулаками в грудную клетку, выдавался за последнее слово в музыке. Там и тут виднелись отверстые могилы, которые опустели, в то время как Новое продвигалось к столице. Повсюду было немало таких, от чьего вида делалось жутко, и они кричали: «Вот приближается Новое, будьте новы, как мы!» И кто слушал, слышал только сплошной их вопль, но кто еще и смотрел, тот мог увидеть и тех, которые не кричали. Так двигалось Старое, наряженное под Новое, но в своем триум — фальном шествии оно влекло и Новое за собой, но это Новое было представлено как Старое. Новое шло в оковах и в отрепье, которое все-таки не могло скрыть цветущую плоть. Шествие двигалось ночью, но небо пылало от пожаров, что и было признано утренней зарей. И вопли: «Это идет Новое, это все ново, поприветствуйте Новое, будьте новы, как мы!» — звучали бы еще более отчетливо, если бы их не перекрывала орудийная канонада.Из книги «Свендборгские стихотворения»
{70}
Эпиграф к «Свендборгским стихотворениям» Перевод Е. Эткинда
Приют обретя под датской соломенной кровлей, Здесь я, друзья, слежу за вашей борьбой. И отсюда Шлю вам, как прежде, стихи мои, — через пролив и леса, Стихи, рожденные мыслью о лицах, залитых кровью. Те, что дойдут до вас, используйте осторожно! Только ветхие книги, только обрывки известий Были источником знаний моих. И если мы встретимся снова, С радостью я опять к вам поступлю в ученье.1939
Из цикла «Азы о войне — немцам» Перевод И. Фрадкина
У ВЫСОКИХ ГОСПОД Разговор о еде считается низменным. Это потому, что Они уже поели. Люди из низов Покидают землю, Так и не изведав вкуса хорошего мяса. К вечеру они уже слишком измучены, Чтобы подумать о своей жизни, О том, с чего они начали свой путь И чем его закончат. Они еще не видели Ни горных круч, ни вольных морских просторов, А уже наступает их последний час. Если люди из низов Не будут думать о низменном, Они никогда не возвысятся. МАЛЯР ГОВОРИТ О ГРЯДУЩИХ ВЕЛИКИХ ВРЕМЕНАХ. Леса еще растут. Поля еще плодоносят. Города еще целы. Люди еще живы. РАБОЧИЕ ТРЕБУЮТ ХЛЕБА. Купцы требуют рынков. Руки, пребывавшие в невольной праздности, снова работают; Они изготовляют снаряды. ТЕ, ЧТО КРАДУТ МЯСО С НАШЕГО СТОЛА Проповедуют довольство жизнью. Те, что получают мзду, взимаемую с нас, Требуют жертвенной готовности. Нажравшиеся досыта обращаются к голодным с речами О грядущих великих временах. Те, что толкают страну в пропасть, Объявляют управление государством Недоступным разумению простого человека. ГОСПОДА ГОВОРЯТ: МИР И ВОЙНА Совершенно различны по своей природе. Но их мир и их война — Все равно что ветер и буря. Война возникает из их мира, Как ребенок из чрева матери. Она несет на себе Черты наследственного сходства. Их война уничтожает все, Что не успел уничтожить их мир. НОЧЬ. Супруги ложатся в постели. Не пройдет и года — На свет появятся сироты. НА СТЕНЕ БЫЛО НАПИСАНО МЕЛОМ: «Они готовят войну!» Того, кто это написал, Уже нет в живых. КОГДА ОТГРЕМЕЛА ПРОШЛАЯ ВОЙНА, Остались победители и побежденные. У побежденных простой народ голодал. Простой народ голодал и у победителей. ЕСЛИ РАЗДЕЛИТЬ ПОМЕСТЬЯ ПРУССКИХ ЮНКЕРОВ, То к чему тогда завоевывать поля украинских крестьян? Если завоевать поля украинских крестьян, То от этого лишь умножатся поместья прусских юнкеров. ГОСПОДА ГОВОРЯТ, ЧТО АРМИЯ Образец народной общности. Чтоб узнать, так ли это, Нужно заглянуть На воинскую кухню. Все сердца должны быть воспламенены Общим чувством, Но в котлы заложен Разный харч. ВО ВРЕМЯ МАРШИРОВКИ МНОГИМ НЕВДОМЕК, Что враг находится во главе колонны. Голос, подающий команду, — Это голос врага. Произносящий грозные речи против врага — Сам враг. ГЕНЕРАЛ, ТВОЙ ТАНК — МОГУЧАЯ МАШИНА. Он сметает с лица земли целые рощи и перемалывает сотни людей. Но у него есть один изъян: Для него требуется водитель. Генерал, твой бомбардировщик — могучая машина. Он летит быстрее вихря и поднимает больше, чем под силу слону. Но у него есть один изъян: Для него требуется механик. Генерал, человек — орудие очень пригодное для твоих целей. Он может летать и может убивать. Но у него есть один изъян; Он умеет думать.Немецкая песня Перевод В. Куприянова
Снова слова: великие времена, (Анна, Анна, не плачь.) Снова в лавке растет цена. Снова слова: доблесть и честь. (Анна, Анна, не плачь.) Снова в доме нечего есть. Снова слова о победах в войне. (Анна, Анна, не плачь.) Их бояться нечего мне. Шагают войска сурово. (Анна, Анна, не плачь.) Когда я приду сюда снова, Я приду под иными знаменами.1936
Баллада о Марии Зандерс, «Еврейской шлюхе» Перевод А. Голембы
1
В Нюрнберге они сочинили закон.{71} И заплакали женщины, разделявшие ложе Не с теми, с кем следовало по закону. «В предместьях говядина дорожает, Барабанные шкуры — в клочья! О господи, то, что они замышляют, Случится нынешней ночью».2
Мария Зандерс, волосы твоего возлюбленного слишком темны. Уж лучше сегодня не будь с ним такой, Какой ты была вчера. «В предместьях говядина дорожает, Барабанные шкуры — в клочья! О господи, то, что они замышляют, Случится нынешней ночью».3
Мама, дай мне ключ. Не так уж все это страшно: Луна как луна! «В предместьях говядина дорожает, Барабанные шкуры — в клочья! О господи, то, что они замышляют, Случится нынешней ночью».4
В девять утра Ее провезли по городу В ночной рубашке, с доской на груди, Остриженную наголо. Улица ревела. Мария Глядела холодно. «Дорожают в предместье говяжьи туши. Гитлер и Штрайхер шагают к славе.{72} О боже, когда б мы имели уши, Мы знали бы, что они сделают с нами».1935
Баллада об осекских вдовах Перевод В. Корнилова
{73}
Осекские вдовы в черном тряпье В Прагу пришли в печали: — Снизойдите, люди, к нашей судьбе! Наши дети не кормлены. Горе в семье. Их отцы в ваших шахтах пропали. — Как, — спросили пражские господа, — Осекским поможем вдовам? Осекские вдовы в черном тряпье Подошли к полицейским солдатам: — Снизойдите, люди, к нашей судьбе! Наши дети не кормлены. Горе в семье… — Но солдаты подняли приклады. — Так, — сказали солдаты, — и только так Осекским поможем вдовам. Осекские вдовы в черном тряпье Наконец прорвались в парламент: — Снизойдите, люди, к нашей судьбе! Наши дети не кормлены. Горе в семье. — И парламент во весь регламент Начал прения: — Как, депутаты, как Осекским поможем вдовам? Осекские вдовы во вдовьем тряпье Под открытым остались небом. Но ведь кто-то же должен в Праге помочь? Осыпала ноябрьская хмурая ночь Вдов холодным и мокрым снегом. Хлопья снега тихо шептали: — Так Осекским поможем вдовам.1934
Портной из Ульма Перевод Е. Эткинда
(Из «Детских песен»)
«Я умею летать, епископ, Посмотри, как я летаю», — Портной попу сказал. И полез он все выше и выше, И на самой церковной крыше Он себе большие крылья привязал. «Все это враки, дети, Нечего тут толпиться. Человек летать не может, Человек не птица», — Так епископ ответил. «Портной отдал богу душу», — Сказали епископу люди. — Погиб чудак портной. Развалились крылья на перья, Он лежит под церковной дверью На холодной жесткой мостовой. Епископ сказал: «Мы будем В колокол бить и молиться. Человек летать не может, Человек не птица», — Сказал епископ людям.1934
Слива Перевод Е. Эткинда
(Из «Детских песен»)
Среди двора она росла, Она была совсем мала. Вокруг нее ограда, Ее давить не надо! Она растет который год, А все никак не подрастет. Ах, невозможно это Без солнечного света! Как, это слива? Что за диво! Плодов и не бывало там. Но то, что это все же слива, Заметно по листам.1934
Мой брат был храбрый летчик Перевод Вл. Нейштадта
(Из «Детских песен»)
Мой брат был храбрый летчик. Пришел ему вызов вдруг. Собрал он быстро чемодан. И укатил на юг{74}. Мой брат — завоеватель. В стране у нас теснота. Чужой страны захватить кусок — Старинная наша мечта. И брат захватил геройски Кусок чужой страны: Длины в том куске метр семьдесят пять И метр пятьдесят глубины.1937
Песня единого фронта Перевод С. Болотина и Т. Сикорской
{75}
1
И так как все мы люди, То должны мы — извините! — что-то есть. Хотят накормить нас пустой болтовней — К чертям! Спасибо за честь! Марш левой! Два! Три! Марш левой! Два! Три! Встань в ряды, товарищ, к нам! Ты войдешь в наш единый рабочий фронт, Потому что рабочий ты сам!2
И так как все мы люди, Не дадим бить нас в лицо сапогом. Никто на других не поднимет плеть И сам не будет рабом! Марш левой! Два! Три! Марш левой! Два! Три! Встань в ряды, товарищ, к нам! Ты войдешь в наш единый рабочий фронт, Потому что рабочий ты сам!3
И так как ты рабочий, То не жди, что нам поможет другой; Себе мы свободу добудем в бою Своей рабочей рукой! Марш левой! Два! Три! Марш левой! Два! Три! Встань в ряды, товарищ, к нам! Ты войдешь в наш единый рабочий фронт, Потому что рабочий ты сам!1934
Резолюция коммунаров Перевод Е. Эткинда
{76}
Исходя из нашего бессилья, Создали для нас законы вы, Но законы ваши — грубое насилье, Перед господами мы не склоним головы. Исходя из факта, что оружье Ваших войск нацелено на нас, Мы постановили: жить рабами хуже, Чем принять свой смертный час. Исходя из факта, что мы спины, Голодая, гнем и кормим вас, Мы постановили: разобьем витрины И доставим женам продовольственный запас. Исходя из факта, что оружье Ваших войск нацелено на нас, Мы постановили: жить рабами хуже, Чем принять свой смертный час. Исходя из факта, что мы нищи И что нашим детям нужен кров, Мы решили: в ваши знатные жилища Все мы переселимся без лишних слов. Исходя из факта, что оружье Ваших войск нацелено на нас, Мы постановили: жить рабами хуже, Чем принять свой смертный час. Исходя из факта, что без боя Вы не отдадите нам дрова, Мы решили сами стать своей судьбою, Сами отобрать у вас и уголь и права. Исходя из факта, что оружье Ваших войск нацелено на нас, Мы постановили: жить рабами хуже, Чем принять свой смертный час. Исходя из факта: мир вчерашний Нам не обеспечивает быт. Мы постановили: фабрики и пашни Нужно отобрать у вас, и каждый будет сыт, Исходя из факта, что оружье Ваших войск нацелено на нас, Мы постановили: жить рабами хуже, Чем принять свой смертный час. Исходя из факта, что над нами Власти издевались до сих пор, Мы постановили: овладеем сами Властью в государстве, всем властям наперекор. Исходя из факта: лишь язык снаряда Может убедить вас в чем-нибудь, Мы постановили, что сегодня надо Против вас орудья повернуть.1935
Вопросы читающего рабочего Перевод И. Фрадкина
Кто воздвиг семивратные Фивы? В книгах названы имена повелителей. Разве повелители обтесывали камни и сдвигали скалы? А многократно разрушенный Вавилон? Кто отстраивал его каждый раз вновь? В каких лачугах Жили строители солнечной Лимы? Куда ушли каменщики в тот вечер, Когда они закончили кладку Китайской стены? Великий Рим украшен множеством триумфальных арок. Кто воздвиг их? Над кем Торжествовали цезари? Все ли жители прославленной Византии Жили во дворцах? Ведь даже в сказочной Атлантиде В ту ночь, когда ее поглотили волны, Утопающие господа призывали своих рабов. Юный Александр завоевал Индию. Совсем один? Цезарь победил галлов. Не имел ли он при себе хотя бы повара? Филипп Испанский рыдал, когда погиб его флот. Неужели никому больше не пришлось проливать слезы? Фридрих Второй одержал победу в Семилетней войне.{77} Кто разделил с ним эту победу? Что ни страница, то победа. Кто готовил яства для победных пиршеств? Через каждые десять лет — великий человек. Кто оплачивал издержки? Как много книг! Как много вопросов!1935
Башмак Эмпедокла Перевод Б. Слуцкого
1
Когда Эмпедокл{78}, агригентец, Снискал уважение своих сограждан и вместе с ним Старческие недомогания, Он решил умереть. Но, поскольку Он любил иных из тех, кто его любил, Ему не хотелось сгинуть у них на глазах. Он предпочел этому Ничто. Он пригласил друзей на прогулку. Не всех. Одного-другого обошел, введя элемент случайности И в свой отбор, и во всю эту затею. Они взошли на Этну. Восходить было трудно, И все молчали. Всем было неохота Вести ученые разглагольствования. Наверху, Взволнованные ландшафтом, довольные, что достигли цели, Они отдышались, чтоб привести пульс в норму. Учитель ушел от них незаметно. Они не заметили его ухода и тогда, Когда разговор возобновился. Позднее То одному, то другому стало недоставать нужного слова, И начались поиски Эмпедокла. Но он уже давно обогнул вершину, Хотя не слишком торопился. Однажды Он остановился и послушал, Как вдали, по ту сторону вершины, Снова началась беседа. О чем говорили, Он не понял: умирание Уже началось. Старик отвернулся и неподалеку от кратера, Не желая знать, что будет в дальнейшем, Уже не имевшем к нему отношения, Потихоньку нагнулся, Осторожно снял башмак и с улыбкой Отшвырнул его в сторонку, на пару шагов, Чтобы нашли не сразу, а в свое время, Иными словами, пока он еще не сгнил. Только сделав это, старик подошел к кратеру. Друзья Поискали и вернулись домой без него. Началось то, чего он хотел: недели и месяцы беспрерывного умирания. Иные все еще ждали. Другие Уже считали, что он погиб. Иные Откладывали важные решения до его возвращения. Другие уже пытались решать сами. Медленно, Как облака уплывают по небу, не изменяясь, а только уменьшаясь, Расплываясь, когда их теряют из виду, вновь удаляясь, Смешиваясь с другими облаками, когда их снова пытаются найти, Так и он дал привыкнуть К своему удалению из всего, что для них привычно. Потом пошли слухи, Что он не умер, поскольку был бессмертным. Тайна окружила Эмпедокла. Считали возможным, Что в ином мире бывает по-всякому, что судьба человеческая Может быть изменена для некоторых — Вот такие пошли разговоры. Однако к тому времени нашли башмак, Осязаемый, стоптанный, кожаный, земной! Предназначенный специально для тех, Кто начинает слепо верить, как только чего-нибудь не увидит Своими глазами. После этого кончина Эмпедокла Снова показалась естественной. Умер, Как все умирают.2
Иные описывают это событие По-иному: Эмпедокл действительно Пытался обеспечить себе божественные почести И тем, что он таинственно улетучился, без свидетелей Бросился в Этну, хотел обосновать сказку О своем неземном происхождении и о том, Что он не подвластен закону уничтожения. При этом его башмак сыграл с ним шутку, Попав в руки людям. (Некоторые даже утверждают, что сам кратер, Осерчав на эту затею, попросту изверг Башмак выродка.) Но мы полагаем иначе: Если он в самом деле не снял башмак, значит, он Забыл про нашу глупость и не подумал о том, как мы торопимся Сделать темное еще темнее, как предпочитаем поверить в нелепость, Лишь бы не искать действительные причины. А что касается горы, То она вовсе не возмущалась его поступком, Вовсе не верила в то, что он хотел нас обмануть, Присвоив себе божественные почести (Потому что гора ни во что не верит и вообще не лезет в наши дела), А попросту, выплевывая, как обычно, огонь, Извергла башмак — и вот ученики, Уже погруженные в разгадку великой тайны, Уже углубленные в метафизику, вообще очень занятые, Внезапно были огорчены, получив прямо в руки Башмак своего учителя, осязаемый, Изношенный, кожаный, земной…Легенда о создании книги «Дао Дэ цзин» на пути Лао-цзы на чужбину Перевод Д. Самойлова
{79}
1
В семьдесят, когда усохло тело, Понял вдруг учитель, что устал, Ибо в той стране добро скудело, Зло росло — ему как будто кто-то силы придавал, И ботинки он зашнуровал.2
Все пожитки скромные сложил он. Пустяки — но все, что нужно впрок: Трубочку, которую курил он. Книжечку, которую берег, Хлебца белого кусок.3
Напоследок поглядел в долину И навек ее из памяти изгнал. Сел волу разумному на спину. Вол травинки по пути жевал. Старец не спешил — вол это знал.4
В скалах, на четвертый день, к рассвету На тропе — таможенный заслон. «Есть ли ценности какие?» — «Нету». «Учит он, — сказал погонщик, — потому и беден он». Так вопрос был разрешен.5
Тут таможник спрашивает: «Ну-ка, До чего ж дознался твой старик?» И на то ответил мальчик: «Состоит его наука В том, что волны побеждают материк. Он тщету жестокости постиг».6
Чтобы время не терять дневное, Мальчик поскорей погнал вола. Вот уже все трое скрылись за сосною. Стражника вдруг злость разобрала; «Стой!» — кричит из-за ствола.7
«Что там за вода, скажи-ка, старый!» «И тебе занятно?» — молвил тот. «Я лишь управляющий заставой, Но и мне ведь интересно — чья возьмет. Мудрость — это мед!8
Продиктуй мальцу, чтоб ясно было! Мудрость увозить с собой грешно. Там вон есть бумага и чернила, Да и пища будет заодно. Ну, так решено?»9
Поглядел старик на человека: Лоб в морщинах, медяка не дашь За одежду — всё бедно и ветхо. Ах, не победитель этот страж. И сказал себе: «И ты туда ж!»10
Был старик, наверно, слишком старым, Чтоб отвергнуть просьбу. Он сказал: «Тот, кто спрашивает незадаром, Тот ответ получит». Мальчик молвил: «Нам за перевал!» «Ничего. Привал»..11
И с вола сошел премудрый старец. И семь дней записывал малец. Стражник и контрабандисты тише ссориться старались. И была похлебка и хлебец. И закончил труд мудрец.12
И вручил чиновнику погонщик Книгу афоризмов. У дверей Попрощались, ибо, труд закончив, Нужно было ехать поскорей. Можно ль быть добрей!13
Но восхвалим мы не только старца, Чье прозванье украшает труд. Ибо мудрым трудно с мудростью расстаться. Слава тем, что мудрость отберут. Мы и стражника восхвалим тут.Посещение изгнанных поэтов Перевод Б. Слуцкого
{80}
Когда — во сне — он вошел в хижину Изгнанных поэтов, в ту, что рядом с хижиной Изгнанных теоретиков (оттуда доносились Смех и споры), Овидий вышел Навстречу ему и вполголоса сказал на пороге: «Покуда лучше не садись. Ведь ты еще не умер. Кто знает, Не вернешься ли ты еще назад? И все пойдет по-прежнему, кроме того, Что ты сам не будешь прежним». Однако подошел Улыбающийся Бо Цзюй-и и заметил, глядя сочувственно: «Любой заслуживает кары, кто хотя бы однажды сказал о несправедливости». А его друг Ду Фу тихо промолвил: «Понимаешь, изгнание Не место, где можно отучиться от высокомерия». Однако куда более земной, Совершенно оборванный, Вийон предстал перед ним и спросил: «Сколько Выходов в твоем доме?» А Данте отвел его в сторону, Взял за рукав и пробормотал: «Твои стихи, Дружище, кишат погрешностями, подумай О тех, в сравненье с которыми ты — ничто!» Но Вольтер прервал его: «Считай каждый грош, Не то тебя уморят голодом!» «И вставляй шуточки!» — воскликнул Гейне. «Это не помогает, — Огрызнулся Шекспир. — С приходом Якова Даже мне запретили писать»{81}. — «Если дойдет до суда, Бери в адвокаты мошенника! — посоветовал Еврипид, — Чтобы знал дыры в сетях закона». Смех Не успел оборваться, когда из самого темного угла Послышался голос: «А знает ли кто твои стихи Наизусть? И те, кто знает, Уцелеют ли они?» — «Это забытые, — Тихо сказал Данте, — Уничтожили не только их тела, их творения — также». Смех оборвался. Никто не смел даже переглянуться. Пришелец Побледнел.Притча Будды о горящем доме Перевод Б. Слуцкого
Гаутама Будда{82} говорил О колесе алчбы, К которому мы прикованы, и учил Отринуть все вожделения и таким образом, Избавившись от желаний, войти в Ничто, называемое им Нирваной. Однажды ученики спросили его: — Каково это Ничто, Учитель? Мы все стремимся Отринуть, как ты призываешь, вожделения, но скажи нам, Это Ничто, куда мы вступим, Примерно то же, что Единосущность со всем Сотворенным, Когда бездумно лежишь в воде в полдень, Почти не ощущая собственного тела, лениво лежишь в воде или проваливаешься в сон, Машинально натягивая одеяло, утопаешь во сне? Так же ли прекрасно твое Ничто, доброе Ничто, Или твое Ничто — это обыкновенное Ничто, Холодное, пустое и бессмысленное? — Будда долго молчал, потом небрежно бросил: — На ваш вопрос нет ответа. — Но вечером, когда ученики ушли, Будда все еще сидел под хлебным деревом И рассказывал другим ученикам, тем, кто не задавал вопросов, Такую притчу: — Недавно я видел дом. Он горел. Крышу Лизало пламя. Я подошел и заметил, Что в доме еще были люди. Я вошел и крикнул, Что крыша горит, призывая тем самым Выходить поскорее. Но люди, Казалось, не торопились. Один из них, Хотя его брови уже дымились, расспрашивал, Как там на улице, не идет ли дождь, Нет ли ветра, найдется ли там другой дом, И еще в том же роде. Я ушел, Не отвечая. «Такой человек сгорит, задавая вопросы», — Подумал я. В самом деле, друзья, Тем, кому земля под ногами еще не так горяча, Чтобы они были готовы Обменять ее на любую другую, тем советовать нечего. Так сказал Гаутама Будда. Но и нам, владеющим скорее искусством нетерпения, Чем искусством терпения, поглощенным Всевозможными земными делами И призывающим людей свергать земных палачей, — Нам не о чем говорить С теми, кто при виде бомбардировочных эскадр Капитала Будут еще долго расспрашивать, Что мы об этом думаем, И как мы это себе представляем, И что будет после переворота С их кубышками и выходными штанами.Ковровщики Куян-Булака чтят Ленина Перевод М. Ваксмахера
1
Память товарища Ленина чествуют всюду. Созданы бюсты его и портреты. Имя его дают городам и детям. На всех языках звучат о Ленине речи. Чтобы почтить его память, На демонстрации и на собранья Люди идут от Шанхая и до Чикаго. Но я расскажу вам о том, Как Ленина чтят в Куян-Булаке, В небольшом селенье Южного Туркестана, Простые ткачи ковров. Собираются вечером двадцать ткачей Возле убогого станка, дрожа в ознобе. Бродит кругом лихорадка; станция железной дороги Забита гудящей злой мошкарой, Которая плотной тучей Поднимается над болотом За старым верблюжьим кладбищем. Но на этот раз железная дорога, Которая обычно дважды в месяц Приносит в селенье дым и воду, Принесла такое известье: Приближается День памяти товарища Ленина. И решили люди Куян-Булака — Бедные люди, ткачи простые, Что товарищу Ленину нужно поставить В их селенье гипсовый бюст. И вот теперь, когда собраны деньги, Ткачи стоят, трясутся в ознобе И отдают дрожащими от лихорадки руками Свои трудовые копейки. А красноармеец Степа Гамалев, Человек с заботливым сердцем и точным глазом, Видит, с какой готовностью люди Ленина чтят, и рад Гамалев. Но видит он также, Как бьет лихорадка людей, И вдруг предложение вносит: На деньги, что собраны на покупку бюста, Купить керосин и вылить в болото, Там, за верблюжьим кладбищем; Ведь оттуда летит мошкара, Порождая болезнь. Победа над лихорадкой в Куян-Булаке — Лучшая наша почесть Умершему, Но незабвенному Товарищу Ленину. Так и решили. В день памяти Ленина Керосином наполнили старые ведра, Пошли всем селеньем к болоту — И болото залили. Так, Ленина чествуя, о своем позаботились благе, А заботясь о благе своем, Ленину почесть воздали И Ленина поняли.2
А вот что было дальше. В тот самый вечер, Когда в болото Был вылит керосин, Собрание в селенье состоялось. Поднялся человек и предложил, Чтоб учредили памятную доску На станции Куян-Булак и чтобы записали На той доске подробно, Как план был изменен и как решили Купить не бюст, а тонну керосина, Убившего болезнь. И всё — в честь Ленина. И в Куян-Булаке Установили доску.1927
Непобедимая надпись Перевод И. Фрадкина
{83}
Во время мировой войны В камере итальянской тюрьмы Сан-Карло, Битком набитой дезертирами, бродягами и ворами, Солдат-социалист нацарапал карандашом на стене: «Да здравствует Ленин!» Написанные высоко, под самым потолком, в полутемной камере, Эти слова были едва различимы. Но сторожа заметили их и послали в камеру маляра, Который, вооружившись кистью и мелом, закрасил опасную надпись. Но он закрасил ее, водя своей кистью по написанному, И на стене снова возникла надпись — уже не карандашом, а мелом: «Да здравствует Ленин!» Пришел другой маляр и замазал всю стену, И надпись уж было исчезла, но утром, Когда высохла влага, сквозь мел проступило опять: «Да здравствует Ленин!» Тогда сторожа ввели в дело каменщика со скребком. Целый час он выскабливал букву за буквой, Но когда он закончил, то в камере снова сияла Врезанная в камень непобедимая надпись: «Да здравствует Ленин!» — А теперь снесите стену! — сказал им солдат.Уголь для Майка Перевод А. Голембы
{84}
1
Мне рассказывали, что в Огайо, В начале века, В городе Бидуэле жила в бедности некая Мэри Мак-Кой, вдова путевого обходчика По имени Майк Мак-Кой.2
И каждую ночь с громыхающих составов «Уилинг Рэйльрод»{85} Тормозные кондуктора швыряли глыбы угля Через забор, Громко выкрикивая; — Для Майка!3
И каждую ночь, когда глыбы угля для Майка Ударяли в стенку лачуги, Старуха поднималась, Полусонная, натягивала платье и оттаскивала в сторону Глыбы угля, Подарки кондукторов Майку, умершему, но Не забытому.4
Она поднималась задолго до рассвета и убирала Их подарки от посторонних глаз, чтобы У кондукторов не было неприятностей От компании «Уилинг Рэйльрод».5
Эти стихи посвящены товарищам Бывшего кондуктора Майка Мак-Кой (Умершего от чахотки, Заработанной на углевозах Огайо) В знак уважения к чувству солидарности.1926
Московский рабочий класс принимает великий Метрополитен 27 апреля 1935 года Перевод Е. Эткинда
Мы слыхали: восемьдесят тысяч рабочих Строили это метро, многие после рабочего дня, Ночи напролет. В течение года Москвичи видели, как юноши и девушки, Смеясь, вылезали из штолен, гордо являя миру Покрытые глиной, пропитанные потом Рабочие куртки. Все трудности — Подземные реки, давление высоких домов, Плывуны, — все это они победили. Они не жалели сил, Украшая станции. Лучший в России мрамор Был привезен с другого конца страны, лучшие сорта дерева Искусно отполированы. И вот наконец Почти бесшумно побежали чудесные вагоны По светлым туннелям: для строгих заказчиков Все самое лучшее. Когда же метро было завершено, Метро, построенное по самым совершенным образцам, И когда явились владельцы, чтобы его осмотреть, То оказалось: Владельцы — это те же строители. Их были тысячи, они ходили По залам огромных станций, и тысячи проезжали Мимо зал в поездах — Мужчины, женщины, дети, старики. Они смотрели на станции, их лица Лучились радостью, Словно лица зрителей в театре, ибо все эти залы, Облицованные разным камнем, были различны, В различных стилях, и свет в каждом из зал Излучали скрытые светильники. Тех, кто входил в вагоны, Весело оттесняли назад, Потому что передние места были для обозрения станций Удобнее задних. На каждой из станций Детей поднимали к окнам. Повсюду на остановках Люди высыпали на платформы и с веселой придирчивостью Осматривали все, проводили рукой по колоннам, Оценивая их полировку, скользили по полу — Ладно ли пригнаны плиты. Вернувшись в вагоны, Ощупывали обивку, проверяли, Как открываются окна. И постоянно Женщины и мужчины показывали друг другу То, что сделал каждый из них, — иногда сомневаясь, Верно ли вспомнили они место. Камни повсюду Хранили следы их труда. Лица людей Были залиты потоками света Многих светильников, — ни в одном метро не видел я столько света! Туннели тоже были освещены, Освещено было все, что сделано рабочими руками. И это было построено за один-единственный год и Таким множеством строителей, Как ни одно метро в мире. И ни у одного в мире метро Не было никогда стольких владельцев. И это чудесное сооружение Увидело то, чего не видал вовеки Ни один из его предшественников во всех городах мира: Владельцев, которые были сами строителями. Где же это видано было на свете, чтобы плоды труда Достались тем, кто трудился? Где доселе бывало, чтобы рабочих Не выгоняли из зданий, Ими сооруженных? Увидев, как они едут в вагонах, Созданных их руками, мы поняли: Вот это и есть то великое зрелище, которое некогда наши учители Прозревали в дали времен.Великий Октябрь Перевод И. Фрадкина
О Великий Октябрь рабочего класса! Наконец распрямились веками согбенные спины И солдаты винтовки свои обратили Против истинного врага! Еще весною Крестьянин, шагавший за плугом, возделывал поле Не для себя. Еще летом Гнет непосильной работы его пригибал к земле. Еще осенью Жатва, которую снял он, Наполняла амбары господ. Но в октябре Хлеб уже находился в достойных и честных руках. С этого времени Мир озарила надежда. Шахтер из Уэльса, и маньчжурский кули, Рабочий из Пенсильвании, живущий хуже собаки, И завидующий даже ему брат мой, немецкий рабочий, — Все они знают отныне: Есть в мире Октябрь! Чувствуя это и помня об этом, Испанский солдат-республиканец Смотрит без страха ввысь, где над его головой Кружат фашистские самолеты. В Москве, в знаменитой столице Пролетариев всего мира, Ежегодно движется через Красную площадь Бесконечное шествие победителей. Они несут эмблемы своих заводов и фабрик. Макеты комбайнов, рулоны текстильных товаров И снопы своего урожая. Над ними — тысячи их самолетов, Которые затмевают небо, Впереди них — железная поступь полков И грохот орудий и танков. На широких полотнищах Несут они лозунги и портреты своих великих учителей. Вьются по ветру на древках высоких Гордые флаги. И когда на уличных перекрестках Шествие замедляет свой шаг, Расцветают среди демонстрантов танцы и игры. Радость светится на лицах людей, но она Смерти подобна для всех угнетателей мира. О Великий Октябрь рабочего класса!1937
Шатким Перевод Б. Слуцкого
Ты говоришь: Наше дело плохо. Мрак сгущается. Силы слабеют. После стольких лет работы Мы в худшем положении, чем вначале. Зато позиции врага сильнее, чем когда-либо. Его силы как будто возросли. Он обрел несокрушимый вид. А мы сделали ошибки, от этого никуда не денешься. Мы сокращаемся в численности. В наших призывах — путаница. Некоторые наши слова Враг извратил до неузнаваемости. Что же оказалось ложным в том, что мы говорили? На кого мы еще рассчитываем? Вышвырнуты ли мы, уцелевшие, Из потока жизни? Останемся ли мы Никем не понятыми и никого не понимающими? Или успех еще возможен? Так вопрошаешь ты. Не жди Ответов ни от кого, кроме самого себя.Примкнувшим Перевод Б. Слуцкого
{86}
Чтобы не лишиться куска хлеба В эпоху растущего гнета, Иные решили, не говоря больше Правды о преступлениях власти, Совершенных, чтобы сохранить угнетение, Точно так же не распространять Вранье власть имущих, иными словами, Ничего не разоблачать, однако Ничего и не приукрашивать. Поступающий таким образом На первый взгляд действительно решил Не терять лица, даже в эпоху растущего гнета, Но на самом деле Он только решил Не терять куска хлеба. Да, эта его решимость Не говорить неправды отныне помогает ему Замалчивать правду. Конечно, так Может продолжаться недолго. Но даже в то время, Когда он шествует по канцеляриям и редакциям, По лабораториям и заводским дворам с видом человека, С губ которого не может сорваться неправда, Он уже вреден. Тот, кто при виде кровавого преступления Не моргнет глазом, тем самым свидетельствует, Что не происходит ничего особенного, Он помогает ужасающему злодеянию выглядеть чем-то малозначительным, Вроде дождя, В чем-то неотвратимым, вроде дождя. Так, уже своим молчанием Он поддерживает злодея, однако вскоре Он замечает, что, дабы не лишиться куска хлеба, Нужно не только замалчивать правду, Но и говорить ложь. Его, который решил Не лишаться куска хлеба, Угнетатели принимают без всякого недоброжелательства. Нет, он не чувствует себя подкупленным. Ему ведь ничего не дали. У него просто ничего не отняли. Когда на пиршестве у властителя Лизоблюд разевает пасть И люди видят остатки угощенья, застрявшие у него в зубах, Его похвалы вызывают недоверие. Но похвалы того, кто еще вчера хулил и не был зван на банкет в ознаменование победы, Куда ценнее. Ведь он — друг угнетенных. Они его знают. Он-то скажет все по правде. Он умолчит только о не стоящем слов. И вот он говорит, Что нет никакого угнетения. Убийца охотней всего Подкупает брата убитого И заставляет его заявлять, Что причиной смерти была черепица, случайно упавшая с крыши. Эта нехитрая ложь Выручает того, кто не хочет лишиться куска хлеба, Но не слишком долго. Вскоре Приходится вступать в жестокую драку Со всеми, кто не хочет лишиться куска хлеба: Готовности лгать теперь мало. Требуются умение лгать и особая любовь К этой работе. Со стремлением не потерять кусок хлеба смешивается стремление Овладеть особым искусством Сказать несказанное И придать таким образом Смысл бессмысленной болтовне. Доходит до того, что ему приходится Восхвалять угнетателя громче всех, Поскольку висит подозрение, Что когда-то ранее Он оскорбил угнетение. Итак, Знающие правду становятся самыми страшными вралями, И это длится до тех пор, Пока не приходит некто уличающий его В былой честности, в прежней порядочности, И тогда он лишается куска хлеба.1935
На смерть борца за мир Перевод А. Голембы
Памяти Карла фон Осецкого
{87}
Тот, кто не покорился, Убит. Тот, кто убит, Не покорился. Уста предостерегавшего Забиты землей. Начинается Кровавая авантюра. Могилу друга мира Топчут батальоны. Так, значит, борьба была напрасной? Когда тот, кто боролся не в одиночку, убит, Враг еще Не одержал победы.1938
Советы художникам касательно судьбы их произведений во время будущей войны Перевод Б. Слуцкого
Сегодня я думал о том, Что и вам, друзья мои, пишущие маслом и рисующие, Да и вам, владеющие резцом, Во время неотвратимо грядущей большой войны Будет не до смеха. Вы основываете свои надежды, Без коих не создашь произведений искусства, Главным образом на грядущих поколениях! Поэтому поищите надежные укрытия Для ваших полотен, рисунков и скульптур, Созданных со столькими лишениями. Подумайте, что однажды утром между девятью и четвертью десятого Несколько фугасок могут превратить в пыль, Например, все сокровища Британского музея, Награбленные подо всеми небесами, Стоившие столько крови и денег, Творения погибших народов, Ныне хранимые в одном квартале. Как же быть с произведениями искусств? Недостаточно надежны пароходные трюмы. Лесные санатории и стальные сейфы банков — недостаточно надежны! Вам нужно попробовать получить разрешение Спрятать ваши картины в туннелях метрополитена Или, еще лучше, в самолетных ангарах, Вбетонированных на глубину семи этажей в землю. Картины, написанные прямо на стенах, Не занимают места, А два-три натюрморта и пейзажа Не помешают экипажам бомбардировщиков. Разумеется, вы должны на видном месте Прикрепить таблички с разборчивыми надписями, Что на такой-то и такой-то глубине под таким-то и таким-то зданием (Или же грудой камней) Вами положено небольшое полотно, Изображающее лицо вашей жены. Благодаря этому грядущие поколения, Ваши, покуда еще не рожденные утешители, Сперва узнают, что в наше время было искусство, И потом произведут розыски, разгребая лопатами Мусор, А караульные в медвежьих шкурах Засядут на крышах небоскребов, с винтовками на коленях (Или же с луками), высматривая врага Или же ворону, о которой они мечтают, Чтобы набить пустое брюхо.Эпитафия Горькому Перевод А. Голембы
Здесь лежит посланец нищенских кварталов Описавший быт угнетателей Боровшийся с ними и победивший их Прошедший курс наук В университетах проселочных дорог Низкородный Помогший уничтожить систему Высших и низших Учитель народа Учившийся у народа.1936
Сожжение книг Перевод Б. Слуцкого
{88}
После приказа властей о публичном сожжении Книг вредного содержания, Когда повсеместно понукали волов, тащивших Телеги с книгами на костер, Один гонимый автор, один из самых лучших, Штудируя список сожженных, внезапно Ужаснулся, обнаружив, что его книги Забыты. Он поспешил к письменному столу, Окрыленный гневом, и написал письмо власть имущим. «Сожгите меня! — писало его крылатое перо. — Сожгите меня! Не пропускайте меня! Не делайте этого! Разве я Не писал в своих книгах только, правду? А вы Обращаетесь со мной, как со лжецом. Я приказываю вам; Сожгите меня!»1938
Сон о великой смутьянке Перевод Вл. Нейштадта
Я видел сон: На площади против Оперы, Где коричневый маляр держал очередную историческую речь, Очутилась вдруг огромная, с добрую гору, картофелина И тоже обратилась с речью К собравшемуся народу. — Я, — говорила она густым голосом, — Явилась, чтобы предостеречь вас. Конечно, Мне ведомо, что я всего-навсего картофелина, Незначительная персона. В книгах по истории Обо мне почти не упоминают. В высших кругах Я не пользуюсь влиянием. Когда речь заходит О высоких материях «честь» и «слава», я Принуждена уступить место. Считается неблагородным предпочитать меня славе. Но Я все же многим помогла перебиться в этой долине слез. Теперь выбирайте Между мной и этим маляром. Решайте: Он или я. Если вы предпочтете его, Вы лишитесь меня. Если вам нужна я, Вам придется изгнать его. И я говорю вам: Не слушайте слишком долго его, А то он успеет уничтожить меня. Пусть он угрожает вам Смертью за возмущение против него, но заметьте себе: Без меня вы и дети ваши тоже обречены на смерть. — Так говорила картофелина, И пока маляр продолжал свой рев в Опере, Слышимый всему народу через громкоговорители. Она тут же начала демонстрировать Жуткий опыт, видимый всему народу: С каждым словом маляра она сморщивалась, Становилась все меньше, дряннее и гнилее.Служебный поезд Перевод А. Эппеля
1
По прямому приказу фюрера Поезд, построенный для нюрнбергского партейтага, Был назван просто и скромно: «служебный». Сие означает, Что те, кто в нем следует, в процессе следования Служат немецкому народу.2
Служебный поезд — Шедевр вагоностроения. У каждого пассажира — Отдельные апартаменты. Широкие окна Позволяют наблюдать немецких крестьян, вкалывающих на полях. Если от этого зрелища вспотеешь, Можно в кафельном кабинете Безотлагательно принять ванну. С помощью хитроумной системы освещения сидя, стоя и лежа Пассажиры могут читать по ночам газеты, Пространно сообщающие о благословенности режима. Отдельные апартаменты Посредством телефона связаны друг с другом На манер известного рода танцзалов, где мужчины Справляются по телефону у сидящих за соседними столиками дам о тарифе. Не вставая с постели, пассажиры имеют возможность Включить радио и послушать пространные сообщения О ничтожности прочих режимов. Обед, по желанию, Сервируется прямо в апартаментах, а захочется облегчиться — В персональных выложенных мрамором сортирах Они срут На Германию.Трудности правления Перевод В. Корнилова
1
Министры твердят без конца народу, Как трудно руководить. Без министров Хлеб рос бы внутрь земли, а не вверх. Ни куска бы угля не вышло из шахты, Когда бы канцлер не был столь мудрым. Без министра пропаганды женщины беременеть бы не соглашались. Без военного министра ни одна война бы не началась. Да и солнце без разрешенья фюрера не всходило б, а если б даже всходило, То наверно, всходило б не в должном месте.2
Управлять страной, говорят министры, Столь же трудно, как фабрикой. Без владельца Обрушатся стены, заржавеют машины, И, даже если плуг изготовят, Все равно он не попадет на пашню Без тех хитрых слов, которые пишет Для крестьян предприниматель: кто мог бы еще Им сообщить, что имеются плуги, и что бы Стряслось с поместьем, когда из него ушел бы помещик? Наверно, посеяли бы рожь на поле, на котором уже посажен картофель.3
Если бы править было легко, То к чему был бы нужен светлый ум фюрера, Если б сам рабочий знал, как управлять машиной, И крестьянин отличал бы пашню от доски, на которой рубят лапшу, Не нужны были бы заводчики и землевладельцы, И лишь потому, что все так глупы, Нужен кто-то, кто очень умен.4
А быть может, лишь Потому так трудно править, Что обману и эксплуатации нужно учиться?1937
Ужасы режима Перевод Вл. Нейштадта
1
Путешественник, вернувшийся из Третьей империи И спрошенный, кто там воистину властвует, ответил: Страх.2
В страхе Ученый прерывает диспут с коллегой и, побледнев, Озирает тонкие стены своего кабинета. Учитель Лежит в кровати, не смыкая глаз, старается понять Темный намек, брошенный ему инспектором. Старуха в бакалейной лавчонке Прижимает дрожащие пальцы ко рту, чтобы удержать Гневное слово по поводу скверной муки. В страхе Разглядывает врач кровоподтеки своего пациента. В страхе Взирают родители на своих детей — не предадут ли? Даже умирающие Заглушают угасающий голос, Прощаясь с родными.3
Но и сами коричневые рубашки Боятся каждого, чья рука не взлетает кверху, И трепещут, когда кто-нибудь Желает им доброго утра. Пронзительные голоса крикливых командиров Полны ужаса, как визг поросят, Которых ждет нож мясника. В чиновничьих креслах потеют от страха Жирные зады исполнителей. Подгоняемые страхом, Мерзавцы вламываются в квартиры и обыскивают казематы; Это страх Заставляет их сжигать целые библиотеки. Так Властвует страх не только над подвластными, но И над властителями.4
Почему Так боятся они правдивого слова?5
Казалось бы: у режима такая могучая сила — Концлагери и камеры пыток, Откормленные полицейские, Запуганные или подкупленные судьи, Картотеки и проскрипционные списки, Доверху заполняющие огромные зданья. Казалось бы: можно не бояться Правдивого слова простого человека.6
Но их Третья империя напоминает Постройку ассирийца Тара, ту могучую крепость, Которую, как гласит легенда, не могло взять ни одно войско, Но которая от одного громкого слова, произнесенного внутри, Рассыпалась в прах.1937
Молодежь и Третья империя Перевод И. Фрадкина
1
Государство утверждает, что молодежь Исполнена преданности Третьей империи, А это, мол, значит, что лет через десять Весь германский народ будет сплошь состоять Из горячих сторонников режима. Какой нелепый, детский просчет!2
Кто не знает труда во имя хлеба насущного, А получает его даром от родителей, Говорит: «Что ж тут трудного — добывать хлеб?» Значит ли это, что через десять лет, Когда ему самому придется трудиться И добывать хлеб для своих детей, Он все еще будет повторять: «Что ж тут трудного?»3
Кто еще полон молодых сил, Тот хвалит режим. Значит ли это, Что, когда силы его иссякнут И он согнется под бременем труда, Он все еще будет хвалить режим?4
Кто еще никогда не слыхал свиста пуль, Говорит: «Как прекрасна война!» Значит ли это, что, услышав свист пуль, Он все еще будет повторять; Как прекрасна война!»?5
Если бы дети вечно оставались детьми, Им можно было бы вечно рассказывать сказки. Но так как они растут и взрослеют, То это — увы! — невозможно.6
Когда правительство рассуждает о молодежи, Радостно потирая руки, Оно походит на дурака, Который, глядя на снежную равнину, Радостно потирает руки и говорит: «При таком снеге и летом жара не страшна!»1937
Правительство как художник Перевод В. Корнилова
1
На сооруженье дворцов и стадионов Прорва денег идет. Правительство Подражает при этом молодому художнику, Который голода не боится, Лишь бы обессмертить свое имя. Правда, голод, который не страшен правительству. Это голод других, а точнее — Народа.2
Как художник, Правительство наделено сверхъестественной силой И все, что таят от него, Оно знает. Оно не училось тому, Что умеет. Оно вообще ничему Не училось. И образованьем Похвастать не может. Однако каким-то волшебным наитьем Способно высказаться на любую тему и решать Вопросы, в которых ни капли не смыслит.3
Как известно, художник может быть глуп, однако Быть великим художником. В этом Правительство сходно с ним. О Рембрандте Кто-то сказал, что, родившись без рук, Он рисовал бы ничуть не хуже. То же можно сказать о правительстве: Оно, родившись без головы, правило б точно так же.4
Удивительна находчивость Художника. Но если послушать правительство, Когда излагает оно положение дел, поймешь, что оно Находчиво тоже. К экономике художник испытывает Пренебреженье. И правительство так же ее презирает Конечно, У него богатые покровители. И как всякий художник, Оно живет тем, Что берет в долг.1938
Как долго просуществует Третья империя Перевод Б. Слуцкого
1
Фюрер заверяет, что Третья империя Просуществует тридцать тысяч лет. Это Не должно вызывать у высших инстанций никакого сомнения. Сомнение Высших инстанций вызывает лишь то, Просуществует ли Третья империя следующую зиму.2
Фюрер заверяет, что наступающая война Будет выиграна. Это Не должно вызывать у высших инстанций никакого сомнения. Войну выиграет тот, У кого больше сырья, больше пищевых продуктов И самые стойкие солдаты. Итак, если все солдаты залезут в танки И просидят там достаточно долго, А их жены и дети будут жрать репу И дедушка Штильке усердно выскребет олово из помойного бака, Наступающая война, конечно, будет выиграна.3
Следующую мировую войну мы выиграем, Если соберем достаточно утиля. Это Не должно вызывать у высших инстанций никаких сомнений. Сомнение вызывает лишь то, Смогут ли, например, провода, Если их делать из алюминия, вместо меди, Служить достаточно долго. Фюрер заверяет, Что они прослужат тридцать тысяч лет.1937
Запрещение театральной критики Перевод Вл. Нейштадта
Когда министр пропаганды Захотел запретить народу критиковать правительство, прежде всего он Запретил театральную критику{89}. Режим Очень любит театр. Если режим Кое-чего достиг, то это главным образом в области театра. Виртуозному применению прожекторов Он обязан не менее, Чем виртуозному применению резиновых дубинок. Его гала-представления Радио передает по всей империи. В трех колоссальных фильмах (В последнем — восемь тысяч метров) Главный исполнитель играл фюрера. Чтобы укрепить в народе любовь к театру, Посещение зрелищ проводится принудительно. Ежегодно первого мая,{90} Когда первый актер империи Играет роль бывшего рабочего, Зрителям за то, что они смотрят, даже платят — по две марки На рыло. Дирекция не щадит затрат на торжественный спектакль, Проводимый вблизи Байрейта, под названием: ИМПЕРСКИЙ ПАРТЕЙТАГ. {91} Сам канцлер выступает здесь в качестве шута И поет дважды в день знаменитую арию: «НЕ ЗАДАВАЙ ВОПРОСОВ». Ясно, что такие дорогостоящие церемонии Должны охраняться от критики. Хорошо бы выглядел режим, Если бы каждый имел право критиковать: Дескать, руководитель гитлеровской молодежи Бальдур Слишком ярко нарумянен, А министр пропаганды настолько заврался, что Ему уже ни в чем не верят, не верят даже, Что у него искривленная ступня. Вообще должно быть Решительно запрещено высказываться вслух об этом балагане И чтобы не смели говорить, что исполняется, Кто финансирует спектакль и Кто играет главную роль.О слове «Эмигранты» Перевод Е. Эткинда
Я всегда считал неверным название, которое нам дали: Эмигранты. Это значит — покинувшие родину. Но ведь мы Не покинули нашу страну, чтобы по вольному выбору Избрать другую страну. И мы не избрали другую страну, Чтобы остаться там по возможности навсегда. Нет, мы бежали — изгнанники, ссыльные. Страна, принявшая нас, не дом для нас — лишь убежище. В вечной тревоге живем мы — живем поближе к границам, Ждем дня возвращения, следя с замиранием сердца За малейшим изменением по ту сторону границы, Ревностно расспрашивая каждого новоприбывшего оттуда, Ничего не забывая, ни от чего не отказываясь И ничего не прощая, — нет, ничего не прощая, что было. Безмолвие пролива нас не обманет! Мы слышим крики, Которые к нам долетают из их лагерей. Мы ведь и сами Подобны слухам о зверствах, перелетевшим Через границы. Каждый из нас, Идущий в разбитых башмаках сквозь толпу, Свидетельствует о позоре, пятнающем нашу страну. Но ни один из нас Здесь не останется. Еще не сказано Последнее слово.1937
Мысли о длительности изгнания Перевод Е. Эткинда
1
Не вбивай в стенку гвоздя, Брось пиджак просто на стол. Стоит ли устраиваться на три дня? Завтра ты вернешься домой. Незачем поливать саженцы. Стоит ли выращивать новое дерево? Оно еще не успеет достигнуть вот этой ступеньки, Как ты уже с радостью уедешь отсюда. Нахлобучь шляпу на глаза, когда мимо проходят люди. Стоит ли долбить чужую грамматику? Весть, зовущая домой, Дойдет до тебя на родном языке. Подобно тому как побелка сыплется с потолка (Сама по себе, без всякого вмешательства!), Так рассыплется трухой ограда насилия, Ныне преграждающая путь справедливости.2
Видишь гвоздь — это ты вбил его в стенку! Когда же теперь ты домой вернешься? Хочешь знать, что ты в глубине души думаешь? День за днем Ты трудишься ради освобождения, Ты сидишь в каморке и пишешь. Хочешь знать, веришь ли ты в свой труд? Посмотри на каштановое деревцо в углу двора. Которое ты поливаешь водой из большого кувшина.Убежище Перевод Ю. Левитанского
На крыше лежит весло, но ветер так тих — Не шевелит солому, не дует в щели. Вбиты столбы посредине двора — на них Недвижны качели. Почта приходит дважды — туда, где дышать Трудно без писем, и ждут их нетерпеливо. По Зунду плывут паромы неторопливо. У дома четыре двери, чтоб убежать.А в вашей стране? Перевод М. Ваксмахера
{92}
В нашей стране к Новому году, И когда завершена работа, и ко дню рождения Должны мы счастья друг другу желать, Ибо праведник в нашей стране Очень нуждается в счастье. Кто не пакостит никому, Попадает в нашей стране под колеса, А власть и богатство Добываются лишь обманом. Чтобы добыть обед, Храбрости нужно не меньше, Чем когда-то для завоевания царств. Тот, кто смерти в глаза не глядел, Страждущему не поможет. Говорящих неправду все готовы носить на руках. Говорящие правду Нуждаются в личной охране, Но не могут ее найти.1935
Изгнанный по веским причинам Перевод Е. Эткинда
Я вырос в богатой семье. Мои родители Нацепляли на меня воротнички, растили меня, Приучая к тому, что вокруг должна быть прислуга. Учили искусству повелевать. Однако Когда я стал взрослым и огляделся вокруг, Не понравились мне люди моего класса, Не понравилось мне повелевать и иметь прислугу. И я покинул свой класс и встал В ряды неимущих. Так Взрастили они предателя, они его обучили Всем своим хитростям, он же Выдал их с головой врагу. Да, я выбалтываю их тайны. Я живу среди народа, И я объясняю народу Все их обманы, все их намеренья, Ибо Я посвящен в их тайны. Они подкупили попов, и попы говорят по-латыни, А я перевожу эти речи с латыни на простой язык, и тогда Они оказываются шарлатанством. Я сбрасываю с возвышения Весы их правосудия и показываю всем Фальшивые картонные гири. А их соглядатаи им доносят, Что я сижу в кругу обворованных и вместе с ними Обсуждаю планы восстания. Они мне грозили, они отняли у меня все, Что я заработал трудом. Но я не исправился. И тогда они стали травить меня, но У меня были в руках документы, Обличавшие их заговор Против народа. Тогда они Послали мне вслед тайную грамоту, в коей Я обвиняюсь в низменном образе мыслей, то бишь В образе мыслей униженных. Куда бы я ни приехал, всюду я заклеймен В глазах имущих, но неимущие Читают тайную грамоту И дают мне убежище. Тебя, говорят бедняки, Тебя изгнали По веским причинам.1938
К потомкам Перевод Е. Эткинда
1
Право, я живу в мрачные времена. Беззлобное слово — это свидетельство глупости. Лоб без морщин Говорит о бесчувствии. Тот, кто смеется. Еще не настигнут Страшной вестью. Что же это за времена, когда Разговор о деревьях кажется преступленьем, Ибо в нем заключено молчанье о зверствах! Тот, кто шагает спокойно по улице, По-видимому, глух к страданьям и горю Друзей своих? Правда, я еще могу заработать себе на хлеб, Но верьте мне: это случайность. Ничто Из того, что я делаю, не дает мне права Есть досыта. Я уцелел случайно. (Если заметят мою удачу — я погиб.) Мне говорят: — Ешь и пей! Радуйся, что у тебя есть пища! Но как я могу есть и пить, если Я отнимаю у голодающего то, что съедаю, если Стакан воды, выпитый мною, нужен жаждущему? И все же я ем и пью. Я бы хотел быть мудрецом. В древних книгах написано, что такое мудрость. Отстраняться от мирских битв и провести свой краткий век, Не зная страха. Обойтись без насилья. За зло платить добром. Не воплотить желанья свои, но о них позабыть. Вот что считается мудрым. На все это я не способен. Право, я живу в мрачные времена.2
В города приходил я в годину смуты, Когда там царил голод. К людям приходил я в годину возмущений. И я восставал вместе с ними. Так проходили мои годы, Данные мне на земле. Я ел в перерыве между боями. Я ложился спать посреди убийц. Я не благоговел перед любовью И не созерцал терпеливо природу. Так проходили мои годы, Данные мне на земле. В мое время дороги вели в трясину. Моя речь выдавала меня палачу. Мне нужно было не так много. Но сильные мира сего Все же чувствовали бы себя увереннее без меня. Так проходили мои годы, Данные мне на земле. Силы были ограничены, А цель — столь отдаленной. Она была ясно различима, хотя и вряд ли Досягаема для меня. Так проходили мои годы, Данные мне на земле.3
О вы, которые выплывете из потока, Поглотившего нас, Помните, Говоря про слабости наши, И о тех мрачных временах, Которых вы избежали. Ведь мы шагали, меняя страны чаще, чем башмаки, Мы шли сквозь войну классов, и отчаянье нас душило, Когда мы видели только несправедливость И не видели возмущения. А ведь при этом мы знали: Ненависть к подлости Тоже искажает черты. Гнев против несправедливости Тоже вызывает хрипоту. Увы, Мы, готовившие почву для всеобщей приветливости, Сами не могли быть приветливы. Но вы, когда наступит такое время, Что человек станет человеку другом, Подумайте о нас Снисходительно.Стихотворения 1939–1947 годов
Во время войны многое возрастает Перевод М. Ваксмахера
Быстро растут: Имущество власть имущих И нищета неимущих, Речи властей И молчанье подвластных.За каждым декретом режима Перевод М. Ваксмахера
Тенью тянутся Слухи. Правители голосят, Народ шепчется.Фюрер вам станет рассказывать — дескать, война… Перевод М. Ваксмахера
Продлится всего четыре недели. К началу осени Все вы вернетесь домой. Но осень Много раз придет и пройдет, а вы Не вернетесь домой. Маляр вам станет рассказывать — мол, машины Будут за вас воевать. Лишь немногим Предстоит умереть. Но вы, Сотнями тысяч будете вы умирать, Умирать в таком огромном количестве, В каком никогда и никто еще на свете не умирал. Если мне доведется услышать, что вы воюете на Северном полюсе, В Индии, в Трансваале, Значит, буду я знать, Где ваши могилы.Литература будет проверена Перевод Б. Слуцкого
Мартину Андерсену Нексе
{93}
1
Тех, кого усаживают в золоченые кресла, лишь бы они писали, Спросят потом о тех, Кто ткал им одежды, Их книги рассмотрят Не по ихним возвышенным рассужденьям, А по вскользь оброненным словам, позволяющим Судить о тех, кто ткал им одежды. Именно это прочтут с интересом, потому что именно в этом Скажутся свойства Прославленных предков. Целые литературы, Состоящие из утонченных оборотов, Проверят, чтобы доказать, Что там, где было угнетение, Жили и мятежники. По молитвенным воззваниям к неземным существам Докажут, что земные существа топтали друг друга. Изысканная музыка слов доложит только о том, Что многим было нечего есть.2
Но в те времена будут прославлены Те, кто писал, сидя на голой земле, Те, кто сидел в ногах униженного, Те, кто был рядом с борцами, Те, кто рассказал о муках униженных, Те, кто поведал о деяньях борцов С искусством. Благородным языком, Прежде приберегаемым Для прославления королей. Их описания несправедливостей и их призывы Сохранят отпечатки пальцев Униженных. Потому что именно им Все это передавалось, и они Проносили все это под пропотевшими рубашками Через полицейские кордоны Для таких же, как они. Да, придет такое время, Когда именно тех мудрых и дружественных, Гневных, но полных надежд, Тех, кто писал, сидя на голой земле, Тех, кого окружали униженные и борцы, Восславят во весь голос.1939
Скверное время для поэзии Перевод Е. Эткинда
Знаю, что только счастливый Любим. Его голос Радует всех. Он красив. Уродливое дерево посреди двора Говорит о скудости почвы, и все же Прохожие бранят его уродцем, И они правы. Я не вижу на Зунде ни лодок зеленых, Ни веселого паруса. Вижу Только дырявую сеть рыбаков. Почему я твержу лишь о том, Что сорокалетняя батрачка бредет согнувшись? Груди девушек Теплы, как в прежние дни. В моей песне рифма Показалась бы мне щегольством. Во мне вступили в борьбу Восторг от яблонь цветущих И ужас от речей маляра, Но только второе Властно усаживает меня за стол.Скверное время для молодежи Перевод Ю. Левитанского
Вместо того чтобы в роще играть со сверстниками, Сидит мой маленький сын, склонившись над книгами. При этом всего охотнее читает он О мошенничествах, совершаемых богачами, И о бойнях, затеянных генералами. Когда он читает о том, что наши законы Одинаково запрещают богатым и бедным спать под мостами Я слышу, как он хохочет счастливо. Когда становится ясно ему, что автор книги подкуплен, Лицо его юное вмиг озаряется светом. Это мне по душе, несомненно, и все же Мне хотелось бы дать ему детство такое, Чтобы в роще играл он с друзьями.Шведский пейзаж Перевод Е. Эткинда
Под серыми соснами — дом на снос. На свалке — полированный белый ларь. Что это? Прилавок? Или алтарь? Торговали здесь плотью Христа? Или кровь Его разливали? Отмеряли холст? Торговец молился? Барышничал поп? Прекрасные божьи творения, — сосны Сбывает соседский портной за бесценок.1939
И вот война, и путь наш все труднее… Перевод А. Исаевой
И вот война, и путь наш все труднее, И ты идешь со мной одной дорогой, Широкой, узкой, в гору и пологой, И тот ведет, кто в этот час сильнее. Гонимы оба, и к одной стремимся цели. Так знай, что эта цель в самом пути, И если силы у другого ослабели, И спутник даст ему упасть, спеша дойти, Она навек исчезнет без возврата, — Кого спросить, вдали не различая? Бредешь во мраке… Вспомнится утрата, И остановишься, пот отерев со лба. Сказать об этом Музе поручаю У верстового ближнего столба.1939
Одно прошу — не избегай меня… Перевод Е. Эткинда
Одно прошу: не избегай меня. Твое рукопожатье — мне отрада. Ты стал глухим? Тебя мне слышать надо. Ты стал немым? Твой дух — моя броня. Ты стал слепым? К себе в поводыри Прими меня, твоим я буду взглядом. Позволь, как прежде, быть с тобою рядом, Как прежде, мне доверье подари. Не говори: «Я ранен, я калека!» Поддержки не чурайся, как чумы. Неверье недостойно человека. Тот несвободен, кто другому нужен. Я без тебя во мраке безоружен. Но я не только я. Я — это мы.1939
Любовная песня плохих времен Перевод В. Куприянова
Все наши встречи — дружбе не порука, Хотя с тобою были мы близки. Когда в объятьях грели мы друг друга, Мы друг от друга были далеки. И встреться мы сегодня на базаре — Могли б сцепиться из-за связки лука: Хотя в объятьях грели мы друг друга, Все наши встречи — дружбе не порука.О пьесе Шекспира «Гамлет» Перевод Е. Эткинда
В ленивом и обрюзглом этом теле Гнездится разум, словно злой недуг. Тут блеск мечей, и шлемов, и кольчуг, А он тоскует о разумном деле. Пока над ним не загремит труба И Фортинбрас под грохот барабанов Не поведет на бой своих болванов, Чтоб Данию покрыли их гроба. Вот наконец объят негодованьем Так долго колебавшийся толстяк. Пора покончить с жалким колебаньем! О, если бы, избавясь от химер, Он водрузил над Данией свой стяг, Явил бы всем он царственный пример.О стихотворении Шиллера «Колокол» Перевод А. Голембы
Читаю: пламя — благо для того, Кто смог набросить на него узду, А без узды оно страшней всего. Не знаю, что поэт имел в виду. В чем суть столь необузданной стихии И столь полезной — если автор прав? Как прекратить ее дела лихие, Смирить ее неблагонравный нрав? О пламя, пламя, о природы дочь! В фригийской шапке шествуя мятежно, По улицам она уходит в ночь. Прошли повиновенья времена! С прислугой обращались слишком нежно? — Так вот чем отплатила вам она!«Солдат из Ла-Сьота»
О стихотворении Шиллера «Порука» Перевод А. Голембы
В такие дни нам с вами процветать бы! Дамон у Диониса был в долгу. Тиран сказал: «Я потерпеть могу». И смертника он отпустил на свадьбу. Заложник ждет. Должник, стрелой лети! Ты, даже зная, что тому, кто ловок, Проститься может множество уловок, Вернешься, чтоб заложника спасти. Святым тогда считался договор, Тогда еще блюли поруку верно. И пусть должник летит во весь опор, Жать на него не следует чрезмерно. Нам Шиллером урок достойный дан: Тиран-то был добряк, а не тиран!О пьесе Клейста «Принц Гомбургский» Перевод А. Голембы
О бранденбургский парк былых времен! О духовидцев тщетные мечтанья! И воин на коленях — эталон Отваги и законопослушанья! Лавровый посох очень больно бьет, Ты победил наперекор приказу. Безумца оставляет Ника сразу, Ослушника ведут на эшафот. Очищен, просветлен, обезоружен Опальный воин — и крупней жемчужин Холодный пот под лаврами венка. Он пал с врагами Бранденбурга рядом, Мерцают пред его померкшим взглядом Обломки благородного клинка.1940
Финляндия 1940 Перевод Б. Слуцкого
I
Мы теперь беженцы В Финляндии. Моя маленькая дочь Вечерами сидит дома и ругается, Что никто из детей с ней не играет. Она немка, Разбойничье отродье. Когда я повышаю голос в споре, Меня призывают к порядку. Здесь не любят, Когда повышает голос Разбойничье отродье. Когда я напоминаю своей маленькой дочке, Что немцы народ разбойников, Мы оба радуемся, что их не любят, И оба хохочем.II
Мне противно смотреть, Как выбрасывают хлеб, Потому что я родом из крестьян. Можно понять, Как я ненавижу войну!III
Наша финская приятельница Рассказала нам за бутылкой вина, Как война опустошила ее вишневый сад. Оттуда, она сказала, вино, которое мы пьем. Мы опорожнили наши стаканы В память о расстрелянном вишневом саде И в честь разума.IV
Это год, о котором будут говорить. Это год, о котором будут молчать. Старики видят смерть юнцов. Глупцы видят смерть мудрецов. Земля уже не родит, а жрет. Небо источает не дождь, а железо.Реквизит Елены Вайгель Перевод А. Исаевой
Скамейка, зеркало в надтреснутом овале И штифтик грима: с ролью на коленях Она садилась здесь; и невод — опускали Его в оркестр во время представленья. А вот глядите — из времен гоненья Доска для теста, стоптанный башмак И медный таз — черничное варенье Варила детям в нем; продавленный дуршлаг. Все на виду, чем в радости и в горе, Своем и вашем, правила она. О драгоценная без гордости во взоре! Актриса, беженка, служанка и жена.1940
О счастье Перевод В. Куприянова
Чтобы выжить, необходимо счастье. Без счастья Не спастись никому от холода, Голода, от людей. Счастье — помощь. Я был очень счастлив. Лишь потому Я все еще жив. Но, глядя в будущее, с ужасом сознаю, Сколько еще мне понадобится счастья. Счастье — помощь. Силён — кто счастлив. Крепкий борец и умный учитель Тот, кто счастлив. Счастье — помощь.О повседневном театре Перевод А. Голембы
{94}
Вы, артисты, устраивающие свои театры В больших домах, под искусственными светочами, Перед молчащей толпой, — ищите время от времени Тот театр, который разыгрывается на улице. Повседневный, тысячеликий и ничем не прославленный, Но зато столь жизненный, земной театр, корни которого Уходят в совместную жизнь людей, В жизнь улицы. Здесь ваша соседка изображает домохозяина, ярко показывает она, Имитируя поток его красноречия, Как он пытается замять разговор Об испорченном водопроводе. В скверах Молодые люди имитируют хихикающих девушек, Как те по вечерам отстраняются, защищаются и при этом Ловко показывают грудь. А тот вот пьяный Показывает проповедующего священника, отсылающего неимущих На щедрые эдемские луга. Как полезен Такой театр, как он серьезен и весел И какого достоинства исполнен! Он не похож на попугая или обезьяну: Те подражают лишь из стремления к подражанию, равнодушные К тому, чему они подражают, лишь затем, чтобы показать, Что они прекрасно умеют подражать, но Безо всякой цели. И вы, Великие художники, умелые подражатели, вы не должны Уподобляться им! Не удаляйтесь, Хотя бы ваше искусство непрерывно совершенствовалось, слишком далеко От того повседневного театра, Который разыгрывается на улице. Взгляните на этого человека на перекрестке! Он демонстрирует, как Произошел несчастный случай. Он как раз Передает водителя на суд толпы. Как тот Сидел за рулем, а вот теперь Изображает он пострадавшего, по-видимому, Пожилого человека. О них обоих Он рассказывает лишь такие подробности, Которые помогают нам понять, как произошло несчастье, и, однако, Этого довольно, чтобы они предстали перед вами. Обоих Он показывает вовсе не так, чтобы создалось впечатление: они-де Не могли избежать несчастья. Несчастный случай Становится таким понятным и все же непостижимым, так как оба Могли ведь передвигаться и совершенно иначе, дабы несчастья Не произошло. Тут нет места суеверию: Очевидец не подчиняет смертных Власти созвездий, под которыми они рождены, А только власти их ошибок. Обратите внимание также На его серьезность и на тщательность его имитации. Он сознает, Что от его точности зависит многое: избежит ли невинный Кары и будет ли вознагражден Пострадавший. Посмотрите, Как он теперь повторяет то, что он уже однажды проделал. Колеблясь, Хорошо ли он подражает, запинаясь И предлагая другому очевидцу рассказать о тех Или иных подробностях. Взирайте на него С благоговением! И с изумлением Заметьте еще одно: что этот подражатель Никогда не растворяется в подражаемом. Он никогда Не преображается окончательно в того, кому он подражает. Всегда Он остается демонстратором, а не воплощением. Воплощаемый Не слился с ним, — он подражатель, Не разделяет ни его чувств, Ни его воззрений. Он знает о нем Лишь немногое. В его имитации Не возникает нечто третье, из него и того, другого, Как бы состоящее из них обоих, — нечто третье, в котором Билось бы единое сердце и Мыслил бы единый мозг. Сохраняя при себе все свои чувства, Стоит перед вами изображающий и демонстрирует вам Чуждого ему человека. Таинственное превращение, Совершающееся в ваших театрах якобы само собой Между уборной и сценой: актер Оставляет уборную, король Вступает на подмостки, то чудо, Посмеивающимися над которым с пивными бутылками в руках Мне столько раз случалось видеть рабочих сцены, — это чудо Здесь не происходит. Наш очевидец на перекрестке Вовсе не лунатик, которого нельзя окликнуть. Он не Верховный жрец в момент богослужения. В любую минуту Вы можете прервать его: он ответит вам Преспокойно и продолжит, Побеседовав с вами, свой спектакль. Не говорите, однако: этот человек Не артист. Воздвигая такое средостение Между собой и остальным миром, вы только Отделяете себя от мира. Если вы не называете Этого человека артистом, то он вправе не назвать Вас людьми, а это было бы куда худшим упреком. Скажите лучше: Он артист, ибо он человек. Мы Сможем сделать то, что он делает, совершенней и Снискать за это уважение, но то, что мы делаем, Есть нечто всеобщее и человеческое, ежечасно Происходящее в уличной сутолоке, почти столь же Необходимое и приятное человеку, как пища и воздух! Ваше театральное искусство Приведет вас назад, в область практического. Утверждайте, что наши маски Не являются ничем особенным, это просто маски. Вот продавец кашне Напяливает жесткую круглую шляпу покорителя сердец, Хватает тросточку, наклеивает Усики и делает за своей лавчонкой Несколько кокетливых шажков, показывая Замечательное преображение, которое, Не без помощи кашне, усиков и шляп, Оказывает волшебное воздействие на женщин. Вы скажете, что и наши стихи Тоже не новость: газетчики Выкрикивают сообщения, ритмизуя их, тем самым Усиливая их действие и облегчая себе многократное Их повторение! Мы Произносим чужой текст, но влюбленные И продавцы тоже заучивают наизусть чужие тексты, и как часто Цитируете вы изречения! Таким образом, Маска, стих и цитата оказываются обычными явлениями, необычными же: Великая Маска., красиво произнесенный стих И разумное цитирование. Но чтобы не было никаких недоразумений между нами, Поймите: даже когда вы усовершенствуете То, что проделывает этот человек на перекрестке, вы сделаете меньше, Чем он, если вы Сделаете ваш театр менее осмысленным, менее обусловленным событиями, Менее вторгающимся в жизнь зрителей и Менее полезным.Радость начала Перевод Е. Эткинда
О радость начала! О раннее утро! Первая травка, когда ты, казалось, забыл, Что значит зеленое! Радость от первой страницы Книги, которой ты ждал, и восторг удивления! Читай не спеша, слишком скоро Часть не прочтенная станет тонка! О первая пригоршня влаги На лицо, покрытое потом! Прохлада Свежей сорочки! О начало любви! И отведенный взгляд! О начало работы! Заправить горючим Остывший двигатель! Первый рывок рычага И первый стрекот мотора! И первой затяжки Дым, наполняющий легкие! И рожденье твое, Новая мысль!О критическом отношении Перевод Б. Слуцкого
Критическое отношение Некоторые считают бесплодным. Это потому, что в государстве Ихней критикой многого не достигнешь. Но то, что считают бесплодной критикой, На самом деле слабая критика. Критика оружием Может разгромить и государство. Изменение русла реки, Облагораживание плодового дерева, Воспитание человека, Перестройка государства — Таковы образцы плодотворной критики И к тому же Образцы искусства.Спектакль окончен Перевод В. Куприянова
Спектакль окончен. Сыграна пьеса. Медленно Опорожняется вялая кишка театра. В своих уборных Стирают румяна и пот пройдошистые продавцы Смешанной в спешке мимики, сморщенной риторики. Наконец Освещение сходит на нет, которое жалкую Разоблачало халтуру, и погружается в сумерки Прекрасная пустота поруганной сцены. В пустом, Слегка еще дурно пахнущем зале сидит наш добрый Драмодел, ненасытный, пытается он Вспомнить все про себя.Правдивая история о крысолове из Гамельна Перевод Ю. Левитанского
Крысолов из города Гамельна — Это в Гамельне знает любой — Он тысячу, если не больше, детей Своей дудкой увлек за собой. Он долго играл, их сердца смутив, — Это был превосходный мотив. Крысолов из города Гамельна, С малышами пустился он в путь, Чтоб место для них на земле подыскать Поприличней какое-нибудь. Он долго играл, их сердца смутив, — Это был превосходный мотив. Крысолов из города Гамельна, А в какие он вел их места? Но дети взволнованы были меж тем, И, по-видимому, неспроста. Он долго играл, их сердца смутив, — Это был превосходный мотив. Крысолов из города Гамельна, Когда вышел из города он, Отменной игрою своей, говорят, Он и сам уже был покорен. Я долго играю, сердца их смутив, — Превосходный это мотив. Крысолов из города Гамельна, Далеко не сумел он уйти — Он сбился с дороги, в горах заплутав, И вернулся к началу пути. Слишком долго играл он, сердца их смутив, — Слишком был превосходен мотив. Крысолов из города Гамельна Был повешен, все знают о том, А все же о дудке, о дудке его Говорилось немало потом. Он долго играл, их сердца смутив, — Это был превосходный мотив.Лошадь Руусканена Перевод Е. Эткинда
Когда третья зима всемирного кризиса наступила, Крестьяне под Нивалой валили лес, как обычно. И, как обычно, низкорослые лошадки Волочили бревна к реке, но в этом году Они получили за бревно всего пять финских марок, то есть столько, Сколько стоит кусок мыла. Когда наступила четвертая весна всемирного кризиса, Были проданы с молотка дворы тех, кто не уплатил осенью налогов. Те же, кто уплатил, не могли купить овса лошадям, Необходимым для всех работ — полевых и лесных, — И у лошадей торчали ребра, чуть ли не протыкая Шкуру, лишенную блеска. И тогда пристав из Нивалы Пришел к мужику Руусканену на поле и сказал Важно: «Разве ты не знаешь, что есть закон, Воспрещающий мучить животных. Взгляни на твою лошадь. Ребра Торчат у нее из-под шкуры. Эта лошадь Больна, ее надо зарезать». Сказал и пошел. Но три дня спустя, Проходя мимо, он снова увидал Руусканена Со своим тощим конем на своем крохотном поле, словно Ничего не случилось, и не было закона, и не было пристава. Озлясь, Он послал двух жандармов с строжайшим приказом Отобрать у Руусканена лошадь и Немедленно отвести подвергавшееся издевательствам животное К живодеру. Жандармы же, волоча за собой лошадь Руусканена По деревне, увидели, когда оглянулись, Что из всех домов высыпают крестьяне и бегут Следом за лошадью, и на краю деревни Они неуверенно остановились, и крестьянин Нисканен, Смирный мужик, приятель Руусканена, высказал предложенье: Соберут они, дескать, всем миром, немного овса Для этой лошади, и тогда ее резать не надо. Так что жандармы привели к животнолюбивому приставу Не лошадь, а крестьянина Нисканена, носителя радостной вести, Спасительной для лошади Руусканена. «Слушай, пристав, — Так он сказал, — эта лошадь не больна, Она просто не ела, а Руусканен Без своей лошади с голоду помрет. Зарежь его лошадь, И вскоре придется зарезать хозяина. Так-то вот, пристав». «Как ты со мной говоришь? — сказал пристав. — Лошадь Больная, закон есть закон, и потому ее зарежут». Угрюмо вернулись Вместе с Нисканеном в деревню оба жандарма, Вытащили у Руусканена из конюшни лошадь Руусканена, Собрались волочить ее к живодеру, но, Подойдя к краю деревни, увидали, что там пятьдесят Мужиков стоят, как гранитные глыбы, и смотрят Молча на обоих жандармов. Молча Оставили оба клячу у края деревни. По-прежнему молча Крестьяне Нивалы повели клячу Руусканена Назад, в конюшню. «Это мятеж!» — сказал пристав. Через день Поездом из Оулу прибыло десять жандармов С винтовками — в Нивалу, Окруженную цветущими полянами, чтобы только доказать, Что закон есть закон. В этот день каждый Мужик снял с гвоздя, вбитого в чистую стену, Ружье, висевшее рядом с ковриком, Где вышиты были изречения из Библии, — старое ружье, От гражданской войны 1918 года. Оно было выдано Против красных. Теперь Его повернули против десяти жандармов Из Оулу. Уже в тот же вечер Триста крестьян, пришедших из многих окрестных Деревень, окружили дом пристава На холме близ церкви. Несмелой походкой Вышел пристав на крыльцо, поднял белую руку И сладко заговорил о лошади Руусканена, суля Оставить ее в живых, но крестьяне Говорили уже не о лошади Руусканена, — они требовали Прекращения продаж с молотка и отмены Налогов. Напуганный до смерти, Пристав побежал к телефону, потому что крестьяне Забыли не только о том, что есть закон, но и о том, Что есть телефон в доме пристава, и он передал В Хельсинки ко телефону свой вопль о помощи, и в ту же ночь Из Хельсинки, столицы, на семи автобусах Прибыли двести солдат, вооруженных пулеметами, во главе С броневиком. И эта военная сила Одолела крестьян — их пороли в Народном доме. Суд в Нивале приговорил зачинщиков К полутора годам тюрьмы, чтобы в Нивале был Восстановлен порядок. Изо всех виновных Была помилована только лошадь Руусканена Вследствие личного вмешательства государственного министра, На основании многочисленных петиций.1941
Научи меня Перевод К. Богатырева
Когда я был юн, для меня по моей просьбе Вырезали ножом на деревянной доске и разрисовали тушью Портрет старика, скребущего покрытую коростой грудь. Взгляд его был преисполнен мольбы и надежды на поученье. Но другой доски, что должна была висеть рядом с первой, С изображением молодого человека, поучающего старика, Так для меня и не сделали. Когда я был юн, я надеялся Найти старика, согласного, чтоб его поучали. Когда я состарюсь, меня, я надеюсь, Найдет молодой человек, Согласный меня поучать.Тайфун Перевод К. Богатырева
Во время бегства от маляра в Соединенные Штаты Мы внезапно заметили, что наш маленький корабль стоит на месте. Всю ночь и весь день Он стоял неподвижно на уровне Луцона в Китайском море. Некоторые говорили, что виною тому — тайфун, свирепствующий на севере, Другие опасались немецких пиратов. Все Предпочитали тайфун немцам.1941
После смерти моей сотрудницы М. Ш Перевод В. Куприянова
1
На девятый год бегства от Гитлера, Изнуренная скитаниями, Холодом, голодом зимней Финляндии, Ожиданием визы на другой континент, Умерла товарищ Штеффин{95} В красной столице Москве.2
Погиб мой генерал, Погиб мой солдат. Ушел мой ученик, Ушел мой учитель. Умер мой опекун, Умер мой подопечный.3
Когда час наступил и не столь уж непреклонная смерть, Пожав плечами, мне показала пять истлевших легочных долей, Бессильная жизнь залатать шестой, последней, Я поспешно собрал пятьсот поручений, Дел, которые надо исполнить тотчас и завтра, в грядущем году И в ближайшее семилетие, Задал множество важных вопросов, которые Разрешить могла лишь она, умирающая. И, поглощенная ими, Она легче приняла смерть.4
В память хрупкой моей наставницы. Ее глаз, пылавших синим гневным огнем, Ее поношенной накидки, с большим Капюшоном, с широким подолом, я переназвал Созвездие Ориона в созвездие Штеффин. Глядя теперь в небо и грустно покачивая головой, Я временами слышу слабеющий кашель.5
Руины. Вот еще деревянная шкатулка для черновиков, Вот баварские ножички, конторка, грифельная доска, Вот маски, приемничек, воинский сундучок, Вот ответы, но нет вопрошающего. Высоко над деревьями Стоит созвездие Штеффин.1941
На самоубийство изгнанника В. Б Перевод В. Корнилова
{96}
Я слышал, ты поднял на себя руку, Чтобы не дать палачу работы. Восемь лет в изгнании наблюдая, как крепнет враг, Ты последней не одолел границы И земной перешел рубеж.{97} Рушится Европа. В главы государств Выходят главари бандитских шаек. Столько оружия, что людей не видно. Будущее объято тьмой, а силы Добра ослаблены. Ты это понял И добил свое измученное тело.1941
Размышляя про ад Перевод Б. Слуцкого
Размышляя, как я слышал, про ад, Мой брат Шелли решил, что это место Похоже приблизительно на город Лондон. Я, Живущий не в Лондоне, но в Лос-Анджелесе, Размышляя про ад, нахожу, что еще больше Он должен походить на Лос-Анджелес. И в аду, Несомненно, есть такие же пышные сады С цветами размером с дерево, правда, вянущими Мгновенно, если их не полить Весьма дорогой водой. И фруктовые рынки С завалами плодов, впрочем, Лишенных запаха и вкуса. И бесконечные Колонны автомобилей, которые Легче своих же теней, быстрее Глупых мыслей — сверкающие лимузины, А в них розовые люди, пришедшие из ниоткуда, едущие в никуда И дома, построенные для счастливых и поэтому Пустые, даже когда заселены. И в аду не все дома уродливы. Но страх быть выброшенным на улицу Снедает обитателей вилл не меньше, Чем обитателей бараков.Сонет в эмиграции Перевод Е. Эткинда
Я, изгнанный на ярмарку, бреду, Живой среди живоподобных мумий; Кому продать плоды моих раздумий? Бреду по старым камням, как в бреду, По старым камням, вытертым до блеска Шагами безнадежных ходоков. Мне «spell your name»[3] твердят из-за столов, Ах, это «name» звучало прежде веско! И слава богу, если им оно Неведомо, поскольку это имя Доносом обесчещено давно. Мне приходилось толковать с такими; Они правы, что, судя по всему. Не доверяют рвенью моему.Дела в этом городе таковы Перевод Б. Слуцкого
Дела в этом городе таковы, что Я веду себя так: Входя, называю фамилию и предъявляю Бумаги, ее подтверждающие, с печатями, Которые невозможно подделать. Говоря что-либо, я привожу свидетелей, чья правдивость Удостоверена документально. Безмолвствуя, придаю лицу Выражение пустоты, чтобы было ясно, Что я ни о чем не думаю. Итак, Я не позволю никому попросту доверять мне. Любое доверие я отвергаю. Так я поступаю, зная, что дела в этом городе таковы, что Делают доверие невозможным. Все-таки временами, Когда я огорчен или отвлечен, Случается, что меня застигают врасплох Вопросами: не обманщик ли я, не соврал ли я, Не таю ли чего-нибудь? И тогда я по-прежнему теряюсь, Говорю неуверенно и забываю Все, что свидетельствует в мою пользу, И вместо этого испытываю стыд.Детский крестовый поход Перевод Д. Самойлова
В Польше, в тридцать девятом, Большая битва была, И множество градов и весей Она спалила дотла. Сестра потеряла брата, Супруга — мужа-бойца, Ребенок бродил в руинах Без матери, без отца. Из Польши не доходили Газеты и письма до нас. Но по восточным странам Престранный ходит рассказ. В одном восточном местечке Рассказывали в тот год О том, как начался в Польше Детский крестовый поход. Там шли голодные дети, Стайками шли весь день, Других детей подбирая Из выжженных деревень. От этих лютых побоищ И от напасти ночной, Они хотели укрыться В стране, где мир и покой. Там был вожак малолетний, Он в них поддерживал дух И, сам не зная дороги, О том не сетовал вслух. Тащила с собой трехлетку Девчонка лет десяти, Но и она не знала, Где будет конец пути. Там в бархатной детской блузе Еврейский мальчонка шел, Привыкший к сдобному хлебу, Себя он достойно вел. Был там также и пес, Пойманный на жаркое, Но пес стал просто лишний едок, Кто б мог совершить такое! Была там также школа, И мальчишка лет восьми Учился писать на взорванном танке И уже писал до «ми…». Была здесь любовь. Пятнадцать Ему и двенадцать ей. Она его чесала Гребеночкой своей. Любовь недолго длилась. Стал холод слишком лют. Ведь даже и деревья Под снегом не цветут. Там мальчика хоронили В могиле средь мерзлой земли. Его несли два немца, И два поляка несли. Хоронили мальчика в блузе Протестант, католик, нацист, И речь о будущем произнес Маленький коммунист. И были надежда и вера, Но ничего поесть, И пусть не осудят, что крали они У тех, у кого есть. И пусть за то, что не звал их к столу, Никто не бранит бедняка. Ведь для пятидесяти нужна Не жертва, а мука. Шли они больше к югу, Где в полдень над головой Солнышко стоит Как добрый часовой. Нашли в бору солдата, Раненного в грудь, Выхаживали, надеясь, Что он им укажет путь. Сказал он: ступайте в Билгорей! Он, видно, был сильно болен. И умер через восемь дней, И тоже был похоронен. Там были дорожные знаки, Но их замели снега, И они показывали туда, Где не было ни следа. И это никто не сделал со зла, Так было нужно войне. И они пытались искать Билгорей, Но не знали — в какой стороне. И они столпились вокруг вожака Среди ледяной округи. И он ручонкой махнул и сказал: «Он должен быть там, на юге!» Однажды они увидали костры, Но к ним не подошли. Однажды три танка мимо прошли, Кого-то они везли. Однажды город вдали возник, И тогда они сделали крюк, Потому что людей и людское жилье Обходили за десять округ. Пятьдесят пять их было в тот день В юго-восточной Польше, Когда большая пурга мела. И их не видели больше. Едва глаза закрою — Вижу снежный покров, Вижу их, бредущих Меж выжженных хуторов. Над ними в облачном небе Я вижу новые стаи! Бредут они против ветра, Пути и дороги не зная, В поисках мирного края, Где нет ни огня, ни грома, Несхожего с их страною, — И вереница огромна. И кажется мне сквозь сумрак, Что это из страшной сказки: И множество лиц я вижу: Желтых, французских, испанских. В том январе в Польше Поймали пса, говорят, У него на тощей шее Висел картонный квадрат. На нем написано: «Дальше мы Не знаем пути. Беда! Нас здесь пятьдесят пять, Вас пес приведет сюда. А если не можете к нам прийти, Гоните его прочь, Но не стреляйте: ведь он один Может нам помочь». Надпись сделана детской рукой. Кто-то прочел, пожалел. С тех пор полтора года прошло. И пес давно околел.1941
Немецким солдатам на Восточном фронте Перевод Арк. Штейнберга
1
Был бы вместе с вами я, братья, В снежных просторах восточных, одним из вас, Одним из бесчисленных тысяч, средь грузных стальных катафалков, Я говорил бы, как вы говорите: конечно, Должна же сыскаться для нас дорога домой. Только, братья, милые братья, Под каской, под черепною коробкой, Знал бы я твердо, как знаете вы: отсюда Возврата нет. На карте, в атласе школьном, Дорога к Смоленску короче Мизинца фюрера. Здесь же, В снежных просторах, она так длинна, Очень длинна, слишком длинна… Снег не держится вечно — лишь до весны. И человек не в силах вечно держаться. Нет, до весны Он продержаться не может. Итак, я должен погибнуть. Я это знаю. В камзоле разбойничьем должен погибнуть, Погибнуть в рубахе убийцы, Один из многих, один из тысяч, Как разбойник, затравлен, как поджигатель, казнен.2
Был бы вместе с вами я, братья, Бок о бок с вами трусил бы рысцой по снегам, — Я тоже бы задал вопрос, ваш вопрос: для чего Забрел я в пустыню, откуда Нет возвратных путей? Зачем на себя я напялил одежду громилы, Камзол поджигателя, рубаху убийцы? Не с голоду же И не из жажды убийства, нет! Лишь потому, что я был холуём И мне, как слуге, приказали. Выступил я для разбоя, убийств, поджогов И ныне буду затравлен, И ныне буду казнен.3
За то, что вломился я В мирный край крестьян и рабочих, В край справедливого строя и круглосуточной стройки, Вломился, ногами топча, железом давя поля и селенья, Круша мастерские, мельницы и плотины, Оскверняя занятия в школах бессчетных, Нарушая ход заседаний неутомимых Советов, — За это я должен издохнуть, как злобная крыса, Прихлопнутая мужицким капканом.4
Дабы очистить могли Лицо Земли От меня — проказы! Дабы на века поставить могли Меня примером: как должно казнить Убийц и разбойников И холопов убийц и разбойников.5
Дабы матери молвили: нету у нас детей. Дабы дети молвили; нету у нас отцов. Дабы молчали могильные холмики без имен и крестов.6
И мне не увидеть боле Страны, откуда пришел я, Ни баварских лесов, ни горных кряжей на юге, Ни моря, ни пустоши бранденбургской, ни сосен, Ни виноградных склонов у франконской реки — Ни на рассвете сером, ни в полдень, Ни в смутных вечерних сумерках. Мне городов не видеть, ни местечка родного, Ни верстака, ни горницы, Ни скамьи. Всего этого я не увижу боле. И ни один из тех, кто был со мною, Этого не увидит боле. Ни ты, ни я, никто Голосов наших жен не услышит, ни голосов матерей, Ни шепота ветра в трубах отчего дома, Ни веселого шума, ни горького на площадях городских.7
Нет, я в нынешнем сгину году, Никем не любим, не оплакан, Безмозглый прислужник военной машины. Наученный лишь в последние миги, Натасканный лишь для убийства, Оплаканный лишь мясниками. Я буду лежать в земле, Разоренной мною, Жалкий вор, которого некому пожалеть. Вздох облегченья проводит в могилу меня. Ибо что же в ней будет погребено? Центнер полуистлевшего мяса в искалеченном танке, Насквозь промороженный сохлый куст, Вышвырнутое на лопате дерьмо, Ветром развеянное зловонье.8
Был бы вместе с вами я, братья, На возвратной дороге к Смоленску, От Смоленска назад, в никуда, — Думал бы то же, что вы, ведал бы твердо Под каской, под черепною коробкой, Что зло — отнюдь не добро, Что дважды два — четыре И что издохнут все, кто поплелся за ним, За кровавым барбосом, За дурнем кровавым. За ним, не знавшим, что долог путь до Москвы, Очень долог, слишком долог, Что зима на Востоке сурова, Очень сурова, слишком сурова, Что труженики новой державы Станут сражаться за землю свою, за свои города, Пока мы все не погибнем.9
Погибнем — среди лесов, у замолкших орудий, Погибнем на улицах и в домах, Под гусеницами у дорожных обочин, Погибнем от рук мужчин, женщин, детей, От голода, от стужи ночной. Погибнем все до последнего, Сегодня погибнем или завтра утром, И я, и ты, и наш генерал — все, Кто пришел сюда разорить Созданное людьми труда.10
Ибо так нелегко обработать землю, Ибо стоит такого пота выстроить дом, Балки тесать, план начертить, Стены воздвигнуть, крышу накрыть. Ибо так велика усталость была и была надежда так велика. Тысячелетьями только смеялись При виде творений людских, обращенных в руины. Отныне и впредь на всех континентах запомнят и скажут: Нога, истоптавшая борозды пахарей новых, Отсохла. Рука, что посмела подняться на здания градостроителей новых, Обрублена.1942
Везде друзья Перевод К. Богатырева
Финские рабочие Дали ему постель и письменный стол, Писатели Советского Союза посадили его на корабль, Еврейский бельевщик из Лос-Анджелеса Прислал ему костюм: враг живодеров Обрел друзей.Чтение газеты у плиты Перевод Е. Эткинда
По утрам я читаю в газетах об эпохальных планах Пап и королей, банкиров и нефтяных магнатов. Другим глазом я слежу За водой для чая: Как она мутится, закипает, и снова проясняется, И, переливаясь через край, гасит огонь.Письмо драматургу Одетсу Перевод И. Фрадкина
{98}
Товарищ, В своей пьесе «Потерянный рай» ты показываешь, Что семьи эксплуататоров Разлагаются. Ну и что с того? Возможно, что семьи эксплуататоров В самом деле разлагаются. А если бы они не разлагались? Разлагаясь, они перестают, что ли, эксплуатировать или Нам приятнее быть эксплуатируемыми Не разложившимися эксплуататорами? Может быть, голодному Следует и дальше голодать, если тот, кто Вырывает у него кусок хлеба, — здоровый человек? Или ты хочешь сказать, что наши угнетатели Уже ослабели? И нам остается лишь Спокойно ждать сложа руки? Послушай, товарищ, Такие картинки нам уже малевал наш маляр, А проснувшись наутро, мы испытали на себе Силу наших разложившихся эксплуататоров. Или, может быть, тебе их жалко? Уж не следует ли нам, Глядя на клопов, выкуриваемых из щелей, Проливать слезы? Неужели же ты, товарищ, Испытывающий сострадание к голодным, можешь также Чувствовать сострадание и к обожравшимся?Голливуд Перевод Е. Эткинда
Чтобы заработать себе на хлеб, я каждое утро Отправляюсь на рынок, где торгуют ложью. Уповая на успех, Я становлюсь посреди продавцов.1942
Маска злого духа Перевод Е. Эткинда
На стенке висит японская скульптура — Резная из дерева маска злого духа, расписанная золотым лаком. Я сочувственно рассматриваю Набухшие вены на лбу, свидетельствующие, Как это тяжко и трудно — быть злым.1942
Выложи товар! Перевод А. Эппеля
Снова и снова, Рыская по вашим городам В поисках пропитания, Я слышу: — Покажи, что в тебе есть! Карты на стол! Выложи товар! Воодушеви нас речами! Расскажи о нашем величье! Разгадай наши тайные желания! Укажи выход, приноси пользу! Выложи товар! Стань в наши ряды, Дабы возвышаться над нами. Докажи, что ты один из нас, И мы назовем тебя Лучшим. Мы хорошо заплатим, у нас имеются средства! Никто, кроме нас, не способен на это. Выложи товар! Помни — наши великие пророки Пророчат пророчества, угодные нам! Властвуй, обслуживая нас! Существуй, обеспечивая наше существование! Действуй с нами заодно, мы поделим добычу! Выложи товар! Будь с нами честен! Выложи свой товар! Когда я гляжу на ваши протухшие лица, У меня пропадает аппетит.1942
Ежедневно Красная Армия наступает Перевод В. Куприянова
«Оборона» — это слово раскатывается над миром. Радиообозреватели Вылавливают дурные намерения из речей маляра. Министры и генералы отмечают на карте Угрожаемые участки. Суда с боеприпасами Тонут на пути к поверженным крепостям. Ежедневно Красная Армия наступает.Доброе дело Перевод К. Богатырева
Мотопехота в третий раз С бою взяла телефонную станцию. Храбрость солдат беспредельна. Резня колоссальна. Но больше Отвага тех, кто отказывается Выполнить приказ.Песня немецкой матери Перевод Е. Эткинда
Мой сын, я коричневую рубашку Подарила тебе и пару сапог. Кабы знала я все, что знаю теперь, Я б повесилась, видит бог. Мой сын, я слыхала твой возглас «хайль», Резкий гортанный крик. Я не знала, что у кричащего так Должен отсохнуть язык. Мой сын, ты твердил, что раса героев Мир очистит огнем и мечом. Я не знала, не думала, не понимала, Что ты у них был палачом. Мой сын, я видала — за Гитлером следом Ты шагал, послушный солдат, И не знала, что тот, кто шагает за ним, Никогда не придет назад. Мой сын, ты твердил мне о новой стране? Не узнать, мол, Германию в ней! Я не знала, что станет Германия грудой Золы и кровавых камней. Носил ты коричневую рубашку И был мне дорог и мил. Я не знала того, что знаю теперь: Это твой саван был.1942
Обреченные поколенья Перевод Е. Эткинда
Бомбардировщики еще не появлялись над нами, А уже наши города Были необитаемы. Никакая Канализация не спасала их от нечистот. Мы еще не пали в бесчисленных битвах, А уже наши дети, Бродившие среди домов, которые еще не стали руинами, Были сиротами, и вдовами — жены. Нас еще не сбросили в яму другие, Обреченные тоже, а у нас уже не было друга! То, что на каждом из нас съела известь, Уже не могло называться лицом.1943
Новые времена Перевод К. Богатырева
Новые эпохи начинаются не сразу. Мой дед уже застал новое время, Мой внук еще будет жить в старом. Свежее мясо едят старыми вилками. Не с самоходных орудий все началось И не с танков. Не с самолетов над нашими крышами И не с бомбардировщиков. Новые антенны излучали старые глупости. Мудрость передавалась из уст в уста.Возвращение Перевод Е. Эткинда
Родной мой город, каким я его найду? Вслед за стаями бомбардировщиков Я возвращаюсь домой. Где же он? Там, где вздымаются Исполинские горные хребты дыма. Там, в этом море огня, Город мой. Родной мой город, как он встретит меня? Впереди меня летят бомбардировщики. Эскадрильи смерти Вам возвещают мой приход. Языки огня Предшествуют возвращению сына.1943
Все снова и снова Перевод Е. Эткинда
Все снова и снова в гуще резни Стоит человек: он раздирает рубаху На полосы — перевязать человека. От побережья, от своих домов Тянутся желтые люди в мертвые лагеря.{99} А из толпы, теснящейся у дороги, Раздается возглас: — Бодритесь! Это не навсегда! Разрушителям их изб, Взятым в плен Зимнею битвой, Советские крестьянки протягивают каравай; — Ешь, бедолага! Палачи, свирепея, бушуют. А жертвы о них говорят; — Жалко несчастных. Чужака угощают. Новичку помогают советом. Поверженному помогают подняться. Все снова и снова — Даже в такое время, как наше.1943
Демократический судья Перевод Б. Слуцкого
В Лос-Анджелесе перед судьей, экзаменовавшим людей, Которые хотели получить гражданство Соединенных Штатов, Предстал содержащий ресторан итальянец. После серьезной подготовки, К сожалению, затрудненной для него незнанием государственного языка, Он ответил на экзаменационный вопрос: «Что гласит восьмая поправка к Конституции?» — неуверенно: «Тысяча четыреста девяносто два». Как и предписывает Закон о том, что желающие стать гражданами должны знать Государственный язык, ему было отказано. Через три месяца, Проведенных в дальнейших занятиях, Правда, все еще затрудненных незнанием государственного языка, Он пришел снова, и на этот раз ему был предложен вопрос: «Какой генерал победил в гражданской войне?» Он ответил: «Тысяча четыреста девяносто два» (это было сказано громко и приветливо). Отосланный вновь и придя в третий раз, он ответил На третий вопрос: «На сколько лет избирается президент?» — Снова: «Тысяча четыреста девяносто два». И вот Судья, которому этот человек понравился, понял, Что он никогда не сможет изучить государственный язык, справился, Как ему живется, и узнал, что он тяжело работает, вследствие чего При четвертом заходе судья предложил ему вопрос: «Когда Была открыта Америка?» — и на основании его совершенно правильного ответа: «Тысяча четыреста девяносто два», — предоставил ему гражданство.Поливка сада Перевод Е. Эткинда
Полить сад, чтобы освежить зелень! Напоить жаждущие деревья! О, не жалей влаги И не забудь о кустах, не забудь Также о тех, которые не приносят плодов, об измученных, Жадных. И не забудь О сорняках, пробившихся между цветами, они Тоже хотят пить. Поливай не только Свежую траву и траву, обожженную солнцем: Освежи и сухую голую землю.1943
Общие воспоминания Перевод В. Корнилова
В ниборгской шлюпке рассветы… Финский рейд зарею омыт… Луковый суп и газеты… Нью-Йорк, Фифти-Севен-стрит… Парижские заседанья… Свендборг и Валенбек… Дождь на палубе «Анни Ионзон». И в Лондоне снег… Над палаткой деревьев купы… Малербак на заре ненастной… О, знамя рабочей труппы В предместье столицы датской!1943
«Плащ еретика»
Добровольные сторожа Перевод К. Богатырева
Благодаря моим литературным трудам Я обрел несколько сторожей-добровольцев. Они за мною следят в этом городе купли-продажи. Дорогие дома и дома в экзотическом стиле — Не для меня. Некоторых людей Я могу видеть, только представив Доказательство, что у меня к ним дело. Пригласить их к своему столу Мне запрещено. Когда я осмелился Заговорить о покупке изящного стола, Мне в ответ рассмеялись в лицо. Если б мне взбрело Купить пару брюк — я бы, наверно, услышал: Тебе, что ли, мало одной? Так следят за мною они в этом городе, Чтобы право иметь сказать: Нам известен один неподкупный.Другу стихотворцу Перевод Б. Слуцкого
О той стране, чьим воздухом не дышишь — Для нас запретен он, — на языке, еще нам И посейчас не вовсе запрещенном, Ты с ненавистью и любовью пишешь, Как о любимой, что соперник подлый Увел при помощи интриг бездушных. То вспомнишь губы, те, что лаской полны, То жаркий аромат подмышек душных. К строке ты снова прибавляешь строку, Чтобы скорей закончить эту стройку, Огни домов опять зажечь во мгле. Но не к стране ты тянешься рукою, К воспоминанью — лишь оно такое. Ты ходишь по словам, не по земле.Наступление дня Перевод К. Богатырева
Недаром Наступление нового дня Предвещается пением петуха — Предательства древним знаком.Письма о прочитанном Перевод Е. Эткинда
Гораций. Послания,
книга II, послание I
1
Поберегитесь вы, Воспеватели Гитлера! Я, видевший колонны демонстрантов в мае И октябре на Красной площади, Видевший лозунги их транспарантов, а также Громыхавшие по рельсам Рузвельтовой дороги у Тихого океана Цистерны с нефтью и платформы, где Громоздилось по пяти грузовиков, — я знаю, Что он скоро умрет и, умерев, Переживет свою славу, но Если бы даже он вытравил жизнь на земле, Захватив ее всю, то и тогда бы Ни одна прославляющая его Песня не осталась. Правда, Крик страдания даже целых материков Слишком скоро угасает и не может Заглушить гимны в честь мучителя. Правда, И у воспевателей злодейств Звучные голоса. И все же Песнь умирающего лебедя прекрасней: он Поет, не ведая страха. В маленьком садике в Санта-Моника{100} Читаю под перечным деревом, Читаю Горация — о некоем Варии, Воспевшем Августа, или, вернее, все то, Чем Цезарь был обязан удаче — его полководцев И развращенность римлян. Лишь маленькие отрывки, Приведенные в чужом сочинении, говорят Об искусном владенье стихом. Но ради этого Не стоило тратить труда На долгое списывание.2
С удовольствием читаю о том, Как Гораций возводит Сатурнов стих{101} К крестьянским побасенкам, Не щадившим высоких родов, пока Полиция не наложила запрета На злые песни, после чего Насмешникам пришлось создавать Более благородное искусство и насмехаться В более изысканной форме. Так, по крайней мере, Я понял это место.Осуждение античных идеалов Перевод В. Куприянова
Дутая честь — что мы имеем в итоге? Что ты оставил нам, непоколебимый старик? Почти не поношенные имперские тоги, С которых кто-то содрал торговый ярлык? О эта тупость величия древних преданий, Долготерпенья каменный вдавленный след, Покорность под гнетом вполне устранимых страданий, Вечная вера в неустранимость бед! Тех, кто вашу судьбу свысока назначает заранее, Вы зовете богами, и, значит, во всем вы правы? О невозмутимость, о это тупое молчанье, Что бы с вами ни делали и что бы ни делали вы. Ты, который удар переносишь без сопротивленья, Ты, который от полных столов голодный идешь, Ты, который все понял, поэтому полон прощенья, Ты, который гибнешь в огне и глупую песню поешь, Ты, который с вечным своим согласился позором, Ты, далекий от мыслей даже: бороться, восстать! Знай, под смертным твоим приговором Наши жестокие подписи тоже будут стоять.Я, выживший Перевод Б. Слуцкого
Я, конечно, знаю: единственно по счастливой случайности Я пережил стольких друзей. Но прошлой ночью во сне Я слышал, как эти друзья говорили про меня: «Выживают сильнейшие». И я ненавидел себя.Все меняется Перевод В. Куприянова
Все меняется. Вздох последний Может стать твоим новым рождением. Но что свершилось — свершилось. Воду, Которой ты разбавляешь вино, никогда Из вина ты не выплеснешь. Что свершилось — свершилось. Воду, Которой ты разбавляешь вино, никогда Из вина ты не выплеснешь. Все же Все меняется. Вздох последний Может стать твоим новым рождением.Бараний марш Перевод Арк. Штейнберга
(Из пьесы «Швейк во второй мировой войне»)
{102}
Шагают бараны в ряд, Бьют барабаны, — Кожу для них дают Сами бараны. Мясник зовет. За ним бараны сдуру Топочут слепо, за звеном звено, И те, с кого давно на бойне сняли шкуру, Идут в строю с живыми заодно. Они поднимают вверх Ладони к свету, Хоть руки уже в крови, — Добычи нету. Мясник зовет. За ним бараны сдуру Топочут слепо, за звеном звено, И те, с кого давно на бойне сняли шкуру, Идут в строю с живыми заодно. Знамена горят вокруг, Крестища повсюду, На каждом — здоровый крюк Рабочему люду. Мясник зовет. За ним бараны сдуру Топочут слепо, за звеном звено, И те, с кого давно на бойне сняли шкуру, Идут в строю с живыми заодно.Что получила жена солдата?… Перевод Е. Эткинда
(Из пьесы «Швейк во второй мировой войне»)
Что получила в посылке жена Из древнего города Праги? Из Праги прислал он жене башмаки. Нарядны, легки Ее башмаки Из древнего города Праги. А что получила в посылке жена Из польской столицы Варшавы? Из Варшавы прислал он рулон полотна. Рулон полотна Получила жена Из польской столицы Варшавы. А что получила в посылке жена Из города Осло на Зунде? Из Осло прислал он на шапочку мех. Разве у всех На шапочке мех Из города Осло на Зунде? А что получила в посылке жена Из богатого Роттердама? Шляпку прислал он, вступив в Роттердам. На зависть всех дам Made in Rotterdam[4] — Из богатого Роттердама. А что получила в посылке жена Из бельгийской столицы Брюсселя? Из Брюсселя прислал он жене кружева. В канун рождества Прислал кружева Из бельгийской столицы Брюсселя. А что получила в посылке жена Из сказочного Парижа? Из Парижа прислал он искусственный шелк. Ужасно ей шел Искусственный шелк Из сказочного Парижа. А что получила в посылке жена Из Триполитанского порта? Прислал он жене золотой амулет. Ну что за привет — Золотой амулет Из Триполитанского порта! А что получила в посылке жена Из далекой холодной России? Из России прислал он ей вдовий наряд. Вдовий наряд Прислал ей солдат Для поминок своих — из России.Песня о Влтаве Перевод А. Голембы
(Из пьесы «Швейк во второй мировой войне»)
Течет наша Влтава, мосты омывает, Лежат три монарха в червивых гробах. Порою величье непрочным бывает, А малая малость растет на глазах. Двенадцать часов длится темная темень, Но светлое утро нам явит свой лик. И новое время, всевластное Время Сметает кровавые планы владык. Течет наша Влтава, мосты омывает, Лежат три монарха в червивых гробах. Порою величье непрочным бывает, А малая малость растет на глазах.Прежде Перевод Е. Эткинда
Прежде мне нравилось жить на ветру, Стужа меня веселила. Прежде играл я в такую игру, Что горькое — сладко, что славно и мило, Когда нас любит нечистая сила. Мне в пустоте открывался простор, Глубокой мыслью казался вздор, А сумерки свет проливали. И долго так было? Едва ли. Я сам оказался скор.Отставший Перевод Б. Слуцкого
Битва выиграна, теперь к столу! И тяжелым временам приходит конец. Кто выжил, хватай ложку! Выжили сильные, А слабых кусают собаки. Вставай, изможденный! Силен только тот, кто никого не покинул. Возвращайся снова и снова, ковыляй, ползи, пробивайся, Но приведи отставшего.Германия в 1945 году Перевод К. Богатырева
В доме — чума, На дворе — зима. Куда нам бежать? Свинья в хлеву свинячит. Это мать моя, значит. Ох горе ты, горе, Мать моя, мать.Осень в Калифорнии Перевод Е. Эткинда
1
В моем саду Одни вечнозеленые растенья. Если мне хочется посмотреть на осень, Я еду за город к моим друзьям. И там Могу я минут пять постоять и поглядеть на дерево, С которого облетели листья, и на листья, облетевшие с дерева.2
Я видел большой осенний лист, ветер долго Гнал его по улице, и я думал: «Трудно Вычислить путь, предстоящий листу!»Что чувствует писатель, полагая, что он предан другом Перевод В. Куприянова
Что чувствует сын, когда мать уходит с чужим мужчиной. Что чувствует плотник на крыше, когда вдруг закружится голова, напомнив о возрасте. Что чувствует скульптор, когда не приходит натурщик и не закончен портрет. Что чувствует физик, когда находит ошибку в начале длинной серии опытов. Что чувствует летчик, когда вдруг над горами самолет теряет высоту. Что чувствует — если бы чувствовать мог — самолет, когда летчик ведет его вдребезги пьяный.1945
Войну осквернили Перевод К. Богатырева
По слухам, в высших кругах поговаривают о том, Что вторая мировая война с точки зрения нравственной Ниже высокого уровня первой. Вермахт Будто бы сожалеет о методах, применяемых частями СС При истреблении некоторых народов. Промышленные магнаты Рура Будто бы осуждают кровавые облавы, Обеспечившие их заводы и шахты рабами. А интеллигенция, говорят, возмущена Как фактом применения рабского труда капиталистами, Так и недостойным обращением с рабами. И даже епископы, Как утверждают, не согласны с таким методом ведения войны, Короче, Повсюду царит ощущение, что нацисты Оказывают — увы! — медвежью услугу стране И что войны, Которые сами по себе, конечно, необходимы, Из-за недопустимой И едва ли не бесчеловечной формы ведения этой войны На долгое время дискредитированы.Гордость Перевод К. Богатырева
Когда американский солдат рассказал мне о том, Как упитанные немки из буржуазных семей Продавались за сигареты, а немки попроще — за шоколад, И о том, как неподкупны русские женщины, Изголодавшиеся в немецком рабстве, — Я испытывал гордость.Обращение умирающего поэта к молодым Перевод Е. Эткинда
Вы, молодые грядущих времен и Новых рассветов над городами, которых Еще нет на земле, и вы, Кто еще не родился, внимайте — Слушайте мой голос, голос поэта, Который умер, Не ведая славы, Ушел, Как крестьянин, не вспахавший надела, и Как ленивый столяр, покинувший Свой верстак. Так я Зря растранжирил свой век, расточил свои дни, и теперь Приходится мне вас просить Сказать все несказанное, Сделать все не сделанное, а меня Поскорее забыть, — прошу вас, — чтобы мой Дурной пример не совратил и вас. Ах, почему я сидел За столом с бесплодными, поедая обед, Который они не варили? Ах, почему растворил я Мои лучшие слова В их пустой болтовне? А там, за окном, проходили, Умирая от жажды, Алчущие поученья. Ах, почему Не взлетают песни мои над теми поселками, где Добывают еду городам, где строят суда, почему Не взлетают песни мои Над паровозами, уносящими поезда — как дым, Остающийся в небе? Потому что моя речь Для полезных и созидающих — Словно пепел во рту или шамканье пьяных. Ни единого слова Я не знаю для вас, поколений грядущих времен, Ни на что не могу указать вам Неверным перстом, ибо как Мог бы вам тот указать на дорогу, который Сам по ней не прошел! И вот остается мне, свою жизнь Расточившему, лишь заклинать вас: Не обращайте вниманья ни на один Призыв, исходящий из нашего гнилого рта, Не принимайте Ни одного совета от тех, Кто не выполнил долга, — Сами решайте, В чем благо для вас и что вам поможет Обработать землю, которая при нас поросла бурьяном, А города, где при нас поселилась чума, Сделать пригодными для обитанья.С чувством позора Перевод Б. Слуцкого
{103}
Семь лет мы ели хлеб палача. Семь лет мы ковали для него боевые колесницы. Мы, побежденный народ, лезли вон из кожи, Чтобы побеждать другие народы.Баллада о приятной жизни гитлеровских сатрапов Перевод В. Бугаевского
{104}
Толстяк рейхсмаршал{105} — шут, палач, пройдоха, Безжалостно ограбивший полмира, — Хоть в Нюрнберге и посбавил жиру, Все ж выглядел еще весьма неплохо. «Но что ж питало помыслы его», Вы спросите. Как что? «Немецкий дух»! Не от него ль как боров он разбух? Тут, право, не ответишь ничего! А красть зачем? Да как же не украсть?! Кто при деньгах, тому живется всласть! А Риббентроп? И этот плут прожженный, Шампанским торговавший{106} и собою, Польстившись вдруг на ремесло другое И в Бисмарки ефрейтором крещенный,{107} В искусство дипломатии привнес Пронырливость профессии былой… «Я фюреру был предан всей душой!» За что ж был верен господину пес? Что за вопрос? Видна с изнанки масть!.. Кто при деньгах, тому живется всласть! Был долговязый Шахт версты длиннее. В него, как в пропасть, сыпались без счета Все наши деньги… Что ж, пусть у банкрота Еще длиннее вытянется шея. Но он по-своему был «демократ» И знал, в чем сила: в кошельке большом. И ревностно заботился о нем: «Война огромных требует затрат!» Каких затрат? Всегда в остатке часть! Кто при деньгах, тому живется всласть! Чем грешен Штрайхер? Этого садиста В убийствах обвиняли «беспричинно». Подвержен был он слабости невинной — К погромным пасквилям. Идеей чистой Его писанья были. Не в крови — В чернилах агнец лапки замарал. Он был святым, он верил в идеал И все, что делал, — делал из любви. Какой любви? В карман побольше класть! Кто при деньгах, тому живется всласть! Ла-Кейтель… Он с лакейскою ухмылкой Лизал ефрейтору сапог вонючий. Пройдя по Украине черной тучей, Знаток по части танков и бутылки, Вопит истошно: «Так велел мне долг!» Из чувства «долга» предал он друзей{108} И в душегубках истреблял людей, — Но в этом был совсем особый толк… Какой? Сказать? Себе побольше в пасть. Кто при деньгах, тому живется всласть! Возвышенных полны фантасмагорий, Они средь высей облачных витали, Не грабили, не жгли, не убивали — А с ангелами распевали в хоре. Взгляните: что ни вор — то Лоэнгрин.{109} О, где твой светлый голубь, Парцифаль? Не Ленинград манил их, а Грааль{110}, Валгалла{111} рухнула, а не Берлин… Их пылкая обуревала страсть: Кто при деньгах, тому живется всласть!1946
Анахроничное шествие, или свобода и демократия Перевод С. Кирсанова
{112}
Снова в зону трех держав{113} день весны пришел, кудряв. И из пепла и руин выполз бледный всход один. В это время из-за склона потянулась вдаль колонна; избиратели в ней шли, две доски они несли. Эти стертые скрижали наш закон изображали; были там слова насчет «демократий» и «свобод». Звон покрыл поля и реки; вдовы летчиков, калеки, толпы нищих и сирот жадно смотрят: «Кто идет?» И слепой спросил глухого: — Кто в пыли шагает снова и, крича, сулит народу «демократию», «свободу»? Впереди шагал дурак, он орал примерно так: «Сэв дзы кинг», «Алонзанфан»{114}, будет доллар дан, дан, дан!» Двое в рясах шли в строю и несли хоругвь свою. А под рясой зоркий взор мог заметить пару шпор. Вот и свастика паучья, но с нее убрали крючья: раз такие времена — превратилась в крест она. Брел святой отец меж ними, шпик, слуга того, кто в Риме{115} смотрит, злобен и жесток, с беспокойством на Восток. А за ними — хулиганы, сунув ножики в карманы. Воспевали вслух они сладость будущей резни. Шли владельцы (их патроны) фирм снарядных и патронных. Фирмы требуют «свободы», чтоб поднять свои доходы. Пыжась, как каплун, и чванясь, шел спесиво пангерманец. За «свободу слова», знать, это слово — «убивать!». С ним шагали «педагоги», чьи науки — сплошь подлоги. Молодежь они решили воспитать в тевтонском стиле. Дальше шли врачи-нацисты, им живые ненавистны, и для дел кровавых просят коммунистов им подбросить. Три ученейших лица — душегубок три творца — жаждут для своих «работ» льгот и всяческих свобод. Подняли писаки крик из газетки «Штурмовик»{116}, им нужна свобода ныне для погромной писанины. Дальше — движется особа с волчьей славой юдофоба. Нынче блеет по-овечьи он о праве человечьем. А за ним — ариец бывший, верно Гитлеру служивший; адвокатом хочет стать — за бандитов хлопотать. Чернорыночный торгаш заявляет: «Лозунг наш — все полезно, что доходно! Спекуляции — свобода!» Вот судья, похож на Линча. Он «свободно» судит нынче и смеется: «Захочу — дам свободу палачу!» Музыкант, поэт кудрявый жаждут колбасы и славы. Вместо лиц у них личины — мол, безгрешны и невинны. Вот эсэсовец со стеком, стал он «честным человеком» и куртаж имеет от «демократий» и «свобод». Лига гитлеровских дев марширует, юбки вздев. Загорелыми ногами клянчат шоколад у «ами»{117}. Члены лиги «Сила в благе», «Зимней помощи» деляги, члены ложи «Прусской шпаги», слуги вексельной бумаги, грязь, и кровь, и ложь с подлогом по немецким шли дорогам, изрыгая вопли с ходу: «Демократию! Свободу!» И к изарским берегам подошли. Ведь это там колыбель фашистской власти, главный город всех несчастий{118}. Там уже об этом знали. У ворот, среди развалин, растревоженные люди ждали с ужасом: что будет? И когда, воздев скрижали, в Мюнхене колонны встали — из Коричневого дома{119} вышло шесть особ знакомых. Шесть особ остановились, молча сброду поклонились и, кортеж построив свой, молча двинулись с толпой. В экипажи сели, гляньте, шесть товарищей по банде, двинулись, взывая к сброду: «Демократию! Свободу!» Кнут держа в руке костлявой, проезжает Гнет кровавый, и (подарок от господ) броневик его везет. В танке, прикрывая язвы, едет гнусная Проказа; чтобы скрыть изъяны кожи — бант коричневый на роже. Следом Ложь ползет блудливо с даровым бокалом пива; хочешь даром пиво пить — нужно деток совратить. Вот — проныра из проныр — Глупость, дряхлая как мир, едет, держит две вожжи, не спуская глаз со Лжи. Свесив с кресла нож кривой, важно движется Разбой и поет, смакуя виски, о свободе — по-английски. Наконец, пьяным-пьяна, едет наглая Война. И фельдмаршальским мундиром прикрывает глобус Мира. И шестерка этих сытых, всякой мерзостью набитых, едет нагло и орет: «Демократий и свобод!» Позади шести особ двигался в повозке гроб. Что в гробу — не знал никто и не спрашивал про то. Ветер, из обломков дуя, выл тоскливо отходную занимавшим в дни былые эти зданья. Крысы злые выбегали из развалин и кортеж сопровождали с писком, там вошедшим в моду: «Демократию! Свободу!»1947
Из «Подборки М. Штеффин»
{120}
Весна 1938 Перевод Ю. Левитанского
I
Сегодня, в пасхальное воскресенье, утром Внезапно метель над островом разразилась. Снег лежал меж кустов зеленевших. Мой маленький сын Потащил меня к деревцу абрикосовому возле дома — Прочь от стиха, где на тех я указывал пальцем, Кто готовил войну, которая весь континент, Этот остров, народ мой, семью и меня самого Должна уничтожить. Молча Укутали мы мешком Озябшее деревце.II
Дождевая туча висит над Зундом, но сад покуда Золотится еще под солнцем. На грушевых ветках Листва зеленеет, но нет цветенья, а на вишневых — Нет еще листьев, но цвет появился. Цвет этот белый Словно бы на сухих распускается ветках. По Зунду, по зыбким волнам, проносится быстро Маленькая, с залатанным парусом, лодка. Щебет скворцов весенних Смешался с далеким громом Учений морского флота Третьего рейха.III
В зарослях ивы у Зунда Часто кричит сова весеннею ночью. Согласно крестьянским поверьям, Людей она ставит тем самым в известность, Что век их недолог. Меня же, Знающего о том, что сказал я правду О владыках мира сего, птица смерти могла бы О том и не ставить в известность.Мальчишка, воровавший вишни Перевод Е. Эткинда
Ранним утром, задолго до петухов, Разбудил меня свист, и я подошел к окошку. На моей вишне — сад еще тонул в сумерках — Сидел молодой человек в латаных штанах И весело рвал мои ягоды. Увидев меня, Он мне кивнул головой, обеими руками Срывая вишни с ветвей и набивая ими карманы. Когда я снова улегся в постель, я еще долго слышал, Как он насвистывал свою залихватскую песенку.1938
1940 Перевод Б. Слуцкого
I
Весна пришла. Ласковые ветры Освобождают шхеры от зимнего льда. Народы севера трепеща ожидают Военный флот маляра.II
Из библиотечных зал Выходят мясники. Матери прижимают к себе детей И растерянно вглядываются в небо — Нет ли там научных изобретений.III
Конструкторы горбятся Над чертежами: Одна неверная цифра, и вражеские города Останутся целыми.IV
Туман застилает Дорогу, Тополя, Хутора И артиллерию.V
Я нахожусь на островке Лидингё, Но недавно ночью У меня был кошмар, и мне приснилось, Что я попал в какой-то город И обнаружил, что уличные таблички — Немецкие. Обливаясь потом, Я проснулся, и с облегчением Увидел за окном черную от ночи сосну, и понял: Я на чужбине.VI
Мой юный сын спрашивает меня, учить ли ему математику. Зачем, хотелось мне сказать. То, что два ломтя хлеба больше одного, ты доймешь и так. Мой юный сын спрашивает меня, учить ли ему французский. Зачем, хотелось мне сказать. Это государство гибнет, И, если ты схватишься за живот и застонешь, Тебя поймут и так. Мой юный сын спрашивает меня, учить ли ему историю. Зачем, хотелось мне сказать. Учись не подымать Голову над землей, И, может быть, уцелеешь. Да, говорю я. Учи математику, Учи французский, учи историю!VII
У выбеленной стены Стоит солдатский сундучок с рукописями. На нем курительный прибор с медными пепельницами. Над ним висит китайский холст с изображением Сомневающегося. А также маски. И рядом с кроватью Маленький шестиламповый приемник. С утра Я включаю его и слышу Победные реляции моих врагов.VIII
Убегая от своих земляков, Я теперь добрался до Финляндии. Друзья, Вчера еще неведомые, поставили две кровати В чистой комнате. Из громкоговорителя Слышатся победные реляции подонков. С любопытством Разглядываю я карту этой части света. Высоко вверху в Лапландии Я вижу еще дверцу В Северный Ледовитый океан.Трубки Перевод В. Корнилова
Друзьям оставив книги, я расстался В изгнанье со стихами, но пришлось Нарушить третью заповедь скитальца «Быть неимущим!» — трубки я увез. Тому, кто ждет облавы день и ночь, Без книги обойтись не так уж трудно. Но кожаный кисет со старой трубкой Ему способны кое в чем помочь.1940
Мемориальные доски павшим в войне Гитлера с Францией Перевод Е. Эткинда
1
Пусть он подохнет среди страшных мук. Он — главный враг! Его постигнет кара! Так я кричу, — ведь лишь река Луара Теперь найдет меня. Да майский жук.2
Узнав, о люди, будто одолели Мы Францию всего за три недели, Не спрашивайте, где найти меня! Из двадцати я жил четыре дня.1941
Финский пейзаж Перевод Е. Эткинда
Семь озер — многорыбье и разнодеревье! Запах ягод и трав! Звучный ветер, в березовой роще застряв. Овевает коров и бидонов кочевье… Цвет, и запах, и звук он сливает в одно, И колышет листву, и бормочет, как прежде… И вновь учится беженец, как учился давно, Ремеслу своему: многотрудной надежде. Он глядит на колосья в высоких снопах, И на бабу над озером — статую словно, На паром, волочащий огромные бревна (Костылей надо много — на первых порах!)… С лесом он говорить научился любовно И с народом, молчащим на двух языках.Стихотворения 1948–1956 годов
Песня стройки Перевод С. Болотина и Т. Сикорской
1
Всем еще не сладко, но мы знаем: полон мглою предрассветный час! Чтоб взошла заря над нашим краем, труд отдать готов любой из нас. Дружно за дело! Стройка, подымайся ввысь! Из развалин новый мир мы строим смело. Кто там встал на пути? Берегись!2
Если хочешь жить под теплой крышей — сам жилище строить помогай! Пусть дома на стройке встанут выше! Пусть растет и крепнет мирный край! Дружно за дело! Стройка, подымайся ввысь! Из развалин новый мир мы строим смело. Кто там встал на пути? Берегись!3
Нам еще мошенники мешают. Их закон — нажива и обман. Шиберов, что деньги зашибают, вышибем к чертям за океан! Дружно за дело! Стройка, подымайся ввысь! Из развалин новый мир мы строим смело. Кто там встал на пути? Берегись!4
Рухнул домик, но клопы живучи, юнкеры, дельцы и прочий сброд. Выгребем на мусорную кучу всю ту дрянь, что здесь еще живет! Дружно за дело! Стройка, подымайся ввысь! Из развалин новый мир мы строим смело. Кто там встал на пути? Берегись!5
Нам ли ныть со злыми стариками, если старый мир пошел ко дну! Собственными выстроим руками солнечную, светлую страну! Дружно за дело! Стройка, подымайся ввысь! Из развалин новый мир мы строим смело. Кто там встал на пути? Берегись!Песня о будущем Перевод С. Кирсанова
1
В русском царстве в холе, в барстве самодержцы жили всласть. На горбе страны сидели и творили, что хотели. Если ж крикнет кто от боли — били, мучили, мололи. Люди кровью истекали, ненавидя эту власть. Но однажды изменился белый свет. К униженью и нужде возврата нет! И, как солнце, возвестило там рассвет Знамя счастья и свободы — красный цвет.2
Обладали властью в Польше благородные паны. Войны всюду затевали в громе танковых моторов. Вот и Польшу потеряли в результате бранных споров, А бедняк тащил соху из обтесанной сосны. Но однажды изменился белый свет. К униженью и нужде возврата нет! И, как солнце, возвестило там рассвет Знамя счастья и свободы — красный цвет.3
Были армии в Китае у бандитов и менял. Сытый жрал, своим считая все, что мог создать голодный, И сосала крысья стая жадно кровь и сок народный, А богач за океаном им оружье продавал. Но однажды изменился белый свет. Кровопийцам-богачам пощады нет! И, как солнце, возвестило там рассвет Знамя счастья и свободы — красный цвет.4
Нас погнали в даль России генералы, господа. Танки двигались стальные против Родины Труда. Нас прогнали с гор Кавказа, о, мы помним ту страну! А теперь хотят нас снова впутать в новую войну. Но придет и наше время, и тогда Будет кончено с нуждою навсегда. Поджигателям войны — пощады нет! Пусть над нами вьется знамя — красный цвет.1950
Надгробие Карла Либкнехта Перевод К. Богатырева
Здесь лежит Карл Либкнехт Борец против войны Когда его убили Наш город еще был цел.1948
Надгробие Розы Люксембург Перевод К. Богатырева
Здесь похоронена Роза Люксембург Еврейка из Польши Вождь немецких рабочих Убитая по заданию Немецких угнетателей. Угнетенные Похороните ваши раздоры!1948
Когда наши города стали мусором Перевод Б. Слуцкого
Когда наши города стали мусором, Опустошенные войной мясника, Мы начали их отстраивать, Голодные, холодные, слабые. Мы толкали, словно в седой древности, Железные тачки с мусором. Мы разбирали голыми руками кирпич, Лишь бы не продавать наших детей в кабалу чужеземцам. Потом для тех же наших детей Мы расчищали место в школах И счищали с вековых знаний Старую грязь, чтобы они могли принести пользу.Когда я вернулся Перевод И. Фрадкина
Когда я вернулся, Волосы мои еще не были седы, И я был рад. Трудности преодоления гор позади нас, Перед нами трудности движения по равнине.1949
Плохие времена Перевод И. Фрадкина
Дерево объясняет, почему оно не принесло плодов. Поэт объясняет, почему он сочинил плохие стихи. Генерал объясняет, почему война была проиграна. Картины, написанные на истлевшем холсте! Донесение экспедиции, переданное через забывчивого! Героическое поведение, никем не увиденное! Следует ли треснувшую вазу использовать как ночной горшок? Следует ли неудачную трагедию превращать в фарс? Следует ли искалеченную возлюбленную отсылать в кухарки? Хвала тем, кто покидает ветхий дом! Хвала тем, кто закрывает дверь перед опустившимся другом! Хвала тем, кто забывает неосуществимые планы! Дом построен из тех камней, какие были. Революция была произведена с теми революционерами, какие были. Картина была написана теми красками, какие были. Ели то, что имели. Давали тем, кто нуждался. Разговаривали с присутствующими. Работали с той силой, мудростью и мужеством, какими располагали. Беспечность не должна прощаться. Добиться можно было большего Высказывается сожаление. (Какой в нем прок?)Моим согражданам Перевод В. Корнилова
Эй, вы, кто выжил в городах умерших, Хотя бы сами над собою сжальтесь! Глупцы, на войны новые не зарьтесь, Как будто мало было отшумевших. Прошу вас, сами над собою сжальтесь! Эй, мужики, беритесь за половник! Ох, если б не хватались за штыки, Под крышами сидели б, мужики! Под крышами сидеть — оно спокойней. Прошу, не штык берите, а половник! Эй, дети, пусть избавят вас от бойни! Родителей просите — пусть избавят, Кричите им, что с вас уже довольно, Вы не хотите жить среди развалин! Эй, дети, пусть избавят вас от бойни! Эй, матери, достанется терпеть вам Иль не терпеть войну — теперь решайте Прошу вас, жизнь дарите вашим детям, Прошу вас, не для смерти их рожайте! Эй, матери, добрее будьте к детям.1949
Актеру П. Л. в изгнании Перевод К. Богатырева
{121}
Послушай нас, возвращайся назад! Изгнанник, Тебе пора вернуться. Из земли, Где когда-то текли молоко и мед, Ты был изгнан. Тебя призывают вернуться В страну, что разрушена в прах. Мы не можем тебе предложить ничего. Знай одно — ты здесь нужен. Беден ли ты или богат, Здоров или болен, Забудь обо всем И вернись.1950
О счастье дарения Перевод К. Богатырева
{122}
Счастье высшее даренья Не вменяй себе в заслугу, Раздавая в упоенье Тем, кому живется туго. С розою расцветшей схожи Лица нами одаренных В миг, когда подарки — боже Правый! — бьются в их ладонях! Нет отрады ощутимей, Чем дарить напропалую. Кто не делится с другими — Не завидую тому я.О воинственном учителе Перевод Е. Эткинда
(Из «Детских песен»)
Жил да был учитель Ратке, И стоять он за войну привык. Знали все, что он искрится, Говоря о старом Фрице{123}, И что Ратке ненавистен Вильгельм Пик. Но явилась прачка Шмидтша, И была она за мир горой. Ухватила прачка Ратке, Утопила Ратке в кадке, В мыльной пене захлебнулся наш герой.1950
Тополь на Карлсплац Перевод В. Корнилова
(Из «Детских песен»)
Тополь стоит на Карлсплац В Берлине среди руин. Люди идут через Карлсплац, Он машет ветками им. Зимою сорок шестого Без топлива мерз народ, И погибло много деревьев, Это был их последний год. А тополь стоит на Карлсплац И зеленой машет листвой. Спасибо вам, люди с Карлсплац, За этот тополь живой.1950
Детский гимн Перевод В. Корнилова
(Из «Детских песен»)
Силы юности прекрасной Без остатка все отдай, Чтобы край расцвел германский Как любой счастливый край. Чтоб соседи не боялись, Что войной на них пойдет, Чтоб охотно с ним братались, Уважали наш народ. Чтобы жил народ свободно! — Не захватчик, но не раб! — Между Одером и Рейном И от Балтики до Альп! Все отдать стране готовы, Чтобы нам земля своя Всех прекраснее казалась, Как другим — свои края.1950
Песни любви Перевод В. Корнилова
1
В тот огромный новый день, От любимой выйдя, Только радостных людей, Только их я видел. С той поры — сказала ты, О которой строки, Пламенней мои уста, И ловчей мои ноги. Поле, дерево и куст В зелени зеленой, А вода с тех пор, клянусь, Ласковей и студеней.2
Песня любящей
Так веселишь меня, Что в мыслях часто Желаю смерти, Чтоб полной счастья Оставить мир. А ты, состарясь, Меня припомнишь, А я останусь Тобой любимой И молодой.3
Куст семь роз имел — и ветер Шесть с собой унес, А седьмую мне доверил, Лучшую из роз. Семь раз буду звать — и ты Шесть раз медли, но Обещай в седьмой — прийти На словцо одно.4
Любимая дала мне ветвь. На ней вся листва желта. Год уже на исходе. Любовь лишь начата.1950
Китайский лев, выточенный из корней чайного куста Перевод Е. Эткинда
{124}
Злых страшат твои когти, Добрых радует твое изящество. Мне бы хотелось, Чтобы так же сказали О стихе моем.1951
Песня о счастье Перевод Арк. Штейнберга
{125}
Корабль средь волн плывет, И видит рулевой За чуть приметной гранью вод Заветный город свой. Шуруйте угли в топках, Держите твердо штурвал, Чтоб рифы, мели, шквалы Корабль ваш миновал. Мечтают моряки Вернуться в порт скорей, И есть, конечно, берега. — Мы знаем, — у всех морей. Давай шевели руками И душу вкладывай в труд. Удачи надобно завоевать, Сами они не придут. Работа не проклятье Для тех, кто свободен сам, Есть хлеб для них, и груды книг, И ветер — парусам. Чтоб город расцвел счастливый И вам наградой стал, Творить и мыслить должны вы, Ковать и плавить металл. Ребенку в колыбели Нужны молоко и хлеб, Чтоб щечки округлели И каждый мускул окреп. Он должен расти из пеленок, Хоть он и мал пока; Затем и кричит ребенок И требует молока. Коль домом станет кирпич И деревом — росток, Мы знаем, будет город у нас И сад в урочный срок. И так как матери наши Для счастья нас родили, Клянемся жить для счастья, Для счастья всей земли.«Раненый Сократ»
Германия в 1952 году Перевод К. Богатырева
Германия, ты в раздоре С собой, и не только с собой. Тебя не тревожит горе Твоей половины второй. Но горя б ты не знала В теперешней судьбе, Когда бы доверяла Хотя б самой себе.Хлеб народа Перевод В. Корнилова
Справедливость — это хлеб народа. Иногда его хватает, а иногда его мало. Иногда он вкусен, иногда в рот не возьмешь. Если мало хлеба, то правит голод, Если хлеб плох, вспыхивает недовольство: Долой негодную справедливость! Она выпечена неумело, она замешана бездарно. Она без пряностей, с черной коркой. Зачерствела справедливость, поздно она к нам пришла! Если хлеб хорош и его вдоволь, То можно жить единым хлебом. Если нет изобилья, Но зато есть справедливость, Ешь этот хлеб и работай так, Чтобы добиться изобилья! Если нужен ежедневный хлеб, То еще нужнее ежедневная справедливость, Она нужна не единожды на день. От рассвета и до заката, в радости и в работе, В радостной нашей работе, В тяжелую годину и в годину веселую, Ежедневно и в достатке Этот хлеб необходим народу Справедливость — это хлеб народа. Кто же должен печь этот хлеб? Тот, кто всегда печет хлеб. Тот, кто пек его издавна. И точно так же хлеб справедливости Должен выпекать народ! Хлеб ежедневный, хороший хлеб!Неуловимые ошибки комиссии по делам искусств Перевод А. Исаевой
{126}
Приглашенные на заседание Академии искусств Большие начальники из Комиссии по делам искусств, Платя дань доброму обычаю признавать свои ошибки, Бормотали, что они тоже Признают свои ошибки. Правда, Когда их спросили, какие ошибки они признают, Они, как ни старались, не могли припомнить Никаких определенных ошибок. Все, Что ставили им в вину, оказывалось Как раз не ошибкой, потому что комиссия зажимала Только произведения, не представляющие интереса, и то, собственно. Не зажимала, а просто не продвигала. Несмотря на усерднейшие размышления, Они не смогли вспомнить Ни одной определенной ошибки, однако Твердо стояли на том, Что допустили ошибки, — как и требует добрый обычай.1953
Ведомство литературы Перевод И. Фрадкина
Ведомство литературы, как известно, отпускает Издательствам республики бумагу, Столько-то и столько-то центнеров дефицитного материала — Для издания желательных произведений. Желательными Являются произведения с идеями, Которые ведомству литературы знакомы по газетам. Такой подход Должен был бы, учитывая особенности наших газет, Привести к большой экономии бумаги, если бы Ведомство литературы на каждую идею наших газет Пропускало по одной книге. К сожалению, Оно легко посылает в печать все книги, пережевывающие Одну идею наших газет. Таким образом, Для произведений некоторых мастеров Бумаги не хватает.1953
Не то имелось в виду Перевод И. Фрадкина
{127}
Когда Академия искусств Потребовала от узколобых властей Свободы искусства, Вокруг нее раздались визг И возгласы возмущения, Но, все перекрыв, Грянул оглушительный гром рукоплесканий По ту сторону секторальной границы. — Свободу! — орали там. — Свободу художникам! Свободу во всем! Свободу всем! Свободу угнетателям! Свободу поджигателям войны! Свободу рурским картелям! Свободу гитлеровским генералам! Так-то, любезные! Сперва иудин поцелуй рабочим, Затем иудин поцелуй художникам. Злорадно ухмыляясь, Поджигатель с канистрой бензина Крадется к Академии искусств. Но мы потребовали свободу рук Не для того, чтоб его обнять, а чтобы вышибить Канистру из его грязных лап. Даже самые узкие лбы, За которыми скрыта Преданность делу мира, Ближе к искусству, чем «почитатель искусства», Который прежде всего чтит Искусство войны.1953
Вопрос Перевод К. Богатырева
Как можно построить великий порядок Без мудрости масс? Кто не считается с ними, Не в силах путь указать Миллионам людей. Великие учителя! Произнося речи, не затыкайте ушей.Теплица Перевод К. Богатырева
Утомленный поливкой деревьев, Я как-то зашел в заброшенную теплицу. Там в тени порвавшейся парусины Лежали остатки редких цветов. Еще стояла аппаратура — Сооружение из досок и железной решетки, — Еще поддерживали нитки Сникшие от жажды, бледные стебельки, Еще были заметны Прежних дней усердье и искусство умелых рук. Под навесом шатра Дрожали тени барвинков — Они не требуют ухода, питаясь бесплатным дождем. Но, конечно же, сразу погибли Прекрасно-изнеженные…Собака Перевод Л. Гинзбурга
Садовник сказал мне: — Ваш пес ловок, умен И куплен С целью охраны садов. А вы его воспитали По несуразному принципу: «Собака — друг человека». Не понимаю, за что Он получает жратву?1954
Когда-нибудь, когда будет время Перевод К. Богатырева
Когда-нибудь, когда будет время, Мы передумаем мысли всех мыслителей всех времен, Посмотрим картины всех мастеров, Посмеемся над шутками всех шутников, Поухаживаем за всеми женщинами, Вразумим всех мужчин.Мне не нужно надгробия Перевод Е. Эткинда
Мне не нужно надгробия, но Если вам для меня оно нужно, Я хочу, чтоб на нем была надпись: «Он давал предложения. Мы Принимали их». И почтила бы надпись такая Всех нас.Нелегкие времена Перевод Л. Гинзбурга
Стоя за письменным пультом, Я вижу через окно в саду моем куст бузины — Смешение черного с красным. И мне вспоминается вдруг Куст бузины моей юности, в Аугсбурге. Много минут я стою в самом серьезном раздумье: Пойти ли к столу за очками, Чтобы еще раз увидеть Черные ягоды на ярко-красных ветвях?Когда в белой больничной палате… Перевод И. Фрадкина
Когда в белой больничной палате Я проснулся под утро И услышал пенье дрозда, В тот момент стало мне ясно, что с недавней поры Я утратил уже страх смерти. Ведь после нее никогда Не будет мне плохо, поскольку Не будет меня самого. И я с радостью слушал Пенье дрозда, которое будет. Когда не будет меня.Радостно вкушать мясо Перевод К. Богатырева
Радостно вкушать мясо, сочный кусок говядины, Заедать его хлебом ржаным, пропеченным, душистым И сыром, от здоровенного круга отломанным, Запивая большими глотками холодного пива, — все это Считается низменным, но кажется мне, что в могиле Лежать, не изведав при жизни Вкуса свежего мяса, бесчеловечно. И это говорю я, который Всю жизнь был плохим едоком.Ответ на стихотворение «О приветливости мира» Перевод К. Богатырева
Значит, с жизнью надо примириться, Утешаясь тем, что так всегда и жили? И страдать от жажды, лишь бы не напиться Из чужих бокалов в пене изобилья? Значит, лучше мерзнуть нам за дверью, Чем врываться в их дома без приглашенья, Раз великим господам ни в коей мере Не угодно избавлять нас от лишений? Или все же лучше нам подняться На защиту радостей, больших и малых, И, заставив всех творящих зло убраться, Мир построить на совсем иных началах?!Из «Буковских элегий»
{128}
Замена колеса Перевод И. Фрадкина
Я сижу на обочине шоссе. Шофер заменяет колесо. Мне не по душе там, где я был. Мне не по душе там, где я буду. Почему я смотрю на замену колеса С нетерпением?Сад Перевод К. Богатырева
У озера, меж тополем и елью, Я знаю сад, стеною окруженный. Цветами он искусно так засажен, Что с марта весь до октября в цвету. Здесь изредка я отдыхаю утром, И каждый раз мечтаю, чтоб и я, В плохую ли, хорошую погоду, Всегда был людям чем-нибудь приятен.Привычки еще те же Перевод И. Фрадкина
Тарелки с грохотом ставятся на стол, Так что выплескивается суп. Резким голосом Подается команда: на обед стройся! Прусский орел Загоняет птенцам Пищу в клювы.Жаркий день Перевод К. Богатырева
Жаркий день. На коленях папка с бумагой. Я сижу в беседке. Вижу зеленую лодку За кустами ивы, На корме Толстая монахиня, плотно укутанная. Перед ней Пожилой человек в купальнике, — наверное, священник. Весла в руках ребенка. Он гребет Изо всех сил. «Как прежде, — подумал я. — Совсем как в прежние времена!»Дым Перевод А. Исаевой
Маленький дом под деревьями на берегу озера. Дым поднимается над крышей. Если б не он, Как безотрадны были бы Дом, деревья и озеро.Железо Перевод Л. Гинзбурга
Сегодня ночью во сне Я видел сильную бурю. Она сотрясала строенья, Железные рушила балки, Железную крышу снесла. Но все, что было из дерева, Гнулось и уцелело.Ели Перевод Л. Гинзбурга
На рассвете Ели кажутся медными… Такими я видел их Полстолетья назад, Перед двумя мировыми войнами, Молодыми глазами.Однорукий в роще Перевод К. Богатырева
Обливаясь потом, он наклоняется за хворостом. Он головой отгоняет комаров и, сжав коленями ветки, С трудом перевязывает охапку. Кряхтя, Он поднимается и вытягивает руку, проверяя, Не пошел ли дождь. Рука вытянута… Да это же он — Эсэсовца жест зловещий.Восемь лет назад Перевод К. Богатырева
В те времена Здесь все было иначе. Жена мясника может подтвердить. У почтальона слишком уж прямая походка, А кем был электрик?Гребля, разговоры Перевод И. Фрадкина
Вечер. Мимо меня Скользят две байдарки, в них Двое обнаженных юношей. Гребя рядом, Они разговаривают. Разговаривая, Они гребут рядом.Читая Горация Перевод К. Богатырева
Даже потоп Длился не вечно. Однажды иссякли Черные хляби. Но лишь немногие Это пережили.Звуки Перевод Л. Гинзбурга
Осенью поздней В тополях поселятся вороньи стаи. Но целое лето напролет Я слышу на бесптичье Лишь говор людской. И меня это радует.Над советской книгой Перевод В. Куприянова
{129}
Волгу, читаю я, покорить Будет делом нелегким. Она Кликнет на помощь всех дочерей: Каму, Унжу, Оку, Ветлугу, И внучек своих: Чусовую и Вятку… Соберет она все свои силы, и воды семи тысяч притоков На плотину в гневе обрушит у Сталинграда. Ее находчивый гений с чертовским чутьем Одиссея Не упустит ни трещинки в почве, Огибать будет слева, увиливать справа, под землю Проникнет, — и все ж, я читаю, советские люди, Которые любят ее и воспевают, Ее изучили до капли и До 1958 года они Ее покорят. И сухие земли каспийской равнины, Эти черствые пасынки Хлебами отплатят за это.Рассказы
Смерть Цезаря Малатесты Перевод Э. Львовой
{130}
Цезарь Малатеста стал властелином небольшого города Казерты четырнадцати лет от роду, а на семнадцатом году, как свидетельствует историческая хроника Кампаньи, убил своего брата, бывшего на два года моложе. В течение двадцати лет он приумножал свои владения и славу отвагой и шуткой, и его имя вселяло страх даже в тех, кто его любил, — не столько из-за ударов, которые он наносил, сколько из-за ударов, которые он мог вынести. Но на тридцать первом году жизни он оказался вовлечен в незначительную, но неприятную историю, которая привела его спустя несколько лет к гибели. Сегодня во всей Кампанье он слывет позором Италии, скорбью и грязью Рима.
Вот как это случилось.
В беседе с Франческо Гаия, столь же славившимся своим изящным образом жизни, сколь и беспредельной подлостью, Малатеста среди прочих шуток, весьма веселивших его гостя, отпустил насмешливое замечание об одном из дальних родственников папы, не подозревая, что тот приходится дальним родственником и Гаие. Ничто в поведении гостя не указывало на это обстоятельство. Они расстались большими друзьями, обменявшись изысканными любезностями и сговорившись о совместной охоте осенью. После этой беседы Цезарю Малатесте оставалось жить три года.
То ли Гаия, ставший к тому времени кардиналом, был всецело поглощен денежными делами, то ли не чувствовал желания проводить время вне стен города, но, так или иначе, Цезарь Малатеста ничего не слышал о нем, если не считать учтивого, но холодного послания, содержавшего извинения Гаии в том, что у него нет возможности принять участие в охоте, о которой они договорились. Однако спустя два с половиной года после той беседы Франческо Гаия стал собирать войско. Никто во всей Кампанье не знал, против кого он_вооружается, и сам он ничем не выдавал своих намерений; а так как папа не препятствовал ему, речь шла, по всей видимости, о турках или немцах.
Цезарь Малатеста, узнав, что войска кардинала не минуют его города Казерты, послал навстречу Гаие нескольких слуг с любезным приглашением. Посланцы не вернулись. Цезарю в это время докучал один бесстыдный монах, который в деревушке неподалеку от Казерты поносил его перед собравшимися казертинцами неподобающим образом и варварским стилем. Цезарь приказал схватить монаха и запереть в подземелье, но несколько дней спустя монах бежал, а с ним и его стража. Изумление Цезаря, вызванное тем, что четверо его лучших слуг бежали с заключенным, который изрыгал на него хулу, возросло, когда однажды утром он не досчитался еще трех слуг, и среди них того, кто служил прежде его отцу. Вечерами он спускался из замка и, гуляя по стене, часто замечал, как толпятся на улицах люди и говорят о нем. И только когда войска Гаии находились в двух часах пути от Казерты, Цезарь узнал случайно из разговора с одним из окрестных крестьян, что поход Гаии направлен против него самого. Он не верил этому, пока какой-то негодяй не прибил к воротам замка бумагу, где Франческо Гаия требовал, чтобы все наемники и слуги Малатесты покинули его. Из этой же бумаги Цезарь узнал, что папа отлучил его от церкви и приговорил к смерти. Утром того дня, когда была прочитана бумага, из замка исчезли последние слуги.
Так началась удивительная и чудовищная осада одного человека, которую тот век воспринял как удачную шутку и посмеялся над ней.
Совершая послеобеденный обход Казерты, недоумевающий Цезарь обнаружил, что ни в одном из домов не осталось больше жителей. Только стая бездомных собак присоединилась к нему, когда он, охваченный чувством полной отчужденности от своего родного города, поспешней, чем обычно, возвращался в осиротевший замок. Вечером он увидел с башни, как войско Гаии кольцом окружает покинутый город.
Цезарь собственноручно запер на засов тяжелую дверь замка и, не поужинав (с полудня в замке не было никого, кто мог бы приготовить ему еду), лег спать. Спал он плохо и вскоре после полуночи поднялся исполненный тревоги, чтобы взглянуть на собранное здесь немалое войско, которое он накликал на себя как болезнь, сам не зная чем. Он увидел, что, несмотря на глубокую ночь, в лагере горят костры и слышится пение пьяных.
Утром он сварил себе кукурузы и с жадностью съел ее, наполовину сгоревшую. В то время он еще не умел готовить, но прежде, чем умереть, он выучился этому.
День он посвятил укреплению замка. Он втаскивал на стену обломки скалы и располагал их так, чтобы, двигаясь вдоль стены, можно было без особого труда столкнуть их вниз. Широкий подъемный мост одному было поднять не под силу, он поднял его с помощью оставшейся у него пары лошадей, осталась только узкая доска, которую легко было сбросить пинком ноги. По вечерам он больше не ходил в город, опасаясь нападения. Все последующие дни он проводил высоко на башне, наблюдая за врагом. Он не заметил ничего особенного. Город вымер, враг у его ворот, судя по всему, приготовился к длительной осаде. Однажды, когда Цезарь прогуливался по стене — время тянулось для него теперь очень медленно, — несколько метких стрелков выстрелили по нему. Он рассмеялся, ибо подумал, что они не могли попасть в него, — он еще не понимал, что они учились не попадать в него.
Стояла осень. Поля Кампаньи были уже убраны, и Цезарю хорошо было видно, как на холме напротив срезают виноград. Песни сборщиков винограда смешивались с песнями солдат, и никто из людей, еще неделю назад живших в Казерте, не возвращался туда. Словно вспыхнула чума и за одну ночь сожрала всех, кроме одного.
Осада длилась три недели. Выждать время, пока осажденный мысленно переберет всю свою жизнь и найдет в ней место, когда был сделан ложный шаг, — в этом заключалась цель Гаии и смысл его шутки. Кроме того, он хотел подождать, пока соберется народ со всей Кампаньи на представление — казнь Цезаря Мала-тесты. (Люди приходили с женами и детьми даже из Флоренции и Неаполя.)
В течение трех недель толпы крестьян и горожан, стекавшихся сюда со всех сторон, стояли напротив укрепленного холма Казерты, показывали на него пальцами и ждали, и в течение всех трех недель осажденный утром и вечером гулял по стене. Постепенно его одежда становилась неряшливее, казалось, он спал не раздеваясь, и походка его сделалась вялой — ему не хватало пищи. Лицо его на таком большом расстоянии было неразличимо.
В конце третьей недели те, кто был снаружи, увидели, как он опускает подъемный мост, и три дня и еще полдня он выкрикивал со своей башни нечто неразличимое из-за большого расстояния. Но все это время он не показывался на стене и не выходил из башни.
В последние дни осады — она длилась уже четвертую неделю — в лагере под Казертой собрались люди со всей Кампаньи и из всех сословий. Цезарь часами ездил по стене верхом на лошади. В лагере не без причины полагали, что он уже слишком слаб, чтобы ходить.
Многие рассказывали потом, когда все уже было позади и жители Казерты вернулись домой, что нашлись люди, которые, нарушив запрет Франческо, подкрадывались к стене и видели, как он стоял на стене, и слышали, как он взывал к богу и черту и просил взять его жизнь. Вполне достоверным представляется, что он до своего последнего часа и даже тогда не знал, почему все это с ним случилось, и вполне достоверно, что он об этом не спрашивал.
На двадцать шестой день осады он с огромным трудом поднял подъемный мост. Через два дня он на глазах всего вражеского лагеря справил на стене нужду.
Его казнь совершилась на двадцать девятый день осады, утром, около одиннадцати часов, казнили его три подручных палача, и он не оказал никакого сопротивления. Гаия, который, впрочем, ускакал, не дожидаясь последнего, несколько пошлого поворота своей шутки, велел соорудить на рыночной площади в Казерте памятную колонну с надписью: «Здесь Франческо Гаия казнил Цезаря Малатесту — позор Италии, скорбь и грязь Рима».
Так ему удалось почтить своего дальнего родственника, запечатлев в памяти Италии того, кто насмехался над ним, — человека не без заслуг, — всего лишь как автора одной-единственной шутки; Гаия, притворяясь, что забыл эту шутку — причиной тому была ее суть, — не мог оставить ее безнаказанной.
Четверо мужчин и покер, или слишком много счастья — несчастье Перевод Э. Львовой
{131}
Это было в Гаване. Они восседали на соломенных креслах, позабыв обо всем на свете. Если становилось слишком жарко, пили воду со льдом, а по вечерам танцевали бостон в отеле «Атлантик». Все четверо были богаты.
Газеты называли их великими людьми. Прочитав это три раза кряду, они швыряли газету в океан. Или, растянув ее обеими руками, продырявливали носком полуботинка. Трое из них на глазах десяти тысяч зрителей установили новые рекорды по плаванию, а четвертый собрал сюда эти десять тысяч. Когда они победили всех соперников и прочитали все газеты, они сели на пароход. Они возвращались в Нью-Йорк, набив карманы деньгами.
Собственно говоря, по-настоящему рассказать эту историю можно только в сопровождении джаза. Она поэтична от начала и до конца. Она начинается в дыму сигар, под звуки смеха, а кончается смертью.
Дело в том, что об одном из них было доподлинно известно: он может выудить живого карпа из консервной банки. Он, как говорится, родился в сорочке. Его звали Джонни Бэйкер. Счастливчик Джонни. Он был одним из лучших пловцов на короткие дистанции обоих полушарий. Но его поразительное счастье отбрасывало тень на любой его успех. Ибо если человек, развернув бумажную салфетку, вдруг вынимает из нее долларовую банкноту, люди начинают сомневаться в его деловых талантах, будь он сам Рокфеллер, и становятся подозрительными. И они стали подозрительными.
В Гаване он одержал победу так же, как и двое остальных. В заплыве на двести ярдов он опередил самого сильного соперника на длину корпуса. Но и на этот раз ни для кого не было секретом, что тот плохо переносит здешний климат и плохо себя чувствовал. Разумеется, сам Джонни говорил, ему непременно приплетут что-нибудь в этом роде и станут трепаться о его «счастье», как бы хорошо он ни проплыл свою дистанцию. Он говорил, а остальные двое улыбались.
Вот как обстояли дела, когда началась эта история, а она началась небольшой партией в покер. На пароходе было слишком скучно.
Небо было синим, и океан был синим. Напитки были хороши, но они были одинаково хороши всегда и везде. И сигары были хороши, как другие такие же сигары. Короче говоря, и небо, и океан, и напитки, и сигары — все было нехорошо.
Большего они ожидали от маленькой партии в покер.
Они начали недалеко от Бермудских островов. Они удобно уселись: каждый использовал два стула. О том, как расставить стулья, они договорились по-джентльменски. Ноги одного лежали около уха другого. Вот так недалеко от Бермудских островов они начали накликать на себя свою погибель.
Джонни был обижен их намеками, и они начали без него, втроем. Один выигрывал, второй проигрывал, третий оставался при своих. Они расплачивались металлическими фишками, каждая обозначала пять центов. Потом одному из них и эта затея показалась скучной, и он вышел из игры, сняв ноги со спинки стула. Его заменил Джонни. И сейчас же эта затея перестала быть скучной. Джонни стал выигрывать. Чего Джонни не умел, так это играть в покер, но что Джонни умел — так это выигрывать в покер.
Когда Джонни блефовал, это выглядело так смешно, что ни один покерист в мире не решился бы принять предложенную им ставку. Но если человек, который знал Джонни, был уверен, что тот блефует, Джонни неожиданно для себя предъявлял флешь.
Прошло два часа. Сам Джонни играл совершенно спокойно, но остальные двое разгорячились. Когда четвертый спустя эти два часа вернулся с кухни, где он наблюдал, как чистят картошку, он увидел, что жетоны раздаются снова и что каждый из них означает теперь доллар. Это небольшое повышение было единственной возможностью для партнеров Джонни вернуть хотя бы часть своих денег. Так уж получилось: деньги, которые Джонни отнял у них по пенсу, им приходилось теперь выгребать лопатой. Даже отцы семейств не могли играть осторожнее, но загребал деньги Джонни.
Вначале они играли шесть часов подряд. В течение этих шести часов они еще могли в любой момент выйти из игры, оставив Джонни лишь тот доход, который им принесла победа в Гаване. Но после шести часов напряжения и тревог это уже стало невозможно.
Наступило время ужина. Они проглотили его наспех. Им казалось, что в руках у них не вилки, а стриты. Они ели бифштексы, а думали о флешь-ройяль{132}. Четвертый ел значительно медленнее. Он сказал, что, пожалуй, теперь он сыграл бы с большей охотой, ибо теперь шлепанье картами приобрело, по крайней мере, размах.
После ужина они начали играть снова, вчетвером. Они играли восемь часов. Бермудские острова остались позади, когда около трех часов ночи Джонни сосчитал их деньги.
Они проспали пять часов довольно скверно и начали снова. Они были разорены на годы вперед. Им предстояло плыть еще один день, в двенадцать часов ночи они должны были прибыть в Нью-Йорк. И в течение этого дня им следовало принять меры, чтобы не остаться нищими до конца жизни. Ибо среди них был один, кто своей плохой игрой в покер выжимал из них все соки.
Днем, когда количество встречных судов указывало на приближение к берегу, игра пошла на квартиры. Вдобавок ко всему Джонни выиграл еще и пианино. Потом они дали себе два часа на обед и отдых, а после этого начали ожесточенное сражение — ставкой в нем были надетые на них костюмы. В пять часов вечера они увидели, что вынуждены продолжать. Четвертый, вступивший в игру после Бермуд, когда остальные уже не различали своих вилок, а он тогда еще мог есть спокойно, по собственному почину предложил Джонни сыграть на свою девушку. То есть если Джонни выиграет, он получит право пойти с некой Дженни Смит на вдовий бал хорового общества в Хобокене, а если проиграет, то вернет все, что выиграл у них. И Джонни согласился. Предварительно он спросил:
— А ты сам не пойдешь?
— И не подумаю.
— И не рассердишься?
— И не рассержусь.
— И на нее не рассердишься?
— Что значит: и на нее?
— Ты не рассердишься на эту девушку, на Джонни?
— Да нет же, черт возьми, я на нее не рассержусь.
И тогда Джонни выиграл.
Если вы играете в карты, выигрываете, кладете свой выигрыш в карман, приподнимаете шляпу и уходите, — это значит, что вы пребывали в опасности и избежали ее. Но если у вас доброе сердце, и вы остаетесь, чтобы дать партнерам отыграться, и после этого не заканчиваете свою жизнь в доме призрения, вы будете связаны со своими партнерами до самой смерти. Они вопьются в вашу печень, как стервятники. Для игры в покер надо иметь такое же жесткое сердце, как для любой другой формы экспроприации.
С той самой минуты, как Джонни вошел в игру, потому что другой из нее вышел, он во всем уступал остальным. Они заставили его несколько тысяч раз взглянуть в карты, лишили его отдыха и сна, добились, чтобы он ел в такой спешке, как рабочий, решивший установить рекорд. Они бы охотно подвесили бифштекс Джонни на веревочке, чтобы он, не прерывая игры, откусывал от него по кусочку каждые шесть часов. Все это было Джонни глубоко противно.
Выиграв девушку, что, по его мнению, переполнило чашу, он встал из-за стола, наивно полагая, что с них достаточно. Они связались с ним, хотя знали про его счастье, скорей всего потому, что думали — он понимает в покере столько же, сколько машинист паровоза в географии. Но машинист едет по рельсам, а рельсы в географии разбираются: по ним машинист непременно приедет из Нью-Йорка в Чикаго и никогда не попадет ни в какое другое место. Он выиграл у своих партнеров именно по этой системе, и теперь речь шла только о том, как вернуть выигранное так, чтобы не нанести им кровной обиды. Недостатком Джонни была его мягкосердечность. Он обладал чрезмерным чувством такта.
Джонни объявил сразу, что не надо принимать случившегося всерьез, эта была всего лишь шутка. Они ничего не ответили. Они продолжали сидеть, как сидели со вчерашнего дня, и смотрели на чаек, которых теперь стало больше.
На основании этого Джонни заключил, что по их представлению целые сутки игры в покер не имеют ничего общего с шуткой.
Джонни стоял, облокотившись на поручни, и предавался размышлениям. И тут его осенило. Прежде всего он предложил им поужинать. Разумеется, на его счет. Ему смутно представились торжественная трапеза, непринужденное веселье и роскошное угощение. Он сам будет смешивать коктейли, которые развяжут языки. При сложившейся ситуации о расходах можно не беспокоиться. Он подумывал даже об икре. Джонни возлагал на этот ужин очень большие надежды.
Они не отказались.
Они приняли его предложение без особого энтузиазма, но, так или иначе, они придут. Все равно приближалось время ужина.
Джонни ушел делать заказ. Он спустился в кухню и переговорил с поваром, обращаясь с ним так бережно, как будто он стеклянный. Джонни хотел бы, чтоб для него и его друзей сервировали ужин, торжественный ужин, который затмил бы все, чем когда-либо угощала первоклассная кухня на судах, плавающих между Гаваной и Нью-Йорком. Во время бесхитростной беседы с поваром Джонни испытал большое облегчение.
За эти полчаса на палубе не было произнесено ни одного слова.
Внизу Джонни сам накрывал на стол. Рядом со своим местом он поставил маленький столик, на который водрузил бутылки с напитками. Ему не надо будет вставать, чтобы смешивать коктейли. За своими гостями он послал повара. Они вошли с равнодушными лицами и быстро уселись за стол, словно за обычный ужин. Особого веселья не замечалось.
Джонни надеялся, что за столом с ними будет легче найти общий язык. Как правило, за едой люди становятся общительней, а еда была превосходная. Они ели помногу, но так, словно не получали никакого удовольствия. Суп из свежих овощей они хлебали, как гороховую похлебку, а жареных кур ели, как сало в дешевой обжорке. Судя по всему, у них было собственное мнение об ужине, затеянном Джонни. Один из них взял красивый фарфоровый горшочек, покрытый глазурью, и спросил:
— Здесь икра?
Джонни в полном соответствии с действительностью ответил:
— Да, и притом самая лучшая, какую только можно было достать на этой старой посудине.
Тот кивнул в ответ и съел весь горшочек, вычерпывая икру ложечкой. Сразу вслед за этим второй показал остальным на салат-майонез, сервированный необычным образом. Те усмехнулись в ответ. И, это и кое-что другое в их поведении не ускользнуло от внимания хозяина. Но только за кофе Джонни догадался, что пригласить их на ужин было наглостью с его стороны. Они никак не оценили его желания употребить часть выигрыша на общее благо. И вообще казалось, что они осознали, сколь серьезны их потери, только сейчас, когда принуждены были смотреть, как он швыряет их деньги на бессмысленную жратву. Дело обстояло примерно так, как с женщиной, которая хочет вас покинуть. Когда вы читаете хорошо написанное прощальное письмо, вы, быть может, даже понимаете ее, но, когда вы видите, как она усаживается в такси с другим мужчиной, только тогда до вас доходит, что, собственно, произошло.
Джонни серьезно встревожился.
Было восемь часов вечера. Издалека уже доносились гудки буксиров. До Нью-Йорка оставалось четыре часа хода.
У Джонни возникло смутное чувство, что просидеть четыре часа взаперти в каюте бок о бок с этими разоренными людьми невозможно. Но все здесь выглядело так, что просто встать и уйти было тоже невозможно.
И тут Джонни ухватился за свой единственный шанс. Он предложил партнерам еще раз сыграть с ними на все. Они отставили кофейные чашки, отодвинули на край стола полупустые консервные банки. Они снова роздали карты.
Они стали снова, как с самого начала, играть на деньги, пользуясь жетонами. Джонни заметил, что его партнеры не хотят выходить со своими ставками за определенные пределы. Значит, они снова начали играть всерьез.
При первой же раздаче карт Джонни с рук пришел стрит. Несмотря на это, Джонни во втором круге сразу вышел из игры, оставив им свою ставку. За это время он, бесспорно, кое-чему научился. После второй и третьей раздачи карт, при которых первоначальные ставки каждый раз повышались, он сделал вид, что не видит блефа, и принимал предлагаемые повышения ставок. Но тут один из них, спокойно и прямо поглядев ему в глаза, сказал:
— Играй, как полагается.
После этого Джонни сыграл несколько раз, как играл прежде, и выиграл, как прежде. И тут он вдруг ощутил странное желание играть, как играется, использовать свои шансы, как использует их любой другой. Но он снова увидел их лица и увидел, как они швыряют свои карты на стол, едва взглянув в них, и он совсем потерял мужество. Он снова попробовал подыгрывать им, но каждый раз, когда он пытался сделать что-нибудь неверно, он замечал, что за ним пристально наблюдают, и не решался на это. А если он играл плохо по своему неумению, они начинали играть еще хуже, потому что верили только в его счастье. Его неуверенность они принимали за откровенную злонамеренность. Они все больше убеждались, что он играет с ними, как кошка с мышкой.
Когда все жетоны снова лежали перед ним, трое игроков встали, но он продолжал сидеть, без единой мысли в голове, среди карт и консервных банок. Было одиннадцать часов, до Нью-Йорка оставался один час хода. Четверо мужчин и колода карт в каюте парохода Гавана — Нью-Йорк.
У них оставалось еще немного времени. В каюте было очень душно, они решили выйти ненадолго на верхнюю палубу. Свежий воздух пойдет им на пользу. Казалось, что мысль о свежем воздухе подняла их настроение Они даже спросили Джонни, не хочет ли он выйти вместе с ними на палубу. Джонни не захотел выходить на палубу.
Когда трое увидели, что Джонни не хочет выходить на палубу, они дали ему понять, что придают его согласию большое значение.
И тут Джонни впервые совершенно потерял голову и допустил ошибку, не сразу встав из-за стола. Так он дал им возможность увидеть выражение страха на его лице, а это, в свою очередь, подсказало им решение.
Спустя долгие пять минут, Джонни, не произнеся ни слова, пошел с ними на палубу. Ширина лестницы позволяла идти рядом только двоим. Вот так и получилось, что первый шел впереди, второй — позади, а третий — рядом с Джонни. Они поднялись наверх. Ночь была холодной и туманной. Палуба — влажной и скользкой. Джонни был доволен, что идет посередине.
Они прошли мимо рулевой рубки, стоявший в ней матрос не обратил на них внимания. Когда они отошли от него шага на четыре, Джонни почувствовал, что он что-то упустил. Но они уже приближались к корме, двигаясь вдоль борта.
Они остановились на корме у борта, и Джонни хотел выполнить свое намерение и громко закричать. Но странным образом ему помешал туман: когда люди плохо видят, им кажется, что их так же плохо слышат.
Они сбросили его в воду через борт. Потом они снова сидели в каюте — трое мужчин с колодой карт для покера, доедали консервы из полупустых банок. Смешивали остатки из бутылок и спрашивали себя, умеет ли Джонни Бэйкер, который, вероятно, плывет сейчас за удаляющимися кормовыми огнями парохода, плавать так же хорошо, как выигрывать в покер.
Но нет на свете человека, который умел бы так хорошо плавать, чтобы спастись от людей, если ему дано слишком много счастья.
Изверг Перевод Э. Львовой
{133}
Сколь многообразна человеческая манера держать себя, показало недавнее происшествие на киностудии «Межрабпом-Русь»; в нем, незначительном по сути своей и не имевшем последствий, заключалось тем не менее нечто ужасающее. Во время съемок фильма «Белый орел», в котором изображались погромы на юге России перед самой войной и клеймилось позором поведение полиции, в съемочный павильон явился какой-то старик и предложил свои услуги. Он проник в швейцарскую у главного входа и сказал швейцару, что берет на себя смелость обратить внимание присутствующих на свое сходство с губернатором Муратовым. (Муратов был инициатором упомянутой выше кровавой резни, и его роль была главной в этом фильме).
Швейцар хотя и высмеял просителя, но не выгнал его сразу, так как человек этот был стар, — и вот теперь высокий и тощий старик с шапкой в руках стоял посреди толпы, в сутолоке статистов и рабочих, по-видимому все еще надеясь, что его сходство с тем, кто пользовался славой кровавой собаки, обеспечит ему на несколько дней кров и пищу.
Около часа простоял он так, отступал в сторонку каждый раз, когда надо было освободить кому-нибудь место, пока в конце концов не оказался притиснутым к пульту режиссера, и тут-то вдруг на него обратили внимание. В съемках наступил перерыв, часть актеров устремилась в буфет, остальные, болтая, толпились в павильоне. Известный московский актер Кохалов, исполнитель роли Муратова, зашел в швейцарскую, чтобы позвонить по телефону. Он разговаривал по телефону, когда ухмыляющийся швейцар подтолкнул его локтем, и, обернувшись, Кохалов увидел старика у пульта. Загримирован Кохалов был по историческим фотографиям, и все сразу заметили его «поразительное сходство» с человеком у пульта, о котором тот говорил швейцару.
Спустя полчаса старик оказался среди режиссеров и операторов подобно двенадцатилетнему Иисусу во храме и обсуждал с ними условия своего найма. Переговоры облегчались тем, что Кохалов с самого начала не имел ни малейшего желания рисковать своей популярностью, играя закоренелого изверга. Он сразу же согласился попробовать в этой роли человека с «поразительным сходством».
В том, что на исторические роли вместо актеров подбирались подходящие по типажу люди для съемок на студии «Межрабпом-Русь» ничего необычного не было. Согласно вполне определенной режиссерской системе, применявшейся в подобных случаях, новому Муратову схематично изложили исторический ход события, которое предстояло снимать, и попросили его изобразить сначала для пробы этого Муратова так, как он его себе представляет. Все надеялись, что его внешнему сходству с настоящим Муратовым будет соответствовать и сходная манера держать себя.
Выбрали сцену, в которой Муратов принимает депутацию евреев, заклинающих его положить конец дальнейшему кровопролитию. (Страница 17 сценария. Депутация ждет. Входит Муратов. Вешает фуражку и саблю на вешалку. Подходит к письменному столу. Листает утреннюю газету и т. п.). Слегка загримированный, в мундире царского губернатора вступил «поразительно схожий» в съемочный павильон, часть которого воспроизводила исторический кабинет в губернаторском дворце, и перед всей съемочной группой сыграл Муратова, «как он себе его представляет». Он представлял его себе следующим образом. (Депутация ждет. Входит Муратов.) «Поразительно схожий» быстро вошел в дверь, руки в карманах, сутулится. (Вешает фуражку и саблю на вешалку.) Это режиссерское указание «поразительно схожий», по-видимому, забыл. Он сразу же, не снимая фуражки и сабли, сел за стол. (Листает утреннюю газету.) «Поразительно схожий» проделывает это с отсутствующим видом. (Начинает допрос депутации.) Он вообще не обратил внимания на склонившихся в поклоне евреев. Он сердито отложил газету и, по-видимому, не знал, как найти переход к допросу депутации. Он запнулся и жалобно посмотрел на режиссера и его помощников.
Все засмеялись. Один из ассистентов, подмигивая, встал, сунул руки в карманы, вразвалку вошел в выгородку, сел на письменный стол возле «поразительно схожего» и попытался ему помочь.
— Сейчас идет сцена с яблоками, — подбадривает он. — Муратов славился своей любовью к яблокам. Его деятельность в качестве губернатора состояла, помимо отдачи зверских приказов, главным образом в пожирании яблок. Он хранил их вот в этом ящике. Посмотрите, там лежат яблоки. — Он открывает ящик стола слева от «поразительно схожего». — Итак, сейчас войдет депутация, и, как только первый из них заговорит, вы начнете есть свое яблоко, сын мой.
«Поразительно схожий» выслушал молодого человека с самым напряженным вниманием. Судя по всему, яблоки произвели на него впечатление.
Сцену снимают снова, и Муратов действительно вынимает левой рукой из ящика письменного стола яблоко и начинает есть его, не то чтобы жадно, но как-то привычно, а правая его рука в это время царапает на бумаге буквы. И пока депутация излагает свою просьбу, он по-настоящему поглощен своим яблоком. Спустя несколько минут он, не слушая говорящих, небрежным жестом правой руки оборвал начатую одним из евреев фразу и исчерпал вопрос.
После этого «поразительно схожий» обернулся к режиссерам и пробормотал:
— Кто их уведет?
Главный режиссер, продолжая сидеть, спросил;
— Разве вы уже кончили?
— Да, я думал, их теперь уведут.
Главный режиссер с усмешкой оглядел всех и проговорил:
— С извергами дело обстоит отнюдь не так просто. Придется вам поднапрячься. — Он встал, и они снова начали проходить всю сцену сначала.
— Изверги так себя не ведут, — сказал он. — Так ведет себя мелкий чиновник. Понимаете, вам нужно подумать. Без этого не обойтись. Вы должны представить себе эту кровавую собаку. Вы должны ощущать его каждой жилкой. Давайте попробуем еще раз.
Затем он начал строить внутреннюю драматургию сцены. Он искал и усиливал характерные детали. «Поразительно схожий» оказался не таким уж неумелым. Он делал все, что ему говорили, и делал это даже недурно. Казалось, он так же сможет сыграть изверга, как и любой другой. После получасовой работы сцена выглядела так.
(Входит Муратов.) Плечи развернуты, грудь вперед, угловатые движения. От двери окидывает ястребиным взором застывших в низком поклоне евреев. (Вешает фуражку и саблю на вешалку.) При этом с него соскальзывает шинель, он оставляет ее лежать на полу. (Идет к столу. Листает утренние газеты.) Проглядывает подвал, посвященный театральным новостям Негромко барабанит рукой по столу такт модной песенки. (Начинает допрос.) Брезгливым движением руки приказывает евреям отодвинуться назад метра на три.
— Нет, вы ничего не понимаете. То, что вы делаете, никуда не годится, — сказал главный режиссер. — Это самый обыкновенный театр. Злодей старой школы. Мой дорогой, это совсем не то, как мы себе сегодня представляем изверга. Это не Муратов.
Все вскочили, и члены съемочной группы набросились на Кохалова, который наблюдал пробы, с уговорами Все говорили одновременно, сбившись в кучки. Сущность изверга была подвергнута всестороннему обсуждению.
На историческом стуле генерала Муратова сгорбившись сидел забытый всеми «поразительно схожий», уставившись в пространство жалобным взором, но он, по-видимому, внимательно прислушивался к разговору. Он старался разобраться в ситуации.
Исполнители ролей еврейской депутации тоже приняли участие в обсуждении. Довольно долго все слушали двух статистов, старых жителей города, которые в свое время были членами упомянутой депутации. Старикам предложили сниматься, чтобы придать фильму большую достоверность и характерность. Странным образом, они находили, что самое первое исполнение было не так уж плохо. Они не могут сказать, какое впечатление произвело это на остальных, не принимавших участие в событиях, но на них в свое время самое ужасное впечатление произвела именно обыденность и бюрократичность происходящего. Эту манеру себя держать «поразительно схожий» передал весьма точно. И то, как он машинально ел яблоко при первой пробе… Правда, при разговоре с ними Муратов яблока не ел. Помощник режиссера опроверг это.
— Муратов всегда ел яблоки, — сказал он язвительно. — Вы-то сами присутствовали при этом?
Евреи, которые не хотели, чтоб их заподозрили в том, что они не были среди тогдашних кандидатов на смерть, испуганно высказали предположение, что Муратов, вероятно, съел яблоко непосредственно перед или сразу же после встречи с ними.
В эту минуту в группе, окружавшей режиссера и Кохалова, возникло движение. «Поразительно схожий», раздвигая стоящих перед ним, пробился к главному режиссеру. С алчным и беспокойным выражением на худом лице он начал уговаривать его. Он, по-видимому, разобрался в том, что от него хотят; от страха лишиться заработка, к нему пришло озарение; теперь он предлагает:
— Мне кажется, я догадался, как вы это себе представляете. Вы хотите, чтоб он был извергом. Понимаете, мы могли бы сделать это с помощью яблок. Представьте себе, я просто-напросто беру яблоко и сую его под нос еврею. «Жри!» — говорю я. И пока он — внимание, — обратился он к исполняющему роль главы еврейской депутации, — и пока ты жрешь яблоко, подумай, от страха перед смертью оно, конечно, застрянет у тебя в глотке, но ты должен сожрать яблоко, раз я, губернатор, угощаю тебя, и притом дружелюбно, с моей стороны это дружественный жест по отношению к тебе; не так ли, — он снова повернулся к режиссеру, — а при этом я как бы между прочим подписываю смертный приговор. И тот, кто ест яблоко, видит это.
Главный режиссер несколько секунд тупо смотрел на него. Старик ссутулясь стоял перед ним, высохший, разволновавшийся и вновь погасший, на голову выше него, так что он мог заглянуть ему через плечо, и на какое-то мгновение режиссеру показалось, что старик издевается над ним, ему показалось, что в мигающих глазах старика мелькнула непостижимая издевка, нечто презрительное, недопустимое. Но тут в разговор вмешался Кохалов.
Кохалов внимательно слушал и сценой с яблоками, предложенной «поразительно схожим», зажег свою «актерскую фантазию». Грубо отодвинув «поразительно схожего» в сторону, он обратился к съемочной группе.
— Блестяще. Вот что он имеет в виду.
И он начал играть сцену так, что у них замерло сердце. Весь павильон разразился аплодисментами, когда Кохалов, обливаясь потом, подписал смертный приговор.
Подтащили «юпитеры». Объяснили, что должна делать депутация. Приготовили аппараты. Съемка началась. Кохалов играл Муратова. Так еще раз стало ясно, что одно только сходство с кровавой собакой само по себе, разумеется, ничего не значит и что для того, чтобы передать подлинную сущность зверства, требуется искусство.
Бывший царский губернатор Муратов взял в швейцарской свою шапку, раболепно поклонился швейцару и с трудом поплелся в холоде октябрьского дня обратно в город и исчез в квартале ночлежек. Он съел в этот день два яблока и раздобыл немного денег, их хватит, чтобы заплатить за ночлег.
Солдат из Ла-Сьота Перевод С. и Э. Львовых
{134}
После первой мировой войны, во время народных гуляний по случаю спуска на воду нового корабля, в маленьком портовом городе Южной Франции Ла-Сьота мы увидели на площади бронзовую статую французского солдата. Вокруг нее толпился народ. Мы подошли ближе и обнаружили, что это живой человек, который неподвижно стоит на каменном постаменте под жарким июльским солнцем. На нем желтовато-коричневая шинель, на голове стальная каска, в руках винтовка со штыком, лицо и руки отливают бронзой. Он стоит навытяжку, и ни один мускул не дрогнет на его лице.
К его ногам на постаменте прислонен кусок картона со следующим текстом:
ЧЕЛОВЕК-СТАТУЯ
(HOMME STATUE)
Я, Шарль-Луи Франшар, солдат энского полка, контуженный под Верденом, обрел чудесную способность сохранять полную неподвижность, пребывая сколько угодно времени как бы статуей. Это мое искусство проверяли многие профессора, усмотревшие в нем необъяснимую болезнь. Подайте, пожалуйста, сколько можете, безработному отцу семейства!
Мы бросили монету на тарелку, стоявшую рядом с плакатом, и пошли дальше, качая головой.
Вот он стоит, думали мы, вооруженный до зубов, неистребимый солдат многих тысячелетий. Стоит тот, кто делал историю, тот, кто помог свершиться всем великим деяниям Александра, Цезаря, Наполеона, о коих мы читаем в школьных учебниках. Это он стоит смирно, и ни один мускул не дрогнет на его лице.
Он — и лучник Кира, и возничий боевой колесницы Камбиза{135}, не окончательно погребенный под песком пустыни. Он — легионер Цезаря, он — вооруженный пикой всадник Чингисхана, он — швейцарец на службе Людовика Четырнадцатого и гренадер на службе Наполеона Первого. Он обладает способностью — не столь уж редкой — стоять не дрогнув, когда на нем испытывают орудия уничтожения — все, какие только можно придумать. Он остается тверд как камень (если верить ему), когда его посылают на смерть. Его изрешетили пики всех веков — каменного, бронзового, железного; давили боевые колесницы времен Артаксеркса{136} и времен генерала Людендорфа{137}; топтали слоны Ганнибала и эскадроны Аттилы; рвали на части куски железа, извергаемые орудиями, которые совершенствовались из века в век, не говоря уже о камнях, выброшенных катапультами; пробивали ружейные пули, большие, с голубиное яйцо, и маленькие, как пчелы. И вот он стоит — неистребимый, покорный командам на всех языках и, как всегда, не ведающий, за что и почему. Он не становится хозяином завоеванных территорий, как каменщик не становится хозяином построенного им дома. Даже его оружие и обмундирование не принадлежат ему. Вот он стоит, поливаемый смертельным дождем с самолетов, кипящей смолой с крепостных стен; под ногами у него мины и волчьи ямы, он дышит ипритом и чумой; он — одушевленное чучело для кавалерийских шашек, живая мишень. Против него — танки и газометы, впереди у него — враг, а позади — генерал!
Нет числа рукам, что ткали для него мундир, ковали латы, тачали сапоги! Нет счету богатствам, которые благодаря ему текли в чужие карманы! Каких только нет команд на всех языках мира, чтобы воодушевить его! Нет бога, который не благословил бы его! Его, изъеденного свирепой проказой терпения, пораженного неисцелимой болезнью бесчувственности!
Так что же это за контузия, которая вызвала такую болезнь, такую ужасную, чудовищную, заразную болезнь?
И мы спрашиваем себя: а может быть, она все-таки излечима?
Плащ еретика Перевод С. и Э. Львовых
{138}
Джордано Бруно, родом из Нолы, которого римская инквизиция в 1600 году приговорила к сожжению на костре как еретика, все почитали великим человеком не только за его смелые, впоследствии подтвердившиеся гипотезы о движении небесных тел, но и за его мужественный отпор судьям инквизиции, которым он сказал: «Вы с большим страхом произносите мне приговор, чем я его выслушиваю». Достаточно прочесть книги Бруно и познакомиться с рассказами о его выступлениях на ученых диспутах, чтобы понять, сколь заслуженно его называют великим; но сохранилось одно предание, которое, быть может, заставит нас уважать его еще больше.
Это история о его плаще.
Расскажем о том, как Бруно попал в руки инквизиции.
Некий Мочениго, венецианский патриций, пригласил ученого к себе в дом, чтобы тот посвятил его в тайны физики и мнемоники{139}. Несколько месяцев Бруно жил и кормился у него, давая взамен обещанные уроки, но вместо искусства черной магии, которым Мочениго надеялся овладеть, он преподавал ему только физику. Мочениго был весьма недоволен, так как не видел в этих занятиях никакого проку. Ему досаждала мысль о том, что он зря потратился на своего гостя.
Неоднократно призывал он его поделиться наконец теми знаниями, тайными и прибыльными, коими должен был, несомненно, обладать человек, столь знаменитый.
Когда же это не помогло, он донес на Бруно инквизиции. Он написал, что этот недостойный, неблагодарный человек хулил в его присутствии Христа, называл монахов ослами, говорил, что они дурачат народ, а кроме того, утверждал, будто есть не одно солнце, как сказано в Библии, а бесконечное множество солнц, и так далее, и так далее. А посему он, Мочениго, запер этого человека у себя на чердаке и просит как можно скорее прислать за ним отражу, чтобы увести его.
И действительно, в ночь с воскресенья на понедельник явилась стража и отвела ученого в тюрьму инквизиции.
Это случилось в понедельник 25 мая 1592 года, в три часа утра. И с того дня и до 17 февраля 1600 года, когда он взошел на костер, ноланец оставался в заточении.
Восемь лет тянулся ужасный процесс, и Бруно мужественно боролся за свою жизнь, однако самой отчаянной была борьба, которую он вел первый год в Венеции против выдачи его Риму.
На это время и приходится история с его плащом. Зимой 1592 года, еще живя в гостинице, он сшил себе у портного Габриэля Цунто теплый плащ. Когда Бруно арестовали, он не успел еще расплатиться за него.
При известии об аресте своего заказчика портной бросился к дому господина Мочениго в приходе святого Самуила, чтобы предъявить свой счет. Но было уже поздно. Слуга Мочениго указал ему на дверь.
— Мы достаточно потратились на этого обманщика, — орал он, стоя на пороге, да так громко, что прохожие начали оборачиваться. — Ступайте-ка в трибунал священной коллегии и расскажите там, что у вас были дела с этим еретиком.
Портной стоял ни жив ни мертв. Привлеченная криком толпа уличных мальчишек окружила его, и какой-то изукрашенный болячками оборвыш запустил в него камнем. И хотя из соседнего дома выбежала бедно одетая женщина и наградила мальчишку оплеухой, однако старик сразу же понял, как опасно оказаться тем, у кого «были дела с этим еретиком». Пугливо оглядываясь, он свернул за угол и побежал задами к себе домой. Жене он ничего не сказал о своей неудаче, и она всю неделю дивилась его подавленному настроению.
Однако первого июня, выписывая счета, она обнаружила, что один плащ не оплачен, и как раз тем человеком, чье имя было у всех на устах, ибо о ноланце говорил весь город. Повсюду передавались самые ужасающие слухи. Он-де не только в своих книгах поносил таинство брака, но и самого Христа обзывал шарлатаном и невесть что говорил о солнце.
Не удивительно, что такой человек не заплатил за плащ. Однако добрая женщина не хотела терпеть убытки.
Поскандалив с мужем, семидесятилетняя старуха облачилась в праздничное платье и отправилась в священный трибунал, где сердито потребовала, чтобы ей вернули тридцать два скуди, которые задолжал им арестованный еретик.
Чиновник, с которым она говорила, записал ее жалобу и обещал разобраться. Вскоре Цунто получил вызов и, трясясь от страха, отправился в это ужасное место. К его изумлению, его не стали допрашивать, а лишь уведомили, что, когда займутся денежными делами заключенного, будет принято во внимание и это требование. Впрочем, чиновник дал ему понять, что вряд ли можно рассчитывать на значительную сумму.
Старик был счастлив, что легко отделался, и только униженно благодарил. Однако жена его не унималась.
Чтобы покрыть убыток, недостаточно было ее мужу отказывать себе в вечернем стаканчике вина и просиживать за работой до глубокой ночи. Они задолжали за сукно, а торговец не станет ждать. Старуха кричала в кухне и на дворе, что просто стыд и срам сажать преступника в тюрьму прежде, чем он расплатится с долгами. Чтобы получить свои тридцать два скуди, она, если потребуется, и до святейшего отца в Риме дойдет. «На костре еретику плащ не понадобится! " — кричала она.
Она рассказала про их беду своему духовнику. Тот советовал ей потребовать, чтобы им, по крайней мере, возвратили плащ. Обрадовавшись, что даже церковь вынуждена признать справедливость ее притязаний, старуха заявила, что не удовольствуется плащом, он, верно, уже надеван, а кроме того, сшит по мерке. Она хочет получить наличными. Но так как в своем рвении она повысила голос, священник попросту прогнал ее. Это немного вразумило старуху, и на несколько недель она угомонилась.
Между тем из застенков инквизиции никаких новых слухов о деле арестованного еретика больше не просачивалось. Однако повсюду шептались о том, что на допросах открылись ужасающие преступления. Старуха жадно прислушивалась к этим сплетням. Для нее было пыткой узнавать, что дела еретика обстоят так плохо. Никогда он не выйдет на свободу и не расплатится с долгами. Она потеряла сон и в августе, когда жара окончательно доконала ее нервы, весьма красноречиво стала изливать свои горести в лавках, где делала покупки, а также заказчикам на примерке.
Старуха намекала, что святые отцы совершают грех, столь равнодушно отклоняя справедливые требования мелкого ремесленника. И это при нынешних налогах и когда хлеб опять подорожал.
Однажды в полдень страж инквизиции отвел ее в священный трибунал. Здесь ей настоятельно посоветовали прекратить вредную болтовню. Не стыдно ли, сказали ей, из-за каких-то несчастных скуди вести безответственные речи о таком важном процессе. Вместе с тем ей дали понять, что она рискует нажить себе немало неприятностей.
На некоторое время предостережение помогло, хотя при мысли о «несчастных скуди», которыми попрекнул ее этот раскормленный монах, вся кровь бросалась ей в голову.
Но в сентябре заговорили о том, что великий инквизитор в Риме требует выдачи ноланца и что с Синьорией ведутся переговоры.
Горожане оживленно обсуждали требование о выдаче, и все были возмущены. Цехи не желали покориться римскому суду.
Старуха была вне себя. Неужто еретика отпустят в Рим прежде, чем он уплатит свои долги? Этого еще не хватало! Едва она услышала эту невероятную весть, как тотчас же, не дав себе даже времени надеть юбку получше, помчалась в здание священного трибунала.
На этот раз она была принята чиновником поважнее и, как ни странно, более предупредительным, чем все, с кем она имела дело раньше. Он был почти ее ровесник и выслушал ее жалобы спокойно и внимательно. Когда она кончила, он после небольшой паузы спросил, не хочет ли она поговорить с Бруно.
Она тотчас же согласилась. Свидание было назначено на следующий день.
Назавтра в тесной камере с решетками на окнах ее встретил маленький худой человек с реденькой темной бородкой и вежливо спросил, что ей угодно.
Она видела его раньше на примерке и все время помнила, но сейчас не узнала. Очевидно, это допросы так измучили его.
Она сказала торопливо:
— Плащ. Вы же не заплатили за него.
Несколько секунд он смотрел на нее с удивлением. Потом вспомнил и спросил тихим голосом:
— Сколько я вам должен?
— Тридцать два скуди, — сказала она, — ведь вы получили счет.
Он повернулся к высокому толстому чиновнику, присутствовавшему при свидании, и спросил, не известно ли ему, какие деньги были сданы в священное судилище вместе с его вещами. Тот не знал, но обещал выяснить.
— Как поживает ваш муж? — спросил узник, снова обращаясь к старухе, как будто дело уже улажено и теперь вступают в силу нормальные отношения хозяина с гостьей.
Старуха, смущенная приветливостью этого тщедушного человека, пробормотала, что все в порядке. Муж здоров, сказала она и даже добавила что-то про его ревматизм.
Считая, что учтивость требует дать заказчику время для выяснения вопроса, она только два дня спустя снова отправилась в священный трибунал.
И действительно, ей еще раз было разрешено поговорить с Бруно. Она прождала его в маленькой комнатке с решетчатыми окнами более часу — он был на допросе.
Он пришел и казался очень измученным. Так как в комнате не было стула, он слегка прислонился к стене. Тем не менее он сейчас же заговорил о деле.
Он сказал ей очень слабым голосом, что, к сожалению, не может заплатить за плащ. Среди его вещей денег не оказалось. Но не все еще потеряно: подумав, он вспомнил, что с одного человека, который издавал его книги в городе Франкфурте, ему еще причитаются деньги. Он напишет во Франкфурт, если только ему разрешат. Он будет завтра же просить об этом. Сегодня во время допроса настроение показалось ему не слишком благоприятным, и он не хотел просить, чтобы не испортить дело.
Пока он говорил, старуха смотрела на него острыми, пронизывающими глазами. Ей были знакомы уловки и отговорки неаккуратных должников. Они ни в грош не ставят свои обязательства, а когда их прижмешь, делают вид, будто готовы перевернуть небо и землю.
— Зачем же вы заказывали плащ, если вам нечем за него платить? — спросила она резко.
Узник кивнул в знак того, что понял ее мысль.
Он ответил:
— Я всегда зарабатывал достаточно писанием книг и преподаванием и думал, что буду зарабатывать и дальше. А плащ был мне нужен, я ведь не собирался садиться в тюрьму.
Он сказал это без капли горечи, просто чтобы ответить ей.
Разгневанная старуха смерила его с головы до ног, однако от новых выпадов ее что-то удержало. Не говоря ни слова, она выбежала из камеры.
— Кто же станет посылать деньги человеку, которого преследует инквизиция? — сердито сказала она мужу вечером, лежа в постели.
А он, не опасаясь больше неприятностей со стороны духовных властей, все же не одобрял настойчивых попыток жены получить деньги.
— У него сейчас другие заботы, — заметил он.
Она ничего не сказала.
Следующие месяцы не внесли ничего нового в это неприятное Дело. В начале января стало известно, что Синьория склоняется исполнить желание папы и выдать еретика. И тогда чета Цунто получила новое приглашение в здание священного судилища.
Так как точного времени не было указано, старуха Цунто направилась туда однажды на склоне дня. Она пришла некстати. Узник ожидал прокуратора республики, которому Синьория поручила подготовить заключение по вопросу о его выдаче Риму.
Ее принял тот самый важный чиновник, который разрешил ей первое свидание с ноланцем. Старик сказал, что заключенный выразил желание поговорить с ней, но не лучше ли отложить свидание на другое время? Заключенному сейчас предстоит в высшей степени важная беседа.
Она ответила коротко, что об этом лучше спросить его самого.
Один из служителей ушел и вернулся с заключенным. Разговор состоялся в присутствии важного чиновника. Прежде чем ноланец, который уже в дверях улыбнулся ей, успел что-либо сказать, старуха воскликнула:
— Если вы не собирались садиться в тюрьму, зачем же вы так вели себя?
Одно мгновение маленький человек казался озадаченным. За эти три месяца он отвечал на столько вопросов, что конец его последнего разговора с женой портного едва ли сохранился в его памяти.
— Я не получил денег, — сказал он наконец, — я дважды писал, но денег не получил. Я думал, не возьмете ли вы обратно плащ?
— Так я и знала, что этим кончится, — сказала она презрительно. — Плащ сделан по вашей мерке и будет для другого слишком мал.
Ноланец посмотрел на старую женщину страдальческим взглядом.
— Об этом я не подумал, — ответил он и повернулся к монаху. — Нельзя ли продать мое имущество и отдать деньги этим людям?
— Это невозможно, — вмешался в разговор чиновник, который его привел, высокий толстяк. — На ваше имущество притязает синьор Мочениго. Вы долго жили на его средства.
— Я жил у него по его приглашению, — ответил ноланец устало.
Старик поднял руку.
— Это к делу не относится. Я полагаю, что плащ нужно вернуть.
— А на что он нам сдался? — упрямо возразила старуха.
Лицо старика слегка покраснело. Он медленно сказал:
— Милая женщина, иметь немного христианской снисходительности вам, право бы, не помешало. Обвиняемому предстоит разговор, который означает для него жизнь или смерть. Едва ли вы вправе требовать, чтобы он особенно интересовался вашим плащом.
Старуха неуверенно посмотрела на него. Она вдруг вспомнила, где находится. Она уже подумала, не лучше ли ей уйти, как вдруг услышала позади тихий голос заключенного:
— Я считаю, что она вправе этого требовать. — И когда она обернулась к нему, он добавил: — Вы должны меня извинить за все, что случилось. Не думайте, что мне безразличен ваш убыток. Я заявлю об этом в ходе процесса.
Высокий толстяк по знаку старика покинул комнату. Теперь он вернулся и, разводя руками, сказал:
— Плащ вообще не был нам доставлен. Мочениго, должно быть, задержал его.
Было заметно, что ноланец испугался, затем он сказал решительно:
— Это несправедливо. Я буду жаловаться.
Старик покачал головой.
— Подумайте лучше о разговоре, который вам предстоит через несколько минут. Я не могу больше допускать, чтобы здесь препирались из-за каких-то несчастных скуди.
Кровь бросилась старухе в лицо.
Пока говорил ноланец, она молчала и, жуя губами, смотрела в угол комнаты. Но теперь она снова потеряла терпение.
— Несчастных скуди! — крикнула она. — Это наш месячный заработок! Легко вам быть снисходительным. Вы-то ничего не теряете!
В эту минуту на пороге показался монах высокого роста.
— Прокуратор приехал, — сказал он вполголоса, с удивлением глядя на кричащую старуху.
Толстяк взял ноланца за рукав и увел его из комнаты. Пока заключенный шел к порогу, он все время оглядывался через узкое плечо на женщину. Худое лицо его было очень бледно.
Растерянно спускалась старуха по каменной лестнице. Она не знала, что и думать. В конце концов, этот человек сделал все, что мог.
Она не вошла в мастерскую, когда неделю спустя толстый монах принес им плащ. Но она стояла у двери и слышала, как он сказал:
— Заключенный и в самом деле все последнее время волновался из-за плаща. Дважды между допросами и переговорами, которые вели с ним городские власти, он делал заявление и все добивался беседы с нунцием. И он настоял на своем. Мочениго пришлось отдать плащ. Хотя, по правде сказать, плащ очень бы пригодился теперь самому узнику: вопрос о выдаче решен, и на этой же неделе его повезут в Рим.
И в самом деле, стоял конец января.
«Меловой крест»
Опыт Перевод С. и Э. Львовых
{140}
Конец официальной карьеры великого Фрэнсиса Бэкона напоминает назидательную иллюстрацию к лживому изречению: «Злом добра не наживешь».
Верховный судья государства, он был уличен во взяточничестве и заключен в тюрьму. Годы его лорд-канцлерства, ознаменованные казнями, раздачей пагубных монополий, противозаконными арестами, вынесением лицеприятных приговоров, относятся к самым темным и позорным страницам английской истории. Когда же он был изобличен в этих злодеяниях и во всем сознался, его всемирная известность гуманиста и философа способствовала тому, что молва об этом распространилась далеко за пределы государства.
Немощным стариком вернулся Бэкон из тюрьмы в свое имение. Здоровье его было расшатано постоянным напряжением, в котором он жил, вечно занятый интригами против других и страдая от интриг, которые причиняли ему эти другие…
Но едва приехав домой, он всецело погрузился в изучение естественных наук. Восторжествовать над людьми ему не удалось. И теперь он посвятил оставшиеся силы исследованию того, как человечество может наилучшим образом восторжествовать над природой.
Его занятия, обычно посвященные предметам насущно полезным, снова и снова уводили его из кабинета в поля, сады и конюшни имения. Часами беседовал он с садовником о том, как облагородить фруктовые деревья, или давал указания служанкам, как измерять удой каждой коровы. Как-то раз он обратил внимание на мальчика, состоявшего при конюшне. Занемогла дорогая лошадь, паренек дважды в день являлся к философу с докладом о ее здоровье. Его рвение и наблюдательность приводили старика в восторг.
Однажды вечером, заглянув в конюшню, он увидел подле мальчика старую женщину и услышал, как она говорила:
— Он плохой человек, не верь ему. Хоть он и важный барин и денег у него куры не клюют, а все-таки он плохой человек. Он дает тебе работу и хлеб, делай свое дело добросовестно, но помни: человек он нехороший.
Философ не слышал ответа, он быстро повернулся и ушел. Но на следующее утро он не обнаружил в мальчике никакой перемены. Когда лошадь поправилась, он стал брать его с собой на прогулку и доверял ему небольшие поручения. Постепенно он все больше привыкал обсуждать с ним свои опыты. При этом отнюдь не выбирал слов, которые, как думают взрослые, доступны пониманию ребенка, а говорил с ним словно с образованным человеком. Всю жизнь Бэкон общался с величайшими умами, но его редко понимали; и не потому, что он говорил неясно, а потому, что говорил слишком ясно. И теперь он не старался снизойти до понимания ребенка и только терпеливо поправлял его, когда тот, в свою очередь, пытался употреблять слова, ему чуждые.
Мальчик должен был упражняться в описании предметов, какие он видел, и опытов, в которых он принимал участие. Философ разъяснял ему, как много есть всяких слов и сколько их нужно для описания свойств предмета, чтобы его можно было, хотя бы отчасти, узнать, а главное, понять, как с ним обращаться. Были и такие слова, к которым прибегать не стоило, потому что они по существу ничего не означали. Это слова вроде «хорошо», «плохо», «красиво» и так далее.
Мальчик скоро усвоил, что нет смысла называть жука «безобразным» и даже сказать о нем «проворный» тоже недостаточно. Нужно еще установить, как быстро жук передвигается по сравнению с другими подобными тварями и какие это ему дает преимущества. Нужно было, посадив жука на наклонную плоскость, а потом на горизонтальную и производя шум, заставить его побежать — или положить перед ним кусочки приманки, чтобы он устремился за ними. Стоило заняться жуком подольше, и он уже не казался уродливым. Однажды мальчику пришлось описать кусок хлеба, — он держал его в руке при встрече с философом.
— Вот где ты спокойно можешь употребить слово «хороший», — сказал старик. — Хлеб сотворен человеком для еды и, следовательно, может быть для него хорошим или плохим. Другое дело — более сложные вещи, созданные природой не на потребу человека, о назначении которых ему трудно судить, — тут было бы глупо довольствоваться подобными словами.
Мальчик вспомнил суждение своей бабушки о милорде.
Он быстро все схватывал, потому что схватывать приходилось всегда то, что было вполне ощутимо, что можно было схватить рукой. Лошадь выздоровела благодаря примененным средствам, а дерево погибло из-за примененных средств. Он понял также, что всегда следует оставлять место разумному сомнению — действительно ли причиной изменений послужили средства, которые были применены. Мальчик едва ли понимал, какое значение для науки имеют мысли великого Бэкона, но явная полезность всех этих начинаний воодушевляла его.
Он понимал философа так: в мире наступило новое время. Человечество с каждым днем увеличивает свои познания. Эти познания необходимы для счастья и благополучия людей на земле. Во главе всего стоит наука. Наука исследует вселенную и все, что есть на земле: растения, животных, почву, воду, воздух, чтобы все это служило человеку. Важно, не во что мы верим, а что мы знаем. Люди слишком многому верят и слишком мало знают. Поэтому должно все испробовать самому, ощупать собственными руками и говорить только о том, что сам видел и что может принести какую-то пользу.
Это было новое учение. И все больше людей обращалось к нему и, воодушевленное им, готово было предпринять новые изыскания.
Книги играли тут большую роль, хотя немало было и плохих книг. Мальчику стало ясно, что он должен найти путь к книгам, если он хочет стать одним из тех, кто причастен к этим новым изысканиям.
Разумеется, он никогда не бывал в библиотеке замка. Ему приходилось дожидаться милорда у конюшни. Самое большее, на что он осмеливался, если старый господин не приходил несколько дней кряду, — это попасться ему на глаза, когда тот гулял в парке. Тем не менее его любопытство к кабинету ученого, где по ночам так долго горел свет, все росло. Взобравшись на изгородь, он мог видеть за его окнами книжные полки.
Он решил научиться читать. Это было, однако, совсем не просто. Священник, к которому он пришел со своей просьбой, поглядел на него, как глядят на забежавшего на скатерть паука.
— Уж не хочешь ли ты читать Евангелие господа нашего коровам? — недовольно спросил он мальчика. Хорошо еще, что дело обошлось без затрещин.
Значит, надо было искать других путей.
В алтаре деревенской церкви лежал требник. Проникнуть туда можно было, вызвавшись звонить в колокол. Хорошо бы узнать, какое место в книге поет священник; может, тогда ему откроется связь между словами и буквами?
На всякий случай мальчик старался затвердить латинские тексты, которые пел курат во время мессы, — хотя бы некоторые из них. Но священник выговаривал слова очень неясно, да и не часто служил мессу.
И все же спустя некоторое время мальчик был уже в состоянии спеть несколько вступительных фраз мессы. Старший конюх, накрыв его между сараями за этим занятием и решив, что он передразнивает священника, отколотил беднягу. Так дело все-таки не обошлось без затрещин.
Мальчику все еще не удалось найти в требнике слова, которые пел священник, когда разразилась беда, сразу же положившая конец его попыткам научиться грамоте.
Милорд заболел и лежал при смерти.
Он прихварывал всю осень, а зимой, еще не совсем оправившись, поехал в открытых санях за несколько миль в соседнее имение. Мальчику было разрешено сопровождать его. Он стоял за козлами.
Визит был окончен; старик, провожаемый хозяином, тяжело ступая, пошел к саням и вдруг увидел на дороге замерзшего воробья. Остановившись, он перевернул его тростью.
— Давно он здесь лежит, как вы полагаете? — услышал мальчик, следовавший за ним с грелкой, его вопрос, обращенный к хозяину.
Тот ответил:
— Может, час, а может, и неделю, если не больше.
Тщедушный старик рассеянно простился с хозяином и задумчиво пошел дальше.
— Мясо совсем еще свежее, Дик, — сказал он, повернувшись к мальчику, когда сани тронулись.
Назад они ехали довольно быстро; на заснеженные поля спускался вечер, мороз крепчал. И вот на повороте при въезде в имение они задавили курицу, по-видимому выбежавшую из курятника.
Старик следил за тем, как кучер пытается объехать растерянно мечущуюся курицу, и, когда это ему не удалось, дал знак остановиться.
Выбравшись из-под своих одеял и мехов и опираясь на мальчика, он вылез из саней и, невзирая на то, что толковал ему кучер о холоде, пошел туда, где лежала курица.
Она была мертва.
Старик велел мальчику поднять курицу.
— Выпотроши ее, — приказал он.
— Не лучше ли сделать это на кухне? — спросил кучер, боясь, как бы его ослабевшего господина не прохватило на холодном ветру.
— Нет, лучше здесь, — ответил тот. — У Дика, наверно, есть при себе нож, и нам нужен снег.
Мальчик сделал, как ему было приказано, и старик, видимо позабыв и свою болезнь, и мороз, нагнулся и, кряхтя, набрал горсть снега. Заботливо принялся он набивать снегом тушку птицы.
Мальчик понял. Он стал собирать снег и подавать его своему учителю, чтобы набить тушку до отказа.
— Вот таким образом она должна многие недели сохраниться свежей, — сказал старик с увлечением. — Снеси ее в погреб и Положи на холодный пол.
Короткое расстояние до двери он прошел пешком, уже немного устав и тяжело опираясь на мальчика, который нес под мышкой набитую снегом курицу.
Едва он вошел в переднюю, как его охватил озноб.
На следующий день он слег и метался в сильном жару.
Встревоженный мальчик бродил вокруг дома в надежде услышать что-нибудь о здоровье своего учителя. Но он мало что узнал. Жизнь большого имения шла своим чередом. И лишь на третий день что-то произошло. Его позвали в рабочий кабинет.
Старик лежал на узкой деревянной кровати под множеством одеял, но при открытых окнах, так что в комнате было холодно. И все же казалось, что больной пылает от жара. Слабым голосом осведомился он о состоянии набитой снегом тушки.
Мальчик сказал, что у нее совершенно свежий вид.
— Это хорошо, — сказал старик с удовлетворением. — Через два дня снова доложишь мне.
Уходя, мальчик пожалел, что не взял с собой тушку.
Старик показался ему не таким больным, как говорили в людской.
Дважды на дню он менял снег, и, когда снова направился в комнату больного, курица была такая же свежая.
Но тут мальчик наткнулся на неожиданное препятствие.
Из столицы приехали доктора. По всему коридору неслось жужжание приглушенных властных и заискивающих голосов, повсюду мелькали чужие лица.
Слуга, который спешил в спальню больного с подносом, накрытым большим полотенцем, грубо погнал мальчика прочь.
Много раз утром и вечером пытался Дик проникнуть в комнату больного, и все напрасно. Казалось, чужие доктора решили обосноваться в замке. Они представлялись мальчику большими черными птицами, которые кружили над беззащитным больным.
Под вечер он спрятался в кабинете, выходившем в коридор, где было очень холодно. Его трясло от мороза, но он считал это большой удачей, ибо опыт требовал, чтобы курица постоянно была на холоде.
Во время ужина, когда черный поток немного схлынул, мальчик проскользнул в спальню милорда.
Больной лежал один, все ушли ужинать. Подле узкой кровати стоял ночник под зеленым абажуром. Лицо больного, странно высохшее, поражало восковой бледностью. Глаза были закрыты, но руки беспокойно шарили по жесткому одеялу. В комнате было жарко натоплено, окна закрыты.
Мальчик сделал несколько шагов к кровати, судорожно сжимая в вытянутых вперед руках курицу, и несколько раз чуть слышно позвал: «Милорд». Никакого ответа. Однако больной, казалось, не спал. Его губы порой шевелились, как будто он что-то говорит.
Мальчик, убежденный в важности для опыта дальнейших указаний учителя, решил привлечь его внимание. Но едва он, поставив на кресло ящик с курицей, коснулся одеяла, как кто-то схватил его сзади за шиворот и оттащил прочь.
Толстяк с серым лицом глядел на него, как на убийцу. Сохраняя присутствие духа, мальчик вырвался, схватил ящик и выскочил за дверь.
В коридоре ему показалось, что его заметил помощник дворецкого, поднимавшийся по лестнице. Плохо дело! Как он докажет, что явился по приказанию милорда, чтобы сообщить ему о важном опыте? Старый ученый был полностью во власти своих докторов. Закрытые окна в спальне свидетельствовали об этом. И действительно, Дик увидел, как один из слуг идет через двор к конюшне. Он не стал ужинать, отнес курицу в погреб и забрался на сеновал.
Спал он тревожно, всю ночь ему мерещился предстоящий розыск. Робко вылез он поутру из своего убежища.
Но никто о нем не вспомнил. Во дворе была страшная суматоха, все сновали взад и вперед. Милорд скончался рано утром.
Весь день мальчик кружил по двору, словно его оглушили обухом. Он чувствовал, что смерть учителя всегда будет для него невозвратимой потерей. Когда же в сумерках он спустился в погреб с миской снега, горе охватило его с новой силой при мысли о незавершенном опыте, и он безутешно заплакал над ящиком. Что же станется с великим открытием?
Возвращаясь во двор — причем собственные ноги казались ему такими тяжелыми, что он невольно оглянулся на свои следы в снегу, не глубже ли они, чем обычно, — мальчик увидел, что лондонские врачи еще не уехали. Их кареты были еще здесь.
Несмотря на свою неприязнь, мальчик решил доверить им открытие. Люди ученые, они должны были понять всю важность опыта. Он принес ящичек с замороженной курицей и спрятался позади колодца, пока мимо него не прошел один из этих господ — коренастый человек, не внушающий особого страха. Выйдя из своего укрытия, мальчик протянул ему ящик. Слова застряли у него в горле, но все же ему удалось несвязно, запинаясь изложить свою просьбу.
— Милорд нашел ее мертвой шесть дней назад, ваша светлость. Мы набили ее снегом. Милорд считал, что мясо останется свежим. Посмотрите сами. Оно совершенно свежее.
Коренастый с удивлением уставился на ящик.
— Ну и что же дальше? — спросил он.
— Оно не испортилось, — ответил мальчик.
— Так, — сказал коренастый.
— Посмотрите сами, — настойчиво повторил мальчик.
— Вижу, — сказал коренастый и покачал головой. Так, качая головой, он пошел дальше. Мальчик, обескураженный, смотрел ему вслед. Он не мог понять этого коротышку. Не оттого ли умер милорд, что вышел из саней на мороз, чтобы провести свой опыт? Ведь он руками брал снег с земли. Это несомненно.
Мальчик медленно побрел обратно, к двери в погреб, но, не дойдя до нее, остановился, повернул и побежал на кухню.
Повар был очень занят, так как к ужину ждали со всей округи гостей с соболезнованиями.
— Зачем тебе эта птица? — заворчал на него повар. — Она же совершенно мерзлая.
— Это ничего, — сказал мальчик. — Милорд говорит, что это ничего не значит.
Повар рассеянно поглядел на него, а потом вперевалку направился к двери с большой сковородой в руках, очевидно, выбросить что-то. Мальчик неотступно следовал за ним со своим ящиком.
— Давайте попробуем, — сказал он умоляющим голосом.
У повара лопнуло терпение. Он схватил курицу своими сильными ручищами и с размаху швырнул во двор.
— Видно, у тебя нет другой заботы! — закричал он вне себя. — Разве ты не знаешь, что его милость скончался?
Мальчик поднял птицу с земли и ушел. Два следующих дня были заняты траурными церемониями. Ему все время приходилось то запрягать, то распрягать лошадей, и ночью, меняя в ящике снег, он, можно сказать, спал на ходу. Им овладела глубокая безнадежность. Новая эпоха кончилась.
Но на третий день, день погребения, мальчик тщательно умылся, надел свой лучший наряд, и настроение у него изменилось. Стояла чудесная, бодрящая зимняя погода. Из деревни доносился перезвон колоколов.
Исполненный новых надежд, он пошел в погреб и долго и внимательно смотрел на мертвую птицу. На ней не было заметно никаких следов гниения. Заботливо уложил он ее в ящик, наполнил его свежим белым снегом и, взяв под мышку, направился в деревню.
Весело насвистывая, вошел он в низенькую кухню своей бабушки. Родители мальчика рано умерли, его воспитала бабушка, которой он во всем доверялся. Не показывая, что у него в ящике, он сообщил старушке, которая в это время переодевалась для похорон, об опыте милорда. Она терпеливо выслушала его.
— Так кто же этого не знает? — сказала она чуть погодя. — Птица застывает на холоде и так некоторое время сохраняется. Что же тут особенного?
— Я думаю, ее еще можно есть, — сказал мальчик как можно равнодушнее.
— Есть куру, которая уже неделю как издохла? Так ею же отравишься!
— Почему же? Ведь ей ничего не сделалось. И она не была больна, ее задавило санями милорда.
— Но внутри, внутри-то она порченая, — возразила старушка, теряя терпение.
— Не думаю, — сказал мальчик твердо, не сводя с курицы ясных глаз. — Внутри у нее все время был снег. Пожалуй, я сварю ее.
Старуха рассердилась.
— Ты пойдешь со мной на похороны, — сказала она, прекращая этот разговор. — По-моему, его милость достаточно для тебя сделал, чтобы ты, как полагается, проводил его гроб.
Мальчик ничего ей не ответил. Пока она повязывала черный шерстяной платок, он достал курицу, сдул с нее остатки снега и положил на два полешка перед печкой, чтобы она оттаяла.
Старушка больше не смотрела на него. Одевшись, она взяла его за руку и решительно направилась к двери.
Некоторое время мальчик послушно шел следом. На дороге было много народу, мужчин и женщин, все шли на похороны. Внезапно мальчик вскрикнул от боли. Он угодил в сугроб. С перекошенным лицом он вытащил ногу, вприпрыжку доковылял до придорожного камня и, опустившись на него, стал растирать ступню.
— Я вывихнул ногу, — сказал он.
Старуха недоверчиво на него посмотрела.
— Ты вполне можешь идти, — сказала она.
— Нет, — огрызнулся он. — А если не веришь, посиди со мной и подожди, покуда пройдет.
Старуха молча села подле него.
Прошло четверть часа. Мимо все еще тянулись деревенские жители; правда, их становилось все меньше. Мальчик и старуха упрямо сидели на обочине дороги.
Наконец старуха сказала с укором:
— Разве он не учил тебя, что не следует лгать?
Мальчик ничего не ответил. Старуха поднялась со вздохом.
Она совсем замерзла.
— Если ты через десять минут не нагонишь меня, я скажу твоему брату, пусть отстегает тебя по заднице.
И она торопливо заковыляла дальше, чтобы не пропустить надгробную речь.
Мальчик подождал, пока она отойдет достаточно далеко, и медленно поднялся. Он пошел обратно, часто оборачиваясь и не переставая прихрамывать. И только когда изгородь скрыла его от глаз старушки, он пошел, как обычно.
В хижине он уселся около курицы и стал смотреть на нее. Он сварит ее в котелке с водой и съест крылышко. Тогда будет видно, отравится он или нет.
Он все сидел, когда издалека донеслись три пушечных выстрела. Они прозвучали в честь Фрэнсиса Бэкона, барона Верулемского, виконта Сент-Альбанского, канцлера Англии, который одним своим современникам внушал отвращение, а другим — страсть к полезным занятиям.
Раненый Сократ Перевод Л. Иноземцева
{141}
Сын повивальной бабки Сократ, который умел исподволь, пересыпая разговор меткими шутками, подводить друзей к рождению вполне законченных мыслей и таким образом незаметно помогал им обзаводиться кровным потомством вместо тех пасынков, каких навязывают своим ученикам другие учителя, славился не только как мудрейший, но и как храбрейший из греков. И действительно, когда мы читаем у Платона, как легко и беззлобно он осушил чашу цикуты, которою был награжден властями за все свои заслуги перед соотечественниками, мужество Сократа не вызывает у нас никаких сомнений. Однако многие почитатели превозносили его и за храбрость на поле брани.
В самом деле, известно, что Сократ участвовал в битве при Делионе в рядах легкой пехоты, поскольку ни по своему ремеслу сапожника, ни по своим доходам философа он не мог быть зачислен в привилегированный и дорогой род войск. Однако храбрость его, как легко представить, была особого рода.
Все утро перед боем Сократ, готовясь к кровавой сече, усердно жевал лук — любой солдат скажет вам, что это незаменимое средство для поддержания мужества. Будучи скептиком в одних вопросах, Сократ тем большее легковерие проявлял в других. Он был за практический опыт против умозрения и поэтому не верил в богов, а в лук, скажем, верил.
К сожалению, на сей раз лекарство не оказало действия, во всяком случае — моментального действия, и Сократ, мрачно настроенный, шагал в растянувшемся цепочкой отряде мечников, который должен был занять позицию на каком-то сжатом поле. Впереди и позади шагали, спотыкаясь, какие-то юноши из афинских предместий. Между прочим, они обратили внимание Сократа на то, что щиты, поставляемые афинскими цейхгаузами, явно не рассчитаны на таких толстяков, как он. Нечто подобное приходило уже в голову и самому Сократу, но он называл это солидностью: дурацкие щиты и наполовину не прикрывали мало-мальски солидного человека.
Обмен мыслями между теми, кто ковылял впереди и позади его, только что перешел от карликовых щитов к крупным прибылям поставщиков оружия, как раздалась команда:
— Расположиться лагерем!
Люди валились прямо на жнивье. Сократ хотел было присесть на щит, но нарвался на замечание. Однако его встревожил не столько начальственный окрик, сколько то, что он был сделан вполголоса: очевидно, неприятель находился где-то недалеко.
Белесый утренний туман скрывал местность. Но топот и бряцанье оружия указывали, что долина занята.
С раздражением вспомнил Сократ свой вчерашний разговор с молодым аристократом, которого он когда-то встречал за кулисами. Теперь этот оболтус командовал конницей.
— Замечательный план! — объяснял он Сократу. — Пехота строится и мужественно и стойко, как полагается пехоте, принимает на себя удар противника. А тем временем конница устремляется в низину и заходит ему в тыл.
Низина, вероятно, где-то правее и дальше, в тумане. Там сейчас разворачивается конница.
Тогда Сократу показалось, что план хорош, во всяком случае, не так уж плох. Впрочем, самое простое — это строить планы, особенно если противник тебя сильней. А потом все неизбежно сводится к драке, вернее, к резне, и продвигаешься вперед не там, где намечалось планом, а там, где враг отступает.
Теперь, в тусклом свете занимавшегося дня, вчерашний план представлялся Сократу совершеннейшей бестолковщиной, чепухой. Как понять, что пехота принимает на себя удар противника? Ведь обычно каждый рад избежать удара, а тут вся премудрость в том, чтобы принять его на себя. Хуже нет, когда полководцем назначают всадника!
Этак на базарах скоро не хватит луку, столько его требуется простому человеку.
А разве не противно человеческой природе в такой ранний час, когда бы еще нежиться в постели, сидеть где-то в поле, на голой земле по меньшей мере с десятью фунтами железа на плечах и с ножом мясника в руке? Бесспорно, город нужно защищать, раз на него напали, иначе потом не оберешься неприятностей. Но спрашивается, почему напали?
Судовладельцы, виноградари и рабовладельцы Малой Азии, видите ли, стали поперек дороги персидским судовладельцам, виноградарям и работорговцам.
Хорошенькая причина!
Вдруг все насторожились. Слева из тумана донесся глухой гул голосов вперемежку со звоном металла. Рев быстро нарастал и становился все явственнее. Атака персов началась.
Весь отряд вскочил на ноги. Каждый воин, напрягая зрение, всматривался в туман. Кто-то шагах в десяти от Сократа упал на колени и коснеющим языком взывал к богам. «Не поздно ли? " — подумал Сократ.
И словно в ответ, где-то дальше вправо, раздался отчаянный вопль. Крики о помощи захлебнулись в предсмертных стонах. В мглистом воздухе промелькнуло что-то маленькое, блестящее. Дротик!
Вслед за дротиком, еще неясные в тумане, обозначились фигуры воинов: неприятель.
Сократ, потрясенный мыслью, что он, пожалуй, упустил время, неуклюже повернулся и побежал. Тяжелый панцирь и ножные латы сильно мешали ему. Они были куда опасней, чем щит; их не бросишь сразу.
Задыхаясь, бежал философ по жнивью. Все зависело от того, удастся ли ему удержать преимущество. Может быть, храбрые юноши там, за его спиной, примут на себя удар и на время остановят противника.
Внезапно он вскрикнул от адской боли. Левая нога горела, это было нестерпимо. Со стоном повалился он на землю и тут же подскочил от новой боли. Сократ повел вокруг мутным взглядом и понял все: он попал в заросли терновника! Кругом, куда ни глянь, тянулись кусты, усаженные острыми шипами. В ноге торчала, должно быть, такая же колючка.
Сократ, сдерживая слезы боли, поискал местечка, чтобы сесть. Он запрыгал на одной ноге и, сделав полный круг, осторожно опустился на землю. Необходимо было немедленно вытащить занозу.
Весь насторожившись, прислушался он к шуму боя, который значительно расширился на обоих флангах; в центре до него все еще было около сотни шагов, однако он приближался медленно, но верно.
Сандалию никак не удавалось снять. Заноза, проткнув тонкую подошву, глубоко вошла в пятку. Можно ли снабжать солдат, защищающих родину от врага, такой тонкой обувью! Малейшее прикосновение к сандалии вызывало невыносимую боль. У бедного философа опустились могучие руки.
Что делать?
Затуманенный взор его упал на меч, валявшийся рядом. Мысль, более счастливая, чем когда-либо в споре, обожгла философа. Меч вполне заменит нож! Он схватил его.
В эту минуту раздались глухие шаги. Через чащу кустарника пробирался небольшой отряд. Слава богам, это были свои! Заметив Сократа, они на миг остановились, и он слышал, как кто-то сказал: «Это сапожник». А затем отряд двинулся дальше.
Но вот донесся шум слева. Оттуда слышались слова команды на чужом языке. Персы!
Опираясь на меч, который был для этого коротковат, Сократ старался встать на ноги, то есть на здоровую ногу. В просвете между кустов он видел теперь клубок сражающихся, слышал стоны и удары тупого железа о железо или о кожу.
В отчаянии он запрыгал прочь, но тут же, ступив на раненую ногу, со стоном повалился на землю. И даже когда кучку сражавшихся, всего двадцать — тридцать человек, отделяло от него только несколько шагов, философ все еще сидел между двумя кустами терновника, беспомощно глядя навстречу врагу.
Двигаться было невозможно. Что угодно, лишь бы не испытать еще раз эту ужасную боль в ноге. Не зная, на что решиться, он вдруг завопил что есть мочи.
В сущности, он не чувствовал, что кричит, а только слышал собственные крики. Его могучая грудь издавала трубные звуки;
— Третий отряд, сюда! Задайте им перцу, ребята!
Словно со стороны, он увидел, как схватил меч и стал размахивать им вокруг: перед ним, вынырнув из кустов с копьем в руке, появился вражеский солдат. От удара меча копье полетело в сторону, увлекая за собою перса.
И Сократ снова услышал свой рев:
— Ни шагу назад, ребята! Наконец-то они у нас в руках! Крапол, с шестым — вперед! Нуллос, заходи справа! В порошок сотру, кто вздумает бежать!
К своему удивлению, Сократ увидел рядом двух своих, они испуганно уставились на него.
— Кричите, черт вас дери, кричите! — сказал он им тихо.
У одного от страха дрожала челюсть, другой принялся кричать что-то бессвязное. Перс между тем с трудом поднялся и исчез в кустах.
От прогалины подошло еще с десяток обессилевших греков. Персы, очевидно, бежали, заслышав крики, — они опасались засады.
— Что здесь такое? — спросил Сократа, все еще сидевшего на земле, один из его земляков.
— Ничего, — ответил тот. — Только не сбивайтесь все в кучу и не пяльтесь на меня. Лучше бегайте взад-вперед и командуйте, чтобы там не заметили, как нас мало.
— А не убежать ли нам? — колебался солдат.
— Ни шагу назад! — заорал философ. — Что вы, трусы, что ли?
Но ведь солдату мало одного страха, а нужна еще и удача: откуда-то издалека, но вполне отчетливо донесся конский топот и яростные возгласы на греческом языке. Всем известно, сколь полным было поражение персов в этот день. Оно-то и решило исход войны.
Когда Алкивиад во главе своих всадников подскакал к зарослям терновника, он увидел, что кучка пехотинцев несет на плечах какого-то толстяка. Узнав в нем Сократа, Алкивиад задержал коня, и воины рассказали ему, что этот человек своим несокрушимым мужеством остановил дрогнувшие ряды бойцов.
Сократа с триумфом отнесли в обоз и, несмотря на его протесты, усадили в повозку. Окруженный потными, возбужденно орущими солдатами, философ возвратился в столицу и был доставлен на руках в свой маленький домик.
Жена Сократа Ксантиппа поставила варить для него бобовую похлебку. Стоя на коленях перед очагом, она раздувала огонь, не жалея щек, и время от времени поглядывала на мужа. Он все еще сидел на стуле, на который его посадили товарищи.
— Что это с тобой? — подозрительно спросила она.
— Со мной? — пробормотал он. — Ничего.
— Почему же все кричат о каких-то твоих подвигах, хотелось бы мне знать?
— Преувеличивают, — сказал он. — А вкусно пахнет!
— Как может пахнуть, да еще вкусно, когда я и огня-то не развела! Ты, верно, опять дурачком прикидывался? — сказала она зло. — Представляю, как меня засмеют завтра, когда я пойду за хлебом.
— Я вовсе не прикидывался дурачком. Я сражался.
— Спьяну, что ли?
— Да нет! Я остановил солдат, когда они начали отступать.
— Где тебе! Ты сам себя не можешь остановить, — сказала жена, поднимаясь с колен: огонь уже горел. — Подай-ка мне солонку со стола.
— Пожалуй… — медленно, словно раздумывая, произнес Сократ. — Пожалуй, не стоит мне сегодня есть. У меня что-то желудок не в порядке.
— Я же говорю, что ты пьян. Ну-ка встань, пройдись по комнате, тогда увидим.
Хотя ее несправедливые попреки и раздражали его, он ни при каких обстоятельствах не встал бы, ибо не хотел показать ей, что не может ступить на ногу. Ксантиппа была чрезвычайно догадлива, когда нужно было разузнать о нем что-нибудь нелестное. А ведь не больно лестно, если обнаружится истинная причина его храбрости.
Ксантиппа продолжала хлопотать у очага и между делом выкладывала все, что было у нее на душе.
— Уверена, что твои знатные друзья устроили тебя в безопасное местечко, где-нибудь поближе к полевой кухне. Все это одно надувательство.
Сократ хмуро смотрел в окно. По переулку проходили люди с фонарями в руках. Афины праздновали победу.
Его влиятельные друзья и не пытались что-нибудь для него сделать. Да он и не согласился бы, во всяком случае, так прямо.
— А может быть, они решили, что раз ты сапожник, так и топай со всеми. Они и пальцем для тебя не шевельнут! Сапожник, говорят они, сапожником и останется. Стали бы мы иначе ходить к нему в его вонючую дыру и часами спорить, слыша со всех сторон: посмотрите, сапожник или не сапожник, а только эти знатные господа не брезгают садиться с ним рядом и разговаривать с ним о филозофии? Сволочи!
— Это называется мизантропией, — равнодушно сказал философ.
Жена бросила на него сердитый взгляд.
— Можешь не учить меня! Сама знаю, что необразованная. Но если бы не я, некому было бы тебе воды подать вымыть ноги.
Он вздрогнул: нет, сегодня ему ни в коем случае нельзя мыть ноги; но она, кажется, не заметила и, хвала богам, продолжала строить свои догадки.
— Стало быть, ты не был пьян и тебе не удалось попасть в обоз: ты держался как настоящий рубака! У тебя, может быть, и руки в крови, что? А стоит мне раздавить паука, как ты из себя выходишь! Я, конечно, не верю в твою храбрость, но, чтобы так похлопывали по плечу, ты все же должен был что-то сделать. Тут что-то не так, и я доберусь до правды, будь покоен.
Похлебка сварилась. Теперь от нее действительно шел чудесный запах. Ксантиппа взяла горшок, поставила на стол, поддерживая подолом, и принялась хлебать.
Сократ раздумывал — может быть, и ему поужинать? Но мысль, что придется сесть за стол, вовремя остановила его.
На душе у него было скверно. Он чувствовал, что дело этим не кончится. Скоро начнутся всякие неприятности. Нельзя выиграть у персов сражение и остаться в стороне. В первые минуты ликования, естественно, не думают о тех, кому обязаны победой: все превозносят до небес свои подвиги. Но завтра или послезавтра, когда люди увидят, что каждый норовит всю заслугу приписать себе, вспомнят, пожалуй, и о Сократе. Многие будут рады случаю посбить кое у кого спеси, объявив сапожника героем. Алкивиада и без того недолюбливают. С каким удовольствием ему будут кричать: «Алкивиад, ты выиграл сражение, а врага побил сапожник!»
Боль от занозы усилилась. Если не удастся скоро снять сандалию, может быть заражение крови.
— Не чавкай так! — рассеянно сказал он, думая о своем.
Жена так и застыла с ложкой во рту.
— Что такое?
— Ничего, — испуганно поправился он. — Я задумался.
Вне себя от обиды, жена отставила горшок на очаг и выбежала из комнаты.
Он тяжело перевел дух и, быстро поднявшись со стула, запрыгал к своему ложу, пугливо оглядываясь на дверь. Вернувшись, чтобы взять праздничную шаль, Ксантиппа подозрительно посмотрела на мужа, неподвижно лежавшего в своем кожаном гамаке. На мгновение она подумала, не заболел ли он, и даже чуть не спросила его — она ведь была преданной женой, — но одумалась и, ворча что-то, вышла: вместе с соседкой они отправились смотреть на торжества.
Сократ спал плохо и проснулся озабоченным. Сандалию он снял, но занозу так и не вытащил. Нога сильно распухла.
Утром он нашел жену несколько сговорчивее. Накануне она сама слышала — весь город говорил о ее муже. Раз все в таком восторге — значит, действительно что-то было. Но что он задержал боевой отряд персов, никак не умещалось у нее в голове. «Куда ему, — думала она. — Задержать своими вопросами целое собрание — да, это он может, но только не боевой отряд. Что же все-таки произошло? "
Она была в таком замешательстве, что подала ему козье молоко в постель.
Он, видимо, не собирался вставать.
— Ты не хочешь пройтись? — спросила она.
— Не желаю, — буркнул он.
Заботливой жене так не отвечают. Но Ксантиппа намеренно не заметила его грубости; он, верно, не хочет, чтобы люди на него глазели.
С раннего утра пришли гости — несколько молодых людей, сынки богатых родителей, обычное его общество. Они обращались к нему как к своему учителю и даже записывали, что он им говорил, словно это было невесть что.
Они тотчас же доложили Сократу, что слава его гремит в Афинах. Для философии это историческая дата. (Значит, это и вправду зовется филозофией, а не как-нибудь иначе.) Сократ доказал миру, что великий мыслитель может стать и великим деятелем.
Сократ слушал их без обычных насмешек. В звуках их речей ему чудился, словно раскаты далекой грозы, неистовый хохот, хохот всего города, всей страны, — он еще далеко, но неудержимо приближается, нарастает, увлекая каждого: прохожих на улицах, купцов и политиков на площадях, ремесленников в их лавчонках.
— Все, о чем вы тут толкуете, — чепуха, — заявил он с внезапной решимостью. — Ничего я не сделал.
Они, улыбаясь, переглянулись. Один из них сказал:
— Мы говорили то же самое! Мы знали, что ты будешь рассуждать именно так. «С чего это вы подняли такой крик? — спросили мы Эвзопулоса, повстречав его у гимназии. — Десять лет Сократ совершал подвиги духа, а никто его и знать не хотел. Но стоило ему выиграть сражение, как все Афины заговорили о нем. Неужели вы не видите, — сказали мы, — как это недостойно? "
Сократ застонал.
— Да я же и не выигрывал его! Я защищался, потому что на меня напали. Меня это сражение не интересовало. Я не торговец оружием, и за стенами города у меня нет виноградников. Я даже не знал, за что воюю. Да и вокруг меня были достаточно умные люди, жители предместий, у них тоже не было интереса сражаться. И я сделал то же, что и они, разве только на мгновение раньше!
Друзья его были озадачены.
— Не правда ли! — вскричали они. — То же самое и мы говорили: он ничего не делал, только защищался. Это его способ выигрывать битвы. Извини, мы поспешим в гимназию. Мы как раз спорили на эту тему и только заглянули к тебе поздороваться. — И они ушли, увлеченные горячим спором.
Сократ лежал, закинув за голову руки, и молча смотрел в закопченный потолок. Мрачные предчувствия не обманули его.
Жена наблюдала за ним из угла комнаты, рассеянно ковыряя иглой старую юбку.
Вдруг она тихо сказала:
— В чем же тут дело?
Он вздрогнул и неуверенно посмотрел на нее.
Изнуренное работой существо с плоской, как доска, грудью и печальными глазами — его жена. Он знал, что может положиться на нее. Она бы заступилась за него, даже если бы его ученики начали говорить: «Сократ? Это не тот ли презренный сапожник, что не признает богов? " На горе себе она встретилась с ним, но не жаловалась никому, кроме него. И не было еще случая, чтобы его не ждал дома кусок хлеба и сала, когда он голодный возвращался поздно вечером от своих состоятельных учеников.
Он спрашивал себя, не сказать ли ей все. А потом подумал, что ведь придется без конца изворачиваться и лицемерить в ее присутствии, если люди будут приходить, как сейчас, и толковать о его подвигах. И он не сможет этого делать, если ей будет известна правда, так как слишком ее уважает.
Поэтому он ограничился тем, что сказал:
— От вчерашнего супа опять хоть из дому беги!
Она смерила его недоверчивым взглядом: ведь он прекрасно знает, что они не могут себе позволить выбрасывать остатки. Он просто ищет, чем бы ее отвлечь.
В ней росло убеждение, что с ним что-то случилось. Почему он не встает? Он всегда вставал поздно, но потому, что поздно ложился. Вчера же он лег очень рано. А сегодня весь город с утра на ногах по случаю празднования победы. В переулке закрылись все лавки. Часов в пять утра вернулась часть конницы, преследовавшей неприятеля, и всех переполошил конский топот. Шумные сборища — его страсть. В такие дни он бегает с утра до вечера и со всеми заводит разговоры. Почему же он не встает?
Дверь скрипнула, и вошли четверо должностных лиц. Посреди комнаты они остановились, и один из них официальным, но очень вежливым тоном сказал, что ему поручено сопровождать Сократа в ареопаг. Сам полководец Алкивиад предложил воздать ему почести за его ратные успехи.
Сдержанный говор за окном показывал, что в переулке собрались соседи.
Сократ почувствовал, как по всему его телу выступил пот. Он знал, что должен теперь встать и, если даже откажется пойти с ними, стоя сказать несколько учтивых слов и проводить их до дверей. И он знал, что не сделает и двух шагов. А тогда они посмотрят на ногу и всё поймут, и поднимется страшный хохот — здесь, сейчас, на этом самом месте.
И он не встал, а, наоборот, опустился на свою жесткую подушку и недовольно сказал:
— Мне не нужны почести. Передайте ареопагу, что мы условились с несколькими друзьями встретиться в одиннадцать часов и обсудить один интересный философский вопрос. К великому моему сожалению, я не могу прийти… Да и вообще я не гожусь для публичных церемоний и крайне устал.
Последнее Сократ добавил, потому что тут же пожалел, зачем он припутал сюда философию, а первое сказал, потому что надеялся избавиться от них грубостью.
Городские власти поняли его и, повернувшись на каблуках, вышли, наступая на ноги толпившимся снаружи любопытным.
— Погоди, тебя еще научат уважать власть, — в сердцах сказала жена и ушла на кухню.
Он подождал, пока она скроется за дверью. Тогда, быстро повернув свое тяжелое тело и косясь на дверь, он сел на край постели и с бесконечными предосторожностями попробовал наступить на больную ногу. Нет, это безнадежно. Обливаясь потом, он снова лег.
Прошло полчаса. Сократ взял книгу и стал читать. Когда он держал ногу спокойно, то почти не замечал боли.
Вскоре явился его друг Антисфен. Не снимая верхней одежды, он стал в ногах ложа и некоторое время глядел на Сократа, судорожно покашливая и почесывая заросшую лохматой бородой шею.
— Ты еще лежишь? А я думал, что застану одну Ксантиппу. Я только для того и вышел, чтобы справиться о тебе. Угораздило же меня простудиться, вот я и не мог участвовать вчера в деле.
— Садись, — односложно ответил Сократ.
Антисфен принес из угла стул и подсел к другу.
— Нынче вечером я снова начинаю занятия. Нет оснований откладывать дальше.
— Да, конечно.
— Я, разумеется, сомневался, придут ли мои ученики, ведь сегодня повсюду пируют. Но по дороге сюда я встретил юного Фестона, и, когда я сказал ему, что вечером даю урок алгебры, он возликовал. Я сказал, что он может прийти и в шлеме. Протагор{142} и другие от злости подпрыгнут до потолка, когда станет известно, что у Антисфена в первый же вечер после сражения изучали алгебру.
Отталкиваясь ладонью от слегка покосившейся стены, Сократ тихо покачивался в гамаке. Он испытующе смотрел на друга своими большими, слегка навыкате глазами.
— А больше ты никого не встречал?
— О, множество людей!
Мрачно задумавшись, Сократ разглядывал потолок. Не открыться ли Антисфену? Он был достаточно уверен в нем. Сам он никогда не брал денег за обучение и не был, следовательно, для него конкурентом. Может быть, стоит посоветоваться с ним в этом трудном деле?
Искрящиеся, как у стрекозы, глаза Антисфена с любопытством смотрели на друга. Он рассказывал:
— Горгий{143} ходит по городу и говорит каждому встречному, что ты, вероятно, пустился наутек, да с перепугу ошибся направлением, побежал вперед. Кое-кто из нашей избранной молодежи собирается его поколотить.
Сократ, неприятно пораженный, повернулся к нему.
— Вздор! — сказал он с досадой.
Ему вдруг стало ясно, какое оружие он даст своим врагам, если раскроет карты.
Ночью, под утро, ему пришло в голову, что, пожалуй, все это можно представить как опыт; ему, мол, захотелось узнать, насколько легковерны люди. «Двадцать лет я на всех перекрестках учил пацифизму, и вот достаточно пустого слуха, чтобы мои собственные ученики объявили меня каким-то извергом», и т. п. Но тогда не надо было выигрывать сражения! Очевидно, сейчас и впрямь плохие времена для пацифизма. После поражения даже верхи становятся на некоторое время пацифистами. После победы даже низы — сторонники войны, по крайней мере, пока не обнаружится, что для них победа не слишком отличается от поражения. Нет, пацифизмом сейчас трудно щеголять.
В переулке послышалось цоканье копыт и смолкло перед домом. В комнату своей стремительной походкой вошел Алкивиад.
— Здравствуй, Антисфен. Как философские делишки? Наши старейшины вне себя, Сократ! — вскричал он, сияя от удовольствия. — В ареопаге из-за твоего ответа форменная буря. Шутки ради я изменил свое предложение наградить тебя лавровым венком и предложил наградить пятьюдесятью палочными ударами. Это их явно задело, потому что я выдал их тайные мысли. Но ты все же должен пойти. Мы отправимся вместе, пешком.
Сократ вздохнул. Они были друзья с Алкивиадом и частенько выпивали вдвоем. Похвально, что друг навестил его, и, конечно, он сделал это не из одного желания позлить ареопаг, хотя и это заслуживает одобрения и всяческого содействия.
Продолжая раскачиваться в своем гамаке, Сократ рассудительно сказал:
— Спешка — это такой ветер, который может сорвать паруса. Садись-ка!
Алкивиад засмеялся и придвинул стул. Прежде чем сесть, он дружески поклонился Ксантиппе, которая стояла в дверях кухни и вытирала о юбку мокрые руки.
— Вы, философы, странный народ, — сказал он нетерпеливо. — Возможно, ты даже раскаиваешься, что помог нам разбить персов. Антисфен, разумеется, доказал тебе, что для этого не было достаточных оснований.
— Мы говорили об алгебре, — поспешил откликнуться Антисфен и закашлялся.
Алкивиад усмехнулся:
— Так я и думал. Тебе противен весь этот шум? Но как-никак ты проявил мужество. По-моему, в этом нет ничего особенного; ну разве горсть листьев лавра — это что-то особенное? Стисни зубы, старина, и снеси это с должным терпением. Все кончится быстро и безболезненно. А затем мы выпьем по стаканчику.
Он с интересом смотрел на коренастое, крепкое тело Сократа, которое теперь раскачивалось довольно сильно.
А тот ломал голову, перебирая, что он может сказать. Он мог бы сказать, что этой ночью или этим утром вывихнул ногу. Например, когда солдаты ссаживали его с плеч. В этом есть даже свой резон. Подобные случаи показывают, как легко человек может пострадать от восторгов своих соотечественников.
Не переставая качаться, Сократ приподнялся и сел; потер голую левую руку правой и медленно сказал;
— Дело в том, что у меня с ногой…
Но тут взгляд философа, не слишком твердый, ибо он готовился соврать — до сих пор он только отмалчивался, — упал на Ксантиппу, по-прежнему стоявшую в дверях.
И он сразу осекся. У него мгновенно пропала всякая охота сочинять какие-то истории: ведь он не вывихнул ногу!
Гамак остановился.
— Послушай, Алкивиад, — начал Сократ решительным и бодрым тоном, — ни о какой храбрости и речи быть не может. Как только началось сражение, вернее — как только я увидел персов, я бросился бежать, да, да, и туда, куда следует, назад. Но там рос терновник! Я сразу же засадил себе огромную колючку в пятку и не мог сделать ни шагу. Тут я стал как бешеный рубить мечом, чуть ли не по своим. В отчаянии закричал я что-то насчет других отрядов, чтобы обмануть персов. Сдуру, конечно: они ведь не понимают по-гречески. А персы, видно, тоже не знали, на каком они свете. Им и так досталось при наступлении, и они просто не выдержали моих криков. На какую-то минуту они растерялись, а тут подоспела наша конница. Вот и все.
Несколько секунд в комнате было очень тихо. Алкивиад пристально смотрел на Сократа. Антисфен кашлял, закрыв рот рукою, — на этот раз непритворно. В дверях кухни громко смеялась Ксантиппа.
Алкивиад холодно сказал:
— И ты не мог, конечно, пойти в ареопаг и там ковылять по лестницам, чтобы получить лавровый венок. Я понимаю…
Алкивиад откинулся на спинку стула. Прищурив глаза, он смотрел на философа, распростертого на своем ложе. Ни Сократ, ни Антисфен не глядели в его сторону.
Он нагнулся и обхватил руками колено. Его еще по-детски узкое лицо чуть подергивалось, но не выдавало ни чувств его, ни мыслей.
— Почему ты не сказал, что у тебя какая-нибудь другая рана? — спросил он.
— Потому что я занозил себе пятку, — сердито отозвался Сократ.
— А, поэтому?.. Понимаю.
Алкивиад вскочил и подошел к постели.
— Жаль, что я не захватил свой венок — я отдал его подержать одному человеку. А то я оставил бы его тебе. Поверь мне, ты больше, чем я, заслужил его своей храбростью. Я не знаю никого, кто при подобных обстоятельствах рассказал бы то, что рассказал ты.
И он поспешно вышел.
Обмыв ногу и вытащив занозу, Ксантиппа угрюмо сказала:
— Могло быть заражение крови.
— По меньшей мере, — подтвердил философ.
Из рассказов о господине Койнере Перевод Э. Львовой
{144}
Господин Койнер и насилие
Однажды, когда господин Койнер, мыслитель, произносил речь против насилия, в зале, где собралось множество людей, он заметил, что слушатели его вдруг отпрянули и начали расходиться. Он оглянулся и увидел, что позади него стоит Насилие.
— О чем ты говоришь? — спросило оно.
— Я держу речь в защиту насилия, — ответил господин Койнер.
Когда господин Койнер вышел, ученики упрекнули его в бесхребетности. Господин Койнер ответил:
— Мой хребет существует не для того, чтобы его поломали. Ведь я должен жить дольше, чем насилие.
И господин Койнер рассказал следующую историю:
— «Как-то раз, в нелегальные времена, в квартиру господина Эгге, который научился говорить «нет», пришел некий агент и предъявил удостоверение, выданное теми, кто правил городом. Согласно этому удостоверению, агенту принадлежал всякий дом, куда вступит нога его, и всякая пища, какую он пожелает, а всякий человек, на которого упадет его взгляд, должен служить ему. Агент сел на стул, потребовал еды, умылся, потом лег и, повернувшись лицом к стене перед тем, как заснуть, спросил: «Ты будешь мне служить?» И укрыл господин Эгге агента своим одеялом, и отгонял от него мух, и оберегал его сон, и, как в этот первый день, служил он ему семь лет. Все исполнял господин Эгге, одного только остерегался: произнести хоть слово. И прошли семь лет, и стал агент толстым оттого, что много ел, спал и отдавал приказы. И умер агент. И завернул его тогда господин Эгге в грязное одеяло, и выволок из дому, и вымыл господин Эгге кровать, и побелил стены, вздохнул и ответил: «Нет».
Слуга целесообразности
Господин К. спрашивает:
— Каждое утро мой сосед заводит граммофон. Для чего он заводит граммофон? Чтобы делать гимнастику под музыку. А для чего он делает гимнастику? Чтобы стать сильным, отвечают мне. А для чего ему нужно стать сильным? Чтобы победить своих врагов в городе, говорит он. Для чего ему нужно победить своих врагов? Чтобы есть, отвечают мне.
Когда господин К. услышал, что его сосед заводит граммофон, чтобы делать гимнастику под музыку, а гимнастику делает, чтобы стать сильным, а сильным хочет стать, чтобы победить своих врагов, а своих врагов победить, чтобы есть, он задал один из своих вопросов:
— А для чего он ест?
Любовь к родине и ненависть к националистам
Господин К. не считал, что человек должен жить в какой-нибудь одной определенной стране. Он говорил: голодать я могу всюду.
Как-то раз случилось ему идти по городу, захваченному врагами той страны, в которой он жил. Шедший навстречу офицер, один из этих врагов, принудил его сойти с тротуара. Господин К. сошел с тротуара и почувствовал, как в нем вспыхнуло возмущение против этого человека, и не только против этого человека, а, главное, против страны, которую тот представлял, да так, что он пожелал ей провалиться сквозь землю.
— Почему я в эту минуту стал националистом? — спросил господин К. — Потому что я встретил националиста. Значит, мы должны искоренять глупость, ибо она делает глупыми и тех, кто с ней встречается.
Голод
Господин К. ответил на вопрос о родине: голодать я могу всюду. Какой-то дотошный слушатель спросил его, почему он говорит, что голодает, ведь в действительности у него есть чем питаться. Господин К., оправдываясь, сказал:
— Вероятно, я имел в виду, что могу жить везде, раз я согласен жить на свете, когда господствует голод. Я признаю, что одно дело голодать самому, а другое — жить, когда господствует голод. В извинение я смею прибавить, что для меня жить на свете, когда господствует голод, если не столь тяжко, как голодать самому, то, во всяком случае, немногим легче. Не так важно для остальных, чтобы я голодал сам; важно то, что я против господства голода.
Вопрос о том, существует ли бог
Однажды некто спросил господина К., существует ли бог. Господин К. ответил:
— Подумай, изменится ли твое поведение от того, какой ответ ты получишь на этот вопрос. Если оно не изменится, то я могу тебе помочь только тем, что скажу: ты сам дал ответ — тебе бог нужен.
Беспомощный мальчик
Господин К. рассуждал о том, как дурна привычка молча проглатывать нанесенную обиду, и рассказал следующую историю:
«Прохожий спросил тихо всхлипывающего мальчика, почему он плачет.
— Я скопил две монетки на кино, — ответил мальчик, — а потом пришел вот тот парень и одну вырвал у меня из рук. — И он указал на видневшуюся в отдалении фигуру.
— Что ж ты не позвал на помощь? — спросил прохожий.
— Я звал, — ответил мальчик и заплакал громче.
— И никто тебя не услышал? — допытывался прохожий, ласково погладив его по голове.
— Нет, — прорыдал малыш.
— Значит, громче кричать ты не можешь? — снова спросил тот.
— Нет, — сказал мальчик и посмотрел на вопрошающего с надеждой, ибо тот улыбался.
— Так давай сюда и вторую, — сказал человек и, отобрав у мальчика последнюю монетку, беззаботно зашагал дальше».
Вопросы, которые убеждают
— Я заметил, — сказал господин К., — что многих мы отвращаем от нашего учения тем, что у нас готов ответ на все вопросы. Может быть, нам стоило бы в интересах пропаганды составить список вопросов, которые кажутся нам неразрешимыми?
Дружеская услуга
Как пример того, какой способ оказывать услуги друзьям он считает наилучшим, господин К. рассказал следующую назидательную историю:
«К старому арабу пришли трое молодых людей и сказали ему:
— Наш отец умер. Он оставил нам семнадцать верблюдов и завещал, что старший сын должен получить половину, средний — одну треть, а младший — одну девятую часть всех верблюдов. И вот теперь мы никак не можем их разделить. Так реши, как нам быть.
Поразмыслив, араб сказал:
— Как я вижу, вам недостает еще одного верблюда, чтобы правильно разделить их. У меня есть всего один-единственный верблюд, он к вашим услугам. Возьмите его и поделите верблюдов между собой, а мне отдайте то, что останется.
Братья поблагодарили араба за дружескую услугу, взяли верблюда и разделили теперь уже восемнадцать верблюдов таким образом, что старший получил половину, то есть девять верблюдов, средний — одну треть, то есть шесть, а младший — одну девятую, то есть двух верблюдов. К их изумлению, после того как каждый отвел своих верблюдов в сторону, остался один лишний. Они вернули его своему старому другу, присовокупив к прежним хвалам новые».
Господин К. назвал подобную дружескую услугу наилучшей, потому что она не требовала особых жертв.
Форма и содержание
Господин К. рассматривал картину, где отдельным предметам была придана весьма своеобразная форма. Он сказал:
— Порой с некоторыми художниками, когда они наблюдают окружающее, случается то же, что и со многими философами. Сосредоточась на форме, они забывают о содержании.
Я работал как-то у садовника. Он дал мне садовые ножницы и приказал подстричь лавровое деревцо. Это деревцо росло в кадке и выдавалось напрокат для торжественных случаев. Поэтому оно должно было иметь форму шара. Я тотчас же начал срезать дикие побеги, но, как ни старался, мне долго не удавалось придать ему форму шара. Я все время отхватывал слишком много то с одной, то с другой стороны. Когда же наконец деревцо приняло форму шара, шар этот оказался очень маленьким.
Садовник проговорил разочарованно:
— Допустим, это шар. Но где же лавровое деревцо?
Разговоры
— Мы больше не можем разговаривать друг с другом, — сказал господин К. какому-то человеку.
— Почему? — испуганно спросил тот.
— В вашем присутствии я не способен сказать ничего разумного, — пожаловался господин К.
— Но мне это не важно, — утешил его собеседник.
— Охотно верю, — проговорил господин К. с ожесточением. — Но это важно мне.
Господин К. в чужом жилище
Вступив в чужое жилище, господин К., прежде чем ложиться спать, осмотрел все выходы из дома, и ничего более. Когда его спросили о причине, он ответил смущенно:
— Это старая прискорбная привычка. Я стою за справедливость, а в таких случаях лучше, чтобы квартира имела второй выход.
Если господин К. полюбит кого-нибудь…
Господина К. спросили:
— Как вы поступите, если кого-нибудь полюбите?
— Я создам эскиз этого человека и постараюсь, чтобы он стал похож на него.
— Кто? Эскиз?
— Нет, человек.
Любимое животное
Однажды господина К. спросили, какое животное он ценит больше всех. Он ответил — слона, и обосновал это так:
— Слон соединяет в себе хитрость и силу. Это не та жалкая хитрость, достаточная лишь для того, чтобы избежать преследования или украдкой раздобыть какую-нибудь пищу. Нет, это хитрость, которая опирается на силу, необходимую для большого дела. Слон прокладывает широкий след. Однако он добродушен и понимает шутку. Он добрый друг и достойный враг. Он велик и грузен, но очень подвижен. Тело его огромно, а хобот способен подбирать самые мелкие съедобные предметы, например орехи. У него удачно устроены уши, он слышит только то, что хочет. Он живет до глубокой старости. Он очень общителен, и не только по отношению к слонам. Везде его любят и боятся. В его облике есть что-то забавное, что привлекает к нему сердца. У него грубая кожа, о которую ломаются ножи, но зато нежная душа. Он может быть грустным, может быть гневным. Он охотно танцует. Умирать он уходит в чащу. Он любит детей и других маленьких зверушек. Он весь серый и бросается в глаза только своей массивностью. Он не съедобен. Он умеет хорошо трудиться. Он любит выпить и тогда становится веселым. Кое-что он делает и для искусства — поставляет слоновую кость.
Кто является отцом мысли
Господина К. однажды упрекнули, что у него слишком часто отцом мысли становится желание. Господин К. ответил:
— Никогда не существовало мысли, отцом которой не было бы желание, — вот о чем можно спорить. Не следует подозревать, что у ребенка вообще нет отца, на основании того, что установить отцовство затруднительно.
Удачный ответ
Рабочего спросили в суде, какую форму присяги он предпочитает — церковную или светскую.
«Я безработный», — ответил тот.
— Это не просто рассеянность, — заметил господин К. — Своим ответом он дал понять, что в его положении подобный вопрос, да, пожалуй, и вся судебная процедура, как таковая, не имеет больше никакого смысла.
Сократ
Закончив чтение одной из книг по истории философии, господин К. весьма неодобрительно высказался о попытке философов представить вещи и явления принципиально непознаваемыми.
— Когда софисты утверждали, что знают многое, ничему не учившись, софист Сократ выступил с дерзким утверждением, что он знает только то, что ничего не знает. Можно было ожидать, что он продолжит свою мысль: «…ибо и я ничему не учился». (Чтобы узнать что-нибудь, надо учиться.) Но Сократ, по-видимому, больше ничего не сказал; возможно, впрочем, что бурные аплодисменты, раздавшиеся после его первой фразы и длившиеся две тысячи лет, заглушили последующее.
Если бы акулы стали людьми…
— Если бы акулы стали людьми, они были бы добрее к маленьким рыбкам? — спросила господина Койнера маленькая дочка его хозяйки.
— Конечно, — ответил он, — если акулы станут людьми, они построят в море для маленьких рыбок огромные садки, где будет вдоволь корма и растительного и животного. Они позаботятся, чтобы в садках была свежая вода, и вообще будут проводить все необходимые санитарные мероприятия. Если, к примеру, какая-нибудь рыбка повредит себе плавник, ей немедленно сделают перевязку, а то она, чего доброго, умрет раньше времени и ускользнет от акул. А чтобы рыбки не предавались мрачным размышлениям, время от времени будут устраиваться грандиозные водные праздники: ибо жизнерадостные рыбки лучше на вкус, чем меланхоличные.
В больших садках устроят, конечно, и школы. В этих школах акулы будут учить маленьких рыбок, как правильно вплывать в акулью пасть. География, например, понадобится для того, чтобы найти те места, где лениво нежатся большие акулы. Но главным, разумеется, будет моральное воспитание рыбок. Их научат, что для маленькой рыбки нет ничего величественнее и прекраснее, чем радостно принести себя в жертву, что маленькой рыбке нужно верить акулам, особенно, когда те говорят, что заботятся о прекрасном будущем. Маленьким рыбкам внушат, что это будущее будет им обеспечено только, если они научатся послушанию. Особенно должны остерегаться маленькие рыбки всяческих низменных, материалистических, эгоистических и марксистских влияний. Если одна из них проявит подобное вольномыслие, другие должны немедленно донести об этом акулам.
Если акулы станут людьми, они, разумеется, начнут воевать друг с другом, чтобы захватить чужие рыбьи садки и чужих рыбок. Сражаться они заставят своих собственных рыбок. Они внушат своим рыбкам, что между ними и рыбками других акул огромная разница. Они провозгласят, что хотя, как известно, все рыбки немы, но молчат они на разных языках и потому не могут понять друг друга. Каждой рыбке, которая убьет во время войны несколько вражеских рыбок, молчащих на другом языке, пришпилят орден морской звезды и присвоят титул героя.
Если акулы станут людьми, у них, конечно, появится искусство. Появятся картины, на которых зубы акул будут написаны великолепными красками, а пасти ни дать ни взять — увеселительные сады, где можно отменно порезвиться. Театры на морском дне покажут, как героические рыбки с энтузиазмом плывут в акулью пасть; музыка играет так красиво, и под ее звуки рыбки, предшествуемые оркестром, убаюканные самыми приятными мыслями, мечтательно устремляются в пасть акул.
Конечно, возникнет и религия, если акулы станут людьми. Она будет учить, что подлинная жизнь для рыбок начинается в животе акулы. Ну, и то равенство, которое сейчас существует между рыбками, исчезнет, если акулы станут людьми. Некоторые из них получат чины и возвысятся над остальными. И те, кто немного покрупнее, получат даже право поедать мелкоту. Акулам это будет только приятно, потому что тогда им самим будут чаще Доставаться куски побольше. Крупные, чиновные рыбки позаботятся о порядке среди остальных. Они будут учителями, офицерами, инженерами по строительству садков и так далее. Короче говоря, только тогда и появится истинная культура в море, когда акулы станут людьми.
Незаменимый чиновник
Господин К. услышал, как о некоем чиновнике, давно уже занимавшем свою должность, отзывались лестно и в том духе, что он незаменим, такой он хороший чиновник.
— То есть как незаменим? — спросил господин К. сердито.
— Без него все дело станет, — ответили хвалившие его.
— Как же он может быть хорошим чиновником, если без него все дело станет? — сказал господин К. — У него было достаточно времени так наладить свое дело, чтобы и без него можно было обойтись. Чем же он, в сущности, занимается? Я вам скажу: шантажом!
Чувство справедливости
Некий человек, у которого гостил господин К., имел собаку. Однажды эта собака приползла, показывая всем своим видом, что провинилась.
— Она что-то натворила, поговорите с ней сейчас же строго и огорченно, — посоветовал господин К.
— Да ведь я не знаю, что она сделала, — запротестовал хозяин.
— Но этого, в свою очередь, не знает собака, — настойчиво продолжал господин К. — Покажите скорее свое изумление и неодобрение, не то будет задето ее чувство справедливости.
Пьесы
Барабаны в ночи Перевод Г. Ратгауза
Комедия
{145}
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Андреас Краглер.
Анна Балике.
Карл Балике, ее отец.
Амалия Балике, ее мать.
Фридрих Мурк, ее жених.
Бабуш, журналист.
Двое мужчин.
Глубб, хозяин пивной.
Манке из бара «Пиккадилли».
Манке по прозвищу «Любитель Изюма», его брат.
Пьяный брюнет.
Бультроттер, разносчик газет.
Рабочий.
Августа, Мария, проститутки.
Служанка.
Продавщица газет.
Братьев Манке играет один и тот же актер.
Действие комедии происходит ноябрьской ночью, от вечерних до утренних сумерек.
Первый акт Африка
Квартира Балике.
Темная комната с кисейными гардинами.
Вечер.
Балике (бреется у окна). Вот уж четыре года о нем ни слуху ни духу. Теперь уж он не вернется. Времена дьявольски ненадежные. Каждый мужчина нынче на вес золота. Я еще два года назад дал бы им родительское благословение, да ваша проклятая сентиментальность тогда задурила мне голову. Но теперь-то мне чихать на все это.
Госпожа Балике (глядит на фотографию Краглера в артиллерийской форме на стене). Он был такой хороший человек. С такой детской душой.
Балике. Теперь он сгнил в земле.
Госпожа Балике. Что, если он вернется?
Балике. Из рая еще никто не возвращался.
Госпожа Балике. Клянусь воинством небесным, Анна тогда утопится!
Балике. Раз она так говорит, она просто гусыня, а я еще никогда не слыхал, чтобы гусыня могла утопиться.
Госпожа Балике. Ее почему-то все время тошнит.
Балике. Не надо ей лопать так много ягод и селедки. Этот Мурк — славный малый, мы должны на коленях благодарить за него бога.
Госпожа Балике. Что ж, он зарабатывает недурно. Но куда ему до Краглера! Мне просто плакать хочется.
Балике. До этого трупа?! Говорю тебе: теперь или никогда! Папу римского она, что ли, дожидается? Или ей нужен негр? Хватит с меня этой канители.
Госпожа Балике. А если он вернется, этот труп, который теперь, по-твоему, уже гниет в земле, вернется из рая или из ада: «Здравствуйте. Я — Краглер!» — кто ему тогда объявит, что он труп, а его девчонка лежит с другим в постели?
Балике. Я сам ему объявлю! А теперь скажи-ка ты ей, что с меня хватит, и пусть играют свадебный марш, и что она выходит за Мурка. Если ей объявлю я, она нас потопит в слезах. А теперь будь любезна, зажги свет.
Госпожа Балике. Я принесу пластырь. Без света ты каждый раз вот так и порежешься…
Балике. Свет дорог, а за порез я не плачу. (Кричит в другую комнату.) Анна!
Анна (в дверях). Что с тобой, отец?
Балике. Будь любезна, выслушай свою мать и не смей хныкать в такой праздничный день!
Госпожа Балике. Поди сюда, Анна! Отец говорит, ты такая бледная, как будто ты совсем не спишь по ночам.
Анна. Да что ты, я сплю.
Госпожа Балике. Подумай сама, ведь так не может продолжаться вечно. Он уже никогда не вернется. (Зажигает свечи.)
Балике. Опять у нее глазищи, как у крокодила!
Госпожа Балике. Тебе, конечно, было нелегко, и он был хорошим человеком, но ведь теперь-то он уже умер!
Балике. Теперь его черви едят!
Госпожа Балике. Карл! Зато тебя любит Мурк, он работящий малый, и он, конечно, далеко пойдет!
Балике. Вот именно!
Госпожа Балике. И ты, стало быть, соглашайся, и с богом!
Балике. И не устраивай нам оперы!
Госпожа Балике. Ты, стало быть, с богом выходи за него!
Балике (яростно наклеивая пластырь). Да разрази вас гром, ты что думаешь, с парнями можно играть в кошки-мышки? Да или нет! И нечего тут кивать на боженьку!
Анна. Да, папа, да!
Балике (чувствительно). Теперь реви сколько хочешь, шлюзы открыты, я только надену спасательный пояс.
Госпожа Балике. Ты разве ничуть не любишь Мурка?
Балике. Послушай-ка, ты задаешь просто безнравственные вопросы!
Госпожа Балике. Карл! Ну, Анна, так как же с Фридрихом?
Анна. Люблю его. Но ведь вы знаете все, и мне иногда прямо тошно бывает.
Балике. Знать ничего не хочу! Говорю тебе, черви едят твоего жениха, ни одной целой косточки не осталось! Четыре года! Ни слуху ли духу! И вся батарея взорвана! Взлетела на воздух! Разнесена на куски! пропала без вести! Попробуй-ка угадать, куда он теперь запропастился! Это только твой проклятый страх перед призраками! Заведи себе мужа, и больше тебе не придется бояться призраков по ночам. (Подходит к Анне подбоченясь.) Ты храбрая девчонка или нет? Ну-ка, поди сюда!
Звонок в дверь.
Анна (испуганно). Это он!
Балике. Задержи его там и подготовь!
Госпожа Балике (стоит в дверях с корзиной белья). У тебя есть что-нибудь для прачечной?
Анна. Да. Нет. Нет, кажется, ничего нет…
Госпожа Балике. Но нынче уже восьмое число.
Анна. Уже восьмое?
Госпожа Балике. Конечно, восьмое.
Анна. А хоть бы и восемнадцатое!
Балике. Что это у вас за болтовня в дверях? Заходи сюда!
Госпожа Балике. Ну, смотри, ты опоздаешь сдать белье. (Уходит.)
Балике (садится, сажает Анну на колени.) Видишь ли, женщина без мужа дурна, как самый богомерзкий кабак. Ты скучаешь по парню, которого призвали в нашу великую армию, это похвально. Но разве ты знаешь, жив ли он еще? Как бы не так, моя дорогая! Он помер и стал страшилищем, его в пору показывать на ярмарке среди прочих чучел. Он прихорашивался три года, и если бы не был мертвехонек, то выглядел бы сейчас иначе, чем ты думаешь! Но он, между прочим, давно сгнил, и вид у него неважный. У него больше нет носа. Но ты без него скучаешь! Отлично, заведи себе другого! Природа, знаешь ли, требует! Ты будешь резвиться, как зайчик на капустной грядке! Ты ведь здоровехонька, и у тебя недурной аппетит. Вот это будет по-божески, уверяю тебя!
Анна. Но я не могу его забыть! Нет! Уговаривайте, как хотите, но я этого не могу!
Балике. Так выходи за Мурка, он тебе живо поможет.
Анна. Да, я люблю его, и будет время, буду любить еще больше, но сейчас еще не время.
Балике. Ну, он тебя живо уломает, ему только нужны кой-какие права, такие дела лучше всего обделываются в браке. Я не могу тебе все это объяснять, ты еще чересчур молода! (Щекочет ее.) Ну как, по рукам?
Анна (с довольным смешком). Да я и не знаю, захочет ли Фридрих.
Балике. Жена, загляни-ка к нам!
Госпожа Балике. Прошу вас сюда, в комнату, будьте любезны, войдите, господин Мурк!
Балике. Привет, Мурк! Вид у вас как у утопленника!
Мурк. Фрейлейн Анна!
Балике. Что это с вами? Да вы дрожите, как заяц! Отчего вы побелели как мел, приятель? Вам не нравится вечерняя стрельба? (Пауза.) Ну, Анна, угощай. (Приосанившись, уходит вместе с женой.)
Анна. Что с тобой, Фридрих? Ты и в самом деле бледен.
Мурк (подозрительно озираясь). Ему, видно, нужен жених румяный, как яблочко! (Пауза.) Кто-нибудь был тут? (Подходит к Анне.) Тут кто-нибудь был? Почему ты вдруг побелела как полотно? Кто здесь был?
Анна. Никого. Никого здесь не было! Да что с тобой стряслось?
Мурк. Зачем тогда вся эта спешка? Не втирайте мне очки. Ну, ладно, бог с ним! Но в этом кабаке я не желаю праздновать помолвку!
Анна. Да кто говорит про помолвку?
Мурк. Старуха. Свой глаз — алмаз. (Беспокойно ходит по комнате.) Ну, а если я согласен?!
Анна. Ты вообще делаешь вид, будто мои родители очень хотят этого! Видит бог, они этого вовсе не хотят! Ни на столечко!
Мурк. Ты, кажется, уже давно отвечаешь сама за себя.
Анна. Я только думаю, что ты слишком легко себе все это представляешь.
Мурк. Ах, вот как? У тебя есть другой!
Анна. Я не сказала ни слова о другом.
Мурк. Но вот он висит на стене, и он тут, и он бродит по дому!
Анна. Это было совсем иначе. Это было такое, чего тебе никогда не понять, потому что это была духовная близость.
Мурк. А у нас с тобой, значит, плотская?
Анна. У нас с тобой вообще ничего нет.
Мурк. Но не теперь! Теперь уже есть кое-что!
Анна. Откуда это тебе известно?
Мурк. Ничего, скоро здесь заговорят совсем по-другому.
Анна. Что ж, надейся.
Мурк. Я ведь сватаюсь!
Анна. Это и есть твое объяснение в любви?
Мурк. Нет, еще успеется.
Анна. Но тут замешана еще и фабрика снарядных ящиков. Мурк. А ты шельма! Слушай-ка, нынче ночью они опять ничего не почуяли?
Анна. О, Фридрих! Они-то спят как сурки. (Ластится к нему.)
Мурк. Мы не спим!
Анна. Плутишка.
Мурк (рывком притягивает ее к себе, но целует холодно). Шельма!
Анна. Тише! Там, в ночи, идет поезд! Ты слышишь? Иногда я боюсь, что войдет он. Меня всю пробирает озноб.
Мурк. Эта мумия? Я беру на себя. Послушай, я тебе твердо говорю: вон его, он нам в этом деле не нужен! Никаких трупов в нашей постели! Я не потерплю никого рядом с собой!
Анна. Ну не злись, Фридрих, поди ко мне, прости меня! Мурк. Святой Андреас? Дурацкое привиденье! После нашей свадьбы он будет еще раз похоронен. Хочешь пари? (Смеется.) Пари — будет ребенок.
Анна (прячет лицо у него на груди). О, милый, не говори так!
Мурк (весело). Почему же? (В дверь.) Заходите, мамаша! Привет, папаша!
Госпожа Балике (прямо из-за двери). О, дети мои! (Сквозь слезы.) Как снег на голову!
Балике. Трудные роды, а?
Все растроганно обнимаются.
Мурк. Близнецы! Когда мы устроим свадьбу? Время — деньги.
Балике. По мне, хоть через три недели! Обе постели в порядке. Мать, ужин на стол!
Госпожа Балике. Сейчас, сейчас, муженек, дай мне только отдышаться. (Бежит в кухню.) Как снег на голову!
Мурк. Позвольте мне пригласить вас нынче вечером в бар «Пиккадилли» на бутылочку красного. Я — за немедленную помолвку. А ты, Анна?
Анна. Раз так надо!..
Балике. Но только здесь! К чему этот бар «Пиккадилли»? Что у тебя, башка не варит?
Мурк (беспокойно). Не здесь. Ни в коем случае не здесь.
Балике. Вот оно как?!
Анна. Он такой чудной. Пусть будет бар «Пиккадилли»!
Балике. В такую ночь! На улицу выйти опасно!
Госпожа Балике (входит вместе со служанкой, накрывает на стол). Да, дети! Чего не чаешь, то как раз и сбудется. Прошу к столу, господа!
Жрут.
Балике (поднимает стакан). За здоровье нареченных. (Чокаясь.) Время сейчас ненадежное. Война кончилась. Свинина слишком жирна, Амалия! Демобилизация обрушила на оазисы мирной работы грязный поток разнузданности, похоти, скотской бесчеловечности.
Мурк. За снарядные ящики, ура! Ура, Анна!
Балике. Везде шныряют нищие проходимцы, рыцари удачи. Правительство бессильно в борьбе со стервятниками революции. (Разворачивает лист газеты.) Разъяренные массы отрицают идеалы. Но самое скверное, скажу вам откровенно, — это фронтовики, одичавшие, обленившиеся, отвыкшие от работы авантюристы, для которых нет больше ничего святого. Воистину тяжелое время; хороший муж, Анна, теперь дороже золота. Держись за него крепче. Не робейте, и вы пойдете вперед, всегда вдвоем, всегда вперед, ура! (Заводит граммофон.)
Мурк (вытирает пот со лба). Браво! Настоящий мужчина своего добьется. Надо иметь крепкие локти, надо иметь кованые сапоги и ясную голову на плечах и не смотреть себе под ноги. Так ведь, Анна? Я ведь и сам из народа. Был мальчонкой — рассыльным на механическом заводе. Там щипок, тут подзатыльник схлопочешь, зато везде чему-нибудь да выучишься. Вся наша Германия так выходила в люди! Бог — свидетель, мы не белоручки, а настоящие работяги. Теперь-то я зажил! Твое здоровье, Анна!
Граммофон играет: «Я власть любви боготворю…»
Балике. Браво! Чего ты хандришь, Анна?
Анна (встала, слегка отвернувшись). Сама не знаю. Слишком все это быстро. Наверно, это нехорошо, да, мама?
Госпожа Балике. Что ты, дочка! Не будь дурочкой! Радуйся. Что тут может быть нехорошего!
Балике. Сядь! Или хотя бы заведи граммофон, раз уж ты встала с места.
Анна садится. Молчание.
Мурк. Что ж, выпьем! (Чокается с Анной.) Да что с тобой?
Балике. А наше дело, Фриц, наша фабрика снарядных ящиков, скоро может прогореть. Еще две недельки гражданской войны, если повезет, а потом — каюк! Я считаю, без шуток, лучше всего-детские коляски. Фабрика оборудована во всех отношениях отлично. (Он берет Мурка за плечо, отводит его в глубину сцены. Отдергивает гардины.) Заложим корпус номер два и номер три. Прочно и современно. Анна, заведи-ка граммофон! Меня это здорово волнует.
Граммофон играет: «Германия, Германия превыше всего…»
Мурк. Послушайте, вон там, во дворе фабрики, кто-то стоит. Кто это?
Анна. Это жутко, Фриц. Мне кажется, он смотрит сюда!
Балике. Наверно, это сторож! Ты что смеешься, Фриц? Смешинка в рот попала? Наши женщины вон как побледнели!
Мурк. Знаешь, мне пришла в голову странная мысль: это «Спартак»…
Балике. Вздор, у нас и в помине нет ничего такого! (Все же отворачивается, неприятно задетый.) Фабрика, значит, процветает! (Подходит к окну.)
Анна задергивает гардину.
Война меня, как говорится, озолотила. Деньги валялись на улице, отчего же их не подобрать? Только дурак отказался бы. Не я, так другой. Есть свинка-будет и ветчинка. Если смотреть в корень, война была счастьем для нас. Мы уберегли наше добро, изрядно и приятно его округлили. Мы можем спокойно делать детские коляски. Не спеша! Ты согласен?
Мурк. Вполне, папа! Твое здоровье!
Балике. А вы можете преспокойно делать детей. Хо-хо-хо-хо!
Служанка. Господин Бабуш к господину Балике!
Бабуш (вваливается в комнату). Дети мои, вы тут недурно укрылись от шабаша красных! «Спартак» объявил мобилизацию. Переговоры прерваны. Через двадцать четыре часа начнется артиллерийский огонь по Берлину.
Балике (с салфеткой на шее). Что ж, черт возьми, эти ребята недовольны?
Госпожа Балике. Артиллерия? О, бо-о… бо-о… боже мой! Вот так ночка! Вот так ночка! Я залезу в подвал, Балике.
Бабуш. В центре города все еще спокойно. Но прошел слух, что они будут занимать редакции газет.
Балике. Что? Мы празднуем помолвку! И как раз в такой день! Сумасброды!
Мурк. Их всех надо к стенке!
Балике. Кто недоволен — к стенке!
Бабуш. Нынче твоя помолвка, Балике?
Мурк. Моя невеста, Бабуш!
Госпожа Балике. Прямо как снег на голову. Только когда же они начнут стрелять?
Бабуш (трясет руку Анне и Мурку). «Спартак» припрятал целые склады оружия. Бессовестный сброд! Так-то, Анна! А вы не робейте! Здесь вам ничего не грозит. Здесь тихий очаг. Семейство! Германское семейство!
Госпожа Балике. В такое время! В такое время! И в день твоей помолвки, Анна!
Бабуш. Зато это дьявольски интересно, дети мои!
Балике. Мне — так ничуть! Ни чуточки не интересно! (Утирает губы салфеткой.)
Мурк. Знаете что! Пойдемте с нами в бар «Пиккадилли»! У нас помолвка!
Бабуш. А как же «Спартак»?
Балике. Обождет, Бабуш! Прострелит брюхо еще кому-нибудь, Бабуш! Пошли с нами в бар «Пиккадилли»! Эй, принарядись, супружница!
Госпожа Балике. В бар «Пиккадилли»? В такую ночь? (Садится на стул.)
Балике. Бар «Пиккадилли» — это старое название. Теперь называется: кафе «Отечество». Фридрих нас пригласил. И что это за такая особенная ночь? Для чего тогда извозчики? Марш, старуха, принарядись!
Госпожа Балике. Я из моего дома ни ногой. Да что ты, Фрицхен?
Анна. Охота пуще неволи. Так хочет Фридрих.
Все смотрят на Мурка.
Мурк. Не здесь. Только не здесь. Я, знаете ли, желаю музыки и света! Это такой шикарный ресторан! Здесь так темно. Я нарочно оделся поприличнее. Ну, так как же, теща?
Госпожа Балике. Мне этого не понять. (Уходит.)
Анна. Обожди меня, Фридрих, я мигом соберусь!
Бабуш. Это весьма занятно! Весь оркестрион скоро взлетит на воздух! Младенцы, объединяйтесь! Между прочим, фунт абрикосов, сочных, мясистых, нежных, как масло, стоит десять марок. Бездельники, не поддавайтесь на провокации! Темные личности свистят, засунув два пальца в рот, прямо в залитых светом кафе! Их лозунг — свобода лодырничать! А в ресторанах под музыку танцует чистая публика! Выпьем за свадьбу!
Мурк. Дамам не надо переодеваться. Теперь это ни к чему. Вся эта блестящая мишура только привлекает внимание!
Балике. Вот именно! В такое суровое время. Не надевать же лучшие платья ради этой банды. Собирайся поживее, Анна!
Мурк. Мы идем первыми. Не вздумай переодеваться!
Анна. Ты груб. (Уходит.)
Балике. Марш!.. Под звуки туша прямо в рай. Мне бы надо переменить рубашку.
Мурк. Ты с матерью нас догонишь. А Бабуша мы возьмем с собой вместо классной дамы, да? (Поет.) Бабуш, Бабуш, Бабуш, вас ли вижу в зале я?
Бабуш. Почему вам так нравится этот убогий детский стишок, сочиненный юным кретином? (Уходит под руку с Мурком.)
Мурк (поет за дверью). Детки, пальцы изо рта, вот будет вакханалия! Анна!
Балике (один, закуривает сигарету). Слава тебе, господи! Конец — делу венец. Распроклятая тягомотина! Прямо силой приходится гнать ее в постель! И еще эта дурацкая любовь к трупу! Моя рубашка насквозь промокла от пота. А теперь будь что будет! Девиз — детские коляски. (Выходит.) Жена, рубашку!
Анна (из-за двери). Фридрих! Фридрих! (Быстро входит.) Фридрих!
Мурк (в дверях). Анна! (Сухо, беспокойно, низко свесив руки, словно орангутанг.) Ты поедешь?
Анна. Что с тобой? Почему у тебя такой вид?
Мурк. Поедешь ты или нет? Я-то знаю, о чем я спрашиваю. Не прикидывайся. Выкладывай все начистоту.
Анна. Поеду, что ты! Вот новости.
Мурк. Хорошо, хорошо. Я не очень-то в тебе уверен. Я двадцать лет бедовал на чердаках, промерзал до костей, теперь на мне лакированные ботинки, посмотри, пожалуйста, вот они! Я до пота надрывался в темноте, при свете газа, он разъедал мне глаза, а теперь я завел себе портного. Но меня все еще шатает, по земле метет ветер, бежит ледяной озноб, и ноги мерзнут, ступая по земле. (Подходит к Анне вплотную, не дотрагивается до нее, стоит перед ней, покачиваясь.) И вот — растет гора мяса. И вот — рекой льется красное вино. Вот пришло мое время! Обливался потом, закрывал глаза, стискивал кулаки так, что ногти вонзались в мякоть. Крышка! Уют! Теплота! Снимаю пиджак! Вот кровать, белая, широкая, мягкая! (Проходя мимо окна, бросает быстрый взгляд на Улицу.) Поди ко мне: я разжимаю кулаки, я сижу в одной рубахе, я владею тобой.
Анна (летит к нему). Милый!
Мурк. Лакомый кусочек!
Анна. Теперь ведь ты владеешь мной.
Мурк. Что же матери всё нет?
Бабуш (из-за двери). Ну, поторапливайтесь! Дети, я ваша классная дама!
Мурк (снова заводит граммофон, который еще раз начинает: ". Власть любви боготворить). Я самый хороший человек, если мне только никто не мешает. (Уходит под руку с Анной.)
Госпожа Балике (впархивает в комнату, стоит перед зеркалом, вся в черном, поправляет шляпку с лентами). Луна такая большая, такая красная… А дети, о боже! Ах, да… Нынче вечером можно от души возблагодарить бога.
В эту минуту в дверь входит мужчина в грязной темно-синей артиллерийской форме, с маленькой трубкой во рту.
Вошедший. Я — Краглер.
Госпожа Балике (сразу ослабев, опирается коленями о зеркальный столик). Господи Иисусе!
Краглер. Чего вы глядите на меня с таким неземным видом? И вы тоже зря потратились на похоронный венок? Очень жаль. Покорнейше докладываю: был привидением, квартировал в Алжире. Но теперь бывший труп зверски голоден. Я мог бы жрать дождевых червей! Но что с вами, мамаша Балике? Дурацкая песня! (Останавливает граммофон.)
Госпожа Балике ( все еще ничего не говорит, только неподвижно смотрит на него).
Краглер. Только не падайте сразу в обморок! Вот стул. Можно раздобыть стакан воды. (Напевая, направляется к шкафу.)Я еще неплохо помню эту квартиру. (Наливает вино в стакан.) Вино! Ниренштейнер! Я, кажется, сегодня оживлен и, значит, не похож на привидение. (Хлопочет возле госпожи Балике.)
Балике (из-за двери). Ну пошли, старуха! Marchons! Ты прекрасна, ангел милый! (Входит в комнату, останавливается растерянно.) Это еще что?!
Краглер. Привет, господин Балике! Вашей жене нехорошо. (Хочет влить вино ей в рот, она с ужасом отворачивается.)
Балике беспокойно наблюдает за этим.
Да выпейте же! Не хотите? Сразу станет лучше. Я даже не думал, что меня здесь еще так хорошо помнят. Я прямо из Африки! Испания, волокита с паспортами и все прочее. Но скажите, где же Анна?
Балике. Оставьте же, ради бога, мою жену в покое! Вы ее, чего доброго, утопите.
Краглер. Ну, вот еще!
Госпожа Балике (бежит к мужу, который стоит неподвижно). Карл!
Балике (строго). Господин Краглер, если вы тот, за кого вы себя выдаете, могу я потребовать у вас объяснения, что вам здесь надо?
Краглер (еле слышно). Послушайте, я был военнопленным в Африке.
Балике. Черт побери! (Подходит к стенному шкафчику, пьет шнапс.) Это хорошо. Это на вас похоже. Какое свинство! Чего вы хотите, собственно говоря? Чего вы хотите? Моя дочь помолвлена нынче вечером, меньше чем полчаса назад.
Краглер (пошатывается, говорит неуверенно). Что это значит?
Балике. Вас не было четыре года. Она ждала четыре года. Мы все ждали четыре года. Теперь довольно, и для вас никакой надежды больше нет.
Краглер садится.
(Несколько нетвердо, неуверенно, но стараясь не потерять выдержки.) Господин Краглер, у меня есть обязательства на сегодняшний вечер.
Краглер (поднимает голову). Обязательства?… (Рассеянно.) Да… (Опять сник.)
Госпожа Балике. Господин Краглер, не стоит так огорчаться. Есть ведь и другие девушки. Так уж получилось. Учись страдать без жалоб.
Краглер. Анна…
Балике (грубо). Жена!
Она нерешительно подходит к нему.
(С внезапной твердостью.) А, хватит этих сантиментов. Marchons! (Уходит с женой.)
В дверях появляется служанка.
Краглер. Гм… (Качает головой.)
Служанка. Господа ушли.
Тишина.
Господа ушли в бар «Пиккадилли» праздновать помолвку.
Тишина. Ветер.
Краглер (смотрит на нее снизу вверх). Гм! (Он медленно, неуклюже встает, оглядывает комнату, молча, сутулясь, оглядывает ее, смотрит в окно, поворачивается, сердито уходит, насвистывая, без шапки.)
Служанка. Постойте! Ваша шапка! Вы забыли здесь вашу шапку!
Второй акт Перец
Бар «Пиккадилли».
В глубине сцепы большое окно. Музыка.
В окне красная луна. Когда открывается дверь, дует ветер.
Бабуш. Заходите в зверинец, детки! Лунного света хватит на всех. Ура, «Спартак»! Ну и морока! Красного вина!
Мурк (входит под руку с Анной, он снимают пальто). Ночь как в романе. Крик в газетных кварталах, дрожки с женихом и невестой!
Анна. Никак не могу избавиться от неприятного чувства. У меня дрожат руки и ноги.
Бабуш. Выпьем, Фридрих!
Мурк. Я тут как дома. Чертовски неуютно, если здесь обосноваться надолго, но зато шикарно! Поглядите-ка, Бабуш, где старшее поколение?
Бабуш. Отлично. (Уходя.) А вы присмотрите за младшим. (Пьет.)
Анна. Поцелуй меня!
Мурк. Что за блажь! Тут мы на виду всего Берлина!
Анна. Это все равно, мне это все равно, раз мне так хочется. А тебе нет?
Мурк. Вовсе нет. И тебе, кстати говоря, не все равно.
Анна. Ты грубиян.
Мурк. Вот именно.
Анна. Трус!
Мурк звонит, входит кельнер.
Мурк. Смирно! (Он перегибается через стол и, опрокидывая стаканы, насильно целует Анну.)
Анна. Фридрих!
Мурк. Кру-гом!
Кельнер уходит.
Ну что, трус я или нет? (Смотрит под стол.) Теперь можешь больше не толкать меня ногой.
Анна. Что ты выдумываешь!
Мурк. Жена да убоится мужа своего.
Балике (входит с женой и Бабушем). Так вот где они! Ну и дела!
Анна. Где вы были?
Госпожа Балике. На небе такая красная луна. Такая багровая, что мне что-то страшновато. И снова кричат в газетных кварталах.
Бабуш. Волки!
Госпожа Балике. Смотрите, домой возвращайтесь только вдвоем.
Балике. В постельку, да, Фридрих?
Анна. Мама, тебе нехорошо?
Госпожа Балике. Когда вы наконец поженитесь?
Мурк. Через три недели, мама!
Госпожа Балике. Разве нельзя было еще кого-нибудь пригласить на вашу помолвку? Никто ничего не знает. Надо, чтобы люди знали об этом.
Балике. Ерунда. Все это ерунда. Боишься, что волк воет? Пусть повоет. Пусть высунет красный язык до самой земли. Я его пристрелю.
Бабуш. Мурк, помогите-ка мне откупорить бутылку! (Вполголоса ему.) Волк вернулся и воет на луну. На красную луну. Волк из Африки.
Мурк. Андреас Краглер?
Бабуш. Волк. Дело дрянь, а?
Мурк. Он похоронен, и точка. Задерните гардины!
Госпожа Балике. Твой отец через каждые два дома заглядывал в пивнушку. Он вдрызг наклюкался. Да, это мужчина! Вот это мужчина! Он готов упиться до смерти ради своих детей, вон он каков!
Анна. Только зачем ему это?
Фрау Балике. Не спрашивай, детка. Не спрашивай меня ни о чем. Все теперь ходят на голове. Настал конец света. Налей мне вишневой наливки, деточка.
Балике. Не увлекайся вишневкой, мамаша! Задерните-ка гардину!
Официант задергивает.
Бабуш. Вы уже смекнули, в чем дело?
Мурк. Я застегнут на все пуговицы и готов драться. Он уже был у вас?
Бабуш. Да, только что.
Мурк. Тогда он явится сюда.
Балике. Заговор за бутылочкой красного? А ну-ка все сюда! Отпразднуем помолвку.
Все садятся к столу.
Поживее! Я слишком занят, чтобы уставать.
Анна. Ух, эта лошадь! Было так чудно! Прямо посреди мостовой взяла да остановилась. Фридрих, вылезай, лошадь больше не везет. И лошадь стояла прямо посреди мостовой. И дрожала… Зрачки у нее были как крыжовник, совсем белые, и Фридрих как хлестнет ее по глазам своей тростью, тут она подскочила. Прямо как в цирке.
Балике. Время — деньги. Здесь чертовски жарко. Я опять потею. Сегодня я так распарился, что уже сменил рубашку.
Фрау Балике. Ты меня до сумы доведешь, на тебя одного белья не напасешься!
Бабуш (жрет сушеные сливы из своего кармана). Фунт абрикосов стоит сейчас десять марок. Вот так. Я напишу статью о росте цен. И тогда уже сумею купить себе абрикосов. Пусть себе гибнет мир, — я напишу об этом статью. Но как быть всем прочим? Если взлетит на воздух весь квартал Тиргартена, я все равно буду жить, как у Христа за пазухой. Но вам-то каково!
Мурк. Рубашки, абрикосы, квартал Тиргартена. Когда же будет свадьба?
Балике. Через три недели. Свадьба — через три недели. Уф-ф. Господь бог слышит мои слова. Все согласны? Согласны насчет свадьбы? Что ж, выпьем за жениха с невестой, ура!
Все чокаются. Дверь отворилась. В дверях стоит Краглер. Пламя свечей меркнет, подрагивая на ветру.
Чудеса, да у тебя стакан дрожит в руке! Точь-в-точь как у матери, Анна!
Анна сидит против двери и видит Краглера, она вся поникла, неподвижно смотрит на него.
Фрау Балике. Господи боже, почему ты вся съежилась, доченька?
Мурк. Откуда такой сквозняк?
Краглер (хрипло). Анна!
Анна тихо вскрикивает. Все оборачиваются, вскакивают на ноги. Суматоха. Все говорят одновременно.
Балике. А, дьявол! (Льет вино из бутылки прямо в глотку.) Мать, вот оно, привиденье!
Фрау Балике. Господи боже! Кра…
Мурк. Вышвырнуть вон! Вышвырнуть вон!
Краглер какое-то время постоял, покачиваясь, в дверях; у него мрачный вид. Во время суматохи он довольно быстро, но тяжелым шагом подходит к Анне, которая одна только еще сидит и, дрожа, держит стакан перед собой, отнимает у нее стакан, облокачивается на стол, в упор глядит на нее.
Балике. Да он вдребезги пьян.
Мурк. Официант! Это нарушение порядка! Вышвырнуть вон! (Бежит вдоль стены, отдергивает гардину. Луна).
Бабуш. Осторожно! У него под рубахой — кусок сырого мяса. Ему хочется крови! Не прикасайтесь к нему. (Бьет тростью по столу.) Только не устраивайте скандала! Спокойно выходите! Выходите по очереди!
Анна (кинулась прочь от стола, обнимает мать). Мама! На помощь!
Краглер обходит стол, шатаясь, идет к Анне.
Госпожа Балике (видя это). Пощадите жизнь моей дочки. Вы попадете в тюрьму! Господи боже, он прикончит ее!
Балике (наливаясь кровью, орет издали). Пьяны вы, что ли? Голодранец! Анархист! Рвань окопная! Морской разбойник! Распроклятый призрак! Где вы забыли свой саван?
Бабуш. Если тебя хватит удар, он на ней женится. Заткните глотки! Он ведь больше вас всех пострадал. Убирайтесь вон. Он имеет право сказать речь. Имеет право, госпожа Балике. Души у вас нет, что ли? Он был четыре года на войне. Нельзя быть такой бездушной.
Госпожа Балике. Она едва на ногах держится, она побелела как полотно!
Бабуш (Мурку). Посмотрите, какое у него лицо! Она ведь знает его! Когда-то он был кровь с молоком! Теперь это — гнилой финик! Не бойтесь ничего.
Они уходят.
Мурк (уходя). Если вы мне толкуете про ревность, так у меня ее совсем нет. Ха-ха!
Балике (еще стоит недолго между столом и дверью, слегка пьян, нетверд на ногах, говорит со стаканом в руке в продолжение всего следующего). Негритянское отродье! Рожа как у больного слона! Не человек, а развалина! Просто бесстыдство! (Топает прочь.)
Теперь один только официант стоит у двери, справа, с подносом в руках.
Слышится «Ave Maria» Гуно. Пламя чадит, как гнилая головешка.
Краглер (выждав немного). У меня совсем пустая голова, а вместо мозгов — пот. Я очень туго соображаю.
Анна (берет свечу, стоит неуверенно, светит ему в лицо). Разве тебя не сожрали рыбы?
Краглер. Не знаю, о чем ты говоришь.
Анна. Ты не взлетел на воздух?
Краглер. Не понимаю тебя.
Анна. Разве тебе не прострелили лицо?
Краглер. Почему ты так странно на меня смотришь? Разве у меня такой вид? (Молчит, глядит в окно.) Я пришел к тебе, как старый пес. (Пауза) Кожа у меня, как у акулы, совсем черная. (Пауза.) А я ведь был как кровь с молоком. (Пауза.) И кровь сочится все время, бежит и бежит…
Анна. Андреас!
Краглер. Да.
Анна (робея, подходит к нему). Андреас, ну почему тебя так долго не было? Или они застращали тебя своими пушками и саблями? А теперь я уже не твоя.
Краглер. Разве меня не было?
Анна. Вначале ты долго не покидал меня, твой голос звучал очень ясно. Когда я шла по коридору, я касалась тебя плечом, а на лугу ты меня звал под клен. Хотя они и писали, что тебе прострелили лицо и два дня спустя похоронили. Но однажды все переменилось. Когда я шла по коридору, он был пуст, и клен замолчал. Когда я выпрямлялась над корытом с бельем, я еще видела твое лицо, но когда на лугу я вешала сушить белье, я уже больше его не видела, и все эти долгие годы я так и не знала, как же ты выглядишь. Но я должна была тебя дождаться.
Краглер. Тебе нужна была фотография.
Анна. Я боялась. Я должна была бояться и ждать, но я — дурная. Пусти мою руку, я очень дурная.
Краглер (смотрит в окно). Не знаю, что ты говоришь. Может быть, это все из-за красной луны. Я должен подумать, что это значит. У меня распухли руки, между пальцами — плавники, я неуклюж и когда пьян, то бью стаканы. Я не умею с тобой говорить. У меня в глотке застряли негритянские слова.
Анна. Да.
Краглер. Дай мне руку. Ты думаешь, я привиденье? Подойди ко мне, дай мне руку. Ты не хочешь подойти?
Анна. Она так нужна тебе?
Краглер. Дай мне руку. Теперь я больше не привиденье. Видишь мое лицо? Разве оно похоже на морду крокодила? У меня плохой вид. Я долго был в соленой воде. Во всем виновата багровая луна.
Анна. Да.
Краглер. И ты возьми мою руку. Почему ты не жмешь ее крепко? Дай мне твое лицо. Что, разве нельзя?
Анна. Нет! Нет!
Краглер (хватает ее). Анна! Я негритянская рухлядь, вот я кто! У меня рот полон дерьма! Четыре года! Ты хочешь меня, Анна? (Резко ее поворачивает и видит официанта, наклонившись вперед, смотрит на него.)
Официант (не владея собой, роняет поднос, бормочет). Но главное в том… соблюла ли она… свою непорочную лилию…
Краглер (обнявши Анну, ржет). Что он сказал? Лилию?
Официант убегает.
Эй, читатель романов, зачем вы удираете? Ведь вот что придумал! Лилию! С ним что-то стряслось. Лилию? Ты слыхала? Вот как глубоко он все это прочувствовал.
Анна. Андре!
Краглер (выпустил Анну, совсем сник, смотрит на нее). Скажи еще раз вот так, — какой у тебя голос! (Он бежит направо.) Официант! Поди-ка сюда, приятель!
Бабуш (за дверью). Что у вас за плотоядный смех? Такой мясистый смех. Как вы себя чувствуете?
Фрау Балике (за его спиной). Анна, дочурка моя! Сколько нам с тобой заботы!
Где-то невдалеке начали играть «Перуанку».
Балике (вбегает, уже слегка отрезвев). Садитесь. (Он задергивает гардину, слышен металлический шум.) С вами багровая луна, и за вами — винтовки в газетных кварталах, у Бабуша. Приходится с вами считаться. (Он снова зажигает все свечи.) Садитесь!
Фрау Балике. Почему у тебя такое лицо? У меня опять дрожь в ногах начинается. Официант! Официант!
Балике. Где Мурк?
Бабуш. Фридрих Мурк спекулирует бостоном. Балике (понизив голос). Заставь его только сесть! Если сядет, значит мы его уже здорово умаслили. В сидячем положении не до пафоса. (Громко.) Садитесь все! Тихо! Возьми себя в руки, Амалия! (Краглеру.) И вы садитесь, ради бога.
Фрау Балике (снимает с подноса у официанта бутылку вишневки). Я должна выпить вишневки, иначе я умру. (Подходит к столу со стаканом.)
Все уселись: госпожа Балике, Балике, Анна. Бабуш вперевалочку подошел к ней и заставил ее сесть. Теперь он силой усаживает на стул Краглера, который растерянно стоял на месте.
Бабуш. Садитесь, вас ноги плохо держат. Хотите вишневки?
Краглер встает. Бабуш силой его усаживает. Теперь он сидит.
Балике. Чего вы хотите, Андреас Краглер?
Фрау Балике. Господин Краглер. Наш кайзер сказал: «Учись страдать без жалоб!»
Анна. Не вставай!
Балике. Заткни глотку! Дай ему сказать! Чего вы хотите?
Бабуш (встает). Может быть, хотите глоток вишневки? Говорите же!
Анна. Андреас, подумай! Не говори сгоряча!
Фрау Балике. Ты меня вгонишь в гроб! Попридержи язык! Ты ни в чем не разбираешься.
Краглер (хочет встать, но Бабуш его удерживает. С большой серьезностью). Если вы задаете мне вопрос, ответить не так-то просто. И я не хочу пить вишневку. Слишком многое зависит от моего ответа.
Балике. Не увиливайте! Говорите все, что вам хочется. А потом я вас вышвырну вон.
Бабуш. Вам все же надо выпить! Вы слишком сухо разговариваете. Вам будет лучше, поверьте мне!
В эту минуту вваливается Фридрих Мурк с проституткой по имени Мария.
Госпожа Балике. Мурк!
Бабуш. Гений обязан иметь свои слабости. Присаживайтесь!
Балике. Браво, Фриц! Покажи этому мужчине, что значит настоящий мужчина. Фриц не трусит. Фриц развлекается. (Хлопает в ладоши.)
Мурк (мрачен, он много выпил. Подходит к столу, оставив Марию стоять). Ну как, собачья комедия еще не кончилась?
Балике (сажает его на стул). Заткни глотку!
Бабуш. Продолжайте, Краглер! Не позволяйте себя перебивать!
Краглер. У него уродливые уши!
Анна. Он был грязнулей в детстве.
Мурк. У него не мозги, а яичный желток.
Краглер. Он должен убраться прочь!
Мурк. И его к тому же били по голове.
Краглер. Я должен обдумать то, что я скажу.
Мурк. Теперь у него в голове яичница.
Краглер. Да, меня били по голове. Я не был здесь четыре года. Я не мог писать писем. Но голова у меня не болит. (Пауза.) Прошло четыре года, прошу запомнить. Ты никогда меня не понимала, ты и сейчас еще в нерешимости и сама этого не чувствуешь. Но я слишком много говорю.
Госпожа Балике. Он, видно, тронулся от жары. (Качает головой.)
Балике. Стало быть, вам пришлось туго? Вы дрались за кайзера и германский рейх? Мне вас жаль. Чего вы хотите?
Госпожа Балике. Ведь кайзер сказал: «Будьте сильны и в страдании». Выпейте глоточек. (Протягивает ему рюмку вишневки.)
Балике (пьет, проникновенно). Вы стояли под градом гранат? Твердо, как сталь? Это похвально. Наша армия совершила доблестные дела. Она, усмехаясь, шла навстречу геройской гибели. Выпейте! Чего вы желаете? (Протягивает ему ящик с сигарами.)
Анна. Андре! Тебе не выдали другой формы? Все еще носишь прежнюю, синюю? Теперь давно такой не носят.
Госпожа Балике. Есть ведь и другие женщины. Официант, еще вишневки! (Протягивает ему фужер.)
Балике. Мы тут тоже не ленились. Чего вы хотите? У вас нет даже медного гроша? Вас выкинули на улицу? Отечество сует вам шарманку в руку? Такого не бывает. Такое в нашем отечестве больше не повторится. Чего вы хотите?
Госпожа Балике. Не бойтесь, вам не придется бродяжить с шарманкой!
Анна. Бурная ночь, как волнуется море! Ух!
Краглер (встал). Теперь я уже чувствую, что у меня здесь нет никаких прав, но всем моим любящим сердцем я прошу тебя быть подругой моей жизни.
Балике. Это что за болтовня? Что он там мелет? Любящим сердцем? Подругой моей жизни? Это что за выражения?
Прочие смеются.
Краглер. Потому, что никто не имеет права… Потому, что я не могу жить без тебя… Всем моим любящим сердцем…
Всеобщий хохот.
Мурк (кладет ноги на стол. Холодным, злым, пьяным голосом). Вы жалкий утопленник. Вас вытащили из воды. С тиной во рту. Поглядите-ка на мои ботинки! И у меня когда-то были такие же, как у вас! Купите-ка себе вот такие! Тогда и приходите снова. Вы знаете, кто вы такой?
Мария (внезапно). Вы были на фронте?
Официант. Вы были на фронте?
Мурк. Закройте клапан. (Краглеру.) Вы угодили в мясорубку. Что ж, многие угодили в мясорубку. Но мы здесь ни при чем. Вы потеряли свое лицо? Эге. Не желаете ли вы, чтобы мы вам его подарили? Прикажете нам троим одеть и обуть вас? Вы разве ради нас ползали в окопах? Разве вам неизвестно, кто вы такой?
Бабуш. Да успокойтесь же!
Официант (шагнул вперед). Вы были на фронте?
Мурк. Ну, не-ет. Я из тех людей, которые обязаны оплачивать ваши геройские дела. А ваша мясорубка теперь отказала.
Бабуш. Бросьте молоть вздор! Это омерзительно. В конце концов, вы ведь недурно заработали, а? И можете не бахвалиться вашей лакированной обувью!
Балике. Послушайте, вот в этом-то и суть. В этом вся изюминка. И это вам не опера. Это реальная политика. К которой мы в Германии не привыкли. Дело очень простое. Есть у вас средства содержать жену? Или вы просто водоплавающий гусь?
Госпожа Балике. Ты слышишь, Анна? У него ничего нет.
Мурк. Если у него есть хоть ломаный грош, я женюсь на его мамаше. (Вскакивает с места.) Он самый обыкновенный брачный аферист.
Официант (Краглеру). Скажите что-нибудь! Отвечайте им что-нибудь!
Краглер (встал, дрожа, говорит Анне). Не знаю, что я могу сказать. Когда от нас остались кожа да кости и нам надо было крепко пить, чтобы мы могли мостить дороги, над нами было одно только вечернее небо, это же очень важно. Ведь такое же небо было в апреле, когда я лежал с тобой под кустом. Я всем так говорил. Но они подыхали, как мухи.
Анна. Надрывались, как лошади, да?
Краглер. Ведь было так жарко, а мы каждый раз напивались допьяна. Но зачем я тебе говорю про вечернее небо, я хотел не о том, я сам не знаю…
Анна. Ты все время думал обо мне?
Госпожа Балике. Ты слышишь, как он говорит? Как ребенок. Послушаешь, становится стыдно за него.
Мурк. Не хотите продать мне ваши сапоги? Для музея германской армии! Даю сорок марок.
Бабуш. Продолжайте, Краглер. Это как раз то, что надо.
Краглер. У нас не было больше белья. Это было хуже всего, поверь мне. Можешь ли ты понять, что вот это и было хуже всего?
Анна. Андре, тебя все слышат!
Мурк. Ладно, даю шестьдесят марок. Продаете?
Краглер. Да, теперь тебе стыдно за меня, потому что они все расселись по местам, как в цирке, а слон мочится от страха, но они ничего не понимают.
Мурк. Восемьдесят марок!
Краглер. Я ведь не пират. Какое мне дело до красной луны! Просто мне трудно смотреть людям в глаза. Я — человек из костей и мяса, и на мне надета чистая сорочка. Я совсем не призрак.
Мурк (вскакивает с места). Согласен на сто марок!
Мария. Постыдитесь, если у вас осталась душа!
Мурк. Значит, эта свинья на желает мне уступить свои старые сапоги за сто марок!
Краглер. Анна, там какая-то дрянь говорит. Что это за голос?
Мурк. Да у вас солнечный удар! Вы сможете сами выйти отсюда?
Краглер. Анна, дрянь уверяет, будто ее нельзя раздавить.
Мурк. Покажите-ка ваше лицо.
Краглер. Анна, его сотворил господь бог.
Мурк. Так это вы? Чего вы, собственно, хотите? Вы просто труп! Вы дурно пахнете! (Зажимает себе нос.) Неужели у вас нет чувства брезгливости? Вы хотите, чтобы на вас молились, как на мощи, только потому, что вы наглотались африканского солнца? Я работал! Я надрывался так, что у меня сапоги набрякли от крови! Поглядите-ка на мои руки! Вам сочувствуют все, потому что вам крепко намяли бока, но ведь их намял не я! Вы герой, я труженик! А это моя невеста.
Бабуш. Только сидите на месте, Мурк! Сидя вы ведь тоже труженик! Всемирная история здорово изменилась бы, Краглер, если бы человечество побольше сидело на собственной заднице!
Краглер. Я не могу смотреть на него. Он как стена в отхожем месте. Весь исписан непристойностями. Она в этом не виновата. Анна, ты любишь его, любишь его?
Анна смеется и пьет.
Бабуш. Это называется запрещенным приемом, Краглер!
Краглер. Это называется откусить ему от злости ухо! Ты любишь его? С этим зеленым лицом, похожим на неспелый орех! Из-за него ты хочешь меня прогнать? Он одет в английский костюм, грудь у него набита ватой, а сапоги набрякли от крови. А у меня есть только мой старый костюм, изъеденный молью. Признайся, что ты мне отказываешь из-за моего костюма, признайся! Мне это будет приятней!
Бабуш. Сядьте же! Черт побери! Сейчас начнется заварушка!
Мария (хлопает в ладоши). Вот он какой! А со мной он так танцевал, что я застыдилась, как он мне все задирал юбку!
Мурк. Заткни пасть! С тобой нечего стесняться! Послушай, ведь есть у тебя нож за голенищем, чтобы перерезать мне глотку, раз уж ты свихнулся там, в Африке? Вытаскивай нож, я сыт по горло всем этим, полосни мне глотку!
Госпожа Балике. Анна, как ты можешь это выслушивать?
Балике. Официант, принесите-ка мне четыре рюмки вишневки! Мне теперь все едино.
Мурк. Будьте осторожны, чтобы не выхватить нож из-за голенища! Возьмите себя в руки и не будьте здесь героем! Вы сразу угодите в тюрьму!
Мария. Вы были на фронте?
Мурк (в ярости швыряет в нее стаканом). Отчего же тебя там не было?
Краглер. Теперь я вернулся.
Мурк. Кто тебя звал?
Краглер. Теперь я здесь!
Мурк. Свинья!
Анна. Будь потише.
Краглер слушается.
Мурк. Разбойник!
Краглер (беззвучно). Вор!
Мурк. Привиденье!
Краглер. Поберегитесь!
Мурк. Вы сами поберегитесь со своим ножом! У вас руки зудят, да? Привиденье! Привиденье! Привиденье!
Мария. Вы свинья! Вы свинья!
Краглер. Анна! Анна! Что мне делать? Плыву по морю, кишащему трупами, и не тону. Трясусь на юг в душном вагоне для скота — но не болею ничем. Горю в огненной печи — но сам я жарче огня. Люди сходят с ума от солнечного жара — но я здоров. Двое проваливаются в болото — я сплю спокойно. Я стреляю в негров. Я жру траву. Я — привиденье.
В эту минуту официант бросается к окну, рывком открывает его. Музыка вдруг обрывается, слышны возбужденные крики: «Идут, идут! Спокойно!»
Официант задувает свечи. Потом с улицы слышен «Интернационал».
Администратор (появляется слева). Господа, просим сохранять спокойствие! Вам предлагают не покидать ресторана. В городе начались беспорядки. Идут бои в газетных кварталах. Положение все еще неясное.
Балике (грузно садится). Это «Спартак»! Ваши друзья, господин Андреас Краглер! Ваши подозрительные собутыльники! Это ваши товарищи ревут в газетных кварталах и занимаются убийствами и поджогами! Звери! (Пауза.) Звери! Звери! Звери! А если спросят, почему вы звери, — потому что жрете мясо! Вас надо истребить с корнем.
Официант. Это вы истребите? Вы, зажравшиеся!
Мурк. Где ваш нож? Покажите его!
Мария (бросается к нему вместе с официантом). Успокоишься ли ты наконец?
Официант. Это бесчеловечно. Это просто скотина.
Мурк. Задерни гардину! Все вы привиденья!
Официант. Так, значит, нас надо поставить к стенке, которую мы сложили своими руками, чтобы вы, устроившись тут же поудобнее, могли лакать вишневку?
Краглер. Вот моя рука и вот моя артерия. Вонзайте нож! Вы увидите, как хлынет кровь, когда я упаду.
Мурк. Привиденье! Привиденье! Ты кто, собственно, такой? Или я должен забиться в щель из-за того, что ты возвратился сюда с твоим африканским загаром? Поднял рев в газетных кварталах? Разве я виноват, что ты был в Африке? Разве я виноват, что я не был в Африке?
Официант. Нет, вы должны вернуть ему его девчонку! Это бесчеловечно!
Госпожа Балике (подскочила к Анне, в бешенстве). Они ведь все больны! Они все заразны! Сифилис! Сифилис! У всех у них сифилис!
Бабуш (бьет своей тростью по столу). Это уж вы чересчур!
Госпожа Балике. Оставь в покое моего ребенка! Оставь в покое моего ребенка! Гиена! Свинья! Вот ты кто!
Анна. Андре, я не хочу. Вы меня совсем погубите!
Мария. Сама ты свинья!
Официант. Это бесчеловечно. Ведь должна же быть на свете правда.
Госпожа Балике. Помолчи! Лакей! Тебя выгонят вон! Подлец, я желаю вишневой наливки, слышишь!
Официант. Вы играете счастьем человека! Это касается нас всех! Его жена должна возвра…
Краглер. Поди прочь! Я всем этим сыт! Что значит «счастье человека»? Чего хочет эта захмелевшая лосиха? Я был один, и теперь я хочу к моей жене. Чего хочет этот плаксивый архангел? Ты хочешь выторговать себе ее бедра, словно фунт кофе? Если вы начнете отрывать ее от меня железными крючьями, вы только растерзаете ее в клочья!
Официант. Вы растерзаете ее!
Мария. Да, как фунт кофе!
Балике. А в кармане-то нет ни гроша.
Мурк (Анне). А ты чего нюнишь, и киснешь, и позволяешь, чтобы этот бродяга лизал тебя глазами? С таким видом, словно невзначай села на ежа голой задницей?
Балике. Вот как ты говоришь о своей невесте!
Мурк. Да разве она невеста? Разве она моя невеста? И не норовит увильнуть к другому? Ты его любишь? У девочки кровь заиграла? Тебя так взманили африканские ляжки? Значит, вот откуда дует ветер?
Бабуш. Сидя вы бы ничего этого не сказали!
Анна (все внимательнее к Краглеру, смотрит на Мурка брезгливо. Вполголоса). Ведь ты же пьян!
Мурк (рывком притягивает ее к себе). Покажи свое лицо! Покажи-ка зубы! Шлюха!
Краглер рывком поднимает Мурка высоко вверх.
Звенят стаканы на столе, Мария беспрерывно хлопает в ладоши.
Краглер. Вы плохо держитесь на ногах, выйдите наружу, там вы можете блевать! Вы слишком сильно наклюкались. Вы сейчас упадете. (Толкает его.)
Мария. Всыпь ему! Всыпь ему как следует!
Краглер. Пусть он валяется! Иди ко мне, Анна. Теперь я хочу тебя! Он хотел купить мои сапоги, но теперь я сам сброшу свою гимнастерку. Моя кожа привыкла к ледяному дождю, она стала красной и лопается на солнце. Мой ранец пуст, и у меня нет даже ломаного гроша. Я хочу тебя. Я некрасив. Мой зад совсем обледенел, но я наконец-то могу выпить. (Пьет.) А потом мы уйдем. Пошли.
Мурк (совершенно обессилевший, с вяло опущенными руками, почти спокойно говорит Краглеру). Не пейте! Вы еще всего не знаете! Хватит нам ссориться. Я выпил лишнего. Но вы еще всего не знаете. Анна (протрезвевшим голосом), скажи ему! Что ты будешь делать? Такая, как ты есть?
Краглер (не слушает его). Не бойся, Анна! (С рюмкой вишневки в руке.) С тобой ничего не случится, не бойся! Мы поженимся. Мне в жизни всегда везло.
Официант. Браво!
Госпожа Балике. Подлец!
Краглер. Кто совестлив, того обгадят птицы! Кто терпелив, того непременно сожрут коршуны. Все это чушь.
Анна (вдруг срывается с места, падает лицом на стол). Андре! Помоги мне! Помоги, Андре!
Мария. Что с вами стряслось? Что с вами?
Краглер (с удивлением смотрит на нее). В чем дело? Анна. Андре, я сама не знаю, мне так плохо, Андре! Я ничего не могу тебе сказать, ты не должен меня спрашивать. (Поднимает глаза.) Я не могу быть твоей. Бог тому свидетель.
Краглер роняет стакан.
И я прошу тебя, Андре, чтобы ты ушел.
Тишина. В соседней комнате все тот же человек спрашивает: «Да что случилось?»
Официант (отвечает ему, полуобернувшись к двери налево). Обросший крокодиловой кожей любовник из Африки ждал четыре года, и невеста все еще хранит свою лилию. Но другой любовник, человек в лакированных ботинках, не отдает ее, и невеста, которая все еще хранит свою лилию, сама не знает, кого же ей выбрать.
Голос. Это всё?
Официант. Тут замешана и революция в газетных кварталах, и потом есть у невесты какая-то тайна, такая, которой любовник из Африки, прождавший четыре года, совсем не знает. Еще ничего не решилось.
Голос. Еще ничего не ясно?
Официант. Еще ничего не решилось.
Балике. Официант! Что это тут за сброд? Что за удовольствие хлестать тут вино в обществе разных клопов? (Краглеру.) Теперь вы все слышали? Вы довольны? Заткните рот! Солнце пекло, да? Ясное дело. Африка. Так написано в книжке по географии. И вы были героем? Будет записано в книжке по истории. А вот в бухгалтерской книге ничего не записано. И значит, герои отправится обратно в Африку. Точка. Официант! Выведите вон вот этого!
Официант берет Краглера на буксир, тот медленно и неуклюже трусит к двери. Слева от него трусцой бежит проститутка Мария.
Собачья комедия! (Так как стало слишком уж тихо, кричит вслед Краглеру.) Хотели купить живое мясо? Тут вам не мясной аукцион. Захватите с собой свою красную луну и спойте-ка песенку вашим шимпанзе. На кой мне сдались ваши финиковые пальмы? И вообще, вы герой из книжки. У вас хоть метрика есть?
Краглер уходит.
Госпожа Балике. Ори, сколько влезет! Но что это с тобой стряслось, ты пьешь столько вишневки, что непременно угодишь под стол.
Балике. Почему у нее такое лицо? Белое, как бумага! Госпожа Балике. Нет, ты только посмотри на нее, на нашу дочурку! Да что с тобой творится, прямо невиданное дело!
Анна сидит за столом молча, почти спрятавшись за гардину, со злым лицом и держит перед собой рюмку.
Мурк (подходит к ней, нюхает рюмку). Тьфу, черт, это перец!
Она презрительно отбирает у него рюмку.
Ах, вот ты как?! Черт возьми, зачем тебе сдался перец? Ты не хочешь еще принять горячую ванну? Или сделать себе массаж? Тьфу, противно! (Плюет и бросает рюмку на землю.)
Анна улыбается. Слышатся пулеметные очереди.
Бабуш (стоя у окна). Ну, держитесь, массы восстали, «Спартак» взбунтовался. Бойня продолжается.
Все замерли, чутко прислушиваются.
Третий акт Полет валькирий
Дорога в газетные кварталы.
Красная стена из обожженного кирпича идет слева направо.
За нею город в слабо мерцающем свете звезд. Ночь. Ветер.
Мария. Куда же ты бежишь?
Краглер (без шапки, с высоко поднятым воротником, насвистывая). А ты что за финик?
Мария. Не беги так быстро!
Краглер. Ты не поспеваешь?
Мария. Тебе кажется, что за тобой кто-нибудь гонится?
Краглер. Ты хочешь немного заработать? Где твоя комнатушка?
Мария. Идти туда — нехорошо.
Краглер. Да. (Хочет идти дальше.)
Мария. У меня легочная болезнь.
Краглер. Что же ты бежишь за мной, как собачка?
Мария. Но твоя неве…
Краглер. Тсс. Это забыто! Зачеркнуто! Кончено навсегда!
Мария. А что ты натворишь до завтрашнего утра?
Краглер. Можно раздобыть нож.
Мария. Господи Иисусе…
Краглер. Не волнуйся, мне не нравится, что ты так кричишь, ведь можно раздобыть и вина. Я попробую смеяться, если это тебе больше нравится. Скажи, ты, наверно, начала промышлять своим ремеслом еще до конфирмации? Забудь об этом! Ты куришь? (Он смеется.) Пошли дальше!
Мария. В газетных кварталах стреляют.
Краглер. Может быть, мы им там пригодимся.
Уходят оба. Ветер.
Двое мужчин идут в ту же сторону.
Первый. Я думаю, давайте здесь.
Второй. Неизвестно, успеем ли мы там…
Они мочатся.
Первый. Пошли.
Второй. Черт! Это на Фридрихштрассе!
Первый. Там, где вы разбавляли поддельный метиловый спирт!
Второй. От этой луны можно сойти с ума!
Первый. Особенно тому, кто продавал табак с крошками!
Второй. Да, я продавал табак с крошками. А вы сдавали людям в наем крысиные норы!
Первый. Вам от этого не легче!
Второй. Что ж, не меня одного вздернут!
Первый. Вы знаете, как поступали большевики? Покажите руку! Мозолей нет. Пиф-паф.
Второй смотрит на свою руку.
Пиф-паф. Вы уже смердите!
Второй. О боже!
Первый. Вот будет номер, если вы отправитесь домой вот в этой фетровой шляпе!
Второй. Да вы и сами тоже в фетровой!
Первый. Но со складкой, мой дорогой.
Второй. Подумаешь! Да я мигом продавлю свою шляпу.
Первый. Ваш крахмальный воротничок хуже намыленной веревки.
Второй. Он живо размякнет от пота. Зато на вас лакированные ботинки.
Первый. А ваше брюхо!
Второй. Ваш голос!
Первый. Ваш взгляд! Ваша походка! Ваша осанка!
Второй. Да, меня за это повесят, но у вас — лицо человека, окончившего среднюю школу!
Первый. У меня ухо изувечено и оцарапано пулей, милостивый государь!
Оба уходят. Ветер. Слева появляется вся кавалькада валькирий. Анна бежит стремглав. Рядом с ней во фраке, но без шляпы, официант Манке из бара «Пиккадилли», который держится как пьяный. За ними идет Бабуш, который тащит Мурка, хмельного, бледного и опухшего.
Манке. Неужели вы все еще не поняли? Его нет, его унесли прочь! Городские кварталы уже, должно быть, поглотили его! Стреляют где угодно, и может случиться что угодно возле редакций газет, именно в такую ночь, его, может быть, даже застрелили. (Упорно, как пьяный, убеждает Анну.) От стрельбы можно убежать, но можно и остаться на мостовой. Во всяком случае, через час уже никто его не отыщет, он без следа пропадет, как клочок бумаги в воде. Лунный свет ударил ему в голову. Он побежит за первым встречным барабанщиком. Идите! Спасите того, кто был и остался вашим возлюбленным.
Бабуш (кидается навстречу Анне). Стойте, валькирия! Куда это вы, сейчас так холодно, и дует ветер, а он бросил якорь в какой-нибудь пивной. (Передразнивает официанта.) Он прождал целых четыре года, а теперь его никто не может отыскать.
Мурк (сидя на камне). Никто, ни одна душа.
Бабуш. Посмотрите-ка вот на это существо!
Манке. Что мне за дело до него! Подарите ему пальто! И не теряйте времени! Он, прождавший четыре года, теперь бежит быстрее, чем летят эти облака! Он умчался прочь быстрее ветра!
Мурк (вяло). Они выплеснули в пунш какую-то краску. Надо же, именно теперь, когда все готово! Белье куплено, квартира снята. Пойдемте ко мне, Баб!
Манке. Чего вы стоите столбом, как жена Лота? Здесь не Гоморра. Вам по нраву это пьяное ничтожество? Неужели вы иначе не можете? Белья, что ли, вам жалко? Неужели это важнее, чем облака?
Бабуш. Вам-то что до всего этого? Вам-то зачем облака? Вы же официант!
Манке. Что мне до этого? Звезды сходят со своего пути, если хоть один человек безразличен к подлости! (Хватает себя за горло.) Меня ведь тоже гонят вон! У меня тоже подкатывает к горлу! Нельзя быть мелочным, когда человек промерзает до самого сердца!
Бабуш. Что вы сказали? До самого сердца? Где вы это вычитали? Говорю вам: до самой зари в газетных кварталах будет слышен какой-то бычий рев. Там будет бесноваться шваль, которая верит, что настало время платить по старым счетам.
Мурк (встал, хнычет). Куда ты меня таскаешь в такой ветер? Мне так скверно. Куда ты все бежишь? Почему? Ты мне нужна. Тут дело не в белье.
Анна. Не могу.
Мурк. Не могу держаться на ногах.
Манке. Сядь! Не тебе одному плохо. Дело дрянь. С отцом вот-вот будет удар, пьяная мамаша-кенгуру плачет. Но дочь уходит на свою квартиру. К любовнику, который ждал четыре года.
Анна. Не могу.
Мурк. Свое белье ты приготовила. И мебель уже в квартире.
Манке. Белье отглажено, а невесты нет.
Анна. Белье куплено, я сама уложила его в шкаф, сорочку за сорочкой, но больше оно мне не нужно. Комната нанята, и уже висят занавески, и стены обклеены обоями, но вернулся тот, у которого нет башмаков, и только один старый пиджак, изъеденный молью.
Манке. И его заглотали газетные кварталы! Его ждут забулдыги в своем салоне! Ночь! Нищета! Подонки! Спасите его!
Бабуш. Ну, что ж, разыграем пьесу: «Ангел в портовых кабаках!»
Манке. Да, ангел!
Мурк. И ты хочешь туда? В Фридрихштадт? Тебя не удерживает ничего?
Анна. Я ничего не знаю.
Мурк. Ничего? А вот «о нем» ты не хочешь подумать?
Анна. Нет, больше не хочу.
Мурк. «Его» ты больше не хочешь?
Анна. Это капкан для меня.
Мурк. Но ты из капкана вырвалась?
Анна. Он меня выпустил сам.
Мурк. Твой ребенок тебе безразличен?
Анна. Он мне безразличен.
Мурк. Потому что вернулся тот, у которого нет даже пиджака?
Анна. Таким я его не знала!
Мурк. Да это вовсе не он. Таким ты его не знала!
Анна. Он стоял среди вас всех, как большой зверь. И вы его били, как зверя.
Мурк. И он ревел, как старая баба!
Анна. И он ревел, как баба.
Мурк. И смылся и бросил тебя одну!
Анна. И он ушел и бросил меня одну!
Мурк. И с ним было покончено!
Анна. С ним было кончено!
Мурк. Он ушел…
Анна. Но когда он ушел, и с ним было все кончено…
Мурк. Ерунда, все это ерунда!
Анна. За ним поднялся вихрь, и подул легкий ветер, и он вдруг усилился, и стал сильнее всего на свете, и вот я ухожу прочь, и вот я иду за ним, и теперь все кончено с нами, и с ним и со мной. Ведь я не знаю, куда он девался. Знает ли бог, где он? Как велик этот мир, и где он? (Она спокойно смотрит на Манке и говорит ему беспечно.) Идите в ваш бар, благодарю вас, и приведите его туда! А вы, Баб, ступайте со мной! (Убегает направо.)
Мурк (брюзгливо). Куда она девалась?
Бабуш. Теперь, парень, полет валькирий окончен.
Манке. Любовник пропал без вести, но возлюбленная спешит за ним на крыльях любви. Героя положили на лопатки, но уже все готово для его вознесения в рай.
Бабуш. Но любовник одним ударом сбросит возлюбленную в сточную канаву и с радостью отправится прямо в ад. Эх вы, романтическая студентка!
Манке. Она уже удаляется прочь, спеша в газетные кварталы. Она еще еле заметна, как белый парус, как чистая идея, как последняя строфа, как опьяненный лебедь, пролетающий над водами…
Бабуш. Что же будет с этим захмелевшим кленом?
Манке. Я останусь здесь. Сейчас холодно. Когда станет еще холоднее, они вернутся. Вы ничего не знаете, потому что вы не знаете, в каком она положении! Пусть бежит! Две сразу ему не нужны. Он покинул одну, а две за ним увязались. (Смеется.)
Бабуш. Ей-богу, она сейчас исчезнет, как последняя строфа! (Вперевалку уходит за ней.)
Манке (кричит ему вслед). Пивная Глубба, Шоссештрассе! С ним проститутка, которая постоянно торчит в пивной Глубба! (Снова широко разводит руки, с важностью.) Революция поглотила их, найдут ли они сами себя?
«Правосудие»
Четвертый акт Заря взойдет
Небольшая пивная. Глубб, бармен в белом, поет под гитару «Легенду о мертвом солдате». Лаар и пьяный брюнет не сводит с него глаз. Приземистый, коренастый человечек по фамилии Бультроттер читает газету. Официант Манке, брат Манке из «Пиккадилли-бара», пьет с проституткой Августой, и все курят.
Бультроттер. Я желаю пить шнапс и не желаю слушать о мертвом солдате, я желаю читать газету, а мне для этого нужен шнапс, иначе я не понимаю ни строчки, черт побери!
Глубб (холодным, стеклянным голосом). Вам здесь неуютно?
Бультроттер. Да, и к тому же сейчас — революция.
Глубб. О чем это вы? В моей пивной подонки усаживаются поуютнее, а Лазарь поет свою песню.
Пьяный брюнет. Я подонок, а ты Лазарь.
Входит рабочий, идет к стойке.
Рабочий. Здорово, Карл.
Глубб. Ты спешишь?
Рабочий. Ровно в одиннадцать, на площади Гаузфогтей.
Глубб. Пустые слухи.
Рабочий. На Ангальтском вокзале с шести часов засела дивизия гвардейских стрелков. В «Форвертсе» пока еще все в порядке. Нынче, Карл, нам может пригодиться твой Пауль.
Тишина.
Манке. Обычно здесь помалкивают о Пауле.
Рабочий (расплачивается). Сегодня день необычный. (Уходит.)
Манке (Глуббу). А в ноябре разве было обыкновенное время? Вам надо взять в руки штангу, и тогда вы почувствуете на пальцах что-то липкое.
Глубб (холодно). Что угодно этому господину?
Бультроттер. Свободы! (Он снимает пиджак, отстегивает крахмальный воротничок.)
Глубб. Полиция запрещает пить без пиджака.
Бультроттер. Реакционер!
Манке. Они репетируют «Интернационал» на четыре голоса с тремоло. Свобода! Это, наверно, значит, что человеку в крахмальных манжетах велят вымыть отхожее место?
Глубб. Они крушат вдребезги фанеру, отделанную под Мрамор.
Августа. А что, разве этим, в белых манжетах, зазорно вымыть уборную?
Бультроттер. Эй, парень, тебя надо к стенке!
Августа. Тогда пусть эти, в белых манжетах, перестанут ходить в сортир.
Манке. Августа, не выражайся.
Августа. Эй, постыдитесь, свиньи, вам надо выпотрошить кишки, вас, которые в белых манжетах, надо вздернуть пл фонарях! Фрейлейн, прошу вас, уступите дешевле, мы проиграли войну! Нечего заниматься любовью, если карман в дырах, и нечего воевать, если не умеете! Снимите ноги со стола, тут дамы! С какой стати мне нюхать ваши потные ноги, негодяй!
Глубб. У него манжеты вовсе не белые.
Пьяный брюнет. Что это там так громыхает?
Манке. Пушки!
Пьяный брюнет (улыбается натянутой улыбкой). Что это там так звякает?
Глубб бежит к окну, рывком отворяет его, они слышат, как по улице проезжают пушки. Все — у окна.
Бультроттер. Вот они какие — майские жуки!
Августа. Господи боже, куда это они едут?
Глубб. К зданиям газет, девчонка! Это все читатели газет. (Он закрывает окно.)
Августа. Господи боже, кто это там в дверях?
Краглер, скользя на подошвах, как пьяный, появляется в дверях.
Манке. Вы, должно быть, кладете под дверью яйца?
Августа. Кто ты такой?
Краглер (злобно ухмыляясь). Никто!
Августа. У него по лицу льется пот. Ты что, бежал?
Пьяный брюнет. У тебя, наверно, понос?
Краглер. У меня нет поноса.
Манке (глядя на него через стол). Ну, парень, выкладывай, чего ты там нашкодил. Я такие рожи знаю.
Мария (появляется из-за его спины). Он ничего не нашкодил. Я пригласила его, Августа, ему негде ночевать. Он был в Африке. Садись.
Краглер по-прежнему стоит в дверях.
Манке. Был в плену?
Мария. Да, и пропал без вести.
Августа. Без вести?
Мария. Да, и в плену. А они тем временем увели у него невесту.
Августа. Ну что ж, иди к маме Августе. Садись, артиллерист. (Глуббу.) Пять двойных стаканчиков вишневки, Карл!
Глубб наливает пять стаканов, а Манке ставит их на столик.
Глубб. У меня на прошлой неделе увели велосипед.
Краглер подходит к столику.
Августа. Расскажи-ка нам про эту Африку!
Краглер не отвечает, но пьет.
Бультроттер. Выплюнь это вино. Хозяин бара — красный.
Глубб. Кто?
Бультроттер. Красный.
Манке. Послушайте, господин, ведите себя прилично. Здесь нет красных, запомните.
Бультроттер. Хорошо, если так.
Августа. А что ты делал там, за морем?
Краглер (обращаясь к Марии). Стрелял неграм в брюхо. Мостил дороги. Говоришь, у тебя что-то с легкими?
Августа. А долго ли?
Краглер (снова Марии). Двадцать семь.
Мария. Месяцев.
Августа. А раньше?
Краглер. Раньше? Лежал в окопе, на сырой глине.
Бультроттер. И что вы там делали?
Краглер. Воняли.
Глубб. Да, там-то можно было бить баклуши сколько вздумается.
Бультроттер. А в Африке, каков там народец?
Краглер молчит.
Августа. Не хамите.
Бультроттер. Когда вы вернулись домой, ее не было, не так ли? Вы, чего доброго, думали, что она каждое утро ходит к казармам и ждет вас там возле сторожевой будки?
Краглер (Марии). Дать ему по морде?
Глубб. Нет, пока не надо. Но ты можешь завести оркестрион. Это я тебе позволяю.
Краглер (встает, покачиваясь, и отдает честь). Слушаюсь. (Он идет и заводит оркестрион.)
Бультроттер. Сантименты.
Августа. Он как труп — уже ничего не понимает. Он пережил сам себя.
Глубб. Да, да-да. С ним поступили немножко несправедливо. Но ничего, все перемелется.
Бультроттер. Вот оно что, вы, стало быть, не красный. Глубб, скажите-ка, разве я не слыхал о вашем племяннике?
Глубб. Слыхали, наверно. Только не в этой пивной.
Бультроттер. Нет, не в этой пивной. У Сименса.
Глубб. И недолго.
Бультроттер. У Сименса, и недолго. Он был там токарем, но недолго. Был токарем у Сименса до ноября, а?
Пьяный брюнет (который до сих пор только смеялся, поет).
Убиты все мои братья, Курилка жив, как и встарь. Я был красным, хотел бунтовать я, В ноябре, а нынче январь.Глубб. Господин Манке, этот господин не желает никого обидеть. Позаботьтесь о нем.
Краглер ( подхватил Августу и пляшет с ней по комнате).
Яйцо у повара слямзил Какой-то лохматый пес. А повар схватил свою сечку И башку ему начисто снес.Пьяный брюнет (содрогаясь от смеха). Был токарем, но недолго.
Глубб. Прошу вас, не бейте моих стаканов, артиллерист!
Мария. Сейчас он напился. Сейчас ему полегчало.
Краглер. Полегчало ли ему? Утешься, Брат Пивной Бочонок, и скажи: такого не бывает.
Августа. Ты выпей сам.
Пьяный брюнет. Разве здесь не говорили о вашем племяннике?
Краглер. Разве свинья что-нибудь значит для господа бога, сестра Проститутка? Ничего.
Пьяный брюнет. Только не в этой пивной.
Краглер. Как же иначе? Разве можно отменить армию или господа бога? Разве можешь ты, господин красный, отменить пытки, и такие пытки, которым люди обучили самого дьявола? Ничего этого ты не можешь отменить, но ты можешь разливать шнапс. А потому пейте, и заприте дверь, и не впускайте сюда ветер, который тоже зябнет, а подбросьте в печку дров!
Бультроттер. Хозяин говорит, что с тобой обошлись немножко несправедливо, но все это перемелется.
Краглер. Перемелется ли? Ты сказал «несправедливо», брат мой Красный? Но что это за слово? Люди придумывают вот такие мелкие словечки и пускают их на воздух, как пузыри, чтобы потом можно было спокойно лечь спать, потому что так и так все перемелется. И большой брат бьет меньшого по морде, и жирный снимает жирную пенку с молока, и все порастет быльем.
Пьяный брюнет. Как насчет племянничка? О котором здесь не говорят!
Краглер.
И псы схоронили беднягу, От имени местных собак Поставили камень могильный, На котором написано так: «Яйцо у повара слямзил…»А потому устраивайтесь поуютнее на этой маленькой звезде, здесь холодно и чуточку темно, господин Красный, и мир слишком стар для лучших времен, а на небе, мои дорогие, все квартиры уже сданы внаем.
Мария. Что же нам делать? Он говорит, что хочет идти в газетные кварталы, там заварилась каша, но что там такое, в газетных кварталах?
Краглер. В бар «Пиккадилли» едут дрожки.
Августа. И на дрожках — она?
Краглер. И на дрожках — она. У меня совсем обыкновенный пульс, можете пощупать. (Он протягивает руку, пьет вместе с остальными.)
Мария. Его зовут Андре.
Краглер. Андре. Да, меня звали Андре. (Все еще трогает свой пульс с отсутствующим видом.)
Лаар. Это были сосенки, совсем невысокие.
Глубб. А вот и камень начал бормотать.
Бультроттер. И ты торговал ими, глупая голова?
Лаар. Я?
Бультроттер. Это насчет банка. Очень интересно, Глубб, но только не в этом баре.
Глубб. Вас оскорбили? Но ведь вы можете владеть собой. Отлично, пусть другие владеют вами. Будь спокоен, когда они сдирают с тебя кожу, артиллерист, иначе она лопнет, а другой У тебя нет. (Моет стаканы.) Да, вы немножко оскорблены. Вас рубили на мясо саблями, расстреливали из пушек, слегка обгадили и немножко оплевали. Ну, и что ж тут такого!
Бультроттер (кивает на стаканы). Зачем еще мыть ях, они и так чистые.
Пьяный брюнет. Умой меня, господин, чтобы я стал белым! Умой меня, чтобы я стал белым, как снег! (Поет.)
Убиты все мои братья, Курилка живет, как и встарь. Я был красным, хотел бунтовать я В ноябре, а нынче январь.Глубб. Ну, и хватит.
Августа. Вы трусы!
Продавщица газет (в дверях). «Спартак» в газетных кварталах! Красная Роза держит речь под открытым небом в Тиргартене! До каких же пор будет бунтовать сволочь? Где же армия? Десять пфеннигов, господин артиллерист. Где же армия? Десять пфеннигов. (Уходит, видя, что покупателей нет.)
Августа. А Пауля все нет!
Краглер. Там опять свистят?
Глубб (закрывает буфет, вытирает руки). Бар закрыт.
Манке. Уходи, Августа! Это не про тебя сказано, но и ты тоже уходи! (Булътроттеру.) Что с вами, господин? Две марки шестьдесят.
Бультроттер. Я бывал на Скагерраке, и это тоже мало было похоже на брачную ночь.
Все встают.
Пьяный брюнет (обняв Марию, поет). Каналья, мой ангел, как преданный пес, плыла ты со мной через море слез.
Краглер. Пошли штурмовать газеты!
Яйцо у повара слямзил Какой-то лохматый пес, А повар схватил свою сечку И башку ему начисто снес.Крестьянин Лаар нетвердым шагом подходит к оркестриону, тащит к себе барабан и, барабаня, уходит вслед за остальными.
Пятый акт Постель
Деревянный мост.
Крики, большая красная луна.
Бабуш. Вам надо домой.
Анна. Я больше не могу. Какой в этом прок, что я ждала четыре года, глядя на фотографию, а потом нашла себе другого. По ночам мне было страшно.
Бабуш. Это моя последняя сигара. Вы что, уже больше не пойдете домой?
Анна. Послушайте, вы!
Бабуш. Они громят здания газет, орут навстречу пулеметам, оглушают друг друга стрельбой, кричат, будто они строят новый мир. Вон снова идет их кучка.
Анна. Это — он!
Едва они приближаются, в переулке возникает большая тревога. Снова слышна беспорядочная стрельба.
Сейчас я ему скажу!..
Бабуш. Я зажму вам рот!
Анна. Я не зверь. Я сейчас закричу.
Бабуш. Это моя последняя сигара!
Из-за домов показываются Глубб, Лаар, пьяный брюнет, две женщины и Андреас Краглер.
Краглер. Я охрип. Я подавился моей Африкой. Я хочу повеситься.
Глубб. Разве ты не можешь повеситься завтра, а сейчас отправиться с нами поближе к газетам?
Краглер (уставившись на Анну). Да.
Августа. Ты что, увидал привиденье?
Манке. Дружище, да у тебя волосы встали дыбом!
Глубб. Это она?
Краглер. Что стряслось, почему вы все остановились? К стенке всех вас! Марш, марш, марш вперед!
Анна (шагнув ему навстречу). Андре!
Пьяный брюнет. Тверже шаг, любовь зовет!
Анна. Постой, Андре, это я, я хотела тебе кое-что сказать. (Пауза.) Я хотела объяснить тебе что-то очень важное, постой минутку, я не пьяна. Я должна тебе кое-что сказать на ухо.
Краглер. Ты пьяна?
Августа. Теперь невеста бегает за ним, а сама мертвецки пьяна!
Анна. Как ты сказал? (Делает еще несколько шагов.) У меня будет ребенок.
Августа пронзительно хохочет.
Краглер покачивается из стороны в сторону, косится в сторону моста, неуклюже переминается на месте, словно он разучился ходить.
Августа. Ты чего глотаешь воздух, разве ты рыба?
Манке. Тебе, верно, кажется, что ты уснул?
Краглер (руки по швам). Слушаюсь!
Манке. У нее будет ребенок. Рожать детей — вот ее занятие. Пошли!
Краглер (тупо). Слушаюсь! Куда?
Манке. Он рехнулся.
Глубб. Разве ты не был когда-то в Африке?
Краглер. Марокко, Касабланка, барак номер десять.
Анна. Андре!
Краглер (прислушивается). Послушай, это моя невеста, она шлюха! Она пришла, она здесь, она брюхата!
Глубб. Чуть-чуть малокровна, не так ли?
Краглер. Тсс. Я тут ни при чем, совсем ни при чем.
Анна. Андре, ведь здесь люди!
Краглер. Тебе ветром надуло ребенка или ты сделалась шлюхой? Я был далеко, я не видел тебя. Я лежал в окопе, в дерьме. А ты с кем лежала, пока я лежал в дерьме?
Мария. Напрасно вы так говорите. Да что вы понимаете?
Краглер. Я хотел только увидеть тебя. Теперь бы я давно лежал там, где следует, и ветер шуршал бы в черепе, а песок — на зубах, и я бы не знал ничего. Но я хотел еще видеть — все это! И стоял на своем. Я жрал барду. Она была горькой. Я выполз на четвереньках из окопной глины. Это было так смешно! Я свинья. (Вскидывает голову.) А вы что глядите, а? У вас разве даровые билеты? (Хватает комья земли и начинает ими кидаться.)
Августа. Удержите его!
Анна. Кидай, Андре! Кидай! Прямо в меня!
Мари я. Уберите женщину, он ее убьет!
Краглер. Проваливайте к дьяволу! Теперь вы видели все, чего хотели. Можете орать вволю. Больше ничего не будет.
Августа. Нагните ему башку пониже! В грязь лицом!
Мужчины прижимают его к земле.
А теперь, пожалуйста, проваливайте, фрейлейн!
Глубб (Анне). Да, подите-ка домой, не застудитесь, утренний воздух вреден для женских органов.
Бабуш (с другого конца поля боя аплодирует Краглеру и поясняет ему, жуя свою расплывшуюся сигару). Теперь вам известно, где собака зарыта. Вы господь бог, вы громыхаете. А женщина, поймите, беременна, ей вредно сидеть на камне, ведь ночи прохладные, так, может, вы что-нибудь скажете.
Глубб. Да, может, ты что-нибудь скажешь?
Мужчины отпускают Краглера.
Тишина. Ветер свистит. Двое мужчин проходят поспешным шагом.
Первый. Они взяли здание Ульштейна.
Второй. Напротив Моссе устанавливают артиллерию.
Первый. Нас слишком мало.
Второй. Многие еще подоспеют.
Первый. Слишком поздно.
Оба скрылись.
Августа. Слыхали? Теперь кончайте!
Манке. Рявкните ответ ему прямо в рожу, этому буржую с его шлюхой!
Августа (хочет силой потащить Краглера). Пошли штурмовать газеты, парнище. Там ты опять начнешь задираться не хуже прежнего!
Глубб. Оставьте ее в покое, пусть посидит на камне. В семь часов пойдет подземка.
Августа. Сегодня она не пойдет.
Пьяный клиент. Вперед, прямо в рай, осанна!
Анна снова встает.
Мария (оглядывает ее). Белее холста.
Глубб. Немножко бледна и немножко худа.
Бабуш. Одним словом, расклеилась.
Глубб. Это только так кажется, тут неважное освещение. (Смотрит на небо.)
Августа. Вон они идут из Веддинга.
Глубб (потирая руки). Ты ведь въехал в город на орудийном лафете, артиллерист. Может, и твое место с ними.
Краглер молчит.
Ты молчишь, это очень мудро. (Обходит его кругом.) Твоя гимнастерка кое-где прострелена, да и сам ты чуть-чуть бледноват, немножко потрепан. Но в общем ты еще ничего, только сапоги йа тебе, пожалуй, неприятные, они слишком скрипят. Но ты можешь их смазать жиром. (Он принюхивается.) Правда, после одиннадцати вечера кое-какие звезды вместе с небесами опустились на землю и кое-какие апостолы начали жрать беззащитных пташек, но это хорошо, что ты еще жив. Твой желудок меня беспокоит. Но все-таки ты не стал прозрачным, тебя хорошо видно.
Краглер. Поди сюда, Анна!
Манке (дразнит). Поди сюда, Анна!
Анна. Когда пойдет метро, скажите?
Августа. Метро сегодня не пойдет, и трамвай не пойдет, и никакой транспорт не пойдет с утра до вечера. Сегодня везде тишина, на всех путях сегодня стоят поезда, и мы можем вволю погулять, до самого вечера, моя дорогая.
Краглер. Поди сюда, Анна!
Глубб. Ты не желаешь еще пройтись с нами, братец артиллерист?
Краглер молчит.
Иные из нас охотно пропустили бы еще по рюмочке, но ты был против. Иные охотно полежали бы в кровати, но у тебя не было кровати, и мы решили домой не ходить.
Краглер молчит.
Анна. Ты не хочешь пойти с ними, Андре? Эти господа ждут тебя.
Манке. Приятель, карты на стол!
Краглер. Бросайте в меня камнями, я стою на своем: могу ради вас снять последнюю рубаху, но подставлять шею под топор — это вовсе не по мне.
Пьяный брюнет. Гром меня разрази.
Августа. А кто, кто же пойдет штурмовать газеты?
Краглер. Зря вы стараетесь. Я не пойду в ночной рубашке штурмовать ваши газеты. Я вам больше не ягненок. Я подыхать не желаю. (Достает трубку из кармана брюк.)
Глубб. Разве он не похож на бедного попрошайку?
Краглер. Приятель, да они тебе продырявят грудь! Анна! Ты что так смотришь, черт тебя возьми? Еще не хватало мне перед тобой оправдываться. (Глуббу.) Они застрелили твоего племянника, зато я опять заполучил мою жену. Пойдем, Анна!
Глубб. Думаю, мы дальше пойдем одни.
Августа. Значит, Африка и все прочее, все это было враньем?
Краглер. Нет, правдой! Анна!
Манке. Этот господин орал, как биржевой маклер, а сейчас ему захотелось в постельку.
Краглер. Теперь у меня есть жена.
Манке. Да неужели?
Краглер. Сюда, Анна! Да, она с изъяном, она больше не невинна. Ты осталась честной девушкой или ты нагуляла ребенка?
Анна. Да, я нагуляла себе ребенка.
Краглер. Вот так.
Манке. А мы? Проспиртовались до печенок, сыты по самое горло твоей брехней, а кто нам вложил нож в лапы?
Краглер. Я, кто же еще. (Анне.) Так вот ты какая.
Анна. Да, я такая.
Августа. Ты разве не кричал нам: «Пошли штурмовать газеты!»?
Краглер. Конечно, кричал. (Анне.) Поди сюда!
Манке. Да, ты кричал, и тебе, парень, никак не увильнуть. Ты кричал: «Пошли к газетам!»
Краглер. А теперь вот иду домой. (Анне.) Живо, чего ты стоишь!
Августа. Свинья!
Анна. Оставь меня. Отца с матерью я обманывала и лежала в постели с неженатым парнем.
Августа. Ты тоже свинья!
Краглер. Что с тобой?
Анна. Вместе с ним я покупала занавески. И я спала с ним в постели.
Краглер. Заткни глотку!
Манке. Эй, приятель, я повешусь, если ты не сдержишь слово!
В глубине — отдаленный крик.
Августа. Сейчас они штурмуют дом Моссе.
Анна. А про тебя я совсем не помнила, вот ни на столечко, и твое фото было мне не нужно.
Краглер. Заткнись!
Анна. Не помнила! Не помнила!
Краглер. А мне на это плевать! Будешь упрямиться, могу пригрозить ножом.
Анна. Да, пригрози мне! Да, ножом!
Манке. В воду эту тварь!
Они набрасываются на Анну.
Августа. Да отнимите у него эту бабу.
Манке. За горло ее!
Августа. В воду ее, спекулянтку!
Анна. Андре!
Краглер. Руки прочь!
Слышно только хрипенье. Вдали время от времени ухают глухие пушечные залпы.
Манке. Что это?
Августа. Артиллерия.
Манке. Пушки.
Августа. Теперь помилуй бог всех, кто там дерется. Их выпотрошат, как рыбу.
Краглер. Анна!
Августа, пригнувшись, бежит назад.
Бультроттер (появляется позади их, на мосту). А, черт, куда вы все провалились?
Глубб. Ему захотелось в уборную!
Манке. Подлец! (Уходит.)
Краглер. Я отправляюсь домой, мой дорогой лебедь.
Глубб (уже с моста). Да, спать с бабой ты еще годишься.
Краглер (Анне). Снова свистит пуля, покрепче обними меня, Анна.
Анна. Я хочу съежиться в крохотный комочек.
Глубб. Ты ведь повесишься завтра же утром, в уборной.
Августа уже исчезла вместе с другими.
Краглер. Ты, приятель, разобьешь себе лоб.
Глубб. Да, это утро даром не пройдет, мой мальчик. Но кое-кто уже неплохо о себе позаботился. (Исчезает.)
Краглер. Вы чуть не захлебнулись, проливая слезы обо мне, а я просто выстирал в ваших слезах мою сорочку! Очень нужно моим костям гнить в сточной канаве, чтобы ваша идея вознеслась на небеса. Пьяны вы, что ли?
Анна. Андре! Не волнуйся!
Краглер (глядит ей в глаза, топает взад и вперед, стучит себя ладонью по горлу). Меня тошнит от всего этого. (Сердито смеется.) Это обыкновенный театр. Сцена из досок, бумажная луна, а под ней мясная лавка, зато в ней-то и рубят настоящее мясо. (Он снова бегает взад и вперед, свесив руки до земли, и вдруг выуживает давешний барабан из пивнушки.) Они забыли свой ба рабан. (Бьет в барабан.) «Неудачливый Спартак, или Власть любви». «Кровавая баня в газетном квартале, или Каждый мужчина хорош, если не лезет в герои». (Поднимает глаза, подмигивает.) Со щитом или без щита. (Бьет в барабан.) Волынка играет сбор, бедняги умирают в газетных кварталах, на них рушатся дома, брезжит утро, они лежат, как утопшие котята, на асфальте, а я свинья, и свинья бежит домой. (Глубоко вдыхает воздух.) Я надену свежую рубашку, моя шкура еще цела, гимнастерку я сниму, сапоги смажу жиром. (Злобно хохочет.) Этот галдеж скоро кончится, нынче утром, а я нынче утром буду лежать в постели и буду размножаться, чтобы я не умер никогда. (Бьете барабан.) Нечего глазеть так романтически! Все вы захребетники! (Барабанит.) Все вы живодеры! (Хохоча во все горло, почти задыхаясь.) Все вы кровожадные трусы, эй, вы! (Он давится от смеха, больше смеяться не может, качается взад и вперед, швыряет свой барабан прямо в луну, которая оказалась цветным фонариком, и барабан и луна падают в реку, в которой не оказалось воды.) Хмель и ребячество. А теперь — в постель. Белая, широкая постель, сюда!
Анна. О, Андре!
Краглер (обнимает ее за плечи). Тебе тепло?
Анна. Но ты же сам без пиджака. (Помогает ему одеться.)
Краглер. Да, холодно. (Он кутает ей шею в теплую шаль.) А теперь идем!
Оба идут рядом, не касаясь друг друга, Анна чуть-чуть отстает. В воздухе, высоко и далеко, слышится дикий, отчаянный крик: это кричат в газетном квартале.
(Останавливается, слушает стоя, обнимает Анну). Прошло четыре года.
Крик не стихает, они уходят.
Из цикла «Страх и нищета в Третьей империи» Стихотворные эпиграфы в переводе Арк. Штейнберга
{146}
Меловой крест Перевод Н. Вольпин
А вот штурмовые оравы,
Привычные к слежке кровавой,
Идут, отдавая салют,
В застенках собратьев терзая,
Они от жирных хозяев
Подачки какой-нибудь ждут.
Берлин, 1933 год. Кухня в господском доме.
Штурмовик, кухарка, горничная, шофер.
Горничная. Ты в самом деле должен через полчаса уходить?
Штурмовик. Ночное учение!
Кухарка. Что вы там делаете по ночам?
Штурмовик. Служебная тайна.
Кухарка. Облава?
Штурмовик. Вам бы все узнать. Но у меня никто ничего не выведает. Из колодца рыбу не выудишь.
Горничная. И тебе еще нужно сегодня в Рейникендорф?{147}
Штурмовик. В Рейникендорф? А почему не в Руммельсбург или в Лихтерфельде, а?
Горничная (смущенно). Может, покушал бы в дорогу?
Штурмовик. Зарядиться перед боем? Пожалуй!
Кухарка ставит прибор.
Да, нам болтать не положено! Захватить противника врасплох! Нагрянуть с той стороны, где не видно ни облачка. Посмотрите на фюрера, когда он что-нибудь замышляет: непроницаем! Вел никогда ничего не знаете наперед. Он, может быть, и сам-то наперед ничего не знает. А потом сразу удар… Молниеносно. Самые сумасшедшие штуки. И поэтому все перед нами трепещут. (Обвязался салфеткой и, вооружившись ножом и вилкой, спрашивает осторожно.) А господа не нагрянут, Анна? А то я тут сижу и набиваю рот деликатесами. (Рявкает, как будто с полным ртом.) Хайль Гитлер!
Горничная. Нет, они сперва позвонили бы, вызвали бы машину. Правда, господин Франке?
Шофер. Простите?… А, конечно!
Штурмовик, успокоившись, принимается за еду.
Горничная (подсев к штурмовику). Ты, верно, устал?
Штурмовик. Дьявольски.
Горничная. Но в пятницу ты свободен?
Штурмовик. Если ничего не случится.
Горничная. Кстати, за починку часов взяли четыре пятьдесят.
Штурмовик. Какое бесстыдство!
Горничная. Они и новые-то стоили всего двенадцать марок.
Штурмовик. Мальчишка из аптеки все еще пристает?
Горничная. Ах, что ты!
Штурмовик. Ты мне только слово скажи, и все будет в порядке.
Горничная. Я и так ничего не скрываю. Ты в новых сапогах?
Штурмовик (скучным голосом). Да. А что?
Горничная. Минна, вы видели, какие у Тео новые сапоги?
Кухарка. Нет.
Горничная. Покажи ей, Тео! Вот им теперь какие выдают.
Штурмовик, дожевывая кусок, вытягивает ногу.
Шикарные, правда?
Штурмовик смотрит по сторонам, словно чего-то ища.
Кухарка. Что-нибудь не так, не по вкусу?
Штурмовик. Смочить бы.
Горничная. Пива хочешь? Я живо принесу. (Выбегает.)
Кухарка. Она ради вас, господин Тео, из кожи готова выскочить.
Штурмовик. Да, в этом деле я осечки не даю. Бьем молниеносно.
Кухарка. Вы, мужчины, слишком много себе позволяете.
Штурмовик. Женщина только того и хочет. (Видя, что кухарка поднимает тяжелый котел.) Зачем же вы так себя утруждаете? Оставьте, это наше дело. (Берет из ее рук котел.)
Кухарка. Очень с вашей стороны любезно. Вы всегда найдете, чем бы мне облегчить работу. (Бросив взгляд на шофера.) Не все такие услужливые.
Штурмовик. Есть о чем говорить! Нам это только приятно.
В дверь с лестницы стучат.
Кухарка. Это мой брат. Он должен принести лампу для радио. (Впускает брата, рабочего.) Мой брат.
Штурмовик и шофер. Хайль Гитлер!
Рабочий буркнул что-то, что может с некоторой натяжкой сойти за «хайль Гитлер».
Кухарка. Лампу принес?
Рабочий. Да.
Кухарка. Может быть, сейчас же и ввернешь?
Выходят вдвоем.
Штурмовик. Что за личность?
Шофер. Безработный.
Штурмовик. Часто сюда заходит?
Шофер (пожимает плечами). Я сам тут бываю редко.
Штурмовик. На толстуху можно положиться, она чистопробная немка.
Шофер. Абсолютно.
Штурмовик. Но брат может оказаться другого поля ягодой.
Шофер. Вы берете его на подозрение?
Штурмовик. Я? Нет. Зачем? Подозрений у меня не бывает. Понимаете, подозрение — это уже все равно что уверенность. А когда так, сразу делается вывод.
Шофер (про себя). Молниеносно!
Штурмовик. Да, вот оно как. (Откинулся на спинку стула, прищурил один глаз.) Вы разобрали, что он там пробурчал? (Подражает приветствию рабочего.) Это могло означать «хайль Гитлер», но могло и не означать. Люблю я таких молодчиков. (Раскатисто смеется.)
Кухарка и рабочий возвращаются.
Кухарка (ставит перед рабочим еду). Мой брат по части радио первый мастер. А предложи ему послушать передачу, и нисколько это ему не интересно. Будь у меня время, я бы только и делала, что крутила приемник. (Рабочему.) Но у тебя-то, Франц, времени хоть отбавляй.
Штурмовик. В самом деле? У вас есть радио и вы его не включаете?
Рабочий. Включаю иногда — музыку послушать.
Кухарка. Он себе прямо-таки из ничего смастерил превосходный приемник.
Штурмовик. На сколько ламп?
Рабочий (глядит на него с вызовом). На четыре.
Штурмовик. Да, вкусы бывают разные. (Шоферу.) Не так ли?
Шофер. Простите?… А, разумеется.
Горничная входит с бутылкой пива.
Горничная. Холодное, прямо со льда.
Штурмовик (дружески накрывает ее руку ладонью). Девушка, ты совсем запыхалась. Незачем было так бежать, я подождал бы.
Горничная (наливает пиво в стакан). Ничего. (Пожимает руку рабочему.) Вы принесли лампу? Посидите немного. Небось опять шли всю дорогу пешком. (Штурмовику.) Он живет в Моабите.
Штурмовик. А где же мое пиво? Кто-то выпил! (Шоферу.) Это вы выпили мой стакан?
Шофер. Нет, конечно! Как вы могли подумать? Разве нет вашего пива?
Горничная. Я же тебе налила!
Штурмовик (кухарке). Ага, это вы мое пиво вылакали! (Раскатисто смеется) Ничего, успокойтесь. Маленький фокус, практикуемый у нас, штурмовиков: пиво выпивается так, чтобы никто не видел и не слышал. (Рабочему.) Вы что-то сказали?
Рабочий. Старый фокус.
Штурмовик. Старый? Попробуйте покажите вы! (Наливает ему.)
Рабочий. Можно. Итак, вот стакан пива (поднимает стакан), и вот вам фокус. (Спокойно, со смаком выпивает пиво.)
Кухарка. Но мы все видели!
Рабочий (вытирает рот). Да? Ну, стало быть, фокус не вышел.
Шофер громко смеется.
Штурмовик. По-вашему, смешно?
Рабочий. Да ведь и вы сделали то же самое. Как сделали вы?
Штурмовик. А как я вам покажу, если вы у меня все пиво вылакали?
Рабочий. И то верно. Без пива фокус не выйдет. А другого фокуса вы нам не покажете? Ведь у вас там в запасе немало фокусов.
Штурмовик. У нас? Это у кого?
Рабочий. У вас, у молодежи.
Штурмовик. Та-ак!
Горничная. Господин Линке только пошутил, Тео!
Рабочий (признав за лучшее переменить тон). Ну вы, конечно, не обиделись?
Кухарка. Я вам принесу еще бутылку.
Штурмовик. Не нужно. Промочил глотку, и будет с меня.
Кухарка. Господин Тео умеет понять шутку.
Штурмовик (рабочему). Почему вы не присядете? Мы не людоеды.
Рабочий садится.
Живи и давай жить другим. И шутка тоже иногда допустима. Почему не пошутить. Строги мы только в одном — когда коснется образа мыслей.
Кухарка. И правильно, здесь строгость к месту.
Рабочий. А какой сейчас может быть образ мыслей?
Штурмовик. Сейчас образ мыслей самый правильный. Вы иного мнения?
Рабочий. Нет. Я только хотел сказать, что сейчас никто никому не говорит, что он думает.
Штурмовик. Никто никому не говорит? Почему? Мне говорят.
Рабочий. В самом деле?
Штурмовик. Никто, конечно, сам не прибежит докладывать, что он думает. Но можно прийти и узнать.
Рабочий. Куда?
Штурмовик. Да хотя бы на биржу труда. Мы там каждое утро.
Рабочий. Да, там кое-кто еще позволяет себе поворчать. Что правда, то правда.
Штурмовик. То-то и оно.
Рабочий. Ну и что ж, вы одного кого-нибудь выловите, а там уж вас узнали. И впредь будут молчать.
Штурмовик. Как это меня узнают? Хотите, покажу, как я делаю, чтоб меня не узнали? Вы любите фокусы. Могу вам спокойно показать один-другой, потому что у нас их в запасе много. И я всегда говорю: если они будут знать, что у нас припасено в арсенале, они поймут, что никогда у них ничего против нас не выйдет, и, может быть, сами отступятся.
Горничная. Правда, Тео, расскажи, как вы это проделываете!
Штурмовик. Так вот, предположим, мы с вами на бирже труда, на Мюнцштрассе. И вы, скажем (глядит на рабочего), стоите передо мной в очереди. Но мне нужно сперва кое-что подготовить. (Выходит.)
Рабочий (подмигнув шоферу). Ну сейчас мы увидим, как они это проделывают.
Кухарка. Всех марксистов надо повыловить, потому что невозможно терпеть это разложение, которое они распространяют.
Рабочий. Угу.
Штурмовик (возвращается). Я, понятно, в штатской шкуре. (Рабочему.) Начинайте ворчать.
Рабочий. Насчет чего?
Штурмовик. Ладно, нечего тут прикидываться. Вы же всегда находите, на что поворчать.
Рабочий. Я? Никогда!
Штурмовик. Ага, стреляный воробей! Но ведь вы не можете утверждать, что у нас все идет гладко — придраться не к чему.
Рабочий. Почему же не могу?
Штурмовик. Так нельзя. Если вы не будете мне подыгрывать, ничего не получится.
Рабочий. Хорошо. Уж разрешу себе — чтоб вас уважить. Торчи тут весь день, они наше время ни во что не ставят. А мне и так два часа ходу из Руммельсбурга.
Штурмовик. Нет, это не годится. Что ж вы, право, при Третьей империи от Руммельсбурга до Мюнцштрассе не стало дальше, чем было при веймарских бонзах. Давайте что-нибудь посущественней!
Кухарка. Ведь это как в театре, Франц, мы же знаем, что ты только прикидываешься, что ты на самом деле так не думаешь.
Горничная. Вы только, так сказать, представляете недовольного. Можете вполне положиться на Тео, он ничего такого не подумает. Он только хочет кое-что показать.
Рабочий. Хорошо. Тогда я скажу: по мне, так я бы все штурмовые отряды послал кошке под хвост. Я за марксистов и за евреев.
Кухарка. Что ты, Франц!
Горничная. Так не годится, господин Линке!
Штурмовик (со смехом). Нет, голубчик! Этак я просто кликну ближайшего полицейского и отдам вас под арест. Неужто у вас нет ни на грош фантазии? Вы должны говорить что-нибудь такое, что можно потом повернуть и так и этак: такое, что в самом деле доводится слышать.
Рабочий. Тогда уж будьте любезны, спровоцируйте меня сами.
Штурмовик. Бросьте, на это уже давно никто не ловится. Я мог бы, например, сказать так: наш фюрер — величайший из людей, какие только жили на земле, он больше Иисуса Христа и Наполеона, вместе взятых, а они мне в лучшем случае ответят: «Пусть по-вашему!» Тут я пробую с другого боку. Горлопаны большеротые! Все пропагандой занимаются. В этом они мастера. Слыхали вы анекдот про Геббельса и двух вшей? Нет? Ну так вот: две вши поспорили, которая из них быстрее пройдет от одного угла рта до другого. И выиграла спор та, которая обежала сзади по затылку. Тот путь оказался короче.
Шофер. Вот как?
Все смеются.
Штурмовик (рабочему). Ну теперь рискните и вы.
Рабочий. Я в такие разговоры пускаться не могу. Анекдот анекдотом, а вы все-таки можете оказаться шпиком.
Горничная. Он прав, Тео.
Штурмовик. Прав? Вот подобрались слюнтяи! Ну как тут не обозлиться! Люди слова сказать не смеют.
Рабочий. Вы это всерьез или только на бирже труда?
Штурмовик. И на бирже.
Рабочий. Так вот, если вы это говорите на бирже, то я вам там же, на бирже, отвечаю: осторожность никогда не повредит. Я трус, у меня нет револьвера.
Штурмовик. Так вот что я тебе скажу, приятель, раз тебе так дорога осторожность: ты будешь осторожен раз и будешь осторожен другой раз, а потом и угодишь в добровольческий трудовой батальон.
Рабочий. А если не быть осторожным?
Штурмовик. Тогда уж во всяком случае угодишь. Спорить не могу. Оно и выйдет, что добровольно попал. Хорошенькое «добровольно», а?
Рабочий. Что ж, это возможно: подвернулся бы вам такой смелый человек, и вы стояли бы с ним в очереди на отметку и уставились бы на него вашими голубыми глазами, — он, пожалуй, и впрямь начал бы ворчать насчет добровольной трудовой повинности. Ну что бы он мог тут сказать? Хотя бы так: вчера опять пятнадцать душ отправили. Я часто сам себя спрашиваю, как это они умудряются их набирать, когда повинность вполне добровольная, люди же там получают, работая, не больше, чем сидя здесь и ничего не делая, а желудок требует больше. Но потом довелось мне услышать историю про доктора Лея и про кошку, и тут мне все стало ясно. Знаете вы эту историю?
Штурмовик. Нет, не знаем.
Рабочий. Так вот. Доктор Лей отправился в небольшую деловую поездку — пропагандировать «Силу через радость»,{148} — и повстречался ему некий бонза времен Веймарской республики, по имени… ну, называть не стоит; а было это, скажем, в концлагере, — но только как же попал туда доктор Лей, такой рассудительный человек? Бонза его спрашивает, как он добивается того, что рабочие сейчас все готовы проглотить, чего бы они раньше никак не стерпели. Тут доктор Лей указывает на кошку, которая мирно грелась на солнышке, и говорит: «Допустим, вы хотите угостить ее порцией горчицы и чтобы она ее проглотила, терпит она ее или не терпит. Как вы этого добьетесь?» Бонза берет горчицу и сует кошке в рот. Та, понятное дело, выплевывает ему эту самую горчицу прямо в лицо. Ни черта кошка не проглотила, только всего его исцарапала. «Нет, голубчик, — говорит ласково доктор Лей, — так у вас ничего не выйдет. Посмотрите, как делаю я». Он изящно берет на палец горчицу и, глазом не моргнув, заправляет ее несчастной кошке в задний проход… (Обращаясь к женщинам.) Вы меня извините, но из песни слова не выкинешь. Кошка, совсем очумев — ведь боль отчаянная, — тотчас принимается вылизывать из-под хвоста весь заряд горчицы. «Вот видите, любезный, — торжествует доктор Лей, — кошка ест горчицу! И добровольно!»
Все смеются.
Да, смешная история.
Штурмовик. Теперь дело у нас пошло. Добровольная трудовая повинность — об этом поговорить любят. Самое скверное, что никто не пытается больше оказывать сопротивление. Заставляют нас жрать навоз, а мы еще спасибо говорим.
Рабочий. Ну нет, тут я с вами не соглашусь. Вот было на днях — я стою на Александерплаце и раздумываю, пойти ли мне на добровольную трудовую службу от большого чувства или ждать, когда меня туда загребут вместе с другими. Из продуктовой лавки на углу выходит маленькая, худенькая женщина, сразу видно — жена пролетария. Позвольте, говорю я, с каких же это пор в Третьей империи объявились вдруг опять пролетарии, когда у нас, так сказать, народное единство, включая самого Тиссена?{149} «Ах, что вы, — говорит она, — сейчас, когда маргарин так подскочил в цене, — с пятидесяти пфеннигов сразу до марки! — вы будете меня убеждать, что у нас народное единство!» Мамаша, говорю я, будьте осторожны, что вы, право, так передо мной нараспашку, я же истый немец до мозга костей. «Да, кости! — говорит она, — а на костях-то нисколечко мяса, а в хлебе одни отруби». Вот куда загнула! Я стою огорошенный и бормочу: покупали бы уж лучше масло, оно полезней. Только не экономить на еде, это ослабляет силу нации, чего мы никак не можем себе позволить пред лицом врагов, которые окружили нас со всех сторон и на самые высшие государственные посты забрались, как нас о том предостерегают. «Нет, — говорит она, — все мы честные немцы до последнего нашего издыхания, которого и ждать, пожалуй, недолго осталось ввиду военной опасности. А вот недавно, когда я хотела, — говорит она, — отдать свой плюшевый диван в комитет «Зимней помощи», — а то, я слышала, Геринг спит уже на голом полу, потому что у нас недохват сырья, — так мне там в комитете сказали: лучше бы нам сюда рояль — для «Силы через радость», знаете! А тут мука пропала. Я, значит, забираю из «Зимней помощи» свой диван и иду с ним в лавку к старьевщику — тут же за углом, я уже давно хотела купить полфунта масла. А в молочной мне говорят: сегодня, уважаемая соплеменница, никакого масла не будет, не угодно ли пушку?{150} Давайте, говорю я», — это она мне говорит. А я ей: как же так, к чему же это пушки, мамаша? Кушать их на пустой желудок? «Нет, — говорит она, — но уж если мне помирать с голоду, надо кстати разнести всю эту мразь с Гитлером во главе…» Что, что такое, кричу я в ужасе. «…С Гитлером во главе мы, — говорит она, — и Францию одолеем — раз мы уже бензин из шерсти добываем». А шерсть? — говорю я. «А шерсть, — говорит она, — из бензина. Шерсть нам тоже нужна. Когда попадет в «Зимнюю помощь» хороший отрез старого доброго времени, его обязательно урвет кто-нибудь из правления. Если бы Гитлер знал, — говорит она, — но он ничего не знает, его дело — сторона, он, говорят, и в высшей школе не учился». Ну как услышал я такой разлагающий разговор, у меня просто язык отнялся. Сударыня, говорю я, вы постойте минутку, я только загляну тут в одно место на Александерплаце.{151} Так что же вы думаете, возвращаюсь я с агентом, а она не изволила дождаться!.. (Прекращая игру.) Ну что вы на это скажете?
Штурмовик (продолжая игру.) Я? Гм, что я на это скажу? Я, пожалуй, посмотрю неодобрительно. Сразу же на Александерплац? — вот что я, пожалуй, скажу. Да с тобой и поговорить нельзя!
Рабочий. Никак нельзя. Со мной — никак! Мне, если что скажете по секрету, обязательно влипнете. Я знаю свой долг истинного немца. Пусть только мне моя родная мать шепнет на ушко, что маргарин вздорожал или еще что-нибудь, я пойду прямо в штаб к штурмовикам. Я родному брату спуску не дам, если он станет ворчать насчет добровольной повинности. И с невестой тоже: если она мне напишет, что ей там в трудовом лагере начинили брюхо во славу Гитлера, я попрошу установить за ней слежку, чтобы она не вытравила плод, это у нас не полагается, мы не можем иначе: если не идти против собственной родни, то нашей Третьей империи, которую мы все так любим, не на чем будет держаться. Ну что, теперь лучше пошла игра? Вы мной довольны?
Штурмовик. Этого, пожалуй, хватит. (Продолжал игру.) А теперь ты можешь спокойно подать свою карточку на отметку, я тебя отлично понял. Не правда ли, мы все тебя отлично поняли, не так ли, братцы? Но на меня ты можешь вполне положиться, приятель: все, что ты мне сказал, как в могиле похоронено. (Хлопает его ладонью по спине. Прекращая игру.) Так. А теперь вы спокойно пойдете отмечаться, и вас тут же на месте сцапают.
Рабочий. И вам не придется даже выйти из очереди и последовать за мной?
Штурмовик. Не придется.
Рабочий. И вы никому не мигнете? Этим тоже можно себя выдать.
Штурмовик. Не мигну.
Рабочий. Как же вы это делаете?
Штурмовик. Вот именно! Вам хотелось бы разгадать наш фокус? Встаньте и повернитесь спиной. (Поворачивает рабочего за плечи так, что все могут видеть его спину. К горничной.) Видишь?
Горничная. Крест стоит, белый крест!
Кухарка. Как раз посередке, между лопатками.
Шофер. В самом деле.
Штурмовик. А откуда он взялся, хотите знать? (Раскрывает ладонь.) Вот маленький белый крестик, сделанный мелом, — он и отпечатался весь как есть!
Рабочий снимает с себя куртку, рассматривает отпечаток креста.
Рабочий. Тонко сработано.
Штурмовик. Что, неплохо? Мелок я всегда ношу при себе. Да, тут головой работать надо, никакие уставы тут нам не помогут. (Благодушно.) А теперь можно идти в Рейникендорф. (Спохватившись.) У меня там тетя. Что, вы как будто не в восторге? (Горничной.) Что ты так смотришь, Анна? Не поняла, в чем фокус?
Горничная. Поняла. Не такая уж я дура, как ты думаешь.
Штурмовик (протягивает ей руку с таким видом, как будто ему испортили все удовольствие). Сотри.
Она платком вытирает ему ладонь.
Кухарка. Вот такими-то средствами и нужно работать, если враги хотят разрушить все, что построил наш фюрер и в чем нам все другие народы завидуют.
Шофер. Как, простите?… А, совершенно правильно. (Достает часы.) Пойду вымою машину. Хайль Гитлер! (Уходит.)
Штурмовик. Что за личность?
Горничная. Тихий человек. Никакой политикой не занимается.
Рабочий (встает). Так, Минна, я тоже, пожалуй, пойду. И не обижайтесь за пиво. Могу сказать, я лишний раз убедился, что ничего ни у кого не выйдет, если он что-нибудь затеет против Третьей империи, — очень утешительно это сознавать. Что до меня, так я никогда не соприкасаюсь с разрушителями, а то я с удовольствием сам бы выступил против них. Только у меня нет такой находчивости, как у вас. (Ясно и отчетливо.) Итак, Минна, премного тебе благодарен, и хайль Гитлер!
Все остальные. Хайль Гитлер!
Штурмовик. Мой вам добрый совет: не представляйтесь вы лучше таким невинным. Это бьет в глаза. Со мной вы можете и запустить что-нибудь, я-то умею понять шутку. Ну так, хайль Гитлер!
Рабочий уходит.
Вот они как — сразу и распрощались. Что-то больно скоро! Точно испугались чего. Зря я упомянул насчет Рейникендорфа. Как они сразу насторожились!
Горничная. Я хотела кое о чем попросить тебя, Тео.
Штурмовик. Говори, не стесняйся!
Кухарка. Пойду белье разберу. Я тоже была молода. (Уходит.)
Штурмовик. Ну что?
Горничная. Я скажу только в том случае, если буду знать, что ты нисколько не рассердишься, а иначе я ничего не скажу.
Штурмовик. Ладно, выкладывай!
Горничная. Мне, понимаешь… Мне так неприятно… Я хочу взять из тех денег двадцать марок.
Штурмовик. Двадцать марок?
Горничная. Вот видишь, ты рассердился.
Штурмовик. Взять с книжки двадцать марок — этим ты меня, конечно, не обрадовала. На что тебе понадобились двадцать марок?
Горничная. Я бы не хотела тебе говорить.
Штурмовик. Так. Ты мне не хочешь сказать? Что-то странно.
Горничная. Я знаю, что тебе не понравится, так что я лучше ничего объяснять не буду, Тео.
Штурмовик. Если ты нисколько мне не доверяешь…
Горничная. Да нет же, я тебе доверяю вполне.
Штурмовик. Значит, нам, по-твоему, следует вовсе прикрыть наш общий счет в сберегательной кассе?
Горничная. Ну как ты мог такое подумать! У меня, если я возьму двадцать марок, останется там еще девяносто семь.
Штурмовик. Можешь не высчитывать мне с такой точностью. Знаю сам, сколько у нас на счету. Я понимаю, ты хочешь порвать со мной, потому что завела шашни с другим. Ты, пожалуй, еще хочешь проверить наши книжки?
Горничная. Никаких я шашней не заводила.
Штурмовик. Тогда скажи, в чем дело?
Горничная. Ты же все равно решил не давать.
Штурмовик. Откуда я знаю? Ты, может, просишь на какое-нибудь нехорошее дело. Я сознаю свою ответственность.
Горничная. Прошу на самое хорошее. И если бы мне не нужно было, я бы не просила, ты знаешь это сам.
Штурмовик. Ничего я не знаю. Знаю только, что тут пахнет паленым. Зачем тебе вдруг понадобились двадцать марок? Кругленькая сумма! Ты беременна?
Горничная. Нет.
Штурмовик. Уверена, что нет?
Горничная. Уверена.
Штурмовик. Если до меня дойдет, что ты затеваешь что-то незаконное, если только я что-нибудь такое пронюхаю — крышка! Прямо тебе говорю. Ты, верно, слышала сама: все, что делается против зачатого плода, есть тягчайшее преступление, какое только ты можешь совершить. Если немецкий народ перестанет размножаться, тогда конец его исторической миссии.
Горничная. Но, Тео, я просто не понимаю, о чем ты говоришь. Ничего такого нет, будь что-нибудь такое, я тебе сказала бы, это касалось бы и тебя. Но раз уж у тебя такие мысли, я лучше скажу все как есть. Просто я хочу добавить Фриде на покупку зимнего пальто.
Штурмовик. А почему твоя сестра не может сама купить себе пальто?
Горничная. Да как же она купит его на свою пенсию? Она получает по инвалидности всего двадцать шесть марок восемьдесят пфеннигов в месяц.
Штурмовик. А «Зимняя помощь»? То-то и есть, что вы совершенно не доверяете национал-социалистскому государству. Я это понял давно по тем разговорам, которые ведутся здесь, на этой кухне. Думаешь, я не заметил, как ты кисло приняла сейчас мой фокус?
Горничная. Ничуть не кисло.
Штурмовик. Кисло! Так же точно, как эти парни, которые вдруг сразу распрощались.
Горничная. Если ты хочешь знать мое истинное мнение, мне тоже кое-что не понравилось.
Штурмовик. Что же тебе не понравилось, осмелюсь спросить?
Горничная. Что ты ловишь несчастных бедняков своими представлениями и фокусами и всякими штуками. Мой отец тоже безработный.
Штурмовик. Так. Я только и ждал, что ты мне это скажешь. Меня и так уже сомнения разбирали во время разговора с этим Линке.
Горничная. Ты хочешь сказать, что собираешься его подловить на том, что он тут наговорил тебе же в угоду? И когда сами же мы его на то подзуживали.
Штурмовик. Ничего я не хочу сказать, как тебе уже сказано. А если тебе не по вкусу то, что я делаю, исполняя свой долг, так я тебе на это заявляю: ты можешь прочитать в «Моей борьбе», что сам фюрер не считал для себя зазорным проверять настроения в народе, и это долгое время было его прямым делом, когда он служил в рейхсвере. И делалось это ради Германии и дало большие результаты.
Горничная. Ну если ты так со мной, Тео, то я хочу только знать, могу ли я получить свои двадцать марок, вот и все.
Штурмовик. Я скажу тебе только одно: я не в таком настроении, когда можно что-нибудь у меня вытянуть.
Горничная. Что значит — вытянуть? Мои это деньги или твои?
Штурмовик. Как ты странно вдруг заговорила о наших общих сбережениях! Для того мы, что ли, убрали евреев, чтобы из вас теперь сосали кровь собственные наши соплеменники!
Горничная. Как ты можешь говорить такие вещи по поводу двадцати марок!
Штурмовик. У меня и так немало расходов. За одни только сапоги двадцать семь марок заплачено.
Горничная. Как? Вам же их выдали бесплатно?
Штурмовик. Да, так мы думали. И я поэтому выбрал самые первосортные. А потом поставили нам всем в счет, и мы сели в лужу.
Горничная. Двадцать семь марок за одни только сапоги? А какие же другие расходы?
Штурмовик. Другие расходы?
Горничная. Ты же сказал, что у тебя много расходов.
Штурмовик. Так сразу не вспомнишь. Да и вообще нечего мне учинять допрос. Можешь не беспокоиться, я тебя не обману. И насчет двадцати марок я тоже как-нибудь соображу.
Горничная (плача). Тео, это же просто невозможно, как ты мог сказать мне, что с деньгами все в порядке, и вдруг оказывается, что нет. Я просто не знаю, что теперь и думать. Хоть двадцать-то марок осталось у нас на счету — из всех наших денег?
Штурмовик (хлопает ее по плечу). Кто же говорит, что у нас ничего не осталось на счету? Ерунда. Ты можешь на меня положиться. То, что ты мне доверила, то будет в полной сохранности, как в несгораемом шкафу. Ну, веришь ты своему Тео?
Она плачет, не отвечая.
У тебя просто нервы не в порядке, ты переутомилась. Ну, я отправился на учение. Значит, в пятницу я за тобой зайду. Хайль Гитлер! (Уходит.)
Горничная старается унять слезы и ходит в отчаянии взад и вперед по кухне.
Возвращается кухарка с корзиной белья.
Кухарка. Что тут между вами вышло? Поссорились? Тео молодец. Побольше бы нам таких. Ничего серьезного, конечно?
Горничная (все еще плача). Минна, не можете ли вы поехать к вашему брату и сказать, что ему нужно остерегаться?
Кухарка. Чего?
Горничная. Ну так… вообще…
Кухарка. Из-за сегодняшнего? Неужели вы думаете?… Но разве Тео способен на такое?
Горничная. Я и сама теперь не знаю, что мне думать, Минна. Он так изменился. Они его совсем испортили. Нехорошая у него компания. Четыре года мы с ним были вместе, и теперь мне вдруг стало казаться, точно… Я попрошу вас, посмотрите у меня на спине, там нет креста?
«Жена-еврейка»
Правосудие Перевод В. Топер
Вот судьи, вот прокуроры.
Ими командуют воры:
Законно лишь то, что Германии впрок.
И судьи толкуют и ладят,
Пока весь народ не засадят
За проволоку, под замок.
Аугсбург, 1934 год. Совещательная комната в суде. За окном мутное январское утро. Круглый газовый рожок еще горит.
Судья надевает свою мантию. В дверь стучат.
Судья. Войдите.
Входит следователь уголовного розыска.
Следователь. Доброе утро.
Судья. Доброе утро, господин Таллингер. Я вызвал вас по делу Геберле, Шюнта, Гауницера. Откровенно говоря, мне в этом деле не все ясно.
Следователь.?
Судья. Из материалов следствия видно, что означенный случай произошел в ювелирном магазине Арндта, то есть в магазине, принадлежащем еврею?
Следователь.?
Судья. А Геберле, Шюнт, Гауницер и по сей день состоят в отряде штурмовиков номер семь?
Следователь утвердительно кивает головой.
Значит, отряд не счел нужным наложить на них взыскание?
Следователь отрицательно качает головой.
Надо полагать, что после этого происшествия, взволновавшего весь квартал, отряд, со своей стороны, расследовал дело?
Следователь пожимает плечами.
Я был бы вам очень благодарен, Таллингер, если бы вы мне до судебного разбирательства несколько… осветили дело.
Следователь (без всякого выражения). Второго декабря прошлого года в восемь часов пятнадцать минут утра в ювелирный магазин Арндта на Шлеттовштрассе ворвались штурмовики Геберле, Шюнт и Гауницер и после короткой перебранки нанесли пятидесятичетырехлетнему Арндту рану в затылок. При этом магазину был причинен материальный ущерб, выразившийся в сумме одиннадцать тысяч двести тридцать четыре марки. Расследование, произведенное уголовным розыском седьмого декабря прошлого года, показало…
Судья. Дорогой Таллингер, все это есть в деле. (С досадой показывает на обвинительный акт, занимающий одну страницу.) Такого тощего и невнятного заключения мне еще ни разу не приходилось видеть, а уж за последние месяцы я достаточно нагляделся! Но то, что вы говорите, здесь все же написано. Я надеялся, что вы расскажете мне кое-что о подоплеке этого дела.
Следователь. Пожалуйста, господин судья.
Судья. Ну?
Следователь. Никакой подоплеки нет, господин судья.
Судья. Неужели, Таллингер, вы считаете, что дело ясное?
Следователь (ухмыляясь). Нет, этого я не считаю.
Судья. По-видимому, во время драки исчезли ювелирные изделия. Их отобрали?
Следователь. Как будто нет.
Судья.?
Следователь. Господин судья, у меня жена, дети.
Судья. И у меня, Таллингер.
Следователь. Вот то-то.
Пауза.
Видите ли, Арндт ведь еврей.
Судья. Это я понял уже по фамилии.
Следователь. Вот то-то. Одно время соседи поговаривали, что в его семье имел место случай осквернения расы.
Судья (начиная прозревать). Ага! А кто был в этом замешан?
Следователь. Дочь Арндта. Ей девятнадцать лет, и, говорят, хорошенькая.
Судья. Официальное расследование было?
Следователь (уклончиво). Нет. Слухи вскоре прекратились.
Судья. Кто же их распространял?
Следователь. Домовладелец. Некий фон Миль.
Судья. Он, вероятно, не хотел иметь в своем доме еврейский магазин?
Следователь. Мы тоже так думали. Но он, видимо, взял назад жалобу.
Судья. Тем не менее этим до некоторой степени объясняется озлобление против Арндта в данном квартале. И молодые люди действовали, так сказать, в состоянии национального аффекта…
Следователь (решительно). Не думаю, господин судья.
Судья. Чего вы не думаете?
Следователь. Что Геберле, Шюнт и Гауницер будут особенно напирать на осквернение расы.
Судья. Почему?
Следователь. Имя замешанного в этом деле арийца нигде официально не значится. Мало ли кто это может быть. Он может оказаться всюду, где арийцы в большом числе. А где арийцы в особенно большом числе? Словом, отряд номер семь не желает, чтобы на суде касались этого пункта.
Судья (сердито). Зачем же вы мне об этом сообщаете?
Следователь. Вы сказали, что у вас жена и дети. Для того и сообщил, чтобы вы не касались этого пункта. Вдруг кто-нибудь из соседей-свидетелей заговорит об этом.
Судья. Понимаю. А вообще-то я мало что понимаю в этом деле.
Следователь. Между нами: чем меньше вы будете понимать, тем лучше.
Судья. Вам легко говорить. А я должен вынести приговор.
Следователь (неопределенно). Да-а.
Судья. Остается одно: провокация со стороны Арндта. Иначе этого случая не объяснишь.
Следователь. Совершенно с вами согласен, господин судья.
Судья. В чем выразилась провокация?
Следователь. По их показаниям, они были спровоцированы самим Арндтом и неким безработным, которого Арндт нанял сгребать снег. Они будто бы отправились выпить по кружке пива, и, когда они проходили мимо магазина, безработный Вагнер и сам Арндт, стоявший в дверях, стали осыпать их непристойной бранью.
Судья. Свидетелей, вероятно, у них нет?
Следователь. Есть. Домовладелец, тот самый фон Миль, показал, что он видел в окно, как Вагнер спровоцировал штурмовиков. А компаньон Арндта, некий Штау, в тот же день пришел в помещение отряда и сказал Геберле, Шюнту и Гауницеру, что Арндт всегда, и в частности в разговоре с ним, презрительно отзывался о штурмовиках.
Судья. Ах, вот как? У Арндта есть компаньон? Ариец?
Следователь. Ну конечно. Кто же берет еврея для вывески?
Судья. Так не станет же его компаньон показывать против него?
Следователь (с хитрой улыбкой). А может быть, и станет.
Судья (раздраженно). Как же так? Ведь если на суде будет доказано, что Арндт спровоцировал Геберле, Шюнта и Гауницера, фирма не сможет требовать возмещения убытков.
Следователь. А почему вы думаете, что этот Штау заинтересован в возмещении убытков?
Судья. Не понимаю. Он же компаньон Арндта.
Следователь. Вот то-то.
Судья.?
Следователь. Мы установили, то есть узнали стороной — это неофициальные сведения, — что этот Штау свой человек в отряде номер семь. Он сам бывший штурмовик, а возможно, и сейчас состоит в каком-нибудь отряде. Поэтому Арндт, вероятно, и взял его в компаньоны. Штау уже был раз замешан в одном налете штурмовиков. Но тогда они не на таковского напали, и дело с большим трудом удалось замять. Я, конечно, не утверждаю, что и тут не обошлось без него… Но, во всяком случае, это довольно опасный субъект. Только, пожалуйста, все это строго между нами, я рассказал это только потому, что вы сказали о жене и детях.
Судья (качая головой). Все-таки я не понимаю, какая польза господину Штау от того, что фирма понесет убыток в одиннадцать тысяч с лишним марок?
Следователь. Ведь драгоценности так и не обнаружены. То есть у Геберле, Шюнта и Гауницера их нет. И продавать их они тоже не продавали.
Судья. Так.
Следователь. Никто не может требовать от Штау, чтобы он продолжал вести дело с компаньоном, который признан виновным в провокационных действиях против штурмовиков. А раз ответственность за понесенные убытки падает на Арндта, то он и должен возместить их Штау. Ясно?
Судья. Да, это действительно очень ясно. (С минуту задумчиво смотрит на следователя, лицо которого снова приняло казенно бесстрастное выражение) По-видимому, нужно остановиться на том, что Арндт спровоцировал штурмовиков. Совершенно очевидно, что общественное мнение против него. Вы сами сказали, что его домохозяин уже подавал жалобу по поводу возмутительных нравов в семье Арндта. Да-да, я помню, этого пункта не надо касаться. Но, во всяком случае, можно предполагать, что и с этой стороны выселение Арндта будет встречено благожелательно. Благодарю вас, Таллингер, вы оказали мне большую услугу. (Протягивает следователю сигару.)
Следователь уходит. В дверях он сталкивается с прокурором.
Прокурор (судье). Можно к вам на минутку?
Судья (чистит яблоко). Пожалуйста.
Прокурор. Я по поводу дела Геберле, Шюнта, Гауницера.
Судья (рассеянно). Да?
Прокурор. Дело, правда, в достаточной степени ясное…
Судья. Да. Откровенно говоря, я даже не понимаю, зачем прокуратура возбудила это дело.
Прокурор. А как же? Случай получил огласку, вызвал недовольство. Даже в национал-социалистских кругах настаивали на следствии.
Судья. Я вижу тут типичный случай еврейской провокации, и больше ничего.
Прокурор. Вздор, милейший Голь! Напрасно вы думаете, что наши обвинительные акты, хотя они и немногословны, не заслуживают пристального внимания. Я так и думал, что вы в простоте души пойдете по линии наименьшего сопротивления. Только осторожней, не сядьте в лужу. И оглянуться не успеете, как очутитесь в какой-нибудь глухой дыре, в Померании. А там в наше время довольно-таки неуютно.
Судья (в недоумении, перестав жевать яблоко). Ничего не понимаю. Неужели вы хотите сказать, что намерены оправдать еврея Арндта?
Прокурор (с пафосом). Еще бы не намерен! Да он и не думал никого провоцировать. Вы что же полагаете? Если он еврей, так он не найдет справедливости перед судом Третьей империи? Очень странные у вас взгляды, любезный Голь!
Судья (с досадой). Да я же никаких взглядов не высказываю. Просто у меня сложилось впечатление, что Геберле, Шюнт и Гауницер были спровоцированы.
Прокурор. Но ведь спровоцировал их не Арндт, а безработный, ну этот, который снег сгребал… как его… Вагнер!
Судья. Об этом, дорогой Шпитц, в вашем заключении нет ни слова.
Прокурор. Совершенно верно. До сведения прокуратуры дошло только то, что три штурмовика напали на Арндта. И прокуратура, как и надлежит, вмешалась в это дело. Но если, предположим, свидетель фон Миль покажет на суде, что во время происшествия Арндта вообще не было на улице, а что, напротив, безработный… ну как его… Вагнер, произносил ругательства по адресу штурмовиков, то суду с этим придется считаться.
Судья (с изумлением). Это покажет фон Миль?! Так ведь он же домовладелец, который хочет выселить Арндта из своего Дома. Не станет же он показывать в его пользу.
Прокурор. Теперь вы уже фон Миля подозреваете! Почему вы думаете, что он будет лгать под присягой? А известно ли вам, что фон Миль, помимо того что он эсэсовец, имеет большие связи в министерстве юстиции? Я бы советовал вам, любезный Голь, считать его порядочным человеком.
Судья. Да я ничего не говорю. Кто же в наше время станет винить человека за то, что он не хочет, чтобы в его доме был еврейский магазин?
Прокурор (великодушно). Если владелец магазина аккуратно платит за наем…
Судья (дипломатично). Говорят, что фон Миль уже раз подавал на него жалобу…
Прокурор. Ах, так и это вам известно? Но с чего вы взяли, что это было сделано с целью выселить его? Тем более что жалоба была взята обратно. По-моему, это скорей свидетельствует о хороших отношениях между ними. Не будьте же так наивны, дорогой Голь.
Судья (начинает сердиться). Дорогой Шпитц, это все не так просто. Компаньон Арндта, который, как я полагал, должен бы покрывать его, собирается его топить, а домохозяин, который должен бы топить его, собирается его покрывать. Пойди пойми что-нибудь!
Прокурор. А за что же мы жалованье получаем?
Судья. Ужасно запутанное дело. Сигару хотите?
Прокурор берет сигару, оба молча курят.
(В мрачном раздумье.) Но если на суде будет установлено, что провокации со стороны Арндта не было, он может предъявить отряду иск о возмещении убытков.
Прокурор. Во-первых, он не может предъявить иск отряду, в крайнем случае он может предъявить его персонально Геберле, Шюнту и Гауницеру, у которых нет ни гроша… А скорее всего ему придется предъявить иск безработному, ну как его… Вагнеру. (С ударением.) Во-вторых, я думаю, он все-таки поостережется подавать жалобу на штурмовиков.
Судья. Где он сейчас находится?
Прокурор. В больнице.
Судья. А Вагнер?
Прокурор. В концентрационном лагере.
Судья (со вздохом облегчения). Ну конечно, принимая во внимание все обстоятельства, Арндт, вероятно, не станет подавать жалобу. Да и Вагнер не станет особенно настаивать на своей невиновности. Но только штурмовикам едва ли понравится, что еврея оправдали.
Прокурор. Так ведь на суде будет установлено, что они стали жертвами провокации. А исходила ли провокация от еврея или от марксиста — какая им разница.
Судья (все еще сомневаясь). Нет, не скажите. Все-таки во время стычки между безработным Вагнером и штурмовиками ювелирному магазину был нанесен ущерб. Это бросает тень на отряд.
Прокурор. Ну что же делать. На всех не угодишь. А кому угождать, это уж, любезный Голь, вам должно подсказать ваше национальное сознание. Могу вам только сообщить, что в национал-социалистских кругах и, в частности, в высшем эсэсовском руководстве определенно ожидают большей твердости от германских судей.
Судья (с глубоким вздохом). Правосудие в наше время не такое простое дело, дорогой Шпитц. Согласитесь сами.
Прокурор. Не спорю. Но есть прекрасное изречение нашего министра юстиции, которого вы можете держаться: законно лишь то, что Германии впрок.
Судья (без энтузиазма). Да-да.
Прокурор. Действуйте смелей. (Встает,) Теперь вы знаете подоплеку. Значит, дело ясней ясного. До скорого, милейший Голь. (Уходит.)
Судья очень недоволен. Он стоит несколько минут у окна. Потом рассеянно перелистывает бумаги. Наконец звонит. Входит служитель.
Судья. Вызовите еще раз следователя Таллингера из комнаты свидетелей. Только незаметно.
Служитель уходит. Через несколько минут входит следователь.
Слушайте, Таллингер, хорош бы я был, если бы последовал вашему совету и признал поведение Арндта провокационным. Господин фон Миль готов будто бы показать под присягой, что спровоцировал штурмовиков безработный Вагнер, а вовсе не Арндт.
Следователь (с непроницаемым видом). Да, так говорят, господин судья.
Судья. Что это значит — так говорят? Что говорят?
Следователь. Что ругался Вагнер.
Судья. А это неправда?
Следователь (с сердцем). Господин судья, как мы можем утверждать, правда это или…
Судья (твердо). Послушайте, Таллингер, что я вам скажу. Помните, вы находитесь в германском суде. Отвечайте: сознался Вагнер или не сознался?
Следователь. Я могу только сказать, что лично я не был в концентрационном лагере. В протоколе дознания — сам Вагнер болен, у него что-то с почками, — сказано, что сознался. Но…
Судья. Значит, сознался! Какое же еще «но»?
Следователь. Он инвалид войны, был ранен в шею. Так вот Штау — знаете, компаньон Арндта, — показал, что он вообще громко говорить не может. Как мог фон Миль из окна второго этажа слышать ругань…
Судья. На это возразят, что не обязательно иметь громкий голос, чтобы оскорбить кого-нибудь. Достаточно красноречивого жеста. У меня создалось впечатление, что именно такого рода лазейку прокуратура хочет оставить штурмовикам. Точнее говоря, именно эту лазейку, и только эту.
Следователь. Вот то-то, господин судья.
Судья. А что показал Арндт?
Следователь. Что его вообще при этом не было, а голову он разбил при падении с лестницы. И больше от него ничего нельзя добиться.
Судья. Должно быть, он ни в чем не виноват, просто его впутали в это дело.
Следователь. Вот то-то, господин судья.
Судья. А штурмовой отряд должен бы удовлетвориться тем, что Геберле, Шюнта и Гауницера оправдают.
Следователь. Вот то-то, господин судья.
Судья. Что вы заладили, как попугай: вот то-то, вот то-то!..
Следователь. Вот то-то, господин судья.
Судья. Что вы хотите этим сказать, Таллингер? Вы не обижайтесь на меня, вы же понимаете, что я немного нервничаю. Я знаю, что вы честный человек, и если вы мне дали совет, так не зря.
Следователь (смягчаясь). А вам не приходило в голову, что прокурор просто метит на ваше место и расставляет вам ловушку? Это теперь часто делается. Допустим, вы признаете еврея невиновным. Он никого не провоцировал. Его вообще не было при перепалке. Голову ему поранили случайно во время другой драки. Значит, после выздоровления Арндт возвращается в свой магазин. Штау, его компаньон, не может помешать ему в этом. А магазину нанесен ущерб в сумме одиннадцати тысяч марок. Значит, и Штау терпит убытки, потому что он не может требовать возмещения с Арндта. И Штау — я этих субъектов знаю — обратится со своими претензиями к отряду номер семь. Сам-то он воздержится, потому что он компаньон еврея, а следовательно, еврейский приспешник. Но он найдет, кого послать вместо себя.
Тогда начнут говорить, что штурмовики в порыве национального энтузиазма воруют ювелирные изделия. Вы можете себе легко представить, как отнесутся штурмовики к вашему приговору. Этого у нас вообще никто не поймет. Как может в Третьей империи еврей оказаться правым, а штурмовики неправыми?
Уже несколько минут за сценой слышен шум. Он все усиливается.
Судья. Что там за шум? Минутку, Таллингер. (Звонит.)
Входит служитель.
Что там происходит?
Служитель. Зал переполнен. Все коридоры забиты, никто пройти не может. А штурмовики заявляют, что получили приказ быть на суде, и требуют, чтобы их пропустили.
Служитель уходит, так как перепуганный судья не в силах выговорить ни слова.
Следователь (продолжает). Вам тогда житья не будет. Послушайте меня, держитесь за Арндта и не трогайте штурмовиков.
Судья (в изнеможении подпирает голову рукой). Ну спасибо, Таллингер, я еще подумаю.
Следователь. Да, подумать вам не мешает, господин судья. (Уходит.)
Судья тяжело встает и изо всех сил нажимает звонок. Входит служитель.
Судья. Сбегайте, пожалуйста, к господину Фею, советнику окружного суда, и скажите ему, что я прошу его зайти ко мне на минутку.
Служитель уходит. Входит служанка с завтраком для судьи.
Служанка. Вы когда-нибудь свою голову дома забудете. Просто беда с вами. Ну что вы сегодня забыли? Подумайте-ка хорошенько: самое главное! (Протягивает ему завтрак.) Завтрак забыли! Вот и наелись бы опять горячих крендельков, а потом мучались бы животом, как на прошлой неделе. Не бережете вы себя.
Судья. Ну ладно, Мари.
Служанка. Еле-еле прорвалась к вам. Весь суд набит штурмовиками — пришли дело слушать. Ну, сегодня им покажут, правда? Вот и в мясной все говорят: хорошо, что еще есть закон! Подумать только! Ни с того ни с сего напасть на коммерсанта! Половина штурмовиков — бывшие уголовники, это весь квартал знает. Не будь у нас закона, они бы, чего доброго, и церковь унесли. Это они из-за колец сделали: у Геберле невеста есть, а невеста эта еще году нет как по панели ходила. А на безработного с простреленным горлом, на Вагнера, тоже они навалились, когда он снег сгребал, все видели. Среди бела дня разбойничают, весь квартал в страхе держат, а скажешь что — подкараулят и изобьют до полусмерти.
Судья. Ладно, ладно, Мари, ступайте!
Служанка. Я им сказала в мясной: будьте покойны, господин судья их научит уму-разуму, правда ведь? Все хорошие люди за вас будут стоять, в этом не сомневайтесь. Только завтрак свой ешьте потихоньку, не давитесь, это ведь вредно, ну я ухожу, вам пора дело слушать, смотрите не очень там расстраивайтесь, а еще лучше — позавтракайте до суда, минутку-то уж подождут, зато вы спокойно покушаете. Берегите себя, помните — здоровье дороже всего, ну я ухожу, не мне вас учить, и я вижу, вам уже не сидится, а мне еще нужно в бакалейную. (Уходит.)
Входит советник окружного суда Фей, пожилой человек, друг Голя.
Советник. Ты меня звал?
Судья. Есть у тебя минутка времени? Я хотел посоветоваться с тобой. У меня сейчас очень каверзное дело будет слушаться.
Советник (садится). Да, дело штурмовиков.
Судья (ходивший взад и вперед по комнате, останавливается). Откуда ты знаешь?
Советник. Об этом у нас еще вчера говорили. Очень неприятное дело.
Судья (взволнованно бегает по комнате). А что у вас говорят?
Советник. Не завидуют тебе. (С любопытством.) Что ты думаешь делать?
Судья. В том-то и беда, что не знаю. Но я, по правде сказать, не предполагал, что этим делом так интересуются.
Советник (с удивлением). Вот как?
Судья. По-видимому, этот компаньон Арндта — опасный субъект.
Советник. Так говорят. Но фон Миль тоже не ангел.
Судья. О нем что-нибудь известно?
Советник. Не много, но достаточно. У него, понимаешь ли ты, связи.
Пауза.
Судья. В высоких сферах?
Советник. В очень высоких.
Пауза.
(Осторожно.) Если ты еврея отведешь, а Геберле, Шюнта и Гауницера оправдаешь на том основании, что безработный Вагнер спровоцировал их, а потом поспешил укрыться в магазине, то, по-моему, штурмовики будут довольны. Арндт ведь не станет на них жаловаться.
Судья (озабоченно). Он-то не станет, а его компаньон? Он будет требовать возвращения пропавших вещей. И тогда все руководство штурмовых отрядов взъестся на меня.
Советник (обдумав этот довод, которого он явно не ожидал). Но если ты закопаешь еврея, фон Миль тебе непременно шею сломает, это в лучшем случае. Ты, должно быть, не знаешь, что у него просроченные векселя. Он держится за Арндта, как утопающий за соломинку.
Судья (с ужасом). Векселя?
В дверь стучат.
Советник. Войдите!
Входит служитель.
Служитель. Господин судья, я просто не знаю, куда посадить господина генерального прокурора и господина Шенлинга, председателя окружного суда. Хоть предупреждали бы заранее.
Советник (так как судья молчит). Освободите два места и не мешайте нам.
Служитель уходит.
Судья. Только их недоставало!
Советник. Фон Миль ни за что не допустит, чтобы Арндта засудили, ведь это верное разорение. Арндт ему нужен.
Судья (совершенно убит). Как дойная корова.
Советник. Этого я не говорил. И я вообще не понимаю, как ты можешь приписывать мне такие мысли, решительно не понимаю. Я категорически заявляю, что не сказал ни единого слова против господина фон Миля. Мне очень жаль, Голь, что приходится это подчеркивать.
Судья (взволнованно). Что ты, Фей, как ты можешь так со мной разговаривать? При наших отношениях!
Советник. Какие такие «наши отношения»? Не могу же я вмешиваться в дела, которые ты ведешь. Хочешь — ссорься с министром юстиции, хочешь — с штурмовым отрядом, словом, решай как знаешь. В наше время каждый должен думать о себе.
Судья. Я и думаю о себе. Я только не знаю, что придумать. (Подходит к двери и прислушивается к шуму в зале,)
Советник. Да, прискорбно.
Судья (с отчаянием). Господи, я же на все готов, пойми ты это! Тебя точно подменили. Я решу так или этак, как прикажут, но я же должен знать, что мне приказано. Если этого не знаешь, так и правосудия больше нет!
Советник. Я на твоем месте не стал бы кричать, что правосудия больше нет, Голь.
Судья. Что я опять не так сказал? Я вовсе не это имел в виду. Я только хочу сказать, что когда интересы так противоречивы…
Советник. В Третьей империи нет противоречий.
Судья. Конечно, конечно. Разве я спорю? Что ты каждое мое слово как на аптекарских весах взвешиваешь?
Советник. Почему бы и нет? Я судья.
Судья (обливаясь потом). Если бы стали взвешивать на весах каждое слово каждого судьи, дорогой Фей! Да я готов разобрать это дело самым тщательным, самым добросовестным образом, но мне должны сказать, какое решение диктуется высшими интересами. Если я решу, что еврей не выходил из магазина, разозлится домовладелец… нет — компаньон… я уже совсем запутался… а если я признаю, что спровоцировал штурмовиков безработный, то домовладелец, фон… постой, постой, как раз фон Миль хочет, чтобы… За что меня сажать в глухую дыру в Померании? У меня грыжа, и я не хочу связываться со штурмовиками, и, наконец, у меня же семья, Фей! Хорошо моей жене говорить, чтобы я просто разобрал, как было дело. После этого в лучшем случае очнешься в больнице. Разве я ставлю вопрос о налете? Я ставлю вопрос о провокации. Так что же от меня хотят? Я, конечно, засужу не штурмовиков, а еврея или безработного, но которого из них засудить? Как мне выбрать между безработным и евреем, иначе говоря, между компаньоном и домовладельцем? В Померанию я ни за что не поеду, уж лучше в концентрационный лагерь! Это же невозможно, Фей. Что ты на меня так смотришь, точно я подсудимый! Ведь я же, кажется, на все готов!
Советник (встав с кресла). В том-то и дело, что одной готовности мало, дорогой мой.
Судья. Как же я должен решить?
Советник. Предполагается, господин Голь, что совесть подсказывает судье его решение. Запомните это! Имею честь.
Судья. Ну конечно. Совесть и разумение. Но в этом, данном случае что я должен выбрать? Скажи, Фей!
Советник уходит. Судья, онемев, смотрит ему вслед. Звонит телефон.
(Снимает трубку.) Да?… Эмми?… От чего отказались? От партии в кегли?… Кто звонил?… Адвокат Приснитц?… Он-то откуда знает? Что это значит? Это значит, что я должен вынести приговор. (Вешает трубку.)
Входит служитель. Явственно доносится шум из коридора.
Служитель. Дело Геберле, Шюнта и Гауницера, господин судья.
Судья (собирает бумаги). Иду.
Служитель. Господина председателя окружного суда я посадил на места для прессы. Он ничего, остался доволен. А вот господин генеральный прокурор отказался сесть на скамью свидетелей. Он, видимо, хотел сесть за судейский стол. Но тогда вам, господин судья, пришлось бы слушать дело, сидя на скамье подсудимых! (Глупо смеется своей шутке.)
Судья. Нет-нет, туда я ни за что не сяду.
Служитель. Не сюда, не сюда, вот в эту дверь. А где же папка с обвинительным заключением?
Судья (окончательно потеряв голову). Да, она мне нужна, а то я, пожалуй, не буду знать, кто обвиняемый, что, а? Так куда же нам все-таки посадить генерального прокурора?
Служитель. Да вы книжку с адресами захватили, господин судья. Вот ваша папка. (Сует ему под мышку.)
Судья, вытирая пот, в полном смятении выходит.
Жена-еврейка Перевод Вл. Нейштадта
Идут на еврейках женатые,
Изменники расы завзятые.
Их спарят с арийками тут,
Блондинкой заменят брюнетку,
И, словно в случную клетку,
Насильно в расу вернут.
Франкфурт, 1935 год. Вечер. Жена укладывает чемоданы. Она выбирает вещи, какие нужно взять с собой. Иногда она вынимает уже уложенную вещь и снова ставит ее на место, а взамен укладывает другую. Долго она колеблется, взять ли ей большую фотографию мужа, стоящую на комоде. В конце концов она оставляет ее. Устав от сборов, она присаживается на чемодан, подперев голову рукой. Потом встает, подходит к телефону и набирает номер.
Жена. Это вы, доктор?… Говорит Юдифь Кейт. Добрый вечер. Я хотела только сказать, что теперь вам придется поискать другого партнера в бридж. Я уезжаю… Нет, ненадолго, недели на две… В Амстердам… Да, говорят, весной там чудесно… У меня там друзья… Нет, не в единственном числе… Напрасно сомневаетесь… С кем вы теперь будете играть в бридж?… Но ведь мы и так уже две недели не играем… Ну конечно, Фриц тоже был простужен. В такой холод вообще нельзя играть в бридж… Я так и сказала. Да что вы, доктор, с чего бы? Нисколько… Ведь у Текли гостила мать… Знаю… С какой стати мне пришло бы это в голову?… Нет, это не внезапно. Я давно собиралась, только все откладывала, а теперь мне пора… Да, в кино пойти нам уже тоже не придется. Кланяйтесь Текле. Может быть, вы как-нибудь в воскресенье позвоните ему. Так до свидания! Да, конечно, с удовольствием!.. Прощайте! (Вешает трубку и набирает другой номер.) Говорит Юдифь Кейт. Нельзя ли позвать фрау Шэкк?… Я хочу проститься с тобой, я уезжаю ненадолго… Нет, я здорова, просто хочется повидать новые места, новых людей… Да, что я хотела тебе сказать, во вторник вечером у Фрица будет профессор, может быть, и вы зайдете? Я ведь сегодня ночью уезжаю. Да, во вторник… Нет, я только хотела сказать, что уезжаю сегодня ночью, так вот я подумала, отчего бы и вам не прийти?… Ну хорошо, скажем — несмотря на то, что меня не будет. Я же знаю, что вы не из таких, ну что ж, время беспокойное и всем приходится быть начеку. Так вы придете?… Если у Макса будет время?… У него будет время, скажи ему, что придет профессор… Ну, мне пора. Прощай. (Вешает трубку и набирает еще номер.) Гертруда, ты? Это я, Юдифь. Прости, если помешала… Благодарю. Я хотела тебя спросить, не могла бы ты присмотреть за Фрицем, я уезжаю на несколько месяцев… Вот как? Ты же его сестра… Почему тебе не хочется?… Никто ничего не подумает, и, уж во всяком случае, не Фриц… Конечно, он знает, что мы с тобой не очень дружим… но… ну хорошо, он сам тебе позвонит. Да, я ему скажу… Все ведь более или менее налажено, но квартира несколько велика… Кок убирать его кабинет, Ида знает, пусть там хозяйничает… По-моему, она очень расторопная, и Фриц привык к ней… И вот что еще — пожалуйста, не пойми это превратно, — он не любит разговоров до обеда, не забудешь? Я всегда воздерживалась… Ну не будем сейчас спорить об этом, до отхода поезда осталось мало времени, а я еще не уложила вещи… Последи за его костюмами и напомни ему, что нужно пойти к портному, он заказал пальто. И позаботься, чтобы у него в спальне подольше топили, он спит всегда с открытым окном, а еще слишком холодно… Нет, я не думаю, что ему нужно закаляться, прости, Гертруда, у меня больше нет времени… Я тебе очень благодарна, и мы же будем писать друг другу. Прощай. (Вешает трубку и набирает еще номер.) Анна? Говорит Юдифь. Слушай, я сейчас уезжаю… Нет, это необходимо, становится слишком трудно… Слишком трудно!.. Нет, Фриц не хочет, и он еще ничего не знает. Я просто уложила вещи… Не думаю… Не думаю, чтобы он стал особенно возражать. Для него это становится слишком трудно по внешним причинам. Нет, об этом мы не уславливались… Мы вообще никогда об этом не говорили, никогда!.. Нет, он не переменился, напротив… Слушай, я хотела бы, чтобы вы немного развлекали его, хотя бы в первое время… Да, особенно по воскресеньям, и уговорите его переехать… Квартира слишком велика для него. Я бы охотно забежала к тебе проститься, но ведь ваш швейцар, понимаешь?… Ну прощай, нет-нет, не приезжай на вокзал, ни под каким видом!.. Прощай, я напишу… Непременно. (Вешает трубку. Во время разговора она курила. Теперь она сжигает записную книжку, которую перелистывала, ища номера телефонов. Несколько раз прохаживается по комнате. Потом начинает говорить, репетируя маленькую речь перед мужем, и становится ясно, что муж всегда сидит на определенном кресле.) Так вот, Фриц, я уезжаю. Пожалуй, мне следовало давно уже это сделать, ты не сердись, что я не могла решиться, но… (Остановилась, задумалась. Начинает снова.) Фриц, не надо удерживать меня, мне нельзя оставаться… Ясно же, что я погублю тебя. Я знаю, ты не трус, полиции ты не боишься, но есть вещи пострашнее. Они не отправят тебя в концлагерь, но не сегодня-завтра закроют перед тобой двери клиники. Ты ничего не скажешь, но ты заболеешь. Не хочу я, чтобы ты тут сидел без дела, перелистывал журналы. Я уезжаю из чистого эгоизма, только и всего. Молчи… (Снова останавливается и снова начинает.) Не говори, что ты не изменился, — это неправда! На прошлой неделе ты вполне объективно заметил, что процент евреев среди ученых не так-то уж велик. Всегда начинается с объективности. И почему ты постоянно твердишь мне теперь, что никогда во мне не был так силен еврейский национализм. Конечно, я националистка. Это заразительно. Ах, Фриц, что с нами случилось! (Останавливается. Начинает снова.) Я не говорила тебе, что хочу уехать, давно уже хочу, потому что, как только взгляну на тебя, слова застревают в горле. В самом деле, нужно ли объясняться, Фриц? Ведь все уже решено. Какой бес вселился в них? Чего они, в сущности, хотят? Что я им сделала? Политикой я никогда не занималась. Разве я была за Тельмана? Я же из тех буржуазных дам, которые держат прислугу и так далее, и вдруг оказывается, что на это имеют право только блондинки. Я последнее время часто вспоминаю, как много лет назад ты сказал мне, что существуют очень ценные люди и менее ценные и что одним дают инсулин при диабете, а другим не дают. А я-то, дура, согласилась с этим. Теперь они сортируют людей по новому признаку, и теперь я в числе неполноценных. Поделом мне. (Останавливается. Начинает снова.) Да, я укладываю вещи. Не притворяйся, что ты этого не замечал. Фриц, все можно вынести, кроме одного: неужели в последний час мы не взглянем честно друг другу в глаза? Нельзя, чтобы они этого добились, Фриц. Они сами лгут и хотят всех принудить ко лжи. Десять лет назад, когда кто-то сказал мне, что я совсем не похожа на еврейку, ты тут же возразил: нет, похожа. Меня это порадовало. Все было ясно. Зачем же теперь нам ходить вокруг да около? Я уезжаю, потому что иначе тебя лишат должности. Потому что с тобой и сейчас уже не здороваются в клинике и потому что ты уже не спишь по ночам. Не говори, что я не должна уезжать. Я тороплюсь, потому что не хочу дождаться того дня, когда ты скажешь мне: уезжай. Это только вопрос времени. Стойкость — это тоже вопрос времени. Она может выдержать определенный срок, точно так, как перчатки. Хорошие перчатки носятся долго, но не вечно. Не думай, что я сержусь. Нет, сержусь. Почему я должна со всем соглашаться? Что плохого в форме моего носа, в цвете моих волос? Меня вынуждают бежать из города, в котором я родилась, чтобы им остался лишний паек масла. Что вы за люди? Да-да, и ты. Вы изобрели квантовую теорию, остроумнейшие методы лечения, и вы позволяете этим дикарям командовать вами. Вам внушают, что вы завоюете мир, но вам не разрешают иметь жену по своему выбору. Искусственное дыхание и «Помни, солдат, о задаче своей: каждою пулей русского сбей». Вы чудовища или подлизы чудовищ! Да, неразумно, что я это говорю, но к чему разум в таком мире, как наш? Ты сидишь и смотришь, как твоя жена укладывает чемоданы, и молчишь. У стен есть уши, да? Так вы же молчите! Одни подслушивают, другие молчат. Фу, черт! Мне лучше бы помолчать. Если бы я тебя любила, я бы молчала. А я ведь и вправду тебя люблю. Подай мне белье — вон то. Видишь, какое нарядное. Оно мне понадобится. Мне тридцать шесть лет, это еще не старость, но долго заниматься экспериментами мне уже нельзя. В той стране, куда я попаду, это не должно повториться. Человек, за которого я выйду, должен иметь право держать меня при себе. И пожалуйста, не говори, что ты будешь высылать мне деньги, ты же знаешь, что тебе этого не разрешат. И не делай вид, что это на какой-нибудь месяц. То, что здесь происходит, продлится не один месяц. Ты это знаешь, и я знаю. Так что не говори: всего-то на несколько недель, подавая мне шубу, — ведь шуба-то понадобится мне только зимой. И не будем называть это несчастьем. Будем называть это позором. Ах, Фриц! (Умолкает.)
Где-то хлопает дверь. Жена наспех приводит себя в порядок. Входит муж.
Муж. Ты что это? Порядок наводишь?
Жена. Нет.
Муж. Зачем ты укладываешь вещи?
Жена. Хочу уехать.
Муж. Что случилось?
Жена. Мы же как-то говорили, что мне следовало бы на время уехать. Здесь ведь теперь не слишком приятно.
Муж. Какие глупости!
Жена. Так что же, оставаться мне?
Муж. А ты куда, собственно, думаешь поехать?
Жена. В Амстердам. Только бы уехать.
Муж. Но ведь у тебя там никого нет.
Жена. Никого.
Муж. Почему же ты не хочешь остаться? Во всяком случае, из-за меня тебе незачем уезжать.
Жена. Незачем.
Муж. Ты знаешь, что я ничуть к тебе не переменился. Ты это знаешь, Юдифь?
Жена. Да.
Он обнимает ее. Они молча стоят среди чемоданов.
Муж. Никаких других причин для твоего отъезда нет?
Жена. Ты же знаешь.
Муж. Может быть, это не так уж глупо. Тебе нужно подышать свежим воздухом. Здесь можно задохнуться. Я приеду за тобой. Два-три дня, что я пробуду по ту сторону границы, освежат и меня.
Жена. Верно.
Муж. Да и вообще, долго здесь так продолжаться не может. Откуда-нибудь придет перемена. Все это кончится, как воспалительный процесс.
Жена. Конечно. Ты видел Шэкка?
Муж. Да, то есть мы столкнулись на лестнице. Мне кажется, он уже жалеет, что они разошлись с нами. Он был явно смущен. В конце концов им придется ослабить нажим на нас, интеллигентов. С одними лакеями, которые только и умеют что спину гнуть, воевать не пойдешь. И люди не так уж сильно хамят, если им давать отпор. Ты когда хочешь ехать?
Жена. В девять пятнадцать.
Муж. А куда посылать тебе деньги?
Жена. Лучше всего — Амстердам, главный почтамт, до востребования.
Муж. Я добьюсь специального разрешения. Черт возьми, не могу же я допустить, чтобы моя жена жила на десять марок в месяц! В общем, все это большое свинство. На душе у меня просто отвратительно.
Жена. Если ты приедешь за мной, тебе станет легче.
Муж. Хоть почитать газету, в которой что-нибудь сказано.
Жена. Гертруде я звонила. Она будет присматривать за тобой.
Муж. Совершенно излишне. Из-за нескольких недель…
Жена (начинает опять укладываться). А теперь подай мне, пожалуйста, шубу.
Муж (подает ей шубу). В конце концов, всего-то на несколько недель.
Шпион Перевод А. Гуровича
Профессоры маршируют,
Их лоботрясы муштруют
И жучат, отставкой грозя.
Зачем для безусых отребий
Вещать о земле и о небе,
Когда им думать нельзя?
Идут прелестные детки,
Что служат в контрразведке,
Доносит каждый юнец,
О чем болтают и мама и папа,
И вот уже мама и папа — в гестапо,
И маме и папе конец.
Кёльн, 1935 год. Дождливый день. Воскресенье. Муж, жена и сын-школьник только что пообедали. Входит служанка.
Служанка. Фрау Климбч с мужем спрашивают, дома ли господа?
Муж (резко). Нет.
Служанка выходит.
Жена. Ты должен был сам подойти к телефону. Они ведь знают, что мы никуда не могли уйти.
Муж. Почему это мы никуда не могли уйти?
Жена. Потому что идет дождь.
Муж. Это еще не причина.
Жена. Да и куда бы мы могли пойти? Они сразу об этом подумают.
Муж. Мало ли куда можно пойти.
Жена. Так почему же мы не идем?
Муж. А куда нам идти?
Жена. Если бы хоть дождя не было.
Муж. А куда бы мы пошли, если бы дождя не было?
Жена. Прежде можно было, по крайней мере, встречаться с людьми.
Пауза.
Напрасно ты не подошел к телефону. Теперь они знают, что мы не хотим поддерживать с ними знакомство.
Муж. Ну и пусть знают!
Жена. Неприятно, что мы сторонимся их теперь, когда все начали их сторониться.
Муж. Мы их не сторонимся.
Жена. Так почему им тогда не прийти к нам?
Муж. Потому что этот Климбч надоел мне до смерти.
Жена. Прежде ты этого не говорил.
Муж. Прежде! Не раздражай ты меня своим вечным «прежде»!
Жена. Во всяком случае, прежде ты не оборвал бы знакомства с ним потому, что школьная инспекция что-то против него затевает.
Муж. Ты, значит, хочешь сказать, что я трус?
Пауза.
Так позвони им и скажи, что мы вернулись из-за дождя.
Жена (не двигается с места). Может быть, спросить Лемке, не зайдут ли они?
Муж. Чтобы они опять доказывали нам, что мы с недостаточным рвением относимся к противовоздушной обороне?
Жена (мальчику). Клаус Генрих, отойди от радио!
Муж. И, как нарочно, сегодня идет дождь. Что за несчастье! Нечего сказать, удовольствие жить в стране, где дождь — это целое несчастье!
Жена. По-твоему, очень умно говорить вслух такие вещи?
Муж. У себя, в моих четырех стенах, я могу говорить что мне угодно. Я не позволю, чтобы мне в моем собственном доме… (Умолкает.)
Входит служанка с кофейным сервизом. Оба молчат, пока она не выходит.
Неужели нельзя обойтись без служанки, у которой отец квартальный наблюдатель?
Жена. Об этом мы, кажется, уже достаточно говорили. В конце концов ты сказал, что это имеет свои преимущества.
Муж. Тебя послушать, чего только я не говорил. Вот скажи такое твоей мамаше, и мы попадем в хорошенькую историю.
Жена. О чем я говорю с моей матерью — это…
Входит служанка с кофе.
Больше ничего не нужно, Эрна, можете идти. Я сама налью.
Служанка. Большое спасибо, сударыня. (Уходит.)
Мальчик (отрываясь от газеты). Все священники так делают, папа?
Муж. Что делают?
Мальчик. Что здесь написано.
Муж. Что это ты читаешь? (Вырывает у него газету из рук.)
Мальчик. Наш группенфюрер сказал нам — можете читать все, что пишут в этой газете.
Муж. Группенфюрер мне не указ. Что тебе можно и чего тебе нельзя читать, решаю я.
Жена. Вот десять пфеннигов, Клаус Генрих, поди купи себе что-нибудь.
Мальчик. Да ведь дождь идет. (Нерешительно подходит к окну.)
Муж. Если они не перестанут печатать отчеты о процессах священников, я вообще откажусь от подписки на эту газету.
Жена. А на какую ты подпишешься? Ведь это печатают во всех.
Муж. Если такие мерзости печатаются во всех газетах, то я не стану читать ни одной. И от этого я буду знать не меньше, чем сейчас, что делается на свете.
Жена. Собственно, не так плохо, что они наводят чистоту.
Муж. Все это только политика.
Жена. Во всяком случае, нас это не касается. Мы ведь протестанты.
Муж. Но народу не все равно, если при мысли о ризнице ему мерещатся всякие гадости.
Жена. Ну, а что же им делать, если такие вещи действительно происходят?
Муж. Что им делать? Не мешало бы им хоть раз на себя оборотиться. У них в Коричневом доме{152} будто бы вполне чисто.
Жена. Но ведь эти процессы доказывают оздоровление нашего народа, Карл!
Муж. Оздоровление! Хорошенькое оздоровление! Если это называется здоровьем, то я предпочитаю болезнь.
Жена. Ты сегодня все время нервничаешь. Что-нибудь случилось в школе?
Муж. Что могло случиться в школе? И пожалуйста, не тверди постоянно, что я нервничаю, именно от этого я и начинаю нервничать.
Жена. Почему мы вечно спорим, Карл? Прежде…
Муж. Этого только я и ждал! «Прежде»! Ни прежде, ни теперь я не желал и не желаю, чтобы кто-нибудь отравлял воображение моего сына.
Жена. Кстати, где он?
Муж. Откуда мне знать?
Жена. Ты видел, как он ушел?
Муж. Нет.
Жена. Не понимаю, куда он мог деться. (Зовет.) Клаус Генрих!.. (Выбегает из комнаты. Слышно, как она зовет сына. Через некоторое время она возвращается.) Он действительно ушел!
Муж. Почему бы ему и не уйти?
Жена. Дождь льет как из ведра!
Муж. Незачем так волноваться, если мальчику захотелось выйти из дому.
Жена. Что мы, собственно, говорили?
Муж. Какое это имеет к нему отношение?
Жена. Ты так несдержан последнее время.
Муж. Во-первых, это вовсе не так, а во-вторых, если бы даже я действительно был несдержан последнее время, то какое это имеет отношение к тому, что мальчика нет дома?
Жена. Но ведь они всегда прислушиваются.
Муж. Ну и?…
Жена. «Ну и…» Что, если он начнет болтать? Ты ведь знаешь, что им вколачивают в голову в «Гитлерюгенде». От них же прямо требуют, чтобы они доносили обо всем. Странно, что он так тихонько ушел.
Муж. Глупости.
Жена. Ты не заметил, когда он ушел?
Муж. Он довольно долго стоял у окна.
Жена. Хотела бы я знать, что он успел услышать.
Муж. Но ведь ему известно, что бывает, когда на кого-нибудь донесут.
Жена. А тот мальчик, о котором рассказывал Шмульке? Его отец до сих пор в концлагере. Если бы мы хоть знали, до каких пор он оставался тут в комнате.
Муж. Все это совершеннейший вздор! (Пробегает по другим комнатам и зовет мальчика.)
Жена. Странно, что он, не сказав ни слова, просто взял и ушел. Это на него не похоже.
Муж. Может быть, он пошел к товарищу?
Жена. Тогда он у Муммерманов. Я сейчас позвоню туда. (Снимает телефонную трубку.)
Муж. Уверен, что это ложная тревога.
Жена (у телефона). Говорит фрау Фурке. Добрый день, фрау Муммерман. Скажите, Клаус Генрих у вас?… Нет?… Не понимаю, куда он пропал… Вы не знаете, фрау Муммерман, комитет «Гитлерюгенд» открыт по воскресеньям?… Да?… Большое спасибо, Я сейчас позвоню туда. (Вешает трубку.)
Оба некоторое время сидят молча.
Муж. Что он, собственно, мог слышать?
Жена. Ты говорил про газету. И про Коричневый дом, что было уже совершенно лишнее. Ты ведь знаешь, какой он истинный немец.
Муж. А что я такого сказал про Коричневый дом?
Жена. Неужели ты не помнишь? Что там не все чисто.
Муж. Но это ведь нельзя истолковать как враждебный выпад. Не все чисто, или, как я сказал в более мягкой форме, не все вполне чисто — что уже составляет разницу, и притом довольно существенную, — это скорее шутливое замечание в народном духе, так сказать, в стиле обыденной разговорной речи, которое всего лишь означает, что, вероятно, даже там кое-что не всегда обстоит так, как хотелось бы фюреру. И я намеренно подчеркнул этот оттенок вероятности, сказав, как я отлично помню, что даже и там тоже «как будто» не все вполне — заметь, именно «не вполне» — чисто. Как будто! А не наверно! Я не могу сказать, что то или иное там нечисто, для этого у меня нет никаких данных. Не бывает людей без недостатков. Только это я и хотел сказать, да и то в самой смягченной форме. Сам фюрер выступал однажды с гораздо более резкой критикой по этому поводу.
Жена. Я тебя не понимаю. Со мной тебе незачем так разговаривать.
Муж. Ну знаешь, как сказать. Мне ведь совершенно неизвестно, где и с кем ты болтаешь о том, что может иной раз вырваться сгоряча у себя дома. Разумеется, я далек от того, чтобы обвинять тебя в легкомысленном распространении слухов, порочащих твоего мужа, точно так же как я ни на минуту не допускаю, чтобы мой мальчик мог предпринять что-либо против своего отца. Но делать зло и отдавать себе в этом отчет — вовсе не одно и то же.
Жена. Замолчи наконец! Лучше бы ты следил за своим языком! Я все время ломаю голову и не могу вспомнить, когда именно ты сказал, что в гитлеровской Германии жить нельзя; до того или после того, как ты говорил о Коричневом доме.
Муж. Я вообще ничего подобного не говорил.
Жена. Ты в самом деле разговариваешь со мной так, как будто я полиция! Я же только пытаюсь вспомнить, что мог слышать мальчик.
Муж. Гитлеровская Германия — выражение не из моего лексикона.
Жена. И про квартального наблюдателя, и что в газетах сплошное вранье, и то, что ты на днях говорил о противовоздушной обороне. Мальчик вообще не слышит от тебя ничего положительного! Это безусловно плохо действует на юную душу и только разлагает ее, а фюрер всегда повторяет, что молодежь Германии — это ее будущее. Но мальчик, конечно, вовсе не такой, чтобы просто побежать туда и донести. Ох, мне прямо-таки тошно.
Муж. У него мстительный характер.
Жена. За что же он стал бы мстить?
Муж. А кто его знает, всегда найдется что-нибудь. Может быть, за то, что я отнял у него лягушку.
Жена. Но это было еще на прошлой неделе.
Муж. Он таких вещей не забывает.
Жена. А зачем ты ее отнял?
Муж. Потому что он не ловил для нее мух. Он морил ее голодом.
Жена. У него действительно слишком много других дел.
Муж. Лягушке от этого не легче.
Жена. Но он ни слова об этом с тех пор не говорил, а сейчас я дала ему десять пфеннигов. И вообще мы ему ни в чем не отказываем.
Муж. Да, это называется подкупом.
Жена. Что ты хочешь сказать?
Муж. Они сейчас же заявят, что мы пытались его подкупить, чтобы он держал язык за зубами.
Жена. Как ты думаешь, что они могут с тобой сделать?
Муж. Да все! Разве существуют для них границы? Изволь тут быть учителем! Воспитателем юношества! От этих юношей у меня душа в пятки уходит!
Жена. Но ведь ты ни в чем не замешан?
Муж. Каждый в чем-нибудь да замешан. Все под подозрением. Ведь достаточно заподозрить человека в том, что он подозрителен.
Жена. Но ведь ребенок не может быть надежным свидетелем. Ребенок же не понимает, что он говорит.
Муж. Это по-твоему. Но с каких это пор они стали нуждаться в свидетелях?
Жена. А нельзя ли придумать, как объяснить твои замечания? Чтобы видно было, что он тебя просто неправильно понял.
Муж. Что я, собственно, такое сказал? Я уже ничего не помню. Во всем виноват этот проклятый дождь. Начинаешь злиться. В конце концов, я последний стал бы возражать против духовного возрождения, переживаемого сейчас немецким народом. Я предсказывал все это еще в конце тридцать второго года.
Жена. Карл, мы не можем сейчас тратить время на эти разговоры. Нам надо условиться обо всем, и притом немедленно. Нельзя терять ни минуты.
Муж. Я не могу поверить, чтобы Клаус Генрих был способен на это.
Жена. Прежде всего — насчет Коричневого дома и мерзостей.
Муж. Я и звука не сказал о мерзостях.
Жена. Ты сказал, что в газете сплошь мерзости и что ты откажешься от подписки.
Муж. Ах, в газете! Но не в Коричневом доме!
Жена. Предположим, ты сказал, что осуждаешь мерзости, которые происходят в ризнице. И считаешь вполне вероятным, что именно эти люди, которые сидят теперь на скамье подсудимых, в свое время сочиняли сказки об ужасах Коричневого дома и распускали слухи, что там не все чисто? И что им еще тогда не мешало на себя оборотиться? И что вообще ты сказал мальчику: отойди от радио и почитай лучше газету, так как ты держишься того взгляда, что молодежь в Третьей империи должна открытыми глазами смотреть на то, что происходит вокруг.
Муж. Все это ничуть не поможет.
Жена. Карл, только не падай духом! Надо быть твердым, как фюрер всегда нам…
Муж. Как я могу предстать перед судом, когда свидетелем будет выступать моя собственная плоть и кровь и давать показания против меня!
Жена. Не надо так смотреть на это.
Муж. Напрасно мы дружили с этими Климбчами. Какое легкомыслие!
Жена. Но он же цел и невредим.
Муж. Да, но расследование уже затевается.
Жена. Если бы все, кому грозит расследование, ставили на себе крест…
Муж. Как по-твоему, квартальный наблюдатель имеет что-нибудь против нас?
Жена. Ты думаешь — на случай, если у него запросят сведения? Ко дню рождения я послала ему коробку сигар, и к Новому году я тоже не поскупилась.
Муж. Наши соседи, Гауффы, дали ему пятнадцать марок!
Жена. Так они в тридцать втором еще читали «Форвертс, а в мае тридцать третьего вывесили черно-бело-красный флаг!»{153}
Телефонный звонок.
Муж. Телефон!
Жена. Подойти?
Муж. Не знаю.
Жена. Кто это может быть?
Муж. Подожди немного. Если позвонят еще раз, тогда подойдешь.
Ждут. Звонок не повторяется.
Это же не жизнь!
Жена. Карл!
Муж. Иуду ты родила мне! Сидит за столом, прихлебывает суп, которым мы же его кормим, и караулит каждое слово, которое произносят его родители… Шпион!
Жена. Этого ты не имеешь права говорить!
Пауза.
Как по-твоему, нужно как-то приготовиться?
Муж. Как по-твоему, они прямо придут вместе с ним?
Жена. Разве так не бывает?
Муж. Может быть, надеть мой Железный крест?
Жена. Это обязательно, Карл!
Он достает орден и дрожащими руками прикрепляет его.
Но в школе у тебя ведь все в порядке?
Муж. Откуда мне знать! Я готов преподавать все, что они хотят. Но что именно они хотят? Если бы я знал! Разве я знаю, какой им требуется Бисмарк? Они бы еще помедленней выпускали новые учебники! Ты не можешь прибавить служанке еще десять марок? Она тоже вечно подслушивает.
Жена (кивает). А не повесить ли портрет Гитлера над твоим письменным столом? Так будет лучше.
Муж. Да, ты права.
Она снимает портрет.
Но если мальчик скажет, что мы нарочно перевесили портрет, это будет указывать, что мы чувствуем за собой вину.
Жена вешает портрет на старое место.
Кажется, дверь скрипнула?
Жена. Я ничего не слышала.
Муж. А я говорю — скрипнула!
Жена. Карл! (Бросается к мужу и обнимает его.)
Муж. Не теряй мужества. Собери мне немного белья.
Не думай, что: муж и жена застывают на месте в углу комнаты. Открывается дверь, входит мальчик с фунтиком в руках. Пауза.
Мальчик. Что это с вами?
Жена. Где ты был?
Мальчик показывает пакетик с конфетами.
Ты только конфеты купил?
Мальчик. А что же еще? Ясно. (Жуя конфеты, проходит через комнату и выходит в другую дверь.)
Родители провожают его испытующим взглядом.
Муж. По-твоему, он правду говорит?
Жена пожимает плечами.
«Шпион»
Мамаша Кураж и ее дети Перевод С. Апта
Хроника из времен тридцатилетней войны
{154}
Действующие лица:
Мамаша Кураж.
Катрин, ее немая дочь.
Эйлиф, ее старший сын.
Швейцеркас, ее младший сын.
Вербовщик.
Фельдфебель.
Повар.
Командующий.
Полковой священник.
Интендант.
Иветта Потье.
Человек с повязкой.
Другой фельдфебель.
Старый полковник.
Писарь.
Молодой солдат.
Пожилой солдат.
Крестьянин.
Крестьянка.
Молодой человек.
Старуха.
Другой крестьянин.
Другая крестьянка.
Молодой крестьянин.
Прапорщик.
Солдаты.
Голос.
1
Весна 1624 года. Главнокомандующий Оксеншерна{155} набирает в Даларне войско для похода на Польшу. Маркитантка Анна Фирлинг, известная под именем мамаши Кураж, теряет одного сына.
На большой дороге, неподалеку от города, стоят и мерзнут фельдфебель с вербовщиком.
Вербовщик. Разве здесь сколотишь отряд, фельдфебель? Прямо хоть в петлю полезай. До двенадцатого я должен поставить командующему четыре эскадрона, а людишки здесь такие зловредные, что я даже спать по ночам перестал. Заарканил было одного, не посмотрел, что у него куриная грудь и расширение вен, сделал вид, будто все в порядке, напоил его как следует, он уже и подпись поставил, стал я платить за водку, а он просится на двор. Чую, дело неладно — и за ним. Точно, ушел, как вошь из-под ногтя. У них нет ни честного слова, ни верности, ни чувства долга. Я здесь потерял веру в человечество, фельдфебель.
Фельдфебель. Слишком давно не было здесь войны — это сразу видно. Спрашивается: откуда же и взяться морали? Мирное время — это сплошная безалаберщина, навести порядок может только война. В мирное время человечество растет в ботву. Людьми и скотом разбрасываются, как дерьмом. Каждый жрет, что захочет, скажем, белый хлеб с сыром, а сверху еще кусок сала. Сколько в этом вот городе молодых парней и добрых коней — ни одна душа не знает, никто не считал. Я бывал в местах, где лет, наверно, семьдесят не воевали, так там у людей еще и фамилий-то не было, они сами себя не знали. А где война — там тебе и списочки, и регистрация, и обувь тюками, и зерно мешками, там каждого человека, каждую скотинку возьмут на учет и заберут. Известно ведь: не будет порядка — не развоюешься.
Вербовщик. Как это правильно!
Фельдфебель. Как все хорошее, войну начинать очень трудно. Зато уж когда разыграется — не остановишь; люди начинают бояться мира, как игроки в кости — конца игры. Ведь когда игра кончена, нужно подсчитывать проигрыш. Но на первых порах война пугает людей. Она им в диковинку.
Вербовщик. Гляди, сюда едет фургон. Две бабы и два парня. Задержи старуху, фельдфебель. Если и на этот раз пшик, я больше на апрельском ветру зябнуть не стану, так и знай.
Звуки губной гармоники. Два молодых парня вкатывают на сцену фургон. На нем мамаша Кураж и ее немая дочь Катрин.
Мамаша Кураж. С добрым утром, господин фельдфебель!
Фельдфебель (становится поперек пути). С добрым утром, честная компания! Кто вы такие?
Мамаша Кураж. Деловые люди. (Поет.)
Эй, командир, дай знак привала, Своих солдат побереги! Успеешь в бой, пускай сначала Пехота сменит сапоги. И вшей кормить под гул орудий, И жить, и превращаться в прах — Приятней людям, если люди Хотя бы в новых сапогах. Эй, христиане, тает лед! Спят мертвецы в могильной мгле. Вставайте! Всем пора в поход, Кто жив и дышит на земле. Без колбасы, вина и пива Бойцы не больно хороши. А накорми — забудут живо Невзгоды тела и души. Когда поест, попьет военный, Ему не страшен злейший враг. Какой дурак в огне геенны Гореть захочет натощак! Эй, христиане, тает лед! Спят мертвецы в могильной мгле. Вставайте! Всем пора в поход, Кто жив и дышит на земле.Фельдфебель. Стоп, обозники. Вы чьи будете?
Старший сын. Второго Финляндского полка.
Фельдфебель. Где ваши бумаги?
Мамаша Кураж. Бумаги?
Младший сын. Да это же мамаша Кураж!
Фельдфебель. В первый раз слышу. Почему ее зовут Кураж?
Мамаша Кураж. Кураж меня зовут потому, фельдфебель, что я боялась разориться и сквозь пушечный огонь вывезла из Риги пятьдесят ковриг хлеба. Хлеб уже плесневел, того и гляди совсем пропал бы, выбора у меня не было.
Фельдфебель. Шутки долой. Где бумаги?
Мамаша Кураж (вынимая из жестянки кучу бумаг и слезая с фургона). Вот все мои бумаги, фельдфебель. Вот, пожалуйста, целый требник — огурцы завертывать, он у меня из Альтентинга, а вот карта Моравии, бог весть, случится ли мне там побывать, — если нет, то карта нужна мне, как собаке пятая нога; а вот здесь, видите, печатью удостоверяется, что моя сивка — не больна ящуром, она у нас, к сожалению, околела, а стоила пятнадцать гульденов, не мне, слава богу. Ну, что, довольно с вас бумаг?
Фельдфебель. Ты что, хочешь заморочить мне голову? Я тебя отучу от наглости. Ты прекрасно знаешь, что у тебя должна быть лицензия.
Мамаша Кураж. Выбирайте выражения и не говорите в присутствии моих малолетних детей, что я хочу вскружить вам голову, это неприлично, мы с вами незнакомы. Лицо порядочной женщины — вот моя лицензия во втором полку, и я не виновата, если вы не умеете читать такие лицензии. А печать себе на лицо ставить не дам.
Вербовщик. Фельдфебель, из этой особы так и прет дух непокорности. В лагере нужна дисциплина.
Мамаша Кураж. А я думала, нужна колбаса.
Фельдфебель. Имя.
Мамаша Кураж. Анна Фирлинг.
Фельдфебель. Значит, вы все Фирлинги?
Мамаша Кураж. Почему все? Фирлинг — это моя фамилия. Но не их.
Фельдфебель. Да ведь они же все твои дети?
Мамаша Кураж. Да, мои, но разве поэтому у них у всех должна быть одна и та же фамилия? (Указывает на старшего сына.) Вот этого, например, зовут Эйлиф Нойоцкий. Отец его всегда утверждал, что он Койоцкий или Мойоцкий. Мальчик его еще хорошо помнит. Впрочем, помнит он уже другого, француза с бородкой клинышком. Но вообще-то смышленостью он в отца; отец, бывало, стянет у крестьянина штаны с задницы, а тот и не заметит. Вот и получается, что у каждого из нас своя фамилия.
Фельдфебель. Что, у каждого другая?
Мамаша Кураж. Вы делаете вид, что вам непонятно.
Фельдфебель. Тогда этот, наверно, китаец? (Указывает на младшего сына.)
Мамаша Кураж. Не угадали. Швейцарец.
Фельдфебель. После француза?
Мамаша Кураж. После какого француза? Не знаю, о каком французе вы говорите. Не путайте, а то мы простоим здесь до ночи. Он швейцарец, но фамилия его Фейош, и эта фамилия не имеет никакого отношения к его отцу. У того была совсем другая фамилия, он строил крепости, да вот спился.
Швейцеркас кивает головой, он сияет, немой Катрин тоже весело.
Фельдфебель. Так почему же его фамилия Фейош?
Мамаша Кураж. Не хочу вас обижать, но воображение у вас небогатое. Когда он появился на свет, я водила знакомство с одним мадьяром — вот он и Фейош. А мадьяру было все равно, у него уже тогда была атрофия почки, хотя он капли в рот не брал. Очень честный был человек. Мальчик в него.
Фельдфебель. Да ведь он же не был его отцом!
Мамаша Кураж. Но мальчик весь в него. Я зову его Швейцеркас, Сыр Швейцарский. Он хорошо тащит фургон. (Указывая на дочь.) А ее зовут Катрин Гаупт, она наполовину немка.
Фельдфебель. Милое семейство, нечего сказать.
Мамаша Кураж. Да, я со своим фургоном весь мир объехала.
Фельдфебель. Это мы все запишем. (Записывает.) Ты ведь из Баварии, из Бамберга, как же ты здесь очутилась?
Мамаша Кураж. Я не могу ждать, когда война пожалует в Бамберг.
Вербовщик. Вам бы подошли имена Иаков Бык и Исав Бык, ведь вы тащите фургон. Наверно, вы никогда и не вылезаете из упряжки?
Эйлиф. Мать, можно дать ему по рылу? Мне очень хочется.
Мамаша Кураж. Нельзя, стой спокойно. А теперь, господа офицеры, не нужны ли вам хорошие пистолеты или, например, пряжки? Ваша пряжка совсем стерлась, господин фельдфебель.
Фельдфебель. Мне нужно другое. Я вижу, ребята у тебя рослые, грудь колесом, ножищи как бревна. Хотел бы я знать, почему они уклоняются от военной службы.
Мамаша Кураж (быстро). Ничего не поделаешь, фельдфебель. Ремесло солдата не для моих сыновей.
Вербовщик. А почему не для них? Ведь оно же приносит доход, приносит славу. Сбывать сапоги дело бабье. (Эйлифу.) Ну-ка, подойди, покажи, есть у тебя мускулы, или ты мокрая курица.
Мамаша Кураж. Он мокрая курица. Если на него взглянуть построже, он упадет на месте.
Вербовщик. И если упадет на теленка, то зашибет его насмерть. (Хочет отвести Эйлифа в сторону.)
Мамаша Кураж. Оставь его в покое. Такой вам не подойдет.
Вербовщик. Он меня оскорбил, он назвал мое лицо рылом. Мы с ним сейчас отойдем в сторонку и поговорим, как мужчина с мужчиной.
Эйлиф. Не беспокойся, мать. Он свое получит.
Мамаша Кураж. Стой и не рыпайся, стервец! Я тебя знаю, тебе бы только драться. У него нож в голенище, он и зарезать может.
Вербовщик. Я вытащу у него нож, как молочный зуб. Пойдем, деточка.
Мамаша Кураж. Господин фельдфебель, я пожалуюсь полковнику. Он вас посадит. Лейтенант — жених моей дочери.
Фельдфебель (вербовщику). Не надо силком, брат. (Мамаше Кураж.) Чем тебе не нравится военная служба? Разве отец его не был солдат? Разве он не погиб, как порядочный человек? Ты же сама сказала.
Мамаша Кураж. Он совсем еще ребенок. Вы хотите отправить его на бойню, знаю я вас. Вы за него получите пять гульденов.
Вербовщик. Сначала он получит отличную шляпу и сапоги с отворотами.
Эйлиф. Получу, да не от тебя.
Мамаша Кураж. Пойдем рыбу удить, сказал рыбак червяку. (Швейцеркасу.) Беги и кричи, что твоего брата хотят украсть. (Вынимает нож.) Ну-ка, попробуйте, возьмите его. Я вас зарежу, сволочи. Я вам покажу, какой он вам солдат. Мы честно торгуем бельем и ветчиной, мы люди мирные.
Фельдфебель. Да, по твоему ножу сразу видно, что вы за мирные люди. И вообще, совести у тебя нет. Отдай нож, шлюха! Ты ведь сама призналась, что кормишься войной, да и чем другим тебе кормиться? А какая же война без солдат?
Мамаша Кураж. Солдаты пусть будут не мои.
Фельдфебель. Пускай, значит, война твоя жрет огрызок, а яблочко выплюнет! Чтобы война раскармливала твой приплод — это, выходит, пожалуйста, а чтобы ты платила оброк войне — это, выходит, дудки. Пускай, мол, война сама справляется со своими делами, так, что ли? Зовешься Кураж, да? А войны, кормилицы своей, боишься? Сыновья твои ее не боятся, это я о них знаю.
Эйлиф. Я войны не боюсь.
Фельдфебель. А чего ее бояться? Поглядите на меня: разве не впрок мне пошла солдатская жизнь? Я с семнадцати лет на службе.
Мамаша Кураж. До семидесяти тебе еще далеко.
Фельдфебель. Что ж, подожду.
Мамаша Кураж. Не пришлось бы ждать в могиле.
Фельдфебель. Ты говоришь, что я погибну, чтобы меня обидеть?
Мамаша Кураж. А вдруг это правда? А может, я вижу, что ты не жилец? А вдруг ты похож на покойника в отпуску, а?
Швейцеркас. Она ясновидящая, это все говорят. Она умеет предсказывать будущее.
Вербовщик. Ну, так предскажи будущее господину фельдфебелю. Ему, наверно, будет забавно послушать.
Фельдфебель. Вот еще, слушать всякую болтовню.
Мамаша Кураж. Дай-ка твой шлем.
Фельдфебель (дает ей шлем). Все эти гаданья дерьма собачьего не стоят. Разве что смеха ради.
Мамаша Кураж (достает лист пергамента и разрывает его на части). Эйлиф, Швейцеркас и Катрин, пусть и нас вот так же разорвут, если мы чересчур увлечемся войной. (Фельдфебелю.) В виде исключения я сделаю это для вас бесплатно. На этом клочке я нарисую черный крест. Черный крест — смерть.
Швейцеркас. А другие обрывки — чистые, понимаешь?
Мамаша Кураж. Теперь я их сложу и перемешаю. Все мы перемешаны уже во чреве материнском. Ну вот, тяни, узнаешь свою судьбу.
Фельдфебель медлит.
Вербовщик (Эйлифу). Я не беру первого встречного, все знают, что я человек разборчивый, но ты парень с огоньком, ты мне нравишься.
Фельдфебель (порывшись в шлеме). Чепуха! Жульничество, и ничего больше.
Швейцеркас. Он вытащил черный крест. Не жить ему на свете.
Вербовщик. Не робей, таких еще не было пуль, чтобы всех убивали.
Фельдфебель (хрипло). Ты меня надула.
Мамаша Кураж. Сам ты себя надул в тот день, как стал солдатом. А теперь мы поехали, война бывает не каждый день, мне некогда.
Фельдфебель. Нет, в бога душу, меня ты не проведешь. Сосунка твоего мы заберем, мы из него сделаем солдата.
Эйлиф. Хочу в солдаты, мать.
Мамаша Кураж. Заткнись, обормот финляндский.
Эйлиф. Швейцеркас тоже хочет в солдаты.
Мамаша Кураж. Новое дело! Придется и вам тянуть жребий, всем троим. (Уходит в глубь сцены и метит крестами клочья пергамента.)
Вербовщик (Эйлифу). Говорят, что в шведском лагере одни святоши, но это гнусная клевета наших врагов. Поют у нас только по воскресеньям, одну строфу, и то лишь те, у кого есть голос.
Мамаша Кураж (возвращается со шлемом фельдфебеля). Хотят удрать от матери, черти, рвутся на войну, как телята к соли. Вот сейчас погадаем, и они увидят, что, когда тебе говорят: «Пойдем, сынок, ты станешь офицером», — нечего уши развешивать. Очень боюсь, фельдфебель, что они у меня не уцелеют на войне. У них ужасные характеры, у всех троих. (Протягивает шлем Эйлифу.) На, тяни свой жребий.
Эйлиф вынимает из шлема и развертывает клок пергамента.
(Вырывает его у него из рук.) Ну вот тебе, крест! Ох, несчастная я мать, горемычная родительница. Неужели он погибнет? Погибнет во цвете лет? Если он станет солдатом, он не выживет, это ясно. Слишком он смелый, весь в отца. Если он не будет умником, он разделит участь всего земного, гаданье это доказывает. (Голос ее становится властным.) Будешь умником?
Эйлиф. А почему же нет?
Мамаша Кураж. Так вот, ты будешь умником, если останешься с матерью, и пусть они себе смеются над тобой и называют тебя мокрой курицей — тебе наплевать.
Вербовщик. Если ты уже наложил в штаны, то лучше мне иметь дело с твоим братом.
Мамаша Кураж. Я же сказала — тебе наплевать. Вот и плюй! А теперь тащи жребий ты, Швейцеркас. За тебя я не так боюсь, ты малый честный.
Швейцеркас роется в шлеме.
Ох, что это ты так странно смотришь на листок? Ты-то уж, конечно, вынул чистенький. Не может быть, чтоб с крестом. Тебя-то уж я не потеряю. (Она берет листок.) Крест? И у него тоже! Может быть, потому, что он такой простак? Ох, и ты тоже пропадешь, если не будешь вести себя честно, как ты с пеленок приучен, и, скажем, покупая хлеб, прикарманишь сдачу. Только честность может тебя спасти. Погляди-ка, фельдфебель, разве это не черный крест?
Фельдфебель. Верно, крест. Не понимаю только, почему это я вдруг вытянул крест. Я никогда не лезу вперед. (Вербовщику.) Она не жульничает. Своим парням она напророчила то же самое.
Швейцеркас. И мне напророчила. Но я не боюсь.
Мамаша Кураж (Катрин). Теперь только за тебя я спокойна, ты сама крест: у тебя доброе сердце. (Протягивает ей шлем, но листок вынимает сама.) С ума сойти. Не может быть, я, наверно, ошиблась, когда перемешивала. Смотри, Катрин, не будь слишком добродушна, на твоем пути тоже крест. Веди себя тихо, тебе это нетрудно, ведь ты же немая. Ну вот, теперь вы все знаете. Будьте все осторожны, вам это нужно. А теперь — по местам, и поехали. (Она возвращает фельдфебелю шлем и взбирается на фургон.)
Вербовщик (фельдфебелю). Придумай что-нибудь.
Фельдфебель. Я плохо себя чувствую.
Вербовщик. Должно быть, ты простыл на ветру без шлема. Поторгуйся с ней. (Громко.) Ты бы хоть взглянул на пряжку, фельдфебель. Ведь эти добрые люди живут своей торговлей, разве не так? Эй, вы, фельдфебель хочет купить пряжку!
Мамаша Кураж. Полгульдена. Настоящая цена этой пряжке два гульдена. (Слезает с фургона.)
Фельдфебель. Пряжка не новая. Здесь такой ветер, надо рассмотреть ее как следует. (Берет пряжку и идет за фургон.)
Мамаша Кураж. По-моему, совсем не дует.
Фельдфебель. Может, она и стоит полгульдена, все-таки серебро.
Мамаша Кураж (идет к нему за фургон). Здесь добрых шесть унций.
Вербовщик (Эйлифу). А потом мы выпьем по стаканчику, мы ведь мужчины. Задаток у меня с собой, пойдем.
Эйлиф колеблется.
Мамаша Кураж. Так и быть, полгульдена.
Фельдфебель. Не понимаю. Я всегда стараюсь держаться позади. Фельдфебель — уж чего безопасней? Всегда можно других послать вперед, чтобы они покрыли себя славой. Даже обедать охота пропала. Я себя знаю, теперь кусок не полезет в горло.
Мамаша Кураж. Нельзя из-за этого так убиваться, чтобы даже аппетит пропадал. Не суйся вперед, и все дела. На вот, хлебни водки, братец. (Дает ему водки.)
Вербовщик (взял Эйлифа под руку и тянет его за собой в глубь сцены). Тебе дают десять гульденов чистоганом, и ты герой, ты сражаешься за короля, и бабы дерутся из-за тебя. И можешь дать мне по морде за то, что я тебя оскорбил. (Оба уходят.)
Немая Катрин соскакивает с фургона и издает нечленораздельные звуки.
Мамаша Кураж. Сейчас, Катрин, сейчас. Господин фельдфебель еще не расплатился. (Пробует на зуб полгульдена.) Я люблю всякую монету проверить. Я, фельдфебель, уже нарывалась. Нет, монета в порядке. А теперь поехали дальше. Где Эйлиф?
Швейцеркас. Он ушел с вербовщиком.
Мамаша Кураж (после паузы). Эх ты, простак. (Катрин.) Я знаю, ты не можешь говорить, ты не виновата.
Фельдфебель. Хлебни-ка и ты водки, мать. Такие-то дела. Солдат — это еще не так плохо. Ты хочешь кормиться войной, а сама со своими детьми думаешь отсидеться в сторонке?
Мамаша Кураж. Теперь придется тебе вместе с братом тащить фургон, Катрин.
Брат и сестра впрягаются в фургон и трогают с места.
Мамаша Кураж идет рядом. Фургон катится дальше.
Фельдфебель (глядя им вслед).
Войною думает прожить. За это надобно платить.2
В 1625–1626 годах мамаша Кураж колесит по Польше в обозе шведской армии. Близ крепости Вальгоф она встречает своего сына. Удачная продажа каплуна и расцвет славы смельчака-сына.
Палатка командующего. Рядом с ней кухня. Слышна канонада. Повар торгуется с мамашей Кураж, которая хочет продать ему каплуна.
Повар. Шестьдесят геллеров за эту паршивенькую птичку?
Мамаша Кураж. Паршивенькая птичка? Да это же жирная скотина! Неужели этот обжора-командующий не может выложить за него каких-нибудь несчастных шестьдесят геллеров? Горе вам, если вы оставите его без обеда.
Повар. Да я на десять геллеров дюжину таких куплю где угодно.
Мамаша Кураж. Что, такого каплуна вы достанете где угодно? Это в осаде-то, когда с голодухи у всех глаза на лоб скоро вылезут? Полевую крысу вы, может быть, и достанете, я говорю «может быть», потому что всех крыс сожрали, и за одной голодной полевой крысой пять человек гоняется чуть ли не полдня. Пятьдесят геллеров за огромного каплуна во время осады!
Повар. Ведь не они же нас осаждают, а мы их. Мы осаждаем, вдолбите это себе в голову.
Мамаша Кураж. Но жратвы у нас тоже нет, даже еще меньше, чем у них в городе. Еще бы, они запаслись заранее. Говорят, что они там живут в свое удовольствие. А мы! Я была у крестьян, у них нет ничего.
Повар. У них есть. Они припрятывают.
Мамаша Кураж (торжествующе). У них нет ничего. Они разорены, и точка. Они положили зубы на полку. Уж я насмотрелась: корешки из земли выкопают и едят, кожаный ремень сварят и пальчики облизывают. Вот оно как. А я отдавай каплуна за сорок геллеров!
Повар. За тридцать, а не за сорок. Я сказал: за тридцать.
Мамаша Кураж. Послушайте, это же особенный каплун. Какое это было талантливое животное! Говорят, он жрал только под музыку, у него даже был свой любимый марш. Он умел считать, такой он был смышленый. И вам жаль заплатить за него сорок геллеров? Командующий оторвет вам голову, если вы ничего не подадите на стол.
Повар. Видите, что я делаю? (Достает кусок говядины, и готовится его разрезать.) У меня есть кусок говядины, я его изжарю. Даю вам последний раз подумать.
Мамаша Кураж. Валяйте, жарьте. Мясо прошлогоднее.
Повар. Вчера вечером этот бык еще разгуливал, я видел его собственными глазами.
Мамаша Кураж. Значит, он уже при жизни вонял.
Повар. Ну, что ж, буду варить пять часов, жестким не будет. (Разрезает кусок.)
Мамаша Кураж. Положите побольше перцу, чтобы господин командующий не услыхал вони.
В палатку входят командующий, полковой священник и Эйлиф.
Командующий (похлопывая Эйлифа по плечу). Ну, сынок, входи к своему командующему и садись по правую руку от меня. Ты совершил подвиг, ты настоящий благочестивый воин. То, что ты сделал, ты сделал во имя бога, в войне за веру, это я особенно ценю, ты получишь золотой браслет, как только я возьму город. Мы пришли спасти их души, а они что, бессовестное, грязное мужичье! Они угоняют от нас скот! Зато попов своих они кормят до отвала. Но ты им дал урок хорошего поведения. Я налью тебе кружку красного, и мы с тобой выпьем. (Пьют.) Священнику не дадим ни хрена, он у нас святоша. А чего бы ты хотел на обед, душа моя?
Эйлиф. От куска мяса я бы не отказался.
Командующий. Повар, мяса!
Повар. И он еще приводит гостей, когда и так есть нечего.
Мамаша Кураж знаком велит ему замолчать, потому что она прислушивается к разговору в палатке.
Эйлиф. Повозишься с крестьянами, поколотишь их — и сразу есть хочется.
Мамаша Кураж. Иисусе, это же мой Эйлиф!
Повар. Кто?
Мамаша Кураж. Мой старший. Два года я его не видала. У меня украли его на дороге. Он здесь, видно, в большом фаворе, если сам командующий приглашает его на обед, а что у тебя за обед? Дерьмо! Ты слышал, чего пожелал гость: мяса! Послушай меня, забирай каплуна, он стоит один гульден.
Командующий (садится за стол с Эйлифом и полковым священником, орет). Тащи обед, Ламб, не то убью тебя, чертов повар!
Повар. Давай сюда, черт с тобой, вымогательница.
Мамаша Кураж. А я думала, это паршивенькая птичка.
Повар. Черт с ней, давай ее сюда, цена твоя бешеная, пятьдесят геллеров.
Мамаша Кураж. Я сказала: один гульден. Для моего старшего, для дорогого гостя господина командующего, мне ничего не жаль.
Повар (дает ей деньги). Ну так ощипай его хотя бы, пока я разведу огонь.
Мамаша Кураж (садится, ощипывает каплуна). Хотела бы я знать, какое он сделает лицо, когда меня увидит. Это мой смелый и умный сын. У меня есть еще и дурачок, но дурачок честный. Дочь — пустое место. Но она, по крайней мере, молчит, это уже кое-что.
Командующий. Выпей еще, сынок, это мое любимое фалернское, у меня осталась еще одна бочка, самое большее — две, но мне его не жалко, когда я вижу, что есть еще у моих ребят настоящая вера. А пастырь пускай опять на нас посмотрит, он только проповедует, а как дело делается, он не знает. Ну, а теперь, Эйлиф, сын мой, доложи нам подробнее, как ты перехитрил крестьян и захватил двадцать волов. Надеюсь, они скоро будут здесь.
Эйлиф. Через день, на худой конец — через два.
Мамаша Кураж. Какая предусмотрительность со стороны моего Эйлифа: волов пригонят только завтра. А то бы вы на моего каплуна и смотреть не стали.
Эйлиф. Значит, дело было так. Я узнал, что крестьяне тайком, по ночам, сгоняют в одно место волов, которых они от нас прятали по всему лесу. Оттуда волов должны были погнать в город. Я не стал мешать крестьянам. Пускай, думаю, сгоняют своих волов, им легче искать их в лесу, чем мне. А людей своих я довел до того, что они только о мясе и думали. Два дня я урезал и без того скудный паек. У них слюнки текли, когда они слышали какое-нибудь слово на «м», например «мята».
Командующий. Ты поступил умно.
Эйлиф. Возможно. Все остальное уже мелочи. Разве только вот, что у крестьян были дубинки, и их было втрое больше, чем нас. Они зверски на нас напали. Четверо мужиков загнали меня в кустарник, вышибли у меня меч из рук и кричат: «Сдавайся!» Что делать, думаю, они же сделают из меня фарш.
Командующий. Как же ты поступил?
Эйлиф. Я стал смеяться.
Командующий. Что-что?
Эйлиф. Стал смеяться. Завязался разговор. Я давай торговаться. Двадцать гульденов за вола, говорю, это мне не по карману. Предлагаю пятнадцать. Как будто я собираюсь платить. Они в замешательстве, чешут затылки. Тут я наклоняюсь, хватаю свой меч и рублю мужиков на мелкие части. В нужде побудешь — заповедь забудешь, правда?
Командующий. А ты что на это скажешь, пастырь?
Полковой священник. Строго говоря, таких слов в Библии нет, но господу богу ничего не стоило из пяти хлебов сделать пятьсот, так что и нужды, собственно говоря, не было, и он вполне мог требовать любви к ближнему; еще бы, все были сыты. Сейчас времена не те.
Командующий (смеется). Совсем не те. Так и быть, на этот раз дадим хлебнуть и тебе, фарисей. (Эйлифу.) Значит, ты их изрубил. Ну что ж, ты поступил правильно, моим храбрым солдатам будет что пожевать. Разве не сказано в Писании: «Что сотворил ты самому ничтожному из братьев моих, то ты мне сотворил»? А что ты им сотворил? Ты устроил им отличный обед из говядины, ведь они же не привыкли есть хлеб с плесенью. Прежде, бывало, они сперва наливали в шлем вино и крошили в него булочки, а уж потом шли в бой за веру.
Эйлиф. Да, я тут же наклонился, схватил свой меч и изрубил их на мелкие части.
Командующий. В тебе сидит молодой цезарь. Тебе бы увидеть короля.
Эйлиф. Я его видел издали. В нем есть что-то светлое. Мне хочется во всем подражать ему.
Командующий. У тебя уже есть какое-то сходство с ним. Я ценю таких солдат, как ты, Эйлиф, храбрых, мужественных. Они для меня как родные дети. (Ведет Эйлифа к карте.) Ознакомься с обстановкой, Эйлиф, тут еще много сил придется положить.
Мамаша Кураж (она слышала разговор в палатке и теперь ощипывает каплуна со злостью). Это, наверно, очень плохой командующий.
Повар. Прожорливый — верно, но почему плохой?
Мамаша Кураж. Потому что ему нужны храбрые солдаты, вот почему. Если у него хватает ума на хороший план разгрома врага, то зачем ему непременно храбрые солдаты? Обошелся бы и обыкновенными. Вообще, когда в ход идут высокие добродетели — значит, дело дрянь.
Повар. А я думал, это хороший знак.
Мамаша Кураж. Нет, плохой. Если какой-нибудь командующий или король — дурак набитый и ведет своих людей прямо в навозную кучу, то тут, конечно, нужно, чтобы люди не боялись смерти, а это как-никак добродетель. Если он скряга и набирает слишком мало солдат, то солдаты должны быть сплошными геркулесами. А если он бездельник и не хочет ломать себе голову, тогда они должны быть мудрыми как змеи, иначе им крышка. И верность нужна ему тоже какая-то особая, потому что он всегда требует от них слишком многого. Одним словом, сплошные добродетели, которые в порядочной стране, при хорошем короле или главнокомандующем, никому не нужны. В хорошей стране добродетели ни к чему, там можно быть обыкновенными людьми, не шибко умными и, по мне, даже трусами.
Командующий. Готов об заклад биться — твой отец был солдат.
Эйлиф. Еще какой, говорят. Мать меня поэтому всегда предостерегала… Я знаю одну песню.
Командующий. Спой нам! (Орет.) Скоро будет обед?
Эйлиф. Она называется: «Песня о солдате и бабе»{156}. (Поет, отплясывая военный танец с саблей в руке.)
Одних убьет ружье, других проткнет копье. А дно речное — чем не могила? Опасен лед весной, останься со мной — Солдату жена говорила. Но гром барабана и грохот войны Солдату милее, чем речи жены. Походной понюхаем пыли! Мы будем шагать за верстою версту, Копье мы сумеем поймать на лету — Солдаты в ответ говорили. Дают совет благой — ты вникни, дорогой, Не в удали, а в мудрости — сила. На всех и вся плевать — добра не видать — Солдату жена говорила. Мы бабам не верим — трусливый народ. Река на пути — перейдем ее вброд, Мундиры отмоем от пыли. Когда загорится над крышей звезда, Твой муж возвратится к тебе навсегда — Солдаты жене говорили.Мамаша Кураж (подхватывает в кухне песню, отбивая такт ложкой по горшку).
Ах, подвиги его не греют никого, От подвигов нам радости мало. Пропал мой муженек, храни его бог — Жена про солдата сказала.Эйлиф. Это что такое?
Мамаша Кураж (продолжает петь).
В мундире, с копьем неразлучным в руке Солдат угодил в быстрину на реке, И льдины его подхватили. Над самою крышей горела звезда, Но что же, но что же, но что же тогда Солдаты жене говорили? Ах, подвиги его не грели никого, И дно речное — та же могила. На всех и вся плевать — добра не видать — Солдату жена говорила.Командующий. Они у меня на кухне совсем распоясались!
Эйлиф (идет в кухню. Обнимает мать). Вот так встреча! А где остальные?
Мамаша Кураж (в объятьях сына). Все живы-здоровы. Швейцеркас теперь казначей Второго Финляндского. Хоть в бой-то у меня его не пошлют. Совсем удержать его в стороне никак не удалось.
Эйлиф. А как твои ноги?
Мамаша Кураж. По утрам через силу надеваю ботинки.
Командующий (подходит к ним). Ты, стало быть, его мать. Надеюсь, у тебя найдутся для меня еще сыновья такие, как этот.
Эйлиф. Ну разве мне не везет! Ты сидишь здесь в кухне и слышишь, как привечают твоего сына!
Мамаша Кураж. Да, я слышала. (Дает ему пощечину.)
Эйлиф (хватается за щеку). Это за то, что я захватил волов?
Мамаша Кураж. Нет, это за то, что ты не сдался, когда на тебя напали четверо и хотели сделать из тебя фарш! Разве я не учила тебя думать о себе? Эх ты, обормот финляндский!
Командующий и полковой священник смеются, стоя в дверях.
3
Еще через три года мамаша Кураж вместе с остатками Финляндского полка попадает в плен. Ей удается спасти дочь и фургон, но ее честный сын погибает.
Бивак. Вторая половина дня. На шесте — полковое знамя. Между фургоном, обильно увешанным разнообразными товарами, и огромной пушкой протянута веревка. Мамаша Кураж снимает с веревки белье и вместе с Катрин складывает его на лафете. Одновременно она торгуется с интендантом из-за мешка пуль. Швейцеркас, в форме военного казначея, наблюдает за ними.
Красивая особа по имени Иветта Потье что-то пришивает к пестрой шляпке. Перед ней стакан водки. Она в чулках. Ее красные туфельки на каблучках стоят рядом.
Интендант. Я отдам вам мешок с пулями за два гульдена. Это дешево, но мне нужны деньги, потому что полковник уже два дня пьет с офицерами, и весь ликер вышел.
Мамаша Кураж. Это боеприпасы. Если у меня их найдут, меня будет судить военно-полевой суд. Вы продаете пули, негодяи, а солдатам нечем стрелять по врагу.
Интендант. Помилосердствуйте, рука руку моет.
Мамаша Кураж. Военного имущества я не беру. По такой цене.
Интендант. Вы сегодня же вечером можете тихонько продать этот мешок интенданту четвертого за пять гульденов, даже за восемь, если дадите ему расписку на двенадцать. У него вообще не осталось боеприпасов.
Мамаша Кураж. Почему же вы сами ему не продадите?
Интендант. Потому что я ему не доверяю, мы с ним приятели.
Мамаша Кураж (берет мешок). Ну, давай. (Катрин.) Снеси мешок и уплати ему полтора гульдена. (В ответ на протест интенданта.) Я сказала, полтора гульдена.
Катрин уносит мешок в глубь сцены, интендант идет за ней.
(Швейцеркасу.) Вот, получай свои подштанники. Смотри береги их, уже октябрь на дворе, того и гляди, может наступить осень, я сознательно говорю «может», а не «должна», я уже поняла, что ни на что нельзя полагаться, даже на времена года. Но что бы ни стряслось, твоя полковая касса должна быть в порядке. Касса в порядке?
Швейцеркас. В порядке, мать.
Мамаша Кураж. Помни, казначеем тебя назначили потому, что ты честен и не так смел, как твой брат. А главное — потому, что ты простак. Тебе-то уж не придет в голову улизнуть с кассой. Это меня успокаивает. Смотри же, не потеряй подштанники.
Швейцеркас. Не потеряю, мать, я спрячу их под матрац. (Хочет уйти.)
Интендант. Пойдем вместе, казначей.
Мамаша Кураж. Только не учите его своим штучкам.
Интендант, не прощаясь, уходит с Швейцеркасом.
Иветта (им вдогонку). Мог бы и попрощаться, интендант!
Мамаша Кураж (Иветте). Не люблю, когда они вместе. Это плохая компания для моего Швейцеркаса. А война разворачивается на славу. Она, как миленькая, протянется еще лет пять, прежде чем все страны в нее ввяжутся. Немножко дальновидности, немножко осторожности, и дела мои пойдут будь здоров. Ты что, не знаешь, что с твоей болезнью нельзя пить натощак?
Иветта. Кто сказал, что я больна? Это клевета.
Мамаша Кураж. Все говорят.
Иветта. Все врут. Мамаша Кураж, я в полном отчаянии, ведь из-за этого вранья все воротят от меня нос, как от тухлятины. И зачем только я вожусь со своей шляпкой? (Бросает в сердцах шляпку.) Вот я и пью с утра, раньше я так не делала, от этого появляются морщины, но теперь мне все равно. Во Втором Финляндском меня все знают. Лучше бы я осталась дома, когда мой первый меня бросил. Нашему брату гордость не пристала. Не научишься глотать дерьмо — не пробьешься.
Мамаша Кураж. Сейчас опять начнется все сначала — какой был Питер да как это случилось. Пощади хоть мою невинную дочь.
Иветта. Ей как раз полезно послушать, будет закалена, любовь ее не проймет.
Мамаша Кураж. Тут женщине никакая закалка не поможет.
Иветта. Я все равно расскажу, потому что мне от этого становится легче. Начну с того, что я выросла в прекрасной Фландрии. Ведь иначе я с ним и не встретилась бы и не торчала бы сейчас в Польше, потому что он был военный повар, блондин, голландец, но худой. Катрин, берегись худых, а я этого тогда не знала еще, и не знала я, что у него уже тогда была другая и что его уже вообще называли «Питер с трубкой», потому что даже во время этого самого он не вынимал изо рта трубки, такой это был для него пустяк. (Поет «Песню о братании».)
Семнадцать лет мне было, Наш город пал весной. Вполне миролюбиво Противник вел себя со мной. На утренней заре Полк строился в каре, И трепетало все кругом. А с наступленьем темноты В лесу, где травка и кусты, Братались мы с врагом. Моим врагом был повар, Но вот в чем вся беда: Он был мне ненавистен Лишь днем, а ночью — никогда. Ведь утром, на заре, Полк строился в каре, И трепетало все кругом. А с наступленьем темноты В лесу, где травка и кусты, Братались мы с врагом. Сильней людских законов Любви святая власть. Внушал мне неприятель, Увы, не ненависть, а страсть. Однажды на заре В холодном октябре Все полетело кувырком. Под барабанный дробный бой С полком ушел мой дорогой, Расстались мы с врагом…На свое несчастье, я поехала его догонять. Нигде я его так и не встретила, вот уже пять лет прошло. (Шатаясь, уходит за фургон.)
Мамаша Кураж. Подняла бы свою шляпку.
Иветта. Пусть берет кто хочет.
Мамаша Кураж. Вот тебе урок, Катрин. Не заводи шашни с солдатьем. Любовь во власти высших сил, имей в виду. Даже и с теми, кто не в армии, любовь — не сахар. Сначала он говорит, что готов целовать следы твоих ног, — кстати, ты их помыла вчера? — а потом ты становишься его служанкой. Твое счастье, что ты немая, тебе не нужно отказываться от своих слов и не нужно проклинать свой язык за то, что он сказал правду. Немота — это дар божий. А вот и повар командующего, что ему здесь надо?
Входят повар и полковой священник.
Полковой священник. Я к вам по поручению вашего сына Эйлифа, а повар увязался со мной, вы на него произвели впечатление.
Повар. Я пошел с ним, чтобы подышать свежим воздухом.
Мамаша Кураж. Можете дышать сколько угодно, если будете вести себя прилично. А если нет, то все равно я с вами справлюсь. Что ему от меня нужно? Лишних денег у меня нет.
Полковой священник. Я должен переговорить, собственно, с его братом, с господином казначеем.
Мамаша Кураж. Его здесь нет, и вообще нигде его нет. Швейцеркас своему брату не казначей. И нечего ему вводить брата в соблазн и впутывать его в нехорошие дела. (Дает полковому священнику деньги из сумки, которая висит у нее на плече.) Передайте ему вот это. Грешно спекулировать на материнской любви, постыдился бы.
Повар. Скоро это кончится, он уйдет с полком. Кто знает, может быть, на смерть. Лучше прибавьте, а то будете потом раскаиваться. Вы, бабы, сначала упрямитесь, а потом каетесь. Стаканчик водки — это же пустяк, но, когда он нужен, вы его не поднесете, а потом, глядишь, лежит себе человек под зеленой травкой, и вы его уже оттуда не выкопаете.
Полковой священник. Не надо расстраиваться, повар. Погибнуть на войне — это счастье, а не неприятность. Это же священная война. Не обычная война, а особая, во имя веры, и, значит, богоугодная.
Повар. Это верно. С одной стороны, это война, где жгут, режут, грабят да и насилуют помаленечку, но, с другой стороны, она отличается от всех других войн тем, что ведется во имя веры, это ясно. Но вы должны признать, что и на такой войне человеку хочется промочить горло.
Полковой священник (мамаше Кураж, указывая на повара). Я пытался его удержать, но он говорит, что вы его обворожили, он бредит вами.
Повар (раскуривает маленькую трубку). Ничего дурного не было у меня на уме. Мне хотелось получить стаканчик водки из прекрасных рук — только и всего. Но я уже и за это наказан: всю дорогу священник отпускал такие шуточки, что я, наверно, и сейчас краснею.
Мамаша Кураж. Это в пасторском-то одеянии! Придется дать вам выпить, а то вы еще, чего доброго, со скуки пристанете ко мне с гнусными предложениями.
Полковой священник. Это искушение, как говорил один придворный священник, когда не мог устоять. (На ходу, оборачиваясь к Катрин.) А это что за привлекательная особа?
Мамаша Кураж. Это не привлекательная особа, а порядочная девушка.
Полковой священник и повар уходят с мамашей Кураж за фургон. Катрин смотрит им вслед, потом оставляет белье и подходит к шляпке. Она поднимает ее, надевает, садится и обувается в красные туфельки. Слышно, как за фургоном мамаша Кураж рассуждает о политике с полковым священником и товаром.
Этим полякам, которые живут здесь, в Польше, нечего было вмешиваться. Что правда, то правда, король наш вторгся к ним с пехотой и конницей. Но вместо того, чтобы сохранять мир, поляки вмешались в свои собственные дела и напали на короля, хотя он их не трогал. И значит, это они нарушили мир, и вся кровь падет на их голову.
Полковой священник. Наш король{157} заботился только о свободе. Император всех угнетал{158} — и поляков и немцев. И король обязан был их освободить.
Повар. Верно, водка у вас отменная, ваше лицо меня не обмануло, а что касается короля, то свобода, которую он хотел ввести в Германии, влетела ему в копеечку. В Швеции он ввел налог на соль, а это, как я сказал, беднякам влетело в копеечку. Потом у него было еще много хлопот с немцами. Нужно было сажать их за решетку и четвертовать, потому что они привыкли быть рабами у императора. Еще бы, с теми, кто не хотел быть свободным, король намаялся. Сначала он хотел защитить от злодеев, особенно от императора, только Польшу, но во время еды аппетит разгорелся, и он защитил всю Германию. А она давай сопротивляться. Так что добрый король получил одни неприятности в награду за доброту и расходы, а расходы ему, конечно, пришлось покрывать налогами, это вызвало недовольство, но он на это плевал. На его стороне было как-никак слово божие. А то бы еще пошли толки, будто он делает все это из корысти. Так что совесть у него всегда была чиста, а для него это главное.
Мамаша Кураж. Сразу видно, что вы не швед, а то вы бы не стали так говорить о короле-герое.
Полковой священник. В конце концов, вы едите его хлеб.
Повар. Я не ем его хлеб, а пеку ему хлеб.
Мамаша Кураж. Победить его нельзя, нет, его народ верит в него. (Серьезно.) Послушать больших начальников, так они воюют только из страха божия, за доброе и прекрасное дело. А присмотришься — они совсем не такие дураки, и воюют они ради выгоды. Да и маленькие люди, вроде меня, не стали бы иначе в этом участвовать.
Повар. Точно.
Полковой священник. Вам, как голландцу, надо бы, находясь в Польше, сначала посмотреть, какой флаг здесь развевается, а уж потом высказывать свое мнение.
Мамаша Кураж. Мы здесь все, слава богу, евангелической веры. Будем здоровы!
Надев шляпку, Катрин подражает кокетливой походке Иветты. Внезапно раздаются канонада и ружейные выстрелы. Барабанный бой. Мамаша Кураж, повар и полковой священник выбегают из-за фургона, у обоих мужчин еще стаканы в руках.
Появляются интендант и солдат. Они бросаются к пушке и пытаются оттащить ее в сторону.
В чем дело? Дайте мне сначала убрать белье, болваны. (Пытается спасти свое белье.)
Интендант. Католики! Внезапное нападение. Вряд ли успеем уйти. (Солдату.) Убери отсюда орудие! (Убегает.)
Повар. Бог ты мой, мне нужно к командующему. Кураж, я на днях снова приду, и мы побеседуем! (Бросается прочь.)
Мамаша Кураж. Постойте, вы забыли трубку.
Повар (издалека). Сохраните ее! Она мне понадобится.
Мамаша Кураж. Надо же, как раз тогда, когда у нас пошли заработки.
Полковой священник. Да, пойду-ка и я. Конечно, когда враг так близко, это опасно. Блаженны миролюбивые — вот правило войны. Если бы мне накинуть плащ…
Мамаша Кураж. Я не даю плащей напрокат, даже если дело идет о жизни и смерти. Я уже обожглась на этом.
Полковой священник. Но ведь моя вера подвергает меня особой опасности.
Мамаша Кураж (достает ему плащ). Я поступаю против своей совести. Бегите уж.
Полковой священник. Покорнейше благодарю, вы очень великодушны, но, может быть, лучше мне посидеть здесь, я, пожалуй, вызвал бы подозрение и привлек бы к себе внимание врага, если бы пустился бежать.
Мамаша Кураж (солдату). Оставь пушку в покое, осел, кто тебе за это заплатит? Я приму ее у тебя на хранение, ты же из-за нее погибнешь.
Солдат (убегая). Вы подтвердите, я пытался…
Мамаша Кураж. Подтвержу, клянусь тебе. (Замечает дочь в шляпке.) Ты зачем надела шляпку, ты что, шлюха? Сейчас же долой ее, ты совсем спятила? Это когда враг на пороге! (Срывает шляпу с головы Катрин.) Хочешь, чтобы они заметили тебя и сделали потаскухой? И туфли она тоже надела, эта блудница вавилонская! К черту туфли! (Хочет разуть ее.) Иисусе, помоги мне, господин священник, заставьте ее разуться. Я сейчас вернусь. (Бежит к фургону.)
Иветта (входит, пудрясь). Как вам это понравится, католики наступают? Где моя шляпа? Кто ее истоптал? Ведь не могу же я оставаться в таком виде, когда вот-вот придут католики. Что они обо мне подумают? Зеркала у меня тоже нет. (Священнику.) Как я выгляжу? Не слишком ли много пудры?
Полковой священник. Нет, как раз в меру.
Иветта. А где красные башмаки? (Не находит их, потому что Катрин прячет ноги под юбку.) Я оставила их здесь. Придется мне идти в свою палатку. Босиком! Позор! (Уходит.)
Вбегает Швейцеркас с маленькой шкатулкой в руках.
Мамаша Кураж (возвращается с полными пригоршнями золы. Катрин). Вот зола. (Швейцеркасу.) Что это ты тащишь?
Швейцеркас. Полковую кассу.
Мамаша Кураж. Брось ее! Отказначеился.
Швейцеркас. Мне ее доверили. (Идет в глубь сцены.)
Мамаша Кураж (полковому священнику). Сними-ка лучше пасторский сюртук, священник, а то и плащ не поможет. (Мажет золой лицо Катрин.) Стой спокойно. Вот так, немного грязи, и ты вне опасности. Вот несчастье! Во всем сторожевом охранении не было ни одного трезвого. Теперь знай зарывай свой талант в землю. Солдат, особенно католик, и чистое личико — и сразу на свете одной потаскухой больше. По целым неделям они ходят не жравши, а уж когда нажрутся, награбив, то на баб просто кидаются. Ну, теперь сойдет. Покажись-ка. Неплохо. Как будто в грязи вывалялась. Не дрожи. Теперь ничего с тобой не случится. (Швейцеркасу.) Куда ты дел свою кассу?
Швейцеркас. Я спрятал ее в фургоне, а что?
Мамаша Кураж (возмущенно). Что, в моем фургоне? Какая богопреступная глупость! Отвернуться не успела — и на тебе. Да они же повесят нас, всех троих!
Швейцеркас. Ну так я спрячу ее в другое место или убегу с ней!
Мамаша Кураж. Ты останешься здесь, теперь уже поздно.
Полковой священник (он переодевается в глубине сцены). Знамя, ради бога, знамя!
Мамаша Кураж (снимает полковое знамя). Матка бозка! Оно мне уже примелькалось. Двадцать пять лет оно у меня.
Канонада становится громче.
Утро, три дня спустя. Пушки нет. Мамаша Кураж, Катрин, полковой священник и Швейцеркас завтракают. Вид у всех озабоченный.
Швейцеркас. Третий день уже я здесь бездельничаю, и господин фельдфебель, — он всегда был добр ко мне, — господин фельдфебель, наверно, спрашивает, куда же это наш Швейцеркас делся с солдатским жалованьем?
Мамаша Кураж. Радуйся, что на твой след не напали.
Полковой священник. А я что? Я тоже не могу отслужить здесь молебен, потому что боюсь. Сказано: чем сердце полно, о том и язык глаголет, но беда мне, если он у меня возглаголет!
Мамаша Кураж. Такие-то дела! Один навязал мне на шею свою веру, а другой — свою кассу. Не знаю, что опаснее.
Полковой священник. Теперь мы воистину в руках божьих.
Мамаша Кураж. Не думаю, что наши дела уж так плохи, но по ночам я все-таки не могу уснуть. Без тебя, Швейцеркас, было бы легче. Я, кажется, с ними уже поладила. Я им сказала, что я против антихриста-шведа, у него, дескать, рожки, я сама видела — левый рожок немножко стерся. Во время допроса я вставила словечко насчет свечей для мессы; где бы их закупить по сходной цене? У меня это хорошо получилось, потому что отец Швейцеркаса был католик и он любил острить насчет свечей. Они мне не очень-то верят, но у них в полку нет маркитантов. Поэтому они смотрят на меня сквозь пальцы.
Полковой священник. Молоко хорошее. А что касается количества, то нам придется умерить наши шведские аппетиты. Мы все-таки побеждены.
Мамаша Кураж. Кто побежден? Победы и поражения больших начальников совпадают с победами и поражениями маленьких людей далеко не всегда. Бывает даже, что поражение выгодно маленьким людям. Только что честь потеряна, а все остальное в порядке. В Лифляндии, помню, враг так всыпал нашему командующему, что мне в суматохе досталась даже лошадка из обоза. Целых семь месяцев она возила мой фургон, а потом мы победили, и началась ревизия. А в общем, можно сказать, что нам, людям простым, и победы и поражения обходятся дорого. Для нас лучше всего, когда политика топчется на месте. (Швейцеркасу.) Ешь!
Швейцеркас. Мне кусок в рот не идет. Как же фельдфебель будет выплачивать жалованье солдатам?
Мамаша Кураж. Когда удирают, какое уж тут жалованье.
Швейцеркас. Все равно, это их право. Бесплатно им незачем удирать. Они и шагу не обязаны делать бесплатно.
Мамаша Кураж. Швейцеркас, твоя добросовестность меня почти пугает. Я учила тебя быть честным, ведь умом ты не блещешь, но и честность имеет свои границы. А теперь мы со священником пойдем покупать католическое знамя и мясо. Никто так не умеет выбирать мясо, как он. Он это делает безошибочно, как лунатик. Я думаю, он определяет лучшие куски по тому, что при виде их у него слюнки текут. Слава богу, что они разрешают мне торговать. У торговца спрашивают не о вере, а о цене. А лютеранские штаны тоже греют.
Полковой священник. Когда кто-то сказал, что лютеране все опрокинут вверх дном — и город и деревню, один нищенствующий монах на это ответил: ничего, нищие всегда будут нужны.
Мамаша Кураж исчезает в фургоне.
Из-за шкатулки ей все-таки неспокойно. До сих пор на нас не обращали внимания, словно мы все состоим при фургоне, но долго ли так будет?
Швейцеркас. Я могу ее унести.
Полковой священник. Это, пожалуй, еще опаснее. Вдруг кто увидит! У них шпиков хватает. Вчера утром один появился передо мной прямо из канавы, когда я справлял там нужду. Я от испуга чуть молитву не сотворил. Молитва бы меня выдала. Они чуть ли не испражнения готовы нюхать, чтобы по запаху распознать лютеранина. Этот шпик — маленький такой заморыш с повязкой на глазу.
Мамаша Кураж (вылезая из фургона с корзинкой в руках). Что я нашла, бесстыдница ты этакая! (Она торжествующе поднимает вверх красные туфельки.) Красные туфельки Иветты! Она их преспокойно присвоила. Потому что вы внушили ей, что она привлекательная особа. (Кладет туфельки в корзинку.) Я возвращу их. Украсть у Иветты туфли! Та губит себя за деньги, это я понимаю. А ты хочешь погубить себя даром, удовольствия ради. Я уже говорила тебе: нужно подождать, пока подпишут мир. Только не за солдата! Дождись мира, а потом уж воображай о себе!
Полковой священник. По-моему, она не воображает.
Мамаша Кураж. Еще как воображает! Пускай лучше будет незаметна, как камень в Даларне, где одни камни, и пусть люди говорят: «Этой убогой не видно, не слышно». Зато с ней ничего не случится. (Швейцеркасу.) Не трогай шкатулку, слышишь? И следи за своей сестрой, за ней нужно следить. Вы меня совсем в гроб загоните. Лучше стадо блох пасти, чем с вами возиться. (Уходит с полковым священником.)
Катрин убирает посуду.
Швейцеркас. Скоро уже нельзя будет сидеть на солнце в одной рубашке.
Катрин указывает на дерево.
Да, листья уже желтые.
Катрин жестами спрашивает его, не хочет ли он выпить.
Нет, я не хочу пить. Я думаю.
Пауза.
Она говорит, что потеряла сон. Надо бы мне все-таки убрать шкатулку, я нашел для нее тайник. Налей-ка мне, пожалуй, стаканчик.
Катрин уходит за фургон.
Я спрячу ее в кротовую нору у реки, а потом я ее возьму оттуда. Может быть, уже сегодня ночью, к утру поближе, я ее оттуда возьму и доставлю в полк. За три дня им далеко не убежать. Господин фельдфебель вытаращит глаза от изумления. «Ты меня приятно удивил, Швейцеркас, — вот что он скажет. — Я доверил тебе кассу, и ты ее возвращаешь».
Выйдя из-за фургона с наполненным стаканом, Катрин видит перед собой двух мужчин. Один из них в мундире фельдфебеля. Другой учтиво размахивает перед ней шляпой. На одном глазу у него повязка.
Человек с повязкой. Здравствуйте, милая барышня! Не видали ли вы здесь парня из ставки Второго Финляндского?
Перепуганная Катрин бежит к просцениуму, расплескав водку. Заметив Швейцеркаса, незнакомцы переглядываются и удаляются.
Швейцеркас (выйдя из раздумья). Половину ты расплескала. Что ты кривляешься? Глаз ушибла, что ли? Не понимаю я тебя. Мне нужно уйти, так я решил, это самое лучшее. (Он встает. Катрин всячески старается предупредить его об опасности. Он отмахивается от нее.) Хотел бы я знать, что у тебя на уме. Конечно, на уме у тебя только добро, бедняжка, да вот сказать ты не можешь. Ничего, что ты расплескала водку, выпью еще не один стаканчик, на этом свет клином не сошелся. (Достает из фургона шкатулку и прячет ее за пазуху.) Я сейчас вернусь. Нет, ты меня не задерживай, а то я рассержусь. Конечно, на уме у тебя только добро. Если бы ты могла говорить…
Катрин хочет его задержать, но Швейцеркас целует ее, вырывается и уходит. Катрин в отчаянии бегает взад-вперед, издавая тихие нечленораздельные звуки. Возвращаются полковой священник и мамаша Кураж. Катрин бросается к матери.
Мамаша Кураж. В чем дело, в чем дело? Ты сама не своя. Тебя кто-нибудь обидел? Где Швейцеркас? Расскажи мне все толком, Катрин. Твоя мать понимает тебя. Что, этот балбес все-таки взял шкатулку? Я запущу шкатулкой ему в морду, прохвосту. Успокойся, перестань верещать, покажи руками, я не люблю, когда ты скулишь, как собака, что подумает священник? Он же от страха с ума сойдет. Здесь был одноглазый?
Полковой священник. Одноглазый — это шпик. Они взяли Швейцеркаса?
Катрин трясет головой, пожимает плечами.
Мы пропали.
Мамаша Кураж (извлекает из корзинки католическое знамя, полковой священник прикрепляет его к флагштоку). Поднимите новое знамя!
Полковой священник (с горечью). Мы здесь все, слава богу, католической веры.
В глубине сцены раздаются голоса. Фельдфебель и одноглазый приводят Швейцеркаса.
Швейцеркас. Пустите меня, у меня нет ничего. Не выкручивай мне руки, я ни в чем не виновен.
Фельдфебель. Это все одна компания. Вы друг друга знаете.
Мамаша Кураж. Мы? Откуда?
Швейцеркас. Я их не знаю. Откуда мне знать, кто это, мне до них дела нет. Я обедал у них, заплатил десять геллеров. Возможно, что вы меня здесь тогда и видели, а обед они пересолили.
Фельдфебель. Кто вы такие, а?
Мамаша Кураж. Мы порядочные люди. Это правда, он у нас обедал за деньги. Он нашел, что еду мы пересолили.
Фельдфебель. Значит, вы делаете вид, будто его не знаете?
Мамаша Кураж. Откуда мне его знать? Я не могу всех знать. Я не могу каждого спрашивать, как его зовут и не язычник ли он. Раз платит, значит не язычник. Разве ты язычник?
Швейцеркас. Вовсе нет.
Полковой священник. Он вел здесь себя вполне пристойно и не раскрывал рта, разве только когда ел. А тут уж нельзя иначе.
Фельдфебель. А ты кто такой?
Мамаша Кураж. Это всего-навсего мой буфетчик. А вы, наверно, не прочь промочить горло, я налью вам по стаканчику водки, вы, конечно, бежали и запарились.
Фельдфебель. Не пьем при исполнении служебных обязанностей. (Швейцеркасу.) Ты что-то унес. Ты что-то спрятал на берегу. Когда ты уходил отсюда, куртка у тебя была оттопырена.
Мамаша Кураж. Да он ли это был?
Швейцеркас. Вы, наверно, имеете в виду кого-то другого. Я видел здесь одного, у него действительно куртка была оттопырена. Я — не тот.
Мамаша Кураж. Тут, по-моему, недоразумение, что ж, это бывает. Я в людях разбираюсь, я — Кураж, вам это известно, меня все знают, и я вам говорю, что у него вид честного человека.
Фельдфебель. Мы ищем полковую кассу Второго Финляндского, и нам известны приметы парня, у которого она хранится. Мы искали его два дня. Это ты.
Швейцеркас. Нет, не я.
Фельдфебель. И если ты ее не отдашь, тебе крышка, так и знай. Где она?
Мамаша Кураж (горячо). Он, конечно, отдал бы ее, если иначе ему крышка. Он бы сразу сказал: да, она у меня, берите ее, вы сильнее. Он же не настолько глуп. Говори же, господин фельдфебель дает тебе возможность спастись, дурак ты этакий.
Швейцеркас. А если у меня ее нет?!
Фельдфебель. Тогда пойдем с нами. Мы развяжем тебе язык.
Уводят его.
Мамаша Кураж (кричит вдогонку). Он сказал бы. Он же не настолько глуп. И не выкручивайте ему руки! (Бежит за ними.)
В тот же вечер. Полковой священник и немая Катрин полощут стаканы и чистят ножи.
Полковой священник. Такие случаи, когда кто-то гибнет, для истории религии не новость. Напомню страсти господни. Об этом давно сложена песня. (Поет песню «Часы».)
Как убийца и подлец, Наш господь когда-то Приведен был во дворец Понтия Пилата. Что Исус не лиходей, Не мастак на плутни, Было ясного ясней К часу пополудни. Понтий, хитрая лиса, Не нарушил правил, Он Исуса в три часа К Ироду отправил. Божий сын побит плетьми, В кровь исполосован. Бессердечными людьми Наш господь оплеван. Он шагает тяжело С ношею суровой, И усталое чело Жжет венец терновый. В шесть он распят на кресте Под насмешки черни. Вся одежда на Христе — Лишь венок из терний. Для потехи смочен рот Уксусом и желчью. Дотемна резвился сброд, Все сносил он молча. В девять умер сын твой, бог, Застонав от боли, И копьем Исусу бок Люди прокололи. Скалы громом сметены, Вместо тверди — бездна, И врата отворены В царствие небесно. А из раны — кровь с водой… Да и как не течь им? Вот что сделал род людской С сыном человечьим.Мамаша Кураж (вбегает взволнованная). Дело идет о жизни и смерти. Но, кажется, с фельдфебелем можно договориться. Только ни в коем случае они не должны знать, что это наш Швейцеркас, а то получится что мы его укрывали. Дело только за деньгами. Где же достать денег? Иветты здесь не было? Я ее встретила. Она уже подцепила полковника, может быть, он купит ей маркитантский фургон.
Полковой священник. Вы в самом деле хотите его продать?
Мамаша Кураж. Откуда же мне достать деньги для фельдфебеля?
Полковой священник. А на какие средства вы будете жить?
Мамаша Кураж. То-то и оно.
Входит Иветта Потье со старым-престарым полковником.
Иветта (обнимает мамашу Кураж). Кураж, дорогая, вот как скоро мы увиделись снова! (Шепотом.) Он не возражает. (Громко.) Это мой близкий друг, он дает мне деловые советы. Я случайно узнала, что в силу обстоятельств вы продаете свой фургон. Я бы, пожалуй, подумала о вашем предложении.
Мамаша Кураж. Не продаю, а хочу отдать в залог, нельзя действовать опрометчиво, не так-то просто снова купить такой фургон в военное время.
Иветта (разочарованно). Ах, только в залог, а я думала — продаете. Не знаю, представит ли это для меня интерес. (Полковнику.) Как ты думаешь?
Полковник. Я полностью разделяю твое мнение, милая.
Мамаша Кураж. Да, только в залог.
Иветта. Я думала, вам нужны деньги.
Мамаша Кураж (твердо). Да, мне нужны деньги, но лучше я себе напрочь ноги стопчу в поисках человека, который даст мне под заклад денег, чем так сразу и продам фургон. Как можно, он ведь нас кормит. Не упускай случая, Иветта, кто знает, когда еще представится такая возможность и будет вдобавок добрый друг, который может дать хороший совет. Разве не так?
Иветта. Да, мой друг полагает, что мне нужно согласиться, но я сама не знаю. Если только в залог… ведь ты тоже считаешь, что лучше нам сразу купить?
Полковник. Я тоже так считаю.
Мамаша Кураж. Тогда тебе нужно поискать, где продается. Может, что и найдешь; если твой друг походит с тобой, скажем, неделю или две, то, пожалуй, и найдешь что-нибудь подходящее.
Иветта. Да, походим, поищем, я люблю ходить и искать, мы походим с тобой, Польди, ведь это же сплошное удовольствие ходить с тобой, правда? И даже если это продлится две недели! А когда бы вы вернули деньги, если бы их получили?
Мамаша Кураж. Через две недели, а то и через одну.
Иветта. Я никак не могу решиться, Польди, cheri, посоветуй, как быть. (Отводит полковника в сторону.) Я знаю, она должна продать, об этом мне беспокоиться нечего. И прапорщик, этот блондин, ты его знаешь, предлагает мне деньги в долг. Он втрескался в меня, я, говорит, ему кого-то напоминаю. Что ты мне посоветуешь?
Полковник. Я хочу тебя от него предостеречь. Он плохой человек. Он это использует. Я ведь обещал тебе что-нибудь купить, не правда ли, зайчик?
Иветта. Я не могу принять от тебя такой подарок. Но если ты считаешь, что прапорщик может это использовать… Польди, я приму это от тебя.
Полковник. Разумеется.
Иветта. Ты советуешь?
Полковник. Я советую.
Иветта (возвращаясь к Кураж). Мой друг мне советует. Пишите расписку и укажите, что по истечении двух недель фургон со всем содержимым принадлежит мне. Содержимое мы осмотрим сейчас, а двести гульденов я принесу потом. (Полковнику.) Тебе придется одному идти в лагерь, я приду позднее, я должна все как следует осмотреть, чтобы ничего не пропало из моего фургона. (Целует его. Он уходит. Она взбирается на фургон.) Ну, сапог тут немного.
Мамаша Кураж. Иветта, сейчас не время осматривать твой фургон, если он твой. Ты обещала мне, что поговоришь с фельдфебелем о моем Швейцеркасе, нельзя терять ни минуты, говорят, через час его будет судить полевой суд.
Иветта. Дай мне сосчитать только полотняные рубашки.
Мамаша Кураж (за юбку стаскивает ее с фургона). Ах ты, гиена безжалостная, дело идет о жизни Швейцеркаса. Смотри, ни слова о том, от кого эти деньги, притворись, будто хлопочешь за своего возлюбленного, а то мы все погибнем как его сообщники.
Иветта. Я велела одноглазому прийти в лесок; наверно, он уже там.
Полковой священник. И не нужно сразу предлагать ему все двести, остановись на ста пятидесяти, хватит и этого.
Мамаша Кураж. Разве это ваши деньги? Прошу вас не вмешиваться. Свою луковую похлебку вы и так получите. Беги и не торгуйся, дело идет о жизни Швейцеркаса. (Выталкивает Иветту.)
Полковой священник. Я не хочу вмешиваться, но на что мы будем жить? У вас на шее нетрудоспособная дочь.
Мамаша Кураж. Вы забыли о полковой кассе, а еще лезете в мудрецы. Уж издержки-то они ему должны простить.
Полковой священник. А она не подведет?
Мамаша Кураж. Она ведь заинтересована в том, чтобы я истратила ее две сотни, ей же достанется фургон. Зевать ей не приходится, кто знает, надолго ли хватит ее полковника. Катрин, если ты чистишь ножи, то возьми пемзу. И вы тоже не стойте, как Иисус у горы Елеонской, пошевелитесь, вымойте стаканы, а то вечером явится этак с полсотни кавалеристов, и вы опять запоете: «Ах, я не привык бегать, ах, мои ноги, во время церковной службы бегать не нужно». Я думаю, они его отпустят. Слава богу, взятки они берут. Ведь они же не звери, а люди, и на деньги падки. Продажность человеческая и милосердие божие — это одно и то же. Только на продажность мы и можем рассчитывать. До тех пор, пока она существует на свете, судьи нет-нет да будут выносить мягкие приговоры, и даже невиновного могут, глядишь, оправдать.
Иветта (вбегает запыхавшись). Они согласны только за двести. И медлить нельзя. Там дело делается быстро. Лучше всего мне сейчас же пойти с одноглазым к моему полковнику. Он признался, что шкатулка была у него, они зажали ему пальцы тисками. Но он бросил ее в реку, когда увидел, что за ним следят. Плакала шкатулочка. Ну что, бежать мне за деньгами к полковнику?
Мамаша Кураж. Шкатулки нет? Откуда же я возьму две сотни?
Иветта. Ах, вы думали, что возьмете их из шкатулки? Хорошо бы я влипла, нечего сказать. Можете не надеяться. Придется вам выложить денежки, если хотите спасти Швейцеркаса, или, может быть, мне плюнуть на это дело, чтобы сохранить вам ваш фургон?
Мамаша Кураж. На это я никак не рассчитывала. Не наседай, ты и так получишь фургон, его у меня уже нет, он семнадцать лет мне служил. Дай мне только минутку подумать, это все как снег на голову, что мне делать, две сотни я не могу дать, ты бы поторговалась. Я должна себе что-то оставить, а то ведь первый встречный столкнет меня в канаву. Пойди и скажи, что я даю сто двадцать гульденов, иначе дело не пойдет, фургон я и так уж теряю.
Иветта. Они не уступят. Одноглазый и так уж торопился, он все время озирается от волнения. Не лучше ли мне сразу дать им две сотни?
Мамаша Кураж (в отчаянье). Я не могу дать этих денег. Тридцать лет я работала. Ей уже двадцать пять, а мужа у нее еще нет. Она ведь тоже на мне. Не уговаривай меня, я знаю, что делаю. Скажи им: или сто двадцать, или дело не пойдет.
Иветта. Вам виднее. (Быстро уходит.)
Мамаша Кураж, не глядя ни на полкового священника, ни на дочь, садится рядом с Катрин и помогает ей чистить ножи.
Мамаша Кураж. Не разбейте стаканы, они уже не наши. Следи за тем, что делаешь, а то порежешься. Швейцеркас вернется, я отдам и двести, если понадобится. Твой брат будет с тобой. На восемьдесят гульденов мы накупим целую корзину товара и начнем все сначала. Не мытьем, так катаньем.
Полковой священник. Господь все обратит во благо, как говорится в Писании.
Мамаша Кураж. Вытирайте досуха.
Они молча чистят ножи. Катрин вдруг, всхлипывая, убегает за фургон.
Иветта (вбегает). Они не согласны. Я вас предупреждала. Одноглазый хотел тут же уйти, потому что дело пропащее. С минуты на минуту он ждет барабанного боя, а это, сказал он, значит, что приговор вынесен. Я предложила сто пятьдесят. Он и бровью не повел. Еле упросила его остаться, чтобы мне еще раз с вами поговорить.
Мамаша Кураж. Скажи ему, я дам две сотни. Беги.
Иветта убегает. Они сидят молча. Полковой священник перестал мыть стаканы.
Кажется, я слишком долго торговалась.
Издалека доносится барабанная дробь. Священник встает и уходит в глубь сцены. Мамаша Кураж не поднимается с места. Свет гаснет. Барабанный бой прекращается. Снова зажигается свет. Мамаша Кураж сидит в той же позе.
Иветта (появляется очень бледная). Ну, вот доторговались, фургон при вас. Он получил одиннадцать пуль, всего-навсего. Вы не стоите того, чтобы я вообще о вас заботилась. Но я кое-что разнюхала. Они не верят, что касса на самом деле в реке. Они подозревают, что она здесь и, вообще, что вы были с ним связаны. Они хотят принести его сюда: вдруг вы, увидев его, себя выдадите. Предупреждаю вас, сделайте вид, что вы его не знаете, не то все пропадете. Они идут сюда, скажу уж сразу. Увести Катрин?
Мамаша Кураж качает головой.
Она здесь? Может быть, она не слыхала насчет барабанов или не поняла?
Мамаша Кураж. Она знает. Приведи ее.
Иветта приводит Катрин, та подходит к матери. Мамаша Кураж берет ее за руку. Появляются два солдата с носилками, на которых, под простыней, что-то лежит. Рядом шагает фельдфебель. Они опускают носилки на землю.
Фельдфебель. Вот человек, имя которого нам неизвестно. Но для порядка имя нужно вписать в протокол. Он у тебя обедал. Взгляни-ка, может, ты его знаешь. (Поднимает простыню.) Знаешь его?
Мамаша Кураж качает головой.
Ты что ж, ни разу не видела его до того, как он у тебя обедал?
Мамаша Кураж качает головой.
Поднимите его. Бросьте его на свалку. Его никто не знает.
Солдаты уносят труп.
4
Мамаша Кураж поет «Песню о Великой капитуляции».
Перед офицерской палаткой. Мамаша Кураж ждет. Из палатки выглядывает писарь.
Писарь. Я вас знаю. Вы укрывали у себя лютеранского казначея. Лучше не жалуйтесь.
Мамаша Кураж. Нет, я буду жаловаться. Я ни в чем не виновата, а если я это так оставлю, еще подумают, что у меня совесть нечиста. Все, что у меня было в фургоне, они искромсали своими саблями и еще ни за что ни про что оштрафовали меня на пять талеров.
Писарь. Послушайтесь доброго совета, держите язык за зубами. У нас не так много маркитантов, и мы разрешаем вам торговать, особенно если совесть у вас нечиста и вы время от времени платите штраф.
Мамаша Кураж. Нет, я буду жаловаться.
Писарь. Дело ваше. Тогда подождите, пока господин ротмистр освободится. (Скрывается в палатке.)
Молодой солдат (входит, буяня). Bouque la Madonne! Где эта богомерзкая собака, ротмистр, который зажиливает мои наградные и пропивает их со своими шлюхами? Убью!
Пожилой солдат (вбегает вслед за ним). Замолчи. Посадят тебя!
Молодой солдат. Эй, выходи, воровская рожа! Я из тебя котлету сделаю. Зажимать мои наградные, чтобы я не мог даже пива выпить, после того как я один из всего эскадрона полез в реку? Нет, я этого так не оставлю. Выходи, я изрублю тебя на куски!
Пожилой солдат. Иосиф и Мария, человек сам себя губит.
Мамаша Кураж. Ему что, не дали на водку за что-то?
Молодой солдат. Пусти меня, а то и тебя зарублю. Заодно уж.
Пожилой солдат. Он спас коня полковника, и ему не дали на водку. Он еще молодой и не привык к службе.
Мамаша Кураж. Пусти его, он не собака, чтобы держать его на цепи. Это вполне разумное желание — получить на водку. С чего бы ему еще стараться?
Молодой солдат. И он еще там пьянствует! Вы все в штаны кладете, а я отличился и требую заслуженной награды!
Мамаша Кураж. Молодой человек, не орите на меня. У меня своих забот хватает. И вообще, поберегите свой голос. Он вам еще понадобится, когда придет ротмистр. А то ротмистр придет, а вы, глядишь, уже сорвали голос и молчите как рыба, и он не сможет вас посадить и сгноить в тюрьме. Кто орет, того хватает ненадолго, не больше, чем на полчасика. А потом его впору укладывать баиньки, до того он устает.
Молодой солдат. Я не устал, какой тут сон, я голоден. Хлеб вы печете из желудей и конопли, на этом вы тоже экономите. Этот бабник пропивает мои наградные, а я голоден. Убью!
Мамаша Кураж. Понимаю, вы голодны. В прошлом году ваш командующий велел вам шагать не по дорогам, а по полям, чтобы вытоптать хлеб, я тогда могла бы взять за пару сапог десять гульденов, если бы у кого-нибудь из вас было десять гульденов, а у меня были сапоги. Он думал, что в этом году ему не придется быть в этих местах, а вот он все еще здесь, а кругом голод. Я понимаю, что вас злость берет.
Мамаша Кураж. Правильно, но как долго? Как долго вы не выносите несправедливости? Час или два? Вот видите, такого вопроса вы себе не задавали, а это самое главное, ведь горько вам будет в тюрьме, если вдруг окажется, что вы уже готовы примириться с несправедливостью.
Молодой солдат. Не знаю, почему я вас слушаю. Bouque la Madonne, где ротмистр?
Мамаша Кураж. Вы слушаете меня потому, что сами знаете, что злость ваша уже поостыла, это была короткая злость, а вам нужна злость надолго. Да где ее взять?
Молодой солдат. Вы хотите сказать, что требовать на водку не полагается?
Мамаша Кураж. Напротив. Я говорю только, что злости вашей надолго не хватит, что ничего вы с такой злостью не добьетесь. А жаль. Если бы вы разозлились надолго, я бы вас еще подзадорила. Изрубите эту собаку на куски — вот что я бы тогда вам посоветовала, да куда там, вы же не станете его рубить, вы все сами чувствуете, что уже поджали хвост. И я еще окажусь в ответе за вас перед ротмистром.
Пожилой солдат. Сущая правда, просто дурь в голову ударила.
Молодой солдат. Что ж, посмотрим, изрублю его или нет. (Вынимает меч из ножен.) Когда он придет, я его изрублю.
Писарь (выглядывает). Господин ротмистр сейчас придет. Сесть!
Молодой солдат садится.
Мамаша Кураж. Он уже сидит. Видите, а я что говорила. Вы уже сидите. Да, они нас знают и знают, как действовать. Сесть! И мы уже сидим. А кто сидит, тот не бунтует. Лучше не вставайте, не становитесь больше в ту позу, в которой вы стояли. Передо мной можете не стесняться, я сама не лучше, какое там. Они у всех у нас отняли нашу удаль. Еще бы, если я вякну, я наврежу своей торговле. Я расскажу вам сейчас кое-что о Великой капитуляции. (Поет «Песню о Великой капитуляции».)
Было время — я была невинна, Я на род людской глядела сверху вниз.Разве можно меня с моей внешностью, с моим талантом, с моим стремлением к высшему равнять с какой-нибудь другой бедной деревенской девчонкой!
Я не знала, что такое половина, И не знала слова «компромисс».Либо все, либо ничего, во всяком случае, не первого встречного, человек сам кует свое счастье, пожалуйста, не учите меня!
А скворец поет: Потерпи-ка с год! И, затаив свои мечты, Со всеми в ряд шагаешь ты. Увы, приходится шагать И ждать, ждать, ждать! Наступит час, настанет срок! Ведь человек же ты, не бог — Лучше промолчать! Но и год — не так уж это мало! Поступиться кое-чем пришлось и мне.Двое детей на шее, да цены на хлеб, нужно то, нужно другое!
На коленях я, глядишь, уже стояла И уже лежала на спине.Надо уметь ладить с людьми, рука руку моет, стену лбом не прошибешь.
А скворец поет: Перебейся год! И, затаив свои мечты, Со всеми в ряд шагаешь ты. Увы, приходится шагать И ждать, ждать, ждать! Наступит час, настанет срок! Ведь человек же ты, не бог — Лучше промолчать! Кое-кто пытался сдвинуть горы, С неба снять звезду, поймать рукою дым.Сильному все нипочем, терпенье и труд все перетрут, выдержим, выдюжим.
Но такие убеждались очень скоро, Что усилья эти не по ним.По одежке протягивай ножки.
А скворец поет: Потерпи, придет! И, затаив свои мечты, Со всеми в ряд шагаешь ты. Увы, приходится шагать И ждать, ждать, ждать! Наступит час, настанет срок! Ведь человек же ты, не бог — Лучше промолчать!(Молодому солдату.) Вот я и думаю, если тебе действительно невмоготу и злость у тебя большая, то тогда стой здесь, подняв меч, у тебя есть все основания злиться, что и говорить, но, если злость у тебя короткая, тогда лучше ступай отсюда!
Молодой солдат. Поцелуй меня в задницу. (Ковыляя, он покидает сцену, пожилой солдат идет за ним.)
Писарь (высовывает голову). Ротмистр пришел. Теперь можете жаловаться.
Мамаша Кураж. Я передумала. Я не буду жаловаться. (Уходит.)
5
Прошло два года. Война захватывает все новые пространства. Не зная отдыха, мамаша Кураж со своим фургончиком проходит Польшу, Моравию, Баварию, Италию и снова Баварию. 1631 год. Победа Тилли при Магдебурге стоит мамаше Кураж четырех офицерских сорочек.
Фургон мамаши Кураж стоит в разрушенной деревне. Издалека слабо доносится военная музыка. У стойки — два солдата, их обслуживают мамаша Кураж и Катрин. У одного солдата накинута на плечи дамская меховая шубка.
Мамаша Кураж. Что, платить нечем? Нет денег — нет водки. Победные марши играть они горазды, а нет чтоб солдатам жалованье выдать.
Солдат. Водки хочу. Я слишком поздно начал грабить. Командующий нас надул и отдал город на разграбление всего на один час. Я, говорит, не зверь; наверно, получил от города взятку.
Полковой священник (входит, прихрамывая). Во дворе лежат еще несколько человек. Крестьянская семья. Помогите мне кто-нибудь. Мне нужна холстина для повязок.
Второй солдат уходит с ним.
Катрин приходит в большое волнение и пытается выпросить у матери холстину для бинтов.
Мамаша Кураж. У меня нет ничего. Бинты я распродала в полку. Офицерские сорочки я рвать ради них не буду.
Полковой священник (кричит из глубины сцены). Говорю вам, мне нужна холстина.
Мамаша Кураж (садится на лесенку, чтобы Катрин не вошла в фургон). Не дам. Платить они не станут, у них нет ничего.
Полковой священник (склонившись над женщиной, которую он внес на руках). Почему вы не ушли, когда начался орудийный обстрел?
Крестьянка (слабым голосом). Хозяйство.
Мамаша Кураж. Разве эти люди что-нибудь бросят! А я так выкладывай. Нет, не дам.
Первый солдат. Это лютеране. С какой стати они лютеране?
Мамаша Кураж. Плевать им на веру. У них хозяйство пропало.
Второй солдат. Никакие они не лютеране. Они-то сами католики.
Первый солдат. Когда идет обстрел, как их рассортируешь.
Крестьянин (его приводит священник). Пропала моя рука.
Полковой священник. Где холст?
Все смотрят на мамашу Кураж, та не шевелится.
Мамаша Кураж. Не могу ничего дать. Всякие налоги, пошлины, проценты, взятки!
Катрин, издавая нечленораздельные гортанные звуки, поднимает с земли доску и замахивается на мать.
Рехнулась ты, что ли? Положи сейчас же доску, дрянь ты этакая, а то отлуплю! Не дам, не могу, я должна о себе самой подумать.
Полковой священник снимает ее с лесенки и сажает на землю; затем он достает сорочки и разрывает их на узкие полоски.
Мои сорочки! Полгульдена штука! Меня разорили!
Из хижины доносится жалобный детский голос.
Крестьянин. Там еще дитя.
Катрин бежит в хижину.
Полковой священник (крестьянке). Лежи! Без тебя уж вытащат.
Мамаша Кураж. Остановите ее, крыша может обвалиться.
Полковой священник. Я больше туда не войду.
Мамаша Кураж (мечется). Не разбрасывайтесь дорогим бельем!
Второй солдат сдерживает ее. Появляется Катрин с грудным ребенком, которого она вынесла из развалин.
Снова нашла себе сосунка, чтобы с ним нянчиться? Сейчас же отдай его матери, слышишь, не то мне снова придется битый час драться с тобой, пока не вырву его у тебя из рук! (Второму солдату.) Нечего глаза пялить, пойди лучше и скажи им, чтобы прекратили музыку, я и так вижу, что они победили. У меня только убытки от ваших побед.
Полковой священник (накладывая повязку). Кровь просачивается.
Катрин укачивает младенца, бормоча что-то похожее на колыбельную песню.
Мамаша Кураж. Смотрите на нее, она уже счастлива среди всего этого горя. Сейчас же отдай ребенка, мать уже приходит в себя. (Замечает, что первый солдат пристроился к водке и, теперь хочет удрать с бутылкой.) Пся крев! Ах ты, скотина, ты хочешь побеждать дальше? Плати!
Первый солдат. У меня нет ничего.
Мамаша Кураж (срывает с него шубку). Тогда давай шубу, она все равно краденая.
Полковой священник. Там под обломками еще один.
«Мамаша Кураж»
6
Близ города Ингольштадта в Баварии Кураж присутствует на похоронах главнокомандующего императорских войск Тили. Идут разговоры о героях войны и о длительности войны. Полковой священник сетует на то, что его способности пропадают втуне, немая Катрин получает красные туфельки.1632 год.
Внутри маркитантской палатки с питейной стойкой в задней стене. Дождь. Вдалеке — бой барабанов и траурная музыка.
Полковой священник и писарь играют в шашки. Мамаша Кураж и Катрин заняты инвентаризацией.
Полковой священник. Сейчас похоронная процессия трогается.
Мамаша Кураж. Жалко главнокомандующего — двадцать две пары носков, — говорят, он погиб из-за несчастного случая. Всему виной был туман на лугу. Главнокомандующий призвал еще один полк сражаться, не боясь смерти, а потом поскакал назад, но из-за тумана ошибся в направлении: оказалось, что он поскакал не назад, а вперед, в самое пекло боя, где и попал под пулю — свечей только четыре осталось.
В глубине сцены свистят.
(Идет к стойке.) Позор, вы уклоняетесь от похорон вашего погибшего главнокомандующего! (Наполняет стаканы.)
Писарь. Не следовало до похорон выплачивать жалованье. Теперь они пьянствуют, вместо того чтобы идти на похороны.
Полковой священник (писарю). А вам не нужно идти на похороны?
Писарь. Я уклонился из-за дождя.
Мамаша Кураж. Вы — это другое дело, дождь может испортить ваш мундир. Говорят, в его честь хотели, конечно, звонить в колокол, но оказалось, что по его приказу церкви разбиты снарядами, так что бедный главнокомандующий не услышит колокольного звона, ложась в могилу. Дадут три залпа из орудий взамен, чтобы не совсем уж будничная была обстановка — семнадцать ремней.
Голоса у стойки. Хозяйка! Водки!
Мамаша Кураж. Сначала деньги! Нет, в палатку я вас с вашими грязными сапожищами не пущу! Пейте себе на улице, мало ли что дождь. (Писарю.) Я только командиров пускаю! Говорят, в последнее время у главнокомандующего были заботы. Будто во втором полку пошли беспорядки, потому что он не выдал им жалованье, а сказал, что война идет за веру и они должны воевать даром.
Похоронный марш. Все смотрят в глубину сцены.
Полковой священник. Сейчас они проходят торжественным маршем перед верховным покойником.
Мамаша Кураж. Мне жаль такого вот полководца или императора, он, может быть, думал, что совершает подвиг, о котором будут говорить и после его смерти и за который ему памятник поставят, например, он завоевывает весь мир, для полководца это великая цель, ничего лучшего, по его разумению, не может быть. Одним словом, он из кожи вон лезет, а потом все идет прахом из-за простонародья, которому, может быть, только и нужно, что кружку пива да небольшую компанию, а не что-то там великое. Самые прекрасные планы расстраивались из-за ничтожества тех, кто должен был их выполнять, ведь император ничего не может сделать сам, ему нужна поддержка солдат и народа, среди которого он случайно оказался, разве я не права?
Полковой священник (со смехом). Кураж, я во всем с вами согласен, только вот насчет солдат вы не правы. Они делают все, что в их силах. С теми солдатами, например, что сейчас пьют водку под дождем, я берусь в течение ста лет вести одну войну за другой и даже, если понадобится, две сразу, а ведь я никакой не полководец по образованию.
Мамаша Кураж. Значит, вы думаете, что война не кончится?
Полковой священник. Из-за смерти-то главнокомандующего? Не будьте ребенком. Таких найдется дюжина, в героях никогда не бывает недостатка.
Мамаша Кураж. Послушайте, это не просто ехидный вопрос, я думаю, закупить мне еще товару или нет, сейчас как раз можно купить по дешевке, но, если война кончится, запасы мне ни к чему.
Полковой священник. Я понимаю, что вы спрашиваете всерьез. Всегда встретишь людей, которые говорят: «Когда-нибудь война кончится». А я скажу: нигде не сказано, что война когда-нибудь кончится. Конечно, может наступить небольшой перерыв. Возможно, что войне нужно будет перевести дух или ей даже, так сказать, не повезет. От этого она не застрахована, ведь нет ничего совершенного в этом мире. Вероятно, и совершенной войны, такой, о которой можно сказать, что уж к ней-то не придерешься, тоже никогда не будет. Смотришь, из-за чего-нибудь непредвиденного она вдруг и застопорится, всего человек не может учесть. Скажем, какой-нибудь недосмотр, и вся музыка испорчена. Потом иди, вытягивай войну из дерьма, в котором она увязла! Но императоры, короли и папа придут ей на помощь, они не оставят ее в беде. Так что, в общем, никакие серьезные опасности ей не грозят и впереди у нее долгая жизнь.
Солдат (поет у стойки).
Хозяин, водки дай хлебнуть: Солдат спешит в далекий путь, За веру будем биться!Двойную порцию ради праздника!
Мамаша Кураж. Если бы вам можно было верить…
Полковой священник. Судите сами! Что может помешать войне?
Солдат (поет).
Эй, баба, дай пощупать грудь! В Моравию мы держим путь, Нам нужно торопиться.Писарь (неожиданно). А мир, как же будет с миром? Я из Богемии и хотел бы заодно вернуться домой.
Полковой священник. Вот как? Да, мир! Что станется с дырками, когда сыр сожрут?
Солдат (поет в глубине сцены).
Дружок, пора откозырнуть. Солдат спешит в далекий путь, Он верит офицеру. Эй, поп, молитву не забудь. Солдат спешит в далекий путь, Чтоб умереть за веру.Писарь. Нельзя жить без мира долго.
Полковой священник. Я бы сказал, что мир есть и во время войны, у войны есть свои мирные уголки. Война удовлетворяет все потребности, в том числе и мирные, об этом уж позаботились, иначе бы война долго не продержалась. Во время войны ты можешь испражняться с таким же успехом, как в самое спокойное мирное время, между двумя боями можно выпить кружку пива, и даже во время наступления можно вздремнуть, почему нет, примостившись где-нибудь в канаве. Конечно, во время атаки нельзя играть в карты, но ведь и во время пахоты среди полного мира тоже не поиграешь, зато после победы это вполне возможно. Тебе, скажем, оторвет ногу, ты сначала поднимешь крик, словно что-то случилось, а потом ты успокоишься или тебе дадут водки, в конце концов ты кое-как ковыляешь, а войне от этого горя мало. И кто мешает тебе размножаться среди всей этой резни и кровопролитья, за сараем или еще где-нибудь, ведь от этого тебя не удержишь надолго. Нет, война всегда найдет себе выход, да еще какой. Почему же ей прекращаться?
Катрин перестает работать и во все глаза смотрит на полкового священника.
Мамаша Кураж. Значит, я закуплю товару. Полагаюсь на вас.
Катрин вдруг бросает на землю корзинку с бутылками и выбегает из палатки.
Катрин! (Смеется.) Боже мой, она ведь ждет мира. Я обещала ей, что, когда наступит мир, у нее будет муж. (Бежит за ней.)
Писарь (вставая). Я выиграл, потому что вы разговаривали. Вам платить.
Мамаша Кураж (входит с Катрин). Будь умницей, война еще немного продлится, а мы еще сколотим немного денег, и мир от этого будет только лучше. Сходи-ка ты сейчас в город, тут не больше десяти минут ходьбы, и возьми товар в трактире «Золотой Лев», самое ценное ты захватишь с собой, а за остальным мы потом заедем с фургоном, я обо всем договорилась, тебя проводит господин писарь. Почти все ушли на похороны командующего, так что опасаться тебе некого. Ну, иди с богом, смотри, чтобы тебя не ограбили, думай о своем приданом!
Катрин накидывает на голову кусок холста и уходит с писарем.
Полковой священник. Вы не боитесь отпускать ее с писарем?
Мамаша Кураж. Она не настолько красива, чтобы кому-нибудь пришло в голову ее испортить.
Полковой священник. Я много раз восхищайся вашим умением вести дела и выходить из любого положения. Понимаю, почему вас назвали Кураж.
Мамаша Кураж. Кураж, смелость — вот что нужно бедным людям. Иначе их дело пропащее. Для того чтобы в их положении вставать по утрам, уже нужна смелость. Или чтобы перепахать поле, да еще во время войны! Одно то, что они производят на свет детей, уже говорит об их смелости, потому что впереди у них ничего нет. Они должны быть палачами друг другу и отправлять друг друга на тот свет, тогда как им хочется смотреть друг другу в глаза, для этого, конечно, нужна смелость, нужен кураж. И то, что они терпят императора и папу, это тоже доказывает их жуткую смелость, потому что за этих господ они платятся жизнью. (Садится, достает из кармана маленькую трубку и закуривает.) Вы бы накололи дров.
Полковой священник (с неудовольствием снимает куртку, готовясь колоть дрова). Я, собственно, наставник душ, а не дровосек.
Мамаша Кураж. Души у меня нет. А вот дрова мне нужны.
Полковой священник. Что это у вас за трубочка?
Мамаша Кураж. Обыкновенная трубка.
Полковой священник. Нет, не «обыкновенная», а вполне определенная.
Мамаша Кураж. Вот как?
Полковой священник. Это трубка повара из войска Оксеншерны.
Мамаша Кураж. Если знаете, зачем лицемерить и спрашивать?
Полковой священник. Потому что я не знал, сознательно ли вы курите именно эту трубку. Ведь могло же быть и так, что вы рылись в вещах, наткнулись на какую-то трубку и взяли ее просто по рассеянности.
Мамаша Кураж. А может, так оно и было?
Полковой священник. Нет, не так. Вы курите ее сознательно.
Мамаша Кураж. Ну, а если сознательно, то что?
Полковой священник. Кураж, я вас предостерегаю. Это мой долг. Вряд ли случится вам увидеть ее владельца, но это не беда, это ваше счастье. Он не произвел на меня впечатления положительного человека. Напротив.
Мамаша Кураж. Вот как? Он показался мне славным человеком.
Полковой священник. Ах, вот какие люди кажутся вам славными? Мне — нет. Я совсем не желаю ему зла, но славным человеком я его никак не могу назвать. Я бы скорее назвал его донжуаном, и притом изощренным. Посмотрите получше на его трубку, если вы мне не верите. Вы должны признать, что она выдает его характер.
Мамаша Кураж. Ничего не вижу. Старая трубка, и все.
Полковой священник. Он ее наполовину прокусил. Поработитель. Это трубка беспощадного поработителя, вот что вы можете по ней прочесть, если вы еще не окончательно потеряли рассудок.
Мамаша Кураж. Смотрите не расколите мне пенек.
Полковой священник. Я же вам сказал, что я по образованию не дровосек. Меня учили наставлять души, а не колоть дрова. Здесь пренебрегают моими дарованиями и способностями, заставляя меня выполнять физическую работу. Таланты, данные мне богом, вообще не проявляются. Это грех. Вы не слышали моих проповедей. Одной речью я могу привести целый полк в такое настроение, что на неприятельское войско он смотрит как на стадо баранов. Солдатам собственная их жизнь кажется старой провонявшей половой тряпкой, которую они готовы вышвырнуть при мысли о конечной победе. Бог наградил меня даром слова. Моя проповедь может ослепить вас и оглушить.
Мамаша Кураж. Я совсем не хочу этого. Что мне делать слепой и глухой?
Полковой священник. Кураж, я часто думал, не скрывается ли за вашими трезвыми речами горячее сердце. Вы ведь тоже человек, и вам нужно тепло.
Мамаша Кураж. Чтобы в палатке было тепло, нужно заготовить достаточно дров.
Полковой священник. Вы переводите разговор на другое. Серьезно, Кураж, я часто спрашиваю себя, что было бы, если бы наши отношения стали немного ближе. Ведь ураган войны так странно сплел наши судьбы.
Мамаша Кураж. Я думаю, что у нас и так достаточно близкие отношения. Я варю вам обед, а вы работаете, например, колете дрова.
Полковой священник (подходит к ней вплотную). Вы знаете, о каких близких отношениях я говорю; здесь ни при чем дрова и обед и прочие низменные потребности. Пусть заговорит ваше сердце, не заглушайте его голоса.
Мамаша Кураж. Не подходите ко мне с топором. Это были бы уж слишком близкие отношения.
Полковой священник. Не превращайте это в шутку. Я человек серьезный, я думаю, когда говорю.
Мамаша Кураж. Священник, будьте благоразумны. Вы мне симпатичны, я не хотела бы вас отчитывать. Единственное мое стремление — это прокормить себя и своих детей с помощью фургона. Я его не считаю своим, и мне сейчас не до личных радостей. Как раз сейчас я иду на риск, я закупаю товар, хотя главнокомандующий убит и кругом говорят о мире. Куда вы денетесь, если я разорюсь? Видите, вы сами не знаете. Наколите-ка нам дров, тогда вечером у нас будет тепло, а это уже немало по нашим временам. Что такое? (Встает.)
Входит Катрин, она едва дышит, у нее рана на лбу, над глазом. Она тащит кучу разных вещей, свертки, кожаные изделия, барабан и т. п.
Что такое, на тебя напали? На обратном пути? На нее напали на обратном пути! Наверно, это был кавалерист, который здесь нализался! Не следовало мне тебя посылать. Брось эти вещи! Ничего страшного, кость не задета. Я перевяжу рану, и через неделю все заживет. Они хуже зверей. (Перевязывает рану.)
Полковой священник. Я их ни в чем не упрекаю. У себя дома они не насильничали. Виноваты те, кто затеял войну, самое низкое в человеке они извлекают на поверхность.
Мамаша Кураж. Разве писарь не стал провожать тебя обратно? Ты порядочная девушка, вот они и не увиваются за тобой. Рана неглубокая, и следа от нее не останется. Ну вот, перевязала. Ничего, сейчас ты получишь подарок. Я кое-что тебе приберегла, сейчас увидишь. (Достает из мешка красные туфельки Иветты Потье.) Видала? Тебе они всегда нравились. Возьми их себе. Скорее надень их, чтобы я не передумала. (Помогает ей надеть туфли.) Следа не останется, а по мне, хоть бы и остался. Беда тем, кто им нравится. Те как пойдут по рукам, так и пиши пропало. Кто им не по вкусу, тем они хоть жить дают. Видала я смазливеньких, их быстро приводили в такой вид, что волк, и тот испугался бы. За каждым деревом их подстерегает опасность, у них ужасная жизнь. Вот так же и с деревьями — стройные, прямые валят на стропила, а кривые остаются и живут себе. Так что это тебе просто повезло. Ботинки еще крепкие, я их смазала жиром, перед тем как спрятать.
Катрин ставит туфли на землю и забирается в фургон.
Полковой священник. Надо надеяться, это ее не изуродует.
Мамаша Кураж. Шрам останется. Теперь ей нечего ждать мира.
Полковой священник. Вещи она не отдала.
Мамаша Кураж. Наверно, мне не нужно было твердить ей об этом так настойчиво. Если бы я знала, что творится у нее в голове? Один только раз она где-то пропадала всю ночь, один-единственный за все эти годы. Потом она была опять такая же, как прежде, только работала больше. Так мне и не удалось узнать, что она пережила. Я долго ломала себе голову. (Со злостью разбирает товар, принесенный Катрин.) Вот она, война! Чудный источник дохода, нечего сказать!
Слышны орудийные залпы.
Полковой священник. Сейчас опускают в могилу главнокомандующего. Это исторический момент.
Мамаша Кураж. Для меня это исторический момент, потому что мою дочь обезобразили. Она уже наполовину конченый человек, мужа она теперь не найдет, а она так любит детей, немая она тоже только из-за войны: когда она была совсем маленькая, один солдат чем-то набил ей рот. Швейцеркаса своего я больше не увижу, а где теперь Эйлиф, один бог ведает. Будь проклята война.
7
Мамаша Кураж на вершине делового успеха.
Проселочная дорога. Мамаша Кураж, Катрин и полковой священник тянут фургон, увешанный новым товаром. На шее у мамаши Кураж — связка серебряных талеров.
Мамаша Кураж. Вы не убедите меня, что война — это дерьмо. Верно, она уничтожает слабых, но они и в мирное время погибают. Зато своих людей она кормит лучше. (Поет.)
Кому в войне не хватит воли, Тому победы не видать. Коль торговать, не все равно ли, Свинцом иль сыром торговать?А какой толк отсиживаться? Кто отсиживается, тот первый и гибнет. (Поет.)
Иной хитрит, юлит, хлопочет, Вовсю противится судьбе, Себе нору он вырыть хочет — Могилу роет он себе. И кто спешит от шума боя Укрыться, не жалея сил, Тот в царстве вечного покоя Пускай поймет, куда спешил.Они продолжают путь.
8
В том же году в битве при Лютцене погибает шведский король Густав-Адольф. Мир грозит мамаше Кураж разорением. Смелый сын мамаши Кураж совершает на один подвиг больше, чем требовалось, и бесславно заканчивает свою жизнь.
Бивак. Летнее утро. Перед фургоном стоят старуха и ее сын. У сына — большой мешок с постельными принадлежностями.
Голос мамаши Кураж (из фургона). Неужели это такое дело, из-за которого нужно беспокоить людей ни свет ни заря?
Молодой человек. Мы за ночь прошли двадцать миль пешком, и нам нужно сегодня же вернуться обратно.
Голос мамаши Кураж. Что я буду делать с вашими перинами? У людей нет домов.
Молодой человек. Вы сначала посмотрите.
Старуха. Здесь тоже ничего не выйдет. Пошли!
Молодой человек. Тогда у нас не будет крыши над головой, в счет налога заберут дом. Может быть, она и заплатит три гульдена, если ты еще дашь крестик в придачу.
Раздается колокольный звон.
Послушай-ка, мать!
Голоса (в глубине сцены). Мир! Шведский король убит!
Мамаша Кураж (высовывает голову из фургона. Она еще не причесана). Что за трезвон среди недели?
Полковой священник (вылезает из-под фургона). Что они кричат?
Мамаша Кураж. Недоставало только, чтобы объявили мир, как раз когда я купила новую партию товара.
Полковой священник (кричит в глубину сцены). Что, правда мир?
Голос. Говорят, уже три недели, как подписали, а мы и не знали.
Полковой священник (Кураж). А с чего бы им еще звонить в колокола?
Голос. В городе уже полно лютеран, приехали на повозках, от них и узнали.
Молодой человек. Мать, слышишь, мир! Что с тобой?
Старуха в обмороке.
Мамаша Кураж (скрываясь в фургоне). Иосиф-Мария! Катрин, мир! Оденься в черное! Мы пойдем в церковь. Это наш долг перед Швейцеркасом. Неужели это правда?
Молодой человек. Так люди здесь говорят. Значит, мир. Ты можешь встать?
Старуха встает как оглушенная.
Теперь снова заработает моя шорная мастерская. Обещаю тебе. Все наладится. Отцу мы вернем его постель. Ты можешь идти? (Полковому священнику.) Ей стало нехорошо. Это от новостей. Она уже не верила, что наступит мир. А отец всегда говорил, что наступит. Пойдем домой.
Уходят.
Голос мамаши Кураж. Дайте ей водки!
Полковой священник. Они уже ушли.
Голос мамаши Кураж. Что сейчас там, в лагере?
Полковой священник. Все сбегаются. Пойду взгляну. Не надеть ли мне пасторский сюртук?
Голос мамаши Кураж. Сначала разузнайте все как следует, а потом уже объявляйтесь антихристом. Я рада миру, хотя я и разорена. По крайней мере, двое детей у меня выжили в войне. Теперь я увижу своего Эйлифа.
Полковой священник. Кто это идет сюда из лагеря? Клянусь, это повар командующего!
Повар (вид у него потрепанный, в руках — узелок). Кого я вижу? Его преподобие!
Полковой священник. Кураж, у нас гость!
Мамаша Кураж вылезает из фургона.
Повар. Я же обещал, что как только у меня будет время, я приду побеседовать. Я не забыл вашей водки, госпожа Фирлинг.
Мамаша Кураж. Иисусе, повар командующего? Сколько лет прошло! Где Эйлиф, мой старший?
Повар. Разве его еще нет здесь? Он вышел раньше меня и тоже собирался к вам.
Полковой священник. Я надену пасторский сюртук, погодите. (Скрывается за фургоном.)
Мамаша Кураж. Значит, он будет здесь с минуты на минуту. (Кричит в фургон.) Катрин, сейчас Эйлиф придет! Вынеси стаканчик водки повару, Катрин!
Катрин не показывается.
Пригладь немножко волосы, и ладно! Господин Ламб свой человек. (Сама выносит водку.) Она не хочет выходить, что ей мир. Слишком долго его пришлось ждать. Ей лоб расквасили, теперь уже почти незаметно, но ей кажется, что все на нее глаза таращат.
Повар. Да, война!
Он и мамаша Кураж садятся.
Мамаша Кураж. Повар, вы застали меня в беде. Я разорилась.
Повар. Что? Вот так незадача.
Мамаша Кураж. На мире я сломала себе шею. По совету священника я недавно как раз закупила товара. Теперь все разбредутся, а я буду сидеть со своим товаром.
Повар. Как можно слушаться священника? Если бы у меня тогда было время — католики пришли слишком быстро, — я бы вас предостерег от него. Это гнида. Так, значит, он у вас главный советчик.
Мамаша Кураж. Он мыл посуду и помогал тянуть фургон.
Повар. Это он-то — и тянуть?! Он, наверно, уже рассказал вам свои любимые анекдоты, у него грязное отношение к женщине, мне так и не удалось повлиять на него. Он не солидный человек.
Мамаша Кураж. А вы солидный?
Повар. Пусть я никто, но я человек солидный. Ваше здоровье!
Мамаша Кураж. Солидность — нужна она больно. У меня, слава богу, был только один солидный. Никогда мне столько не приходилось работать, а весной он продал одеяльца детей. Мою губную гармонику он находил варварской. По-моему, если вы называете себя солидным человеком, вы плохо себя рекомендуете.
Повар. Вы все так же остры на язык, но я вас за это ценю.
Мамаша Кураж. Только не говорите теперь, что вы мечтали попасться мне на язык!
Повар. Да, такие-то дела, мы снова сидим вместе, и мирный звон, и ваша знаменитая водка, ни у кого такой не найдешь…
Мамаша Кураж. От мирного звона мне сейчас мало радости. Не думаю, чтобы теперь стали платить солдатам за прошлое, вот и буду я хороша со своей знаменитой водкой. Вам разве выплатили все, что положено?
Повар (мнется). Не то чтобы. Поэтому мы и разбрелись. Видя такую обстановку, я подумал: что я буду здесь торчать, лучше схожу навещу друзей. И вот я сижу возле вас.
Мамаша Кураж. Значит, у вас ничего нет.
Повар. Лучше бы они перестали трезвонить. Это правда, позвонили, и хватит. Я, пожалуй, занялся бы какой-нибудь торговлей. Надоело ходить у них в поварах. Сочиняешь им обед из сапожной кожи да корешков, а потом они еще плеснут горячим супом тебе же в морду. У поваров теперь собачья жизнь. Лучше уж в строй, да черта с два, теперь ведь мир.
Появляется полковой священник. Он в своей прежней одежде.
Мы поговорим об этом после.
Полковой священник. Еще послужит, хотя немного и тронут молью.
Повар. По-моему, зря стараетесь. Места вы теперь не получите, кого вы будете теперь убеждать, что нужно честно служить и сложить голову в окопе? И вообще мне нужно будет с вами еще объясниться, поскольку вы посоветовали этой даме закупить ненужный товар, внушив ей, что война будет длиться вечно.
Полковой священник (с жаром). А вам какое дело?
Повар. Это же бессовестно! Как вы смеете вмешиваться в чужие дела и давать никому не нужные советы?
Полковой священник. Кто вмешивается в чужие дела? (Мамаше Кураж.) Я не знал, что вы такая близкая приятельница этого господина и обязаны отчитываться перед ним.
Мамаша Кураж. Не волнуйтесь, повар высказал только свое личное мнение, а вы не можете отрицать, что ваша война — это пустой номер.
Полковой священник. Грешно не радоваться миру, Кураж! Вы гиена, которая рыщет по полю боя.
Мамаша Кураж. Кто я?
Повар. Вы оскорбили мою приятельницу, и вам придется иметь дело со мной.
Полковой священник. С вами я не желаю говорить. У вас слишком прозрачные намерения. (Мамаше Кураж.) Но когда я вижу, что вы смотрите на мир, как на старый засморканный платок, который из брезгливости берут двумя пальцами — большим и указательным, — я по-человечески возмущаюсь; ведь я же вижу, что вы не хотите мира, что вам нужна война, потому что вы на ней наживаетесь. Но не забывайте старой пословицы: «Хочешь завтракать с чертом — припасай длинную ложку!»
Мамаша Кураж. Я не люблю войны, и она меня не очень-то любит. Во всяком случае, я не позволю называть себя гиеной, между нами все кончено.
Полковой священник. Почему же вы жалуетесь на мир, когда все люди вздохнули? Из-за какого-то несчастного барахла в вашем фургоне?
Мамаша Кураж. Мой товар — это не барахло, он меня кормит, и до сих пор он кормил вас.
Полковой священник. Значит, вас кормит война! Ага!
Повар (священнику). Вы взрослый человек, и нечего было вам лезть со своими советами. (Кураж.) Сейчас самое лучшее поскорее сбыть хотя бы часть, пока цены еще не упали так, что дальше некуда. Одевайтесь и действуйте, нельзя терять ни минуты!
Мамаша Кураж. Вот это разумный совет. Кажется, я так и поступлю.
Полковой священник. Потому что это сказал повар!
Мамаша Кураж. А кто мешал вам это сказать? Он прав, самое лучшее — пойти на рынок. (Скрывается в фургоне.)
Повар. Очко в мою пользу, священник. Вы не находчивы. Вам нужно было сказать: «Что, разве я давал вам совет? Я же просто рассуждал о политике!» Со мной вам лучше не тягаться. Петушиные бои вашему одеянию не подобают!
Полковой священник. Если вы не замолчите, я убью вас, подобает это мне или не подобает.
Повар (стягивая с себя сапоги и разматывая портянки). Если бы вы так безбожно не опустились, вы бы легко могли теперь, когда наступил мир, получить приход. Повара не будут нужны, варить нечего, а в бога верить все еще будут, тут ничего не изменилось.
Полковой священник. Господин Ламб, я прошу вас не выдворять меня отсюда. С тех пор как я опустился, я стал лучше как человек. Теперь я уже не смог бы читать проповеди.
Входит Иветта Потье, в черном платье, очень нарядная, с тростью. Она постарела, растолстела, густо напудрена. За ней слуга.
Иветта. Оля-ля, привет честной компании! Не фургон ли это мамаши Кураж?
Полковой священник. Совершенно верно. С кем имеем удовольствие?
Иветта. С полковницей Штархемберг, люди добрые. Где Кураж?
Полковой священник (кричит в фургон). Вас хочет видеть полковница Штархемберг!
Голос мамаши Кураж. Сейчас выйду!
Иветта. Я Иветта!
Голос мамаши Кураж. Ах, Иветта!
Иветта. Я только посмотреть, как вы живете!
Повар в ужасе отворачивается.
Питер!
Повар. Иветта!
Иветта. Вот так сюрприз! Как ты сюда попал?
Повар. На повозке.
Полковой священник. Ах, вы знакомы друг с другом? И близко?
Иветта. Пожалуй. (Она рассматривает повара.) Какой жирный!
Повар. Да и ты уже не из стройненьких.
Иветта. Все же хорошо, что я тебя встретила, босяк. Теперь я могу тебе сказать все, что я о тебе думаю.
Полковой священник. Пожалуйста, скажите все-все, только подождите, пока выйдет Кураж.
Мамаша Кураж (выходит, нагруженная товаром). Иветта!
Они обнимаются.
Почему ты в трауре?
Иветта. Что, разве мне не идет? Мой муж, полковник, умер несколько лет назад.
Мамаша Кураж. Тот самый старик, который чуть не купил мой фургон?
Иветта. Нет, его старший брат.
Мамаша Кураж. Тебе очень идет. Хоть один человек чего-то добился в войну.
Иветта. Всякое бывало: сначала хорошо, потом плохо, потом опять хорошо.
Мамаша Кураж. Не будем поминать лихом полковников, у них денег куры не клюют.
Полковой священник (повару). На вашем месте я бы снова обулся. (Иветте.) Вы обещали сказать все, что вы думаете об этом господине, госпожа полковница.
Повар. Иветта, не склочничай здесь.
Мамаша Кураж. Это мой друг, Иветта.
Иветта. Это и есть Питер с трубкой.
Повар. Долой клички! Моя фамилия Ламб.
Мамаша Кураж (смеется). Питер с трубкой! От которого бабы с ума сходили! Знаете, я сохранила вашу трубку.
Полковой священник. И покуривала ее!
Иветта. Просто счастье, что я могу вас предостеречь. Это самый гнусный из всех, кто разгуливал по берегам Фландрии. Ему бы пальцев не хватило перечесть женщин, которых он сделал несчастными.
Повар. Это было давно. Теперь это уже дело прошлое.
Иветта. Встань, когда с тобой разговаривает дама! Как я любила этого человека! А у него тогда же была еще одна черненькая — такая кривоногая, ее он, конечно, тоже сделал несчастной.
Повар. Ну, тебя-то я сделал скорее счастливой, как я погляжу.
Иветта. Замолчи, развалина несчастная! Берегитесь его, такой и дряхлый опасен!
Мамаша Кураж (Иветте). Пойдем со мной, мне нужно сбыть эти вещи, пока не упали цены. Может быть, ты сумеешь мне помочь в полку, у тебя связи. (Кричит в фургон.) Катрин, церковь отменяется, я иду на рынок. Если тут придет Эйлиф, дайте ему выпить. (Уходит с Иветтой.)
Иветта (уходя). Подумать только, что из-за этого человека я когда-то сбилась с пути! Только благодаря счастливой звезде мне снова удалось подняться. Но что я положила конец твоим проделкам, это мне еще на том свете зачтется, Питер с трубкой.
Полковой священник. Основой для нашей беседы, по-моему, может служить изречение: «Бог долго ждет, да больно бьет». А вы отказываете мне в остроумии!
Повар. Мне не везет. Сказать по правде, я рассчитывал на горячий обед. Я изголодался, а теперь они говорят про меня, и она получит обо мне неверное представление. Думаю, что мне лучше исчезнуть до того, как она вернется.
Полковой священник. Я тоже так думаю.
Повар. Мир мне уже снова осточертел. Человечество должно погибнуть от огня и меча, оно с пеленок греховно. Хотел бы я сейчас жарить командующему — бог его знает, где он теперь, — жирного каплуна, а к каплуну бы горчичного соуса и немного моркови.
Полковой священник. Красной капусты. К каплуну — красной капусты.
Повар. Это верно. Но он любил морковь.
Полковой священник. Ничего он не смыслил.
Повар. Вы жрали у него за обе щеки.
Полковой священник. С отвращением.
Повар. Все равно, признайте, что это были не такие уж плохие времена.
Полковой священник. Может быть, придется и признать.
Повар. После того как вы назвали ее гиеной, здесь вам уже не дождаться лучших времен. Куда это вы уставились?
Полковой священник. Эйлиф!
Входит Эйлиф, за ним идут конвоиры. На Эйлифе наручники, он бледен как мел.
Что с тобой?
Эйлиф. Где мать?
Полковой священник. Ушла в город.
Эйлиф. Я слышал, что она здесь. Мне разрешили повидаться с ней.
Повар (солдатам). Куда вы его ведете?
Солдат. Лучше бы ему туда не идти.
Полковой священник. Что он сделал?
Солдат. Ворвался в дом к крестьянину. Хозяйка приказала долго жить.
Полковой священник. Как же ты мог сделать такое?
Эйлиф. Я и до этого ничего другого не делал.
Повар. Но сейчас мир.
Эйлиф. Замолчи. Можно мне посидеть, пока она придет?
Солдат. У нас нет времени.
Полковой священник. Во время войны его за это превозносили, он сидел по правую руку от командующего. Тогда это считалось смелостью! Нельзя ли поговорить с профосом, ведь приговор от него зависит.
Солдат. Бесполезно. Отнять у крестьянина скотину — какая же тут смелость?
Повар. Это была глупость!
Эйлиф. Если бы я был глупый, я давно бы умер с голоду, слышишь ты, умник дерьмовый.
Повар. А за то, что ты умный, у тебя слетит голова.
Полковой священник. Надо хоть Катрин позвать.
Эйлиф. Пускай себе сидит в фургоне! Дай лучше хлебнуть водки.
Солдат. Некогда, пошли!
Полковой священник. Что нам сказать твоей матери?
Эйлиф. Скажи ей, что ничего другого и не было, скажи ей, что так я и жил. Или лучше ничего не говори.
Солдаты подталкивают его.
Полковой священник. Я пойду с тобой, я не оставлю тебя одного на этом тяжелом пути.
Эйлиф. Попа мне не нужно.
Полковой священник. Этого ты еще не знаешь. (Идет за ним.)
Повар (кричит им вслед). Мне придется ей рассказать, она захочет увидеть его!
Полковой священник. Лучше ничего не говорите. Разве только, что он был здесь и опять придет, может быть, завтра. Тем временем я вернусь и смогу ее подготовить. (Поспешно уходит.)
Повар глядит им вслед и качает головой, потом он начинает беспокойно шагать взад-вперед. Наконец он подходит к фургону.
Повар. Эгей! Не угодно ли выйти? Я понимаю, что вы спрятались от мира. Я бы тоже не прочь спрятаться. Я повар главнокомандующего, вы меня помните? Не найдется ли у вас чего-нибудь перекусить в ожидании вашей матушки? Я съел бы, пожалуй, кусок сала или даже хлеба, только чтобы время скоротать. (Заглядывает в фургон.) Укрылась с головой.
Из глубины сцены доносится канонада.
Мамаша Кураж (вбегает запыхавшись, товар при ней). Повар, мир опять уже кончился! Уже три дня снова война. Я узнала это раньше, чем успела спустить товар. Слава богу! В городе — перестрелка с лютеранами. Нужно сматываться с фургоном! Катрин, собирай вещи! Почему вы смутились? Что случилось?
Повар. Ничего.
Мамаша Кураж. Нет, что-то неладно. Я вижу по лицу.
Повар. Это, наверно, оттого, что опять война. Теперь мне, наверно, до завтрашнего вечера не поесть горячего.
Мамаша Кураж. Врете, повар.
Повар. Здесь был Эйлиф. Но он очень торопился.
Мамаша Кураж. Эйлиф был здесь? Ну, мы его увидим на марше. Теперь я пойду с нашими. Как он выглядит?
Повар. Как всегда.
Мамаша Кураж. Он никогда не изменится. Уж его-то войне не удалось у меня отнять. Он не дурак. Вы не поможете мне собрать вещи? (Принимается укладывать товар.) Что он рассказывает? У него по-прежнему хорошие отношения с командующим? Он ничего не говорил о своих подвигах?
Повар (мрачно). Один из своих подвигов он, как я понял, повторил.
Мамаша Кураж. Потом расскажете, пора двигаться.
Появляется Катрин.
Катрин, мира уже снова как не бывало. Мы уходим отсюда. (Повару.) А вы куда подадитесь?
Повар. Я завербуюсь в армию.
Мамаша Кураж. Я предлагаю вам… где священник?
Повар. Он пошел в город с Эйлифом.
Мамаша Кураж. Тогда проводите нас немного, Ламб. Мне нужна помощь.
Повар. История с Иветтой…
Мамаша Кураж. Она не повредила вам в моих глазах. Наоборот. Как говорится, где огонь, там и чад. Так что же, пойдете с нами?
Повар. Я не отказываюсь.
Мамаша Кураж. Двенадцатый уже выступил. Становитесь у дышла. Вот вам кусок хлеба. Мы тихонько пристроимся к лютеранам. Может быть, я еще сегодня вечером увижу Эйлифа. Он у меня любимчик. Был короткий мир, и вот уже опять пошло.
(Поет.)
Из Ульма в Мец, из Меца к чехам! Из края в край, вперед, Кураж! Война прокормит нас с успехом, Коль ей свинец и ружья дашь. Но лишь свинцом сыта не будет, Одних лишь ружей мало ей: Войне нужны вдобавок люди, Она издохнет без людей!Повар и Катрин впрягаются в фургон.
9
Уже шестнадцать лет длится великая война за веру. Германия лишилась доброй половины жителей. Уцелевшие после побоищ умирают от эпидемий. В землях, когда-то процветавших, теперь царит голод. По сожженным городам рыщут волки. Осенью 1634 года мы встречаем Кураж в Германии, в Сосновых горах, в стороне от военной дороги, по которой движутся шведские войска. Зима в этом году ранняя и суровая. Дела идут плохо, приходится нищенствовать. Повар получает письмо из Утрехта, и ему дают отставку.
У полуразрушенного дома приходского священника. Хмурое утро в начале зимы. Резкий ветер. Мамаша Кураж и повар в старых овчинах примостились у фургона.
Повар. Еще темно, все спят.
Мамаша Кураж. Как-никак дом священника. Скоро звонить в колокол, придется ему покинуть перину. Ничего, его ждет горячий суп.
Повар. Какой там священник, мы же видели, что вся деревня дотла сгорела.
Мамаша Кураж. Нет, жители здесь есть, не зря собака лаяла.
Повар. Если у попа и есть что-нибудь, он все равно не даст.
Мамаша Кураж. Может быть, если споем…
Повар. Осточертело мне это пение. (Вдруг.) Я получил письмо из Утрехта, моя мать, пишут, умерла от холеры, трактир теперь мой. Вот письмо, если не веришь. Я дам тебе его прочесть, хотя тебя и не касается мазня тетки насчет моего образа жизни.
Мамаша Кураж (читает письмо). Ламб, мне тоже надоело скитаться. Я как та собака мясника, что разносит мясо покупателям, а сама его не ест. Мне нечем торговать, а людям нечем платить ни за что. В Саксонии один оборванец хотел всучить мне за два яйца сажень пергаментных книг, а в Вюртемберге за мешочек соли мне давали плуг. Зачем пахать? Вырастает только чертополох. Говорят, в Померании в деревнях съели уже всех младенцев, а монахини грабят людей на больших дорогах.
Повар. Все вымирает.
Мамаша Кураж. Иногда мне уже кажется, что я со своим фургоном разъезжаю по преисподней и торгую смолой или продаю на небесах закуски блуждающим душам. Если бы мне с детьми, что у меня остались, найти местечко, где не стреляют, я бы еще пожила спокойно несколько лет.
Повар. Мы могли бы открыть трактир. Подумай об этом, Анна. Я сегодня твердо решил, я подамся в Утрехт, с тобой или без тебя, и сегодня же.
Мамаша Кураж. Мне нужно поговорить с Катрин. Очень уж все скоропалительно, мне трудно решать не согревшись и на пустой желудок. Катрин!
Катрин вылезает из фургона.
Катрин, я должна тебе кое-что сообщить. Мы с поваром собираемся в Утрехт. Он там получил в наследство трактир. Ты жила бы на одном месте и завела знакомства. Оседлый человек уже вызывает уважение, внешность — это еще не все. Я тоже за такое решение. С поваром мы уживаемся. Должна сказать, что он знает толк в делах. Кормежкой мы были бы обеспечены, плохо ли? У тебя была бы своя койка, тебя бы это устроило, правда? Нельзя всегда жить на улице! Так ведь и опуститься можно. Ты уже вся обовшивела. Нам нужно решиться, мы пошли бы со шведами на север, они, наверно, там. (Показывает налево.) Я думаю, мы решимся, Катрин.
Повар. Анна, мне нужно сказать тебе два слова наедине.
Мамаша Кураж. Полезай в фургон, Катрин.
Катрин лезет в фургон.
Повар. Я прервал тебя, я вижу, ты меня не поняла. Я думал, об этом не стоит и говорить, и так, мол, ясно. Но если нет, то я скажу: не может быть и речи о том, чтобы брать ее с собой. Я думаю, ты меня понимаешь.
Катрин за их спиной высовывает голову из фургона и слушает.
Мамаша Кураж. Ты считаешь, что я должна оставить Катрин?
Повар. А как ты думаешь? В трактире нет места. Это тебе не трактир на три зала. Если мы поднатужимся, то мы вдвоем еще прокормимся, но не втроем, втроем никак не выйдет. Фургон пусть останется Катрин.
Мамаша Кураж. Я думала, в Утрехте она найдет себе мужа.
Повар. Не смеши меня! Где такая найдет мужа? Немая и шрам вдобавок! И в летах уже.
Мамаша Кураж. Говори тише!
Повар. Громче или тише, а что правда, то правда. И это тоже причина, по которой я не могу ее держать в трактире. Гостям неприятно, когда перед их глазами торчит урод. И нельзя на них за это обижаться.
Мамаша Кураж. Замолчи. Говорю тебе, не надо так громко.
Повар. В доме священника зажегся свет. Давай споем.
Мамаша Кураж. Повар, как же она одна пойдет с фургоном? Она боится войны. Она ее не переносит. Какие у нее, наверно, страшные сны! Я слышу, как она стонет по ночам. Особенно после боев. Не знаю, что она видит во сне. Она страдает от сострадания. Недавно я нашла у нее ежа, которого мы переехали. Оказывается, она его спрятала.
Повар. Трактир слишком мал. (Кричит.) Эй, уважаемый хозяин, слуги и домочадцы! Мы споем вам песню о Соломоне, Юлии Цезаре и других великих мужах, которым их блестящий ум не пошел на пользу. И тогда вы поймете, что мы тоже люди порядочные и поэтому нам нелегко живется, особенно зимой.
(Поет.)
Знаком вам мудрый Соломон, Конец его знаком? Он день рожденья своего Назвал своим несчастным днем. Он говорил, что ничего Нет в мире, суета одна. Был Соломон мудрец большой, И вам теперь мораль ясна: Мудрость концу его виной! Блажен, кому чужда она.Все добродетели опасны в этом мире, как доказывает наша прекрасная песня, лучше их не иметь и вести приятную жизнь и иметь на завтрак, скажем, горячий суп. У меня, например, нет горячего супа, а я бы от него не отказался, я солдат, но какой мне толк от того, что я был смел в бою? Никакого, я голодаю. Лучше бы я наложил в штаны и остался дома. А почему?
И Цезаря плохой конец О многом говорит. Был Юлий Цезарь храбр и смел, И вот, смотрите, он убит. Он высшей власти захотел, И он вкусил ее сполна. «И ты, мой сын», — вскричал герой. Ну что ж, теперь мораль ясна: Смелость концу его виной! Блажен, кому чужда она.(Вполголоса.) Хоть бы нос высунули. (Громко.) Эй, уважаемый хозяин, слуги и домочадцы! Может быть, вы возразите, что не храбрость кормит человека, а честность? Может быть, вы хотите сказать, что честный человек сыт или хотя бы не вполне трезв? Посмотрим, как обстоит дело с честностью.
Знаком вам древний грек Сократ? Не лгал он никогда. Он всех честней был во сто крат, Но ведь и с ним стряслась беда. Ему велели выпить яд, И чашу выпил он до дна. Таков был приговор людской, И вам теперь мораль ясна: Честность концу его виной! Блажен, кому чужда она.Теперь мне скажут, что нужно быть кротким и самоотверженным, что нужно делиться с ближним, ну, а что, если нечем делиться? Быть благодетелем, может быть, тоже не так легко, с этим приходится считаться, ведь самому тоже что-то нужно. Да, самоотверженность — это редкая добродетель, редкая потому, что она не окупается.
Святой Мартин беде чужой Всегда был рад помочь. Он поделился с бедняком Своим единственным плащом, Замерзли оба в ту же ночь. Его душа была полна Любви великой, неземной, И вам теперь мораль ясна: Кротость концу его виной! Блажен, кому чужда она!Так же обстоит дело и с нами! Мы порядочные люди, держимся друг за друга, не крадем, не убиваем, не поджигаем! И можно сказать, что мы опускаемся все ниже и ниже, и наша судьба подтверждает нашу песню, и суп у нас редко бывает, а если бы мы были другими, грабили и убивали, может быть, мы были бы сыты! Добродетели не вознаграждаются, вознаграждаются только пороки, таков мир, и лучше бы он не был таким!
Мы десять заповедей чтим, Боимся бога мы. Но это нам не помогло, Нужны нам пища и тепло, Мы докатились до сумы. Мы нищи, помощь нам нужна, И путь наш — крестный путь сплошной. Ну что ж, теперь мораль ясна: Богобоязнь всему виной! Блажен, кому чужда она!Голос (сверху). Эй вы! Поднимайтесь сюда! Похлебкой покормим.
Мамаша Кураж. Ламб, мне сейчас еда в горло не пойдет. Я не говорю, что ты сказал вздор, но неужели это твое последнее слово?
Повар. Последнее. Подумай.
Мамаша Кураж. Мне не нужно думать. Я ее здесь не оставлю.
Повар. Поступишь глупо, но я ничего не могу поделать. Я не зверь, но трактир маленький. А теперь давай поднимемся, а то и здесь ничего не получим, и выйдет, что мы даром пели на холоде.
Мамаша Кураж. Я позову Катрин.
Повар. Лучше захвати ей что-нибудь оттуда. Если мы нагрянем втроем, они же испугаются.
Оба уходят.
Из фургона с узелком в руке вылезает Катрин. Она оглядывается, смотрит, ушли ли они. Затем она вешает на колесо фургона старые штаны повара и юбку матери. Повесив их рядом, на видном месте, она хочет уйти со своим узелком. В это время возвращается мамаша Кураж.
Мамаша Кураж (с тарелкой супа). Катрин! Стой! Катрин! Куда это ты собралась с узелком? Ты что, в своем уме? (Развязывает узелок.) Она собрала свои вещи! Ты что, подслушивала? Я ему сказала, что плевать мне на Утрехт, на его паршивый трактир, что мы там потеряли? Ты и я — мы не годимся для трактира. На войне для нас еще найдутся дела. (Увидела штаны и юбку.) Глупая ты. А если бы я это увидела, а тебя бы уже не было? (Держит Катрин, которая вырывается из ее рук.) Не думай, что я дала ему отставку из-за тебя. Из-за фургона, вот из-за чего. Я не разлучусь с фургоном, к которому я привыкла, из-за фургона я и ушла от него, не из-за тебя. Мы пойдем в другую сторону, а повару мы выложим его вещи, пусть он их найдет, чудак человек. (Взбирается на фургон и бросает еще несколько предметов в то место, куда брошены штаны.) Ну вот, он вышел из нашего дела, а больше я никого в него не приму. Потянем дальше вдвоем. Ничего, и этой зиме тоже настанет конец. Впрягайся, а то еще пойдет снег.
Обе впрягаются в фургон, поворачивают его и увозят. Возвращается повар и озадаченно смотрит на свои вещи.
10
Весь 1635 год мамаша Кураж и ее дочь Катрин проводят на дорогах Центральной Германии, следуя за все более и более оборванным войском.
Дорога. Мамаша Кураж и Катрин тянут фургон. Они проходят мимо крестьянского дома, в котором кто-то поет.
Голос.
Мы розы посадили На самом на виду. И розы расцветают И нас вознаграждают За то, что землю рыли. Как хорошо сидеть в саду, Где розы расцветают! Но вот зима настала. Метет по всей земле. А нам и горя мало. За толстыми стенами, Да с жаркими дровами Как хорошо сидеть в тепле, Когда зима настала.Мамаша Кураж и Катрин останавливаются и слушают. Потом они продолжают свой путь.
11
Январь 1636 года. Императорские войска угрожают протестантскому городу Галле. Камень заговорил. Мамаша Кураж теряет дочь, и одна продолжает свой путь. До конца войны еще далеко.
Ободранный фургон стоит возле крестьянского дома с огромной соломенной крышей. Ночь. Из рощи выходят прапорщик и три солдата в тяжелых латах.
Прапорщик. Только чтобы не было шума. Если кто крикнет, ткните его копьем.
Первый солдат. Но ведь придется к ним постучать, чтобы взять проводника.
Прапорщик. Что ж, стук — это естественный шум. Подумают, что корова трется о стенку хлева.
Солдаты стучатся в дом. Дверь отворяет крестьянка. Они зажимают ей рот. Два солдата входят в дом.
Мужской голос внутри дома. Что такое!
Солдаты выводят из дома крестьянина и его сына.
Прапорщик (кивнув в сторону фургона, в котором показалась Катрин). Вот еще одна.
Солдат вытаскивает Катрин.
Это все, кто здесь живет?
Крестьяне. Это наш сын. А это немая… Ее мать пошла в город покупать товар… Для своей лавки… Потому что многие сейчас оттуда бегут и все отдают за бесценок… Это люди кочевые, маркитанты.
Прапорщик. Предупреждаю вас, сидите тихо, кто пикнет — получит копьем по башке. Один из вас покажет нам тропу в город. (Указывает на молодого крестьянина.) Эй ты, пойди-ка сюда!
Молодой крестьянин. Я не знаю тропы.
Второй солдат (ухмыляясь). Он не знает тропы.
Молодой крестьянин. Я не стану служить католикам.
Прапорщик (второму солдату). Ткни его копьем в бок!
Молодой крестьянин (его поставили на колени, ему угрожают копьем). Убейте меня, не стану.
Первый солдат. Сейчас мы с ним договоримся. (Подходит к хлеву.) Две коровы и вол. Так вот, если ты не образумишься, я зарублю скотину.
Молодой крестьянин. Только не скотину.
Крестьянка (плача). Господин капитан, не трогайте нашу скотину, мы же умрем с голоду.
Прапорщик. Пропала ваша скотина, если он будет упрямиться.
Первый солдат. Я начну с вола.
Молодой крестьянин (старому). Согласиться?
Крестьянка кивает.
Так и быть.
Крестьянка. Спасибо, господин капитан, что вы пощадили нас, во веки веков, аминь.
Крестьянин удерживает ее от дальнейших изъявлений благодарности.
Первый солдат. Я же сразу понял, что вол им дороже всего на свете!
Молодой крестьянин уходит с прапорщиком и солдатами.
Крестьянин. Хотел бы я знать, что они задумали. Ничего хорошего.
Крестьянка. Может, это просто разведчики… Что это ты?
Крестьянин (взбираясь по лестнице, которую он приставил к крыше). Посмотреть, одни ли они тут. (С крыши.) В роще что-то шевелится. И дальше до самой каменоломни. И на просеке — солдаты в кольчугах. И пушка вон. Да там побольше полка будет. Господи, смилуйся над городом и над всеми, кто в нем остался.
Крестьянка. А свет горит в городе?
Крестьянин. Темным-темно. Спят себе. (Спускается.) Если они войдут в город, они всех перережут.
Крестьянка. Сторожевой пост их заметит.
Крестьянин. Часовых в башне на косогоре они, наверно, прикончили, а то бы те затрубили в рог.
Крестьянка. Если бы нас было побольше.
Крестьянин. А нас только двое, да вот увечная еще…
Крестьянка. Ничего, думаешь, не сможем сделать…
Крестьянин. Ничего.
Крестьянка. Нам ночью туда не спуститься.
Крестьянин. Внизу у косогора их полно. Мы не можем даже дать знак.
Крестьянка. Что ты, они и нас прикончат.
Крестьянин. Да, ничего нам не сделать.
Крестьянка (Катрин). Молись, бедная тварь, молись! Никак нам их не спасти от резни. Говорить не можешь, так хоть молись. Никто тебя не слышит, а он услышит. Я тебе помогу.
Все становятся на колени, Катрин — позади крестьян.
Крестьянка. Отче наш, иже еси на небесех, услышь молитву нашу, не дай погибнуть городу, не губи тех, кто сейчас там спит и ничего не ведает. Разбуди их, пусть встанут они, пусть влезут на стену, пусть увидят солдат, что идут на них среди ночи с копьями и пушками, спускаются с косогора, крадучись по лугам. (Обернувшись к Катрин.) Защити нашу мать, сделай так, чтобы караульный не спал, пробудился, а то будет поздно. И зятю нашему помоги, он там с четырьмя детьми, не дай им погибнуть, они невинные, они ничего не понимают. (Катрин, которая стонет.) Одному нет еще двух, а старшенькой семь.
Катрин встает, она потрясена.
Отче наш, услышь нас, только ты и можешь помочь, нам недолго погибнуть, мы люди слабые, у нас нет ни пик, ни копий, и нет у нас смелости, мы во власти твоей, и весь наш скот, и все хозяйство наше; вот так же и город, он тоже во власти твоей, и враги подошли к нему силой несметной.
Катрин незаметно проскользнула к фургону, что-то достала из него, спрятала под передник и взобралась по лестнице на крышу.
Не оставь деток, наипаче малых, в беде, и стариков беспомощных, и всякую тварь живую.
Крестьянин. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Аминь.
Катрин, сидя на крыше, начинает бить в барабан, который был спрятан у нее под передником.
Крестьянка. Иисусе, что она делает?
Крестьянин. Она с ума сошла.
Крестьянка. Стащи ее вниз, быстро!
Крестьянин бежит к лестнице, но Катрин поднимает ее на крышу.
Она нас погубит.
Крестьянин. Сейчас же перестань барабанить, уродина чертова!
Крестьянка. Католики придут сюда!
Крестьянин (ищет камни). Я забросаю тебя камнями!
Крестьянка. Неужели у тебя нет сердца? Неужели не сжалишься? Если они придут, мы пропали! Они нас перережут.
Катрин, не отрываясь, смотрит вдаль, в сторону города, и продолжает барабанить.
(Старику.) Я тебе сразу сказала, не пускай этих бродяг во двор. Им-то что, если у нас последнюю скотину уведут.
Вбегают прапорщик с солдатами и молодым крестьянином.
Прапорщик. Изрублю на куски!
Крестьянка. Господин офицер, мы не виноваты, мы ничего не можем сделать. Мы не заметили, как она туда залезла. Она чужая.
Прапорщик. Где лестница?
Крестьянин. На крыше.
Прапорщик (задрав голову). Приказываю тебе, сейчас же брось сюда барабан!
Катрин продолжает барабанить.
Вы все заодно. Теперь вам не жить.
Крестьянин. В лесу валили сосны. Если принести бревно и столкнуть ее оттуда…
Первый солдат (прапорщику). Разрешите мне обратиться с предложением? (Что-то шепчет на ухо прапорщику. Тот кивает в знак согласия.) Эй, ты, предлагаем тебе договориться по-хорошему. Слезай, и пойдешь с нами в город, будешь идти впереди нас. Покажешь нам свою мать, и мы ее не тронем.
Катрин продолжает барабанить.
Прапорщик (грубо отталкивает солдата). Она тебе не верит, еще бы, с твоей мордой… (Кричит Катрин.) А моему слову поверишь? Я офицер, я знаю, что такое честное слово.
Катрин барабанит сильнее.
Для нее нет ничего святого.
Молодой крестьянин. Господин офицер, она делает это не только ради матери!
Первый солдат. Нельзя больше терять время. В городе услышат.
Прапорщик. Надо создать какой-нибудь шум, погромче, чем ее барабан. Чем бы создать шум?
Первый солдат. Ведь нам же нельзя производить шума.
Прапорщик. Невинный шум, балда. Не военный.
Крестьянин. Я могу топором колоть дрова.
Прапорщик. Давай.
Крестьянин приносит топор и начинает рубить бревно.
Чаще давай! Чаще! Дело идет о твоей жизни!
Катрин прислушивалась и в это время барабанила тише. Беспокойно оглядываясь, она колотит теперь в барабан с прежней силой.
(Крестьянину.) Не годится, слабо. (Первому солдату.) Ты тоже руби.
Крестьянин. У меня только один топор. (Перестает рубить.)
Прапорщик. Надо поджечь дом. Надо ее выкурить.
Крестьянин. Не поможет, господин капитан. Если в городе увидят огонь, им все будет ясно.
Катрин опять прислушивалась, продолжая барабанить. Теперь она смеется.
Прапорщик. Смотри, она смеется над нами… Я не выдержу. Я пристрелю ее, и пусть все идет к чертям. Принесите ружье!
Два солдата убегают. Катрин продолжает барабанить.
Крестьянка. Я придумала, господин начальник! Вон их фургон. Если мы его разнесем, она перестанет. У них нет ничего, кроме фургона.
Прапорщик (молодому крестьянину). Разнеси его в щепки. (Катрин.) Мы разнесем твою повозку, если ты не перестанешь.
Молодой крестьянин делает несколько слабых ударов по фургону.
Крестьянка. Перестань, скотина!
Глядя с отчаянием на фургон, Катрин издает жалобные звуки, но продолжает барабанить.
Прапорщик. Где эти гады с ружьем?
Первый солдат. В городе, наверно, еще не услыхали, а то бы их орудие уже ударило.
Прапорщик (Катрин). Они тебя не слышат. А сейчас мы тебя пристрелим. Последний раз говорю. Брось барабан!
Молодой крестьянин (внезапно бросает доску). Бей в барабан, бей! Не то все погибнут! Бей, бей…
Солдат валит его на землю и ударяет копьем. Катрин плачет, но продолжает барабанить.
Крестьянка. Не бейте его в спину! Боже мой, вы убьете его!
Вбегают солдаты с тяжелым ружьем.
Второй солдат. Прапорщик, полковник рвет и мечет. Нас будет судить полевой суд.
Прапорщик. Ставь! Ставь!
Солдаты ставят ружье на сошку.
(Кричит Катрин.) Последний раз: перестань барабанить!
Плача, Катрин барабанит изо всех сил.
Огонь!
Солдаты стреляют. Катрин делает еще несколько ударов и медленно падает.
Вот шума и нет!
Но вслед за последними ударами Катрин раздается грохот городских пушек. Издалека доносятся беспорядочный звон набата и канонада.
Первый солдат. Она своего добилась.
12
Рассвет. Слышен барабанный бой и свист, под который шагают удаляющиеся колонны.
Мамаша Кураж сидит на корточках возле дочери перед фургоном. Крестьяне стоят рядом.
Крестьяне. Вам нужно двигаться, сударыня. Сейчас пройдет последний полк. Одной вам идти нельзя.
Мамаша Кураж. Может, она уснет. (Поет.)
Шелестит солома. Баю, баю, бай. Соседские дети Хнычут пускай. Соседские — в лохмотьях, В шелку — моя. Ей платье ангелочка Перешила я. У соседских корка, У нас — пирожок. Если не по вкусу, Скажи, дружок. Баю, баю, баю, Спи, детеныш мой. Один остался в Польше, Где-то другой?Не надо было вам говорить ей о детях вашего зятя.
Крестьянин. Если бы вы не пошли в город, чтобы нагреть руки, может, ничего бы и не было.
Мамаша Кураж. Теперь она спит.
Крестьянка. Она не спит, поймите, она неживая.
Крестьянин. И вам уже пора бы уйти. По дорогам рыщут волки и, хуже того, мародеры.
Мамаша Кураж (встает). Да. (Достает из фургона кусок парусины, чтобы прикрыть труп.)
Крестьянка. У вас больше никого нет? К кому бы вы могли пойти?
Мамаша Кураж. Есть. Эйлиф.
Крестьянин (в то время как мамаша Кураж прикрывает труп). Надо вам его разыскать. Об этой уж мы позаботимся, мы похороним ее как следует. Можете не беспокоиться.
Мамаша Кураж. Вот вам деньги на расходы. (Отсчитывает деньги и дает их крестьянину.)
Крестьянин и его сын пожимают ей руку и уносят Катрин.
Крестьянка тоже пожимает ей руку с поклоном.
Крестьянка (уходя). Торопитесь!
Мамаша Кураж (впрягается в фургон). Надеюсь, и одна справлюсь с фургоном. Ничего, вытяну, вещей в нем немного. Надо опять за торговлю браться.
Со свистом и барабанным боем проходит еще один полк.
(Трогает с места.) Эй, возьмите меня с собой!
Из глубины сцены доносится пенье.
Война удачей переменной Сто лет продержится вполне, Хоть человек обыкновенный Не видит радости в войне: Он жрет дерьмо, одет он худо, Он палачам своим смешон. Но он надеется на чудо, Пока поход не завершен. Эй, христиане, тает лед! Спят мертвецы в могильной мгле. Вставайте, всем пора в поход, Кто жив и дышит на земле!Занавес
Добрый человек из Сычуани Перевод Е. Лях-Ионовой и И. Вазовского Стихи в переводе Б. Слуцкого
ПЬЕСА-ПАРАБОЛА
В сотрудничестве
с Р. Берлау и М. Штеффин
{159}
Действующие лица
Ван — водонос.
Три бога.
Шен Де.
Шой Да.
Ян Сун — безработный летчик.
Госпожа Ян — его мать.
Вдова Шин.
Семья из восьми человек.
Столяр Лин То.
Домовладелица Ми Дзю.
Полицейский.
Торговец коврами.
Его жена.
Старая проститутка.
Цирюльник Шу Фу.
Бонза.
Официант.
Безработный.
Прохожие в прологе.
Место действия: полуевропеизированная столица Сычуани.
Провинция Сычуань, в которой были обобщены все места на земном шаре, где человек эксплуатирует человека, ныне к таким местам не принадлежит.
Пролог
Улица в главном городе Сычуани. Вечер. Водонос Ван представляется публике.
Ван. Я здешний водонос — торгую водой в столице Сычуани. Тяжелое ремесло! Если воды мало, приходится далеко ходить за ней. А если ее много, заработок мал. И вообще в нашей провинции большая нищета. Все говорят, что если кто еще способен нам помочь, так это боги. И вот представьте себе мою радость, когда знакомый торговец скотом — он много разъезжает — сказал мне, что несколько виднейших наших богов уже находятся в пути и их можно ожидать в Сычуани с часу на час. Говорят, небо сильно обеспокоено множеством жалоб, которые к нему поступают. Уже третий день, как я дожидаюсь здесь у городских ворот, особенно под вечер, чтобы первым приветствовать гостей. Позднее вряд ли это мне удастся. Их окружат высокопоставленные господа, попробуй к ним тогда пробиться. Как бы их только узнать? Они появятся, наверно, не вместе. Скорее всего по одному, чтобы не слишком обращать на себя внимание. Вот эти не похожи на богов, они возвращаются с работы. (Внимательно смотрит на проходящих мимо рабочих.) Плечи у них согнулись от тяжестей, которые они таскают. А этот? Какой же он бог — пальцы в чернилах. Самое большее служащий цементного завода. Даже те два господина…
Мимо проходят двое мужчин.
…и те, по-моему, — не боги. У них жестокое выражение лица, как у людей, привыкших бить, а богам нет в этом необходимости. А вот там трое! Как будто — другое дело. Упитанны, ни малейшего признака какого-либо занятия, башмаки в пыли, значит, пришли издалека. Они — они! О мудрейшие, располагайте мной! (Падает ниц.)
Первый бог (радостно). Нас здесь ждут?
Ван (дает им напиться). Уже давно. Но только я один знал о вашем прибытии.
Первый бог. Мы нуждаемся в ночлеге. Не знаешь ли ты, где бы нам пристроиться?
Ван. Где? Везде! Весь город в вашем распоряжении, о мудрейшие! Где пожелаете?
Боги многозначительно смотрят друг на друга.
Первый бог. Хотя бы в ближайшем доме, сын мой! Попытаемся в самом ближайшем!
Ван. Меня только смущает, что я навлеку на себя гнев власть имущих, если отдам особое предпочтение одному из них.
Первый бог. Потому-то мы и приказываем тебе: начни с ближайшего!
Ван. Там живет господин Фо! Подождите минутку. (Подбегает к дому и стучит в дверь.)
Дверь открывается, но видно, что Ван получает отказ.
(Робко возвращается.) Вот неудача! Господина Фо, как назло, нет дома, а слуги ни на что не решаются без его приказания, хозяин очень строг! Ну и взбесится же он, когда узнает, кого не приняли в его доме, не правда ли?
Боги (улыбаясь). Безусловно.
Ван. Еще минуту! Дом рядом принадлежит вдове Су. Она будет вне себя от радости. (Бежит к дому, но, видимо, снова получает отказ.) Я лучше справлюсь напротив. Вдова говорит, что у нее только одна маленькая комнатка, и та не в порядке. Сейчас же обращусь к господину Чену.
Второй бог. Нам хватит маленькой комнатки. Скажи, что мы ее займем.
Ван. Даже если она не прибрана, даже если в ней полно пауков?
Второй бог. Пустяки! Где пауки, там мало мух.
Третий бог (приветливо, Вану). Иди к господину Чену или еще куда-нибудь, сын мой, пауки, признаться, мне не по душе.
Ван снова стучится в какую-то дверь, и его впускают.
Голос из дома. Оставь нас в покое с богами! И так забот по горло!
Ван (возвращаясь к богам). Господин Чен в отчаянии, его дом полон родни, и он не осмеливается показаться вам на глаза, мудрейшие. Между нами, я думаю, среди них есть дурные люди, и он не хочет, чтоб вы их видели. Он страшится вашего гнева. В этом все дело.
Третий бог. Разве мы так страшны?
Ван. Только для недобрых людей, не правда ли? Известно же, что жителей провинции Кван десятилетиями постигает наводнение — кара божья!
Второй бог. Вот как? И почему же?
Ван. Да потому, что все они безбожники.
Второй бог. Вздор! Просто потому, что они не чинили плотину.
Первый бог. Тсс! (Вану). Ты все еще надеешься, сын мой?
Ван. Как можно даже спрашивать такое? Стоит пройти еще один дом, и я найду для вас жилье. Каждый пальчики себе облизывает в предвидении, что примет вас у себя. Неудачное стечение обстоятельств, понимаете? Бегу! (Медленно отходит и нерешительно останавливается посреди улицы.)
Второй бог. Что я говорил?
Третий бог. И все-таки, думаю, это простая случайность.
Второй бог. Случайность в Шуне, случайность в Кване и случайность в Сычуани. Страха божьего нет больше на земле — вот истина, которой вы боитесь смотреть в лицо. Признайте, что наша миссия потерпела фиаско!
Первый бог. Мы еще можем натолкнуться на доброго человека. В любую минуту. Мы не должны сразу отступаться.
Третий бог. Постановление гласило: мир может оставаться таким, как он есть, если найдется достаточно людей, достойных звания человека. Водонос сам такой человек, если только я не обманываюсь. (Подходит к Вану, который все еще стоит в нерешительности.)
Второй бог. Он обманывается. Когда водонос дал нам напиться из своей кружки, я кое-что заметил. Вот кружка. (Показывает ее первому богу.)
Первый бог. Двойное дно.
Второй бог. Мошенник!
Первый бог. Ладно, он отпадает. Ну и что ж такого, если один с гнильцой? Мы встретим и таких, которые способны жить достойной человека жизнью. Мы обязаны найти! Вот уже два тысячелетия не прекращается вопль, так дальше продолжаться не может! Никто в этом мире не в состоянии быть добрым! Мы должны наконец указать на людей, которые могут следовать нашим заповедям.
Третий бог (Вану). Может быть, это очень затруднительно — найти пристанище?
Ван. Только не для вас! Помилуйте! Моя вина, что оно не сразу нашлось, — я плохо ищу.
Третий бог. Дело, безусловно, не в этом. (Возвращается обратно.)
Ван. Они уже догадываются. (К прохожему.) Высокочтимый господин, извините, что обращаюсь к вам, но три самых главных бога, о предстоящем прибытии которых в течение многих лет говорит весь Сычуань, теперь в самом деле прибыли и нуждаются в жилье. Не уходите! Убедитесь сами! Довольно одного взгляда! Ради бога, выручайте! На вашу долю выпал счастливый случай, воспользуйтесь им! Предложите убежище богам, пока кто-нибудь не перехватил их, — они согласятся.
Прохожий продолжает свой путь.
(Обращается к другому прохожему.) Почтеннейший, вы слышали? Может быть, у вас есть квартира? Не обязательно — роскошные палаты. Главное, добрые намерения.
Второй прохожий. Откуда мне известно, что за боги твои боги? Кто знает, кого пустишь. (Заходит в табачную лавку.)
Ван (бежит обратно к богам). Он наверняка согласится. (Замечает свою кружку на земле, растерянно смотрит на богов, поднимает ее и снова убегает.)
Первый бог. Это звучит не очень ободряюще.
Ван (прохожему, когда тот выходит из лавки). Ну, как же с жильем?
Второй прохожий. Почем ты знаешь, может быть, я сам живу в гостинице?
Первый бог. Он ничего не найдет. Сычуань нам тоже придется вычеркнуть.
Ван. Это три главных бога! Правда, правда! Статуи в храмах очень на них похожи. Если вы, не теряя времени, подойдете и пригласите их, возможно, они еще согласятся.
Второй прохожий (смеясь). Хороши же, должно быть, жулики, которых ты хочешь пристроить. (Уходит.)
Ван (бранится ему вслед). Кривой спекулянт! Бога ты не боишься! Будете жариться в кипящей смоле за свое бесчувствие! Боги плюют на вас! Но вы еще пожалеете! До четвертого колена будете расплачиваться! Весь Сычуань покрыли позором!
Пауза.
Теперь остается только проститутка Шен Де, эта ведь не может сказать — «нет». (Зовет.) Шен Де!
Из верхнего окна выглядывает Шен Де.
Они уже здесь, я не могу найти для них прибежища. Можешь ты принять их на одну ночь?
Шен Де. Боюсь, что нет, Ван. Я жду гостя. Но возможно ли, чтоб ты не нашел для них приюта?
Ван. Сейчас не время говорить об этом. Весь Сычуань — сплошная куча дерьма.
Шен Де. Мне пришлось бы спрятаться от него, когда он появится. Может быть, он тогда уйдет. Ему еще вздумалось прогуляться со мной.
Ван. Пока что мы поднялись бы наверх, а?
Шен Де. Только вы не должны громко разговаривать. Можно быть с ними откровенной?
Ван. Боже сохрани! Они ничего не должны знать о твоем ремесле. Нет, лучше уж мы подождем внизу. Но ты не уйдешь с ним?
Шен Де. Дела мои плохи, и если я к завтрашнему утру не уплачу за квартиру, меня выкинут вон.
Ван. В такую минуту нехорошо быть расчетливой.
Шен Де. Не знаю. К сожалению, в желудке урчит и тогда, когда у императора день рождения. Ладно, я приму их.
Видно, что она гасит свет.
Первый бог. Похоже, что ничего не вышло.
Боги подходят к Вану.
Ван (увидя позади себя богов, вздрагивает). Квартира обеспечена. (Вытирает пот.)
Боги. Да? В таком случае пойдем.
Ван. Не торопитесь. Обождите немного. Комнату приводят в порядок.
Третий бог. Тогда мы присядем и подождем.
Ван. Кажется, здесь слишком большое движение. Лучше перейдем на ту сторону.
Второй бог. Мы с охотой присматриваемся к людям. Собственно, с этой целью мы сюда и прибыли.
Ван. Да, но здесь сквозняк.
Второй бог. О, мы закаленные люди.
Ван. Но, может быть, вы желаете, чтобы я показал вам ночной Сычуань? Не совершить ли нам маленькую прогулку?
Третий бог. Мы сегодня уже достаточно ходили. (Улыбаясь.) Но если ты хочешь, чтобы мы отсюда отошли, тебе достаточно только сказать нам.
Отходят подальше.
Теперь ты доволен?
Они садятся на крыльцо одного из домов.
Ван (опускается на землю на некотором расстоянии от них; собравшись с духом). Вы поселитесь у одинокой девушки. Она лучший человек в Сычуани.
Третий бог. Вот и хорошо!
Ван (публике). Когда я поднял кружку, они так странно посмотрели на меня. Неужели заметили? Я не смею больше взглянуть им в глаза.
Третий бог. Ты очень устал.
Ван. Чуть-чуть. От беготни.
Первый бог. Что, людям здесь очень тяжело живется?
Ван. Хорошим — да.
Первый бог (серьезно). Тебе тоже?
Ван. Я знаю, что вы имеете в виду. Я — нехороший. Но мне тоже нелегко.
Между тем перед домом Шен Де появился мужчина. Он несколько раз свистит, и Ван каждый раз вздрагивает.
Третий бог (тихо, Вану). Кажется, он не дождался и ушел.
Ван (растерянный). Да, да. (Встает и бежит на площадь, оставляя кувшин и кружку.)
В это время произошло следующее: мужчина, ожидавший на улице, ушел, и Шен Де, выйдя из дома и тихо позвав: «Ван», — идет по улице в поисках Вана. И теперь, когда Ван тихо зовет: «Шен Де», — он не получает ответа.
Она обманула меня. Ушла, чтобы раздобыть денег на квартиру, и у меня нет ночлега для мудрейших. Они устали и ждут. Я не могу еще раз прийти к ним и сказать: ничего нет! Мой собственный дом — водосточная труба, о ней не может быть и речи. Кроме того, боги, безусловно, не захотят жить у человека, жульнические дела которого обнаружили. Я не вернусь к ним ни за что на свете. Но там осталась моя посуда. Что делать? Я не смею взять ее. Скорее я уйду из города и скроюсь с их глаз, потому что мне не удалось помочь тем, кому я поклоняюсь. (Убегает.)
Но едва он исчез, возвращается Шен Де, ищет его на другой стороне улицы и видит богов.
Шен Де. Это вы, мудрейшие? Меня зовут Шен Де. Я буду рада, если вы удовольствуетесь моей каморкой.
Третий бог. Но куда исчез водонос?
Шен Де. Вероятно, мы с ним разминулись.
Первый бог. Он, должно быть, решил, что ты не придешь, и побоялся вернуться к нам.
Третий бог (поднимает кружку и кувшин). Мы оставим это у тебя. Они ему еще понадобятся.
Предводительствуемые Шен Де, боги идут в дом. Темнеет и снова светлеет. На рассвете боги выходят из дверей дома. Их ведет Шен Де, освещая путь лампой. Они прощаются.
Первый бог. Милая Шен Де, спасибо за гостеприимство. Мы не забудем, что именно ты приютила нас. Верни водоносу его посуду и передай нашу благодарность за то, что он показал нам доброго человека.
Шен Де. Я не добрая. Сказать по правде, когда Ван обратился ко мне с просьбой дать вам пристанище, я заколебалась.
Первый бог. Колебание не беда, если его побороть. Знай, что ты подарила нам нечто большее, чем ночлег. У многих и даже у нас, богов, возникло сомнение — существуют ли еще на свете добрые люди. Для того чтоб это выяснить, мы и предприняли наше путешествие. Мы продолжаем его с радостью, потому что одного уже нашли. До свидания!
Шен Де. Остановитесь, мудрейшие, я совсем не уверена, что я добрая. Правда, я хотела бы быть такой, но как же тогда с платой за комнату? Признаюсь вам: чтобы жить, я продаю себя. Но даже этим путем я не могу просуществовать, слишком многим приходится делать то же самое. И вот я готова на все, но кто же не готов на все? Конечно, я охотно соблюдала бы заповеди — почитание старших и воздержание от лжи. Не пожелать дома ближнего своего — было бы для меня радостью, быть верной одному мужчине — приятно. Я не хотела бы также никого использовать и обижать беззащитного. Но как сделать это? Даже нарушая заповеди, еле удается прожить.
Первый бог. Все это, Шен Де, не что иное, как сомнения доброго человека.
Третий бог. Прощай, Шен Де! Передай сердечный привет водоносу. Он был нам добрым другом.
Второй бог. Боюсь, что ему пришлось туго.
Третий бог. Будь счастлива!
Первый бог. Главное, оставайся доброй, Шен Де! Прощай!
Поворачиваются, чтобы уйти, кивают ей на прощание.
Шен Де (испуганная). Но я не уверена в себе, мудрейшие! Как мне быть доброй, когда все так дорого?
Второй бог. Здесь мы, к сожалению, бессильны. В экономические вопросы мы не можем вмешиваться.
Третий бог. Стойте! Погодите минуту! Если бы у нее были кое-какие средства, ей, пожалуй, легче было бы оставаться доброй.
Второй бог. Мы не вправе ей ничего дать. Мы не сумеем там наверху объяснить это.
Первый бог. А почему бы нет?
Шепчутся, оживленно дискутируя.
(Шен Де, смущенно.) Мы слыхали — тебе нечем заплатить за комнату. Мы люди не бедные и в состоянии отблагодарить за ночлег. Вот! (Дает ей деньги.) Только никому не говори, что мы тебе дали денег. А то, пожалуй, еще не так истолкуют.
Второй бог. Еще бы!
Третий бог. Нет, это дозволено. Мы ничего не нарушили, если рассчитались за ночлег. В постановлении об этом ничего не сказано. Итак, до свидания!
Боги быстро уходят.
I
Маленькая табачная лавка.
Лавка не совсем еще обставлена и не открыта.
Шен Де (публике). Вот уже три дня, как ушли боги. Они сказали, что платят мне за ночлег. Но когда я посмотрела, что они мне дали, то увидела больше тысячи серебряных долларов. Я купила на эти деньги табачную лавочку. Вчера я переехала сюда и надеюсь, что сумею сделать много добра. Например, госпожа Шин, прежняя владелица лавки. Уже вчера она приходила просить у меня рису для своих детей. Вот и сегодня, я вижу, она идет через площадь со своим горшком.
Входит Шин. Женщины раскланиваются друг с другом.
Шен Де. Добрый день, госпожа Шин.
Шин. Добрый день, мадемуазель Шен Де. Как вы чувствуете себя в вашем новом доме?
Шен Де. Хорошо. Как ваши дети провели ночь?
Шин. В чужом-то доме! Если только можно назвать домом этот барак. Младший уже кашляет.
Шен Де. Плохо.
Шин. Вы не можете понять, что такое плохо, потому что вам хорошо живется. Но и вам придется кое-что испытать здесь, в этой лавчонке. Не забывайте — это квартал нищеты.
Шен Де. Да, но ведь в обеденный перерыв, как вы мне говорили, заходят рабочие цементного завода?
Шин. Кроме них, никто ничего не покупает, даже соседи.
Шен Де. Когда вы уступали мне лавку, вы не сказали об этом ни слова.
Шин. Не хватает только ваших упреков! Мало вам того, что вы лишили моих детей крова! А потом растравляете разговорами о лавчонке и нищенском квартале. Сколько можно!.. (Плачет.)
Шен Де (быстро). Я сейчас принесу вам рис.
Шин. Я хотела бы еще попросить взаймы немного денег.
Шен Де (между тем как она сыплет рис в горшок). Этого я не могу, я же ничего еще не выручила.
Шин. Мне нужны деньги. Чем жить? Вы отняли у меня все и еще хотите доконать. Я подброшу вам своих детей на порог, кровопийца! (Вырывает у Шен Де из рук горшок.)
Шен Де. Не сердитесь, рассыплете рис!
Входят пожилая пара и бедно одетый человек.
Женщина. Милая моя Шен Де, мы слышали, что тебе повезло. Ты стала деловой женщиной! Представь себе, мы без крыши над головой. Нашу табачную лавку пришлось закрыть. Мы и подумали, нельзя ли провести у тебя хотя бы одну ночь. Ты ведь помнишь моего племянника? Вот он, мы никогда не расстаемся.
Племянник (оглядывая помещение). Славная лавчонка!
Шин. Что это за люди?
Шен Де. Когда я приехала из деревни в город, это были мои первые квартирные хозяева. (Публике.) Когда гроши, которые были со мной, кончились, они выгнали меня на улицу. Они, вероятно, боятся, что я откажу им. Бедняги.
Они без приюта, Без счастья, без доли. Нужна им поддержка, Как им откажешь?(Приветливо, пришедшим.) Пожалуйста, пожалуйста! Я охотно приму вас. Правда, у меня всего-навсего крохотная комнатка позади лавки.
Мужчина. С нас хватит. Не беспокойся. (Между тем как Шен Де приносит чай.) Мы устроимся вот здесь, чтобы не мешать. Ты, должно быть, выбрала табачную торговлю в память о первом пристанище у нас? Мы смогли бы помочь тебе кое-какими советами. Потому-то и явились сюда.
Шин (насмешливо). Надо надеяться, что появятся еще и покупатели?
Женщина. Это она про нас?
Мужчина. Тсс! Вот и покупатель!
Входит оборванный человек.
Оборванный человек. Простите. Я безработный.
Шин смеется.
Шен Де. Чем могу служить?
Безработный. Я слышал, вы завтра открываете лавку, и подумал, что, когда распаковывают товар, бывает, что-нибудь портится. Не найдется ли у вас лишней сигареты?
Женщина. Это уже слишком — выпрашивать табак! Если бы еще хлеб!
Безработный. Хлеб дорог. Две-три затяжки — и я другой человек. Я так устал.
Шен Де (дает ему сигареты). Это очень важно — стать другим человеком. Будьте же моим первым покупателем. Вы принесете мне счастье.
Безработный быстро закуривает и, кашляя, уходит.
Женщина. Правильно ли ты поступила, милая Шен Де?
Шин. Если вы будете так торговать, то в три дня проторгуетесь.
Мужчина. Бьюсь об заклад — у него в кармане были деньги.
Шен Де. Но он сказал, что у него ничего нет.
Племянник. Откуда вы знаете, что он не солгал?
Шен Де (с возмущением). Откуда я знаю, что он солгал?
Женщина (покачивая головой). Она не умеет сказать «нет»! Ты слишком добра, Шен Де. Если хочешь сохранить лавку, научись отказывать, когда к тебе обращаются.
Мужчина. Скажи, что она не твоя. Скажи, что она принадлежит твоему родственнику, который требует у тебя отчета. Разве это трудно сказать?
Шин. Совсем нетрудно, если бы не страсть разыгрывать из себя благодетельницу.
Шен Де (смеется). Ругайтесь, ругайтесь! Вот я возьму да откажу вам в жилье и рис тоже заберу обратно!
Женщина (испуганно). Как, и рис тоже твой?
Шен Де (публике).
Они — плохие. Они никого не любят. Они никому не пожелают полной тарелки. Они знают только себя. Кто их осудит за это?Входит человек маленького роста.
Шин (видит его и спешит уйти). Завтра загляну опять. (Уходит.)
Маленький человек (кричит ей вслед). Постойте, госпожа Шин! Вы-то мне и нужны!
Женщина. Почему она сюда приходит? У нее есть права на тебя, что ли?
Шен Де. Прав нет, но есть голод, это больше.
Маленький человек. Она знает, почему спешит унести ноги. Вы новая владелица лавки? Уже разложили товар по полкам! Предупреждаю, как вас там, они не ваши! Пока не уплатите за них! Дрянь, которая здесь сидела, не рассчиталась со мной. (Остальным.) Я ведь столяр.
Шен Де. Разве полки не принадлежат к обстановке, за которую я заплатила?
Столяр. Обман! Кругом обман! Вы, конечно, заодно с этой Шин! Я требую свои сто серебряных долларов, не будь я Лин То.
Шен Де. Как же я уплачу, если у меня нет больше денег?
Столяр. Тогда я продам их с аукциона! Сию же минуту! Либо вы платите, либо я их продаю!
Мужчина (подсказывает Шен Де). Родственник!
Шен Де. Нельзя ли подождать до следующего месяца?
Столяр (кричит). Нет!
Шен Де. Не будьте жестоки, господин Лин То. Я не в состоянии со всеми сразу рассчитаться. (Публике.)
Немного снисхождения — удваиваются силы. Вот ломовая лошадь нагнулась за травой. Смотрите на это сквозь пальцы — Она лучше потянет телегу. Немного терпенья в июне — и твое дерево В августе согнется под тяжестью персиков. Разве можно жить вместе без снисхождения? Маленькая отсрочка Помогает великой цели.(Столяру.) Будьте снисходительны, господин Лин То!
Столяр. А кто будет снисходителен ко мне и моей семье? (Отодвигает одну из полок от стены, словно хочет унести с собой.) Деньги, или я уношу полки!
Женщина. Милая Шен Де, почему бы тебе не поручить это дело своему родственнику? (Столяру.) Напишите счет, и двоюродный брат Шен Де заплатит.
Столяр. Знаем мы этих двоюродных братьев!
Племянник. Что ты смеешься, как дурак! Я знаю его лично.
Мужчина. Это не человек, это — нож!
Столяр. Хорошо, пусть ему передадут мой счет. (Опрокидывает полку, садится на нее и пишет счет.)
Женщина. Он стащит с тебя последнюю рубаху, если его не остановить. Отвергай притязания, справедливы они или нет, потому что у тебя отбоя не будет от притязаний, справедливых или нет. Брось кусок мяса в бочку с мусором, и собаки всего квартала перегрызутся у тебя во дворе. Зачем-нибудь да существуют суды?
Шен Де. Он работал и вправе получить за свой труд. И у него семья. Обидно, что я не могу заплатить! Что скажут боги?
Мужчина. Ты выполнила свой долг уже тем, что приютила нас, это более чем достаточно.
Входят хромой человек и беременная женщина.
Хромой (мужу и жене). Так вот вы где! Миленькие родственнички, нечего сказать! Бросить нас на углу улицы, красиво!
Женщина (смущенно, Шен Де). Это мой брат Вун и невестка. (Обоим.) Не бранитесь и садитесь спокойно в уголок, чтобы не мешать Шен Де, нашему старому другу. (Шен Де.) Я думаю, придется оставить обоих, — невестка уже на пятом месяце. Или ты другого мнения?
Шен Де. Пожалуйста!
Женщина. Благодарите. Чашки стоят вон там. (Шен Де.) Эти вообще бы не знали, куда деваться. Какое счастье, что у тебя есть лавка!
Шен Де (улыбаясь, несет чай. Публике). Да, счастье, что у меня есть лавка!
Входит домовладелица Ми Дзю с бумагой в руке.
Домовладелица. Мадемуазель Шен Де, я владелица дома, госпожа Ми Дзю. Надеюсь, мы будем ладить друг с другом. Вот договор о найме. (Между тем как Шен Де читает договор.) Чудесное мгновение — открытие маленького торгового дела, вы согласны, господа? (Осматривается кругом.) На полках еще, правда, пустовато, но ничего, обойдется. Вы, конечно, сможете представить мне несколько рекомендаций?
Шен Де. Разве это необходимо?
Домовладелица. Но я совсем не знаю вас.
Мужчина. А если мы поручимся за Шен Де? Мы знаем ее с тех пор, как она приехала в город, и готовы в любую минуту ручаться за нее головой.
Домовладелица. А вы кто такой?
Мужчина. Торговец табаком, Ma Фу.
Домовладелица. Где ваша лавка?
Мужчина. В данный момент у меня нет лавки. Видите ли, я ее как раз только что продал.
Домовладелица. Так. (Шен Де.) Больше некому дать о вас сведения?
Женщина (подсказывает). Двоюродный брат! Двоюродный брат!
Домовладелица. Должен же у вас быть кто-нибудь, кто поручится за того, кого я впускаю в дом. Это почтенный дом, моя милая. Иначе я не могу позволить себе заключить с вами договор.
Шен Де (медленно, опустив глаза). У меня есть двоюродный брат.
Домовладелица. Ах, у вас есть двоюродный брат? Здесь в городе? Так давайте пойдем прямо к нему. Чем он занимается?
Шен Де. Он живет не здесь, а в другом городе.
Женщина. Ты, кажется, говорила — в Шуне?
Шен Де. Господин Шой Да. В Шуне!
Мужчина. Да, да, я отлично его знаю. Высокий такой, худощавый.
Племянник (столяру). Вы, кажется, тоже договаривались с двоюродным братом мадемуазель Шен Де? О полках!
Столяр (ворчливо). Как раз выписываю для него счет. Вот он! (Передает счет.) Завтра рано утром приду опять! (Уходит.)
Племянник (кричит ему вслед, косясь на домовладелицу). Можете не беспокоиться, двоюродный брат за все расплатится!
Домовладелица (пронизывая взглядом Шен Де). Ну что же! И я буду рада познакомиться с ним. Добрый вечер, мадемуазель. (Уходит.)
Женщина (после паузы). Теперь все откроется! Можешь быть уверена, уже завтра утром она узнает о тебе все.
Невестка (тихо, племяннику). Долго здесь не удержаться!
Входит старик, которого ведет мальчик.
Мальчик (через плечо). Они здесь.
Женщина. Здравствуй, дедушка. (Шен Де.) Добрый старик! Воображаю, как он беспокоился о нас. А мальчик, не правда ли, сильно вырос. Жрет за троих. Кого вы там еще привели?
Мужчина (выглянув наружу). Никого, кроме племянницы.
Женщина (Шен Де). Молоденькая, только-только из деревни. Надеюсь, это не обременит тебя? Когда ты жила с нами, нас еще не было так много, правда? Но нас становилось все больше. Чем хуже жилось, тем больше прибавлялось. И чем больше прибавлялось, тем хуже жилось. А теперь давайте запрем дверь на засов, не то покоя не будет. (Запирает двери.)
Все садятся.
Главное — не мешать твоему делу. Иначе дым не поднимется над крышей этого дома. Надо установить порядок: днем младшие уходят, остаются только дедушка, невестка и, пожалуй, еще — я. Остальные заглядывают в течение дня самое большее раз-два, верно? Ну а сейчас зажгите-ка лампу и устраивайтесь поуютнее.
Племянник (юмористически). Только бы не ворвался сегодня ночью двоюродный брат, этот грозный господин Шой Да.
Невестка смеется.
Брат (тянется за сигаретой). Одна не имеет значения!
Мужчина. Никакого.
Все берут сигареты и закуривают. Брат передает по кругу кувшин с вином.
Племянник. Двоюродный брат заплатит!
Дедушка (серьезно, Шен Де). Добрый день!
Шен Де, смущенная этим запоздалым приветствием, кланяется. В одной руке она держит счет столяра, в другой — договор о найме.
Женщина. Спели бы вы что-нибудь, развлекли бы хозяйку!
Племянник. Дедушка начнет!
Они поют.
Песня о дыме
Дедушка.
Покуда не стала вся голова седая, Я думал, что разум пробиться мне поможет. Теперь я уж знаю, что мудрость никакая Голодный желудок наполнить не сможет. И вот я говорю: забудь про все! Взгляни на серый дым. Все холоднее холода, к которым он уходит. Вот так и ты пойдешь за ним.Мужчина.
Три шкуры сдирают за честную работу. Я поглядел и выбрал кривой, окольный путь. Но нашему брату и здесь не дали ходу. Теперь я не знаю, куда мне свернуть. И вот я говорю: забудь про все! Взгляни на серый дым. Все холоднее холода, к которым он уходит. Вот так и ты пойдешь за ним.Племянница.
Надежды — не для старых. Надеждам нужно время. Чтоб их создать сначала. Чтоб их разбить потом. Для юных — двери настежь. Но мы — путями всеми Через любые двери — в Ничто пойдем. И вот я говорю: забудь про все! Взгляни на серый дым. Все холоднее холода, к которым он уходит. Вот так и ты пойдешь за ним.Племянник (брату). Откуда у тебя вино?
Невестка. Он заложил мешок табаку.
Мужчина. Что? Этот табак был единственное, что у нас еще оставалось! Мы не прикасались к нему даже для того, чтобы уплатить за ночлег! Свинья!
Брат. Ты называешь меня свиньей за то, что моей жене холодно? Ты же сам пил. Сейчас же давай сюда кувшин!
Они дерутся. Полки с табаком падают.
Шен Де (умоляет их). О, пожалейте лавку, не ломайте ее! Это дар богов! Берите все, что хотите, но не ломайте!
Женщина (скептически). Лавка меньше, чем я предполагала. Вряд ли следовало рассказывать о ней нашей тете и другим. Если еще они припрутся, станет совсем тесно.
Невестка. Да и хозяйка как будто стала холоднее!
Снаружи раздаются голоса и стук в дверь.
Крики. Откройте! Это мы!
Женщина. Тетя, это ты? Ой, что делать?
Шен Де. Моя милая лавка! О моя надежда! Едва открылась — и уже не лавка. (Публике.)
Спасенья маленькая лодка Тотчас же идет на дно Ведь слишком много тонущих Схватились жадно за борта.Крики (снаружи). Откройте!
Интермедия под мостом
У реки, скорчившись, сидит водонос.
Ван (оглядываясь кругом). Тишина кругом. Уже четвертый день, как я здесь скрываюсь. Они меня не найдут, потому что я гляжу в оба. Я нарочно бежал в ту сторону, куда они уходили. Вчера они перешли мост, я слышал их шаги над своей головой. Сейчас они должны быть уже далеко, я в безопасности. (Ложится и засыпает.)
Музыка. Насыпь делается прозрачной, и появляются боги.
(Закрывая лицо локтем, словно защищаясь от удара.) Не говорите ничего, я все знаю! Я не нашел никого, кто захотел бы приютить вас, ни одного дома! Теперь вам все известно! Идите же дальше.
Первый бог. Нет, ты нашел. Когда тебя не было, тот, кого ты нашел, явился. Он пустил нас к себе ночевать, он охранял наш сон и посветил лампой, когда мы уходили. Ты назвал его добрым человеком, и он оказался добрым.
Ван. Так это была Шен Де?
Третий бог. Конечно!
Ван. А я, маловер, убежал! Только потому, что думал: она не может прийти. Не может прийти, потому что дела ее плохи.
Боги.
О слабый. Добросердечный, но слабый человек! С нуждою рядом — он доброты не видит. Рядом с опасностью — не видит храбрых. О слабость — ты к хорошему слепа! О приговоры слишком скорые! Отчаянье, Что слишком рано и легко приходит!Ван. Мне очень стыдно, мудрейшие!
Первый бог. Теперь, Ван, сделай нам одолжение, скорее возвращайся в столицу и найди добрую Шен Де, чтобы рассказать нам о ней. Ей теперь хорошо. Говорят, она достала денег на маленькую лавку и получила возможность следовать велению своего доброго сердца. Дай ей понять, что ты нуждаешься в ее помощи, ибо человек не может долго оставаться добрым, если от него не требуют доброты. Мы же отправимся дальше на поиски людей, которые походили бы на нашего доброго человека из Сычуани, дабы прекратить наконец разговоры о том, что добрые люди не находят себе места на земле.
Боги исчезают.
II
Табачная лавка.
Повсюду спящие люди. Лампа еще горит. Стучат.
Женщина (заспанная, поднимается). Шен Де! Стучат! Где она там?
Племянник. Вероятно, пошла за завтраком. Господин двоюродный брат заплатит!
Женщина смеется и, волоча ноги, идет к двери. Входит молодой человек, за ним столяр.
Молодой человек. Я двоюродный брат.
Женщина (в изумлении). Как? Кто вы?
Молодой человек. Меня зовут Шой Да.
Гости (поднимая один другого). Двоюродный брат! Да ведь это была шутка, у нее же нет никакого двоюродного брата! — Но вот пришел какой-то и заявляет, что он двоюродный брат! — Поразительно, в такую рань!
Племянник. Если вы двоюродный брат хозяйки, сударь, то раздобудьте нам поскорее завтрак!
Шой Да (гася лампу). Скоро придут первые покупатели, одевайтесь, живее, пожалуйста, — пора открывать мою лавку.
Мужчина. Вашу лавку? Я думаю, это лавка нашей приятельницы Шен Де?
Шой Да отрицательно качает головой.
Как, это не ее лавка?
Невестка. Здорово она надула нас. Да где же она пропадает?
Шой Да. Она задержалась. И просит вам передать, что, поскольку здесь я, она ничем больше не может вам помочь.
Женщина (потрясенная). А мы считали ее добрым человеком!
Племянник. Не верьте ему! Надо ее найти.
Мужчина. Да, мы этим сейчас займемся. (Распоряжается.) Ты и ты, и ты, и ты, вы ищите ее повсюду. Мы с дедушкой остаемся здесь, охранять крепость. Мальчик за это время раздобудет что-нибудь поесть. (Мальчику.) Видишь там на углу булочную? Проберись-ка туда и засунь побольше за пазуху.
Невестка. Не забудь захватить парочку маленьких светлых пирожков!
Мужчина. Только берегись булочника, чтоб он не поймал тебя. И смотри не наскочи на полицейского!
Мальчик кивает головой и уходит. Остальные кончают одеваться.
Шой Да. Боюсь, что кража дурно отразится на репутации заведения, где вы нашли приют.
Племянник. Не обращайте на него внимания. Мы ее сейчас найдем, и она как следует его проучит!
Племянник, брат, невестка и племянница уходят.
Невестка (на ходу). Оставьте нам что-нибудь от завтрака!
Шой Да (спокойно). Вы ее не найдете. Моя кузина, естественно, сожалеет, что не может бесконечно следовать закону гостеприимства. Увы, вас слишком много! Вы заняли табачную лавку, а она нужна мадемуазель Шен Де.
Мужчина. Наша Шен Де не смогла бы даже вымолвить что-нибудь подобное.
Шой Да. Возможно, вы и правы. (Столяру.) Вся беда в том, что нужда в этом городе слишком велика, чтобы ее одолел один человек. К сожалению, за последние одиннадцать столетий не произошло никаких изменений, с тех самых пор, как кто-то сочинил четверостишие:
— Что нужно, — губернатора спросили, — Чтоб те, кто мерзнет в городе, не мерзли? — О, одеяло в десять тысяч футов Накрыть предместья, — вот что он ответил.(Начинает приводить лавку в порядок.)
Столяр. Я вижу, вы стараетесь уладить дела вашей кузины. Кстати, за ней маленький должок — хорошо бы его погасить — за полки. Он подтвержден свидетелями. Сто серебряных долларов.
Шой Да (вытаскивает из кармана счет, не без дружеской нотки). Не кажется ли вам, что сто серебряных долларов — это чересчур?
Столяр. Нет, не кажется. И я ничего не сбавлю. Мне нужно кормить жену и детей.
Шой Да (жестко). Сколько детей?
Столяр. Четверо.
Шой Да. Тогда я предлагаю вам двадцать серебряных долларов.
Мужчина смеется.
Столяр. Вы с ума сошли? Полки из орехового дерева!
Шой Да. Пожалуйста, забирайте их.
Столяр. Что это значит?
Шой Да. Они слишком дороги для меня. Прошу вас убрать отсюда полки из орехового дерева.
Женщина. Ловко он его отбрил! (Тоже смеется.)
Столяр (неуверенно). Я требую, чтобы пришла мадемуазель Шен Де. Она, по-видимому, порядочнее вас.
Шой Да. Безусловно. Она разорена.
Столяр (решительно берет одну из полок и несет к двери). Можете валить свой товар на пол! Мне наплевать!
Шой Да (мужчине). Помогите ему!
Мужчина (тоже хватает полки и, ухмыляясь, несет к выходу). Итак, полки вон!
Столяр. Ты — собака! Что же, по-твоему, моя семья должна подыхать с голоду?
Шой Да. Я еще раз предлагаю вам двадцать серебряных долларов, и только потому, что не хочу класть свой товар на пол.
Столяр. Сто!
Шой Да равнодушно смотрит в окно. Мужчина снова берется за полки.
Не сломай по крайней мере о косяк, идиот! (В отчаянии.) Да, но они же сколочены по мерке! Они годятся только для этой дыры и больше никуда. Доски ведь разрезаны.
Шой Да. В том-то и дело. Поэтому я и даю вам только двадцать серебряных долларов. Поскольку доски разрезаны.
Женщина визжит от удовольствия.
Столяр (вдруг устало). Пропадай все пропадом! Берите полки и платите сколько хотите.
Шой Да. Двадцать серебряных долларов. (Кладет на стол две большие монеты.)
Столяр берет их.
Мужчина (неся полки обратно). Хватит за кучу порезанных досок!
Столяр. Да, хватит, чтобы напиться пьяным! (Уходит.)
Мужчина. Этого выпроводили!
Женщина (вытирая выступившие от смеха слезы). «Они из орехового дерева!» — «Забирайте их!» — «Сто серебряных долларов! У меня четверо детей!» — «Тогда я плачу двадцать». — «Но они разрезаны!» — «В том-то и дело! Двадцать серебряных долларов!» Вот как нужно обращаться с этими типами.
Шой Да. Да. (Серьезно.) А теперь — уходите.
Мужчина. Мы?
Шой Да. Да, вы. Вы воры и паразиты. Если вы уйдете сейчас же, не теряя времени на споры, вы еще можете спастись.
Мужчина. Лучше всего совсем не отвечать ему. Орать на пустой желудок не дело. Хотел бы я знать, куда девался мальчишка?
Шой Да. Да, куда девался мальчик? Я вас предупредил, что не хочу видеть его с крадеными пирожками в своей лавке. (Вдруг кричит.) Уходите!
Они остаются на своих местах.
(Снова совершенно спокойно.) Как вам угодно. (Идет к двери и низко кланяется кому-то.)
В дверях появляется полицейский.
Полагаю, что вижу перед собой представителя власти, охраняющего этот квартал.
Полицейский. Совершенно верно, господин…
Шой Да. Шой Да.
Они улыбаются друг другу.
Приятная погода сегодня!
Полицейский. Пожалуй, несколько жарко.
Шой Да. Пожалуй, несколько жарко.
Мужчина (тихо, жене). Если он будет болтать, вернется мальчишка, и нас схватят. (Пробует тайно делать Шой Да знаки.)
Шой Да (не обращая внимания). Однако по-разному судят о погоде в прохладном помещении и на пыльной улице.
Полицейский. Очень даже! По-разному!
Женщина (мужу). Успокойся! Мальчик увидит в дверях полицейского и не зайдет.
Шой Да. Входите же. Здесь прохладнее. Моя кузина и я открыли лавку. Разрешите сказать вам, что мы придаем большое значение хорошим отношениям с начальством.
Полицейский (входит в помещение). Вы очень любезны, господин Шой Да. Да, здесь действительно прохладно.
Мужчина (тихо). Он нарочно ввел сюда полицейского, чтобы мальчик не увидел его снаружи.
Шой Да. Гости! Как я слышал, дальнее знакомство моей кузины. Они здесь проездом.
Взаимное приветствие.
Мы как раз собирались распрощаться.
Мужчина (хрипло). Ну, мы пошли.
Шой Да. Я передам кузине, что вы благодарите ее за ночлег, но не имели времени ее дождаться.
С улицы доносятся шум и крики: «Держи вора!»
Полицейский. Что такое?
В дверях стоит мальчик. Из-за пазухи падают лепешки и пирожки. Женщина делает ему отчаянные знаки, чтобы он уходил. Он поворачивается и хочет уйти.
Эй, ты, стой! (Хватает его.) Откуда у тебя пирожки?
Мальчик. Вон оттуда.
Полицейский. Ага — кража?
Женщина. Мы ничего не знали. Мальчишка сделал это на свой риск и страх. Негодяй!
Полицейский. Господин Шой Да, не объясните ли вы, что здесь произошло?
Шой Да молчит.
Ага! Все пойдете со мной в участок.
Шой Да. Я вне себя, что у меня случилось нечто подобное.
Женщина. Он видел, как мальчик ушел.
Шой Да. Могу заверить вас, господин полицейский, что вряд ли я пригласил бы вас, если бы хотел скрыть преступление.
Полицейский. Само собой очевидно. Но вы понимаете, конечно, господин Шой Да, что мой долг — задержать этих людей.
Шой Да кланяется.
Вперед, марш! (Выгоняет их за дверь.)
Старик (на пороге, миролюбиво). До свиданья.
Все, кроме Шой Да, уходят. Он продолжает приводить помещение в порядок.
Входит домовладелица.
Домовладелица. Так вы, стало быть, и есть двоюродный брат! Как это понять — в моем доме арестовывают людей? Ваша кузина посмела устраивать здесь постоялый двор? Вот что получается, когда снисходишь к людям, которые еще вчера ютились в каморках и выпрашивали у булочника лепешки. Вы видите, я все знаю.
Шой Да. Вижу. Вам наговорили о моей кузине много плохого. Ее обвинили в том, что она голодала! В самом деле она жила в нищете. У нее самое дурное имя — она бедна.
Домовладелица. Она была самой обыкновенной…
Шой Да. Нищенкой. Произнесем это жестокое слово!
Домовладелица. Ах, пожалуйста, только без сентиментальностей! Я говорю о ее поведении, а не о доходах. Не сомневаюсь, что некоторые доходы все же были — иначе не было бы и лавки. Кое-какие пожилые мужчины позаботились. Откуда же взялась лавка? Сударь, это почтенный дом! Люди, которые платят здесь за квартиры, не желают жить под одной крышей с такой особой, да!
Пауза.
Я не изверг, но обязана принять это во внимание.
Шой Да (холодно). Госпожа Ми Дзю, я занят. Скажите мне прямо, во сколько обойдется нам жизнь в этом почтенном доме?
Домовладелица. Признаюсь, человек вы хладнокровный.
Шой Да (достает из-под прилавка договор на наем помещения). Плата очень высока. Я понимаю договор так, что плату нужно вносить ежемесячно.
Домовладелица (быстро). Но не людям, подобным вашей кузине.
Шой Да. Как вас понять?
Домовладелица. А так, что людям, подобным вашей кузине, полагается вносить сумму в двести серебряных долларов за полгода вперед.
Шой Да. Двести серебряных долларов! Но это же разбой! Где мне достать их? На большой оборот я не могу здесь рассчитывать. Единственная надежда, что работницы, которые шьют на цементном заводе мешки, много курят — работа, как мне говорили, изнурительная. Но они мало зарабатывают.
Домовладелица. Об этом вы должны были раньше подумать.
Шой Да. Госпожа Ми Дзю, нельзя так жестоко. Верно — моя кузина допустила непростительную ошибку, приютив бездомных. Но она исправится, я позабочусь о том, чтоб она исправилась. С другой стороны, посудите сами, разве могли бы вы найти лучшего жильца, чем человек, который знает дно жизни, потому что сам оттуда? Он будет работать как проклятый, только бы вовремя уплатить вам, он все сделает, всем пожертвует, все продаст, ни перед чем не остановится и при этом будет вести себя тихо, как мышка, как мошка, во всем вам подчинится, лишь бы снова не вернуться туда. Да такой жилец дороже золота.
Домовладелица. Двести серебряных долларов вперед, или она пойдет на улицу, откуда пришла.
Входит полицейский.
Полицейский. Надеюсь, я вам не помешаю, господин Шой Да.
Домовладелица. Полиция действительно проявляет к этой лавке совершенно исключительное внимание.
Полицейский. Госпожа Ми Дзю, надеюсь, у вас не создалось ложного впечатления. Господин Шой Да оказал нам услугу, и я специально пришел, чтобы поблагодарить его от имени полиции.
Домовладелица. Ну, меня это не касается. Буду надеяться, господин Шой Да, что вашей кузине понравится мое предложение. Я привыкла жить в согласии со своими жильцами. До свидания, господа. (Уходит.)
Шой Да. До свидания, госпожа Ми Дзю.
Полицейский. У вас недоразумения с госпожой Ми Дзю?
Шой Да. Она требует уплаты арендной платы вперед, поскольку моя кузина не кажется ей достаточно респектабельной.
Полицейский. Разве у вас нет денег?
Шой Да молчит.
Такой человек, как вы, господин Шой Да, должен же пользоваться кредитом?
Шой Да. Возможно. Но как получить кредит такому лицу, как Шен Де?
Полицейский. Разве вы не собираетесь оставаться здесь?
Шой Да. Нет. И не смогу вернуться обратно. Только проездом мне удалось протянуть ей руку помощи, лишь бы отвратить худшее. Скоро она опять будет предоставлена самой себе, и я боюсь даже думать, что ее ждет.
Полицейский. Господин Шой Да, мне очень жаль, что у вас затруднения с платой за наем. Должен признаться, что сначала мы косились на эту лавку, но сегодня ваш решительный поступок рекомендует вас с лучшей стороны. Мы, представители власти, с первого взгляда замечаем, на кого можем рассчитывать как на оплот порядка.
Шой Да (горько). Господин полицейский, чтобы спасти эту маленькую лавку, которую моя кузина считает даром богов, я готов дойти до пределов дозволенного законом. Но жестокость и хитрость помогают только против низших, ибо границы проведены разумно. Я нахожусь в положении человека, который едва покончил с крысами, как ему преградила путь река. (После маленькой паузы.) Вы курите?
Полицейский (засовывая в карман две сигары). Нам, представителям власти, было бы очень жаль потерять вас, но вы должны понять также и госпожу Ми Дзю. Шен Де — и здесь мы не должны обманываться — жила за счет того, что продавала себя мужчинам. Вы можете мне возразить: что ей оставалось делать? Чем, к примеру, платить за квартиру? Но при всем том, согласитесь, — это не респектабельно. Почему? Первое: любовь не принято продавать, иначе это будет продажная любовь. Второе: респектабельно быть не с тем, кто платит, а с тем, кого любят. Третье: не за горсть риса, а по любви. Прекрасно, скажете вы мне, но что стоит вся наша мудрость, если молоко уже пролито? Как ей быть? Она должна раздобыть плату за полгода. Господин Шой Да, признаюсь вам, — на этот вопрос я не нахожу ответа. (Напряженно думает.) Господин Шой Да. Есть! Найдите ей мужа!
Входит маленькая старушка.
Старушка. Пожалуйста, дешевую хорошую сигару для моего мужа. Завтра как раз сорок лет со дня нашей свадьбы, и у нас маленькое торжество.
Шой Да (вежливо). Сорок лет — и все еще торжество!
Старушка. Насколько это в наших средствах! У нас небольшая торговля коврами — напротив. Надеюсь, мы будем дружными соседями. Это очень важно, особенно когда времена тяжелые.
Шой Да (предлагает ей разные ящички). Боюсь, времена иными не бывают.
Полицейский. Господин Шой Да, нам нужен капитал. Так вот, я предлагаю замужество.
Шой Да (извиняющимся тоном, старушке). Я поддался соблазну и позволил себе обременить господина полицейского своими частными заботами.
Полицейский. Мы не можем уплатить за полгода. Прекрасно, мы возьмем себе в мужья небольшой капиталец.
Шой Да. Это не так легко будет сделать.
Полицейский. Почему? Чем она не партия! Маленькая развивающаяся торговля! (Старушке.) Что вы думаете об этом?
Старушка (нерешительно). Да…
Полицейский. Объявление в газете.
Старушка (сдержанно). Если барышня согласна…
Полицейский. Как она может быть не согласна? Сейчас напишу. Услуга за услугу. Не думайте, что власти не сочувствуют мелким торговцам, которые ведут суровую борьбу за существование. Вы помогаете нам, а мы за это сочиним вам объявление о намерении вступить в брак. Ха-ха-ха! (Решительно извлекает записную книжку, слюнит огрызок карандаша и пишет.)
Шой Да (медленно). Неплохая мысль.
Полицейский. «Какой… приличный… мужчина с небольшим капиталом… не исключается вдовец… желает вступить в брак… расцветающую табачную торговлю?» И еще добавим: «Обладаю привлекательной симпатичной внешностью». Ну как?
Шой Да. Если вы полагаете, что это не будет преувеличением.
Старушка (приветливо). Что вы, что вы! Я ее видела.
Полицейский вырывает из книжки листок бумаги и передает Шой Да.
Шой Да. С ужасом я наблюдаю, сколько нужно удачливости, чтобы не попасть под колеса! Сколько ухищрений! Сколько друзей! (Полицейскому.) Несмотря на всю свою решимость, я не знал, как быть с платой за наем. И вот пришли вы и помогли разумным советом. И в самом деле, я, кажется, вижу выход.
III
Вечер в городском парке.
Молодой человек в потрепанной одежде провожает глазами самолет, по-видимому, летящий высоко над парком. Он достает из кармана веревку и оглядывается по сторонам. Когда он направляется к высокой иве, на дороге показываются две проститутки. Одна уже старая, другая — племянница из семьи, обосновавшейся у Шен Де.
Молодая. Добрый вечер, миленький. Пойдешь со мной?
Сун. Не исключено, милые дамы, если вы дадите мне поесть.
Старая. Видно, рехнулся? (Молодой.) Пошли дальше. Зря потеряем время. Это же безработный летчик.
Молодая. Но в парке, наверно, уже никого не осталось, сейчас пойдет дождь.
Старая. Поглядим, авось кто-нибудь еще найдется.
Идут дальше. Осмотревшись по сторонам, Сун достает веревку и забрасывает на сук дерева. Но ему опять помешали. Обе проститутки быстро возвращаются. Они не видят его.
Молодая. Ох и ливень будет.
На дороге появляется Шен Де.
Старая. Смотри, вот идет это чудовище! Она погубила тебя и твою родню.
Молодая. Не она. Ее двоюродный брат. Она пустила нас к себе, а потом предлагала заплатить за пирожки. Против нее я ничего не имею.
Старая. Зато я имею! (Громко.) Ах вот она, наша миленькая сестрица со своим золотым горшком! Мало ей лавки, она еще хочет перехватить у нас кавалеров.
Шен Де. Что ты на меня набросилась? Я иду в чайный домик у пруда.
Молодая. Говорят, ты выходишь замуж за вдовца с тремя детьми!
Шен Де. Да, я должна там встретиться с ним.
Сун (нетерпеливо). Уберетесь вы наконец, потаскухи! И здесь покоя от них нет!
Старая. Заткни глотку!
Обе проститутки уходят.
Сун (кричит им вслед). Стервятники! (Публике.) Даже в таком уединенном месте они рыщут в поисках своих жертв, даже в кустах, под дождем они норовят поймать своих покупателей.
Шен Де (сердито). Почему вы браните их? (Замечает веревку.) Ой!
Сун. Чего вытаращилась?
Шен Де. Зачем веревка?
Сун. Проходи, сестрица, проходи! У меня нет денег, даже медяка. Но, будь он у меня, я купил бы не тебя, а кружку воды.
Начинается дождь.
Шен Де. Зачем веревка? Вы не должны этого делать!
Сун. Тебе-то что? Убирайся!
Шен Де. Дождь.
Сун. Только попробуй стать под это дерево.
Шен Де (продолжает неподвижно стоять под дождем). Нет.
Сун. Отстань, говорю, напрасно стараешься. Со мной у тебя ничего не выйдет. Ко всему прочему, ты слишком некрасива. Кривые ноги.
Шен Де. Это неправда.
Сун. Не показывай! Черт с тобой, иди под дерево, раз дождь пошел.
Шен Де (медленно подходит и садится под деревом). Почему вы решились на это?
Сун. Хочешь знать? Ну, так я скажу, чтобы только отделаться от тебя.
Пауза.
Ты знаешь, что такое летчик?
Шен Де. Да, в чайном домике я видела летчиков.
Сун. Нет, ты не видела их. А если видела, то пустобрехов и дураков в кожаных колпаках, у которых нет слуха для мотора и чувств для машины. Попадает такой тип в ящик, потому что у него есть чем подмазать управляющего ангаром. Скажи такому: дай твоему ящику упасть с высоты двух тысяч футов сквозь облака, а потом поймай его одним нажимом рычага, и он ответит: этого нет в договоре. Кто не умеет посадить на землю самолет, точно это его собственный зад, тот не летчик, а болтун. А я летчик. И все-таки самый большой дурак на свете — это я сам, потому что я прочел в пекинской школе все книги о полетах. Одну лишь страницу одной только книги я не прочел, а на этой странице было написано, что летчики больше не нужны. Итак, я летчик без самолета, почтовый летчик без почты. Да что там — разве ты можешь понять.
Шен Де. Думаю, все-таки могу.
Сун. Нет, раз я говорю тебе, что ты не можешь понять, значит, не можешь.
Шен Де (смеясь и плача). В детстве у нас был журавль со сломанным крылом. Он был ласковый, терпеливо переносил наши шалости, важно шествовал с нами и только кричал, чтоб мы не перегоняли его. Но осенью и весной, когда над деревней тянулись большие стаи, он терял покой, и я хорошо понимала его.
Сун. Не реви.
Шен Де. Нет.
Сун. Это портит цвет лица.
Шен Де. Я уже перестала. (Вытирает рукавом слезы.)
Сун (прислонясь к дереву, но не поворачиваясь к Шен Де, протягивает руку и трогает ее лицо). Ты даже не умеешь как следует вытереть лицо. (Вытирает ей лицо носовым платком.)
Пауза.
Раз ты пристаешь, чтоб я не повесился, открой же по крайней мере рот.
Шен Де. Что мне сказать?
Сун. Почему, собственно, ты вздумала вынуть меня из петли, сестра?
Шен Де. Я испугалась. Вы, наверно, пошли на это, потому что вечер такой хмурый. (Публике.)
В нашей стране Не должно быть хмурых вечеров И высоких мостов над рекой. Опасен также предутренний час, И вообще зимняя пора. Дело в том, что бедняка Может доконать любой пустяк. И он отшвырнет от себя Невыносимую жизнь.Сун. Расскажи о себе.
Шен Де. О чем? У меня есть маленькая лавка.
Сун (насмешливо). Ну да? Ты ни за кем не охотишься, у тебя есть лавка!
Шен Де (решительно). У меня есть лавка, но прежде я была гулящей.
Сун. Лавку тебе, видно, подарили боги?
Шен Де. Да.
Сун. В один прекрасный вечер они появились и сказали: вот тебе деньги.
Шен Де (с тихим смехом). В одно прекрасное утро.
Сун. Нельзя сказать, чтобы с тобой было весело.
Шен Де (после паузы). Я умею немного играть на цитре и передразнивать людей. (Говорит низким голосом почтенного человека.) «Нет, как вам это нравится, я, кажется, забыл свой кошелек!» Но потом я получила лавку. Тогда я первым делом подарила цитру. Теперь, сказала я себе, я могу быть как истукан, теперь это не нужно!
Теперь я богачка, сказала я себе. Хожу одна. И сплю одна. Целый год, сказала я себе, Не буду иметь дело с мужчинами.Сун. Но сейчас ты выходишь замуж? За того, в чайном домике, на пруду.
Шен Де молчит.
А что ты, в сущности, знаешь о любви?
Шен Де. Все.
Сун. Ничего, сестра. Ты скажешь, что тебе было хорошо?
Шен Де. Нет.
Сун (не поворачиваясь, гладит ее по лицу). А так хорошо?
Шен Де. Да.
Сун. Я вижу, тебе немного надо. Ну что это за город!
Шен Де. У вас нет друзей?
Сун. Целая куча, но ни одного, у которого хватило бы терпения выслушать, что я все еще без работы. Они делают при этом такое лицо, словно им говорят, что в море еще осталась вода. А у тебя разве есть друг?
Шен Де (нерешительно). Двоюродный брат.
Сун. Тогда остерегайся его.
Шен Де. Он был здесь один-единственный раз. Теперь он ушел и никогда больше не вернется. Но почему такая безнадежность? Есть поговорка: говорить без надежды — значит говорить зло.
Сун. Ну, ну — дальше! Все-таки человеческий голос.
Шен Де (горячо). Как бы ни свирепствовала нужда, все же есть на свете отзывчивые люди. Когда я была маленькой, я упала однажды с вязанкой хвороста. Какой-то старик поднял меня и даже дал грошик. Я часто вспоминала об этом. Те, у кого мало еды, охотно делятся с другими. Вероятно, люди рады показать, на что они способны, но разве не лучшее из того, на что они способны, — доброта? Злоба — это просто отсутствие способностей. Кто поет песню, или строит машину, или сажает рис, тот доброжелательный. И вы тоже такой.
Сун. Я вижу, тебе немного надо.
Шен Де. Да. Теперь я почувствовала каплю дождя.
Сун. Где?
Шен Де. Между глаз.
Сун. Ближе к правому или левому?
Шен Де. К левому.
Сун. Хорошо. (Через некоторое время, сонным голосом.) А с мужчинами ты покончила?
Шен Де (улыбаясь). Но ноги у меня не кривые.
Сун. Быть может, и нет.
Шен Де. Наверняка нет.
Сун (устало прислонясь к дереву). Но так как я уже два дня ничего не ел и со вчерашнего дня не пил, сестра, то не смог бы любить тебя, даже если бы захотел.
Шен Де. Хорошо, когда идет дождь.
Появляется водонос Ван. Он поет
Песня водоноса во время дождя
Гром гремит, и дождик льется, Ну а я водой торгую, А вода не продается И не пьется ни в какую. Я кричу: «Воды купите!» Но никто не покупает. В мой карман за эту воду Ничего не попадает. Купите воды, собаки! Если б дождь не выпадал бы, Если б он лет семь не лился, Вот бы я с воды разжился: Я по капле продавал бы! — Дай воды! Воды скорее! — У ведра б толпа кричала. Покупателя любого Я бы оглядел сначала — А вдруг он мне не понравится? Глотка бы у вас повысохла, собаки!(Смеясь.)
Дождик брызгает все пуще. Вы без денег воду пьете И большое вымя тучи, Не платя гроша, сосете. Ну а я кричу, как прежде: «Воду, воду покупайте!» И никто не покупает… Купите воды, собаки!Дождь перестал.
Шен Де (видит Вана и подбегает к нему). Ах, Ван, ты вернулся? Твоя посуда у меня.
Ван. Спасибо, что сохранила. Как поживаешь, Шен Де?
Шен Де. Хорошо. Я познакомилась с очень умным и смелым человеком. Я хотела бы купить у тебя кружку воды.
Ван. Запрокинь голову, и у тебя будет полон рот воды. Вон с той ивы все еще капает.
Шен Де. Но я хочу твоей воды, Ван.
Принесенной издалека И замучившей тебя, Продающейся так плохо, Потому что идет дождь. А мне она нужна для господина, Что стоит вот там. Он летчик, а летчик Смелее других людей. Вместе с облаками, Вопреки ураганам, Он летит сквозь небеса и приносит Дружеские письма Друзьям в далекой стране.(Платит и бежит с кружкой к Суну; обернувшись к Вану, кричит смеясь.) Он уснул. Безнадежность, дождь и я — мы утомили его.
Интермедия
Место ночлега Вана — водосточная труба.
Водонос спит. Музыка. Труба становится прозрачной, и спящему являются боги.
Ван (сияя). Я видел ее, мудрейшие! Совсем такая же, как прежде!
Первый бог. Это нас радует.
Ван. Она любит! Она показала мне своего друга. Ей действительно хорошо.
Первый бог. Приятно слышать. Надо надеяться, это укрепит ее стремление к добру.
Ван. О да! Она делает столько добра, сколько в ее силах,
Первый бог. Какие же ее добрые дела? Расскажи, милый Ван!
Ван. Для каждого она находит приветливое слово.
Первый бог (с любопытством). Ну, ну?
Ван. Редко человек уходит из ее маленькой лавки без табака потому лишь, что у него нет денег.
Первый бог. Это звучит неплохо. Еще что?
Ван. Она приютила у себя семью из восьми человек!
Первый бог (торжествуя, обращается ко второму). Из восьми человек! (Вану.) И быть может, это еще не все?
Ван. Она купила у меня кружку воды, несмотря на то, что шел дождь.
Первый бог. Все это в общем не больше чем мелкая благотворительность. Впрочем, это понятно.
Ван. Но благотворительность стоит денег. Доходы от маленькой лавки всего не покроют.
Первый бог. Конечно, конечно! Но хороший садовник творит чудеса даже на маленьком клочке земли.
Ван. Шен Де так и делает! Каждое утро она раздает рис, и это отнимает больше половины ее дохода. Можете мне поверить, мудрейшие.
Первый бог (слегка разочарованный). Я ничего и не говорю. И не могу сказать, чтоб я был недоволен началом.
Ван. Примите во внимание — времена нелегкие! Ей уже пришлось однажды вызывать на помощь двоюродного брата, чтобы спасти свою лавчонку.
Едва нашелся укрытый от ветра угол, Как со всего зимнего неба Налетели крикливые птичьи стаи. И дрались за место, и голодная лиса Прокусила тонкую стенку, И одноногий волк Опрокинул маленькую миску с едой.Короче говоря, ей самой было не справиться с делами. Но все согласны с тем, что она добрая девушка. Ее уже везде называют — «ангел предместий». Так много доброго исходит из ее лавки! Что бы там ни говорил столяр Лин То.
Первый бог. А что? Разве столяр Лин То плохо отзывается о ней?
Ван. Ах, он жалуется только, что полки в лавке не оплачены полностью.
Второй бог. Что ты говоришь? Не заплатили столяру? В лавке Шен Де? Как же она допустила?
Ван. Вероятно, у нее не хватило денег.
Второй бог. Это не ответ. Раз должна — плати! Надо избегать даже намека на непорядочность. Сперва блюди букву закона, а уж потом его дух.
Ван. Но в этом виноват двоюродный брат, мудрейшие, не она.
Второй бог. Тогда этот двоюродный брат не переступит больше ее порога!
Ван (подавленный). Понимаю, мудрейший. В оправдание Шен Де да позволено мне будет сказать, что двоюродный брат известен как весьма почтенный коммерсант. Даже полиция его ценит.
Первый бог. Мы и не собираемся осуждать господина двоюродного брата, прежде чем выслушаем его. Признаться, я плохо разбираюсь в коммерции, и, может быть, надо выяснить, что в коммерции принято и что нет. Ах, эта мне коммерция! Разве это обязательно? Все помешались на делах! Разве семь добрых королей занимались коммерцией? А праведный Кун торговал рыбой? Что общего у коммерции с достойной честной жизнью?
Второй бог (очень сердито). Так или иначе, это не должно повториться. (Поворачивается, чтобы идти.)
Оба других тоже собираются идти.
Третий бог (смущенно). Прости нашу резкость. Мы очень устали сегодня и не выспались. Ночлег! Богатые дают нам наилучшие рекомендации для бедных, но бедные не имеют достаточно жилья.
Боги (удаляясь, бранятся). Слаба даже лучшая из них. — Ну, что тут особенного. — Мало! Мало! Понятно, все это от чистого сердца, а толку-то чуть! Она должна была бы по меньшей мере…
Их голоса больше не слышны.
Ван (кричит им вслед). Не гневайтесь, мудрейшие! Не требуйте слишком многого для начала!
IV
Перед табачной лавкой Шен Де.
Цирюльня, торговля коврами и табачная лавка Шен Де. Понедельник. У лавки Шен Де ждут остатки семьи из восьми человек: дедушка, невестка, а также безработный и вдова Шин.
Невестка. Сегодня она не ночевала дома!
Шин. Неслыханно! Наконец-то убрался этот свирепый двоюродный братец, и время от времени она снисходит к нам и выделяет кое-что из своих запасов риса. И этого, изволите ли видеть, уже достаточно, чтоб пропадать целыми днями и шляться одним богам известно где!
В цирюльне слышные громкие голоса. Оттуда, спотыкаясь, выбегает Ван, за ним толстый цирюльник с тяжелыми щипцами для завивки волос в руках.
Господин Шу Фу. Я тебе покажу, как приставать к моим клиентам со своей вонючей водой! Бери свою кружку и убирайся прочь!
Ван хочет взять кружку, которую протягивает ему господин Шу Фу, тот ударяет его щипцами по руке так, что Ван громко вскрикивает.
Получай! Впредь будет тебе наука. (Пыхтя, возвращается в цирюльню.)
Безработный (поднимает кружку и протягивает ее Вану). За избиение можешь подать в суд.
Ван. Рука пропала.
Безработный. Что-нибудь сломано?
Ван. Я не могу двинуть ею.
Безработный. Садись и полей ее водой!
Ван садится.
Шин. Тебе-то вода ничего не стоит.
Невестка. Уже восемь утра, а тут лоскутка льняного не найдешь! Шашни где-то заводит. Позор!
Шин (мрачно). Она забыла о нас!
По улице идет Шен Де, неся горшок с рисом.
Шен Де (публике). Я никогда еще не видела города ранним утром. В эти часы я лежала всегда, накрытая с головой грязным одеялом, оттягивая ужас пробуждения. Сегодня я шла среди мальчишек-газетчиков, мужчин, поливающих водой асфальт, тележек со свежими овощами из деревень. Я прошла длинный путь от квартала Суна до своего дома, но с каждым шагом мне становилось веселей. Я всегда слыхала, что, когда любят, витают в облаках, но ведь самое чудесное, что идешь по земле, по асфальту. Поверьте мне, дома в ранние утренние часы похожи на зажженные костры из щебня, когда небо уже розовое, но еще прозрачное, потому что нет пыли. Поверьте мне, вы много теряете, если не любите и не видите города в час, когда он поднимается со своего ложа, как бодрый старик ремесленник, который вдыхает свежий воздух и берется за инструмент, как это воспевают поэты. (Ожидающим.) Доброе утро! Вот рис! (Раздает рис, потом видит Вана.) Доброе утро, Ван. Сегодня я беспечна. По пути я разглядывала себя в каждой витрине, и теперь мне хочется купить шаль. (Немного помедлив.) Мне так хочется выглядеть красивой. (Быстро входит в лавку, где продаются ковры.)
Господин Шу Фу (снова появляясь в дверях, публике). Я поражен, до чего прекрасна сегодня владелица табачной лавки мадемуазель Шен Де, которую я до сих пор совсем не замечал. Всего три минуты, как я видел ее, но чувствую, что уже влюблен. Удивительно симпатичная особа! (Вану.) А ты — прочь, негодяй! (Возвращается в цирюльню.)
Шен Де, очень пожилая супружеская пара — торговец коврами и его жена — выходят из лавки. Шен Де несет шаль, торговец коврами — зеркало.
Старуха. Она очень нарядна и совсем недорога — в ней маленькая дырочка.
Шен Де (смотрит на шаль, которую держит старуха). Зеленая тоже нарядна.
Старуха (улыбаясь). Но, к сожалению, в ней нет изъяна.
Шен Де. Да, уж такая беда. Я со всей своей лавкой не могу позволить себе чего-нибудь получше. У меня еще мало доходов и уже столько расходов.
Старуха. Благотворительные дела. Зачем же столько? В первое время каждая чашка риса играет роль, скажете — нет?
Шен Де (примеряет бракованную шаль). Да, так уж водится, но сейчас я беспечна. Идет мне этот цвет?
Старуха. Об этом следует спросить мужчину.
Шен Де (поворачиваясь к старику). К лицу она мне?
Старик. Спросите не меня…
Шен Де (очень вежливо). Нет, я спрашиваю вас.
Старик (так же вежливо). Шаль идет вам. Только накиньте ее матовой стороной наружу.
Шен Де платит.
Старуха. Если она вам не понравится, вы всегда можете ее обменять. (Отводит Шен Де в сторону.) Есть у него кое-какие сбережения?
Шен Де (смеясь). О нет.
Старуха. Как же заплатить за помещение?
Шен Де. Плату! Совсем позабыла.
Старуха. Так я и думала! А в следующий понедельник уже первое. Мне бы нужно с вами кое о чем поговорить. Знаете, мой муж и я, после того как мы узнали вас, стали сомневаться насчет того брачного объявления — и решили в крайнем случае прийти вам на помощь. Мы кое-что отложили и смогли бы одолжить вам двести серебряных долларов. Хотите, отдадите нам в заклад ваши запасы табака. Письменное соглашение между нами, конечно, не обязательно.
Шен Де. Вы в самом деле хотите одолжить деньги такому легкомысленному человеку?
Старуха. Сказать откровенно, вашему двоюродному брату, который, конечно, не легкомыслен, мы, возможно, и не одолжили бы, вам же — со спокойной душой.
Старик (подходя к ним). Поладили?
Шен Де. Если бы боги слышали, что говорила ваша жена, господин Фен. Они ищут добрых людей, которые счастливы. А вы, должно быть, счастливы, помогая мне, я ведь попала в беду из-за любви.
Старики с улыбкой смотрят друг на друга.
Старуха. Вот деньги. (Передает Шен Де конверт.)
Шен Де берет его и кланяется. Старики тоже кланяются. Они идут обратно в свою лавку.
Шен Де (Вану, высоко поднимая конверт). Плата за полгода. Разве не чудо? А что ты скажешь о моей новой шали, Ван?
Ван. Ты купила ее ради того, кого я видел в городском парке?
Шен Де утвердительно кивает головой.
Шин. Лучше бы взглянули на его сломанную руку, чем болтать о своих сомнительных похождениях!
Шен Де (испуганно). Что с твоей рукой?
Шин. Цирюльник повредил ее щипцами на наших глазах.
Шен Де (ужасаясь своей невнимательности). А я ничего не заметила! Сейчас же иди к врачу, не то рука одеревенеет и ты никогда не сможешь как следует работать. Какое несчастье! Вставай скорее! Иди же, иди!
Безработный. Ему нужен не врач, а судья! Он вправе потребовать от богатого цирюльника вознаграждение за ущерб.
Ван. Ты думаешь, есть надежда?
Шин. Если только она сломана.
Ван. Кажется, да. Смотри, как распухла. Ты думаешь, дадут пожизненную пенсию?
Шин. Во всяком случае, тебе нужен свидетель.
Ван. Но вы же все видели! И можете подтвердить. (Оглядывается кругом.)
Безработный, дедушка, невестка сидят у стены дома и едят. Никто не поднимает глаз.
Шен Де (Шин). Вы же сами видели!
Шин. Не хочу связываться с полицией.
Шен Де (невестке). Тогда вы!
Невестка. Я? Я не смотрела!
Шин. Как не смотрели? Я сама видела, что вы смотрели! Вы только боитесь, потому что у цирюльника — власть.
Шен Де (дедушке). Я уверена, что вы не откажетесь засвидетельствовать.
Невестка. На его показания не обратят внимания. Он выжил из ума.
Шен Де (безработному). Дело, возможно, идет о пожизненной пенсии.
Безработный. У меня уже два привода за попрошайничество. Мое показание скорее повредит ему.
Шен Де (недоверчиво). Выходит, никто из вас не решается сказать, что здесь было? Среди бела дня человеку перебили руку, все видели, и все молчат? (С гневом.)
О вы, несчастные! Вашего брата оскорбляют, а вы закрываете глаза! Застигнутый врасплох кричит, а вы молчите? Насильник ходит меж вами и выбирает жертву, А вы говорите: Он пощадит нас, Потому что мы покорны. Что это за город? Что вы за люди? Если городом правят несправедливо — он должен восстать. А если он не восстает — пусть погибнет в огне Еще до наступления ночи.Ван, если тот, кто видел, — отказывается свидетельствовать, то я скажу, что видела я.
Шин. Лжесвидетельство.
Ван. Не знаю, вправе ли я это принять. Но, может быть, все-таки должен. (Смотрит на свою руку, озабоченно.) Как вы находите, она уже достаточно распухла? Мне кажется, опухоль уже спала?
Безработный (успокаивает его). Нет, опухоль ничуть не спала.
Ван. В самом деле? Пожалуй, она стала даже чуть больше. Видимо, все-таки сломан сустав. Лучше сразу побегу к судье! (Осторожно поддерживая руку, не сводя с нее глаз, быстро уходит.)
Шин бежит в цирюльню.
Безработный. Она помчалась к цирюльнику, чтобы подольститься к нему.
Невестка. Мы не можем изменить мир.
Шен Де (удрученная). Я не хотела вас обидеть. Я просто испугалась. Нет, хотела. Прочь с моих глаз!
Безработный, невестка и дедушка, надувшись, жуя, уходят.
(Публике.)
Они уже не отвечают. Стоят, куда их поставят. Велишь уйти — немедленно уходят! Их не задеть ничем. И только запах пищи Их заставляет приподнять глаза.Вбегает старая женщина. Это мать Суна, госпожа Ян.
Госпожа Ян (запыхавшись). Вы мадемуазель Шен-Де? Сын мне все рассказал. Я мать Суна, госпожа Ян. Подумайте только, у него есть надежда снова стать летчиком! Сейчас пришло письмо из Пекина. От управляющего ангаром почтовых самолетов.
Шен Де. Он сможет опять летать? О, госпожа Ян!
Госпожа Ян. Однако это стоит огромных денег: пятьсот серебряных долларов.
Шен Де. Много. Но не отказываться же из-за денег? У меня есть лавка.
Госпожа Ян. Ах, если бы вы могли ему помочь!
Шен Де (обнимает ее). Если бы я могла ему помочь!
Госпожа Ян. Вы дали бы способному человеку возможность выдвинуться.
Шен Де. Как они смеют мешать человеку быть полезным! (После паузы.) За лавку я выручу слишком мало, а эти двести долларов мне одолжили. Вы можете, конечно, взять их сейчас же. Я продам запасы табака и верну долг. (Дает ей деньги стариков.)
Госпожа Ян. Ах, мадемуазель Шен Де, это ведь помощь тому, кто в ней нуждается. Вы знаете, как они его здесь называли? Мертвым летчиком. Раз он больше не летает, значит, он — мертвый.
Шен Де. Однако нам не хватает еще трехсот серебряных долларов. Нужно подумать, госпожа Ян. (Медленно.) Я знаю кое-кого, кто, пожалуй, мог бы помочь. Ах, я не хотела бы звать его больше — он слишком жесток и слишком хитер. Разве что в последний раз?.. Но летчик должен летать! Это ясно.
Отдаленный гул мотора.
Госпожа Ян. Ах, если бы тот, о ком вы говорите, мог достать деньги! Смотрите — утренний почтовый самолет, он летит в Пекин!
Шен Де (решительно). Помашите, госпожа Ян! Летчик, наверно, увидит нас! (Машет своей шалью.) Помашите тоже!
Госпожа Ян (машет). Вы знаете того, кто летит?
Шен Де. Нет. Того, кто будет летать. Пусть летит потерявший надежду, госпожа Ян. Пусть хоть один сможет подняться над всей этой бедой, над всеми нами! (Публике.)
Ян Сун, мой любимый, вместе с облаками, Вопреки ураганам, Летит сквозь небеса и приносит Дружеские письма Друзьям в далекой стране.Интермедия перед занавесом
Шен Де входит, держа в руках маску и костюм Шой Да, и поет
Песню о беспомощности богов и добрых людей
У нас в стране Полезному мешают быть полезным. Он может доказать, что он полезен, Лишь получив поддержку сильных. Добрые Беспомощны, а боги — бессильны. Почему У них, богов, нет крейсеров и танков, Бомбардировщиков и бомб, и пушек, Чтобы злых уничтожать, а добрых — оберечь? И нам было бы лучше и богам.(Надевает костюм Шой Да и делает несколько шагов его походкой.)
Добрые — у нас в стране Добрыми не могут оставаться: Пустые миски — едоки дерутся. Ах, все заветы божьи От нищеты не помогают. Почему К нам на базары боги не приходят, Чтоб оделять довольством, улыбаться И подкрепленных хлебом и вином Учить друг с другом дружески общаться?(Надевает маску Шой Да и продолжает петь его голосом.)
Чтобы добраться с ложкою до чашки, Нужна жестокость. Та жестокость, на которой зиждутся империи. Не раздавив сперва двенадцать нищих, Тринадцатому не помогут. Почему Не заявляют боги там, в эфире, Что время дать всем добрым и хорошим Возможность жить в хорошем, добром мире? Почему Они нас, добрых, к пушкам не приставят И не прикажут нам: огонь! О, почему Терпенье терпят боги?V
Табачная лавка.
За прилавком сидит Шой Да и читает газету. Он не обращает ни малейшего внимания на Шин, которая, болтая без умолку, занимается уборкой.
Шин. Такая лавчонка живо прогорит, если только просочатся кой-какие слухи. Поверьте мне, я знаю, что говорю. Давно пора такому порядочному человеку, как вы, вмешаться в темную историю Шен Де с этим Ян Суном с Желтой улицы. Не забывайте, что господин Шу Фу, живущий напротив цирюльник, который владеет двенадцатью домами и только одной-единственной и к тому же старой женой, не далее чем вчера намекнул, и не кому другому, а мне лично, на свой чрезвычайно лестный для барышни интерес к ней. Он даже справлялся уже о ее имущественном положении. О чем это говорит, как не о настоящей любви? (Не получая никакого ответа, наконец выходит с ведром.)
Голос Суна (снаружи). Это лавка мадемуазель Шен Де?
Голос Шин. Да. Но сегодня здесь двоюродный брат.
Шой Да подбегает к зеркалу легкой походкой Шен Де и только собирается поправить прическу, как замечает в зеркале свою ошибку. Он возвращается с тихим смехом на прежнее место. Появляется Ян Сун, за ним идет Шин. Она проходит мимо него в лавку.
Сун. Я Ян Сун.
Шой Да кланяется.
Шен Де здесь?
Шой Да. Ее здесь нет.
Сун. Но вам, вероятно, известны наши отношения. (Обводит взглядом лавку.) Настоящий магазин! А мне казалось, что она немного прихвастнула. (С удовлетворением заглядывает в ящички и фарфоровые горшочки.) Человече! Я снова буду летать! (Берет сигару.)
Шой Да дает ему прикурить.
Как вы думаете, сможем мы выколотить из лавки еще триста серебряных долларов?
Шой Да. Разрешите спросить: вы намерены ее сейчас продать?
Сун. У нас же нет трехсот долларов наличными.
Шой Да качает головой.
Со стороны Шен Де было очень мило, что она сразу дала двести. Но недостает трехсот, а без них у меня ни черта не получится.
Шой Да. Мне кажется, она поторопилась обещать вам деньги. Это может стоить ей лавки. Говорят: поспешность — ветер, опрокидывающий здание.
Сун. Мне нужны деньги — сейчас или никогда. И девушка не принадлежит к тем, которые долго задумываются, когда нужно что-нибудь отдать. Между нами, мужчинами: до сих пор она ни в чем не колебалась.
Шой Да. Так.
Сун. Что говорит только в ее пользу.
Шой Да. Могу я узнать, для чего предназначены пятьсот серебряных долларов?
Сун. Вполне. Я вижу, вы меня прощупываете. Управляющий ангаром в Пекине, мой друг по летной школе, устроит меня, если я выложу ему пятьсот серебряных долларов.
Шой Да. Не слишком ли много?
Сун. Нет. Ему придется уличить в оплошности летчика, у которого большая семья и который поэтому очень ревностный служака. Понятно? Кстати, это между нами, Шен Де ничего не должна об этом знать.
Шой Да. Может быть. Однако вот что: не продаст ли управляющий ангаром в следующем месяце также и вас?
Сун. Только не меня. Я не позволю себе оплошности. Я слишком долго был безработным.
Шой Да (кивает головой). Голодная собака быстрее везет тележку домой. (Некоторое время смотрит на Суна испытующим взглядом.) Дело рискованное. Господин Ян Сун, вы требуете от моей кузины, чтобы она отказалась от своего маленького имущества и от всех друзей в этом городе и целиком вручила свою судьбу вам. Я полагаю, у вас есть намерение жениться на Шен Де?
Сун. Да, я к этому готов.
Шой Да. Но разве в таком случае вам не жаль спустить лавку за несколько серебряных долларов? Когда нужно быстро продать, всегда получаешь меньше. Двести серебряных долларов, которые у вас в руках, оплатили бы помещение за полгода. Разве вас не привлекает перспектива табачной торговли?
Сун. Меня? Чтобы Ян Суна, летчика, увидели стоящим за прилавком: «Желаете ли вы, уважаемый господин, крепкую сигару или сигару полегче?» Нет, это не дело для Ян Сунов, по крайней мере не в этом столетии!
Шой Да. Позвольте вас спросить, а летать — это дело?
Сун (достает из кармана письмо). Почтеннейший, я буду получать двести пятьдесят серебряных долларов в месяц! Взгляните сами — почтовые марки и штемпель Пекина.
Шой Да. Двести пятьдесят серебряных долларов? Немало.
Сун. А вы думали, я летаю даром?
Шой Да. Видно, должность подходящая! Господин Ян Сун, кузина уполномочила меня помочь вам получить место летчика, ведь для вас оно — все. Я понимаю мою кузину и не вижу оснований, почему бы ей не следовать влечению своего сердца. Она имеет полное право познать радости любви. Я готов превратить в деньги все, что здесь есть. Вот идет владелица дома госпожа Ми Дзю, воспользуюсь случаем и посоветуюсь с ней насчет продажи.
Домовладелица (входит). Добрый день, господин Шой Да. Вы осведомлены о том, что срок арендной платы истекает послезавтра?
Шой Да. Госпожа Ми Дзю, обстоятельства складываются так, что моя кузина вряд ли сможет продолжать заниматься табачной торговлей. Она собирается замуж, и будущий супруг (представляет Ян Суна) берет ее с собой в Пекин, где они начнут новую жизнь. Если я получу за свой табак достаточную сумму, я продам лавку.
Домовладелица. Сколько же вам нужно?
Сун. Триста наличными.
Шой Да (быстро). Нет, пятьсот!
Домовладелица (Суну). Может быть, я смогу помочь вам. (Шой Да.) Сколько стоил ваш табак?
Шой Да. Кузина в свое время заплатила за него тысячу серебряных долларов и пока еще очень мало продала.
Домовладелица. Тысяча серебряных долларов! Ее, конечно, надули. Вот что я вам скажу: если вы послезавтра съедете, я плачу триста серебряных долларов за всю лавку.
Сун. По рукам! А, старик?
Шой Да. Мало!
Сун. Хватит!
Шой Да. Мне нужно по меньшей мере пятьсот.
Сун. Зачем?
Шой Да. Позвольте мне поговорить с женихом кузины. (Отводит Суна в сторону.) Весь табак заложен двум старикам за двести серебряных долларов, которые вручены вам.
Сун (нерешительно). Есть по этому поводу какое-нибудь письменное соглашение?
Шой Да. Нет.
Сун (после маленькой паузы, домовладелице). Мы согласны на триста.
Домовладелица. Мне еще нужно знать, свободна ли лавка от долговых обязательств.
Сун. Отвечайте же.
Шой Да. Свободна.
Сун. Когда можно получить триста долларов?
Домовладелица. Послезавтра, у вас еще останется время обдумать. Если вы можете подождать месяц, вы получите больше. Я даю триста, и то исключительно потому, что рада помочь вам. Ведь дело, как я понимаю, идет о счастье юной четы. (Уходит.)
Сун (кричит ей вслед). Согласны! Ящички, горшочки, мешочки — все за триста, и конец мучениям! (Шой Да.) А если бы мы получили до послезавтра где-нибудь больше? Тогда мы, пожалуй, даже вернули бы эти двести.
Шой Да. За такой срок? Мы не получим даже доллара сверх того, что нам предлагает Ми Дзю. Есть у вас деньги на поездку вдвоем и на первое время?
Сун. Конечно.
Шой Да. Сколько же?
Сун. Так или иначе, я достану, даже если бы пришлось их украсть.
Шой Да. Ах так, значит, и эту сумму нужно сначала еще раздобыть?
Сун. Не лезь в бутылку, старик. Я доберусь до Пекина, чего бы мне это ни стоило.
Шой Да. Но для двоих это обойдется не так дешево.
Сун. Для двоих? Ведь Шен Де я оставляю здесь. Первое время она была бы для меня, прямо скажем, обузой.
Шой Да. Понимаю.
Сун. Что вы уставились на меня, как на дырявый баллон от масла? Выше себя не прыгнешь.
Шой Да. А на какие средства, по-вашему, будет жить моя кузина?
Сун. Надеюсь, вы поможете?
Шой Да. Постараюсь.
Пауза.
Я хотел бы, чтобы вы вернули мне лично двести серебряных долларов, господин Ян Сун, и оставили их здесь до тех пор, пока не предъявите два билета в Пекин.
Сун. Знаешь что, шурин, я просил бы тебя не вмешиваться.
Шой Да. Мадемуазель Шен Де…
Сун. Предоставьте это мне.
Шой Да. …быть может, не согласится продать свою лавку, если узнает…
Сун. Все равно согласится.
Шой Да. А моих возражений вы не опасаетесь?
Сун. Почтеннейший!
Шой Да. Вы, по-видимому, забыли, что она человек и имеет разум.
Сун (весело). Меня всегда поражало — чего только не воображают об особах женского пола да еще об их разуме! А слышали вы когда-нибудь, например, о могуществе любви и о зове плоти? Вы надеетесь на ее разум? Разума у нее нет. Ее слишком много унижали в течение всей жизни, беднягу! Когда я положу руку ей на плечо и скажу: «Ты пойдешь со мной!» — она услышит колокольный звон и не узнает даже родной матери.
Шой Да (с трудом). Господин Ян Сун!
Сун. Господин… как вас там!
Шой Да. Моя кузина предана вам, потому что…
Сун. Скажем, потому, что ей нравится, когда я ее хватаю! Заруби себе на носу! (Достает из ящика еще одну сигару, потом кладет две в карман и в конце концов берет весь ящик под мышку.) Ты придешь к ней не с пустыми руками: со свадьбой решено. И тогда она принесет триста, или ты их принесешь, или она или ты! (Уходит.)
Шин (высунув голову из дверей задней комнаты). Противный субъект! Вся Желтая улица уже знает, что он держит девчонку в руках.
Шой Да (кричит). Лавка пропала! Он не любит! Это крушение. Гибель. (Начинает метаться по комнате, как пойманное животное, все время повторяя: «Лавка пропала!» Потом вдруг останавливается перед Шин и обращается к ней.) Шин, вы выросли в сточной канаве и я тоже. Разве мы легкомысленны? Нет. Разве когда надо, мы не способны на жестокость? Нет. Я готов схватить вас за горло и трясти до тех пор, пока вы не выплюнете монету, которую украли у меня. Вы это знаете. Времена ужасны, этот город — ад, но мы карабкаемся вверх по гладкой стене. И вдруг кого-нибудь из нас постигает несчастье — любовь. Этого достаточно, все погибло. Малейшая слабость — и человека нет. Как освободиться от всех слабостей, и прежде всего от самой смертоносной любви? Она невыносима для человека! Она слишком дорога! Но скажите, можно ли вечно быть начеку? Что это за мир?
Там поцелуют, а потом задушат. Любовный вздох — в крик страха переходит. Ах, почему там коршуны кружат? Там на свиданье женщина идет!Шин. Пожалуй, я лучше сразу приведу цирюльника. Поговорите с ним. Это человек чести. Цирюльник — самая подходящая партия для вашей кузины. (Не получив ответа, убегает.)
Шой Да снова мечется по комнате, пока не появляется господин Шу Фу, сопровождаемый Шин, которая, однако, по знаку Шу Фу снова исчезает.
Шой Да (спешит навстречу). Сударь, я слышал, что вы проявляете интерес к моей кузине. Позвольте мне отставить все условности, все требования приличия и всякую сдержанность, так как в данный момент мадемуазель Шен Де угрожает величайшая опасность.
Господин Шу Фу. О!
Шой Да. Моя кузина, еще несколько часов назад владелица собственной лавки, сейчас почти нищая. Господин Шу Фу, лавка погибла.
Господин Шу Фу. Господин Шой Да, очарование мадемуазель Шен Де заключается не в богатствах ее лавки, а в доброте ее сердца. Имя, которым называет ее этот квартал, говорит само за себя: ангел предместий!
Шой Да. Сударь, доброта влетела моей кузине за один только день в двести серебряных долларов! Пора положить этому конец.
Господин Шу Фу. Разрешите мне высказать более мягкое суждение: с этой доброты самое время снять запрет. Делать добро — в натуре мадемуазель Шен Де. Какое имеет значение, что она кормит четырех человек, — глубоко растроганный, я наблюдаю это каждое утро. Почему бы ей не кормить четыреста человек? Я слышал, что она ломает голову над тем, например, как приютить нескольких бездомных. Мои дома за скотобойней пустуют. Они в распоряжении мадемуазель Шен Де и т. д. и т. п. Господин Шой Да, смею ли я надеяться, что эти мысли, пришедшие мне на ум в последние дни, заинтересуют мадемуазель Шен Де?
Шой Да. Господин Шу Фу, она с восхищением выслушает столь возвышенные мысли.
Входит Ван с полицейским. Господин Шу Фу поворачивается и внимательно рассматривает полки.
Ван. Шен Де здесь?
Шой Да. Нет.
Ван. Я Ван, водонос. Вы, по-видимому, господин Шой Да?
Шой Да. Совершенно верно. Здравствуйте, Ван.
Ван. Я дружу с Шен Де.
Шой Да. Знаю — вы один из ее старейших друзей.
Ван (полицейскому). Видите? (Шой Да.) Я пришел насчет своей руки.
Полицейский. Она перебита, тут ничего не скажешь.
Шой Да (быстро). Я вижу, вам нужно перевязать руку. (Достает из комнаты шаль и бросает ее Вану.)
Ван. Но это же новая шаль.
Шой Да. Она ей больше не нужна.
Ван. Шен Де купила ее, чтобы кому-то понравиться.
Шой Да. Как выяснилось, в этом уже нет нужды.
Ван (подвязывает руку шалью). Она моя единственная свидетельница.
Полицейский. Ваша кузина, говорят, видела, как цирюльник Шу Фу ударил щипцами водоноса. Вам это известно?
Шой Да. Я знаю только, что моей кузины не было на месте, когда произошло это маленькое событие.
Ван. Это недоразумение! Пусть придет Шен Де, и все разъяснится. Шен Де все подтвердит. Где она?
Шой Да (серьезно). Господин Ван, вы называете себя другом моей кузины. Как раз сейчас у нее большие заботы. Все, кому не лень, эксплуатировали ее ужаснейшим образом. В будущем она не может разрешить себе больше ни малейшей слабости. Я убежден, вы не потребуете, чтобы она все потеряла, дав ложные показания.
Ван (растерянно). Но ведь по ее же совету я пошел к судье.
Шой Да. Разве дело судьи лечить руку?
Полицейский. Нет. Но его дело заставить цирюльника возместить ущерб.
Господин Шу Фу оборачивается.
Шой Да. Господин Ван, один из моих принципов — не вмешиваться в споры моих друзей. (Кланяется господину Шу Фу.)
Шу Фу делает то же самое.
Ван (сняв шаль и возвращая ее обратно, печально). Понимаю.
Полицейский. Я, стало быть, могу удалиться. Ты собрался надуть и кого — порядочного человека. Смотри, парень, в следующий раз будь осмотрительнее со своими наветами. Если господин Шу Фу не пощадит тебя, ты попадешь в тюрьму за клевету. Теперь — проваливай!
Полицейский и Ван уходят.
Шой Да. Прошу извинения за этот инцидент.
Господин Шу Фу. Извиняю. (Быстро.) А дело с этим «кому-то» (показывает на шаль) в самом деле в прошлом? Совсем покончено?
Шой Да. Совсем. Его изобличили. Правда, понадобится время, чтобы раны затянулись.
Господин Шу Фу. Будет проявлена необходимая чуткость.
Шой Да. Это свежие раны.
Господин Шу Фу. Она поедет в деревню.
Шой Да. На несколько недель. Однако она будет рада случаю обсудить это предварительно с человеком, которому может довериться.
Господин Шу Фу. За скромным ужином в скромном, но хорошем ресторане.
Шой Да. В интимной обстановке. Спешу поставить в известность мою кузину. Она проявит благоразумие. Она в тревоге за свою лавку, которую рассматривает как дар богов. Попрошу вас обождать — я сейчас. (Уходит в заднюю комнату.)
Шин (высовывает голову). Можно поздравить?
Господин Шу Фу. Можно. Госпожа Шин, сообщите сегодня же опекаемым Шен Де, что я предоставляю им прибежище в моих домах за скотобойней.
Шин кивает ухмыляясь.
(Встав с места, публике.) Ну, как вы находите меня, дамы и господа? Можно ли сделать больше? Быть самоотверженнее? Деликатнее? Дальновиднее? Скромный ужин! Какие обычно приходят при этом вульгарные и недостойные мысли! О нет, не произойдет ничего предосудительного. Даже прикосновения, хотя бы случайного, когда рука тянется за солонкой! Только обмен мыслями — не больше. Две души найдут друг друга среди цветов, украшающих стол, кстати, белых хризантем. (Отмечает это в записной книжке.) Нет, здесь не будет использовано затруднительное положение, не будет извлечена выгода из разочарования. Будут предложены заботы и помощь, но почти безмолвно. Только взглядом будет дано понять, взглядом, который может означать и больше!
Шин. Итак, все устроилось, как вы хотели, господин Шу Фу?
Господин Шу Фу. О, вполне! Очевидно, в этой местности произойдут перемены. Известный субъект получил отставку, и все притязания на лавочку потеряют силу. Люди, осмеливающиеся запятнать репутацию самой целомудренной девушки в городе, впредь будут иметь дело со мной. Что вы знаете об этом Ян Суне?
Шин. Он самый грязный, самый ленивый…
Господин Шу Фу. Он — ничто. Его нет. Он не существует.
Входит Сун.
Сун. Что здесь происходит?
Шин. Господин Шу Фу, если угодно, я позову господина Шой Да. Вряд ли он пожелает, чтобы в лавке торчали посторонние лица.
Господин Шу Фу. У мадемуазель Шен Де с господином Шой Да идет важный разговор, который нельзя прерывать.
Сун. Она здесь? Каким образом? Я не видел, чтобы она сюда входила! И что за разговор? Я должен принять в нем участие!
Господин Шу Фу (преграждает ему дорогу в комнату). Придется подождать, сударь. Думаю, что представляю себе, с кем имею дело. Примите к сведению, что мадемуазель Шен Де и я готовимся объявить о нашей помолвке.
Сун. Что?
Шин. Вас это удивляет?
Сун борется с цирюльником, чтобы попасть в комнату; из нее выходит Шен Де.
Господин Шу Фу. Извините, милая Шен Де. Может быть, вы согласитесь разъяснить?
Сун. Шен Де! Что случилось? Ты с ума сошла?
Шен Де (волнуясь). Сун, мой двоюродный брат и господин Шу Фу договорились, что я познакомлюсь с планами господина Шу Фу, как помочь людям, живущим в этом квартале.
Пауза.
Мой двоюродный брат против наших отношений.
Сун. И ты согласилась?
Шен Де. Да.
Пауза.
Сун. Они тебе сказали, что я плохой человек?
Шен Де молчит.
Вероятно, так оно и есть, Шен Де. Потому-то ты мне и нужна. Я — низкий человек. Без денег, без манер. Но я буду защищаться. Они сделают тебя несчастной, Шен Де. (Идет к ней. Вполголоса.) Взгляни на него! Где твои глаза? (Кладет руку ей на плечо.) Бедный зверек! К чему они склоняют тебя? Брак по расчету! Без меня они прямо потащили бы тебя на бойню. Скажи сама, без меня ушла бы ты с ним?
Шен Де. Да.
Сун. С человеком, которого не любишь!
Шен Де. Да.
Сун. Ты все уже забыла? Как шел дождь?
Шен Де. Нет.
Сун. Как спасла меня от петли, как купила кружку воды, как обещала денег, чтобы я снова мог летать?
Шен Де (дрожа). Чего ты хочешь?
Сун. Чтобы ты ушла со мной.
Шен Де. Господин Шу Фу, простите меня, я хочу уйти с Суном.
Сун. Мы, видите ли, любим друг друга, вы способны это понять? (Ведет ее к двери.) Где ключ от лавки? (Достает его из ее кармана и передает Шин.) Положите на порог, когда кончите уборку. Пойдем, Шен Де.
Господин Шу Фу. Это насилие! (Кричит в глубину сцены.) Господин Шой Да!
Сун. Скажи, чтобы он здесь не орал.
Шен Де. Пожалуйста, не зовите моего двоюродного брата, господин Шу Фу. Он не согласен со мной, я знаю. Но чувствую, что он неправ. (Публике.)
Я хочу уйти с тем, кого люблю. Я не хочу высчитывать, сколько это стоит. Я не хочу обдумывать — хорошо ли это. Я не хочу знать — любит ли он меня. Я хочу уйти с тем, кого люблю.Сун. Вот так.
Шен Де и Сун уходят.
Интермедия перед занавесом
Шен Де в свадебном наряде на пути к венчанию, обращается к публике.
Шен Де. Я пережила страшную минуту. Когда я вышла из дому веселая, полная радостного ожидания, на улице меня остановила старуха — жена торговца коврами. Дрожа, она рассказала, что ее муж от тревоги за деньги, которые они одолжили мне, заболел. Она думает, что лучше всего, если я верну их сейчас. Я, конечно, обещала. Она успокоилась и, плача, пожелала мне счастья, извинившись за то, что они не доверяют моему двоюродному брату и, к сожалению, даже Суну. Меня охватил такой ужас, что, как только она ушла, у меня подкосились ноги. В смятении я снова бросилась в объятия Ян Суна. Я не могла устоять перед его голосом и ласками. Все дурное, что он сказал Шой Да, не могло образумить Шен Де. Склоняясь в его объятия, я подумала: ведь и боги хотели, чтобы я была доброй к себе.
Чтоб не дать другим погибнуть и себя не погубить, Чтобы всех осчастливить И себя со всеми вместе.Как могла я забыть двух добрых стариков! Сун, как ураган, унес мою лавку в сторону Пекина, а с ней и всех моих друзей. Но он не плохой человек и любит меня. Пока я с ним, он не способен на дурное. То, что мужчина говорит мужчине, — ничего не значит. В таких случаях он хочет казаться великим, могучим и, конечно, черствым. Как только я скажу ему, что старики не в состоянии уплатить налоги, он все поймет. Он скорее станет рабочим на цементном заводе, чем летчиком путем преступления. Правда, летать — это его страсть. Хватит ли у меня силы пробудить в нем добрые чувства? Я иду к венцу — страх и радость борются в моей душе. (Быстро уходит.)
VI
Отдельный кабинет в дешевом ресторане в предместье города.
Официант наливает вино свадебным гостям. Возле Шен Де стоят дедушка, невестка, племянница, Шин и безработный. В углу одиноко ждет бонза. На переднем плане Сун, разговаривающий со своей матерью, госпожой Ян. Он в смокинге.
Сун. Кое-какие неприятности, мама. Она только что со свойственной ей простотой объявила мне, что не может продать лавку. Какие-то люди потребовали обратно две сотни серебряных долларов, которые она взяла взаймы и отдала тебе. А ее двоюродный брат признался мне, что между ними нет письменного договора.
Госпожа Ян. Что ты ей ответил? Ты, конечно, не можешь на ней жениться.
Сун. Говорить с ней о таких вещах бесполезно. Она слишком тупа. Я послал за ее двоюродным братом.
Госпожа Ян. Но он хочет выдать ее за цирюльника.
Сун. С этим сватовством я покончил. Цирюльника отвадили. А двоюродный брат сразу смекнет, что раз я получил двести долларов, то и с лавкой покончено, потому что кредиторы наложат на нее арест. Но он сообразит также, что если я не получу еще трехсот, то мне не летать.
Госпожа Ян. Пойду подстерегу его на улице. А ты ступай к невесте, Сун!
Шен Де (обращается к публике). Я не ошиблась в нем. Он ничем не проявил разочарования. Конечно, отказаться от того, чтобы летать, — для него тяжелый удар. Однако он весел. Я люблю его. (Кивком головы подзывает к себе Суна.) Сун! Ты еще не чокнулся с невестой.
Сун. За что мы выпьем?
Шен Де. За будущее.
Пьют.
Сун. Когда жениху не надо будет брать напрокат смокинг.
Шен Де. Но когда платье невесты иногда будет попадать под дождь.
Сун. За все, что мы себе желаем!
Шен Де. Чтобы оно скорее сбылось!
Госпожа Ян (идя к выходу, Шин). Я в восторге от своего сына. Я всегда внушала ему, что ему ничего не стоит взять любую. Почему? У него специальность механика и летчика. И что же он говорит мне теперь? Я женюсь по любви, мама, говорит он. Деньги — еще не все. Это брак по любви! (Невестке.) Когда-нибудь это должно случиться. Не правда ли? Но матери нелегко. Нелегко. (Обращаясь к бонзе, громко.) Пожалуйста, не слишком торопитесь. Если вам понадобится для церемонии столько же времени, сколько для того, чтобы выторговать свое вознаграждение, оно соответственно возрастет. (Шен Де.) Мы еще подождем, дорогая моя. Один из самых уважаемых гостей еще не прибыл. (Ко всем.) Извините, пожалуйста. (Уходит.)
Невестка. Пока есть вино, ждут охотно.
Все садятся.
Безработный. Спешить некуда.
Сун (громко и шутливо). Перед бракосочетанием я должен предварительно устроить тебе маленький экзамен. Это совсем не лишнее, когда так скоропалительно заключают браки. (Гостям.) Я понятия не имею, что у меня будет за жена. Это меня беспокоит. Ухитришься ли ты, например, из трех чайных листиков сварить пять чашек чая?
Шен Де. Нет.
Сун. Значит, я буду без чая. А сумеешь ли ты улечься на тюфяке величиной с молитвенник?
Шен Де. Вдвоем?
Сун. Одна.
Шен Де. В таком случае — нет.
Сун. Я в отчаянии, что у меня будет такая жена.
Все смеются. За спиной Шен Де в дверях появляется госпожа Ян. Она пожимает плечами, давая понять Суну, что ожидаемого гостя не видно.
Госпожа Ян (бонзе, который показывает ей свои часы). Что вы так спешите? Речь идет о нескольких минутах. Я вижу, все пьют, курят и никто не торопится. (Присаживается к гостям.)
Шен Де. Но не следует ли поговорить о том, как мы уладим дело?
Госпожа Ян. О, пожалуйста, сегодня ни слова о делах! Это придает торжеству такой обыденный тон, правда?
Раздается звонок. Все смотрят на дверь, но никто не входит.
Шен Де. Кого ждет твоя мать, Сун?
Сун. Пусть это будет для тебя сюрпризом. Между прочим, что поделывает твой двоюродный брат Шой Да? Мы с ним хорошо поладили. Весьма разумный человек! Голова! Почему ты молчишь?
Шен Де. Не знаю. Я не хочу о нем думать.
Сун. Почему?
Шен Де. Потому что ты не должен с ним ладить. Если любишь меня, то не можешь любить его.
Сун. Пусть тогда убирается к трем чертям: демону аварий, демону тумана и демону горючего. Пей, ты, убогая! (Заставляет ее пить.)
Невестка (Шин). Здесь что-то не так.
Шин. А чего же вы ожидали?
Бонза (решительно подходит к госпоже Ян с часами в руке). Я вынужден покинуть вас, госпожа Ян. Сегодня у меня еще одна свадьба и завтра с утра похороны.
Госпожа Ян. Вы думаете, мне приятно, что все откладывается? Мы надеялись, что обойдемся одним кувшином вина. Смотрите — он уже почти пуст. (Громко, Шен Де.) Не понимаю, дорогая Шен Де, почему твой двоюродный брат заставляет себя так долго ждать!
Шен Де. Мой двоюродный брат?
Госпожа Ян. Дорогая моя, да ведь его-то мы и ждем. Я придерживаюсь старых правил и полагаю, что столь близкий родственник должен присутствовать на свадьбе.
Шен Де. О Сун, так это из-за трехсот серебряных долларов!
Сун (не глядя на нее). Ты же слышишь, из-за чего. Она придерживается старых правил. Я вынужден с этим считаться! Подождем еще четверть часика, и если он не придет оттого, что три черта уже схватили его, мы начнем!
Госпожа Ян. Вы все, конечно, уже знаете, что сын получает должность почтового летчика. Мне это очень приятно. В такие времена надо хорошо зарабатывать.
Невестка. Он будет находиться в Пекине, правда?
Госпожа Ян. Да, в Пекине.
Шен Де. Сун, ты должен сказать матери, что с Пекином ничего не выйдет.
Сун. Об этом ей скажет твой двоюродный брат, если только он рассуждает так же, как ты. Между нами: я думаю, что иначе.
Шен Де (испуганно). Сун!
Сун. Как я ненавижу Сычуань! Знаешь, кем они мне все здесь представляются, когда глаза мои полузакрыты? Клячами. Они озабоченно мотают головой: ой, что это там над нами гремит? Как? Мы больше не нужны? Что такое? Наше время кончилось? Пусть они перегрызут друг друга в этом дохлом городе! Только бы вырваться отсюда!
Шен Де. Но я обещала вернуть деньги.
Сун. Да, ты мне об этом говорила. А раз ты способна на подобные глупости, хорошо, что придет твой двоюродный брат. Пей и предоставь нам заниматься делами! Мы все уладим.
Шен Де (в отчаянии). Но двоюродный брат не может прийти!
Сун. Как это понять?
Шен Де. Его здесь нет больше.
Сун. Может, ты расскажешь тогда, как тебе представляется наше будущее?
Шен Де. Я думала, у тебя еще целы двести серебряных долларов. Мы бы их завтра вернули, сохранили табак, который стоит много дороже, и стали бы продавать его у ворот цементного завода. Мы же не в состоянии уплатить арендную плату за полгода.
Сун. Забудь об этом! Забудь скорее, сестра! Чтоб я стал на улице продавать табак рабочим цементного завода, я, Ян Сун, летчик! Лучше я спущу эти двести долларов за одну ночь, лучше выброшу в воду! Твой двоюродный брат — он знает меня. Я договорился с ним, и он принесет к свадьбе еще триста.
Шен Де. Мой двоюродный брат не может быть здесь.
Сун. Я думал, что он не может не быть.
Шен Де. Там, где я, он быть не может.
Сун. Как таинственно!
Шен Де. Так знай же, Сун: он не друг тебе. Это я люблю тебя. Мой двоюродный брат Шой Да никого не любит. Он мой друг, но не друг моих друзей. Он согласился, чтобы ты получил деньги стариков, надеясь на место летчика для тебя. Но он не принесет к свадьбе триста серебряных долларов.
Сун. Это почему?
Шен Де (глядя ему прямо в глаза). Он сказал — ты купил только один билет до Пекина.
Сун. Так было вчера, но вот смотри, что я покажу ему сегодня! (Наполовину вытаскивает из нагрудного кармана две бумажки.) Старухе незачем их видеть. Два билета в Пекин, для меня и для тебя. Ты все еще настаиваешь на том, что двоюродный брат против нашего брака?
Шен Де. Нет. Должность отличная. А лавки у меня больше нет.
Сун. Из-за тебя я распродал мебель.
Шен Де. Не говори больше! Не показывай билеты! Мне очень страшно, я чувствую, что готова все бросить и уехать с тобой. Ах, Сун, я не могу дать тебе триста серебряных долларов, подумай о стариках!
Сун. Подумай обо мне!
Пауза.
А всего лучше пей! Или ты принадлежишь к числу благоразумных? Не нужна мне благоразумная жена. Когда я пью, я снова летаю. И ты выпей и, может быть, еще поймешь меня.
Шен Де. Не думай, что я не понимаю тебя, не понимаю, что ты хочешь летать, а я не могу тебе помочь.
Сун. «Вот самолет, мой любимый, но у него одно лишь крыло!»
Шен Де. Честным путем нам не получить это место в Пекине. Поэтому я должна взять обратно двести серебряных долларов. Дай мне их сейчас, Сун!
Сун. «Дай мне их сейчас, Сун!» О чем ты, собственно, говоришь? Жена ты мне или не жена? Ты что, не понимаешь, что предаешь меня? К счастью моему и твоему также, это больше не зависит от тебя, потому что все уже решено.
Госпожа Ян (ледяным тоном). Сун, ты уверен, что двоюродный брат невесты придет? Сдается мне, что он отсутствует, потому что он против этого брака.
Сун. Что ты говоришь, мама! Нас с ним водой не разольешь. Я широко распахну двери, пусть он сразу найдет нас, когда прибежит на свадьбу своего друга Суна. (Идет к двери, толкает ее ногой. Потом возвращается, слегка пошатываясь, он слишком много выпил, и снова садится возле Шен Де.) Мы будем ждать. Твой двоюродный брат разумнее, чем ты. Любовь, мудро сказал он, неотделима от жизни. А самое важное, он знает, чем это кончится для тебя: ни лавки, ни мужа.
Все ждут.
Госпожа Ян. Идет!
Слышны шаги, и все смотрят на дверь, но шаги снова удаляются.
Шин. Пахнет скандалом. Чувствуете? Невеста ждет свадьбы, а жених господина двоюродного брата.
Сун. Господин двоюродный брат не торопится.
Шен Де (тихо). Ах, Сун!
Сун. Торчать здесь с билетами в кармане, рядом с дурой, которая не умеет считать! Предвижу день, когда ты приведешь в дом полицию, чтобы она потребовала с меня двести серебряных долларов.
Шен Де (публике). Он плохой человек и хочет, чтобы я тоже была плохой. Я, которая его любит, — здесь, а ему нужен двоюродный брат. Но вокруг меня сидят горемыки — старуха с больным мужем, бедняки, которые завтра будут ждать у дверей чашку риса, и чужой человек из Пекина, который дрожит за свою должность. И все они охраняют меня, потому что уповают на меня.
Сун (пристально смотрит на стеклянный кувшин, в котором нет больше вина). Кувшин с вином — это наши часы. Мы — бедные люди, и если гости выпили вино, значит, часы остановились навсегда.
Госпожа Ян делает ему знак, чтобы он молчал, потому что снова слышны шаги.
Официант (входит). Прикажете еще кувшин вина, госпожа Ян?
Госпожа Ян. Нет, я думаю, хватит. Вино только распаривает, правда?
Шин. Да оно небось и дорого.
Госпожа Ян. Когда я пью вино, меня всегда бросает в пот.
Официант. Разрешите тогда получить по счету?
Госпожа Ян (не слушая его). Прошу вас, господа, еще немножко терпения. Родственник, наверно, уже в пути. (Официанту.) Не мешай!
Официант. Я не имею права отпустить вас, пока не получу по счету.
Госпожа Ян. Но меня же здесь знают!
Официант. Вот именно.
Госпожа Ян. Неслыханно! Нынешняя прислуга! Что ты скажешь, Сун?
Бонза. Мое почтение! (Уходит с важным видом.)
Госпожа Ян (в отчаянии). Сидите спокойно! Священник сейчас вернется.
Сун. Оставь, мама. Господа, после того как священник ушел, — мы не смеем вас дольше задерживать.
Невестка. Пойдем, дедушка!
Дедушка (осушает стакан, серьезно). Здоровье невесты!
Племянница (Шен Де). Не обижайтесь на него. Он сказал от души. Он вас любит.
Шин. Вот так срам!
Все гости уходят.
Шен Де. Мне тоже уйти, Сун?
Сун. Нет, ты подождешь. (Дергает ее за подвенечный убор так, что сдвигает его набок.) Разве это не твоя свадьба? Я подожду, и старуха тоже ждет. Она все еще видит сокола в облаках. Правда, я почти уверен теперь, что это произойдет в день святого Никогда: она подойдет к двери, и его самолет прогремит над ее домом. (Обращаясь к пустым стульям, точно гости все еще здесь.) Дамы и господа, почему вы не продолжаете вашей приятной беседы? Может быть, вам здесь не нравится? Свадьбу немного отложили в ожидании важного гостя и еще потому, что невеста не догадывается, что такое любовь. Чтобы развлечь вас, я, жених, спою вам песню. (Поет.)
Песня о дне святого Никогда
Каждый, кто качался в бедной колыбели, Знает, что ему тихонько пели. И навек запомнил он, Что бедняк взойдет на трон. Это будет в день святого Никогда. В день святого Никогда Сядет бедный человек на трон. В этот день берут за глотку зло, В этот день всем добрым повезло, А хозяин и батрак Вместе шествуют в кабак. В день святого Никогда Тощий пьет у жирного в гостях. Речка свои воды катит вспять. Все добры. Про злобных не слыхать. В этот день все отдыхают И никто не понукает. В день святого Никогда — Вся земля как рай благоухает. В этот день ты будешь генерал. Ну, а я бы — в этот день летал. Ван уладит все с рукой. Ты же обретешь покой. В день святого Никогда, Женщина, ты обретешь покой. Мы уже не в силах больше ждать. Потому-то и должны нам дать, Людям тяжкого труда, День святого Никогда, День святого Никогда — День, когда мы будем отдыхать!Госпожа Ян. Он уже не придет.
Трое сидят, и двое из них смотрят на дверь.
Интермедия
Ночлег Вана.
Продавцу воды снова являются во сне боги. Он заснул над большой книгой. Музыка.
Ван. Хорошо, что вы пришли, мудрейшие! Ответьте на вопрос, который мучает меня. В разрушенной хижине священника, который покинул ее и пошел работать на цементный завод, я нашел книгу и обнаружил в ней одно странное место. Я хочу прочесть вам. Вот оно. (Перелистывает левой рукой воображаемую книгу, держа ее в правой руке и подняв ее над настоящей книгой, которая лежит у него на коленях, начинает читать.) «В Сунге есть местность, называемая «Терновая роща». Там растут кактусы, кипарисы и тутовые деревья. Деревья, имеющие одну или две пяди в обхвате, срубают люди, которым нужны прутья для собачьих будок. Деревья трех-четырех футов в обхвате срубают знатные и богатые семьи, которым нужны доски для своих гробов. Деревья семи-восьми футов в обхвате срубят те, кто ищет бревна для своих роскошных вилл. Таким образом, все эти деревья не доживают свой век, а погибают на половине жизненного пути от пилы и топора. Кто больше приносит пользы, тот больше и страдает».
Третий бог. Выходит, кто всех бесполезнее, тот всех ценнее.
Ван. Нет, тот всех счастливее. Самый негодный — самый счастливый.
Первый бог. Чего только не пишут!
Второй бог. Почему тебя так волнует эта притча, водонос?
Ван. Из-за Шен Де, мудрейший! Она не нашла счастья в любви, потому что следовала заветам любви к ближнему. Быть может, она слишком добра для этого мира!
Первый бог. Глупости! Слабый, ничтожный ты человек! Вши и неверие, вижу я, наполовину сожрали тебя.
Ван. Конечно, конечно, мудрейший! Прости! Я думал только, может быть, вы вмешаетесь.
Первый бог. Совершенно исключено. Наш друг (показывает на третьего бога, у которого большой синяк под глазом) только вчера вмешался в спор, и вот последствия.
Ван. Но снова пришлось вызывать двоюродного брата. Он необычайно ловкий человек, я испытал это на собственной шкуре, однако даже он не в силах помочь. Лавка, очевидно, обречена.
Третий бог (встревоженно). Может быть, все же надо ей помочь?
Первый бог. Я того мнения, что она сама должна себе помочь.
Второй бог (строго). Чем хуже хорошему человеку, тем полнее он раскрывает себя. Страдание очищает!
Первый бог. Мы возлагаем на нее все свои надежды.
Третий бог. С нашими поисками дело обстоит неважно. Мы встречаем иногда добрые намерения, радующие побуждения, много высоких принципов, но все это слишком мало для того, чтобы считаться добрым человеком. Если попадаются более или менее добрые люди, то живут они недостойно людей. (Доверительно.) С ночлегом — совсем плохо. По соломинкам, приставшим к нашей одежде, ты можешь вообразить, как мы проводим ночи.
Ван. Не могли бы вы по крайней мере…
Боги. Ничего. Мы только наблюдатели. И твердо верим, что наш добрый человек сумеет найти свое место на этой мрачной земле. Чем тяжелее бремя, тем крепче будут силы. Потерпи еще немного, водонос, и ты увидишь, что все идет к благополучному…
Фигуры богов бледнели, голоса звучали все тише. Теперь они исчезли, и голосов больше не слышно.
VII
Двор позади табачной лавки Шен Де.
На тележке — скудный домашний скарб. Шен Де и Шин снимают с веревки развешанное белье.
Шин. На вашем месте я зубами и ногтями дралась бы за свою лавку.
Шен Де. Что вы! Мне нечем даже уплатить за помещение. Ведь я обязана сегодня еще вернуть старикам двести серебряных долларов, но так как я отдала их одному человеку, то должна продать свой табак госпоже Ми Дзю.
Шин. Выходит, все полетело? Ни мужа, ни табака, ни крова! Вот что получается, когда хочешь прыгнуть выше носа. Чем же вы будете жить?
Шен Де. Не знаю. Может, подработаю на сортировке табака.
Шин. Каким образом попали сюда штаны господина Шой Да? Он голый, что ли, отсюда ушел?
Шен Де. У него есть другие штаны.
Шин. Мне послышалось, вы сказали, что он уехал навсегда? Почему же он оставил свои штаны?
Шен Де. Должно быть, они ему больше не нужны.
Шин. Так, значит, не укладывать их?
Шен Де. Нет.
Вбегает запыхавшийся господин Шу Фу.
Господин Шу Фу. Молчите! Мне все известно. Вы пожертвовали своим личным счастьем для спасения двух стариков, которые доверились вам. Нет, не напрасно этот квартал, эти недоверчивые, злобные люди называют вас «ангел предместий». Господин жених не смог подняться до вашей нравственной высоты, и вы расстались с ним. А теперь закрываете свою лавку, этот островок спасения для многих! Я не в силах это видеть. Со своего порога каждое утро я изо дня в день наблюдаю несчастных, толпящихся перед вашей лавкой, и вас, раздающую рис. Неужели это не повторится больше? Неужели доброе дело обречено на гибель? Ах, если бы вы позволили мне помочь вам в этой благородной миссии! Нет, не говорите ничего! Я не требую никаких заверений. Никаких обещаний, что вы соглашаетесь принять мою помощь! Но вот (достает чековую книжку и заполняет чек, который кладет на тележку) я выписал вам чек, где вы можете по своему усмотрению проставить любую сумму, а теперь я уйду тихо и скромно, ни на что не претендуя, на цыпочках, преисполненный уважения, самоотверженно! (Уходит.) Шин (рассматривает чек). Вы спасены! Везет же таким, как вы! И всегда находятся дураки. Ну, теперь не зевайте! Впишите сумму в тысячу серебряных долларов, и я побегу в банк, пока он не опомнился.
Шен Де. Поставьте корзину с бельем на тележку. Счет за белье я могу оплатить и без чека.
Шин. Что? Вы отказываетесь? Это преступление! Это вы потому, что в таком случае почтете себя обязанной выйти за него замуж? Это же чистое безумие. Ведь такой человек сам напрашивается, чтобы его водили за нос! Такому это просто доставляет наслаждение. Неужели вы все еще хотите цепляться за своего летчика, когда вся Желтая улица и весь квартал знают, как низко он поступил с вами?
Шен Де. Во всем виновата — нужда. (Публике.)
Я видела, как ночью Он щеки раздувал во сне. Каким он злым тогда казался! А утром я взяла его рубашку. На свет она была совсем дырявой. Мне страшно было слышать хитрый смех, Но вот его я вижу в рваных туфлях, И я люблю его.Шин. Вы еще оправдываете его? Подобного безумия я не видела. (Сердито.) Я вздохну с облегчением, когда вы уедете отсюда.
Шен Де (снимая белье, покачнулась). У меня кружится голова.
Шин (берет у нее белье). И часто у вас кружится голова, когда вы тянетесь или нагибаетесь? Уж не ожидается ли кое-что? (Смеется.) Здорово он вас подвел. Если это случилось, то дело дрянь, чек не предназначался для таких обстоятельств. (Уходит с корзиной в глубь сцены.)
Шен Де (неподвижно смотрит ей вслед. Потом осматривает себя, проводит рукой по животу, и на лице у нее появляется выражение глубокой радости. Тихо). О счастье! Во мне зарождается человек. Пока еще ничего не заметно. Но он уже здесь. Мир ожидает его втайне. В городах уже говорят: теперь явился человек, с которым придется считаться. (Как бы представляет публике своего маленького сына.) Летчик!
Приветствуйте нового завоевателя Недоступных гор и неведомых областей! Он повезет почту от человека к человеку Через бездорожье пустынь!(Начинает ходить взад и вперед, ведя за руку воображаемого сына.) Идем, сынок, взгляни на мир. Вот дерево. Поклонись и приветствуй его. (Кланяется.) Теперь вы знакомы. Слушай, вот идет водонос. Он друг, подай ему руку, не бойся. «Пожалуйста, кружку свежей воды для моего сына. Сегодня жарко». (Дает ему кружку воды.) Ах, полицейский! Лучше обойдем его. Постараемся добыть в саду богача Фей Пуна горсточку вишен. Только чтобы нас не увидели. Идем, сиротка! И тебе хочется вишен! Тихо, тихо, сынок! (Идут, опасливо, осторожно озираясь.) Нет, лучше сюда, тут нас скроет кустарник. Нет, разве так можно идти напролом? (Он, видимо, пытается оттащить ее, она сопротивляется.) Мы должны быть благоразумны. (Внезапно уступает.) Что с тобой поделаешь, если ты хочешь обязательно напролом… (Поднимает его.) Сможешь ты достать вишни? Клади их прямо в рот, там они в сохранности! (Съедает вишню, которую он кладет ей в рот.) Вкусно. О, полицейский! Бежим! (Бегут.) Вот и улица. Теперь спокойно, спокойно, не спеши, чтобы не обратить на себя внимания. Как будто ничего не случилось… (Поет, словно гуляя с ребенком.)
На сливу, на беднягу, Напал один бродяга. Он очень, очень ловок был — В затылок сливу укусил.Входит водонос Ван, ведя за руку ребенка. Удивленно смотрит на Шен Де.
Шен Де (обернувшись на кашель Вана). Ах, Ван! Здравствуй!
Ван. Шен Де, я слышал, что тебе плохо живется и ты даже продаешь свою лавку для расплаты с долгами. Но вот ребенок, лишенный пристанища. Он бегал по двору боен. По-видимому, это сын столяра Лин То, который несколько недель назад лишился своей мастерской и после этого запил. Дети его бегают голодные по чужим дворам. Что с ними делать?
Шен Де (берет у него ребенка). Иди сюда, маленький человек. (К публике.)
Эй, вы! Человек просит крова. Завтрашний человек просит помочь ему сегодня! Его друг, известный вам завоеватель, Ходатайствует за него.(Вану.) Он сможет жить в бараках господина Шу Фу, куда, возможно, перееду и я. У меня у самой родится ребенок. Только никому не говори, не то об этом узнает Ян Сун, а мы ему не нужны. Разыщи в нижнем городе Лин То и скажи ему, чтобы он пришел сюда.
Ван. Большое спасибо, Шен Де. Я знал — ты что-нибудь придумаешь. (Ребенку.) Видишь, добрый человек всегда найдет выход. Я побегу за твоим отцом. (Хочет идти.)
Шен Де. Ах да, Ван, я только сейчас вспомнила: что с твоей рукой? Ведь я хотела быть твоим свидетелем, но мой двоюродный брат…
Ван. Не беспокойся. Посмотри, я уже научился обходиться без правой руки. Она мне почти не нужна. (Показывает, как может управляться с кувшином и кружкой без помощи правой руки.) Посмотри, как ловко я это делаю.
Шен Де. Но нельзя допустить, чтобы она онемела. Возьми мою тележку, все продай и иди к доктору. Мне стыдно, что я не выполнила своего обещания. Кроме того, я согласилась принять у цирюльника его бараки, что ты только подумаешь об этом?
Ван. Там смогут жить бездомные и ты сама, ведь это важнее моей руки. Иду за столяром. (Уходит.)
Шен Де (кричит ему вслед). Обещай, что пойдешь со мной к доктору.
Шин вернулась и непрерывно делает ей знаки.
Что такое?
Шин. С ума сошли — дарить тележку с последним барахлом? Вам какое дело до его руки? Если об этом узнает цирюльник, он выгонит вас из вашего последнего убежища. И мне вы не заплатили еще за стирку белья!
Шен Де. Почему вы такая злая? (к публике.)
Неужели вы не устаете Попирать ближних? От жадности Жилы на лбу и те набухают у вас. Рука, протянутая от души, Легко дает и легко получает. Как соблазнительно быть щедрым! Как хорошо быть приветливым! Доброе слово Вырывается, как вздох облегченья.Рассерженная Шин уходит.
(Ребенку.) Садись и подожди, пока придет отец.
Ребенок садится на землю. Во двор входит пожилая чета, явившаяся к Шен Де в день открытия ее лавки. Муж и жена тащат большие мешки.
Женщина. Ты одна, Шен Де?
Так как Шен Де утвердительно кивает, она зовет своего племянника, который тоже несет мешок.
Где твой двоюродный брат?
Шен Де. Уехал.
Женщина. Он вернется?
Шен Де. Нет. Я продаю лавку.
Женщина. Это нам известно, потому-то мы и пришли. Вот несколько мешков листового табака, которые нам были должны. Перевези их вместе с твоими пожитками на новую квартиру. Нам некуда их поместить, а на улице мы слишком привлекаем к ним внимание. Я думаю, ты не откажешь, почему бы тебе не оказать нам этой маленькой любезности после того, как нас постигло несчастье в твоей лавке.
Шен Де. Я охотно сделаю это.
Мужчина. Если тебя спросят, чьи это мешки, скажи, что они твои.
Шен Де. Кто может спросить?
Женщина (пристально смотрит на нее). Полиция, например. Она настроена против нас и будет рада случаю нас разорить. Куда поставить мешки?
Шен Де. Не знаю. Именно сейчас я остерегаюсь чего-либо такого, что может привести меня в тюрьму.
Женщина. Это похоже на тебя. Ко всему прочему мы должны еще потерять эти жалкие мешки с табаком, все, что удалось спасти из нашего имущества!
Шен Де упрямо молчит.
Мужчина. Пойми, этот табак может стать основой маленького дела. Мы еще могли бы преуспеть.
Шен Де. Хорошо, я спрячу ваши мешки. Мы поставим их пока в задней комнате. (Входит вместе с ними в лавку.)
Ребенок смотрит ей вслед. Потом робко, оглядываясь, подходит к мусорному ведру и достает из него что-то. Начинает есть. Шен Де и остальные возвращаются.
Женщина. Ты понимаешь, конечно, что мы целиком полагаемся на тебя.
Шен Де. Да. (Видит ребенка и цепенеет.)
Мужчина. Послезавтра мы разыщем тебя в домах господина Шу Фу.
Шен Де. Теперь уходите — мне нехорошо. (Выталкивает их.)
Все трое уходят.
Он голоден. Шарит в помойном ведре. (Поднимает ребенка и, потрясенная участью детей бедняков, обращается к публике, показывая серый ротик ребенка. Она клянется никогда не относиться к своему ребенку с такой бессердечностью.)
О сын, о летчик! В какой мир ты приходишь? Они хотят, чтобы и ты ловил свою рыбу в помойном ведре! Смотрите на эту серую мордочку!(Указывает на ребенка.)
Как вы обращаетесь с подобными себе? Нет у вас жалости К плоду вашего же тела. Нет у вас, несчастные, сочувствия к самим себе. Ну, так я сама буду защищать свое. Я стану тигрицей. Да, с того часа Как я это увидала, я хочу Отделиться от вас. Не успокоюсь до тех пор, Покуда не спасу своего сына, Хотя бы его одного. Мой сын, тебе должно послужить все, Чему меня учили обманом или кулаком В моей школе, в канаве! Мой сын, лишь для тебя я буду доброй, А для других — тигрицей, диким зверем. Раз так должно быть. А должно быть так!(Уходит, чтобы превратиться в двоюродного брата.) Придется еще раз, последний раз, надеюсь. (Берет с собой штаны Шой Да.)
Возвратившаяся Шин с любопытством смотрит ей вслед. Входят невестка и дедушка.
Невестка. Лавка заперта, скарб во дворе! Это конец!
Шин. Последствие легкомыслия, чувственности и эгоизма! Куда она катится? Вниз! В бараки господина Шу Фу, к вам!
Невестка. Каково-то ей там покажется? Мы пришли жаловаться! Сырые крысиные норы с прогнившим полом. Цирюльник отдал их только потому, что там заплесневели его запасы мыла. «У меня есть для вас убежище, что вы на это скажете?» — «Стыд и срам!» — отвечаем мы на это.
Входит безработный.
Безработный. Верно, что Шен Де уезжает?
Невестка. Да, она хотела ускользнуть, чтобы об этом не узнали.
Шин. Ей стыдно за свое разорение.
Безработный (взволнованно). Нужно вызвать двоюродного брата! Посоветуйте ей вызвать его! Он один может что-нибудь сделать.
Невестка. Верно, верно! Он, правда, скуп, но, во всяком случае, спасет ее лавку, тогда и нам легче станет.
Безработный. Я думал о ней, а не о нас. Но это верно, и ради нас его нужно позвать.
Входит Ван со столяром. Он ведет за руки двух детей.
Столяр. Просто не знаю, как благодарить вас. (Остальным.) Нам обещали квартиру.
Шин. Где?
Столяр. В домах господина Шу Фу! И это благодаря маленькому Фену. «Эй, вы! Человек просит крова!» — будто бы сказала Шен Де и сразу же раздобыла нам жилье. Поблагодарите вашего брата!
Столяр и его дети весело кланяются ребенку.
Благодарим тебя, просящего крова!
Входит Шой Да.
Шой Да. Можно узнать, что вам всем здесь надо?
Безработный. Господин Шой Да!
Ван. Добрый день, господин Шой Да. Я не знал, что вы вернулись. Вам известен столяр Лин То. Мадемуазель Шен Де обещала ему убежище в домах господина Шу Фу.
Шой Да. Дома господина Шу Фу не свободны.
Столяр. Значит, мы не можем поселиться там?
Шой Да. Нет. Это помещение предназначено для других целей.
Невестка. Значит, и нам надо выселиться оттуда?
Шой Да. Боюсь, что да.
Невестка. Но куда же нам всем деваться?
Шой Да (пожимая плечами). Насколько я понял, мадемуазель Шен Де, кстати, она уехала — не собирается оставить вас без помощи. Но в будущем все должно быть устроено несколько разумнее. Раздача пищи без ответных услуг прекращается. Вместо этого каждому будет дана возможность, честно работая, снова стать на ноги. Шен Де решила дать всем вам работу. Кто из вас хочет теперь последовать за мной в дома Шу Фу, тот не останется с пустыми руками.
Невестка. Значит ли это, что мы все должны работать на Шен Де?
Шой Да. Да. Вы будете разделывать табак. Там, в задней комнате, лежат три тюка. Принесите их!
Невестка. Не забывайте, что и у нас была своя лавка и мы предпочитаем работать для самих себя, — у нас есть свой собственный табак.
Шой Да (безработному и столяру). А вы — как? Будете работать на Шен Де? Ведь у вас нет собственного табака?
Столяр и безработный с недовольным видом входят в лавку. Входит домовладелица.
Домовладелица. Ну, господин Шой Да, как насчет продажи? Вот триста серебряных долларов.
Шой Да. Госпожа Ми Дзю, я решил не продавать лавку, а подписать контракт на аренду.
Домовладелица. Что? Вы не нуждаетесь больше в деньгах для летчика?
Шой Да. Нет.
Домовладелица. И у вас есть деньги для платы за помещение?
Шой Да (берет с тележки чек цирюльника и заполняет его). Вот чек на десять тысяч серебряных долларов, выданный господином Шу Фу, который интересуется моей кузиной. Убедитесь, госпожа Ми Дзю! Двести серебряных долларов за помещение на ближайшие полгода будут в ваших руках еще до шести часов вечера. А теперь, госпожа Ми Дзю, разрешите мне продолжать работу. Я очень занят сегодня и прошу меня извинить.
Домовладелица. Ах, понимаю, господин Шу Фу идет по стопам летчика! Десять тысяч серебряных долларов! Все же я удивляюсь непостоянству и легкомыслию нынешних молодых девушек, господин Шой Да. (Уходит.)
Столяр и безработный вносят мешки.
Столяр. Не знаю, почему я должен таскать для вас мешки.
Шой Да. Достаточно, что я это знаю. У вашего сына здоровый аппетит. Он хочет есть, господин Лин То.
Невестка (видит мешки). Здесь был мой зять?
Шин. Да.
Невестка. Ну, конечно, я узнаю мешки. Это наш табак!
Шой Да. Не советую говорить об этом так громко. Табак — мой, это следует хотя бы из того, что он находится у меня. Если вы сомневаетесь, мы можем отправиться в полицию и рассеять ваши сомнения. Пойдем?
Невестка (сердито). Нет.
Шой Да. Кажется, у вас все-таки нет собственного табака. Может быть, в этих условиях вы ухватитесь за спасительную руку, протянутую вам мадемуазель Шен Де? А теперь сделайте мне одолжение и покажите дорогу к домам господина Шу Фу.
Взяв самого младшего ребенка столяра за руку, Шой Да уходит. За ним следуют столяр, его остальные дети, невестка, дедушка и безработный. Невестка, столяр и безработный тащат мешки.
Ван. Он не злой человек, но Шен Де — добрая.
Шин. Не знаю. На бельевой веревке не хватает пары штанов. Их носит двоюродный брат. Это что-нибудь да значит. Любопытно бы узнать — что?
Входят старик и старуха.
Старуха. Мадемуазель Шен Де здесь нет?
Шин (сухо). Уехала.
Старуха. Странно. Она хотела принести нам кое-что.
Ван (с горестным видом смотрит на свою руку). И мне она хотела помочь. Рука все больше немеет. Шен Де, наверно, скоро вернется. Ее двоюродный брат обычно не задерживается здесь надолго.
Шин. Да, не правда ли?
Интермедия
Ночлег Вана.
Музыка. Во сне водонос сообщает богам свои опасения. Боги все еще продолжают свое путешествие. Они кажутся утомленными. Они задержались и повернули головы к водоносу.
Ван. Прежде чем меня разбудило ваше появление, мудрейшие, я видел во сне свою милую сестру Шен Де, ей было очень трудно. Она стояла в тростнике у реки, в том месте, где находят самоубийц. Она странно пошатывалась, шея у нее была согнута, словно она тащила что-то мягкое, но тяжелое, что тянуло ее в тину. Когда я окликнул ее, она ответила, что должна перенести на другой берег целый тюк письменных предписаний, чтобы он не промок — иначе сотрутся письмена. Вернее сказать, я ничего не видел на ее плечах. Но с испугом я вспомнил, что вы, боги, внушали ей великие добродетели в благодарность за то, что она приютила вас у себя, когда вы — о срам! — не могли найти ночлега. Я уверен, вы понимаете мой страх за нее.
Третий бог. Что ты предлагаешь?
Ван. Уменьшить количество предписаний, мудрейшие. Облегчить бремя предписаний, учитывая тяжелые времена, о милосердные!
Третий бог. Что же именно, Ван, что же именно?
Ван. Если бы, например, вместо любви достаточно было простой благосклонности или…
Третий бог. Но ведь это еще тяжелее, ах ты, несчастный!
Ван. Или снисходительность вместо справедливости.
Третий бог. Но сколько это задаст всем работы!
Ван. Тогда просто порядочность вместо чести!
Третий бог. Но ведь это еще больше, ты, маловер!
Устало бредут дальше.
VIII
Табачная фабрика Шой Да. В бараках господина Шу Фу Шой Да открыл небольшую табачную фабрику.
Помещение за решеткой битком набито людьми. Особенно много женщин и детей. Среди них — невестка, дедушка, столяр и его дети. Перед решеткой появляется госпожа Ян в сопровождении своего сына Суна.
Госпожа Ян (публике). Я должна вам рассказать, как мой сын благодаря мудрости и строгости всеми уважаемого господина Шой Да превратился из опустившегося человека в полезного. Как известно всему кварталу, господин Шой Да открыл недалеко от скотобойни небольшую, но быстро расцветшую табачную фабрику. Три месяца назад я была вынуждена обратиться к нему. Он принял меня вместе с моим сыном после недолгого ожидания.
Вышедший из фабрики Шой Да подходит к госпоже Ян.
Шой Да. Чем могу служить, госпожа Ян?
Госпожа Ян. Господин Шой Да, я пришла просить вас за сына. Сегодня утром у нас была полиция, и нам сказали, будто вы подали жалобу от имени мадемуазель Шен Де за нарушение обещания жениться и получение обманом двухсот серебряных долларов.
Шой Да. Совершенно верно, госпожа Ян.
Госпожа Ян. Господин Шой Да, ради всех богов, еще раз окажите милосердие. Деньги истрачены. Он промотал их за два дня, когда провалился план с должностью летчика. Я знаю, он негодяй. Он продал было даже мою мебель и собирался уехать в Пекин без своей старой мамы. (Плачет.) Мадемуазель Шен Де была о нем когда-то хорошего мнения.
Шой Да. Что вы можете сказать, господин Ян Сун?
Сун (мрачно). У меня уже нет этих денег.
Шой Да. Госпожа Ян, ради слабости, которую по каким-то мне непонятным причинам моя кузина питала к вашему опустившемуся сыну, я готов еще раз помочь ему. Шен Де надеется, как она мне сказала, что честный труд еще исправит его. Я предоставлю ему место на моей фабрике. Постепенно из его заработной платы будут удержаны двести серебряных долларов.
Сун. Значит, или каталажка, или фабрика?
Шой Да. Выбор за вами.
Сун. А с Шен Де мне нельзя переговорить?
Шой Да. Нет.
Сун. Где мое рабочее место?
Госпожа Ян. Тысяча благодарностей, господин Шой Да! Вы бесконечно добры, и боги наградят вас. (Суну.) Ты сошел с правильного пути. Постарайся теперь честным путем добиться такого положения, чтоб не стыдно было смотреть в глаза своей матери.
Сун следует за Шой Да на фабрику.
(Возвращается к рампе.) Первые недели Суну было трудно. Работа не нравилась ему, а случая показать себя не представлялось. Только на третьей неделе ему посчастливилось. Он и бывший столяр Лин То должны были таскать мешки с табаком.
Сун и бывший столяр Лин То тащат каждый по два мешка табака.
Столяр (кряхтя и охая, останавливается и садится на мешок). Я больше не в силах. Я уже слишком стар для такой работы.
Сун (тоже садится). Почему ты не швырнешь им эти мешки в рожу?
Столяр. А дальше что? Для того чтобы хоть как-нибудь прожить, я вынужден даже детей запрягать. Если бы это видела мадемуазель Шен Де! Она добрая.
Сун. Да, не из худших. И если бы жизнь не была так чертовски тяжела, мы с Шен Де хорошо бы поладили. Хотел бы я знать, где она. Ну, давай-ка лучше работать — обычно он является в это время.
Встают.
(Видит приближающегося Шой Да.) Дай мне свой мешок, калека! (Поднимает еще один из мешков Лин То.)
Столяр. Вот спасибо! Ах, если бы она была здесь и видела, что ты помог старому человеку, она бы тебя похвалила. Да, да…
Входит Шой Да.
Госпожа Ян. Господин Шой Да, конечно, сразу увидел, что такое настоящий работник, который по-настоящему относится к работе. И, конечно, вмешался.
Шой Да. Стойте, вы! Что тут происходит? Почему ты несешь только один мешок?
Столяр. Я немного устал сегодня, господин Шой Да, и Ян Сун был так добр…
Шой Да. Ты вернешься назад и возьмешь три мешка, дружок. Что может Ян Сун, можешь и ты. Ян Сун старается, а ты?
Госпожа Ян (в то время как бывший столяр берет еще два мешка). Ни одного слова, конечно, не было сказано Суну, но господин Шой Да уже получил представление о нем и в следующую субботу при выплате заработной платы…
Ставят стол, входит Шой Да с мешочком денег. Стоя рядом с надсмотрщиком — бывшим безработным, — он выплачивает заработную плату. К столу подходит Сун.
Надсмотрщик. Ян Сун — шесть серебряных долларов.
Сун. Простите, здесь может быть только пять. Только пять серебряных долларов. (Берет ведомость, которую держит надсмотрщик.) Взгляните, пожалуйста, здесь отмечено шесть рабочих дней, в то время как один из них я провел в суде. (Лицемерно.) Я не желаю получать то, что мне не причитается, даже при такой мизерной плате!
Надсмотрщик. Значит, пять серебряных долларов! (Шой Да.) Редкий случай, господин Шой Да!
Шой Да. Как могло быть записано шесть дней, раз он работал пять?
Надсмотрщик. По всей вероятности, я и вправду ошибся, господин Шой Да. (Суну, холодно.) Больше этого не случится.
Шой Да (отводит Суна в сторону). Я недавно заметил, что вы сильный человек и не скрываете этого от фирмы. Сегодня я убедился, что вы еще и честный человек. Часто случается, что надсмотрщик ошибается в ущерб фирме?
Сун. У него знакомые среди рабочих — они считают его своим.
Шой Да. Понимаю. Услуга за услугу. Хотите получить вознаграждение?
Сун. Нет. Но позволю себе обратить ваше внимание на то, что я еще и грамотный человек. Я, видите ли, получил некоторое образование. Надсмотрщик хорошо относится к рабочим, но он, как человек необразованный, не в состоянии понять интересы фирмы. Прошу вас — неделю испытательного срока, господин Шой Да. Постараюсь доказать вам, что мои умственные способности пригодятся фирме больше, чем сила моих мышц.
Госпожа Ян. Это были смелые слова, но в тот вечер я сказала своему Суну: «Ты летчик. Покажи и там, где ты теперь находишься, что можешь подняться ввысь! Лети, мой сокол!» На самом деле, чего только не достигнут образование и ум! Разве без них выбьешься в люди? Мой сын творил настоящие чудеса на табачной фабрике господина Шой Да!
Сун стоит, широко расставив ноги, позади работающих. Они передают друг другу через головы корзину листового табака.
Сун. Эй, вы, что это за работа! Разве корзину так передают? Живее! (Ребенку.) А ты почему не сядешь на пол? Место освободится. А ты там можешь заодно и прессовать. Лодыри! За что только мы платим вам деньги? Быстрее, говорю! Ко всем чертям! Деда посадить в сторонку, пускай он теребит вместе с детьми! Разленился он тут! Ну, дружней! (Хлопает в такт в ладоши, и корзина движется быстрее.)
Госпожа Ян. И ни вражда, ни брань необразованных людей — а в этом не было недостатка — не удержали моего сына от исполнения своего долга.
Один из рабочих запевает песню о восьмом слоне. Другие подтягивают припев.
Песня о восьмом слоне
Семерых слонов имеет господин. Сверх того — восьмым он обладает. Семеро дики. Восьмой — ручной. Он за семерыми наблюдает. Рысью, побыстрей! Ни пня не оставлять в лесу! Вы все должны раскорчевать, А ночь уж на носу! Семеро слонов корчуют лес. На восьмом — их господин гарцует. Целый день-деньской наблюдал восьмой, Как они, усердно ли корчуют. Тащите побыстрей! Ни пня не оставлять в лесу! Вы все должны раскорчевать, А ночь уж на носу! Семеро слонов больше не хотят. Больше к пням они не подступают. Господин пришел. Был он очень зол. Он восьмому рису подсыпает. Как это понять? Ни пня не оставлять в лесу! Вы все должны раскорчевать, А ночь уж на носу! Семеро слонов лишены клыков. Только у восьмого клык остался. Он к слонам идет. Смертным боем бьет. Господин увидел — засмеялся. Тащите побыстрей! Ни пня не оставлять в лесу! Вы все должны раскорчевать, А ночь уж на носу!Спокойно прохаживаясь и куря сигару, Шой Да выходит вперед. Ян Сун, смеясь, подпевает припев третьей строфы и в последней строфе, хлопая в ладоши, ускоряет темп.
Госпожа Ян. Мы просто не знаем, как нам благодарить господина Шой Да. Почти незаметно, одной лишь строгостью и мудростью, он извлек из Суна все хорошее, что в нем таилось! Он не давал никаких фантастических обещаний, подобно его хваленой кузине, но заставил его честно работать. И сейчас Суна не узнать. Он совсем другой, чем еще три месяца назад! Вы, надеюсь, согласитесь со мной! Недаром старики говорили: «Благородный человек, что колокол, если ударишь в него — звонит, не ударишь — не звонит».
IX
Табачная лавка Шен Де.
Лавка превратилась в контору с глубокими креслами и красивыми коврами. Идет дождь. Потолстевший Шой Да прощается с супружеской парой, торгующей коврами. Шин, усмехаясь, наблюдает за ними. Бросается в глаза, что она одета во все новое.
Шой Да. Сожалею, но не могу сказать, когда она вернется.
Старуха. Сегодня мы получили письмо. В него были вложены двести серебряных долларов, которые мы когда-то ей одолжили. Отправитель не указан. Но письмо, конечно, от Шен Де. Нам хотелось бы написать ей, какой ее адрес?
Шой Да. И этого я, к сожалению, не знаю.
Старик. Идем.
Старуха. Когда-нибудь должна же она возвратиться!
Шой Да кланяется. Старики уходят, неуверенные и обеспокоенные.
Шин. Деньги пришли слишком поздно. Они потеряли свою лавку, потому что не заплатили налогов.
Шой Да. Почему они не обратились ко мне?
Шин. К вам обращаются неохотно. Вначале они ждали, что вернется Шен Де, ведь у них не было никакой расписки. В самое тяжелое для них время у старика началась лихорадка, и его жена день и ночь сидела возле него.
Шой Да (вынужден сесть, ему дурно). У меня опять кружится голова.
Шин (хлопочет около него). Вы на седьмом месяце! Волнения вредны для вас. Радуйтесь, что я здесь. Никто не может обойтись без человеческой помощи. В трудную минуту я буду подле вас. (Смеется.)
Шой Да (слабым голосом). Могу я рассчитывать на это, госпожа Шин?
Шин. А как же! Это, конечно, будет стоить какую-нибудь там мелочь. Расстегните воротник, вам станет легче.
Шой Да (жалобно). Ведь все это только ради ребенка, госпожа Шин.
Шин. Все ради ребенка.
Шой Да. Только я слишком быстро полнею. Боюсь, уже заметно.
Шин. Это объясняют благополучием.
Шой Да. А что будет с маленьким?
Шин. Три раза на день вы об этом спрашиваете. За ним будет хороший уход. Лучший, какой только возможен за золото.
Шой Да. Да. (Боязливо.) Он никогда не должен видеть Шой Да.
Шин. Никогда. Одну только Шен Де.
Шой Да. Но слухи в квартале! Водонос со своей болтовней. За лавкой следят!
Шин. Пока не узнал цирюльник, ничего еще не потеряно. Глотните воды.
Входит Сун в элегантном костюме, с портфелем делового человека. Он с удивлением видит Шой Да в объятиях Шин.
Сун. Я, кажется, помешал?
Шой Да (поднимается с трудом и, шатаясь, идет к двери). До завтра, госпожа Шин.
Шин, натягивая перчатки, уходит улыбаясь.
Сун. Перчатки! Откуда, как, зачем? Смотрите, не окручивает ли она вас? (Так как Шой Да не отвечает.) Неужели и вы подвержены нежным чувствам? Смешно. (Достает листок из портфеля.) Во всяком случае, вы в последнее время не на вашей прежней высоте. Причуды. Неуверенность. Вы больны? Дело страдает от этого. Вот опять бумажка из полиции. Они грозят закрыть фабрику. Говорят, что в крайнем случае разрешат пребывание в одном помещении не больше чем двойному числу людей, сверх дозволенного законом. Пора наконец что-то предпринять, господин Шой Да!
Шой Да с минуту рассеянно смотрит на него. Затем уходит в заднюю комнату и возвращается со свертком. Достает из него новую шляпу-котелок и бросает ее на письменный стол.
Шой Да. Фирма желает, чтобы ее представители прилично одевались.
Сун. Уж не для меня ли вы купили его?
Шой Да (равнодушно.) Примерьте, впору ли он вам.
Сун удивленно смотрит на Шой Да и надевает шляпу. Шой Да поправляет котелок.
Сун. Благодарю, но не уклоняйтесь от разговора. Сегодня вам предстоит обсудить с цирюльником новый проект.
Шой Да. Цирюльник ставит невыполнимые условия.
Сун. Если бы вы мне наконец сообщили, какие это условия.
Шой Да (уклончиво). Бараки вполне удовлетворительны.
Сун. Для сброда, который там работает, но не для табака. Он сыреет. Я поговорю с Ми Дзю о ее помещении еще до заседания. Когда мы его получим, мы сможем выгнать всех наших калек, попрошаек и недотеп. Они не годятся. За чашкой чая я поглажу Ми Дзю ее жирные колени, и помещение обойдется нам в полцены.
Шой Да (резко). Нет. Я требую ради престижа фирмы, чтоб вы вели себя сдержанно и холодно, как подобает дельцу.
Сун. Почему вы так раздражительны? Неужели из-за этих сплетен?
Шой Да. Я не слушаю сплетен.
Сун. Значит, это опять дождь. Каждый раз, когда идет дождь, вы становитесь раздражительны и грустны. Хотелось бы знать почему.
Голос Вана (с улицы).
Гром гремит, и дождик льется, Ну а я — водой торгую, А вода не продается И не пьется ни в какую. Я кричу: «Воды купите!» Но никто не покупает. В мой карман за эту воду Ничего не попадает.Сун. Опять этот проклятый водонос. Сейчас он снова начнет приставать.
Голос Вана (с улицы). Неужели в городе не осталось ни одного доброго человека? Даже здесь, где жила добрая Шен Де? Где она, которая много месяцев назад в дождливый день от радости купила у меня кружку воды? Где она теперь? Неужели никто не видел ее? Не слышал о ней? Однажды вечером она вошла в этот дом и больше уже не выходила из него.
Сун. Не заткнуть ли ему наконец глотку? Ему-то какое дело, где она! Впрочем, если на то пошло, вы не говорите этого только для того, чтобы не узнал я.
Ван (входит). Господин Шой Да, я снова спрашиваю вас, когда вернется Шен Де. Полгода прошло с тех пор, как она уехала.
Шой Да молчит.
За это время здесь было многое, чего не было бы в ее присутствии.
Шой Да продолжает молчать.
Господин Шой Да, ходят слухи, что с Шен Де что-то случилось. Мы, ее друзья, сильно встревожены. Будьте любезны дать нам ее адрес.
Шой Да. К сожалению, у меня сейчас нет времени, господин Ван. Приходите на следующей неделе.
Ван (взволнованно). От людей не укрылось и то обстоятельство, что рис, который раньше получали нуждающиеся, снова стал появляться у дверей.
Шой Да. И какие выводы делают из этого?
Ван. Что Шен Де вообще не уезжала.
Шой Да. А что же?
Ван молчит.
Тогда я отвечу вам. Ответ окончательный. Если вы друг Шен Де, господин Ван, спрашивайте возможно меньше о ее местопребывании. Вот вам мой совет.
Ван. Недурной совет! Господин Шой Да, Шен Де сообщила мне перед своим исчезновением, что она беременна!
Сун. Что?
Шой Да (быстро). Ложь!
Ван (очень серьезно). Господин Шой Да, не думайте, что друзья Шен Де когда-либо перестанут справляться о ней. Доброго человека забыть нелегко, их не так много. (Уходит.)
Шой Да, оцепенев, смотрит ему вслед. Потом быстро уходит в заднюю комнату.
Сун (к публике). Шен Де беременна! Я вне себя! Я обманут! Она, вероятно, сказала об этом своему двоюродному брату, а этот прохвост, конечно, тотчас же спровадил ее. «Уложи свои вещи и исчезни, пока отец ребенка ничего не знает». Но это противоестественно! Бесчеловечно! У меня сын. В мире должен появиться еще один Ян! И что же происходит? Девушка исчезает, а меня заставляют здесь работать. (В ярости.) Нет, шляпой не отделаешься! (Топчет шляпу ногами.) Преступник! Разбойник! Похититель детей! А девушка лишена защитника!
Из комнаты доносится всхлипывание.
(Застывает на месте.) Кто может там плакать? Кто же это? Перестали. Нет, кто-то плачет. Не рыдает же этот прожженный плут Шой Да! Кто же тогда? И что означает появление риса у дверей? Возможно ли, чтоб девушка была здесь? Неужели он ее прячет? А кто же может там плакать? Вот это был бы сюрприз! Если она беременна, я должен непременно разыскать ее!
Шой Да возвращается из комнаты. Подходит к двери и смотрит на дождь.
Итак, где она?
Шой Да (поднимает руку и прислушивается). Одну минутку! Уже девять часов. Но почему-то ничего не слышно. Слишком сильный дождь.
Сун (иронически). Что вы хотите услышать?
Шой Да. Почтовый самолет.
Сун. Шутки!
Шой Да. Когда-то, говорят, вы хотели летать? Разве вы потеряли интерес к этому?
Сун. Я не жалуюсь на мое теперешнее положение, если вы это имеете в виду. Признаться, я не люблю ночной службы. А почтовые самолеты летают ночью. Я, так сказать, привязался к фирме. Как-никак — это все же фирма моей бывшей невесты, если она даже и уехала. Ведь она уехала?
Шой Да. Почему вы спрашиваете?
Сун. Быть может, потому, что ее дела мне все еще не безразличны.
Шой Да. Это могло бы заинтересовать мою кузину.
Сун. Ее дела занимают меня, во всяком случае, до такой степени, что я не стану закрывать глаза, если ее лишают, например, свободы передвижения.
Шой Да. Кто лишает ее?
Сун. Вы!
Пауза.
Шой Да. Как бы вы поступили в подобном случае?
Сун. Я, пожалуй, прежде всего обсудил бы свое положение в фирме.
Шой Да. Ах, так! И если бы фирма, то есть я предоставил вам соответствующую должность, можно было бы рассчитывать, что вы прекратите дальнейшие расспросы о вашей бывшей невесте?
Сун. Не исключено.
Шой Да. А как вы себе представляете свое новое положение в фирме?
Сун. Господствующим. Я думаю, например, о том, чтобы выбросить вас.
Шой Да. А если фирма вместо меня выбросит вас?
Сун. Тогда бы я, вероятно, возвратился, но не один.
Шой Да. А с кем?
Сун. С полицией.
Шой Да. С полицией. Допустим, что полиция здесь никого не найдет?
Сун. Она, вероятно, осмотрела бы ту комнату! Господин Шой Да, тоска по даме моего сердца становится неутолимой. Я чувствую, что должен предпринять что-то, чтобы снова обрести возможность заключить ее в свои объятия. (Спокойно.) Она беременна и нуждается в том, чтобы возле нее был человек. Пойду поговорю с водоносом. (Уходит.)
Шой Да неподвижно смотрит ему вслед. Затем быстро уходит обратно в комнату. Приносит различные вещи Шен Де — белье, платья, туалетные принадлежности. Долго смотрит на шаль, которую Шен Де купила у торговцев коврами. Затем связывает все вместе в узел и, заслышав шаги, прячет под стол. Входят домовладелица и господин Шу Фу. Они приветствуют Шой Да, снимают галоши и кладут зонтики.
Домовладелица. Наступает осень, господин Шой Да.
Господин Шу Фу. Грустное время года!
Домовладелица. А где ваш очаровательный доверенный? Ужасный сердцеед! Вы, наверно, не знаете его с этой стороны. Однако он отлично сочетает мужское обаяние со служебным долгом, что для вас только выгодно.
Шой Да (кланяется). Садитесь, пожалуйста.
Садятся и закуривают.
Друзья мои, непредвиденный случай, чреватый известными последствиями, заставляет меня ускорить переговоры, которые я недавно начал вести о будущем моего предприятия. Господин Шу Фу, моя фабрика в затруднительном положении.
Господин Шу Фу. Как всегда.
Шой Да. Но сейчас полиция открыто угрожает закрыть ее, если я не смогу сослаться на переговоры о новом объекте. Господин Шу Фу, речь идет о единственной собственности моей кузины, к которой вы всегда проявляли такой повышенный интерес.
Господин Шу Фу. Господин Шой Да, я крайне неохотно участвую в обсуждении ваших постоянно расширяющихся проектов. Я говорю о скромном ужине с вашей кузиной, а вы намекаете на финансовые затруднения. Я предоставляю в распоряжение вашей кузины жилье для бездомных, а вы открываете там фабрику. Я передаю ей чек, вы предъявляете его. Ваша кузина исчезает, вы желаете получить сто тысяч серебряных долларов, давая понять при этом, что мои дома слишком для вас малы. Господин Шой Да, где ваша кузина?
Шой Да. Господин Шу Фу, успокойтесь. Могу вас обнадежить — она очень скоро вернется.
Господин Шу Фу. Скоро? Когда же? Я слышу от вас «скоро» уже несколько недель.
Шой Да. Я не требовал от вас новых подписей. Единственное, о чем я вас спросил, — заинтересуетесь ли вы моим проектом, если моя кузина возвратится.
Господин Шу Фу. Я вам говорил тысячу раз, что с вами мне больше нечего обсуждать, с вашей кузиной же, напротив, я готов обсуждать все. Но у меня создалось впечатление, что вы намерены препятствовать такой беседе.
Шой Да. Больше не намерен.
Господин Шу Фу. Когда же она состоится?
Шой Да (неуверенно). Месяца через три.
Господин Шу Фу (сердито). Значит, месяца через три я дам свою подпись.
Шой Да. Однако нужно все подготовить.
Господин Шу Фу. Вы успеете все подготовить, Шой Да, если уверены, что ваша кузина на этот раз действительно приедет.
Шой Да. Госпожа Ми Дзю, согласны ли вы заверить полицию, что я получаю ваше фабричное помещение?
Домовладелица. Конечно, если вы уступите мне своего доверенного. Вот уже несколько недель, как вам известно мое условие. (Господину Шу Фу.) Это очень дельный молодой человек, а мне нужен управляющий.
Шой Да. Должны же вы понять, что именно сейчас я не могу обойтись без господина Ян Суна, при всех теперешних трудностях и при моем в последнее время столь пошатнувшемся здоровье! Я с самого начала был готов уступить вам его, но…
Домовладелица. Вот именно, но…
Пауза.
Шой Да. Хорошо, завтра он зайдет в вашу контору.
Господин Шу Фу. Приветствую такое решение, Шой Да. Если бы мадемуазель Шен Де действительно возвратилась, присутствие здесь молодого человека оказалось бы в высшей степени неуместным. Всем нам известно, какое пагубное влияние он имел на нее.
Шой Да (кланяясь). Несомненно. Простите мое продолжительное, недостойное делового человека колебание в обоих вопросах, касающихся моей кузины Шен Де и господина Ян Суна. Эти люди были близки когда-то.
Домовладелица. Мы вас извиняем.
Шой Да (глядя на дверь). Друзья мои, давайте придем теперь к окончательному решению. Вместо этой когда-то маленькой лавки, где бедняки нашего квартала покупали табак доброй Шен Де, мы, ее друзья, решаем открыть двенадцать больших магазинов, в которых будет продаваться хороший табак Шен Де. Я слышал, что народ называет меня табачным королем Сычуани. На самом деле я руководил этим предприятием исключительно в интересах моей кузины. Оно будет принадлежать ей, ее детям и детям ее детей.
С улицы доносится шум толпы. Входят Сун, Ван и полицейский.
Полицейский. Господин Шой Да, очень сожалею, но возбуждение среди жителей квартала вынуждает меня расследовать заявление, поступившее из вашей собственной фирмы, о том, что вы лишили свободы свою кузину Шен Де.
Шой Да. Это неправда.
Полицейский. Господин Ян Сун утверждает, что слышал рыдания из комнаты позади вашей конторы, которые могли исходить только от особы женского пола.
Домовладелица. Смешно. Я и господин Шу Фу, уважаемые граждане этого города, показания которых полиция едва ли может взять под сомнение, свидетельствуем, что здесь никто не рыдал. Мы спокойно курим свои сигары.
Полицейский. К сожалению, мне поручено осмотреть упомянутую комнату.
Шой Да открывает дверь.
(С поклоном переступает порог комнаты. Заглядывает внутрь, потом поворачивается и улыбается.) Там действительно никого нет.
Сун (подошедший к нему). Да, но я слышал плач! (Взгляд его падает на стол, под который Шой Да засунул узел. Подбегает к нему.) Этого раньше здесь не было! (Развязывает узел, показывает платья Шен Де)
Ван. Это вещи Шен Де! (Бежит к двери и кричит.) Нашли ее платья!
Полицейский (берет вещи). Вы заявляете, что ваша кузина уехала. Под вашим столом обнаружен спрятанный узел с ее вещами. Где девушка, господин Шой Да?
Шой Да. Я не знаю ее адреса.
Полицейский. Очень жаль.
Возгласы толпы. Нашли вещи Шен Де!
— Табачный король убил девушку и упрятал ее!
Полицейский. Господин Шой Да, я вынужден просить вас следовать за мной.
Шой Да (кланяется домовладелице и господину Шу Фу). Прошу прощения за этот скандал, господа. Но в Сычуани есть еще судьи. Я уверен, что все быстро разъяснится. (Выходит, за ним идет полицейский.)
Ван. Совершено ужасное преступление!
Сун (потрясенный). Но я же слышал плач!
Интермедия
Ночлег Вана.
Музыка. В последний раз водоносу являются во сне боги. Они очень изменились. Ясно видны следы долгих странствий, глубокой усталости и многих тяжелых испытаний. У одного сбита с головы шляпа, другой попал ногой в капкан для лисиц, все трое босы.
Ван. Наконец-то вы появились! Ужасные вещи происходят в табачной лавке Шен Де, мудрейшие! Вот уже несколько месяцев, как она опять уехала. Все захватил двоюродный брат! Сегодня его арестовали. Говорят, он убил ее, чтобы завладеть лавкой. Но я этому не верю, потому что она явилась мне во сне и рассказала, что двоюродный брат держит ее в плену. О мудрейшие, вы должны тотчас же вернуться и отыскать Шен Де.
Первый бог. Это ужасно. Все наши поиски оказались впустую. Мало мы нашли добрых людей, а те, которых нашли, живут жизнью, недостойной человека. Мы решили держаться Шен Де.
Второй бог. Если она все еще осталась доброй!
Ван. Конечно, Шен Де добрая, но она исчезла!
Первый бог. Тогда все пропало.
Второй бог. Спокойствие.
Первый бог. К чему тут еще спокойствие? Если мы ее не найдем, мы должны будем подать в отставку. О, что за мир предстал нашим глазам — повсюду бедствия, низость, измена! Даже природа изменила нам. Прекрасные деревья обезглавлены проволокой, по ту сторону гор виднеются густые облака дыма, слышится гром пушек, и ни одного доброго человека, который способен устоять!
Третий бог. Ах, водонос, по-видимому, наши заповеди губительны! Боюсь, все правила нравственности, которые мы установили, должны быть вычеркнуты. У людей хватает забот, чтоб хотя бы спасти свою жизнь. Добрые намерения приводят их на край пропасти, а добрые дела сбрасывают их вниз. (Двум другим богам.) Мир не приспособлен для жизни, вы должны это признать!
Первый бог (горячо). Нет, люди ничего не стоят!
Третий бог. Потому что мир слишком холоден!
Второй бог. Потому что люди слишком слабы!
Первый бог. Побольше достоинства, дорогие, побольше достоинства! Нельзя отчаиваться, братья. Мы все же нашли одного, который был добрым и не стал злым. Он только исчез. Поспешим найти его. Одного достаточно. Разве мы не говорили, что все еще может наладиться, если найдется хотя бы один, который выдержит эту жизнь, хотя бы один?!
Боги быстро исчезают.
X
Зал суда.
Группы: господин Шу Фу и домовладелица. Сун и его мать. Ван, столяр, дедушка, молодая проститутка, старик и его жена. Шин. Полицейский. Невестка.
Старик. Его власть слишком велика.
Ван. Он открывает двенадцать новых лавок.
Столяр. Как может судья вынести справедливый приговор, если друзья подсудимого, цирюльник Шу Фу и домовладелица Ми Дзю, друзья судьи?
Невестка. Люди видели, как вчера вечером Шин по поручению господина Шой Да принесла на кухню судьи жирного гуся. Жир протекал сквозь корзину.
Старуха (Вану). Нашу бедняжку Шен Де никогда больше не найдут.
Ван. Да, только боги могут открыть истину.
Полицейский. Тише! Суд идет.
Входят три бога в судейских тогах. Пока они идут вдоль рампы к своим местам, слышно, как они шепчутся.
Третий бог. Все выйдет наружу. Документы очень плохо подделаны.
Второй бог. И людям покажется подозрительным, что у судьи внезапно расстроился желудок.
Первый бог. Нет, это естественно, ведь он съел полгуся.
Шин. Новые судьи!
Ван. И очень хорошие!
Третий бог, идущий последним, слышит его слова, оборачивается и улыбается ему. Боги садятся. Первый бог ударяет молоточком по столу. Полицейский вводит Шой Да. Его встречают свистками, но он держится надменно.
Полицейский. Приготовьтесь к неожиданности. Это не судья Фу И-чен. Однако новые судьи, по-видимому, тоже очень снисходительны.
Увидев богов, Шой Да падает в обморок.
Молодая проститутка. Что такое? Табачный король упал в обморок.
Невестка. Да, при виде новых судей!
Ван. Выходит, он знает их! Странно!
Первый бог (открывает заседание). Вы крупный торговец табаком Шой Да?
Шой Да (очень слабым голосом). Да.
Первый бог. Поступила жалоба, что вы устранили свою кузину, мадемуазель Шен Де, чтобы завладеть ее лавкой. Признаете ли вы себя виновным?
Шой Да. Нет.
Первый бог (перелистывая дело). Заслушаем прежде всего показания полицейского того квартала относительно репутации обвиняемого и репутации его кузины.
Полицейский (выходит вперед). Мадемуазель Шен Де охотно угождала всем людям. Как говорится, жила и давала жить другим. Господин Шой Да, напротив, человек с принципами. Добросердечие кузины иногда вынуждало его прибегать к суровым мерам. Однако, в противоположность девушке, он всегда придерживался закона, ваша милость. Он разоблачил людей, которым его кузина доверчиво предоставила убежище, как воровскую шайку, а в другом случае в последний момент удержал Шен Де от лжесвидетельства. Господин Шой Да известен мне как почтенный и почитающий законы гражданин.
Первый бог. Есть ли тут и другие люди, которые готовы свидетельствовать, что обвиняемый не мог совершить преступление, которое ему приписывают?
Выходят вперед господин Шу Фу и домовладелица.
Полицейский (шепчет богам). Господин Шу Фу, очень влиятельный господин!
Господин Шу Фу. Господин Шой Да считается в городе уважаемым дельцом. Он второй председатель торговой палаты; в квартале, где он живет, его собираются выдвинуть на должность мирового судьи.
Ван (кричит). Вы собираетесь! Вы обделываете с ним дела.
Полицейский (шепотом). Злонамеренный субъект!
Домовладелица. Как председательница попечительского общества я хотела бы довести до сведения суда, что господин Шой Да не только намеревается подарить множеству рабочих своей табачной фабрики самые лучшие помещения, светлые и просторные, но постоянно делал пожертвования приюту для инвалидов.
Полицейский (шепчет). Госпожа Ми Дзю, близкая приятельница судьи Фу И-чена!
Первый бог. Да, да, но теперь мы должны также заслушать, не скажет ли кто-нибудь что-либо менее похвальное об обвиняемом.
Выходят вперед Ван, столяр, пожилая чета, безработный, невестка, молодая проститутка.
Полицейский. Подонки квартала.
Первый бог. Что вам известно о поведении Шой Да?
Возгласы. Он разорил нас!
— Он вымогал у меня!
— Сманивал на дурные дела!
— Эксплуатировал беспомощных!
— Лгал!
— Обманывал!
— Убивал!
Первый бог. Обвиняемый, что вы можете на это ответить?
Шой Да. Я ничего не сделал, кроме того, что спас от разорения мою кузину, ваша милость. Я приезжал только тогда, когда появлялась опасность, что она может потерять свою маленькую лавку. Мне пришлось приезжать трижды. И ни разу я не собирался оставаться здесь. Обстоятельства сложились так, что в последний раз я задержался. Все это время я был погружен в заботы. Моя кузина была любима здесь, а мне пришлось выполнять черную работу. Поэтому меня ненавидят.
Невестка. И поделом! Возьмите хотя бы нашего мальчика, ваша милость. (Шой Да.) Я не стану уже говорить о мешках.
Шой Да. Почему бы нет? Почему бы нет?
Невестка (богам). Шен Де дала нам пристанище, а он велел арестовать нас.
Шой Да. Вы воровали пироги!
Невестка. Можно подумать, что он заботился о булочнике! Он хотел захватить лавку.
Шой Да. Лавка не ночлежка. Вы думали только о себе!
Невестка. Нам некуда было деваться!
Шой Да. Вас было слишком много!
Ван. А эти? (Указывает на обоих стариков.) Они тоже думали только о себе?
Старик. Мы вложили наши сбережения в лавку Шен Де. Почему ты лишил нас нашей лавки?
Шой Да. Потому что моя кузина хотела помочь летать одному летчику. Я должен был раздобыть деньги!
Ван. Этого, может быть, хотела она, ты же искал выгоды! Одной лавки тебе было мало.
Шой Да. Плата за помещение оказалась слишком высокой!
Шин. Это я могу подтвердить.
Шой Да. А моя кузина ничего не смыслила в делах.
Шин. И это я могу подтвердить! Не говоря уже о том, что она была влюблена в летчика.
Шой Да. Разве она не имела права любить?
Ван. Конечно! Но ты заставлял ее выйти замуж за нелюбимого человека, за этого цирюльника!
Шой Да. Человек, которого она любила, оказался подлецом.
Ван. Этот? (Показывает на Суна.)
Сун (вскакивает). И потому, что он подлец, ты взял его в свою контору!
Шой Да. Чтоб исправить тебя! Чтоб исправить тебя!
Невестка. Чтоб сделать его понукальщиком!
Ван. А когда он исправился, разве ты не продал его вот этой? (Указывает на домовладелицу.) Она повсюду раструбила об этом!
Шой Да. Она только тогда соглашалась дать мне помещение, когда он гладил ее колени!
Домовладелица (оскорбленная). Ложь! Не смейте говорить мне о помещении! Никаких дел с вами, — убийца!
Сун (решительно). Ваша милость, я должен сказать кое-что в его пользу.
Невестка. Разумеется, должен. Ведь ты служишь у него.
Безработный. Такого свирепого понукальщика я еще не видывал. Он совсем осатанел.
Сун. Ваша милость, что бы там обвиняемый ни сделал из меня, он не убийца. За несколько минут до его ареста я слышал голос Шен Де из комнаты позади лавки.
Первый бог (быстро). Значит, она жива? Скажи нам точно, что ты слышал!
Сун (торжествующе). Плач, ваша милость, плач!
Третий бог. И ты ее узнал?
Сун. Безусловно. Разве я мог не узнать ее голос?
Господин Шу Фу. Да, ты достаточно часто заставлял ее плакать.
Сун. И все-таки я сделал ее счастливой. Но потом он (указывая на Шой Да) решил продать ее тебе.
Шой Да (Суну). Потому что ты ее не любил!
Ван. Нет, не потому. Ради денег!
Шой Да. Но для чего были нужны деньги? (Суну.) Ты требовал, чтобы она пожертвовала всеми своими друзьями, а цирюльник предложил свои дома и деньги, чтобы помочь беднякам. И для того, чтобы она могла делать добро, я должен был устроить ее помолвку с цирюльником.
Ван. Почему же ты не допустил ее делать добро, когда был подписан крупный чек? Почему ты послал друзей Шен Де в грязные парильни твоей фабрики, табачный король?
Шой Да. Это было сделано ради ребенка!
Столяр. А мои дети? Что ты сделал с моими детьми?
Шой Да молчит.
Ван. Теперь ты молчишь. Боги дали Шен Де лавку, как маленький источник добра. И она всегда старалась делать добро, а затем приходил ты и все уничтожал.
Шой Да (вне себя). Потому что иначе источник иссяк бы, дурак.
Шин. Это верно, ваша милость!
Ван. Что пользы в источнике, если из него нельзя черпать?
Шой Да. Добрые дела приносят разорение!
Ван (яростно). А злые дела приносят благополучие, да? Что ты сделал с доброй Шен Де, злой ты человек? Много ли добрых людей можно еще найти, мудрейшие? А она была добрая! Когда вон тот сломал мне руку, она обещала быть моим свидетелем. А сейчас я свидетельствую в ее пользу. Она была добрая, клянусь в этом. (Поднимает руку для присяги.)
Третий бог. Что у тебя с рукой, водонос? Она не сгибается.
Ван (показывает на Шой Да). И в этом виноват он, только он. Она хотела дать мне денег на лечение, но пришел он. Ты был ее смертельным врагом!
Шой Да. Я был ее единственным другом!
Все. Где она?
Шой Да. Уехала.
Ван. Куда?
Шой Да. Не скажу!
Все. Но почему она должна была уехать?
Шой Да (кричит). Потому что иначе вы бы ее растерзали!
Внезапно наступает тишина.
(Падает на стул.) Я больше не могу. Я хочу все открыть. Пусть очистят зал и останутся одни судьи, и я скажу.
Все. Он сознается! Он уличен!
Первый бог (ударяет молоточком по столу). Очистить зал!
Полицейский очищает зал.
Шин (смеется, уходя). Вот удивятся!
Шой Да. Ушли? Все? Я не могу больше молчать. Я узнал вас, мудрейшие!
Второй бог. Что ты сделал с нашим добрым человеком из Сычуани?
Шой Да. Позвольте же мне сознаться в ужасающей правде, ваш добрый человек — я! (Снимает маску и срывает одежду. Перед судом стоит Шен Де.)
Второй бог. Шен Де!
Шен Де. Да, это я. Шой Да и Шен Де — они оба — это я.
Ваш единодушный приказ — Быть хорошей и, однако, жить, — Как молния, рассек меня на две половины. Не знаю почему, но я не могла Быть одновременно доброй к себе и другим. Помогать и себе и другим было слишком трудно. Ах, ваш мир жесток! Слишком много нужды. Слишком много отчаяния! Протягиваешь руку бедняку, а он вырывает ее! Помогаешь пропащему человеку — и пропадаешь сам! Кто не ест мяса — умирает. Как же я могла не стать злой. Откуда мне было взять все, что надо? Только из самой себя. А это значило — погибнуть. Груз добрых намерений вгонял меня в землю, Зато, когда я совершала несправедливость, Я ела хорошее мясо и становилась сильной. Наверно, есть какая-то фальшь в вашем мире. Почему Зло в цене, а Добро в опале? Ах, мне так хотелось счастья, И к тому же было во мне тайное знанье, Так как моя приемная мать купала меня в канаве. От этого у меня зрение стало острее, Но состраданье терзало меня. Я видела нищету, и волчий гнев охватывал меня, И я чувствовала, что преображаюсь, Рот мой превращался в пасть, А слова во рту были как зола. И все же я охотно стала бы ангелом предместий. Дарить — было моим наслаждением. Я видела счастливое лицо — и чувствовала себя на седьмом небе. Проклинайте меня: Но должна сказать вам — Все преступления я совершила, Помогая своим соседям, Любя своего любимого И спасая от нужды своего сыночка. Я — маленький человек и была слишком мала Для ваших великих планов, боги.Первый бог (видно, что он охвачен ужасом). Замолчи, несчастная! Каково нам это слушать, ведь мы так рады, что нашли тебя!
Шен Де. Но должна же я сказать вам, что я и есть тот злой человек, о преступлениях которого вам здесь стало известно.
Первый бог. Тот добрый человек, о котором все говорили только доброе!
Шен Де. Нет, также и злой!
Первый бог. Это недоразумение! Несколько несчастных случаев. Какие-то соседи, лишенные сердца! Просто перестарались!
Второй бог. Но как же ей жить дальше?
Первый бог. Она будет жить! Она сильная и крепкая и может вынести многое.
Второй бог. Но разве ты не слышал, что она сказала?
Первый бог (горячо). Путано, все очень путано! Невероятно, очень невероятно! Неужели нам признать, что наши заповеди убийственны? Неужели нам отказаться от них? (Упрямо.) Нет, никогда! Признать, что мир должен быть изменен? Как? Кем? Нет, все в порядке. (Быстро ударяет молоточком по столу.)
И вот по его знаку раздается музыка.
Вспыхивает розовый свет.
Пора нам возвратиться. Мы очень привязались К этому миру. Его радости и печали То ободряли, то огорчали нас. И все же там, над звездами, с радостью Мы вспомним о тебе, Шен Де! О добром человеке, не забывшем наши заветы Здесь, внизу, Несущем светильник сквозь холодную тьму. Прощай, будь счастлива!По его знаку раскрывается потолок. Опускается розовое облако. Боги очень медленно поднимаются на нем вверх.
Шен Де. О, не уходите, мудрейшие! Не покидайте меня! Как мне смотреть в глаза добрым старикам, потерявшим свою лавку, и водоносу с искалеченной рукой? Как защитить себя от цирюльника, которого я не люблю, и от Суна, которого люблю? И чрево мое благословенно, скоро появится на свет мой маленький сын и захочет есть. Я не могу остаться здесь! (Как затравленная, смотрит на дверь, в которую войдут ее мучители.)
Первый бог. Сможешь. Старайся быть доброй, и все будет хорошо!
Входят свидетели. Они с удивлением видят плывущих на розовом облаке судей.
Ван. Боги явились нам! Окажите им почет! Три высших бога пришли в Сычуань, чтобы найти доброго человека. Они нашли его, но…
Первый бог. Никаких «но»! Вот он!
Все. Шен Де!
Первый бог. Она не погибла, она была только спрятана. Среди вас остается добрый человек!
Шен Де. Но мне нужен двоюродный брат!
Первый бог. Только не слишком часто!
Шен Де. Хотя бы раз в неделю!
Первый бог. Достаточно раз в месяц!
Шен Де. О, не удаляйтесь, мудрейшие! Я еще не все сказала! Вы мне так нужны!
Боги (поют).
Терцет исчезающих на облаке богов
Мы не можем, к сожаленью, Оставаться больше здесь, — Быстролетное мгновение — Вот и срок земной наш весь. Чтобы женщины чудесной, Как виденье, не вспугнуть, Мы — бесплотны, вы — телесны, И у нас особый путь. На земле вас покидаем, В никуда мы улетаем.Шен Де. Помогите!
Боги.
Мы поиски на этом завершаем И в небеса немедля улетаем. Так славься же отныне и вовек, Из Сычуани добрый человек!Между тем как Шен Де в отчаянии простирает к ним руки, они, улыбаясь и кивая, исчезают вверху.
Эпилог
Перед занавесом появляется актер и, обращаясь к публике, произносит заключительный монолог.
Актер.
О публика почтенная моя! Конец — неважный. Это знаю я. В руках у нас прекраснейшая сказка Вдруг получила горькую развязку. Опущен занавес, а мы стоим в смущенье — Не обрели вопросы разрешенья. От вас вполне зависим мы притом: За развлеченьем вы пришли в наш дом. Провал нас ждет — без вашей похвалы! Так в чем же дело? Что мы — не смелы? Трусливы? Иль в искусстве ищем выгод? Ведь должен быть какой-то верный выход? За деньги не придумаешь — какой! Другой герой? А если мир — другой? А может, здесь нужны другие боги? Иль вовсе без богов? Молчу в тревоге. Так помогите нам! Беду поправьте И мысль и разум свой сюда направьте. Попробуйте для доброго найти К хорошему — хорошие пути. Плохой конец — заранее отброшен. Он должен, должен, должен быть хорошим!«Кавказский меловой круг»
Кавказский меловой круг Перевод С. Апта
В сотрудничестве с Р. Берлау
{160}
Действующие лица
Старый крестьянин справа.
Крестьянка справа.
Молодой крестьянин.
Очень молодой рабочий.
Старый крестьянин слева.
Крестьянка слева.
Женщина-агроном.
Молодая трактористка.
Раненый солдат.
Другие колхозники и колхозницы.
Представитель из столицы.
Аркадий Чхеидзе — певец.
Его музыканты.
Георгий Абашвили — губернатор.
Нателла — его жена.
Михаил — их сын.
Гоги — адъютант.
Арсен Казбеки — жирный князь.
Конный гонец из города.
Нико Микадзе, Миха Лоладзе — врачи
Симон Хахава — солдат.
Груше Вахнадзе — судомойка.
Три архитектора.
Четыре служанки.
Нянька.
Повариха.
Повар.
Конюх.
Слуги во дворце губернатора.
Латники и солдаты губернатора и жирного князя.
Нищие и просители.
Старый крестьянин, продающий молоко.
Две знатные дамы.
Хозяин постоялого двора.
Работник.
Ефрейтор.
Латник Дубина.
Крестьянка.
Ее муж.
Три купца.
Лаврентий Вахнадзе — брат Груше.
Анико — его жена.
Их работники.
Крестьянка — временная свекровь Груше.
Давид — ее сын, муж Груше.
Монах.
Гости на свадьбе.
Дети.
Аздак — деревенский писарь.
Шалва — полицейский.
Старик беглец — великий князь.
Племянник Арсена Казбеки.
Врач.
Инвалид.
Хромой.
Вымогатель.
Хозяин другого постоялого двора.
Тамара — невестка хозяина.
Работник хозяина.
Старая бедная крестьянка.
Ираклий — ее свояк, бандит.
Три кулака.
Ило Шуболадзе, Сандро Оболадзе — адвокаты.
Очень старая супружеская чета.
I Спор о долине
Разрушенная кавказская деревушка. Среди развалин сидят кружком, пьют вино и курят колхозники — делегаты двух деревень, в большинстве женщины и пожилые мужчины. Есть и несколько солдат. К ним приехал из столицы представитель государственной комиссии по восстановлению хозяйства.
Крестьянка слева (показывает). Вон там, в предгорье, мы задержали три фашистских танка, но яблоневый сад был уже уничтожен.
Старик справа. А наша молочная ферма! Остались одни развалины!
Молодая трактористка. Это я подожгла ферму, товарищ.
Пауза.
Представитель. Выслушайте теперь протокол. В Нуку прибыла делегация овцеводческого колхоза «Ашхети». Когда гитлеровцы наступали, колхоз по указанию органов власти угнал свои стада на восток. Сейчас колхоз ставит вопрос о реэвакуации. Делегация ознакомилась с состоянием местности и установила, что разрушения очень велики.
Делегаты справа утвердительно кивают.
Соседний плодоводческий колхоз имени Розы Люксембург (обращаясь к сидящим справа) вносит предложение использовать прежние пастбища колхоза «Ашхети» под плодоводство и виноградарство. Земля эта представляет собой долину, травы там скверные. Как представитель комиссии по восстановлению, я предлагаю обеим деревням самим решить вопрос, должен сюда возвращаться колхоз «Ашхети» или нет.
Старик справа. Прежде всего я еще раз протестую против жесткого регламента выступлений. Мы добирались сюда из колхоза «Ашхети» три дня и три ночи, а теперь вы хотите провести обсуждение всего за полдня!
Раненый солдат слева. Товарищ, у нас теперь не так много деревень, не так много рабочих рук и не так много времени.
Молодая трактористка. На все удовольствия нужна норма. Табак по норме, вино по норме, дискуссия тоже по норме.
Старик справа (со вздохом). Черт бы побрал фашистов! Ну что ж, буду говорить по существу. Объясню, почему мы хотим вернуть себе нашу долину. Причин тому много, но я начну с самых простых. Макинэ Абакидзе, разверни-ка сыр.
Крестьянка справа извлекает из большой корзины огромную голову сыра, завернутую в тряпку. Смех и аплодисменты.
Прошу, товарищи, угощайтесь.
Старый крестьянин слева(недоверчиво). Это что, средство воздействия?
Старик справа (под смех присутствующих). Ну какое же это средство воздействия, Сураб, разбойник. Уж тебя-то мы знаем. Ты такой, что и сыр возьмешь и долину захватишь.
Смех.
Ничего мне от тебя не нужно, только честный ответ. Нравится тебе этот, сыр?
Старик слева. Хорошо, отвечу. Да, нравится.
Старик справа. Так. (С горечью.) Пора бы мне знать, что ты ничего не смыслишь в сыре.
Старик слева. Почему это я не смыслю? Я же говорю, что сыр мне нравится.
Старик справа. Потому что он не может нравиться. Потому что он не такой, каким был раньше. А почему он не такой? Потому что нашим овцам новая трава нравится меньше, чем прежняя. Сыр не сыр, потому что трава не трава. Вот в чем дело. Прошу это записать в протокол.
Старик слева. Да ведь отличный сыр у вас.
Старик справа. Никакой он не отличный, а с натяжкой средний. Что бы там молодежь ни говорила, а новое пастбище никуда не годится. Я заявляю, что там нельзя жить. Что там даже по утрам не пахнет утром.
Кое-кто смеется.
Представитель. Не сердись, что они смеются, они ведь тебя понимают. Товарищи, почему любят родину? А вот почему: хлеб там вкуснее, небо — выше, воздух — душистее, голоса — звонче, по земле ходить легче. Разве не так?
Старик справа. Долина была испокон веков наша.
Солдат слева. Что значит «испокон веков»? Ничего не может принадлежать «испокон веков». Когда ты был молодой, ты принадлежал не себе, а князьям Казбеки.
Старик справа. По закону — долина наша.
Молодая трактористка. Законы нужно, во всяком случае, пересмотреть: может быть, они уже не годятся.
Старик справа. И то сказать. Разве все равно, какое дерево стоит возле дома, где ты родился? Или какой у тебя сосед — разве это все равно? Мы хотим вернуться хотя бы для того, чтобы нашими соседями были вы, разбойники. Можете опять смеяться.
Старик слева (смеется). Почему же ты тогда не можешь спокойно выслушать, что скажет насчет долины твоя соседка — наш агроном Като Вахтангова?
Крестьянка справа. Мы еще далеко не все сказали о нашей долине. Дома-то не все разрушены, а от фермы по крайней мере фундамент остался.
Представитель. Вы можете рассчитывать на помощь государства — и здесь и там, вы это знаете.
Крестьянка справа. Товарищ уполномоченный, здесь у нас не торговля. Я не могу снять с тебя шапку и надеть на тебя другую, — эта, мол, лучше. Может, она и лучше, да тебе твоя нравится.
Молодая трактористка. Земля — это не шапка, не шапка в нашей стране, товарищ.
Представитель. Спокойно, товарищи. Правильно, земельный надел надо рассматривать скорее как орудие, производящее полезные вещи, но неверно было бы не считаться с тем, что люди привязаны к определенному клочку земли. Прежде чем продолжать обсуждение, я предлагаю, чтобы вы рассказали товарищам из колхоза «Ашхети», что вы собираетесь делать с этой долиной.
Старик справа. Согласен.
Старик слева. Правильно, пусть скажет Като.
Представитель. Товарищ агроном!
Женщина-агроном (встает, на ней военная гимнастерка). Товарищи, прошлой зимой, когда здесь, в предгорье, шли бои, мы, партизаны, говорили между собой, как нам после изгнания немцев восстановить садоводство и в десять раз расширить площадь наших садов. Я разработала проект системы орошения. Если у нас на горном озере возвести плотину, мы дадим воду тремстам гектарам неплодородной земли. Тогда бы наш колхоз мог заниматься не только плодоводством, но и виноградарством. Но проект окупится только в том случае, если к нам отойдет спорная долинная земля колхоза «Ашхети». Вот расчеты. (Протягивает представителю папку.)
Старик справа. Запишите в протокол, что наш колхоз собирается создать у себя конный завод.
Молодая трактористка. Товарищи, проект этот был составлен в те дни и ночи, когда мы вынуждены были жить в горах, когда у нас часто не хватало патронов, да и винтовок было мало. Даже карандаш достать было трудно.
Аплодисменты с обеих сторон.
Старик справа. Спасибо товарищам из колхоза имени Розы Люксембург и всем, кто защищал родину!
Колхозники обмениваются рукопожатиями и обнимают друг друга.
Крестьянка слева. Нам хотелось тогда, чтобы наши солдаты, наши и ваши мужья, вернувшись, нашли свою родную землю еще более плодородной.
Молодая трактористка. Как сказал поэт Маяковский: «Отечество славлю, которое есть, но трижды — которое будет!»
Все делегаты справа, кроме старика, встают и вместе с представителем из центра рассматривают чертежи агронома.
Голоса. Почему высота падения двадцать два метра?
— А эту скалу нужно взорвать!
— В сущности понадобится только цемент и динамит.
— Они заставят воду спуститься сюда, ловко!
Очень молодой рабочий справа(старику справа). Они оросят всю землю между холмами, взгляни, Резо.
Старик справа. Нечего мне смотреть. Я и так знал, что проект будет хороший. Я не позволю, чтобы к груди моей приставляли дуло.
Представитель. Не дуло, а всего-навсего карандаш.
Смех.
Старик справа (мрачно встает и идет смотреть чертежи). Эти разбойники, увы, прекрасно знают, что у нас не могут устоять перед машинами и проектами.
Крестьянка справа. Резо Берешвили, когда у тебя самого появляются новые проекты, ты несноснее всех, это известно.
Представитель. Так как же мне быть с протоколом? Можно записать, что у себя в колхозе вы выскажетесь за то, чтобы уступить долину в связи с этим проектом?
Крестьянка справа. Я — да. А ты, Резо?
Старик справа (склонившись над чертежами). Я предлагаю, чтобы вы дали нам копии чертежей.
Крестьянка справа. Тогда, значит, можно идти обедать. Если он возьмет чертежи и начнет их обсуждать — значит, вопрос, решен. Я его знаю. У нас все такие.
Делегаты со смехом обнимают друг друга.
Старик слева. Да здравствует колхоз «Ашхети»! Желаем вам удачи с конным заводом!
Крестьянка слева. Товарищи, в честь дорогих гостей, делегатов колхоза «Ашхети» и представителя из центра, у нас запланирован спектакль с участием певца Аркадия Чхеидзе. Пьеса связана с нашим вопросом.
Аплодисменты. Молодая трактористка побежала за певцом.
Крестьянка справа. Только, товарищи, чтоб пьеса ваша была хорошая. Мы платим за нее долиной.
Крестьянка слева. Аркадий Чхеидзе знает наизусть двадцать одну тысячу стихов.
Старик слева. Мы разучили пьесу под его руководством. Не так-то просто заполучить Аркадия. Плановой комиссии, товарищ, надо бы позаботиться, чтобы он почаще бывал у нас на севере.
Представитель. Мы, собственно, больше занимаемся экономикой.
Старик слева (улыбаясь). Вы наводите порядок в распределении тракторов и виноградных лоз. Почему бы вам не вмешаться и в распределение песен?
Молодая трактористка вводит в круг певца Аркадия Чхеидзе, коренастого человека самого обыкновенного вида. За ним идут четыре музыканта со своими инструментами. Артистам аплодируют.
Молодая трактористка. Это товарищ уполномоченный, Аркадий.
Певец здоровается с окружившими его колхозниками.
Крестьянка справа. Для меня большая честь познакомиться с вами. О ваших песнях я слыхала еще на школьной скамье.
Певец. На этот раз мы покажем спектакль с песнями, участвует почти весь колхоз. У нас с собой старые маски.
Старик справа. Наверно, это какое-нибудь старое предание?
Певец. Очень старое. Оно называется «Меловой круг», родина его Китай. Но мы сыграем его в измененной форме. Юра, покажи-ка маски. Товарищи, для нас большая честь — выступать перед вами после такой нелегкой дискуссии. Надеемся, вы согласитесь, что голосу старого поэта и тракторный рокот не помеха. Разные вина, может быть, и не годится мешать, но старая мудрость и новая мудрость дают отличную смесь. Думаю, однако, что до начала спектакля всех нас накормят? Это, знаете ли, помогает.
Голоса. Конечно!
— Пойдемте все в клуб!
Все весело расходятся.
Представитель (обращается к певцу). Надолго эта история, Аркадий? Я сегодня же ночью должен возвратиться в Тбилиси.
Певец(вскользь). Здесь, собственно, две истории. Несколько часов.
Представитель (очень искренне). Никак нельзя покороче?
Певец. Никак.
II Знатный ребенок
Певец (сидя на земле перед музыкантами, с черной буркой на плечах, листает потрепанные страницы либретто).
В старое время, кровавое время, В городе этом — а город «проклятым» прозвали — царил Губернатор по имени Георгий Абашвили. Он богат был, как Крез. У него была красавица жена. У него был ребенок — кровь с молоком. Ни один губернатор грузинский не мог бы похвастать Столькими лошадьми в конюшнях, Столькими нищими у порога, Столькими солдатами у себя на службе, Столькими просителями в своем дворе. Как описать мне вам такого Георгия Абашвили? Жизнь его была сплошным блаженством. Однажды в пасхальное воскресенье Губернатор, а также его семья Отправились в церковь.Из-под арки дворца потоком выходят нищие и просители, поднимая над головами изможденных детей, костыли и прошения. За ними — два солдата в кольчугах, затем в дорогих нарядах выходит семья губернатора.
Нищие и просители. Сжальтесь, ваша милость, налог нам не по силам.
— Я потерял ногу на персидской войне, где я возьму…
— Мой брат невиновен. Это недоразумение, ваша милость.
— Он у меня умрет с голоду.
— Прошу вас, освободите единственного оставшегося у нас сына от военной службы.
— Ваша милость, инспектор, ведающий водой, подкуплен.
Слуга собирает прошения, другой слуга достает из кошелька деньги и раздает милостыню. Солдаты, замахиваясь на толпу тяжелыми кожаными бичами, оттесняют ее назад.
Солдат. Назад! Очистить вход в церковь!
Вслед за губернаторской четой в роскошной коляске везут губернаторского ребенка. Толпа снова теснится вперед, чтобы посмотреть на него.
Голоса из толпы. Вот он, ребенок!
— Я не вижу, не толкайтесь.
— Благословенье божье, ваша милость.
Певец (меж тем как солдаты работают бичами).
В ту пасху в первый раз народ наследника увидел. Два доктора от знатного ребенка не отходили ни на шаг. Они его хранили как зеницу ока. Даже могущественный князь Казбеки Засвидетельствовал ему свое почтение.Жирный князь выходит вперед и здоровается с семьей губернатора.
Жирный князь. С праздником, Нателла Абашвили.
Раздается военная команда. Прискакавший конный гонец протягивает губернатору свернутые в трубку бумаги. Губернатор делает знак адъютанту, красивому молодому человеку, тот подходит к всаднику и удерживает его. Наступает короткая пауза, в течение которой жирный князь подозрительно рассматривает всадника.
Какой денек! Вчера шел дождь, и я уже подумал: невеселые праздники. А сегодня утром — пожалуйста, ясное небо. Я люблю ясное небо, Нателла Абашвили, душа моя. Маленький Михаил — вылитый губернатор, ти-ти-ти. (Щекочет ребенка.) С праздником, маленький Михаил, ти-ти-ти.
Жена губернатора. Подумайте, Арсен, Георгий наконец-то решился начать новую пристройку на восточной стороне. Все предместье, где сейчас эти жалкие лачуги, пойдет под сад.
Жирный князь. Вот хорошая новость после стольких печальных. Что слышно о войне, брат Георгий?
Губернатор жестом отмахивается от ответа.
Верно мне говорили — стратегическое отступление? Ну что ж, такие неприятности всегда случаются. Сегодня дела лучше, а завтра хуже — раз на раз не приходится. Переменный успех. Это же не имеет значения, правда?
Жена губернатора. Он кашляет! Георгий, ты слышал? (Резко двум врачам, степенно стоящим у самой коляски.) Он кашляет.
Первый врач (второму). Позвольте вам напомнить, Нико Микадзе, что я был против прохладной ванны. Небольшая ошибка в температуре воды для купанья, ваша милость.
Второй врач (также очень вежливо). Никак не могу согласиться с вами, Миха Лоладзе, эту температуру рекомендует наш великий и любимый Мишико Оболадзе. Скорее ночной сквозняк, ваша милость.
Жена губернатора. Следите же за ним. Похоже, что у него жар, Георгий.
Первый врач (склонившись над ребенком). Нет никаких оснований для беспокойства, ваша милость. Чуть погорячее ванна — и все будет в порядке.
Второй врач (смерив первого ядовитым взглядом). Я этого не забуду, любезнейший Миха Лоладзе. Нет никаких оснований беспокоиться, ваша милость.
Жирный князь. Ай-ай-ай! Когда у меня колет в печени, я всегда говорю: «Пятьдесят ударов по пяткам доктору». И то лишь потому, что мы живем в изнеженный век. Раньше бы за это сразу голову с плеч.
Жена губернатора. Пойдемте в церковь, здесь, наверно, сквозняк.
Процессия, состоящая из губернаторской семьи и слуг, поворачивает к церковной паперти. Жирный князь следует за процессией. Адъютант подходит к губернатору и указывает на гонца.
Губернатор. Не перед богослужением же, Гоги.
Адъютант (всаднику). Перед богослужением губернатору неугодно утруждать себя чтением депеш, тем более что они, скорее всего, огорчительного свойства. Ступай на кухню, друг, скажи, чтоб тебе дали поесть.
Адъютант присоединяется к процессии, гонец, выругавшись, идет через ворота во дворец. Из дворца выходит солдат и останавливается под аркой.
Певец.
В городе тихо. Перед церковью расхаживают голуби. А солдат дворцовой стражи Шутит с кухонной девчонкой, Что с реки идет со свертком во дворец.Служанка со свертком под мышкой хочет пройти через арку. Предмет, который она несет, завернут в большие зеленые листья.
Солдат. Почему барышня не в церкви? Она отлынивает от богослужения?
Груше. Я уже оделась было, да тут понадобился гусь для пасхального обеда, меня и послали, я знаю толк в гусях.
Солдат. Гусь? (С напускным недоверием.) Надо бы мне взглянуть на этого гуся.
Груше не понимает.
С вашей сестрой надо быть начеку. Тебе скажут: «Я ходила за гусем», а потом окажется, что не за гусем, а совсем за другим.
Груше (решительно подходит к нему и показывает гуся). Вот он. И если это не пятнадцатифунтовый, откормленный кукурузой гусь, я готова съесть его перья.
Солдат. Это король гусей! Его скушает сам губернатор. Значит, барышня опять была на реке?
Груше. Да, на птичьем дворе.
Солдат. Ах вот как, на птичьем дворе, значит, ниже по течению, а не наверху, где известные барышне ивы?
Груше. В ивняке я бываю ведь, только когда стираю белье.
Солдат (многозначительно). Вот именно.
Груше. Что «вот именно»?
Солдат (подмигивая). То самое.
Груше. А почему бы мне не стирать белье в ивняке?
Солдат (с деланным смехом). «Почему бы мне не стирать белье в ивняке»? Здорово, честное слово, здорово.
Груше. Не понимаю господина солдата. Что тут такого?
Солдат (лукаво). Если б знала она, что знает он, она б потеряла покой и сон.
Груше. Не знаю, что можно знать о каких-то ивах.
Солдат. А если напротив кустарник, из которого все видно? Все, что там происходит, когда некоторые «стирают белье»!
Груше. Что там происходит? Пусть господин солдат скажет, что он имеет в виду, и дело с концом.
Солдат. Наверно, уж происходит что-то такое, что можно увидеть.
Груше. Уж не то ли, господин солдат, что в жару я окунаю в воду кончики ног? Больше там ничего не бывает.
Солдат. Нет, больше. Кончики ног и больше.
Груше. Что еще? Ну, может быть, иногда всю ступню.
Солдат. Ступню и немножко больше. (Смеется.)
Груше (сердито). Симон Хахава, как тебе не стыдно! Сидеть в жару в кустах и ждать, когда человек окунет ноги в воду! И, наверно, еще с другим солдатом! (Убегает.)
Солдат (кричит ей вдогонку). Нет, один!
Когда певец возобновляет свой рассказ, солдат бежит за Груше.
Певец.
В городе тихо, зачем же нужно оружье? Во дворце губернатора мир и покой. Почему же дворец — это крепость?Из церкви слева быстро выходит жирный князь. Он останавливается, оглядывается. У арки справа ждут два латника. Князь замечает их и медленно проходит мимо, делая им знаки; затем быстро удаляется. Один латник уходит через арку во дворец, другой остается на страже. Из глубины сцены с разных сторон глухо доносится: «По местам!» Дворец окружен. Издали слышен церковный звон. Из церкви возвращается губернаторская семья со свитой.
Певец.
И губернатор вернулся к себе во дворец, И в западню превратилась крепость. И гусь ощипан был и зажарен, И не был съеден пасхальный гусь, И полдень не был часом обеда, И был этот полдень часом смерти.Жена губернатора (на ходу). Совершенно невозможно жить в этом сарае, но Георгий строит, конечно, для своего сыночка, а не для меня. Михаил — это все! Все для Михаила!
Губернатор. Ты слышал, брат Казбеки поздравил нас с праздником! Очень мило, но, по-моему, в Нуке этой ночью не было дождя. Где был брат Казбеки, там шел дождь. Где же был брат Казбеки?
Адъютант. Надо расследовать.
Губернатор. Да, немедленно. Завтра же.
Процессия поворачивает к арке. Конный гонец, который в это время возвращается из дворца, увидев губернатора, подходит к нему.
Адъютант. Не изволите ли выслушать гонца из столицы, ваше превосходительство? Он прибыл сегодня утром с секретными бумагами.
Губернатор (на ходу). Не перед едой же, Гоги!
Процессия скрывается во дворце, и у ворот остаются только два латника из дворцовой стражи.
Адъютант (гонцу). Губернатор не желает, чтобы перед едой ему докучали военными сводками, а вторую половину дня его превосходительство посвятит совещанию с выдающимися архитекторами, которые приглашены также на обед. Вот они уже здесь.
Появляются три архитектора. Гонец уходит.
(Здоровается с архитекторами.) Господа, его превосходительство ждет вас к обеду. Все его время будет посвящено только вам и великим новым планам! Поторопитесь, господа!
Архитектор. Мы восхищены тем, что, несмотря на тревожные слухи о неблагоприятном повороте войны в Персии, его превосходительство собирается строить.
Адъютант. Вернее было бы сказать: «Из-за тревожных слухов»! Это пустяки. Персия далеко. Здешний гарнизон готов в огонь и воду за своего губернатора.
Из дворца доносится пронзительный женский крик, потом военная команда. Адъютант понуро идет к арке. Один из латников выходит вперед, направляя на адъютанта копье.
В чем дело? Убери копье, пес. (В бешенстве, дворцовой страже.) Обезоружить! Разве вы не видите, что покушаются на жизнь губернатора?
Латники из дворцовой стражи не подчиняются приказанию. Они глядят на адъютанта холодно и равнодушно, на все остальное они взирают так же безучастно.
Адъютант пробивается во дворец.
Архитектор. Это князья! Вчера ночью в столице собрались князья, настроенные против великого князя и его губернаторов. Господа, нам лучше унести ноги.
Архитекторы быстро уходят.
Певец.
О великих мира сего слепота! Как бессмертные, шествуют важно они По выям согбенным, полагаясь на силу Нанятых кулаков, испытанную временем. Но время — не вечность! О смена времен! О надежда народа!Из-под арки выходит губернатор, на нем кандалы, лицо его посерело, его ведут два солдата, вооруженные до зубов.
Навсегда, господин! Изволь же не горбиться! Из дворца твоего глядят на тебя враги! Никаких тебе зодчих не нужно, нужен могильщик. Переедешь не в новый дворец, а в продолговатую узкую яму. Оглянись же напоследок, слепец!Арестованный оглядывается.
Нравятся ли тебе владенья твои? Между заутреней и обедом Ты уходишь туда, откуда никто не вернулся.Его уводят. Дворцовая стража присоединяется к солдатам. Слышно, как горнист трубит тревогу. Шум за аркой.
Когда великого рушится дом, Под обломками малые гибнут. Кто счастья властителя не разделял, Тот с ним нередко несчастье делит. Коляска в пропасть летит и с собой Взмыленных лошадей увлекает.Из-под арки в панике выбегают слуги.
Слуги (наперебой). Корзины! Скорее все на третий двор!
— Запас на пять дней!
— Ее милость в обмороке.
— Надо ее вынести, нельзя ей здесь оставаться.
— А мы?
— Нас перережут как кур, это уж известно.
— Боже, что с нами будет?
— Говорят, в городе уже течет кровь.
— Глупости, ничего подобного, губернатора просто вежливо попросили явиться на сборище князей, все уладят полюбовно, я узнал из первых рук.
Оба врача также выбегают во двор.
Первый врач (пытаясь задержать второго). Нико Микадзе, ваш долг врача оказать помощь Нателле Абашвили.
Второй врач. Мой долг? Как бы не так! Это ваш долг.
Первый врач. Кто сегодня наблюдает за ребенком, Нико Микадзе, вы или я?
Второй врач. Неужели вы серьезно думаете, Миха Лоладзе, что из-за какого-то мальчишки я хотя бы на минуту задержусь в этом зачумленном доме?
Между ними завязывается драка. Слышны только возгласы: «Вы изменяете своему долгу!» и «Какой там долг!»
(Наконец ударом сшибает с ног первого.) А ну тебя. (Убегает.)
Слуги. У нас есть время до вечера, раньше солдаты не напьются.
— А может, они еще не взбунтовались?
— Дворцовая стража ускакала.
— Неужели никто не знает, что случилось?
Груше. Рыбак Мелива говорит, что в столице видели на небе комету с красным хвостом. Это к несчастью.
Слуги. Говорят, вчера в столице объявили, что персидская война проиграна.
— Князья восстали. Говорят, великий князь уже удрал. Всех его губернаторов казнят.
— Маленьких людей они не тронут. У меня брат — латник.
Входит солдат Симон Хахава. Он ищет в сутолоке Груше.
Адъютант (появляется в арке). Все на третий двор! Помогите уложить вещи! (Прогоняет челядь.)
Симон (находит наконец Груше). Вот ты где, Груше. Что собираешься делать?
Груше. Ничего. На худой конец у меня в горах есть брат, а у брата хозяйство. А что с тобой будет?
Симон. А со мной ничего не будет. (Снова чинно.) Груше Вахнадзе, твой вопрос насчет моих планов радует мое сердце. Меня назначили сопровождать и охранять жену губернатора, Нателлу Абашвили.
Груше. Разве дворцовая стража не взбунтовалась?
Симон (серьезно). Взбунтовалась.
Груше. Не опасно ли сопровождать жену губернатора?
Симон. В Мцхети так говорят: разве для ножа опасно колоть?
Груше. Но ты же не нож, а человек, Симон Хахава. Какое тебе дело до этой женщины?
Симон. До нее мне нет никакого дела, но меня назначили, и я еду.
Груше. В таком случае господин солдат — недалекий человек: ни за что ни про что подвергает себя опасности.
Ее зовут из дворца.
Я спешу на третий двор, мне некогда.
Симон. Если некогда, то нам незачем спорить, для хорошего спора нужно время. Можно осведомиться, есть ли у барышни родители?
Груше. Нет. Только брат.
Симон. Поскольку времени у нас в обрез, второй вопрос будет такой: как барышня насчет здоровья?
Груше. Разве только иногда кольнет в правом плече, а вообще-то хватит сил на любую работу, покамест никто не жаловался.
Симон. Это уже известно. Если в пасхальное воскресенье кому-то нужно пойти за гусем, то посылают ее. Вопрос номер три: барышня терпелива или нет? Скажем так — нужны ей вишни среди зимы?
Груше. Не то чтобы нетерпелива, но если человек ни с того ни сего уходит на войну и потом от него нет известий, то это, конечно, плохо.
Симон. Известия будут.
Из дворца снова зовут Груше.
И наконец, главный вопрос…
Груше. Симон Хахава, так как я должна идти на третий двор и мне некогда, то я сразу отвечаю «да».
Симон (очень смущенно). Есть поговорка: «поспешность — это ветер на строительных лесах». Но есть и другая поговорка: «богатые не торопятся». Я родом из…
Груше. Из Цхалаури.
Симон. Барышня, значит, уже навела справки? Я здоров, заботиться мне не о ком, получаю в месяц десять пиастров{161}, а если назначат казначеем, то и двадцать. Покорнейше прошу вашей руки
Груше. Симон Хахава, я согласна.
Симон (снимая с шеи цепочку с крестиком). Это крестик моей матери, Груше Вахнадзе, цепочка серебряная. Прошу ее носить.
Груше. Спасибо, Симон.
Симон (надевает на нее цепочку). Лучше будет, если барышня отправится на третий двор, а то как бы чего не вышло. Кроме того, мне нужно запрячь лошадей, это ведь барышне ясно.
Груше. Да, Симон.
Они стоят в нерешительности.
Симон. Я только доставлю губернаторскую жену туда, где войска не перешли на сторону мятежников. Когда война кончится, я вернусь. Недели через две или три. Надеюсь, что моя невеста не будет скучать в мое отсутствие.
Груше.
Симон Хахава, я буду ждать тебя. Иди спокойно на войну, солдат. Кровавая война, жестокая война, Не каждому дано прийти с войны домой. Когда ты вернешься, я буду здесь, Я буду ждать тебя под вязом под зеленым, Я буду ждать тебя под голым, зимним вязом, Я буду ждать, пока не явится последний. И после того. А когда ты придешь с войны, Ты у двери не увидишь сапог, И подушка будет рядом со мною пуста, И никто целовать меня не будет. Ах, когда ты придешь, ах, когда ты придешь, Ты увидишь, что все как прежде.Симон. Благодарю тебя, Груше Вахнадзе. И до свиданья! (Низко кланяется ей.)
Так же низко кланяется ему она. Потом она убегает, не оглядываясь. Из-под арки выходит адъютант.
Адъютант (грубо). Запрягай лошадей в большую повозку, шевелись, болван!
Симон Хахава вытягивается, затем уходит. Из-под арки, согнувшись под тяжестью огромных сундуков, выходят двое слуг. За ними, поддерживаемая служанками, следует Нателла Абашвили. Позади — служанка с ребенком.
Жена губернатора. Никому опять до меня нет дела. Я совсем голову потеряла. Где Михаил? Как ты неловко его держишь! Сундуки на повозку! Известно ли что-нибудь о губернаторе, Гоги?
Адъютант(качает головой). Вы должны немедленно уехать.
Жена губернатора. Есть ли сведения из города?
Адъютант. Нет, покамест все спокойно, но нельзя терять ни минуты. Сундуки не поместятся на повозке. Выберите, что вам нужно. (Быстро уходит.)
Жена губернатора. Только самое необходимое! Живо откройте сундуки, я скажу, что захватить.
Слуги ставят сундуки на землю и открывают их.
(Указывая на парчовые платья.) Конечно, зеленое и вот это, с мехом! Где врачи? У меня опять разыгрывается ужасная мигрень, всегда начинается с висков. И вот это, с жемчужными пуговками…
Вбегает Груше.
Ты, я вижу, не торопишься. Сейчас же принеси грелки.
Груше убегает, затем возвращается с грелками.
(Молча, взглядом и жестами, дает ей одно приказание за другим.) Смотри не порви рукав.
Молодая служанка. Ваша милость, поглядите, с платьем ничего не случилось.
Жена губернатора. Потому что я тебя схватила за руку. Я уже давно за тобой слежу. Тебе только бы строить глазки адъютанту! Я тебя убью, сука. (Бьет ее.)
Адъютант (возвращается). Прошу вас, поторопитесь, Нателла Абашвили. В городе уже стреляют. (Уходит.)
Жена губернатора (отпускает молодую служанку). Господи! Неужели они нас тронут? За что? За что?
Все молчат.
(Начинает рыться в сундуках.) Найди парчовый жакет! Помоги ей! Что с Михаилом? Он спит?
Служанка с ребенком. Да, ваша милость.
Жена губернатора. Тогда положи его на минутку и принеси мне из спальни сафьяновые сапожки, они идут к зеленому.
Служанка кладет ребенка и убегает.
(Молодой служанке.) А ты что стоишь?
Молодая служанка убегает.
Стой, не то я велю тебя выпороть!
Пауза.
Как все это уложено — без любви, без понимания! За всем следи сама… В такие минуты как раз и видишь, какие у тебя слуги. Жрать вы мастера, а что такое благодарность, вам невдомек. Так и замечу себе на будущее.
Адъютант (очень взволнованный). Нателла, сию же минуту поезжайте. Судью верховного суда, Орбелиани, только что повесили ковровщики.
Жена губернатора. Как же так? Серебристое мне нужно взять с собой, оно стоило тысячу пиастров. И вот это, и все меха. А где темно-красное?
Адъютант (пытается оторвать ее от нарядов). В предместье начались беспорядки. Нам нужно сейчас же уехать. Где ребенок?
Жена губернатора (зовет служанку, исполняющую обязанности няньки). Маро! Приготовь ребенка! Куда ты делась?
Адъютант (уходя). Наверно, придется отказаться от коляски и ехать верхом.
Жена губернатора роется в платьях, бросает некоторые из них в ворох, который она намерена взять с собой, затем снова отбрасывает их. Слышен шум, барабанный бой. На небе появляется зарево.
Жена губернатора (лихорадочно продолжает рыться). Не могу найти темно-красное. (Пожимая плечами, первой служанке.) Возьми весь ворох и уложи в коляску. А Маро почему не возвращается? Вы что, все сошли с ума? Так я и думала, оно в самом низу.
Адъютант (возвращается). Скорее, скорее!
Жена губернатора (второй служанке). Беги! Брось их прямо в повозку!
Адъютант. Мы едем верхом. Идемте, или я уезжаю один.
Жена губернатора. Маро! Возьми ребенка! (Второй служанке.) Поищи ее, Машо! Нет, сначала отнеси платья в повозку! Глупости, и не подумаю ехать верхом! (Оглядывается, видит зарево, ужасается.) Горит!
Адъютант уводит ее. Первая служанка, качая головой, несет за ней ворох платьев. Из-под арки выходят слуги.
Повариха. По-моему, это горят восточные ворота.
Повар. Ушли. И повозку с едой оставили. Как бы нам теперь выбраться?
Конюх. Да, пока в этом доме жить нельзя. Сулико, я захвачу несколько одеял, мы сматываемся.
Маро (выходит из-под арки с сапожками). Ваша милость!
Толстая женщина. Ее уже нет.
Маро. А ребенок? (Бежит к ребенку, поднимает его.) Оставили его, вот звери. (Протягивает ребенка Груше.) Подержи-ка его минутку. (Лживо.) Я погляжу, где коляска. (Убегает вслед за женой губернатора.)
Груше. Что сделали с хозяином?
Конюх (проводит по шее ладонью). Чик-чик.
Толстая женщина (при виде этого жеста впадает в истерику). Боже мой, боже мой, боже мой! Наш господин Георгий Абашвили! Во время заутрени он был еще здоровехонек, и вот… Уведите меня отсюда! Мы все пропали, мы умрем без покаяния. Как наш господин Георгий Абашвили.
Третья служанка (утешая ее). Успокойтесь, Нина… Вас увезут отсюда. Вы никому не причинили зла.
Толстая женщина (в то время как ее уводят). О боже мой, боже мой, боже мой! Скорее, скорее, прочь отсюда, они идут сюда, они идут!
Третья служанка. Губернаторша так не горюет, как Нина. Даже оплакивать их мертвецов должны за них другие! (Взгляд ее падает на ребенка, которого все еще держит Груше.) Ребенок! Чего это он у тебя?
Груше. Его оставили.
Третья служанка. Она его бросила? Михаила, которого берегли от малейшего сквозняка?
Слуги собираются вокруг ребенка.
Груше. Он просыпается.
Конюх. Послушай, брось-ка его лучше. Не хотел бы я быть на месте того, кого застанут с ребенком. Я соберу вещи, а вы подождите. (Уходит во дворец.)
Повариха. Он прав. Уж когда они начнут, они вырезают друг друга целыми семьями. Уйду-ка я лучше.
Все уходят. Остаются только две женщины и Груше с ребенком на руках.
Третья служанка. Тебе же сказали — брось его!
Груше. Нянька попросила меня подержать.
Повариха. Так она и вернется. Эх ты, простота!
Третья служанка. Не ввязывайся ты в это дело.
Повариха. Он им еще нужнее, чем губернаторше. Он же наследник. Знаешь, Груше, душа у тебя добрая, но уж умной тебя не назовешь. Если бы ребенок был прокаженный, и то было бы лучше, вот что я тебе скажу. Смотри не попадись.
Конюх возвращается с узлами и раздает их женщинам. Все, кроме Груше, готовы отправиться в путь.
Груше (упрямо). Никакой он не прокаженный. У него человеческий взгляд.
Повариха. Вот и не гляди на него. Дура ты, на тебя все можно взвалить. Скажут тебе: сбегай за салатом, у тебя ноги длинные, ты давай бежать. Мы поедем на арбе, собирайся скорее, найдется и для тебя место. Господи Иисусе, наверно, уже вся улица горит.
Третья служанка. Ты что, еще не собралась? Слушай, ты, сейчас латники явятся сюда из казармы.
Обе женщины и конюх уходят.
Груше. Иду. (Кладет ребенка на землю, несколько мгновений смотрит на него, достает из оставленных, сундуков какую-то одежду и укрывает все еще спящего ребенка. Затем убегает во дворец за своими вещами).
Слышен конский топот и женские крики. Выходят жирный князь и несколько пьяных латников. Один из них несет на острие копья голову губернатора.
Жирный князь. Сюда, на самую середину.
Один из солдат становится на плечи другому, берет голову и смотрит, в каком месте арки ее прибить.
Это не середина, чуть-чуть правее, вот так. Уж если я что делаю, милейшие, то делаю как следует.
Солдат с помощью гвоздя и молотка прикрепляет голову за волосы к арке.
Сегодня утром, у церкви, я сказал Георгию Абашвили, что люблю ясное небо. Но, пожалуй, еще больше я люблю гром среди ясного неба, да-да. Жаль только, что они увезли мальчишку. Вот кто мне нужен. Ищите его по всей Грузии. Тысяча пиастров.
Покуда Груше, оглядываясь, осторожно приближается к арке, жирный князь с латниками уходит. Снова слышен конский топот. Груше, с узлом в руках, направляется в сторону церкви. Почти у самого входа в церковь она оборачивается, чтобы посмотреть, на месте ли ребенок. Певец начинает петь.
Груше стоит неподвижно.
Певец.
И вот, когда она стояла у последних ворот, Она услышала — иль показалось ей, — Что мальчик говорит, не плачет, нет, а внятно Ей говорит: «Останься, помоги». И он сказал еще — он говорил, не плакал: «Знай, женщина, кто не идет на зов беды, Кто глух к мольбе, тот не услышит никогда Ни ласкового голоса любви, Ни щебета дрозда, ни радостного вздоха, Каким приветствует усталый виноградарь Вечерний благовест». Услышав эту речь…Груше делает несколько шагов к ребенку и склоняется над ним.
Она вернулась, чтобы посмотреть в последний раз На мальчика и только несколько мгновений Побыть с ним рядом — лишь пока за ним Мать не придет иль кто другой.Она садится рядом с ребенком и опирается о сундук.
Лишь на минутку. Ведь город был уже охвачен Бедой и дымом.Свет постепенно меркнет, словно наступили вечер и ночь. Груше идет во дворец, возвращается оттуда с фонарем и молоком и начинает кормить ребенка.
Певец (громко).
Страшен соблазн сотворить добро!Груше, явно бодрствуя, сидит с ребенком всю ночь напролет. То она зажигает фонарик, чтобы взглянуть на ребенка, то укутывает его поплотнее парчовым покрывалом. Она то и дело прислушивается и оглядывается, не идет ли кто-нибудь.
Долго сидела она с ребенком, Вечер настал, настала ночь, Рассвет наступил. Да, слишком долго Сидела она и слишком долго Глядела на маленькие кулачки, На маленький лобик. И утром, не в силах Соблазн превозмочь, она поднялась, Со вздохом над спящим ребенком склонилась, Взяла его на руки и понесла.Груше делает все в точности так, как говорит певец.
Она взяла его, как добычу, Она унесла его, как воровка.III Бегство в северные горы
Певец.
Когда Груше Вахнадзе покинула город, Она пошла по Военно-Грузинской дороге. На север шла она, песню пела И по пути молоко покупала.Музыканты.
Как от убийц уйти человеку, От злых ищеек, от псов кровавых? Она брела в безлюдные горы, Брела по Военно-Грузинской дороге, Пела песню, молоко покупала.Груше несет ребенка в заплечном мешке. В одной руке у нее узелок, в другой — посох.
Груше (поет).
Четыре генерала В Иран ушли. Один из них не воевал, Второй никак не побеждал, У третьего не шли солдаты в бой, Четвертый рад был повернуть домой. Coco Робакидзе В Иран ушел. Он воевал без дураков, Он быстро побеждал врагов, Рвались его солдаты в бой, И сам он не спешил домой! Coco Робакидзе Вот это герой.На пути Груше появляется крестьянская хижина.
(Ребенку.) Вот и полдень, пора людям есть. Мы сейчас подождем на травке, пока наша Груше не раздобудет кружечку молочка. (Сажает ребенка на землю и стучит в дверь хижины.)
Дверь отворяет старик крестьянин.
Не найдется ли у вас кружечки молочка и, может быть, кукурузной лепешки, дедушка?
Старик. Молока? У нас нет молока. Господа солдаты из города забрали наших коз. Если вам нужно молоко, пойдите к господам солдатам.
Груше. Но кружечка молока для ребенка у вас, может быть, найдется, дедушка?
Старик. «За спасибо», что ли?
Груше. Кто вам сказал «за спасибо»! (Достает кошелек.) Мы платим по-княжески. На что нам богатство, была бы спесь!
Старик, ворча, приносит молоко.
Сколько же за кружечку?
Старик. Три пиастра. Молоко теперь дорогое.
Груше. Три пиастра? За эту каплю?
Старик молча захлопывает дверь перед ее носом.
Михаил, ты слышишь? Три пиастра! Это мы не можем себе позволить. (Возвращается к ребенку, садится и дает ему грудь.) Попробуем сначала вот так. Соси и думай о трех пиастрах! Грудь пустая, но тебе кажется, что ты пьешь, и это уже не так плохо. (Качает головой, видя, что ребенок перестал сосать. Встает, идет к хижине и снова стучит в дверь.) Дедушка, отвори, мы заплатим! (Тихо.) Пропади ты пропадом.
Старик отворяет.
Я думала, ты возьмешь с нас полпиастра. Но ребенку нельзя без еды. Отдавай за пиастр, а?
Старик. Два пиастра.
Груше. Постой, не затворяй дверь. (Долго роется в кошельке.) Вот два пиастра. Неужели цены не упадут, у нас впереди еще длинный путь. Это же просто убийство.
Старик. Убейте солдат, если вам нужно молоко.
Груше (поит ребенка). Дорогое удовольствие. Пей, Михаил, это половина недельного жалованья. Они здесь думают, что мы заработали деньги задницей. Ну и обузу взяла я на себя, Михаил! (Рассматривая парчовое покрывало, в которое завернут ребенок.) Тысячное покрывало, и ни одного пиастра на молоко. (Смотрит в глубину сцены.) Вон там коляска с богатыми беженцами, надо идти туда.
У постоялого двора. Груше, в парчовом покрывале, подходит к двум знатным дамам. На руках у Груше ребенок.
Груше. Ах, сударыни, наверно, тоже решили здесь переночевать? Это просто ужасно, везде все переполнено, невозможно достать экипаж. Моему кучеру вздумалось повернуть обратно, и полверсты мне пришлось пешком идти. Босиком! Мои персидские туфли — вы же знаете, какие там каблучки! Но почему же никто к вам не выходит?
Пожилая дама. Хозяин заставляет себя ждать. С тех пор как в столице начались эти волнения, по всей стране забыли об учтивости.
Выходит хозяин, почтенный длиннобородый старик. За ним идет работник.
Хозяин. Простите старика за то, что он заставил вас ждать, сударыни. Мы с внучонком смотрели сейчас, как цветет персиковое дерево, вон там, на косогоре, за кукурузным полем. Там у нас фруктовые деревья, несколько вишен. А дальше к западу (показывает) почва каменистая. Туда крестьяне гонят овец. Посмотрели бы вы на персиковые деревья в цвету, какой изысканный розовый цвет.
Пожилая дама. Плодородные, оказывается, у вас места.
Хозяин. Благословенные. Ну а как там на юге, деревья уже зацвели? Вы ведь с юга, сударыни?
Молодая дама. Признаться, в дороге я не наблюдала за природой.
Хозяин (вежливо). Понимаю, пыль. По нашей дороге лучше ехать потихоньку, если незачем торопиться, разумеется.
Пожилая дама. Прикрой шалью шею, милая. По вечерам здесь ветер, по-видимому, довольно прохладен.
Хозяин. Это ветер с ледника Янга-Тау, сударыни.
Груше. Как бы мой сын не простудился.
Пожилая дама. Довольно просторный постоялый двор. Не остановиться ли нам здесь?
Хозяин. О, сударыням нужны комнаты? Увы, сударыни, постоялый двор переполнен и слуги разбежались. Я в отчаянии, но я никого больше не могу поместить, даже с рекомендательными письмами…
Молодая дама. Не можем же мы ночевать на улице.
Пожилая дама (сухо). Сколько это будет стоить?
Хозяин. Сударыня, вы понимаете, что сейчас, когда пристанища ищут столько беженцев, конечно, весьма уважаемых, но все же неугодных властям, я должен соблюдать осторожность. Поэтому…
Пожилая дама. Мой милый, мы не беженцы. Мы направляемся в горы, в свою летнюю резиденцию, только всего. Нам не пришло бы в голову притязать на ваше гостеприимство, если бы мы… так сильно в нем не нуждались.
Хозяин (кивает в знак согласия). В этом я не сомневаюсь. Я сомневаюсь только в том, что единственная свободная комнатушка подойдет сударыням. Мне придется взять по шестьдесят пиастров с человека. Ведь сударыни путешествуют вместе?
Груше. В некотором роде — да. Мне тоже нужно пристанище.
Молодая дама. Шестьдесят пиастров! Это же убийство!
Хозяин (холодно). Сударыни, я никого не собираюсь убивать, поэтому… (Поворачивается, чтобы уйти.)
Пожилая дама. Зачем говорить об убийствах? Пойдемте. (Входит в дом, за ней работник.)Молодая дама (в отчаянии). Сто восемьдесят пиастров за комнату! (Оборачиваясь в сторону Груше.) Какой ужас, с ребенком вместе! А если он будет кричать?
Хозяин. Комната стоит сто восемьдесят, на двоих или на троих — все равно.
Молодая дама (другим тоном). С другой стороны, невозможно же оставлять вас на улице, моя милая. Прошу вас, пойдемте.
Все входят в дом. С противоположной стороны, из глубины сцены, появляются работник с поклажей, за ним пожилая дама, молодая дама и Груше с ребенком.
Сто восемьдесят пиастров! Ни разу я так не волновалась с тех пор, как привезли домой бедного Лухуми.
Пожилая дама. Зачем здесь говорить о Лухуми?
Молодая дама. Нас, собственно, четверо, ребенок ведь тоже будет в счет, не так ли? (Груше.) Не могли бы вы заплатить хотя бы половину?
Груше. Это невозможно. Видите ли, мне пришлось быстро собраться, а адъютант забыл дать мне достаточно денег в дорогу.
Пожилая дама. Шестьдесят-то пиастров по крайней мере у вас найдется?
Груше. Шестьдесят я заплачу.
Молодая дама. Где кровати?
Работник. Кроватей нет. Вот одеяла и мешки. Придется вам самим устраиваться. Можете еще радоваться, что вас не уложили в землю, как многих других. (Уходит.)
Молодая дама. Ты слышала? Я сейчас же пойду к хозяину. Пусть он высечет этого негодяя.
Пожилая дама. Как твоего мужа?
Молодая дама. Ты такая черствая. (Плачет.)
Пожилая дама. Как же нам устроить хоть какое-то подобие постели?
Груше. Об этом уж я позабочусь. (Сажает ребенка на пол.) В компании всегда лучше. А у вас есть коляска. (Подметая пол.) Так все неожиданно! Обычно перед обедом муж мне говорил: «Женушка, ты бы прилегла, не то снова разыграется твоя мигрень». (Тащит мешки, готовит постели.)
Дамы, следя за ее работой, переглядываются.
«Георгий, говорила я губернатору, как я могу прилечь, когда на обед приглашено шестьдесят гостей, а на слуг совершенно нельзя положиться, да и Михаил не станет без меня есть». (Михаилу.) Видишь, Михаил, все улаживается, что я тебе говорила? (Вдруг замечает, что дамы как-то странно глядят на нее и шушукаются.) Ну вот, по крайней мере не на голом полу. Я сложила одеяла вдвое.
Пожилая дама (повелительным тоном). Ловко вы стелите постели, милая, как я погляжу. Покажите-ка ваши руки!
Груше (испуганно). Зачем вам это нужно?
Молодая дама. Сейчас же покажите руки.
Груше показывает дамам свои руки.
(Торжествующе.) В ссадинах от работы! Эй, слуга!
Пожилая дама (подходит к двери, кричит). Эй, прислуга!
Молодая дама. Попалась, мошенница. Признавайся, что ты замышляла?
Груше (растерянно). Ничего я не замышляла. Я думала, что вы, может быть, подвезете меня. Пожалуйста, не шумите, я сама уйду.
Молодая дама (в то время как, пожилая продолжает звать прислугу). Уйдешь, конечно, да только под охраной. А пока побудь здесь. Ни с места, слышишь?
Груше. Да ведь я же хотела заплатить шестьдесят пиастров. Вот, пожалуйста. (Показывает кошелек.) Посмотрите сами, деньги у меня есть. Вот четыре десятки, а вот пятерка, нет, это тоже десятка, вот видите шестьдесят. Я только хотела, чтобы вы подвезли меня с ребенком. Вот вам вся правда.
Молодая дама. Ах, ты хотела пробраться к нам в коляску! Теперь ясно.
Груше. Ваша милость, я не скрываю, я человек низкого рода, прошу вас, не зовите полицию. Этот ребенок благородного звания, посмотрите на его белье, он такой же беженец, как и вы сами.
Молодая дама. Благородного звания, знаем мы эти истории. Отец его, наверно, князь, а?
Груше (в отчаянии; пожилой даме). Да не кричите же вы! Неужели у вас нет сердца?
Молодая дама (пожилой). Смотри, как бы она чего-нибудь тебе не сделала. Она опасна. На помощь! Убивают!
Работник (входит). В чем дело?
Пожилая дама. Эта особа пробралась сюда под видом знатной дамы. Наверно, она воровка.
Молодая дама. И опасная притом. Она хотела нас убить. Этим делом должна заняться полиция. Ах, боже мой, я уже чувствую, что у меня начинается мигрень.
Работник. Полиции сейчас здесь нет. (Груше.) Собирай свои пожитки, сестрица, и чтоб духу твоего здесь не было.
Груше (с гневом берет ребенка. Зло). Разве вы люди! Погодите, приколотят к стене ваши головы!
Работник (выталкивает ее). Помалкивай. Не то придет старик, а с ним шутки плохи.
Пожилая дама (молодой). Проверь, не успела ли она уже что-нибудь украсть.
В то время как обе дамы лихорадочно просматривают свои вещи, работник и Груше с ребенком выходят из ворот.
Работник. Доверяйся — да оглядывайся, вот что я тебе скажу. Сначала присмотрись к человеку, а потом уж с ним связывайся.
Груше. Я думала, что с себе подобными они обойдутся по чести.
Работник. Держи карман шире! Уж ты мне поверь, нет ничего труднее, чем подражать ленивому и бесполезному человеку. Если они заподозрят тебя в том, что ты сама подтираешься или хоть раз в жизни работала своими руками кончено дело. Подожди-ка минутку, я вынесу тебе лепешку и яблочек.
Груше. Лучше не надо. Пойду, пока не явился хозяин. Если идти всю ночь, то уж, наверно, не догонят. (Отправляется в путь.)
Работник (тихо ей вдогонку). На первом перекрестке поверни направо.
Она исчезает.
Певец.
Когда Груше Вахнадзе на север спешила, За нею спешили латники князя.Музыканты.
Как уйти босиком от латников конных, От злых ищеек, от псов кровавых? Они и ночью идут по следу. Не знают усталости палачи. Сон их недолог.Два латника шагают по дороге.
Ефрейтор. Дубина ты, из тебя ничего не получится. А почему? Потому что ты не предан делу душой. Начальнику это видно по любой мелочи. Позавчера, когда я занялся этой толстухой, я приказал тебе подержать мужа. Ты его держал, что верно, то верно, ты даже пнул его в брюхо. Но, спрашивается, разве ты делал это с радостью, как порядочный солдат, или так только, приличия ради? Я следил за тобой, дубина. У тебя же башка набита соломой; тебя никогда не повысят в чине.
Шагают некоторое время молча.
Ты думаешь, я не вижу, что ты норовишь все делать мне наперекор? Я запрещаю тебе хромать, а ты все-таки нарочно хромаешь, потому что я продал лошадей. А продал я их потому, что такой цены нигде мне за них не дадут. Хромаешь ты для того, чтобы показать, как тебе не хочется идти пешком. Я же вижу тебя насквозь. Имей в виду, это тебе не поможет, а только повредит. Песню!
Оба латника (поют).
На войну иду, душа томится: Суждено ли к милой возвратиться? Я друзьям оставил на поруки Честь и сердце дорогой подруги.Ефрейтор. Громче!
Оба латника (поют).
Может быть, рыдать придется милой Над моею раннею могилой: Вот вы, ноги, что ко мне бежали, Вот вы, руки, что меня ласкали!Идут некоторое время молча.
Ефрейтор. Хороший солдат предан делу душой и телом. За начальника он пойдет в огонь и в воду. Угасающим взглядом он еще успевает поймать одобрительный кивок своего ефрейтора. Другой награды ему и не надо. Но тебе-то уж кивать никто не станет, а сдохнуть ты все-таки сдохнешь. Черт побери, хотел бы я знать, как я с таким подчиненным найду губернаторского сынка.
Они продолжают шагать.
Певец.
Когда Груше Вахнадзе дошла до реки Сирры, Слишком устала она, и мальчик был слишком тяжел.Музыканты.
Розовый свет зари в кукурузных полях Для того, кто не спал всю ночь, — лишь сырость и холод. Утренний шум во дворе, дымок над трубой Беглому страшен. Кто тащит ребенка, Чувствует тяжесть, одну только тяжесть.Груше с ребенком стоит перед крестьянской усадьбой.
Груше. Опять ты мокрый, ты же знаешь, что у меня нет пеленок. Михаил, нам надо расстаться. От города мы уже далеко. Не может быть, чтобы за таким клопом, как ты, они пошли в такую даль. У этой крестьянки доброе лицо. А слышишь, как пахнет молоком? Ну что ж, прощай, Михаил, я забуду, как ты всю ночь колотил меня ножками в спину, чтобы я резвее бежала, а ты забудь, что я тебя плохо кормила. Я кормила тебя от чистого сердца. Я бы тебя за твой носик навсегда взяла, но нельзя. Я бы показала тебе козу и научила проситься на горшок, но мне нужно вернуться, потому что мой любимый тоже вот-вот вернется, и нехорошо будет, если он меня не найдет. Ты не можешь этого требовать, Михаил.
Толстая крестьянка несет в дом подойник с молоком. Груше ждет, чтобы та скрылась, а затем осторожно подходит к дому. Она крадется к двери и кладет ребенка у порога. Затем, спрятавшись за дерево, ждет до тех пор, пока крестьянка не выходит из дому и не замечает ребенка.
Крестьянка. Иисусе Христе, что это такое? Эй, муж!
Крестьянин (выходя). Что случилось? Дай мне доесть суп.
Крестьянка (ребенку). Где твоя мать, у тебя нет матери? Это мальчик. Какое тонкое белье, видать, благородный ребенок. Положили под дверью — и баста. Ну и времена!
Крестьянин. Кто думает, что мы будем его кормить, тот ошибается. Отнесешь его в деревню священнику, и дело с концом.
Крестьянка. Что священник будет с ним делать? Ребенку нужна мать. Смотри, он просыпается. Может, возьмем его, а?
Крестьянин (кричит). Нет.
Крестьянка. Я бы устроила ему кроватку в углу возле кресла. Нужна только корзинка. А в поле я его буду брать с собой. Смотри, как он смеется! Нет, у нас есть крыша над головой, и мы его возьмем, так и знай. (Уносит ребенка в дом.)
Крестьянин, протестуя, следует за ней. Груше выходит из-за дерева, смеется и уходит в обратном направлении.
Певец.
Беглянка, почему ты весела?Музыканты.
Да потому, что бедный мой малыш Нашел родителей себе. И потому еще, Что я теперь свободна.Певец.
А почему печальна?Музыканты.
Потому что я свободна и без ноши, Словно меня обокрали, Словно я обеднела.Не успевает Груше пройти несколько шагов, как встречает обоих латников, которые копьями преграждают ей путь.
Ефрейтор. Девица, перед тобой военная власть. Откуда идешь? Когда придешь? Не находишься ли ты в недозволенных сношениях с врагом? Где он расположился? Какие движения производит он за твоей спиной? Как холмы, как долины, хорошо ли укреплены чулки?
Груше (испугана). Очень хорошо укреплены, лучше вам отступить.
Ефрейтор. Я всегда иду на попятный, можешь на меня положиться. Почему ты так глядишь на копье? «Солдат в боевых условиях никогда не выпускает копья из рук» — это из устава, выучи наизусть, дубина. Итак, девица, куда держишь путь?
Груше. К своему жениху, господин солдат, его зовут Симон Хахава, он служит в дворцовой охране в Нуке. Если я ему напишу, он вам все кости переломает.
Ефрейтор. Симон Хахава, как же, я его знаю. Он дал мне ключ, чтобы я время от времени за тобой посматривал. Дубина, мы не вызываем симпатии. Придется сознаться, что у нас честные намерения. Девица, за моими шутками скрывается серьезная натура, и я говорю тебе официально: мне нужен от тебя ребенок.
Груше слабо вскрикивает.
Она нас поняла, дубина. Приятный испуг, не правда ли? «Ах, я только выну пирог из печи, господин офицер. Ах, я только сменю рваную рубашку, господин полковник!» Шутки в сторону и копье в сторону. Девица, мы ищем в этой местности одного ребенка. Ты не слыхала, не появлялся здесь ребенок из города, благородный, в тонком белье?
Груше. Нет, ничего не слыхала.
Певец.
Милая, беги! Перед тобой убийцы! Беззащитная, помоги беззащитному! И она бежит.Груше внезапно поворачивается и в паническом ужасе бежит назад. Латники переглядываются и, чертыхаясь, устремляются вдогонку.
Музыканты.
Да, и в скверное время Есть хорошие люди.Дом крестьян, приютивших ребенка. Толстая хозяйка склонилась над корзинкой. В дом врывается Груше.
Груше. Сейчас же спрячь его. Сюда идут латники! Это я положила его перед дверью, но он не мой, у него родители благородного звания.
Крестьянка. Кто сюда идет, какие латники?
Груше. Не теряй времени на расспросы. Латники, которые его ищут.
Крестьянка. В моем доме им нечего искать. Но с тобой, кажется, нам придется поговорить.
Груше. Сними с него тонкие пеленки, они нас выдадут.
Крестьянка. Дались тебе эти пеленки. В этом доме хозяйка я. Вот еще новая докука. Скажи лучше, зачем ты его подкинула? Это же грех.
Груше (выглядывает на дорогу). Сейчас они выйдут из-за деревьев. Не надо было мне бежать, это их всполошило. Что же теперь делать?
Крестьянка (также выглядывает в окно и вдруг пугается). Боже ты мой, латники!
Груше. Они ищут ребенка.
Крестьянка. А если они войдут сюда?
Груше. Не отдавай им его. Скажи, что это твой ребенок.
Крестьянка. Ладно.
Груше. Они проткнут его копьем, если ты отдашь его им.
Крестьянка. А если они потребуют? У меня вся выручка за урожай в доме.
Груше. Если ты отдашь им его, они проткнут его копьем, здесь же, у тебя в комнате. Скажи, что это твой ребенок.
Крестьянка. Ладно. А если они не поверят?
Груше. Поверят, если скажешь твердо.
Крестьянка. Они сожгут дом, у нас не будет крыши над головой.
Груше. Потому и говори, что он твой. Его зовут Михаил. Нет, этого мне не нужно было тебе говорить.
Крестьянка утвердительно кивает.
Не кивай так головой. И не дрожи, а то они заметят.
Крестьянка. Ладно.
Груше. Все «ладно» да «ладно», хватит уж, не могу больше слышать. (Трясет ее.) А у тебя своих нет?
Крестьянка (бормочет). На войне.
Груше. Тогда, может, он и сам теперь латник. Так что же, он должен протыкать копьем детей? Уж ты бы его сразу посадила на место. «Перестань размахивать копьем в моем доме, не для того я тебя растила. Вымой шею, прежде чем говорить с матерью».
Крестьянка. Это верно, у меня бы он не посмел.
Груше. Обещай, что выдашь ребенка за своего.
Крестьянка. Ладно.
Груше. Вот они идут.
Стук в дверь. Женщины не отвечают. Входят латники. Крестьянка низко кланяется.
Ефрейтор. Вот она. Что я тебе говорил? У меня нюх хороший, я сразу чую, что к чему. У меня к тебе вопрос, девица. Почему ты от меня убежала? Что мне, по-твоему, было от тебя нужно? Готов побиться об заклад, у тебя были нечистые мысли. Признавайся!
Груше (в то время как крестьянка непрерывно кланяется). Я вспомнила, что оставила молоко на огне.
Ефрейтор. А я думал, тебе показалось, что я посмотрел на тебя нечистым взглядом. Как будто у меня какие-то намерения на твой счет. Такой плотский взгляд, понимаешь?
Груше. Я этого не заметила.
Ефрейтор. Но ведь могло же так быть, правда? Это ты должна признать. Ведь мог же я оказаться свиньей. Я с тобой говорю откровенно, кое-что мне могло бы взбрести на ум, если бы мы были наедине. (Крестьянке.) У тебя нет дел во дворе? Скажем, покормить кур?
Крестьянка (внезапно падает на колени). Господин солдат, я ничего не знала. Не жгите, оставьте мне крышу над головой!
Ефрейтор. О чем ты говоришь?
Крестьянка. Я ни при чем, господин солдат. Она положила его перед дверью, клянусь.
Ефрейтор (замечает ребенка, свистит). А, да там что-то такое лежит в корзинке. Дубина, я уже чую тысячу пиастров. Уведи старуху и подержи ее, придется мне, видимо, снять допрос.
Крестьянка беспрекословно выходит в сопровождении латника.
Так вот, значит, ребенок, которого я от тебя добивался. (Подходит к корзинке.)
Груше. Господин офицер, это мой ребенок, это не тот, которого вы ищете.
Ефрейтор. Надо взглянуть. (Склоняется над корзинкой.)
Груше (в отчаянии озирается). Он мой, он мой!
Ефрейтор. Тонкие пеленочки.
Груше бросается к ефрейтору, чтобы оттащить его от корзинки. Он отшвыривает девушку и снова склоняется над ребенком. Груше в отчаянии озирается, взгляд ее падает на большое полено, она хватает полено, заносит сзади над ефрейтором и ударяет его по голове. Ефрейтор падает. Груше быстро хватает ребенка и убегает.
Певец.
И, убегая от латников, После двадцатидвухдневного странствия У подножия ледника Янга-Тау Груше Вахнадзе усыновила ребенка.Музыканты.
Беспомощная беспомощного усыновила.Груше сидит на корточках у полузамерзшего ручья, черпает горстью воду для ребенка.
Груше.
Не дают мне от тебя Люди отступиться. Я с тобою, мальчик мой, И тебе придется мной Удовлетвориться. Шла я слишком нелегко, Слишком трудно было Добывать мне молоко, Чтоб тебя, сынок, Я не полюбила. Брошу тонкое белье, Заверну в лохмотья. Ледниковою водой Окрещу, умою. (Что поделать, милый.)(Сняв с ребенка дорогую одежду, заворачивает его в тряпье.)
Певец.
Когда Груше Вахнадзе, убегая от латников, Подошла к мостику, что ведет к деревням восточного склона, Она спела песню о шаткой опоре, Она поставила две жизни на карту.Ветер. В сумерках над ущельем вырисовывается хрупкий мостик. Он повис наклонно, так как один из канатов оборвался. Торговцы, двое мужчин и одна женщина, в нерешительности стоят перед мостиком. Появляется Груше с ребенком. Один из мужчин пытается достать шестом упавший конец каната.
Первый торговец. Не спеши, девушка, все равно на ту сторону ходу нет.
Груше. Мы с малышом должны переправиться на ту сторону, к моему брату.
Женщина. «Должны»! Что значит «должны»! Я тоже должна быть там, я должна купить там у одной женщины два ковра. А она их должна продать, потому что ее муж должен был умереть. Вот как, милая. Но разве я могу сделать то, что должна, и разве она может? Луарсаб уже два часа никак не достанет канат. А если он его выловит, спрашивается, как его укрепить?
Первый торговец (прислушивается). Тише, я слышу какие-то голоса.
Груше (громко). Мостик не такой уж гнилой. Пожалуй, я попробую пройти.
Женщина. Если бы за мной гнался сам черт, и то бы я на это не решилась. Это же самоубийство.
Первый торговец (кричит). Э-гей!
Груше. Не кричи! (Женщине.) Скажи ему, чтоб он не кричал.
Первый торговец. Но ведь внизу кричат. Может быть, кто-то сбился с дороги внизу.
Женщина. А почему бы ему не кричать? У тебя что-то неладно? Они гонятся за тобой?
Груше. Так и быть, скажу правду. За мной гонятся латники. Одного латника я ударила.
Второй торговец. Уберите товар!
Женщина прячет мешок за камень.
Первый торговец. Что же ты сразу не сказала? (Остальным.) Если они до нее доберутся, они сделают из нее фарш.
Груше. Уйдите с дороги, я пройду на ту сторону.
Второй торговец. Не пройдешь, глубина пропасти две тысячи футов.
Первый торговец. Даже если бы мы достали канат, все равно не было бы смысла идти. Мы бы держали канат руками, но ведь латники сумели бы пройти точно так же.
Груше. Отойдите!
Голоса латников (доносятся издали). Туда, наверх!
Женщина. Они уже близко. Но ребенка нельзя брать с собой. Мостик почти наверняка рухнет. Посмотри-ка вниз.
Груше смотрит в пропасть. Снизу снова доносятся голоса латников.
Второй торговец. Две тысячи футов.
Груше. Эти люди еще страшнее.
Первый торговец. Нельзя этого делать с ребенком. Рискуй своей жизнью, раз уж они гонятся за тобой, а ребенком не рискуй!
Второй торговец. К тому же с ребенком она тяжелее.
Женщина. Может, правда, ей лучше пойти. Давай мне ребенка, я его спрячу, ты пойдешь одна.
Груше. Нет, не дам. Мы не расстанемся. (Ребенку.) Вместе идти, вместе висеть.
Обрыв глубокий, сын, Мосток гнилой. Но выбирать наш путь Не нам с тобой. Тебе идти путем, Что я пойду. А хлеб тебе есть тот, Что я найду. Из четырех кусков Получишь три. А велики ль они, Ты не смотри.Рискну.
Женщина. Это значит искушать судьбу.
Слышны голоса снизу.
Груше. Прошу вас, выбросьте шест, не то они достанут канат и пойдут за мной.
Она становится на ветхий мостик. Кажется, что мостик вот-вот обрушится, и женщина вскрикивает. Но Груше продолжает идти и переходит на противоположную сторону ущелья.
Первый торговец. Она уже там.
Женщина (стояла на коленях и молилась; теперь у нее злой голос). Все-таки она совершила грех.
Появляются латники. У ефрейтора повязка на голове.
Ефрейтор. Не видали ли вы тут особу с ребенком?
Первый торговец (второй в это время бросает шест в пропасть). Видали. Она уже там. А вам не пройти по мостику.
Ефрейтор. Дубина, ты за это поплатишься.
Груше на той стороне. Она со смехом показывает латникам ребенка и идет дальше. Мостик остается позади. Ветер.
Груше (оборачиваясь к Михаилу). Ветра не бойся, ему тоже не сладко. Знай толкай тучи да мерзни сам больше всех.
Падают хлопья снега.
И снег, Михаил, это тоже не самое страшное. Он укрывает маленькие сосенки, чтобы они не погибли зимой. А теперь я спою тебе песенку, послушай. (Поет.)
Пусть мать твоя шлюха, Отец твой злодей, А ты — ты в почете У честных людей. Рожденный удавом Накормит ягненка, И тигры смиреют При виде ребенка.IV В северных горах
Певец.
Семь дней по дорогам брела сестра, Через ледник, по крутым откосам. Когда я к брату приду, мечтала она, Брат встанет и бросится мне на шею. Он скажет: «Ну наконец, сестра, Я давно тебя жду. Вот моя супруга, А вот и хозяйство, ее приданое. Одиннадцать лошадей и тридцать одна корова. Садись же с ребенком за стол и ешь». Дом брата стоял в прекрасной долине. Сестра пришла больная от странствий. Брат поднялся из-за стола.Упитанная крестьянская чета только что села за стол. Лаврентий Вахнадзе уже подвязал салфетку, как вдруг, опираясь на руку работника, очень бледная, входит Груше с ребенком.
Лаврентий. Откуда ты, Груше?
Груше (слабым голосом). Я прошла через ледник Янга-Тау, Лаврентий.
Работник. Я нашел ее у сеновала. У нее ребенок.
Невестка. Поди почисти буланого.
Работник уходит.
Лаврентий. Это моя жена, Анико.
Невестка. А мы думали, что ты служишь в Нуке.
Груше (едва стоит на ногах). Да, я была там.
Невестка. Разве это была плохая служба? Мы слышали, что хорошая.
Груше. Губернатора убили.
Лаврентий. Да, нам говорили, что там беспорядки. Твоя тетушка рассказывала, помнишь, Анико?
Невестка. У нас здесь все спокойно. У горожан всегда что-нибудь приключается. (Кричит, подойдя к двери.) Coco, Coco, подожди вынимать лепешки из печи, слышишь? Куда ты пропал? (Выходит.)
Лаврентий (тихо, быстро). У ребенка есть отец?
Груше качает головой.
Так я и думал. Нужно что-то придумать. Она очень благочестива.
Невестка (возвращаясь). Ах эти работники! (Груше.) У тебя ребенок?
Груше. Это мой ребенок. (Падает.)
Лаврентий ее поднимает.
Невестка. Силы небесные, она чем-то больна. Что нам делать?
Лаврентий хочет усадить Груше на скамью возле очага. Анико в ужасе делает ему знаки, указывая на мешок у стены.
Лаврентий (усаживая Груше у стены). Садись, садись. Это просто от слабости.
Невестка. Если только это не скарлатина!
Лаврентий. Тогда была бы сыпь. Это слабость. Не беспокойся, Анико. (Груше.) Когда сидишь, лучше, правда?
Невестка. Ребенок твой?
Груше. Мой.
Лаврентий. Она идет к мужу.
Невестка. Так-так. Твое мясо остынет.
Лаврентий садится за стол и принимается за еду.
Тебе нельзя есть холодное, нельзя, чтобы жир остывал. У тебя слабый желудок, ты это знаешь. (Груше.) Если твой муж не в городе, то где же он?
Лаврентий. Она говорит, что муж ее живет по ту сторону горы.
Невестка. Вот как, по ту сторону. (Садится сама за стол.)
Груше. Хорошо бы мне прилечь где-нибудь, Лаврентий.
Невестка (продолжает допрос). Если это чахотка, мы все заболеем. Есть у твоего мужа хозяйство?
Груше. Он солдат.
Лаврентий. Но от отца ему досталось небольшое хозяйство.
Невестка. А разве он не на войне? Почему он не на войне?
Груше (с трудом). Да, он на войне.
Невестка. Почему же ты идешь в деревню?
Лаврентий. Когда кончится война, он тоже вернется в деревню.
Невестка. А ты уже сейчас туда идешь?
Лаврентий. Чтобы ждать его там.
Невестка (пронзительно кричит). Coco! Лепешки!
Груше (бормочет в бреду). Хозяйство. Солдат. Ждать. Садись. Ешь.
Невестка. Это скарлатина.
Груше (вскакивает). Да, у него хозяйство.
Лаврентий. По-моему, Анико, это слабость. Не взглянешь ли ты, как там лепешки, милая?
Невестка. Когда же он вернется? Ведь война, говорят, только началась. (Переваливаясь с боку на бок, идет к двери.) Coco, где ты, Coco! (Выходит.)
Лаврентий (быстро встает, подходит к Груше). Сейчас мы тебя уложим в кладовке. Она добрая душа, но только после еды.
Груше (протягивает ему ребенка). Возьми!
Лаврентий (берет его, опасливо оглядываясь). Но долго вам здесь нельзя оставаться. Знаешь, она очень благочестива.
Груше падает, но брат вовремя поддерживает ее.
Певец.
Сестра была очень больна. Трусливому брату пришлось ее приютить. Осень прошла, наступила зима. Зима тянулась долго. Зима тянулась недолго. Не узнали бы люди, Не кусались бы крысы, Не наступала б весна.Груше в кладовке, у ткацкого станка. Она и сидящий на полу ребенок укутаны одеялами.
Груше (ткет и поет).
Возлюбленный уходил в поход. Вослед ему невеста бежала, Моля и рыдая, рыдая и поучая: Любимый мой, любимый мой, Если ты на войну идешь, Если будешь с врагами драться, Не шагай впереди войны, Не шагай позади войны. Впереди ее — красное пламя, Позади ее — красный дым. А держись ты всегда середины, А держись ты всегда знаменосца. Первые всегда погибают. Последние всегда погибают. Кто посредине — вернется домой.Михаил, мы с тобой должны быть хитрыми. Если мы притаимся, как тараканы, невестка забудет, что мы у нее в доме. И мы проживем здесь, пока не растает снег. И, пожалуйста, не плачь от холода. Быть бедным да еще и мерзнуть — это уж слишком, так нас никто не станет любить.
Входит Лаврентий и садится рядом с сестрой.
Лаврентий. Что это вы закутались, как возницы? Может быть, в кладовке чересчур холодно?
Груше (быстро сбрасывает с себя одеяло). Совсем не холодно, Лаврентий.
Лаврентий. Если здесь холодно, тебе не следовало бы сидеть здесь с ребенком. Анико стала бы упрекать себя.
Пауза.
Надеюсь, поп не расспрашивал тебя насчет ребенка?
Груше. Он-то спрашивал, да я ничего не сказала.
Лаврентий. Это хорошо. Мне нужно поговорить с тобой об Анико. Это добрая душа, только она очень, очень чувствительный человек. Никто о нас ничего особенного еще не сказал, а она уже настороже. Как-то одна телятница пришла в церковь в рваном чулке. С тех пор моя дорогая Анико надевает, когда идет в церковь, две пары чулок. Просто невероятно. Сказывается старинная семья. (Прислушивается.) Ты уверена, что здесь нет крыс? Если здесь крысы, нельзя, чтобы вы здесь жили.
Слышен звук капели.
Что это тут каплет?
Груше. Наверно, клепки разошлись в бочке.
Лаврентий. Да, наверно, бочка. Вот ты уже и полгода здесь, правда? Кажется, я начал говорить об Анико? Так вот, я не сказал ей про латника, у нее слабое сердце. Поэтому она не знает, что ты не можешь искать места. Поэтому она вчера и ворчала.
Снова слышится звук капели.
Можешь себе представить, она беспокоится о твоем солдате. «А что, если он вернется и ее не застанет?» — говорит она и не может уснуть. До весны, говорю, он никак не может вернуться. Добрая душа.
Капли падают чаще.
Лаврентий. Когда, ты полагаешь, он вернется?
Груше молчит.
Не раньше весны, ты ведь тоже так думаешь?
Груше молчит.
Я вижу, ты сама не веришь, что он вернется.
Груше продолжает молчать.
Когда наступит весна, когда здесь и на перевалах растает снег, тебе нужно будет уйти отсюда. Тебя начнут опять искать, а люди уже поговаривают насчет внебрачного ребенка.
Громкая непрерывная капель.
Груше, это капает с крыши. Вот и весна пришла.
Груше. Да.
Лаврентий (горячо). Послушай, что мы сделаем. Тебе нужно какое-то пристанище, и раз у тебя есть ребенок (вздыхает), тебе нужен муж, чтобы не было разговоров. Так вот, я потихоньку навел справки. Я поговорил с одной женщиной, у нее есть сын. Сразу за горой. Небольшое хозяйство. Она согласна.
Груше. Но я же не могу выйти замуж, я жду Симона Хахаву.
Лаврентий. Конечно. Это мы обдумали. Тебе нужен муж не в постели, а на бумаге. Как раз такого я и нашел. Сын женщины, с которой я договорился, сейчас при смерти. Ловко, правда? Он уже при последнем издыхании. И все будет так, как мы говорили: «муж за горой»! Ты к нему перебираешься, он испускает дух, и ты вдова. Каково?
Груше. Наверно, для Михаила мне нужна будет бумага с печатями.
Лаврентий. Печать — это самое главное. Без печати и персидский шах не мог бы утверждать, что он шах. И, кроме того, у тебя будет пристанище.
Груше. Сколько она за это просит?
Лаврентий. Четыреста пиастров.
Груше. Откуда у тебя деньги?
Лаврентий (виновато). Это деньги, которые жена выручила за молоко.
Груше. Там нас никто не будет знать. Я согласна.
Лаврентий (встает). Я сейчас же извещу эту женщину. (Быстро уходит.)
Груше. Михаил, сколько с тобой хлопот. Понесло меня к тебе, как яблоню к воробьям. Так уж устроен человек: увидит хлебную корку — нагнется и подымет, чтобы ничего не пропадало. Лучше бы я в то пасхальное воскресенье поскорее ушла. Теперь я в дураках.
Певец.
Жених умирал, когда пришла невеста. Мать жениха невесту у двери ждала, торопила. Ребенка невесты прятал сват, покуда шло венчанье.Комната, разделенная перегородкой. С одной стороны — кровать, на которой за пологом из прозрачной ткани неподвижно лежит очень больной человек. В другую часть комнаты вбегает свекровь, она тянет за руку Груше. Позади них Лаврентий с ребенком.
Свекровь. Скорее, скорее, не то он еще до венчанья окочурится. (Лаврентию.) А что у нее уже есть ребенок, об этом речи не было.
Лаврентий. Какая разница! (Указывая в сторону умирающего.) В таком состоянии ему все равно.
Свекровь. Ему-то да! Но я не переживу позора. Мы люди почтенные. (Плачет.) Незачем моему Давиду брать жену с ребенком.
Лаврентий. Хорошо, я прибавлю двести пиастров. Что хозяйство переходит к тебе, записано в договоре, но она имеет право жить здесь два года.
Свекровь (вытирая слезы). Только-только покрыть расходы на похороны. Хоть в работе-то пусть она мне поможет. Куда же делся монах? Не иначе как вылез в кухонное окошко. Как только соседи разнюхают, что Давид кончается, вся деревня нагрянет. Ах ты боже мой. Я пойду за монахом, но ребенка ему не показывайте.
Лаврентий. Об этом уж я позабочусь. Но почему, собственно, монах, а не священник?
Свекровь. А чем плох монах? Вот только не нужно было давать мне ему денег вперед, чтобы не сбежал в кабак. Понадеялась… (Убегает.)
Лаврентий. Решила выгадать на священнике, негодяйка. Наняла монаха по дешевке.
Груше. Если Симон Хахава все-таки придет, пошли его ко мне.
Лаврентий. Ладно. (Указывая в сторону больного.) Хочешь посмотреть на него?
Груше берет на руки Михаила и отрицательно качает головой.
Он даже не шевелится. Будем надеяться, что мы не опоздали.
Прислушиваются. Входят соседи, оглядываются, становятся у стен, бормочут молитвы. Входит свекровь с монахом.
Свекровь (неприятно удивленная, монаху). Вот, пожалуйста, явились. (Кланяется гостям.) Прошу вас немного подождать. Сейчас прибыла из города невеста сына, и они срочно обвенчаются. (Входит с монахом в каморку больного.) Так я и знала, что ты разболтаешь. (Груше.) Сейчас и обвенчаетесь. Вот он, документ. Я и брат невесты…
Лаврентий, поспешно взяв Михаила у Груше, пытается спрятаться среди гостей.
(Делает ему знак, чтобы он ушел подальше.) Я и брат невесты — свидетели.
Груше склоняет голову перед монахом. Они идут к постели больного. Мать откидывает полог. Монах гнусавит по-латыни венчальную молитву. Лаврентий, чтобы развлечь готового заплакать ребенка, хочет показать ему обряд бракосочетания, а свекровь непрестанно делает знаки Лаврентию, чтобы он передал ребенка кому-нибудь. Груше бросает взгляд на ребенка, и Лаврентий машет ей ручкой Михаила.
Монах. Согласна ли ты быть верной, послушной и доброй женой своему мужу и не расставаться с ним до тех пор, пока вас не разлучит смерть?
Груше (глядя на ребенка). Да.
Монах (умирающему). Согласен ли ты быть хорошим, заботливым мужем своей жены до тех пор, пока вас не разлучит смерть?
Так как умирающий не отвечает, монах повторяет вопрос и нерешительно оглядывается.
Свекровь. Конечно же, он согласен. Разве ты не слышал, как он сказал «да»?
Монах. Отлично, бракосочетание состоялось. А как насчет последнего причастия?
Свекровь. Не выйдет. Хватит с тебя за венчанье. Теперь я должна позаботиться о гостях. (Лаврентию.) Мы как будто договорились, что семьсот?
Лаврентий. Шестьсот. (Отдает ей деньги.) Я не стану сидеть с гостями и знакомиться с кем попало. Ну прощай, Груше. Если моя овдовевшая сестра вздумает навестить меня, моя жена скажет ей «милости просим». Иначе я рассержусь. (Уходит.)
Гости равнодушно смотрят ему вслед.
Монах. Позвольте спросить, что это за ребенок?
Свекровь. Какой ребенок? Не вижу никакого ребенка. И ты не видишь, ясно? Я, может быть, тоже кое-что видела на заднем дворе кабака. Пошли.
Груше сажает ребенка на пол и успокаивает его. Затем они выходят из каморки умирающего.
(Представляет Груше соседям.) Это моя сноха. Она еще застала в живых дорогого Давида.Одна из соседок. Он лежит уже, кажется, год? Когда забрали моего Василия, он, по-моему, был на проводах?
Другая соседка. Беда для хозяйства, когда кукуруза на корню, а хозяин в постели! Это его избавление, если только долго не промучается. Право.
Первая соседка (искренне). А мы-то, знаете ли, поначалу думали, что это он от военной службы прячется. А теперь он умирает, надо же!
Свекровь. Пожалуйста, садитесь и отведайте пирогов.
Свекровь делает знак Груше; обе женщины идут в каморку и поднимают с пола противни с пирогами. Гости, в том числе и монах, садятся на пол и заводят негромкий разговор. Монах протянул крестьянину бутылку, вынув ее из-под сутаны.
Крестьянин. Ребенок, говорите? Как это могло получиться у Давида?
Соседка. Как бы то ни было, ей еще повезло, что успела выскочить замуж, если он так плох.
Свекровь. Теперь уж они всласть поболтают, да еще и поминальные пироги упишут. А не умрет он сегодня, так изволь печь завтра опять.
Груше. Я испеку.
Свекровь. Вчера вечером тут проезжали латники. Я вышла посмотреть. Возвращаюсь, а он лежит, как мертвец. Я сейчас, же послала за вами. Нет, теперь ждать недолго. (Прислушивается.)
Монах. Дорогие гости, свадебные и поминальные! В умилении стоим мы у смертного одра и брачного ложа. Она выходит замуж, а он уходит на тот свет. Жених уже омыт, а невеста наготове. Ибо на брачном ложе лежит последняя воля. А это настраивает на чувственный лад. Как несхожи, друзья мои, судьбы людей! Один умирает, дабы обрести крышу над головой, другой вступает в брак, чтобы плоть его стала прахом, из которого он сотворен. Аминь.
Свекровь (она все слышала). Это он мстит. Не надо было нанимать его по дешевке. Дешево — гнило. Дорогие, те хотя бы умеют вести себя. В Сурами есть один такой, его считают даже святым, но уж зато и берет он целое состояние. А если священник нанимается за полсотни, откуда у него достоинство? И благочестия-то у него только на полсотни, никак не больше. Когда я пришла за ним в кабак, он как раз держал речь. «Война кончилась! — кричит. — Страшитесь мира!» Ну пойдем.
Груше (дает кусок пирога Михаилу). Ешь пирог и сиди спокойно, Михаил. Мы с тобой теперь почтенные люди.
Женщины выносят гостям противни с пирогами. Умирающий приподнимается, высовывает голову за полог и смотрит вслед Груше и матери. Затем он опять опускается на постель. Монах достает из-под сутаны две бутылки и протягивает их сидящему рядом с ним крестьянину. Входят три музыканта. Монах скалит зубы и подмигивает им.
Свекровь (музыкантам). Зачем вы пришли сюда с этими инструментами?
Музыканты. Брат Виссарион (указывая на монаха) сказал нам, что здесь свадьба.
Свекровь. Что такое, ты привел на мою шею еще троих? Вы знаете, что здесь человек умирает?
Монах. Соблазнительная задача для артиста. Приглушенный свадебный марш и одновременно бравурный похоронный танец.
Свекровь. Все равно же вы будете есть, так хоть сыграйте по крайней мере.
Музыканты играют что-то неопределенное. Женщины подают им пироги.
Монах. Звуки трубы напоминают детский визг. А ты, барабан, ты тоже хочешь что-то раструбить всему свету?
Сосед монаха. Ну а если бы новобрачной вздумалось лечь к нему в постель?
Монах. В постель или в гроб?
Сосед монаха (поет).
Чтобы слыть замужней как-никак, Она со стариком вступила в брак, И для утех при муже Теперь ей служит брачный договор. Свеча ничуть не хуже.Свекровь выпроваживает пьяного соседа монаха. Музыка прекращается. Гости смущены. Пауза.
Гости (громко). Вы слышали, великий князь вернулся?
— Но князья же против него.
— О, говорят, персидский шах дал ему огромное войско, чтобы навести порядок в Грузии.
— Как же это так? Ведь персидский шах — враг великого князя!
— Но он и враг беспорядков.
— Так или иначе, а война кончилась. Наши солдаты уже возвращаются.
У Груше падает из рук противень.
Гостья (Груше). Тебе дурно? Это потому, что ты беспокоишься за дорогого Давида. Присядь и отдохни, милая.
Груше едва стоит на ногах.
Гости. Теперь все будет опять по-старому.
— Только налоги повысятся, нужно оплатить войну.
Груше (слабым голосом). Кто-то сказал, что солдаты уже вернулись?
Гость. Я сказал.
Груше. Не может быть.
Гость (одной из женщин). Покажи-ка свою шаль! Мы купили ее у солдата. Персидская.
Груше (глядит на шаль). Они вернулись.
Долгая пауза. Груше становится на колени, словно хочет собрать упавшие на пол пироги. Она достает из-за пазухи серебряный крестик, целует его и начинает молиться.
Свекровь (видя, что гости молча глядят на Груше). Что с тобой? Почему ты не угощаешь наших гостей? Какое нам дело до всяких городских глупостей?
Груше припала лбом к полу и застыла в этой позе.
Гости (возобновляют разговор). У солдат можно сейчас купить персидские седла, некоторые меняют их на костыли.
— Начальство может выиграть войну только на одной стороне, солдаты проигрывают на обеих.
— Война кончилась, и слава богу. На военную службу больше не станут брать, и то хорошо.
Муж Груше приподнимается и прислушивается к разговору.
— Две недели хорошей погоды — вот что нам сейчас нужно.
— Яблоки в этом году не уродились.
Свекровь (угощает гостей). Кушайте пироги, угощайтесь. Есть еще. (С пустым противнем идет в каморку больного. Она не замечает, что сын поднялся, и наклоняется, чтобы взять с пола полный противень.)
Муж (хрипло). Сколько пирогов собираешься ты им скормить? Разве мы ходим на двор деньгами?
Свекровь резко оборачивается и с ужасом смотрит на сына. Тот вылезает из-за полога.
Они сказали, что война кончилась?
Первая гостья (по ту сторону перегородки, ласково Груше). Наверно, у вас кто-нибудь на войне?
Гость. Они возвращаются. Хорошая новость, правда?
Муж. Что ты глаза вытаращила? Где эта девка, которую ты навязала мне в жены?
Так как она не отвечает, он встает и нетвердыми шагами, в одной рубашке, проходит мимо матери за перегородку. Мать, с противнем в руках, идет за ним, она вся дрожит.
Гости (замечают его). Господи, твоя воля! Давид!
Всеобщее замешательство, все встают, женщины теснятся к двери. Груше, все еще на коленях, оборачивается и глядит на мужа.
Муж. Пожрать на поминках вы всегда рады. Убирайтесь отсюда, пока я вас не отлупил.
Гости поспешно уходят.
(Мрачно, Груше.) Все твои расчеты — насмарку, а?
Она не отвечает, он поворачивается и берет пирог с противня, который держит свекровь.
Певец.
О неожиданность! У жены объявился муж! Значит, днем с ребенком, а ночью с мужем. А возлюбленный ночью и днем в пути. Друг на друга супруги глядят. Каморка тесна.Муж сидит голый в деревянной лохани. Свекровь подливает воды из кувшина. В каморке возле ребенка на корточках сидит Груше. Мальчик играет, она латает циновки.
Муж. Это ее работа, а не твоя. Куда она опять делась?
Свекровь (кричит). Груше! Хозяин тебя зовет.
Груше (Михаилу). Вот еще две дырки, ну-ка, залатай их.
Муж (когда Груше входит к нему). Потри мне спину!
Груше. Неужели хозяин сам не справится?
Муж. «Неужели, неужели…». Какого черта, возьми мочалку! Ты мне жена или нет? (Свекрови.) Погорячее!
Свекровь. Сейчас сбегаю за горячей водой.
Груше. Я сбегаю.
Муж. Нет, ты останешься здесь.
Свекровь выходит.
Три сильнее! Не прикидывайся, ты уже повидала на своем веку голых мужиков. Ребенок не с неба упал.
Груше. Ребенок был зачат не в радости, если хозяин это имеет в виду.
Муж (ухмыляется, повернувшись к ней). По твоему виду не похоже.
Груше перестает тереть ему спину и отшатывается. Входит свекровь.
Ну и штучку же ты мне откопала. Не жена, а лягушка холодная.
Свекровь. Никакого нет у нее старания.
Муж. Лей, только потихоньку. Ай! Я же сказал — потихоньку. (Груше.) Видать, в городе у тебя что-то неладно, а то чего бы ты здесь торчала? Но мне до этого нет дела. Ты пришла в мой дом с незаконным ребенком — я на это тоже ничего не сказал. Только вот насчет тебя мое терпение скоро кончится. Нельзя идти против природы. (Свекрови.) Лей еще! (Груше.) Если твой солдат и вернется, все равно ты замужем.
Груше. Да.
Муж. Не вернется твой солдат, не надейся.
Груше. Нет.
Муж. Ты меня околпачила. Ты моя жена и ты мне не жена. Где ты лежишь, там все равно что пустое место, а другую туда не положишь. Когда я утром ухожу в поле, я встаю усталый и разбитый. Когда я вечером ложусь в постель, у меня нет сна ни в одном глазу. Бог дал тебе все, что полагается, а ты что делаешь? Не такие у меня урожаи, чтобы покупать себе женщин в городе, да еще и на дорогу потратишься. Жена полет полосу и спит с мужем — так сказано у нас в календаре. Ты слышишь?
Груше. Да. (Тихо.) Мне жаль, что я тебя обманула.
Муж. Ей жаль, скажите на милость! Лей еще!
Свекровь льет воду.
Ай!
Певец.
Когда она в ручье белье полоскала, Лицо любимого ей виделось в воде ручья. Но месяцы шли, и лицо становилось бледнее. Когда она выпрямлялась, чтобы выжать белье, Ей слышался голос любимого в шелесте клена. Но месяцы шли, и голос делался глуше. Все чаще увертки, все чаще вздохи, все больше пота и слез. Но месяцы шли, и дитя подрастало.Склонившись над ручьем, Груше полощет белье. Поодаль — дети.
Груше. Можешь поиграть с ними, Михаил, но не давай им помыкать собой, потому что ты самый маленький.
Михаил утвердительно кивает и идет к детям. Начинается игра.
Самый старший мальчик. Давайте играть в казнь. (Толстому мальчику.) Ты князь, ты смейся. (Михаилу.) Ты будешь губернатор. (Девочке.) Ты будешь жена губернатора, ты плачь, когда ему будут отрубать голову. А я буду отрубать голову. (Показывает деревянный меч.) Вот этим. Сначала губернатора выводят во двор. Впереди идет князь, сзади — жена губернатора.
Дети образуют шествие. Впереди идет толстый мальчик и смеется. За ним идут Михаил, самый старший мальчик и, наконец, девочка. Девочка плачет.
Михаил (останавливается). Хочу тоже отрубать.
Самый старший мальчик. Это буду делать я. Ты самый маленький. Губернатором быть легче всего. Стать на колени и подставить голову — это всякий сможет.
Михаил. Хочу тоже меч.
Самый старший мальчик. Меч мой. (Дает Михаилу пинок.)
Девочка (кричит Груше). Он не хочет с нами играть.
Груше (смеется). Недаром говорят, утенок хоть и маленький, а плавать умеет.
Самый старший мальчик. Хочешь, ты будешь князем, если ты умеешь смеяться.
Михаил отрицательно качает головой.
Толстый мальчик. Я лучше всех смеюсь. Дай ему разок отрубить голову, потом ты ему отрубишь, а потом я.
Старший мальчик неохотно отдает Михаилу деревянный меч и становится на колени. Толстый мальчик садится на землю, хлопает себя по ляжкам и смеется во все горло. Девочка очень громко плачет. Михаил размахивается и ударяет мальчика мечом, но теряет равновесие и падает.
Самый старший мальчик. Ай! Я тебе покажу, как бить взаправду!
Михаил убегает, дети гонятся за ним. Груше смеется, наблюдая за детьми. Когда она опять поворачивается к ручью, она видит, что по ту сторону его стоит солдат Симон Хахава. На нем рваный мундир.
Груше. Симон!
Симон. Это Груше Вахнадзе?
Груше. Симон!
Симон (чинно). Доброго здоровья, барышня.
Груше (радостно встает и низко кланяется). Доброго здоровья, господин солдат. Слава богу, что господин солдат вернулся жив и здоров.
Симон. Они нашли добычу полакомее, чем я, как сказал костлявый лещ.
Груше. Храбрость, как сказал поваренок. Счастье, как сказал герой.
Симон. А как дела здесь? Холодна ли была зима, обходителен ли сосед?
Груше. Зима была довольно суровая, Симон, а сосед все такой же.
Симон. Разрешается задать вопрос? Когда известная особа полощет белье, она по-прежнему окунает ноги в воду?
Груше. Нет. Ведь у кустов есть глаза.
Симон. Барышня заговорила о солдатах. Так вот перед ней казначей.
Груше. Это, если не ошибаюсь, двадцать пиастров?
Симон. И квартира казенная.
Груше (на глазах ее выступают слезы). За казармой под финиковыми пальмами.
Симон. Именно там. Я вижу, некоторые уже осмотрелись.
Груше. Уже.
Симон. Некоторые, значит, ничего не забыли?
Груше качает головой.
Значит, дверь, как говорится, на запоре?
Груше молча глядит на него и снова качает головой.
Что такое? Не все в порядке?
Груше. Симон Хахава, я не могу вернуться в Нуку. Тут кое-что произошло.
Симон. Что произошло?
Груше. Так вышло, что я пришибла латника.
Симон. Значит, у Груше Вахнадзе были на то причины.
Груше. Симон Хахава, и зовут меня не так, как звали раньше.
Симон (после паузы). Не понимаю.
Груше. Когда женщина меняет фамилию, Симон? Сейчас я тебе объясню. Но поверь мне, нас ничего не разделяет, между нами все осталось как было.
Симон. Как же это так — все осталось как было, а все-таки по-другому?
Груше. Как объяснить тебе это сразу, да еще через ручей? Может быть, ты перейдешь по мостику на эту сторону?
Симон. Может быть, не нужно и переходить?
Груше. Очень нужно. Иди сюда, Симон, скорее!
Симон. Барышня хочет сказать, что солдат опоздал?
Груше глядит на него в полном отчаянии. По лицу ее катятся слезы. Симон уперся взглядом в деревяшку, которую поднял с земли и теперь строгает.
Певец.
Сколько сказано, сколько не сказано слов! Солдат пришел, а откуда пришел — не сказал. Послушайте, что он думал и чего не сказал: Бой начался на рассвете и разгорелся к полудню, Первый упал предо мной, второй позади меня, третий — рядом со мной. На первого я наступил, от второго — ушел, третьего офицер прикончил. Один мой брат погиб от железа, другой мой брат задохнулся в дыму. Из головы моей искры летели, мои руки мерзли в перчатках, мои ноги стыли в чулках, Я почки осины ел, я пил отвар из кленовых листьев, Я спал на голых камнях, в воде.Симон. В траве я вижу шапку. Может быть, и малыш уже есть?
Груше. Да, Симон, есть, не буду скрывать, только ты не беспокойся, он не мой.
Симон. Что ж, если уж ветер, то во все щели. Не нужно больше ничего говорить.
Груше молчит, опустив голову.
Певец.
Она по нему тосковала, но дождаться его не смогла, Она нарушила клятву, но почему — не сказала. Послушайте, что она думала и чего не сказала: Когда ты на битву ушел, солдат, На жестокую битву, кровавую битву, Я встретила беспомощного ребенка, Я не решилась мимо пройти. Я не дала ему погибнуть, Я подбирала сухие корки, Я разрывалась, чтобы его спасти. Пускай не своего, пускай чужого. Кто-то ведь должен помочь. Маленькому деревцу нужна вода, Теленок погибнет, если пастух Задремлет и крика его не услышит!Симон. Верни мне крест, который я тебе дал. Или лучше
брось его в ручей. (Поворачивается, чтобы уйти.)
Груше. Симон Хахава, не уходи, это не мой ребенок! Не мой!
Слышны детские голоса.
Что случилось, дети?
Голоса. Пришли солдаты!
— Они забирают Михаила!
Груше стоит ошеломленная. К ней подходят два латника. Они ведут Михаила.
Латник. Ты Груше?
Она утвердительно кивает.
Это твой ребенок?
Груше. Да.
Симон уходит.
Симон!
Латник. Мы получили приказ судьи доставить в город ребенка, находящегося на твоем попечении. Есть подозрение, что это Михаил Абашвили, сын губернатора Георгия Абашвили и его жены Нателлы Абашвили. Вот бумага с печатями.
Латники уводят ребенка.
Груше (бежит за ними и кричит). Оставьте его, прошу вас, он мой!
Певец.
Латники взяли ребенка. Несчастная в город за ними пошла, забыв про опасность. Родившая мать пожелала вернуть себе сына. И в суд Пришла воспитавшая мать. Кто будет судьей, Плохим ли, хорошим ли? Кто матерей рассудит? Город горел. На судейском кресле сидел Аздак.V История судьи
Певец.
Теперь послушайте историю судьи: Как стал он судьей, как решал дела, какой он судья. В то пасхальное воскресенье, когда свергли великого князя, А его губернатору Абашвили, отцу нашего ребенка, отсекли голову. Деревенский писарь Аздак нашел в лесочке Одного беглеца и спрятал его в своем жилище.Аздак, оборванный и подвыпивший, вводит в свою хижину старика беженца, переодевшегося нищим.
Аздак. Не фыркай, ты не кобыла! И не пытайся бежать, как сопли в апреле, тогда ты наверняка попадешься полиции. Стой, говорят тебе. (Хватает старика, который продолжает шагать вперед, словно собирается пройти сквозь стену хижины.) Садись и лопай, вот тебе кусок сыра. (Достает из ящика из-под тряпья кусок сыра.)
Нищий набрасывается на еду.
Давно не жрал?
Старик мычит.
Зачем ты так бежал, идиот? Полицейский даже не взглянул бы на тебя.
Старик. Надо было.
Аздак. Сдрейфил?
Старик с недоумением глядит на него.
В штаны наложил? Испугался? Гм… Не чавкай, словно ты великий князь или свинья. Терпеть не могу, когда чавкают. Только высокородное дерьмо приходится выносить таким, каким его создал бог. А тебя — нет. Мне рассказывали об одном верховном судье, который на базаре портил воздух, когда люди ели. Он делал это только из чувства независимости. Я смотрю, как ты ешь, и мне приходят в голову страшные мысли. Почему ты молчишь? (Резко.) Покажи-ка свою руку! Ты что, не слышишь? Сейчас же покажи мне руку!
Старик, помедлив, протягивает ему руку.
Белая. Значит, ты не нищий? Надувательство, ходячий обман! А я прячу тебя как порядочного человека. Почему ты, собственно, бежишь от полиции, если ты помещик? Ты помещик, не отпирайся, я вижу это по твоему виноватому лицу! (Встает.) Вон!
Старик нерешительно смотрит на него.
Чего же ты ждешь, истязатель крестьян?
Старик. Меня ищут. Прошу полного внимания, делаю предложение.
Аздак. Что такое? Предложение? Это же верх бесстыдства! Он делает мне предложение! У человека льется кровь, а пиявка делает ему предложение! Вон отсюда, говорят тебе!
Старик. Понимаю. Позиция. Убеждения. Плачу сто тысяч пиастров за одну ночь. Идет?
Аздак. Что? Ты думаешь, меня можно купить? За сто тысяч пиастров? Какое-нибудь паршивое имение! Лучше скажи сто пятьдесят тысяч. Где они?
Старик. Конечно, не при мне. Пришлют, не сомневайтесь.
Аздак. Очень сомневаюсь. Вон!
Старик встает и ковыляет к двери. Снаружи доносится голос: «Аздак!» Старик поворачивает, идет в противоположный угол, останавливается.
(Кричит.) Я занят. (Подходит к двери.) Ты опять рыщешь, Шалва?
Полицейский Шалва (с упреком). Ты опять поймал зайца, Аздак. Ты обещал мне, что это больше не повторится.
Аздак (строго). Не говори о вещах, которых ты не понимаешь, Шалва. Заяц — опасное и вредное животное, которое пожирает растения, особенно так называемые сорняки, и поэтому его нужно истреблять.
Полицейский Шалва. Аздак, зачем ты со мной так говоришь? Я потеряю место, если не приму против тебя мер. Я же знаю, что у тебя доброе сердце.
Аздак. У меня совсем не доброе сердце. Сколько раз тебе говорить, что я человек умственный?
Полицейский Шалва (лукаво). Я знаю, Аздак. Ты человек сообразительный, ты же сам это говоришь. Вот я, неуч, и спрашиваю тебя: если у князя украли зайца, а я полицейский, что мне делать с виновным?
Аздак. Стыдись, Шалва, стыдись! Ты стоишь передо мной и задаешь мне вопрос, а вопрос — это самая каверзная вещь на свете. Представь себе, что ты женщина, ну, скажем, эта падшая тварь Маринэ, и что ты, то есть не ты, а Маринэ, показываешь мне ляжку и спрашиваешь: что мне делать с ляжкой, она кусается? Ты что ж думаешь, она не знает, что делает, когда задает такие вопросы? Отлично знает. Я поймал зайца, а ты ловишь человека. Но ты же знаешь, что по образу и подобию божию сотворен человек, а не заяц. Я зайцеед, а ты людоед, Шалва, и бог тебя покарает. Иди, Шалва, домой и покайся. Нет, погоди, здесь, кажется, кое-что для тебя найдется. (Глядит на старика, который дрожит от страха.) Да нет же, нет, нет ничего. Иди домой и кайся. (Захлопывает дверь у него перед носом.) Теперь ты удивляешься, да? Что я тебя не выдал. Я не смог бы выдать этой скотине даже клопа, мне это противно. Да не дрожи ты перед полицейскими. Такой старый и такой пугливый. Доедай сыр, но только делай это как бедняк, а то тебя все-таки схватят. Показать тебе, как это делает бедняк? (Положив руку старику на плечо, заставляет его сесть и сует ему кусок сыра.) Ящик — это стол. Положи локти на стол и охвати руками тарелку с сыром, как будто ее каждую секунду могут отнять у тебя, ведь ты же не знаешь, что тебя ждет. Нож держи так, словно это маленький серп. А на сыр гляди попечальнее, потому что он уже исчезает, как все прекрасное на белом свете. (Наблюдает за тем, как старик ест.) Они ищут тебя, это говорит в твою пользу, но кто мне докажет, что они в тебе не ошиблись? В Тифлисе как-то повесили одного помещика, турка. Он смог доказать, что своих крестьян он четвертовал, а не только рубил пополам, как обычно делают, и что оброку он выжимал из них вдвое больше других. Его усердие было вне всякого подозрения, и все-таки его повесили как преступника только потому, что он турок. А в этом уж он не виноват, это несправедливость. Он угодил на виселицу, как Понтий Пилат в Священное писание, ни за что ни про что. Словом, я тебе не верю.
Певец.
Аздак старику предоставил ночлег. Но когда он узнал, Что приютил самого великого князя, душителя и душегуба, Он устыдился и велел полицейскому тотчас В Нуку себя отвести на суд и расправу.Двор суда. Трое латников пьют вино. На одной из колонн висит человек в судейской мантии. Появляется Аздак. На нем кандалы, он тащит за собой полицейского Шалву.
Аздак (громко). Я помог скрыться великому князю, архивору и архизлодею! Во имя справедливости требую, чтобы меня судили, да построже, да в публичном процессе!
Первый латник. Это что еще за птица?
Полицейский Шалва. Это наш писарь Аздак.
Аздак. Это я — презренный изменник, подлец и преступник! Доложи, болван, что я потребовал, чтобы ты заковал меня в кандалы и доставил в столицу за то, что я нечаянно укрыл у себя, как выяснилось потом из этого документа, великого князя, или, вернее, великого плута, мошенника и негодяя.
Латники разглядывают документ.
(Шалве.) Они не умеют читать. Глядите, преступник сам себя обвиняет! Стражник, доложи, что ради выяснения дела я заставил тебя бежать за мной почти целую ночь.
Полицейский Шалва. Ты все время мне угрожал. Это нехорошо с твоей стороны, Аздак.
Аздак. Заткнись, Шалва, ты ничего не понимаешь. Наступило новое время, оно прогремит над тобой. Ты конченый человек, полицейских уничтожат начисто. Все преступления расследуют и вскроют. Так лучше уж самому явиться, все равно от народа никуда не уйдешь. Доложи, как я кричал, когда мы проходили по улице Сапожников. (Кричит, искоса поглядывая на латников.) «Братья, растерзайте меня на куски, я по неведению помог уйти главному мошеннику!» Я хотел сразу предупредить возможные обвинения.
Первый латник. А они что тебе ответили?
Полицейский Шалва. На улице Мясников его утешали, а на улице Сапожников люди за животы держались от смеха. Только и всего.
Аздак. Но здесь будет иначе, я знаю, вы железные люди. Братья, где судья? Меня нужно допросить.
Первый латник (указывая на повешенного). Вот он, судья. И не называй ты нас братьями, сегодня слух у нас чуткий.
Аздак. «Вот он, судья!» Такого ответа еще не слыхали в Грузии. Горожане, где его превосходительство господин губернатор? (Показывает на виселицу.) Вот где его превосходительство, деревенщина. Где главный сборщик налогов? Где смотритель тюрьмы? Где патриарх? Где начальник полиции? Все, все, все здесь. Братья, этого я от вас и ждал.
Второй латник. Постой! Чего ты от нас ждал, чучело?
Аздак. Того же, что случилось в Персии, братья, того же, что случилось в Персии.
Второй латник. А что случилось в Персии?
Аздак. Сорок лет назад там всех повесили. Визирей, сборщиков налогов. Мой дедушка, замечательный человек, видел это своими глазами. В течение трех дней, повсеместно.
Второй латник. А кто же управлял, если визиря повесили?
Аздак. Один крестьянин.
Второй латник. А кто командовал войском?
Аздак. Солдат, один солдат.
Второй латник. А кто выплачивал жалованье?
Аздак. Красильщик, красильщик выплачивал жалованье.
Второй латник. А не ковровщик случайно?
Первый латник. А почему так вышло? Эй ты, перс!
Аздак. «Почему так вышло?» Разве нужна какая-то особая причина? Почему ты чешешься, братец? Война! Слишком уж долгая война! Никакой справедливости! Мой дедушка привез оттуда песенку. Сейчас мы с моим другом полицейским исполним ее. (Шалве.) Держи веревку покрепче, это как раз подходит к песне. (Поет. Шалва держит его за веревку.)
Почему у сынов наших нет больше крови, а у дочек слез не осталось, А кровь осталась лишь у телят на бойне? А слезы льют нынче только плакучие ивы над озером Урми? Шаху новые земли нужны, и крестьянин платит налоги. Чтобы крышу мира завоевать, крыши срывают с хижин. К черту на кулички наших мужчин угоняют, Чтобы начальство сидело дома за чашей. Солдаты режут друг друга, полководцы салютуют друг другу, Вдовий грош проверяют на зуб — не фальшив ли. А сабли тупятся. Битва проиграна. Все равно за шлемы заплачено. Разве не так, разве не так?Полицейский Шалва.
Да-да-да-да-да. Именно так.
Аздак. Хотите послушать до конца?
Первый латник утвердительно кивает.
Второй латник (полицейскому). Он тебя уже научил этой песне?
Полицейский Шалва. Так точно. Только у меня голос неважный.
Второй латник. И то сказать. (Аздаку.) Продолжай.
Аздак. Во второй строфе говорится о мире. (Поет.)
Канцелярии переполнены, чиновники сидят чуть ли не на улице, Реки выходят из берегов и опустошают поля. Кто не может сам расстегнуть штаны, тот государством правит. Кто считать не умеет до четырех, тот восемь блюд пожирает. Продавцы покупателей ищут, но кругом голодающих видят. Оборванные ткачи стоят у ткацких станков, Разве не так, разве не так?Полицейский Шалва.
Да-да-да-да-да. Именно так.
Аздак.
Вот почему у сынов наших нет больше крови, а у дочек слез не осталось, А кровь осталась лишь у телят на бойне, А слезы льют нынче только плакучие ивы над озером Урми.Первый латник (после паузы). Не собираешься ли ты спеть эту песню здесь, в городе?
Аздак. А что в ней неверно?
Первый латник. Видишь зарево?
Аздак оглядывается. На небе — зарево пожара.
Это в предместье. Когда князь Казбеки обезглавил сегодня утром губернатора Абашвили, наши ковровщики тоже заболели «персидской болезнью» и задали князю Казбеки вопрос, не ест ли он тоже слишком много блюд подряд. А сегодня утром они вздернули городского судью. Но мы оставили от них мокрое место, нам дали по сто пиастров за каждого ковровщика, понимаешь?
Аздак (после паузы). Понимаю. (Испуганно озирается, тихонько отходит в сторону, садится на землю и подпирает руками голову.)
Первый латник (третьему, после того как все они выпили еще по чаше). Смотри, что сейчас будет.
Первый и второй латники подходят к Аздаку, отрезая ему путь к бегству.
Полицейский Шалва. Господа, он не такой уж плохой человек. Разве что курицу иногда стащит или, может, зайца.
Второй латник (подойдя вплотную к Аздаку). Ты пришел сюда, чтобы половить рыбки в мутной воде, так, что ли?
Аздак (глядя на латника). Не знаю, зачем я сюда пришел!
Второй латник. Уж не заодно ли ты с ковровщиками?
Аздак отрицательно качает головой.
А как же насчет песенки?
Аздак. Это пел дед. Глупый, темный человек.
Второй латник. Верно. Ну а как же насчет красильщика, который выплачивал жалованье?
Аздак. Это было в Персии.
Первый латник. А кто обвинял себя в том, что не повесил своими руками великого князя?
Аздак. Разве я не сказал, что дал ему удрать?
Полицейский Шалва. Я свидетель. Он дал ему удрать.
Латники тащат Аздака к виселице. Аздак кричит. Латники отпускают его и хохочут. Аздак тоже начинает смеяться и смеется громче всех. Затем его развязывают. Все пьют вино. Входит жирный князь Казбеки с молодым человеком.
Первый латник (Аздаку). Вот они, твои новые времена.
Всеобщий смех.
Жирный князь. Что тут смешного, друзья мои? Позвольте мне поговорить с вами серьезно. Вчера утром князья Грузии свергли развязавшее войну правительство великого князя и устранили его губернаторов. К сожалению, самому великому князю удалось бежать. В этот критический час наши ковровщики, недовольные всегда и всем, не преминули взбунтоваться и повесили нашего дорогого судью, всеми любимого Ило Орбелиани. Тс-тс-тс. Друзья мои, нам нужен теперь в Грузии мир, мир, мир. И справедливость! Вот мой дорогой племянник Бизерган Казбеки, очень способный человек. Пусть он будет судьей. То есть последнее слово за народом.
Первый латник. Это как понимать? Мы должны избрать судью, что ли?
Жирный князь. Совершенно верно. Народ выдвигает способного человека. Посоветуйтесь между собой, друзья.
Латники шушукаются.
Не беспокойся, лисенок, место за тобой. А как только мы сцапаем великого князя, мы перестанем лизать задницу черни.
Латники (между собой). Они наложили в штаны, потому что не смогли сцапать великого князя.
— Молодец этот писарь, он дал ему улизнуть.
— Они чувствуют себя не очень-то уверенно, поэтому и «друзья мои», и «за народом последнее слово».
— Теперь ему нужна даже справедливость в Грузии.
— Трескотня остается трескотней, и это тоже трескотня.
— Спросим-ка писаря, он на справедливости собаку съел.
— Эй ты, чучело, как по-твоему, годится племянничек в судьи?
Аздак. Это вы мне?
Первый латник (повторяет). Как по-твоему, годится племянник в судьи?
Аздак. Вы спрашиваете меня? Или я ослышался?
Второй латник. Тебя, тебя, почему не тебя? Ну-ка, блесни умом!
Аздак. Я вас понимаю, вы хотите проверить его как следует. Правильно? Так вот, нет ли у вас в запасе опытного преступника, чтобы кандидат показал на нем свое умение?
Третий латник. Дай подумать. У нас есть два врача этой коровы губернаторши. Возьмем их, а?
Аздак. Стоп, так не годится. Нельзя брать настоящих преступников, если судья не утвержден. Пусть он осел, но он должен быть утвержден, иначе нарушается законность. Законность — это очень чувствительная вещь, скажем, как селезенка. По селезенке нельзя бить кулаком, а то убьешь насмерть. Вы можете повесить обоих врачей, и законность нисколько не будет нарушена, если судья к этому непричастен. Законность любит, чтобы все было честь честью, такая уж она застенчивая. Скажем, судья вздумал упрятать в тюрьму женщину, укравшую для ребенка кукурузную лепешку. Но он не облачился в судейскую мантию или почесался во время вынесения приговора, обнажив больше трети своего тела — для этого, наверно, надо почесать бедро, — и, пожалуйста, приговор недействителен. Законность оскорблена! Скорее уж может вынести приговор судейская мантия или судейская шляпа, чем человек без этих принадлежностей. Законность бесследно исчезает, если за ней не следить. Нельзя выпить вино, которое вылакала собака. Оно исчезло бесследно. Вот так же и законность.
Первый латник. Что же ты предлагаешь, дотошный ты человек?
Аздак. Я буду обвиняемым. Уж я-то знаю, кого я буду изображать. (Шепчет им что-то на ухо.)
Первый латник. Ты?
Все хохочут.
Жирный князь. Что вы решили?
Первый латник. Мы решили устроить испытание. Наш друг будет играть роль обвиняемого, а судейское кресло пусть займет кандидат на должность.
Жирный князь. Это несколько необычно. А впрочем, почему бы и нет? (Племяннику.) Пустая формальность, лисенок. Как там тебя учили, кто скорее приходит к цели — медленный или быстрый?
Племянник. Скорее всех — хитрый, дядя Арсен.
Племянник садится в кресло. Жирный князь становится у него за спиной. Латники усаживаются на ступеньки.
Аздак (делает несколько шагов, явно подражая походке великого князя). Есть ли здесь кто-нибудь, кто меня знает? Я великий князь.
Жирный князь. Кто он?
Второй латник. Великий князь. Он в самом деле с ним знаком.
Жирный князь. Хорошо.
Первый латник. Начинайте процесс.
Аздак. Итак, меня обвиняют в том, что я развязал войну. Смешно. Я говорю — смешно, вам этого мало? Хорошо, тогда вот мои адвокаты, их, кажется, человек пятьсот. (Делает жест, как бы указывая на множество сопровождающих его адвокатов.) Прошу предоставить моим адвокатам все имеющиеся в зале места.
Латники смеются, жирный князь тоже смеется.
Племянник (латникам). Вы хотите, чтобы я разобрал это дело? Должен сказать, что нахожу его по меньшей мере необычным. Впрочем, все зависит от вкуса.
Первый латник. Валяй.
Жирный князь (улыбаясь). Покажи ему, лисенок.
Племянник. Отлично. Истец: народ Грузии, ответчик: великий князь. Что вы можете сказать, обвиняемый?
Аздак. Очень многое. Я, конечно, своими глазами читал, что война проиграна. Но в свое время я начал войну по совету патриотов, таких, как дядюшка Казбеки. Требую пригласить дядюшку Казбеки в свидетели.
Жирный князь (латникам, дружелюбно). Забавная штука, а?
Племянник. Просьба отклоняется. Вас обвиняют не в том, что вы объявили войну — это приходится делать всякому правителю, — а в том, что вы ее плохо вели.
Аздак. Глупости. Вообще ее не вел. Предоставил вести ее другим. Предоставил вести ее князьям. Они ее, конечно, угробили.
Племянник. Но вы по крайней мере не отрицаете, что осуществляли верховное командование?
Аздак. Ни в коем случае. Всегда осуществлял верховное командование. Едва родился, командовал нянькой. Так уж воспитан — чтобы справить нужду, хожу в уборную. Привык приказывать. Всегда приказывал чиновникам расхищать казну. Офицеры секут солдат только по моему приказу. Помещики спят с женами крестьян только по моему строжайшему приказу. Дядюшка Казбеки — вот он перед вами — отрастил себе брюхо только по моему приказу.
Латники (аплодируют). Ловко! Да здравствует великий князь!
Жирный князь. Ну-ка, лисенок, ответь ему. Я тебя поддержу.
Племянник. Я ему отвечу, и отвечу так, чтобы соблюсти достоинство суда. Обвиняемый, будьте добры уважать суд.
Аздак. Согласен. Приказываю вам продолжать допрос.
Племянник. Вы мне не приказывайте. Итак, вы утверждаете, что начать войну заставили вас князья. В таком случае, как можете вы утверждать, что князья угробили войну?
Аздак. Не давали достаточного количества рекрутов, растрачивали казенные деньги, поставляли больных лошадей, пьянствовали в публичных домах, когда шло наступление. Беру в свидетели дядюшку.
Племянник. Неужели вы будете отстаивать нелепое утверждение, что князья нашей страны не боролись?
Аздак. Нет. Князья боролись. Боролись за получение военных подрядов.
Жирный князь (вскакивает). Это уж слишком. Он говорит как настоящий ковровщик.
Аздак. В самом деле? Но я говорю только правду.
Жирный князь. Вздернуть! Вздернуть!
Первый латник. Спокойно. Продолжайте, ваша милость.
Племянник. Тише! Объявляю приговор. Смертная казнь через повешение. Вас вздернут. Вы проиграли войну. Приговор окончательный. Обжалованию не подлежит.
Жирный князь (исступленно). Увести! Увести! Увести!
Аздак. Молодой человек, я хочу дать вам один дельный совет. Будучи лицом официальным, не кричите. Кто воет как волк, не может занять вакансии сторожевого пса. Ясно?
Жирный князь. Вздернуть!
Аздак. Если люди заметят, что князья говорят тем же языком, что и великий князь, они еще чего доброго, вздернут и великого князя и князей. Как бы то ни было, подаю кассацию. Основание: война проиграна, но не для князей. Князья свою войну выиграли. Им заплатили три миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи пиастров за лошадей, которых они не поставили.
Жирный князь. Вздернуть!
Аздак. Восемь миллионов двести сорок тысяч пиастров за довольствие рекрутов, которых они также не поставили.
Жирный князь. Вздернуть!
Аздак. Следовательно, они победили. Войну проиграла только Грузия, каковая на данном суде не присутствует.
Жирный князь. Я думаю, хватит, друзья. (Аздаку.) Уходи, висельник. (Латникам.) Я думаю, друзья, что теперь можно и утвердить нового судью.
Первый латник. Да, теперь можно. Снимите-ка с него мантию!
Один из латников подставляет спину, другой становится на нее и снимает с повешенного судейскую мантию.
А теперь (племяннику) уходи отсюда, на всякое кресло своя задница. (Аздаку.) Иди-ка сюда и садись в судейское кресло.
Аздак медлит.
Садись, старина.
Латники ведут Аздака к креслу.
Судьи всегда были пропащими людьми, так пусть теперь пропащий человек станет судьей.
Аздаку накидывают на плечи судейскую мантию и надевают на голову плетенку от бутыли.
Поглядите, каков судья.
Певец.
Была гражданская война, правители дрожали. Судьею латники назначили Аздака. Два года отправлял он эту должность.Певец и музыканты (вместе).
Ветры огненные дули, Города в крови тонули, И по всей стране творился кавардак, Воры правили делами, Святотатцы пели в храме, А судьею был известный нам Аздак.На судейском кресле сидит Аздак и чистит яблоко. Полицейский Шалва подметает пол. Слева от судьи — инвалид в кресле-каталке, врач-обвиняемый и хромой оборванец. Справа — молодой человек, обвиняемый в вымогательстве. На часах стоит латник с полковым знаменем.
Аздак. Ввиду большого количества дел суд разбирает сегодня каждые два дела одновременно. Перед тем как начать, я должен сделать краткое сообщение: я беру. (Протягивает руку.)
Один лишь вымогатель достает деньги и дает их ему.
Аздак. Оставляю за собой право наложить на одну из сторон (смотрит на инвалида) взыскание за неуважение к суду. (Врачу.) Ты врач, а ты (инвалиду) его обвиняешь. Виновен ли врач в теперешнем твоем состоянии?
Инвалид. Конечно. Из-за него меня хватил удар.
Аздак. Значит, небрежность при исполнении профессиональных обязанностей.
Инвалид. Больше чем небрежность. Я дал ему в долг денег на учение. Он их до сих пор не вернул, а когда я узнал, что он лечит своих пациентов бесплатно, меня разбил паралич.
Аздак. Еще бы. (Хромому.) А тебе что здесь нужно?
Хромой. Я и есть пациент, ваша милость.
Аздак. Он, верно, лечил тебе ногу?
Хромой. Лечил, да не ту. У меня ревматизм в левой ноге, а он оперировал правую. Вот я и хромаю теперь.
Аздак. Оперировал-то он безвозмездно?
Инвалид. Операцию, которая стоит пятьсот пиастров, он сделал безвозмездно! За спасибо! И я еще платил за его учение! (Врачу.) Разве тебя учили в школе делать операции даром?
Врач. Ваша милость, действительно, гонорар принято взимать перед операцией, потому что перед ней пациент платит гораздо охотнее, чем после нее. По-человечески это можно понять. В данном случае, приступая к операции, я полагал, что гонорар передан уже моему слуге. В этом я ошибся.
Инвалид. Он ошибся! Хороший врач не ошибается! Он все выяснит, прежде чем резать.
Аздак. Это верно. (Шалве.) Какое у нас второе дело, господин общественный обвинитель?
Полицейский Шалва (усердно подметая пол). Вымогательство.
Вымогатель. Высокий суд, я невиновен. Я только хотел узнать у этого помещика, действительно ли он изнасиловал свою племянницу. Он дружески разъяснил мне, что нет, и дал мне денег только для того, чтобы я смог нанять для своего дядюшки учителя музыки.
Аздак. Ага! (Врачу.) Ну а ты, врач, ты ведь не можешь сослаться на какие-либо смягчающие твою вину обстоятельства?
Врач. Разве только, что человеку свойственно ошибаться.
Аздак. Разве ты не знаешь, что хорошему врачу присуще чувство ответственности в денежных делах? Мне рассказывали об одном враче, который выжал из вывихнутого пальца своего пациента тысячу пиастров, установив, что причиной заболевания является нарушение кровообращения. А плохой врач скорее всего проглядел бы такой случай. В другой раз этот искусный врач столь тщательно продумал курс лечения, что заурядное разлитие желчи превратилось в сплошной золотой дождь. Нет, ты не заслуживаешь прощения. Один зерноторговец послал своего сына в медицинскую школу, чтобы тот изучил торговое дело. Настолько хорошо поставлено там обучение. (Вымогателю.) Как фамилия помещика?
Полицейский Шалва. Он просил не называть его фамилии.
Аздак. В таком случае я выношу приговоры. Факт вымогательства суд считает доказанным, а ты (инвалиду) приговорен к штрафу в тысячу пиастров. Если у тебя будет второй удар, врач обязан бесплатно тебя лечить, а понадобится, то и ампутировать. (Хромому.) Тебе в возмещение убытков суд присуждает бутылку французской водки. (Вымогателю.) Ты должен передать половину своего гонорара общественному обвинителю, чтобы суд не огласил имени помещика. Кроме того, суд советует тебе приняться за изучение медицины, так как ты обнаружил способности к этой науке. Что касается тебя, врач, то за непростительную профессиональную ошибку ты по суду оправдан. Следующие!
Певец и музыканты.
Ах, что гнило, то не мило. Что прекрасно, то опасно. А закон гласит и этак и так. Потому решили люди: Двое спорят, третий судит. Ну а судит очень ловко наш Аздак.Из постоялого двора, расположенного у самой дороги, выходит Аздак. За ним следует хозяин постоялого двора, старик с длинной бородой. Работник и полицейский Шалва тащат судейское кресло. Латник с полковым знаменем становится на свой пост.
Аздак. Поставьте его вот сюда. По крайней мере здесь можно дышать, чувствуется ветерок из лимоновой рощи. Юстиции полезен свежий воздух. Ветер задирает ей юбки, и сразу видно, что под ними. Не надо было нам столько есть, Шалва. Эти инспекционные поездки очень утомительны. (Хозяину.) Дело идет о твоей невестке?
Хозяин. Ваша милость, дело идет о чести семьи. Вместо сына, который уехал по делам в горы, с жалобой обращаюсь я. Вот он, провинившийся работник, а вот и моя достойная сожаления невестка.
Входит невестка, особа с пышными формами. Лицо ее скрыто покрывалом.
Аздак (садится). Я беру.
Хозяин со вздохом дает ему деньги.
Так. Теперь все формальности выполнены. Речь идет об изнасиловании?
Хозяин. Ваша милость, я застал этого парня в конюшне как раз в ту минуту, когда он повалил нашу Тамару на солому.
Аздак. Совершенно верно. Конюшня. Чудесные лошадки. Особенно та маленькая, буланая.
Хозяин. Конечно, я тут же вместо сына стал стыдить Тамару.
Аздак (серьезно). Я говорю, что буланая мне нравится.
Хозяин (холодно). В самом деле? Тамара призналась мне, что работник сошелся с ней вопреки ее желанию.
Аздак. Скинь покрывало, Тамара.
Она открывает лицо.
Тамара, ты нравишься суду. Расскажи, как было дело.
Тамара (заученно). Я вошла в конюшню, чтобы поглядеть на нового жеребеночка. Работник заговорил со мной первый. Он сказал: «Ну и жара сегодня» — и положил мне руку на левую грудь. Я сказала ему: «Не делай этого», но он продолжал непристойно меня ощупывать, что вызвало у меня гнев. Прежде чем я разгадала его греховные намерения, он сделал свое черное дело. Затем вошел свекор и стал по ошибке пинать меня ногами.
Хозяин (объясняя). Вместо сына.
Аздак (работнику). Признаешь ли ты, что ты заговорил с ней первый?
Работник. Признаю.
Аздак. Тамара, ты любишь сладкое?
Тамара. Да. Семечки.
Аздак. Ты подолгу сидишь в лохани, когда моешься?
Тамара. Полчаса или около того.
Аздак. Господин общественный обвинитель, положи свой нож на землю, вон туда.
Полицейский Шалва кладет нож.
Тамара, пойди подними нож общественного обвинителя.
Тамара, покачивая бедрами, идет и поднимает нож.
(Показывает на нее.) Вы видите? Как все это качается? Преступная часть обнаружена. Факт насилия доказан. Из-за неумеренного потребления пищи, особенно сластей, из-за того, что ты подолгу сидишь в теплой воде, из-за лени и слишком мягкой кожи ты изнасиловала этого несчастного человека. Ты думаешь, что, расхаживая с таким задом, можно увернуться от правосудия? Это же предумышленное нападение с опасным оружием. Согласно приговору ты передашь суду буланую лошадку, на которой ездит твой свекор вместо сына. А теперь ты пройдешь со мной в конюшню, Тамара, чтобы суд ознакомился с местом преступления.
По Военно-Грузинской дороге идут латники. Из одного места в другое носят они судейское кресло, на котором сидит Аздак. За ними — полицейский Шалва и работник. Шалва тащит виселицу. Работник ведет на поводу буланую лошадку.
Певец и музыканты.
У господ кипела ссора, Но от этого раздора Жил немножечко вольготнее бедняк. По дорогам пестрым края, Правду кривдой побивая, К бедным людям ездил суд вершить Аздак. Присуждал он все голодным, Беднякам, себе подобным, И скреплял печатью каждый свой шаг, Под шумок разбойным сбродом Вознесенный над народом И неправедный и праведный Аздак.Процессия удаляется.
Не ходите к вашим ближним С христианским вздором книжным: Не дождетесь вы от проповеди благ. А ходите с топорами И поверите вы сами В чудеса, в какие верил наш Аздак.Судейское кресло Аздака стоит в кабачке. Перед Аздаком, которому полицейский Шалва подает вино, стоят трое кулаков. В углу — старая крестьянка. В открытых дверях и снаружи — деревенские жители. Латник с полковым знаменем стоит на часах.
Аздак. Слово имеет господин общественный обвинитель.
Полицейский Шалва. Дело идет о корове. Обвиняемая уже пять недель укрывает у себя в хлеву корову, принадлежащую зажиточному крестьянину Дволадзе. У нее обнаружили также украденный окорок. Когда зажиточный крестьянин Рухадзе потребовал у обвиняемой арендной платы за принадлежащую ему землю, все его коровы были тотчас же кем-то прирезаны.
Кулаки. Дело идет о моем окороке, ваша милость.
— Дело идет о моей корове, ваша милость.
— Дело идет о моей земле, вата милость.
Аздак. А ты что на это скажешь, мамаша?
Старуха. Ваша милость, пять недель назад, под утро, ко мне постучались. Выхожу — стоит человек с бородой и держит за веревку корову. Он мне и говорит: «Любезная хозяйка, я чудотворец, святой Бандитус. Твой сын погиб на войне, и на память о нем я дарю тебе эту корову. Ходи за ней хорошенько».
Кулаки. Это разбойник Ираклий, ваша милость.
— Ее свояк, ваша милость!
— Конокрад и поджигатель!
— Голову бы ему отрубить!
Снаружи доносится женский крик. Толпа в беспокойстве отступает. Входит бандит Ираклий с огромным топором.
Ираклий! (Крестятся.)
Бандит. Добрый вечер, честная компания! Стакан вина!
Аздак. Господин общественный обвинитель, стакан вина гостю. Кто ты такой?
Бандит. Я странствующий отшельник, ваша милость. Благодарю вас за угощение. (Залпом осушает стакан, поданный Шалвой.) Еще один.
Аздак. Я Аздак. (Встает и отвешивает поклон.)
Бандит также кланяется.
Суд приветствует отшельника. Продолжай, мамаша.
Старуха. Ваша милость, в ту ночь я еще не знала, что святой Бандитус способен творить чудеса. Он привел корову, и только. А дня через два, тоже ночью, приходят ко мне работники этого кулака и хотят увести мою корову. И вдруг они поворачивают назад, и на головах у них выскакивают огромные шишки. Тут я и поняла, что святой Бандитус смирил их сердца и наставил их на путь любви к ближнему.
Бандит громко смеется.
Первый кулак. Я знаю, чем он их наставил.
Аздак. Хорошо, что знаешь. Потом ты нам расскажешь. А пока продолжай ты!
Старуха. Затем, ваша милость, на путь добра стал кулак Рухадзе. Раньше это был сущий дьявол, любой подтвердит. Но благодаря святому Бандитусу он перестал брать с меня аренду за землю.
Второй кулак. Потому что на выгоне перерезали всех моих коров.
Бандит смеется.
Старуха (Аздак знаком велит ей продолжать). А однажды утром ко мне в окно влетел окорок. Он попал мне прямо в поясницу, так что я до сих пор хромаю. Вот поглядите, ваша милость. (Делает несколько шагов.)
Бандит смеется.
Конечно, это чудо. Хотела бы я знать, ваша милость, где это видано, чтобы старому бедному человеку приносили окорок!
Бандит всхлипывает.
Аздак (вставая). Твой вопрос, мамаша, поразил суд в самое сердце. Будь добра, сядь сюда.
Старуха, помедлив, садится в судейское кресло.
(Со стаканом в руке садится на пол.)
Мамаша, я чуть не назвал тебя матушкой Грузией. Тебя обобрали, а твои сыновья — на войне. Ты избита, исхлестана, но ты не теряешьь надежды. Ты плачешь, когда корову приводят к тебе. Ты удивляешься, если тебя не бьют. О, сжалься над нами, мамаша, не суди нас жестоко!(Кричит на кулаков.) Сознайтесь, безбожники, что вы не верите в чудеса! Каждый из вас приговорен к штрафу в пятьсот пиастров за безбожие! Вон!
Кулаки смиренно уходят.
А ты, мамаша, и ты, благочестивая душа (бандиту), выпейте по стакану вина с общественным обвинителем и Аздаком.
Певец и музыканты.
Хоть законы и исконны, Он, как хлеб, ломал законы, Чтоб народ отведал права натощак. И легко было крестьянам Подкупить пустым карманом Своего судью по имени Аздак. Чтоб своих не дать в обиду, Он обвешивал Фемиду{162}, Передергивая, если что не так. В черной мантии судейской, Под защитой полицейской, Он два года попирал закон, Аздак.Певец.
Кончились дни мятежей! Вернулся великий князь. Вернулась жена губернатора. Началась расправа. Снова горело предместье. Погибло много людей. Страшно стало Аздаку.Судейское кресло Аздака снова стоит во дворе суда. Аздак, сидя на земле, чинит свой башмак и беседует с полицейским Шалвой. Снаружи доносится шум.
Видно, как за стеной на острие копья несут голову жирного князя.
Аздак. Дни твоего рабства, Шалва, а может быть, даже и минуты теперь уже сочтены. Я взнуздал тебя железными удилами разума, которые до крови разорвали твой рот, я хлестал тебя разумными доводами и посыпал твои раны солью логики. По природе своей ты слабый человек, и, если с умом бросить тебе аргумент, ты жадно впиваешься в него зубами, ты уже не владеешь собой. По природе своей ты испытываешь потребность лизать руки высшему существу. Но высшие существа бывают разные. И вот наступил час твоего освобождения, скоро ты сможешь опять следовать своим низменным страстям и тому безошибочному инстинкту, который велит тебе совать свои толстые подошвы человеку в лицо. Ибо прошли времена смятения и беспорядка, описанные в песне о хаосе, которую мы сейчас еще раз споем с тобою на память об этих ужасных днях. Садись и смотри не фальшивь. Бояться нечего, песня эта не запрещенная, а припев у нее просто популярный. (Поет.)
Брат, доставай нож! Сестра, закрывай лицо! Время вышло из колеи{163}. Знатные плачут, смеются ничтожные. Город кричит: Давайте прогоним богатых и сильных! В канцеляриях — сумятица. Списки рабов горят. Господа вращают камни на мельницах. Заточенные выходят на волю. Выброшены церковные кружки. Эбеновое дерево идет на кровати. Кто мечтал о корке сухой — теперь хозяин амбаров, Он сам теперь хлеб раздает.Полицейский Шалва.
Ох-ох-ох-ох.
Аздак (поет).
Где же ты, генерал? Наведи, наведи порядок, Не узнать потомка господ. Благородный ребенок Превращается в сына рабыни. Советники прячутся в старых сараях. Бродяги бездомные Нежатся в мягких постелях. Кто был простым гребцом, теперь судовладелец. От прежнего хозяина ушли суда. Гонцы говорят своему господину: Шагайте сами, Мы уже пришли.Полицейский Шалва.
Ох-ох-ох-ох.
Аздак. Где же ты, генерал? Наведи, наведи порядок! Да и у нас была бы примерно такая же картина, если бы не спохватились и не навели порядок. В столицу уже вернулся великий князь, которому я, осел, спас жизнь, а персы дали напрокат войско для наведения порядка. Предместье уже горит. Принеси-ка мне толстую книгу, на которой я обычно сижу.
Полицейский Шалва берет с сиденья кресла книгу и дает ее Аздаку.
(Листает ее.) Это свод законов, я всегда им пользовался, ты свидетель.
Полицейский Шалва. Да, как сиденьем.
Аздак. Полистаю, погляжу что мне теперь припаяют. Мои поблажки неимущим выйдут мне боком. Я старался поставить бедняков на ноги. Теперь меня повесят по обвинению в пьянстве. Я заглядывал богатым в карманы. И мне некуда спрятаться, меня все знают, потому что я всем помогал.
Полицейский Шалва. Кто-то идет.
Аздак (сначала в испуге застывает на месте, затем, дрожа всем телом, идет к креслу). Конец. Но я никому не стану доставлять удовольствие зрелищем человеческого величия. На коленях прошу тебя, сжалься надо мной, не уходи. У меня от страха течет слюна, я боюсь смерти.
Входит жена губернатора. Ее сопровождают адъютант и латник.
Жена губернатора. Это что за тварь, Гоги?
Аздак. Препослушная, ваша милость. Рад стараться.
Адъютант. Нателла Абашвили, жена покойного губернатора, только что вернулась и ищет своего двухлетнего сына Михаила Абашвили. Ей удалось узнать, что ребенок унесен в горы кем-то из прежних слуг.
Аздак. Слушаюсь, ваше высокородие. Ребенок будет доставлен.
Адъютант. Говорят, что эта особа выдает ребенка за своего.
Аздак. Слушаюсь, ваше высокородие. Она будет обезглавлена.
Адъютант. Это все.
Жена губернатора (уходя). Этот человек мне не нравится.
Аздак (провожает ее, отвешивая низкие поклоны). Слушаюсь, ваше высокородие, все будет сделано.
VI Меловой круг
Певец.
Теперь послушайте историю процесса О ребенке губернатора Абашвили, Где истинная мать была определена С помощью знаменитого мелового круга.Двор суда в Нуке. Латники вводят Михаила и затем уходят с ним в глубину сцены. Один из латников копьем удерживает Груше в воротах, пока не уводят ребенка. Затем ее впускают. С ней вместе входит толстая повариха из челяди бывшего губернатора Абашвили. Отдаленный шум. На небе — зарево пожара.
Груше. Он молодец, он уже моется сам.
Повариха. Тебе повезло, судить будет не настоящий судья, а Аздак. Он пьянчужка и ни в чем не разбирается. Самые большие разбойники выходили у него сухими из воды. Он все на свете путает, и, какую бы взятку ему ни давали богатые, все ему мало. Поэтому когда он судит, нашему брату часто бывает удача.
Груше. Как мне нужна удача сегодня!
Повариха. Не сглазь. (Крестится.) Пожалуй, я успею быстренько помолиться, чтобы судья оказался под мухой. (Молится, беззвучно шевеля губами.)
Груше тщетно пытается увидеть ребенка.
Не понимаю, зачем ты так добиваешься чужого ребенка, да еще в такие времена.
Груше. Он мой. Я его вскормила.
Повариха. Неужели ты ни разу не подумала, что будет, когда она вернется?
Груше. Сначала я думала, что я отдам его ей, а потом я думала, что она не вернется.
Повариха. Чужая юбка тоже греет, верно?
Груше утвердительно кивает.
Я для тебя присягну в чем угодно, потому что ты порядочная женщина. (Твердит.) Этот ребенок был у меня на воспитании. Мне платили за него пять пиастров. Груше взяла его у меня на пасху, вечером, когда начались волнения.
Замечает приближающегося Симона Хахаву.
Но перед Симоном ты виновата, я с ним говорила, он никак этого понять не может.
Груше (она не видит Симона). Мне сейчас не до него, если он ничего не понимает.
Повариха. Он понял, что ребенок не твой; а что ты замужем и что только смерть может тебя освободить — этого он не понимает.
Груше замечает Симона и здоровается с ним.
Симон (мрачно). Пусть сударыня знает, что я готов поклясться. Отец ребенка — я.
Груше (тихо). Я рада, Симон.
Симон. Вместе с тем позволю себе заявить, что это меня ни к чему не обязывает и сударыню тоже.
Повариха. Ни к чему это. Она замужем, ты же знаешь.
Симон. Это ее дело, и незачем об этом напоминать.
Входят два латника.
Латники. Где судья?
— Никто не видал судьи?
Груше (отвернувшись и прикрыв лицо). Заслони меня. Не надо бы мне показываться в Нуке. Вдруг я наткнусь на латника, которого я ударила по голове…
Латник (один из тех, которые привели ребенка; выступая вперед). Судьи здесь нет.
Оба латника продолжают поиски.
Повариха. Только бы с ним ничего не случилось. Если будет судить другой, видов на успех у тебя столько же, сколько зубов у курицы.
Появляется третий латник.
Латник (один из тех, которые ищут судью; рапортует). Здесь только двое стариков и ребенок. Судья как в воду канул.
Третий латник. Продолжать поиски!
Оба латника быстро уходят. Третий латник задерживается. Груше вскрикивает. Латник оборачивается. Это ефрейтор, у него огромный шрам через все лицо.
Латник, стоящий в воротах. В чем дело, Шота? Ты ее знаешь?
Ефрейтор (после долгой паузы, во время которой он продолжает глядеть на Груше). Нет.
Латник, стоящий у ворот. Говорят, это она украла ребенка Абашвили. Если тебе что-нибудь известно об этом деле, ты можешь заработать кучу денег, Шота.
Ефрейтор бранясь уходит.
Повариха. Это он?
Груше кивает головой.
Ну, он будет теперь держать язык за зубами. Не то ему придется признаться, что он гнался за ребенком.
Груше (с облегчением). А я-то уж и забыла, что спасла ребенка от этих…
Входит жена губернатора с адъютантом и двумя адвокатами.
Жена губернатора. Слава богу, по крайней мере здесь нет народа. Совершенно не выношу этого запаха. У меня сразу начинается мигрень.
Первый адвокат. Прошу вас, сударыня, соблюдать осторожность в высказываниях, пока не назначат другого судью.
Жена губернатора. Ничего особенного я не сказала, Ило Шуболадзе. Я люблю народ за его простой, трезвый ум. Только от его запаха у меня делается мигрень.
Второй адвокат. Едва ли соберется публика. Из-за беспорядков в предместье люди сидят запершись по домам.
Жена губернатора. Это и есть та тварь?
Первый адвокат. Прошу вас, любезнейшая Нателла Абашвили, воздерживаться от всяких оскорбительных выражений, покамест мы не удостоверимся, что великий князь назначил нового судью и избавил нас от негодяя, исполняющего ныне эту должность. Но, кажется, дело идет к тому. Поглядите.
Появляются латники.
Повариха. Ее милость давно бы вцепилась тебе в волосы, если бы она не знала, что Аздак на стороне простонародья. Он определяет человека по лицу.
Двое латников прикрепляют к столбу веревку. Вводят Аздака, на нем кандалы. Позади него, также в кандалах, идет полицейский Шалва. За арестантами следуют трое кулаков.
Латник. Думал убежать, а? (Бьет Аздака.)
Один из кулаков. Прежде чем вешать, стащите с него судейскую мантию!
Латники и кулаки срывают с Аздака судейскую мантию. Под нею оказываются лохмотья. Один из латников дает Аздаку пинка.
Латник (толкая Аздака в сторону другого латника). Тебе нужен мешок справедливости? Вот он, держи!
Латники (поочередно толкая Аздака, кричат). Бери его себе!
— Мне справедливость не нужна!
Аздак падает. Латники поднимают его и тащат к виселице.
Жена губернатора (во время этой «игры в мяч» она истерически хлопала в ладоши). Он был мне несимпатичен с первого взгляда.
Аздак (отдуваясь, он весь в крови). Я ничего не вижу, дайте мне тряпку вытереться.
Латники. А что тебе нужно видеть?
Аздак. Вас, собаки. (Рубахой вытирает кровь с глаз.) Бог в помощь, собаки! Как дела, собаки? Как поживает собачий мир? Хорошо ли воняет? Нашли ли вы сапог, чтобы было что лизать? Успели ли вы уже перегрызть друг другу горло, собаки?
Входит запыленный конный гонец. С ним — ефрейтор.
Гонец. Стойте, вот приказ великого князя о новых назначениях.
Ефрейтор (рявкает). Смирно!
Все застывают.
Гонец. Вот что сказано насчет нового судьи. «Судьей в Нуке назначается Аздак, спасший жизнь, имеющую для нашей страны первостепенное значение». Кто этот Аздак?
Полицейский Шалва (указывая на Аздака). Он стоит под виселицей, ваше превосходительство.
Ефрейтор (рявкает). Что здесь происходит?
Латник. Разрешите доложить. Его милость были уже его милостью, а по доносу этих крестьян их объявили врагом великого князя.
Ефрейтор (указывая на кулаков). Увести!
Не слушая возражений кулаков, их уводят.
Позаботьтесь о том, чтобы впредь их милость не испытывали никакого беспокойства. (Уходит вместе с запыленным гонцом.)
Повариха (Шалве). Она хлопала в ладоши. Надеюсь, он это заметил.
Первый адвокат. Все пропало.
Аздак теряет сознание. Его поднимают, он приходит в себя. На него надевают судейскую мантию, и он, шатаясь, выходит из группы обступивших его латников.
Латники. Не взыщите, ваша милость!
— Что угодно вашей милости?
Аздак. Ничего не угодно, друзья мои собаки. Разве только сапог, чтобы лизать. (Шалве.) Я тебя помиловал.
С него снимают кандалы.
Принеси-ка мне красного сладкого.
Полицейский Шалва уходит.
Марш отсюда, мне надо разобрать одно дело.
Латники уходят. Возвращается Шалва с вином.
(Жадно пьет.) Дайте мне что-нибудь подложить под себя!
Шалва приносит свод законов и кладет его на судейское кресло.
(Садится.) Я беру!
У истцов, которые до сих пор совещались с самым озабоченным видом, проясняются лица. Они шушукаются.
Повариха. Ой-ой!
Симон. Как говорится, колодец росой не наполнишь.
Адвокаты (приближаются к Аздаку, который выжидательно приподнимается). Смехотворное дело, ваша милость. Противная сторона похитила ребенка и отказывается вернуть его матери.
Аздак (протягивает адвокатам ладонь, чтобы получить взятку, и глядит на Груше). Весьма привлекательная особа. (Опять получает деньги.) Открываю заседание и требую от вас полнейшей правдивости. (Груше.) Особенно от тебя.
Первый адвокат. Высокий суд! В народе говорят — «кровь гуще воды». Эта старая мудрость…
Аздак. Суд желает знать, какой гонорар назначен адвокату?
Первый адвокат (удивленно). Простите, как вы изволили сказать?
Аздак с самым любезным видом трет большой палец об указательный.
Ах вот что! Пятьсот пиастров, ваша милость. Отвечаю на необычный вопрос суда.
Аздак. Вы слышали? Вопрос, оказывается, необычен. Я спрашиваю потому, что, зная, какой вы хороший адвокат, слушаю вас совсем по-другому.
Адвокат (кланяется). Благодарю вас, ваша милость. Высокий суд! Узы крови прочнее всех прочих уз. Мать и дитя — есть ли на свете более тесная связь? Можно ли отнять у матери ее ребенка? Высокий суд! Она зачала его в священном экстазе любви, она носила его в лоне своем, она питала его своей кровью, она родила его в муках. Высокий суд! Известно, что даже лютая тигрица, у которой похитили детеныша, не находит себе покоя и бродит по горам, отощав до неузнаваемости. Сама природа…
Аздак (прерывая его, обращается к Груше). Как ты ответишь на это и на все, что собирается сказать господин адвокат?
Груше. Ребенок мой.
Аздак. И это все? Надеюсь, ты сможешь привести доказательства. Во всяком случае, советую тебе сказать мне, почему ты считаешь, что я должен присудить его именно тебе.
Груше. Я растила его в меру своих сил и своего разуменья, я всегда добывала ему еду. Почти всегда у него была крыша над головой. Чего я не натерпелась из-за него, сколько денег истратила. Я не считалась со своими удобствами. Я воспитывала ребенка так, чтобы он был со всеми приветлив, я приучала его к труду, и он старался как мог, он ведь совсем еще маленький.
Адвокат. Обратите внимание, ваша милость, что сама эта особа не ссылается ни на какие кровные узы между собой и ребенком.
Аздак. Суд принимает это к сведению.
Адвокат. Благодарю вас, ваша милость. Соблаговолите выслушать теперь убитую горем женщину, уже потерявшую супруга и живущую ныне под страхом потери ребенка. Достопочтенная Нателла Абашвили…
Жена губернатора (тихо). Жестокая судьба, сударь, вынуждает меня просить вас вернуть мне мое любимое дитя. Не мне описывать вам душевные муки осиротевшей матери, страхи, бессонные ночи…
Второй адвокат (его вдруг прорвало). Эту женщину подвергают неслыханным издевательствам. Ей запрещают вход во дворец ее мужа, ее лишают доходов с имений и при этом хладнокровно заявляют, что доходы принадлежат наследнику. Без ребенка она не может ничего предпринять, не может даже заплатить своим адвокатам! (Первому адвокату, который, в отчаянии от этой вспышки, и так и этак делает ему знаки, чтобы он замолчал.) Дорогой Ило Шуболадзе, к чему скрывать, что дело идет, в конце концов, об имениях Абашвили?
Первый адвокат. Позвольте, уважаемый Сандро Оболадзе! Мы же условились… (Аздаку.) Конечно, исход процесса решит также, вступит ли наша достопочтенная доверительница во владение очень большими имениями, но я намеренно подчеркиваю «также». Ибо главное, как по праву заметила в начале своей потрясающей речи Нателла Абашвили, ибо главное — это человеческая трагедия матери. Даже если бы Михаил Абашвили не был наследником имений, он все равно оставался бы любимым сыном моей доверительницы!
Аздак. Стоп! Суд рассматривает упоминание об имуществе как доказательство чисто человеческих побуждений истицы.
Второй адвокат. Благодарю вас, ваша милость. Дорогой Ило Шуболадзе, на всякий случай мы можем доказать, что особа, похитившая ребенка, не является его матерью! Позвольте мне изложить суду только факты. Роковое стечение обстоятельств заставило мать оставить ребенка в момент бегства из Нуки. Груше, судомойка, была в тот день во дворце, и люди видели, как она занялась ребенком.
Повариха. У губернаторши только и было забот, какие платья взять!
Второй адвокат (невозмутимо). Примерно через год Груше с ребенком объявилась в одной горной деревне, где она вступила в брак с…
Аздак. Как ты добралась до деревни?
Груше. Пешком, ваша милость. А ребенок был мой.
Симон. Я отец, ваша милость.
Повариха. Этот ребенок был у меня на попечении, ваша милость. Мне платили пять пиастров.
Второй адвокат. Высокий суд, этот человек — жених Груше, поэтому его показания не заслуживают доверия.
Аздак. Это за тебя она вышла замуж в деревне?
Симон. Нет, ваша милость. Она вышла замуж за одного крестьянина.
Аздак (кивком подзывая Груше). Почему? (Указывая на Симона.) Разве он плох в постели? Скажи правду.
Груше. У нас до этого дело не дошло. Я вышла замуж из-за ребенка. Чтобы у мальчика была крыша над головой. (Указывая на Симона.) Он был на войне, ваша милость.
Аздак. А теперь он опять тебя захотел, так, что ли?
Симон. Прошу записать в протокол, что…
Груше (сердито). Я уже не свободна, ваша милость.
Аздак. А ребенок, значит, внебрачный?
Груше не отвечает.
Я спрашиваю тебя: что это за ребенок? Незаконный оборвыш или благородное дитя из состоятельной семьи?
Груше (со злостью). Обыкновенный ребенок.
Аздак. Были ли у него уже в раннем возрасте необычно тонкие черты лица?
Груше. Нос у него был на лице,
Аздак. У него был нос на лице. Я считаю твой ответ весьма важным. Обо мне говорят, что однажды, перед тем как вынести приговор, я вышел в сад и нюхал там розы. Вот к каким уловкам приходится нынче прибегать. Не будем затягивать дело, мне надоело слушать ваше вранье. (Груше.) Особенно твое. (Груше, Симону и поварихе.) И чего вы только не придумывали, чтобы меня околпачить. Я вижу вас насквозь. Обманщики вы.
Груше (вдруг). Конечно, вы не станете затягивать дело! Я же видела, как вы брали!
Аздак. Молчать! Я у тебя брал?
Груше (хотя повариха пытается ее удержать от спора). Потому что у меня и нет ничего.
Аздак. Совершенно верно. Если надеяться на вас, голодранцев, как раз и подохнешь с голоду. Справедливость вам подавай, а платить-то за нее не хочется. Когда вы идете к мяснику, вы знаете, что придется платить, а к судье вы идете как на поминки.
Симон (громко). Как говорится, «когда куют коня, слепень пускай не суется».
Аздак (охотно принимая вызов). «Жемчужина в навозной куче лучше, чем камень в горном ручье».
Симон. «Прекрасная погода, — сказал рыбак червяку. — Не поудить ли нам рыбки?»
Аздак. «Я сам себе хозяин», — сказал слуга и отпилил себе ногу».
Симон. «Я люблю вас, как отец», — сказал царь, крестьянам и велел отрубить голову царевичу».
Аздак. «Дурак себе же злейший враг».
Симон. «Свое не воняет».
Аздак. Плати десять пиастров штрафа за непристойные речи в суде. Будешь знать, что такое правосудие.
Груше. Нечего сказать, чистоплотное правосудие. Ты оставляешь нас с носом, потому что мы не умеем так красиво говорить, как их адвокаты.
Аздак. Правильно. Слишком уж вы робки. Если вам дают по шее, так вам и надо.
Груше. Да уж, конечно, ты присудишь ребенка ей. Она человек тонкий. Как пеленки менять, она понятия не имеет! Так знай же, в правосудии ты смыслишь не больше моего.
Аздак. Это верно. Я человек невежественный, под судейской мантией у меня рваные штаны, погляди сама. У меня все деньги уходят на еду и на выпивку. Я воспитывался в монастырской школе. А кстати, я и тебя оштрафую на десять пиастров за оскорбление суда. И вообще ты дура, ты настраиваешь меня против себя, вместо того чтобы строить мне глазки и вертеть задом. Ты бы добилась моего расположения. Двадцать пиастров.
Груше. Хоть все тридцать. Все равно я выскажу тебе все, что о тебе думаю, пьянчужка. Чего стоит твоя справедливость? Как ты смеешь так говорить со мной? Ты же похож на треснувшего Исайю на церковном окне! Когда мать тебя рожала, она никак не думала, что ей придется сносить от тебя побои, если она возьмет у кого-нибудь горсточку пшена. Ты видишь, что я дрожу перед тобой, и тебе не стыдно? А им ты слуга, ты следишь, чтоб никто не отнял у них домов, которые они украли! С каких это пор дома принадлежат клопам? Если бы не ты, они, чего доброго, не смогли бы угонять на свои войны наших мужей! Продажная ты тварь, вот кто ты!
Аздак встает. Он сияет. Он неохотно стучит молоточком по столу, словно требуя тишины. Но так как Груше не унимается, он начинает отбивать такт ее речи.
Я тебя нисколько не уважаю. Не больше, чем вора или грабителя. Те тоже творят, что хотят. Ты можешь отнять у меня ребенка, сто против одного, что это так и будет, но знай одно: на твою должность надо бы сажать только ростовщиков и растлителей малолетних. Лучшего наказания для них не придумаешь, потому что сидеть выше себе подобных гораздо хуже, чем висеть на виселице.
Аздак (садится). Теперь тридцать пиастров, но больше я с тобой препираться не стану, мы не в трактире. Не буду ронять свое судейское достоинство. И вообще я утратил интерес к твоему делу. Где эти двое, которых нужно развести? (Шалве.) Введи их. А ваше дело я откладываю на четверть часа.
Полицейский Шалва уходит.
Первый адвокат. Даже если мы не скажем больше ни слова, можно считать, что решение у вас в кармане.
Повариха (Груше). Ты сама все испортила. Теперь он заберет у тебя ребенка.
Входит очень старая супружеская чета.
Жена губернатора. Гоги, где моя нюхательная соль?
Аздак. Я беру.
Старики не понимают.
Мне сказали, что вы решили развестись. Сколько лет вы уже вместе?
Старуха. Сорок лет, ваша милость.
Аздак. Почему вы желаете развестись?
Старик. Мы друг другу несимпатичны, ваша милость.
Аздак. С каких пор?
Старуха. С самого начала, ваша милость.
Аздак. Я обдумаю ваше желание и вынесу решение. Но сначала я покончу с другим делом.
Полицейский Шалва отводит стариков в глубину сцены.
Мне нужен ребенок. (Кивает Груше и дружелюбно наклоняется в ее сторону.) Я вижу, ты любишь справедливость. Я не верю тебе, что это твой ребенок, но, если бы он был твой, разве ты не желала бы ему богатства? Ты все равно должна была бы сказать, что он не твой. И сразу бы у него появился дворец, множество лошадей в конюшне, множество нищих у порога, множество солдат на службе, множество просителей во дворе. Не так ли? Что ты мне на это ответишь? Разве ты не хочешь, чтобы он был богат?
Груше молчит.
Певец. Послушайте, что подумала в гневе, послушайте, чего не сказала. (Поет.)
Он бы слабых стал давить. Стал бы в золоте купаться, Он привык бы зло творить, Но зато смеяться. Ах, на свете невозможно С сердцем каменным прожить, Ибо слишком это сложно Сильным слыть и зло творить. Пусть лучше голода он боится, А голодающих — нет. Пусть лучше он темноты боится, Только не света, нет.Аздак. Кажется, я тебя понимаю, женщина.
Груше. Я его не отдам. Я его вскормила, и он ко мне привык.
Полицейский Шалва вводит ребенка.
Жена губернатора. Она одевает его в лохмотья.
Груше. Это неправда. Мне не дали времени надеть на него новую рубашку.
Жена губернатора. Он жил в свинарнике.
Груше (запальчиво). Я-то не свинья, а вот ты кто? Где ты бросила ребенка?
Жена губернатора. Я тебе покажу, хамка. (Хочет броситься на Груше, но ее удерживают адвокаты.) Это преступница! Ее нужно высечь.
Второй адвокат (зажимает ей рот). Любезнейшая Нателла Абашвили! Вы обещали… Ваша милость, нервы истицы…
Аздак. Истица и ответчица! Выслушав ваше дело, суд не смог прийти к заключению, кто является истинной матерью этого ребенка. Как судья, я обязан выбрать ребенку мать. Я сейчас устрою вам испытание. Шалва, возьми кусок мела. Начерти на земле круг.
Полицейский Шалва чертит мелом круг.
Аздак. Поставь ребенка в круг!
Полицейский Шалва ставит в круг улыбающегося Груше ребенка.
Истица и ответчица, станьте обе возле круга!
Жена губернатора и Груше становятся возле круга.
Возьмите ребенка за руки, одна за левую, другая за правую. У настоящей матери хватит сил перетащить его к себе.
Второй адвокат (торопливо). Высокий суд, я протестую. Судьбу огромных имений Абашвили, наследуемых этим ребенком, нельзя ставить в зависимость от столь сомнительного состязания. Следует учесть также, что моя доверительница уступает в физической силе этой особе, привыкшей к черной работе.
Аздак. По-моему, ваша доверительница достаточно упитанна. Тяните!
Жена губернатора тянет ребенка к себе. Груше отпускает руку мальчика, лицо ее выражает отчаяние.
Первый адвокат (поздравляет жену губернатора). Что я говорил? Узы крови!
Аздак (Груше). Что с тобой? Ты не стала тянуть.
Груше. Я его не удержала. (Подбегает к Аздаку.) Ваша милость, я беру все свои слова обратно, прошу вас, простите меня. Оставьте мне его, хотя бы до тех пор, пока он не будет знать всех слов. Он знает пока еще слишком мало.
Аздак. Не оказывай давления на суд! Готов поспорить, что ты и сама знаешь не больше двадцати слов… Ну что ж, согласен повторить испытание, чтобы решить окончательно. Тяните!
Обе женщины еще раз становятся возле круга.
Груше (снова выпускает руку ребенка; в отчаянии). Я его вскормила! Что же, мне его разорвать, что ли? Не могу! я так.
Аздак (встает). Итак, суд установил, кто настоящая мать. (Груше.) Бери ребенка и уходи с ним. Советую тебе не оставаться с ним в городе. (Жене губернатора.) А ты ступай долой с глаз моих, пока я не осудил тебя за обман. Имения отходят к городу, с тем чтобы там разбили сад для детей. Детям нужен сад. И я велю назвать этот сад в мою честь садом Аздака.
Адъютант уводит жену губернатора. Она в полуобмороке. Адвокаты ушли еще раньше. Груше в оцепенении. Шалва подводит к ней ребенка.
Ибо я решил отказаться от судейской мантии. Мне в ней слишком жарко. Я не корчу из себя героя. Но на прощание я приглашаю вас поплясать, вон туда, на лужок. Да, чуть не забыл, хмельная голова. Мне же надо кончить дело о разводе.
Пользуясь судейским креслом как столом, Аздак что-то пишет на клочке бумаги. Затем он собирается уходить. Звучит танцевальная музыка.
Полицейский Шалва (взглянув на исписанный листок). Это неверно. Вы развели не стариков, а Груше и ее мужа.
Аздак. Что такое, не тех развел? Жаль, но ничего не поделаешь, отменить решение я не могу, нельзя нарушать порядок. (Старым супругам.) Зато я приглашаю вас на небольшое торжество, поплясать друг с другом, надеюсь, вы еще сможете. (Груше и Симону.) А с вас обоих причитается сорок пиастров.
Симон (достает кошелек). Это дешево, ваша милость. Большое спасибо.
Аздак (прячет деньги). Они мне пригодятся.
Груше. Пожалуй, мы сегодня сразу и уйдем из города. Как ты думаешь, Михаил? (Хочет посадить ребенка на плечи Симону.) Он тебе нравится?
Симон (сажает ребенка на плечи). Осмелюсь доложить, нравится.
Груше. Так вот, теперь я тебе скажу: я взяла его потому, что как раз в то пасхальное воскресенье мы с тобой обручились. И значит это — дитя любви. Пошли танцевать, Михаил.
Она танцует с Михаилом. Симон танцует с поварихой. Танцуют и двое стариков. Аздак стоит в глубокой задумчивости. Танцующие постепенно заслоняют его от зрителей. Все реже видна его фигура, по мере того как на сцене появляются все новые и новые танцующие пары.
Певец.
И после этого вечера Аздак навсегда исчез. Но долго еще о нем вспоминал грузинский народ. Долго не забывал недолгой поры золотой, Почти справедливой поры его судейства.Пары, танцуя, покидают сцену. Аздак исчез.
Вы же, о слушатели рассказа, Рассказа о круге судьи, запомните старинную мудрость: Все на свете принадлежать должно Тому, от кого больше толку, и значит, Дети — материнскому сердцу, чтоб росли и мужали Повозки — хорошим возницам, чтоб быстро катились. А долина тому, кто ее оросит, чтоб плоды приносилаМузыка.
«Жизнь Галилея»
Жизнь Галилея Пьеса Перевод Л. Копелева
В сотрудничестве с М. Штеффин
{164}
Действующие лица
Галилео Галилей.
Андреа Сарти.
Госпожа Сарти, экономка Галилея, мать Андреа.
Людовико Марсили, богатый молодой человек.
Приули, куратор университета в Падуе.
Сагредо, друг Галилея.
Вирджиния, дочь Галилея.
Федерцони, шлифовальщик линз, помощник Галилея.
Дож.
Советники.
Козимо Медичи, великий герцог Флоренции.
Маршал двора.
Теолог.
Философ.
Математик.
Пожилая придворная дама.
Молодая придворная дама.
Лакей великого герцога.
Две монахини.
Два солдата.
Старуха.
Толстый прелат.
Двое ученых.
Два монаха.
Два астронома.
Очень тощий монах.
Очень старый кардинал.
Патер Кристофер Клавиус, астроном.
Маленький монах.
Кардинал-инквизитор.
Кардинал Барберини — он же затем папа Урбан VIII.
Кардинал Беллармин.
Два монаха, писцы.
Две молодые дамы.
Филиппо Муциус, ученый.
Гаффоне, ректор университета в Пизе.
Уличный певец и его жена.
Ванни, владелец литейной.
Чиновник.
Высокопоставленный чиновник.
Некий субъект.
Монах.
Крестьянин.
Пограничный страж.
Писец.
Мужчины, женщины, дети.
I
Галилео Галилей, учитель математики в Падуе, хочет доказать правильность нового учения Коперника о строении вселенной
В году тысяча шестьсот девятом Свет истинного знания Излился на людей, Из города Падуи, из скромной хижины, Исчислил Галилео Галилей, Что движется Земля, а Солнце неподвижно.Небогатая рабочая комната Галилея в Падуе. Утро. Мальчик Андреа, сын экономки, приносит Галилею стакан молока и булочку.
Галилей (умывается; обнажен до пояса, фыркает, весел). Поставь молоко на стол, но не тронь там ни одной книги.
Андрея. Мать говорит, что нужно заплатить молочнику, а то он скоро будет описывать круг вокруг нашего дома, господин Галилей.
Галилей. Нужно говорить: «описывать окружность», Андреа.
Андреа. Как вам угодно. Если мы не заплатим, он и опишет окружность вокруг нас, господин Галилей.
Галилей. А вот судебный исполнитель господин Камбионе идет прямо к нам и при этом избирает… какое он избирает расстояние между двумя точками?
Андреа (ухмыляясь). Кратчайшее.
Галилей. Хорошо! У меня есть кое-что для тебя. Погляди там, за звездными таблицами.
Андреа (вытаскивает из-за таблиц большую деревянную модель солнечной системы. Птолемея). Что это такое?
Галилей. Это астролябия — такая штука, которая изображает, как планеты и звезды движутся вокруг Земли. Так думали в старину.
Андреа. Что значит — так думали?
Галилей. Давай исследуем это. Прежде всего опиши, что видишь.
Андреа. Посередине находится маленький шар…
Галилей. Это Земля.
Андреа. А вокруг него, одно над другим, кольца.
Галилей. Сколько их?
Андреа. Восемь.
Галилей. Это кристаллические сферы.
Андреа. На этих кольцах приделаны шары.
Галилей. Это планеты и звезды.
Андреа. Тут полоски, а на них написаны слова.
Галилей. Какие слова?
Андреа. Названия звезд.
Галилей. Например?
Андреа. Самый нижний шар это Луна, тут так и написано. А над ним Солнце.
Галилей. А теперь двигай Солнце.
Андреа (вращает кольца). Красиво получается. Только вот… Мы так закупорены.
Галилей (вытираясь). Да, и я ощутил то же, когда впервые увидел эту штуку. Некоторые чувствуют это. (Бросает Андреа полотенце и подставляет спину, чтобы тот вытер.) Стены, и кольца, и неподвижность! Две тысячи лет кряду люди верили, что и Солнце и все небесные тела вращаются вокруг нашей Земли. Папа, кардиналы, князья, ученые, капитаны, купцы, торговки рыбой и школьники верили, что неподвижно сидят в этом кристаллическом шаре. Но теперь мы выбираемся из него, Андреа. Потому что старые времена миновали и наступило новое время. Вот уже сто лет, как человечество все как будто ждет чего-то.
В городах тесно и в головах тесно. Есть суеверия, есть и чума. Но теперь говорят: есть, но не будет, не останется. Потому что все движется, друг мой.
Мне хочется думать, что началось все с кораблей. С незапамятных времен корабли все ползали вдоль побережий, но внезапно они покинули берега и вышли в открытое море. На нашем старом материке возник слух: где-то есть новые материки. И с тех пор как наши корабли добираются, до них, на всех материках, смеясь, говорят о том, что великий грозный океан — только Маленький водоем. Возникла великая задача, люди хотят понять причины всего, что есть на свете. Почему камень, если его выпустить из рук, падает, а если подбросить — подымется вверх? Каждый день приносит что-нибудь новое. Даже столетние старцы требуют, чтобы юноши кричали им в уши о новых открытиях.
Многое уже открыто, но куда больше осталось такого, что еще можно открыть. Так что и для новых поколений найдется дело.
Еще юношей в Сиене я видел, как двое строителей изменили древний, тысячелетний способ передвижения гранитных глыб; после пятиминутного спора они договорились и стали применять новое, более целесообразное приспособление канатов. Там я понял тогда, что старые времена прошли, что наступает новое время. Скоро человечество полностью изучит свое жилье, ту планету, на которой оно обитает. Написанного в старых книгах уже недостаточно.
И там, где тысячи лет гнездилась вера, теперь гнездится сомнение. Все говорят: да, так написано в книгах, но дайте-ка нам самим поглядеть. С самыми почтенными истинами теперь обращаются запросто; сомневаются в том, в чем прежде никогда не сомневались.
И от этого возник такой сквозняк, что задирает даже расшитые золотом полы княжеских и прелатских одежд. И становятся видны их ноги, жирные или тощие, но такие же, как у нас. А небеса, оказывается, пусты. Поэтому раздается веселый хохот.
Но воды Земли двигают валы новых прядильных станов, на верфях, в канатных и парусных мастерских сотни рук работают по-новому в лад.
Я предвижу, что еще на нашем веку об астрономии будут говорить на рынках. Даже сыновья торговок рыбой будут ходить в школу. И жадным до всего нового людям наших городов придется по душе, что новая астрономия заставила двигаться также и Землю. До сих пор всегда были уверены в том, что небесные тела укреплены на кристаллическом своде и поэтому не падают. А теперь мы набрались смелости и позволяем им свободно парить в пространстве, ничто их не удерживает, и все они движутся по великим путям так же, как и наши корабли. Ничто их не удерживает в стремительном движении.
И Земля весело катится вокруг Солнца, и торговки рыбой, купцы, князья и кардиналы, и даже сам папа катятся вместе с ней.
Вселенная внезапно утратила свой центр и сразу же обрела бесчисленное множество центров. Так что теперь любая точка может считаться центром, любая и никакая. Потому что мир, оказывается, очень просторен.
Наши корабли заплывают далеко, далеко, наши планеты и созвездия движутся в беспредельном пространстве, даже в шахматах теперь ладьи могут двигаться в новом пространстве через все клетки. Как сказал поэт? «О рассвет великих начинаний…»
Андреа.
«О рассвет великих начинаний! О дыханье ветра, что веет Со вновь открытых берегов!»Но пейте же молоко, ведь скоро опять придет кто-нибудь.
Галилей. А ты хорошо понял то, о чем я тебе говорил вчера?
Андреа. О чем же? Об этом, как его, Кипернике, у которого все вертится?
Галилей. Да.
Андреа. Нет, не понял. И как я могу понять? Это же очень трудно, а мне еще только в октябре будет одиннадцать.
Галилей. Вот я как раз хочу, чтобы и ты это понял. Чтобы все понимали. Поэтому я и работаю и покупаю дорогие книги, вместо того чтобы платить молочнику.
Андреа. Но я же сам вижу, что Солнце вечером здесь, а утром там. Как же оно может стоять на месте? Никак не может!
Галилей. Ты видишь? Что ты видишь? Ничего ты не видишь. Ты только глазеешь. А глазеть — не значит видеть. (Ставит железный умывальник посреди комнаты.) Это пусть будет Солнце. Садись.
Андреа садится на стул, Галилей становится за ним.
Где Солнце: справа или слева?
Андреа. Слева.
Галилей. А когда оно будет справа?
Андреа. Когда вы его перенесете направо, конечно же!
Галилей. Нет. Не только так. (Подымает Андреа вместе со стулом и поворачивает его на 180°.) Где теперь Солнце?
Андреа. Справа.
Галилей. А оно двигалось?
Андреа. Нет.
Галилей. А что же двигалось?
Андреа. Я двигался.
Галилей (орет). Чепуха! Дурень! Стул двигался!
Андреа. Но и я вместе со стулом!
Галилей. Разумеется. Стул — это Земля. А ты на ней.
Госпожа Сарти (вошла, чтобы застелить постель, и наблюдала все происходящее). Что это вы делаете с моим парнишкой, господин Галилей?
Галилей. Учу его видеть, дорогая Сарти.
Госпожа Сарти. Тем, что таскаете по комнате?
Андреа. Не мешай, мама, ты этого не понимаешь.
Госпожа Сарти. Вот как? А ты понимаешь, что ли? Тут приходил молодой человек, который хочет учиться. Очень хорошо одет и принес рекомендательное письмо. (Подает письмо.) Вы моего Андреа скоро до того обучите, что он станет говорить, будто дважды два — пять. Он же путает все, что вы ему рассказываете. Вчера вечером он доказывал мне, что Земля вертится вокруг Солнца. Он, видите ли, твердо убежден, что это вычислил какой-то господин по имени Киперникус.
Андреа. А разве Киперникус не высчитал этого, а, господин Галилей? Скажите вы сами.
Госпожа Сарти. Что такое? Так вы и вправду рассказываете ему такую чепуху? Чтобы он болтал об этом в школе, а господа священники приходили ко мне жаловаться, что он плетет греховную ересь. Постыдились бы вы, господин Галилей.
Галилей (ест). На основе наших исследований, госпожа Сарти, и после жестоких споров мы с Андреа сделали открытие, которое больше не можем держать в тайне от мира. Настало новое время, великое время, одно удовольствие жить в такое время.
Госпожа Сарти. Да неужели! Надеюсь, господин Галилей, в это новое время мы сможем заплатить молочнику? (Показывает на письмо.) Очень прошу, сделайте мне хоть раз такую милость, не отказывайте в этот раз. Помните о том, что мы должны молочнику. (Уходит.)
Галилей (смеясь). Дайте мне хоть молоко допить! (Обращаясь к Андрей.) Значит, кое-что мы все-таки вчера поняли?
Андреа. Да я говорил, только чтобы ее удивить. Но это же неправильно. Стул, на котором я сидел, вы только боком повернули (показывает рукой), а не переворачивали. Вот так. Не то я упал бы, и это факт. Почему вы не переворачивали стул? Потому что тогда было бы доказано, что я свалился бы и с Земли тоже, если бы она вертелась. Вот видите как.
Галилей. Но ведь я же тебе доказал…
Андреа. А сегодня ночью я думал и понял, что если бы Земля так вертелась, то я всю ночь висел бы головой вниз. И это факт.
Галилей (берет со стола яблоко). Так вот это Земля.
Андреа. Не берите вы всегда такие примеры, господин Галилей. Так вам всегда удастся.
Галилей (кладет яблоко на место). Хорошо.
Андреа. С примерами всегда можно доказать, если хитер. Но ведь я же не могу таскать на стуле свою мать, как вы меня. Видите, какой это плохой пример. Ну а что, если яблоко — Земля? Это же ничего не значит.
Галилей (смеясь). Да ведь ты же не хочешь знать.
Андреа. Возьмите его опять. Как же это получается, что я ночью не вишу вниз головой?
Галилей. А вот так: вот это Земля, а вот стоишь ты (отламывает от полена щепку и втыкает ее в яблоко), и вот Земля вертится.
Андреа. А я вишу вниз головой.
Галилей. Почему же? Посмотри внимательней! Где голова?
Андреа (показывает на яблоко). Здесь. Внизу.
Галилей. Что? (Поворачивает яблоко в обратную сторону.) Разве она не на том же самом месте? Разве ноги твои по-прежнему не ниже головы? Разве, когда я поворачиваю, ты стоишь так? (Вынимает щепку и переворачивает ее.)
Андреа. Нет. Но почему же я не замечаю, как Земля повернулась?
Галилей. Потому что ты сам вращаешься вместе с ней! И ты, и воздух над тобой, и все, что есть на шаре.
Андрей. А почему же мы видим, что ходит Солнце?
Галилей (снова поворачивая яблоко с щепкой). Под собой ты видишь Землю, она не изменяется, она всегда внизу, и для тебя она не движется. А теперь погляди, что над тобой. Вот сейчас лампа над твоей головой. А сейчас, когда я повернул — что сейчас над твоей головой, что сейчас сверху?
Андреа (поворачивая голову вслед за его движениями). Печка.
Галилей. А где лампа?
Андреа. Внизу.
Галилей. Вот то-то оно и есть…
Андреа. Вот это здорово! Ну теперь уж она удивится.
Входит Людовико Марсили — богатый молодой человек.
Галилей. У нас тут как на проходном дворе.
Людовико. Доброе утро, сударь. Меня зовут Людовико Марсили.
Галилей (читает рекомендательное письмо). Вы бывали в Голландии?
Людовико. Да, и там я много слышал о вас.
Галилей. Ваши родители владеют поместьями в Кампанье?
Людовико. Мамаша хотела, чтобы я малость поглядел на свет. Что где имеется и тому подобное.
Галилей. И вот в Голландии вы услышали, что в Италии, например, имеюсь я.
Людовико. А так как мамаша желает, чтоб я еще и с науками малость познакомился…
Галилей. Частные уроки — десять скуди в месяц.
Людовико. Очень хорошо, сударь.
Галилей. А что вас интересует?
Людовико. Лошади.
Галилей. Ах вот что!
Людовико. У меня, видите ли, господин Галилей, голова не приспособлена к наукам.
Галилей. Ах вот что! Ну если так, вы будете платить пятнадцать скуди в месяц.
Людовико. Очень хорошо, господин Галилей.
Галилей. Мне придется заниматься с вами по утрам. Значит, с тобой уже не выйдет, Андреа. Сам пойми, ведь ты же не платишь.
Андреа. Ладно. Я пойду. Можно мне взять яблоко?
Галилей. Бери.
Андреа уходит.
Людовико. Вам придется запастись терпением, чтоб меня учить. Потому что в науках ведь всегда все не так, как следует по здравому человеческому разумению. Возьмите, например, эту диковинную трубу, которую продают в Амстердаме. Я ее подробно исследовал. Футляр из зеленой кожи и две линзы: одна такая (показывает жестами двоякую выпуклость), а другая — такая (показывает двоякую вогнутость). Мне говорят: одна увеличивает, а другая уменьшает. Каждый разумный человек, конечно, поймет: они друг дружку должны уравнивать. Неверно! Сквозь эту штуку все видно увеличенным в пять раз. Вот вам и ваша наука.
Галилей. Что увеличено в пять раз?
Людовико. Колокольни, голуби, все, что вдали.
Галилей. И вы сами видели увеличенные колокольни?
Людовико. Да, сударь.
Галилей. И в трубе две линзы? (Набрасывает на листе бумаги чертеж.) Так это выглядит?
Людовико кивает.
Как давно изобрели эту штуку?
Людовико. Думаю, что она была не старше нескольких дней, когда я уезжал из Голландии. Во всяком случае, ее как раз только что начали продавать.
Галилей (почти дружелюбно). И зачем вам нужна физика? Почему не коневодство?
Незамеченная Галилеем, входит госпожа Сарти.
Людовико. Мамаша считает, что немного науки необходимо. Нынче, знаете ли, никто и шагу без науки не сделает.
Галилей. Вы с тем же успехом могли бы заняться мертвыми языками или богословием. Это полегче будет. (Замечает госпожу Сарти.) Ладно, приходите во вторник утром.
Людовико уходит.
Не гляди на меня так. Я же взял этот урок.
Госпожа Сарти. Потому что вовремя заметили меня. Там пришел куратор университета.
Галилей. Веди его сюда, веди, он сейчас очень кстати. Может быть, через него я добуду пятьсот скуди, тогда не нужны будут уроки.
Госпожа Сарти уходит и вводит куратора.
(Тем временем, продолжая одеваться, в промежутках делая записи на клочках бумаги.) Доброе утро, одолжите мне полскуди.
Куратор достает из кошелька и протягивает Галилею монету, тот передает ее госпоже Сарти.
Пошлите Андреа к мастеру, что делает очки. Пусть купит две линзы, вот тут записаны размеры.
Госпожа Сарти уходит с запиской.
Куратор. Я пришел по поводу вашего ходатайства о повышении вам жалованья до тысячи скуди. К сожалению, я не могу ходатайствовать об этом перед университетом. Вы ведь знаете, что математические коллегии ничего не приносят университету. Математика — это, так сказать, чистое искусство, не приносящее дохода. Не подумайте, что наша республика ее не ценит. Ценит, и притом даже весьма высоко. Математика не так необходима, как философия, и не так полезна, как богословие, но зато доставляет знатокам безмерное наслаждение.
Галилей (склонившись над бумагами). Я не могу жить на пятьсот скуди, любезнейший.
Куратор. Однако, господин Галилей, ведь вы преподаете всего два раза в неделю по два часа. Ваша исключительная известность несомненно доставит вам сколько угодно учеников, которые могут платить за уроки. Разве у вас нет платных учеников?
Галилей. Сударь, у меня их слишком много! Я учу и учу, а когда же мне самому учиться? Послушайте, вы, человек божий, ведь я не так хитроумен, как господа с философского факультета. Я глуп. Я ничего не понимаю. И поэтому вынужден латать прорехи в своих знаниях. А когда же мне этим заниматься? Когда я могу исследовать? Сударь, моя наука еще очень любознательна! Вместо ответов на самые великие вопросы мы сегодня имеем только гипотезы, но мы требуем доказательств от самих себя. А как же мне продвигаться вперед, если только для того, чтобы поддерживать свое существование, я должен втолковывать каждому болвану, который может заплатить, что параллельные линии пересекаются в бесконечности?
Куратор. Не забывайте, однако, что если наша республика платит меньше, чем некоторые князья, зато она обеспечивает свободу исследований. У нас в Падуе мы допускаем в число слушателей даже протестантов! И удостаиваем их ученой степени доктора. Господина Кремонини мы не выдали инквизиции, хотя нам доказали — доказали, господин Галилей, — что он высказывает безбожные суждения; напротив, мы еще повысили ему жалованье. Даже в Голландии известно, что в Венецианской республике инквизиция не имеет никакого влияния. А это кое-что значит для вас, поскольку вы астроном и, следовательно, подвизаетесь в такой науке, в которой за последнее время учение церкви уже не почитается должным образом!
Галилей. Господина Джордано Бруно вы, однако, выдали Риму. За то, что он распространял учение Коперника.
Куратор. Не за то, что он распространял учение Коперника, которое, впрочем, ложно, а потому, что он не был венецианцем, да и не имел здесь должности. Поэтому вам незачем ссылаться на сожженного. Кстати, при всех наших свободах все же не рекомендуется произносить слишком громко имя того, кто проклят церковью. Даже здесь не следует, да, даже здесь.
Галилей. Ваша защита свободы мысли довольно выгодное дело, не правда ли? Крича о том, что в других краях инквизиция лютует и сжигает, вы зато вербуете по дешевке хороших преподавателей. Защищая их от инквизиции, вы вознаграждаете себя тем, что платите самое низкое жалованье.
Куратор. Несправедливо! Несправедливо! Что толку в том, что вам предоставляют неограниченное время для исследований, если невежественный монах — служитель инквизиции — может просто запретить ваши мысли? Нет роз без шипов, нет князей без монахов, господин Галилей!
Галилей. А какой толк в свободе исследований, если нет свободного времени для того, чтобы исследовать? Может быть, вы покажете господам городским советникам эти исследования о законах падения (показывает на связку рукописей) и спросите, не стоят ли они прибавки в несколько скуди!
Куратор. Они стоят бесконечно больше, господин Галилей.
Галилей. Нет, не бесконечно больше, а всего на пятьсот скуди больше, сударь.
Куратор. Деньгами оценивается лишь то, что приносит деньги. Если вам нужны деньги, вы должны предложить что-нибудь другое. За те знания, что вы продаете, можно требовать лишь столько, сколько они принесут дохода тому, кто их купит. Например, философия, которую господин Коломбо продает во Флоренции, приносит князю по меньшей мере десять тысяч скуди в год. Ваши законы падения возбудили много шума. Вам рукоплещут в Париже и Праге. Но господа, которые рукоплещут, не оплачивают университету того, во что вы ему обходитесь. Вы не ту науку избрали, господин Галилей.
Галилей. Понимаю: свобода торговли, свобода исследований… и свободная торговля свободными исследованиями, не так ли?
Куратор. Однако, господин Галилей, что за странные мысли! Позвольте признаться, я не совсем понимаю ваши насмешливые замечания. Цветущая торговля республики, как мне представляется, никак не дает поводов для презрительных шуток. А будучи в течение многих лет куратором университета, я еще менее склонен говорить в таком, осмелюсь сказать, легкомысленном тоне о научных исследованиях.
Галилей тоскливо поглядывает на свой письменный стол.
Подумайте о том, что происходит вокруг вас. О биче рабства, под которым стонут науки в других краях! Из кожаных переплетов древних фолиантов там нарезаны бичи. Там не нужно знать то, как действительно падает камень, а только то, что написал об этом Аристотель. Там глаза служат только для чтения. К чему новые законы падения, если важны только законы коленопреклонения? И сопоставьте с этим ту бесконечную радость, с которой наша республика воспринимает ваши мысли, как бы смелы они ни были! Здесь вы можете исследовать! Здесь вы можете трудиться! Никто не следит за вами, никто не угнетает вас! Наши купцы хорошо знают, что значит улучшение качества тканей в борьбе против флорентийской конкуренции, и они с интересом слушают ваш призыв «улучшить физику»! И ведь физика в свою очередь многим обязана требованию улучшить ткацкие станки. Самые именитые сограждане интересуются вашими исследованиями и навещают вас, знакомятся с вашими открытиями: люди, чье время очень дорого стоит. Не презирайте торговли, господин Галилей. Здесь никто не потерпел бы, чтобы вашей работе чинились хоть малейшие помехи, чтобы посторонние люди создавали вам трудности. Признайтесь, господин Галилей, здесь вы можете работать!
Галилей (с отчаянием). Да.
Куратор. А что касается материальных дел, то сделали бы вы опять что-нибудь хорошее. Ну вот что-нибудь вроде этого вашего замечательного пропорционального циркуля, посредством которого можно без всяких математических знаний (перечисляет, загибая пальцы) проводить любые линии, вычислять сложные проценты с капитала, воспроизводить планы земельных участков в уменьшенных или увеличенных масштабах и вычислять тяжесть пушечных ядер.
Галилей. Игрушка!
Куратор. Вы называете игрушкой то, что привело в восхищение, что поразило самых влиятельных господ, что принесло вам наличные деньги? Я слыхал, что даже генерал Стефано Гритти может извлекать корни с помощью этого инструмента!
Галилей. Воистину чудо! Впрочем, знаете что, Приули, вы все же побудили меня задуматься. Кажется, я опять изобрету для вас нечто подобное. (Рассматривает листок с наброском.)
Куратор. Неужели? Вот это был бы выход. (Встает.) Господин Галилей, мы знаем, что вы великий человек. Великий, но, осмелюсь сказать, ничем не довольный.
Галилей. Да, я недоволен. Но именно за это недовольство вы и должны были бы мне приплачивать, если бы у вас был здравый смысл! Потому что я недоволен самим собой. Однако вместо этого вы стараетесь, чтобы я был недоволен вами. Признаюсь, господа венецианцы, мне бывает приятно показать вам, чего я стою, работая в вашем знаменитом арсенале, на ваших верфях и в артиллерийских мастерских. Но вы не оставляете мне времени для того, чтобы основательно продумать те плодотворные утверждения, которые именно там выдвигает моя наука. Вы завязываете рот волу молотящему. Мне уже сорок шесть лет, а я ничего не сделал, что могло бы меня удовлетворить.
Куратор. В таком случае не смею вам больше мешать.
Галилей. Благодарю вас.
Куратор уходит. Галилей начинает работать. Через несколько минут вбегает Андреа.
(Продолжая работать.) Почему ты не съел яблоко?
Андреа. А как бы я тогда показал ей, что Земля вертится?
Галилей. Вот что я хочу тебе сказать, Андреа. Не говори ты другим людям о наших мыслях.
Андреа. Почему нельзя говорить?
Галилей. Потому что власти это запрещают.
Андреа. Но ведь это же правда!
Галилей. Но тем не менее власти запрещают. Да притом тут еще кое-что есть. Мы, физики, все еще не можем доказать то, что считаем правильным. Даже учение великого Коперника еще не доказано. Оно пока еще только гипотеза. Давай-ка линзы.
Андреа. Полскуди не хватило. Я должен был оставить там свою куртку. В залог.
Галилей. Что же ты будешь делать зимой без куртки?
Пауза. Галилей располагает линзы на листе с чертежом.
Андреа. А что такое гипотеза?
Галилей. Это если что-нибудь считают вероятным, но не имеют фактов. Вот, например, Феличе там, у лавки корзинщика, держит ребенка. Если сказать, что она кормит его грудью, а не сама берет у него молоко, то это будет гипотезой до тех пор, пока не подойдешь к ней, не увидишь сам и не сможешь доказать, что это так. А перед звездами мы словно мутноглазые черви, видящие лишь очень немногое. Старые учения, которым верили тысячу лет, совсем разваливаются. В этих огромных строениях осталось меньше дерева, чем в тех подпорках, которыми их стараются поддержать. У них много законов, но они мало что объясняют, тогда как в новой гипотезе мало законов, но они объясняют многое.
Андреа. Так ведь вы же мне все доказали.
Галилей. Доказал только то, что это может быть так. Видишь ли ты, эта гипотеза прекрасна, и ничто ей не противоречит.
Андреа. Я тоже хочу стать физиком, господин Галилей.
Галилей. Верю тебе, потому что у нас, физиков, огромное множество еще не решенных вопросов. (Подходит к окну и смотрит через линзы, не проявляя особой заинтересованности.) Погляди-ка сюда, Андреа.
Андреа. Боже мой, как все приблизилось. Колокол на башне теперь совсем близко. Я даже могу прочесть медные буквы: «Грациа деи…» Благодарение богу.
Галилей. Это принесет нам пятьсот скуди.
II
Галилей передает Венецианской республике новое изобретение
Не все то гениально, что гением совершено; Галилей любил вкусную пищу и хорошее вино. Услышав правду, не хмурьте лоб; Слушайте правду про телескоп.Большой арсенал в гавани Венеции. Советники во главе с дожем. В стороне друг Галилея Сагредо и пятнадцатилетняя дочь Галилея Вирджиния, которая держит бархатную подушку с подзорной трубой длиной примерно в шестьдесят сантиметров, в ярко-красном кожаном футляре. На возвышении Галилей, за ним подставка для подзорной трубы, за которой присматривает шлифовальщик линз Федерцони.
Галилей. Ваше превосходительство! Высокая Синьория! Будучи преподавателем математики вашего университета в Падуе, я всегда считал своей задачей не только исполнять мои почетные обязанности преподавателя, но еще и сверх того с помощью полезных изобретений доставлять чрезвычайные преимущества Республике Венеции. С глубокой радостью и всем надлежащим смирением я осмеливаюсь сегодня показать и преподнести вам совершенно новый прибор — мою зрительную трубу, или телескоп, — прибор, который изготовлен здесь, в вашем всемирно прославленном арсенале, на основе самых высоких научных и христианских принципов, являясь плодом семнадцатилетних терпеливых исследований вашего покорного слуги. (Спускается с возвышения и становится рядом с Сагредо.)
Аплодисменты.
(Раскланивается, к Сагредо, тихо.) Пустая трата времени.
Сагредо (тихо). Ты сможешь заплатить мяснику, старик.
Галилей. Да, им это принесет деньги. (Снова раскланивается.)
Куратор (подымается на возвышение). Ваше превосходительство! Высокая Синьория! Снова, в который раз, страница славы в великой книге искусств покрывается венецианскими письменами.
Вежливые аплодисменты.
Куратор. Ученый, пользующийся мировой славой, передает вам исключительное право на изготовление и продажу прибора, который, несомненно, встретит самый высокий спрос.
Аплодисменты усиливаются.
Надеюсь, вы заметили, что с помощью этого прибора во время войны мы сможем распознать число и вооружение вражеских кораблей за целых два часа до того, как они увидят нас. Так что мы сумеем, установив силы противника, заблаговременно решить — преследовать его, нападать или обращаться в бегство.
Бурные аплодисменты.
Итак, ваше высокопревосходительство, высокая Синьория, ныне господин Галилей просит вас принять этот изобретенный им прибор, это свидетельство его дарования, из рук его очаровательной дочери.
Музыка. Вирджиния выступает вперед, кланяется, передает трубу куратору, тот передает ее Федерцони. Федерцони устанавливает трубу на подставке, наводит; дож и советники подымаются на возвышение, смотрят в трубу.
Галилей (тихо, к Сагредо). Не могу тебе обещать, что вытерплю эту комедию. Господа думают, что получают сейчас доходную игрушку, но это кое-что побольше, значительно больше. Этой ночью я ее направил на Луну.
Сагредо. Что же ты увидел?
Советник. Господин Галилей, я вижу укрепления Санта-Розита. Вон там, на лодке, сели обедать. Жареная рыба. Я чувствую аппетит.
Галилей. Пойми, астрономия остановилась на месте тысячу лет тому назад, потому что у нее не было подзорной трубы.
Советник. Господин Галилей!
Сагредо. К тебе обращаются.
Советник. В эту штуку слишком хорошо все видно. Я должен буду сказать моим дамам, что теперь им уже нельзя умываться на крыше.
Галилей. Она не светится, не излучает свет.
Сагредо. Что?
Галилей. Знаешь ли ты, из чего состоит Млечный путь?
Сагредо. Нет.
Галилей. А я знаю.
Советник. За такую штуку можно запросить десять скуди, господин Галилей.
Галилей кланяется.
Вирджиния (подводит Людовико к отцу). Людовико хочет тебя поздравить, отец.
Людовико (смущенно). Поздравляю вас, сударь.
Галилей. Я ее усовершенствовал.
Людовико. Да, сударь. Я видел. Вы сделали футляр красным. В Голландии был зеленый.
Галилей (к Сагредо). Я даже спрашиваю себя, не смогу ли я с помощью этой штуки доказать некое учение.
Сагредо. Возьми себя в руки.
Куратор. Ну теперь вы имеете верных пятьсот скуди прибавки, Галилей.
Галилей (не обращает на него внимания, к Сагредо). Разумеется, я очень недоверчив к себе и остерегаюсь поспешных выводов.
Дож, толстый застенчивый человек, подходит к Галилею и неуклюже пытается заговорить с ним.
Куратор. Господин Галилей, его высокопревосходительство дож.
Дож пожимает руку Галилею.
Галилей. Да, верно, пятьсот скуди. Вы удовлетворены, ваше высокопревосходительство?
Дож. Увы, так уж повелось, что нашей республике нужен какой-нибудь повод для воздействия на отцов города, чтобы хоть что-нибудь перепало ученым.
Куратор. Но, с другой стороны, господин Галилей, ведь нужно иметь стимул.
Дож (улыбаясь). Нам нужен повод.
Дож и куратор подводят Галилея к советникам; они окружают его.
Вирджиния и Людовико медленно уходят.
Вирджиния. Ну как, я все правильно делала?
Людовико. По-моему, правильно.
Вирджиния. О чем ты думаешь?
Людовико. Да нет, ничего! Но зеленый футляр был бы, пожалуй, так же хорош.
Вирджиния. Мне кажется, что все очень довольны отцом.
Людовико. А мне кажется, что я начинаю кое-что понимать в науке.
III
10 января 1610 года. С помощью подзорной трубы Галилей открывает в небесном пространстве явления, которые подтверждают правильность системы Коперника. Друг предостерегает его от опасных последствий этих открытий, но Галилей утверждает, что он верит в человеческий разум
Десятого января тысяча шестьсот десятого года Галилей увидал, что нет небосвода.Рабочая комната Галилея в Падуе. Галилей и Сагредо в теплых плащах у телескопа.
Сагредо (смотрит в телескоп; вполголоса). Край зубчатый и шершавый. В темной части, вблизи светящегося края, светящиеся точки. Они выступают одна за другой. Свет растекается от них на все большие участки, и там он сливается с большой светящейся частью.
Галилей. Как ты объяснишь, что это за точки?
Сагредо. Этого не может быть.
Галилей. И все-таки есть. Это горы.
Сагредо. Горы на звезде?
Галилей. Огромные горы. Их вершины позолотило восходящее солнце, а вокруг на склонах еще ночь. Ты видишь, как свет, начиная с вершин, распространяется по долинам.
Сагредо. Но ведь это противоречит всему, что учит астрономия вот уже две тысячи лет.
Галилей. Именно так. Ты видишь то, чего не видел еще ни один человек, кроме меня. Ты второй.
Сагредо. Но Луна не может быть Землей с горами и долинами. Так же как Земля не может быть звездой.
Галилей. Нет, Луна может быть Землей с горами и долинами, и Земля может быть звездой. Это обычное небесное тело, одно из тысяч. Посмотри-ка еще раз. Кажется ли тебе затемненная часть Луны совсем темной?
Сагредо. Нет, теперь, когда я гляжу внимательно, я вижу там слабое, сероватое освещение.
Галилей. Откуда этот свет?
Сагредо.?
Галилей. Он от Земли.
Сагредо. Но ведь это бессмыслица. Как может светиться Земля с ее морями, лесами и горами, ведь Земля — холодное тело.
Галилей. Так же, как светится Луна. Потому что обе эти звезды освещены Солнцем, поэтому они и светятся. Луна для нас то же, что и мы для нее. И она видит нас то серпом, то полукругом, то полностью диском, то вовсе не видит.
Сагредо. Итак, значит, нет различия между Луной и Землей?
Галилей. Очевидно, нет.
Сагредо. Еще не прошло и десяти лет с тех пор, как в Риме сожгли человека. Его звали Джордано Бруно. Он утверждал то же самое.
Галилей. Конечно. А мы видим это. Продолжай смотреть в трубу, Сагредо. То, что ты видишь, означает, что нет различий между небом и землей. Сегодня десятое января тысяча шестьсот десятого года. Сегодня человечество заносит в летописи: небо отменено.
Сагредо. Это ужасно!
Галилей. Я открыл еще кое-что. И, пожалуй, нечто еще более удивительное.
Госпожа Сарти (входит). Господин куратор.
Куратор вбегает.
Куратор. Простите, что так поздно. Я был бы вам весьма обязан, если бы мог побеседовать с вами наедине.
Галилей. Господин Сагредо может слушать все, что слушаю я, господин Приули.
Куратор. Но, может быть, вам все же будет неприятно, если этот господин услышит, что именно произошло. К сожалению, это нечто совершенно, совершенно невероятное.
Галилей. Видите ли, господин Сагредо привык уже к тому, что там, где я, происходят невероятные вещи.
Куратор. А я боюсь, я боюсь. (Показывая на телескоп.) Вот она, диковинная штука. Можете ее выбросить. Все равно никакого толку от нее нет, абсолютно никакого.
Сагредо (беспокойно расхаживая по комнате). Почему?
Куратор. Знаете ли вы, что это ваше изобретение, которое вы назвали плодом семнадцатилетних изысканий, можно купить на любом перекрестке в Италии за несколько скуди? И притом изготовленное в Голландии. Именно сейчас в гавани выгружают с голландского корабля пятьсот подзорных труб!
Галилей. Да неужели?
Куратор. Я не понимаю вашего спокойствия, сударь.
Сагредо. А что, собственно, вас беспокоит? Вы лучше послушайте, как господин Галилей с помощью этого прибора за последние дни совершил величайшие открытия в мире звезд.
Галилей (смеясь). Можете поглядеть, Приули.
Куратор. Нет, с меня достаточно того открытия, которое сделал я, предоставив за эту чепуху господину Галилею удвоенное жалованье. А господа из Синьории так доверчиво полагали, что этот прибор обеспечит республике большие преимущества, потому что он якобы может быть изготовлен только здесь. Но ведь только по чистой случайности, заглядывая в него, они не заметили на ближайшем перекрестке семикратно увеличенного обыкновенного уличного торговца, который по дешевке продает точь-в-точь такие же трубы.
Галилей громко смеется.
Сагредо. Дорогой господин Приули, может быть, я неправильно сужу о ценности этого прибора в торговле, но его ценность для философии так неизмерима, что…
Куратор. Для философии? Какое отношение имеет господин Галилей к философии? Ведь он же математик. Господин Галилей, в свое время вы изобрели для города очень приличный водяной насос. И ваше оросительное устройство все еще действует. Ткачи хвалят вашу машину. Как мог я ждать, что произойдет такое?
Галилей. Не спешите, Приули. Морские путешествия все еще очень продолжительны, опасны и дорого стоят. Нам не хватает своего рода точных часов на небе. Этакого путеводителя для навигации. Так вот у меня есть все основания считать, что с помощью этой подзорной трубы можно отчетливо наблюдать известные созвездия, которые совершают строго закономерные движения. Новые звездные карты могут сэкономить в мореплавании миллионы скуди, понимаете, Приули?
Куратор. Оставьте! Я уже достаточно вас слушал. В благодарность за мое дружелюбие вы сделали меня посмешищем всего города. Потомство будет помнить обо мне как о кураторе, который попался на ничего не стоящей подзорной трубе. У вас есть все основания смеяться. Вы получили свои пятьсот скуди. Но я могу вам сказать — и говорю это как честный человек, — мне опротивел этот мир. (Уходит, громко хлопнув дверью.)
Галилей. В гневе он даже симпатичен. Ты слышал: ему противен мир, в котором нет выгодных дел. Сагредо. А ты знал об этих голландских приборах?
Галилей. Разумеется, хотя только по слухам. Но для этих простаков в Синьории я создал вдвое лучший прибор. Как мне работать, если судебный исполнитель торчит в доме? И для Вирджинии скоро понадобится приданое. Она ведь не очень умна. К тому же я охотно покупаю книги, и не только по физике, и люблю прилично поесть. Хорошая пища возбуждает самые удачные мысли. Поганое, время! Мне платят меньше, чем возчику, который возит винные бочки. Четыре вязанки дров за две лекции по математике. Теперь я вырвал у них пятьсот скуди, но все еще не выплатил всех долгов, иные уже двадцатилетней давности. Мне бы выкроить пять лет, чтобы исследовать, и я бы доказал все! Постой, я покажу тебе еще кое-что.
Сагредо (не решается подойти к телескопу). Послушай, Галилей, мне страшно.
Галилей. Я покажу тебе сейчас одну из молочно-белых блестящих туманностей Млечного пути. Ты знаешь, из чего она состоит?
Сагредо. Это звезды, бесчисленные звезды.
Галилей. Только в одном созвездии Ориона пятьсот неподвижных звезд. Все это многочисленные миры, и нет числа иным, еще более далеким созвездиям, о которых говорил тот, сожженный. Он их не видел, но он их угадывал!
Сагредо. Но если даже наша Земля действительно только звезда, это все еще не доказывает утверждения Коперника, будто она вращается вокруг Солнца. В небе нет ни одной звезды, которая вращалась бы вокруг другой, а вокруг Земли все же вращается Луна.
Галилей. А я не уверен, Сагредо. С позавчерашнего дня я не уверен. Вот Юпитер. (Направляет телескоп.) Дело в том, что возле него находятся четыре звезды, которые видны только в трубу. Я заметил их в понедельник, но не обратил особенного внимания на их положение. Вчера я поглядел опять. Я готов присягнуть, что их положение изменилось. Тогда я приметил их. Но что это? Ведь было четыре звезды. (Очень взволнован.) Посмотри.
Сагредо. Я вижу только три.
Галилей. Где же четвертая звезда? Вот таблицы. Необходимо вычислить, как именно они могли переместиться.
Оба взволнованы, садятся за работу. На сцене темнеет, однако на круглом экране видны Юпитер и его спутники. Когда становится светло, они все еще сидят, накинув зимние плащи.
Все доказано. Четвертая звезда могла только зайти за Юпитер, и поэтому она не видна. Вот тебе та звезда, вокруг которой кружатся другие звезды.
Сагредо. Но как же тогда кристаллическая сфера, к которой прикреплен Юпитер?
Галилей. Да, где же она, эта сфера? И как может быть прикреплен Юпитер, если вокруг него движутся другие звезды? Нет опоры в небесах, нет опоры во вселенной! Там находится еще одно Солнце!
Сагредо. Успокойся. Ты слишком торопишься с выводами.
Галилей. Как это — торопишься? Да взволнуйся же ты, человече. Ведь то, что ты видишь, еще не видал никто. Они были правы!
Сагредо. Кто? Последователи Коперника?
Галилей. И тот, сожженный! Весь мир был против них, но они были правы. Это нужно показать Андреа. (Вне себя бежит к двери и кричит.) Сарти, Сарти!
Сагредо. Галилей, ты должен успокоиться.
Галилей. Сагредо, ты должен взволноваться!
Сагредо (поворачивая телескоп). Ну чего ты орешь как сумасшедший?
Галилей. А ты? Чего ты стоишь как пень, когда открыта истина?
Сагредо. Я вовсе не стою как пень, я дрожу от страха, что это может оказаться истиной.
Галилей. Что ты говоришь?
Сагредо. Ты что же, совсем обезумел? Неужели ты не можешь понять, в какое дело ввязываешься, если все, что ты увидел, окажется правдой? И если ты будешь на всех рынках кричать о том, что наша Земля не центр вселенной, а простая звезда?
Галилей. Да-да, и что вся огромная вселенная со всеми ее созвездиями вовсе не вертится вокруг нашей крохотной Земли, как это воображали раньше.
Сагредо. Значит, есть только созвездия? А где же тогда бог?
Галилей. Что ты имеешь в виду?
Сагредо. Бога! Где бог?
Галилей (гневно). Там его нет! Так же как его нет и здесь, на Земле, если там имеются существа, которые хотели бы его разыскивать у нас.
Сагредо. Так где же все-таки бог?
Галилей. Разве я богослов? Я математик.
Сагредо. Прежде всего ты человек. И я спрашиваю тебя, где же бог в твоей системе мироздания?
Галилей. В нас самих либо нигде.
Сагредо (кричит). Ведь так же говорил сожженный!
Галилей. Так же говорил сожженный.
Сагредо. За это он и был сожжен! Еще не прошло и десяти лет!
Галилей. Потому что он ничего не мог доказать. Потому что он только утверждал.
Сагредо. Галилей, я всегда считал тебя умным человеком. Семнадцать лет в Падуе и три года в Пизе ты терпеливо излагал сотням студентов систему Птолемея, которая соответствует писанию и утверждена церковью, основанной на писании. Ты считал ее неправильной, так же как Коперник, но ты излагал ее ученикам.
Галилей. Потому что я ничего не мог доказать.
Сагредо (недоверчиво). И ты считаешь, что теперь что-то изменилось?
Галилей. Все изменилось! Послушай, Сагредо! Я верю в человека и, следовательно, верю в его разум! Без этой веры у меня не было бы сил утром встать с постели.
Сагредо. Ну а теперь послушай, что я тебе скажу. Я не верю в это. Сорок лет, проведенные среди людей, научили меня; люди недоступны доводам разума. Покажи им красный хвост кометы, внуши им слепой ужас — и они побегут из домов, ломая себе ноги. Но сообщи им разумную истину, снова и снова докажи ее, и они попросту высмеют тебя.
Галилей. Это совершеннейшая неправда, это клевета. Не понимаю, как ты можешь любить науку, если думаешь так. Только мертвецов нельзя убедить доказательствами!
Сагредо. Как ты можешь смешивать их жалкую хитрость с разумом!
Галилей. Я не говорю о хитрости. Я знаю, что они называют осла конем, когда продают его, а коня — ослом, когда покупают. В этом их хитрость. Но старуха, которая, готовясь в путь, накануне жесткой рукой подкладывает мулу лишнюю вязанку сена, корабельщик, который, закупая припасы, думает о бурях и штилях, ребенок, который натягивает шапку, когда ему докажут, что возможен дождь, — на них на всех действуют доказательства. И на «их на всех я надеюсь. Да, я верю в кроткую власть разума, управляющего людьми. Они не могут подолгу противостоять этой власти. Ни один человек не может долго наблюдать (поднимает руку и роняет на пол камень), как я роняю камень и при этом говорю: он не падает. На это не способен ни один человек. Соблазн, который исходит от доказательства, слишком велик. Ему поддается большинство, а со временем поддадутся все. Мыслить — это одно из величайших наслаждений человеческого рода.
Госпожа Сарти (входя). Вы меня звали, господин Галилей?
Галилей (опять подошел к телескопу, что-то записывает, очень приветливо). Да, мне нужен Андреа.
Госпожа Сарти. Андреа? Он в постели, он спит.
Галилей. Не могли бы вы его разбудить?
Госпожа Сарти. А зачем это он вам нужен?
Галилей. Я хочу показать ему кое-что, что его порадует. Он должен увидеть то, что, кроме нас, еще никто не видел с тех пор, как существует Земля.
Госпожа Сарти. Значит, опять глазеть в вашу трубу?
Галилей. Да, в мою трубу, Сарти.
Госпожа Сарти. И ради этого я должна его будить среди ночи? Да вы в своем уме? Ему нужно спать по ночам. И не подумаю его будить.
Галилей. Ни в коем случае?
Госпожа Сарти. Ни в коем случае.
Галилей. Тогда, Сарти, может быть, вы мне поможете? Видите ли, возник вопрос, о котором мы никак не можем договориться, — вероятно, потому что прочитали слишком много книг. А речь идет о небе, о созвездиях. Спрашивается, как предполагать, что вокруг чего вращается: большое вокруг малого или малое вокруг большого?
Госпожа Сарти (недоверчиво). Вас нелегко понять, господин Галилей. Вы серьезно спрашиваете или опять собираетесь дурачить меня?
Галилей. Это серьезный вопрос.
Госпожа Сарти. Тогда я могу вам быстро ответить. Кто подает обед: я вам или вы мне?
Галилей. Вы подаете мне. Вчера он был пригоревшим.
Госпожа Сарти. А почему он был пригоревшим? Потому что я должна была принести вам башмаки как раз тогда, когда все поспевало. Ведь я приносила вам башмаки?
Галилей. По-видимому.
Госпожа Сарти. А все потому, что вы ученый и вы мне платите.
Галилей. Понятно, понятно. Это нетрудно понять. Спокойной ночи, Сарти.
Госпожа Сарти уходит смеясь.
И такие люди не поймут истины? Да они схватятся за нее.
Зазвонил колокол к утренней мессе. Входит Вирджиния в плаще, с фонарем.
Вирджиния. Доброе утро, отец!
Галилей. Почему ты так рано встала?
Вирджиния. Мы пойдем с госпожой Сарти к утренней мессе. Людовико тоже придет туда. Как прошла ночь, отец?
Галилей. Ночь была светлой.
Вирджиния. Можно, я погляжу?
Галилей. Зачем?
Вирджиния не знает, что ответить.
Это не игрушка.
Вирджиния. Нет, отец.
Галилей. А к тому же эта труба — сплошное разочарование, и ты вскоре услышишь об этом повсюду. Ее продают на улице за три скуди, и ее еще раньше изобрели в Голландии.
Вирджиния. А ты ничего не увидел нового на небе через эту трубу?
Галилей. Ничего такого, что б тебе понравилось. Только несколько маленьких тусклых пятнышек слева от большой звезды. Придется как-то обратить на них внимание. (Обращаясь к Сагредо, а не к дочери.) Пожалуй, назову их звездами Медичи в честь великого герцога Флоренции{165}. (Опять обращается к дочери.) Вот что будет тебе занятно, Вирджиния: возможно, мы переедем во Флоренцию. Я написал туда, не захочет ли великий герцог использовать меня как придворного математика.
Вирджиния (сияет). При дворе?
Сагредо. Галилей!
Галилей. Дорогой мой, мне необходимо время для исследований. Мне необходимы доказательства. И мне нужны горшки с мясом. А в такой должности мне уже не придется на частных уроках втолковывать систему Птолемея. Нет, у меня будет достаточно времени — время, время, время, чтобы разрабатывать мои доказательства, потому что всего, что у меня есть сейчас, еще мало. Это еще ничто, жалкие крохи! С этим я еще не могу выступать перед всем миром. Еще нет ни единого доказательства того, что хотя бы одно небесное тело вращается вокруг Солнца. Но я найду доказательства, убедительные для всех, начиная от Сарти и кончая самим папой. У меня теперь одна лишь забота — чтобы меня приняли ко двору.
Вирджиния. Конечно же, тебя примут, отец, с этими новыми звездами и со всем прочим.
Галилей. Ступай в церковь.
Вирджиния уходит.
Сагредо (читает вслух конец письма, которое ему протянул Галилей). «Ни к чему я не стремлюсь так сильно, как к тому, чтобы быть ближе к вам, восходящему солнцу, которое озарит нашу эпоху». Великому герцогу Флоренции сейчас девять лет от роду.
Галилей. Правильно! Ты находишь мое письмо слишком раболепным? А я все сомневаюсь, достаточно ли оно раболепно, не слишком ли официально; не покажется ли, что я недостаточно унижаюсь? Сдержанное письмо мог бы написать тот, кто имеет заслуги в доказывании правоты Аристотеля, но не я. А такой человек, как я, может добраться до более или менее достойного положения только ползком, на брюхе. Ты ведь знаешь, я презираю людей, чьи мозги неспособны наполнить им желудки.
Госпожа Сарти и Вирджиния идут в церковь, проходят мимо Галилея и Сагредо.
Сагредо. Не надо уезжать во Флоренцию, Галилей.
Галилей. Почему не надо?
Сагредо. Потому что там хозяйничают монахи.
Галилей. При флорентийском дворе есть именитые ученые.
Сагредо. Лизоблюды!
Галилей. Я возьму их за загривки и поволоку к трубе. Ведь и монахи люди, Сагредо. И они подвластны соблазну доказательств. Не забывай, что Коперник требовал, чтобы они верили его вычислениям, а я требую только, чтобы они верили своим глазам. Если истина слишком слаба, чтобы обороняться, она должна переходить в наступление. Я возьму их за загривки и заставлю смотреть в эту трубу.
Сагредо. Галилей, ты вступаешь на ужасный путь. Злосчастен тот день, когда человек открывает истину, он ослеплен в тот миг, когда уверует в разум человеческого рода. О ком говорят, что он идет с открытыми глазами? О том, кто идет на гибель. Как могут власть имущие оставлять на свободе владеющего истиной, хотя бы это была истина только о самых отдаленных созвездиях? Неужели ты думаешь, что папа будет слушать тебя и признавать, что ты прав, когда ты скажешь ему, что он заблуждается и сам этого не знает. Неужели ты думаешь, что он просто запишет в свой дневник: десятого января тысяча шестьсот десятого года отменено небо? Неужели ты захочешь покинуть республику с истиной в кармане и с твоей трубой в руке, направляясь прямо в капканы князей и монахов? Ты так недоверчив в своей науке и так по-детски легковерен ко всему, что якобы может облегчить твои научные занятия. Ты не веришь Аристотелю, но веришь великому герцогу Флоренции. Только что я смотрел на тебя, ты стоял у своей трубы и наблюдал эти новые звезды, и мне почудилось, что я вижу тебя на костре, и, когда ты сказал, что веришь в силу доказательства, я почувствовал запах горелого мяса. Я люблю науку, но еще больше люблю тебя, мой друг. Не уезжай во Флоренцию, Галилей! Галилей. Если они меня примут, я поеду.
На занавесе появляется последняя страница письма:
«Нарицая новые звезды, открытые мною, величавым именем рода Медичи, я сознаю, что если прежде возвышение в звездный мир служило прославлению богов и героев, то в настоящем случае, наоборот, величавое имя Медичи обеспечит бессмертную память об этих звездах. Я же осмеливаюсь напомнить Вам о себе как об одном из числа Ваших самых верных и преданных слуг, который считает для себя величайшей честью то, что он родился Вашим подданным. Ни к чему я не стремлюсь так сильно, как к тому, чтобы быть ближе к Вам, восходящему солнцу, которое озарит нашу эпоху.
Галилео Галилей».
IV
Галилей сменил Венецианскую республику на флорентийский дворец. Открытия, сделанные с помощью телескопа, наталкиваются на недоверие придворных ученых
Старье говорит: я есмь и буду, Каким было веков испокон. Новое говорит: но если ты худо, Изволь убираться вон.Дом Галилея во Флоренции. Госпожа Сарти в кабинете Галилея готовит прием гостей. Тут же сидит ее сын Андреа, разбирая и складывая астрономические карты.
Госпожа Сарти. С тех пор как мы благополучно оказались в этой хваленой Флоренции, только и дела что спину гнуть в поклонах. Весь город проходит у этой трубы, а мне потом пол вытирать. И все равно ничего не поможет. Если бы там что-нибудь было, в этих открытиях, так уж духовные господа знали бы это раньше. Четыре года я прослужила у монсиньора Филиппо и никогда не могла стереть всей пыли в его библиотеке. Кожаные книжищи до самого потолка, и не стишки какие-нибудь! А у бедняги монсиньора у самого было фунта два мозолей на заду от постоянного сидения над науками. И чтоб уж такой человек не знал что к чему. И сегодняшний большой осмотр, конечно, будет конфузом, так что я завтра опять не посмею глянуть в глаза молочнику. Я-то уж знала, что говорю, когда советовала ему сперва покормить господ хорошим ужином, дать им по доброму куску тушеной баранины, прежде чем они подойдут к его трубе. Так нет же. (Передразнивая Галилея.) «У меня для них приготовлено кое-что другое».
Внизу стучат.
(Смотрит в зеркальце за окном, так называемый «шпион».) Боже мой, ведь это уже великий герцог. А Галилей еще в университете.
Бежит вниз и впускает великого герцога Флоренции Козимо Медичи, маршала двора и двух придворных дам.
Козимо. Я хочу увидеть трубу.
Маршал двора. Может быть, ваше высочество соблаговолят подождать, пока придут господин Галилей и другие господа из университета. (Оборачиваясь к госпоже Сарти.) Господин Галилей хотел, чтобы астрономы проверили открытые им звезды, названные им звездами Медичи.
Козимо. Но они ведь вовсе не верят в трубу. Где она?
Госпожа Сарти. Там, наверху, в рабочей комнате.
Мальчик кивает, показывая на лестницу, и после ответного кивка госпожи Сарти взбегает наверх.
Маршал двора (дряхлый старик). Ваше высочество! (Госпоже Сарти.) Нужно обязательно туда подыматься? Я ведь пришел только потому, что заболел воспитатель.
Госпожа Сарти. С молодым господином ничего не приключится. Там наверху мой сын.
Козимо (наверху, входя). Добрый вечер.
Мальчики церемонно раскланиваются. Пауза. Затем Андреа вновь возвращается к своей работе.
Андреа (тоном своего учителя). Здесь у нас прямо как в проходном дворе.
Козимо. Много посетителей?
Андреа. Ходят, толкутся, глазеют и не понимают ни шиша.
Козимо. Понятно. Это она? (Показывает на трубу.)
Андреа. Да, это она. Но только здесь руки прочь!
Козимо. А это что такое? (Показывает на деревянную модель системы Птолемея.)
Андреа. Это птолемеевская.
Козимо. Тут показано, как вертится Солнце?
Андреа. Да, так говорят.
Козимо (садится, кладет модель на колени). Мой учитель простудился, потому я смог уйти пораньше. Здесь хорошо.
Андреа (беспокоен, ходит взад-вперед, волоча ноги, недоверчиво оглядывая чужака, наконец, не в силах удержаться от соблазна, достает из-за карт вторую деревянную модель — модель системы Коперника). Но в действительности-то, конечно, все выглядит так.
Козимо. Что значит — так?
Андреа (показывая на модель, которую держит Козимо). Думают, что устроено все так, а по-настоящему (показывая на свою модель) оно так. Земля вертится вокруг Солнца. Понимаете?
Козимо. Ты вправду так думаешь?
Андреа. Еще бы! Это доказано.
Козимо. Правда?.. Хотел бы я знать, почему они меня вообще не пускают к старику. Вчера он еще был за ужином.
Андреа. Вы, кажется, не верите, а?
Козимо. Напротив, конечно, верю.
Андреа (внезапно показывая на модель, которую держит Козимо). Отдай-ка. Ты ведь даже этого не понимаешь.
Козимо. Зачем тебе сразу две?
Андреа. Отдавай! Это не игрушка для мальчишек.
Козимо. Я готов тебе отдать, но ты должен быть повежливее, вот что.
Андреа. Ты дурак! «Повежливее»! Еще чего, ишь ты. Давай живо, не то влетит.
Козимо. Руки прочь, слышишь!
Они начинают драться, схватываются, катаются по полу.
Андреа. Я тебе покажу, как обращаться с моделью. Сдавайся!
Козимо. Вот теперь она сломалась. Ты вывернешь мне руку.
Андреа. А вот мы увидим, кто прав, кто неправ. Говори, что она вертится, а не то нащелкаю по лбу.
Козимо. Никогда! Ах ты, рыжий! Вот я тебя научу вежливости.
Андреа. Кто рыжий? Я рыжий?
Они молча продолжают драться. Внизу входят Галилей и несколько профессоров университета; за ними Федерцони.
Маршал двора. Господа! Легкое недомогание воспрепятствовало воспитателю его высочества господину Сури сопровождать его высочество.
Теолог. Надеюсь, ничего опасного?
Маршал двора. Нисколько.
Галилей (разочарованно). Значит, его высочества не будет?
Маршал двора. Его высочество наверху. Прошу господ не медлить. Двор так жаждет поскорее узнать мнение просвещенного университета о необычайном приборе господина Галилея и чудесных новых созвездиях.
Они подымаются наверх. Мальчики, лежа на полу, притихли. Они услыхали движение внизу.
Козимо. Они уже здесь. Пусти меня.
Профессора (поднимаясь по лестнице). Нет-нет, все в полном порядке.
— Медицинский факультет считает, что эти заболевания в старом городе нельзя считать чумой. Это исключено. Миазмы должны замерзать при такой температуре, как сейчас.
— Самое худшее в таких случаях паника.
— Не что иное, как обычные для этого времени года простуды.
— Всякое подозрение исключено.
— Все в полном порядке. (Приветствует герцога.)
Галилей. Ваше высочество, я счастлив, что мне позволено в вашем присутствии познакомить этих господ с некоторыми новинками.
Козимо церемонно раскланивается со всеми, в том числе и с Андреа.
Теолог (увидев на полу сломанную модель системы Птолемея). Здесь, кажется, что-то сломалось.
Козимо быстро наклоняется и вежливо передает модель Андреа. Тем временем Галилей незаметно убирает вторую модель.
Галилей (стоя у телескопа). Как вашему высочеству несомненно известно, мы, астрономы, за последнее время столкнулись с большими трудностями в наших расчетах. Мы используем для них очень старую систему, которая хотя и соответствует философским воззрениям, но, к сожалению, видимо, не соответствует фактам. Согласно этой старой системе — системе Птолемея предполагается, что движения звезд очень сложны. Так, например, планета Венера движется якобы так. (Рисует на доске эпициклический путь Венеры в соответствии с гипотезой Птолемея.) Однако, принимая за действительность такие затруднительные движения, мы оказываемся не в состоянии рассчитать заранее положение небесных тел. Мы их не находим там, где им следовало бы быть по нашим вычислениям. А к тому же еще имеются и такие движения звезд и планет, которые вообще невозможно объяснить по системе Птолемея. Именно такие движения осуществляют вокруг планеты Юпитер те новые маленькие звезды, которые я обнаружил. Угодно ли будет господам начать с наблюдений над спутниками Юпитера — звездами Медичи?
Андреа (указывая на табурет перед телескопом). Пожалуйста, садитесь вот сюда.
Философ. Благодарю, дитя мое! Я опасаюсь, однако, что все это не так просто. Господин Галилей, прежде чем мы используем вашу знаменитую трубу, мы просили бы вас доставить нам удовольствие провести диспут. Тема: могут ли существовать такие планеты?
Математик. Вот именно, диспут по всей форме.
Галилей. Я полагаю, вы просто поглядите в трубу и убедитесь.
Андрея. Садитесь, пожалуйста, сюда.
Математик. Разумеется, разумеется. Вам, конечно, известно, что, согласно воззрениям древних, невозможно существование таких звезд, кои кружились бы вокруг какого-либо иного центра, кроме Земли, и так же невозможны звезды, кои не имели бы на небе твердой опоры?
Галилей. Да.
Философ. Независимо от вопроса о возможности существования таких звезд, которую господин математик (кланяется математику), видимо, полагает сомнительной, я хотел бы со всею скромностью задать другой вопрос в качестве философа: нужны ли такие звезды? Aristotelis divini universum… [5].
Галилей. Не лучше ли нам продолжать на обиходном языке? Мой коллега, господин Федерцони, не знает латыни.
Философ. Так ли это важно, чтобы он понимал нас?
Галилей. Да.
Философ. Простите, но я полагал — он у вас шлифует линзы.
Андреа. Господин Федерцони шлифовальщик линз и ученый.
Философ. Благодарю, дитя мое. Если господин Федерцони настаивает на этом…
Галилей. Я настаиваю на этом.
Философ. Что ж, аргументация утратит блеск, но мы у вас в доме… Итак, картина вселенной, начертанная божественным Аристотелем, с ее мистически-музыкальными сферами и кристаллическими сводами, с круговращениями небесных тел и косоугольным склонением солнечного пути, с тайнами таблиц спутников и богатством звездного каталога южного полушария, с ее пронизанным светом строением небесного шара — является зданием, наделенным такой стройностью и красотой, что мы не должны были бы дерзать нарушить эту гармонию.
Галилей. А что, если ваше высочество увидели бы через эту трубу все эти столь же невозможные, сколь ненужные звезды?
Математик. Тогда возник бы соблазн возразить, что ваша труба, ежели она показывает то, чего не может быть, является не очень надежной трубой.
Галилей. Что вы хотите сказать?
Математик. Было бы более целесообразно, господин Галилей, если бы вы привели нам те основания, которые побуждают вас допустить, что в наивысшей сфере неизменного неба могут обретаться созвездия, движущиеся в свободном взвешенном состоянии.
Философ. Основания, господин Галилей, основания!
Галилей. Основания? Но ведь один взгляд на сами звезды и на заметки о моих наблюдениях показывает, что это именно так. Сударь, диспут — становится беспредметным.
Математик. Если бы не опасаться, что вы еще больше взволнуетесь, можно было бы сказать, что не все, что видно в вашей трубе, действительно существует в небесах. Это могут быть и совершенно различные явления.
Философ. Более вежливо выразить это невозможно.
Федерцони. Вы думаете, что мы нарисовали звезды Медичи на линзе?
Галилей. Вы обвиняете меня в обмане?
Философ. Что вы! Да как же мы дерзнули бы? В присутствии его высочества!
Математик. Ваш прибор, как бы его ни назвать — вашим детищем или вашим питомцем, — этот прибор сделан, конечно, очень ловко.
Философ. Мы совершенно убеждены, господин Галилей, что ни вы и никто иной не осмелился бы назвать светлейшим именем властительного дома такие звезды, чье существование не было бы выше всяких сомнений.
Все низко кланяются великому герцогу.
Козимо (оглядываясь на придворных дам). Что-нибудь не в порядке с моими звездами?
Пожилая придворная дама(великому герцогу). Со звездами вашего высочества все в порядке. Господа только сомневаются в том, действительно ли они существуют.
Пауза.
Молодая придворная дама. А говорят, что через этот прибор можно увидеть даже, какая шерсть у Большой Медведицы.
Федерцони. Да, а также пенки на Млечном пути.
Галилей. Что же, господа поглядят все-таки или нет?
Философ. Конечно, конечно.
Математик. Конечно.
Пауза. Внезапно Андреа поворачивается и, напряженно выпрямившись, идет через всю комнату. Его мать перехватывает его.
Госпожа Сарти. Что с тобой?
Андреа. Они дураки! (Вырывается и убегает.)
Философ. Дитя, достойное сожаления.
Маршал двора. Ваше высочество, господа, осмелюсь напомнить, что через три четверти часа начинается придворный бал.
Математик. К чему нам разыгрывать комедию? Рано или поздно, но господину Галилею придется примириться с фактами. Его спутники Юпитера должны были бы пробить твердь сферы. Ведь это же очень просто.
Федерцони. Вам покажется это удивительным, но никаких сфер не существует.
Философ. В любом учебнике вы можете прочесть, милейший, что они существуют.
Федерцони. Значит, нужны новые учебники.
Философ. Ваше высочество, мой уважаемый коллега и я опираемся на авторитет не кого-либо, а самого божественного Аристотеля.
Галилей (почти заискивающе). Господа, вера в авторитет Аристотеля это одно дело, а факты, которые можно осязать собственными руками, это другое дело. Вы говорите, что, согласно Аристотелю, там, наверху, имеются кристаллические сферы и что движения такого рода невозможны, потому что могли бы их пробить. Но что, если вы сами убедитесь, что это движение происходит? Может быть, это докажет вам, что вообще нет кристаллических сфер. Господа, со всем смирением прошу вас: доверьтесь собственным глазам.
Математик. Любезный Галилей, время от времени я читаю Аристотеля, хоть вам это, вероятно, кажется старомодным, и можете не сомневаться, что при этом я доверяю своим глазам.
Галилей. Я привык уже к тому, что господа всех факультетов перед лицом фактов закрывают глаза и делают вид, что ничего не случилось. Я показываю свои заметки, и вы ухмыляетесь, я предоставляю в ваше распоряжение подзорную трубу, чтобы вы сами убедились, а мне приводят цитаты из Аристотеля. Ведь у него же не было подзорной трубы!
Математик. Да, уж конечно, не было.
Философ (величественно). Если здесь будут втаптывать в грязь Аристотеля, чей авторитет признавала не только вся наука древности, но и великие отцы церкви, то я, во всяком случае, полагаю излишним продолжать диспут. Бесцельный спор я отвергаю. Довольно.
Галилей. Истина — дитя времени, а не авторитета. Наше невежество бесконечно. Уменьшим его хоть на крошку! К чему еще теперь стараться быть умниками, когда мы наконец можем стать немного менее глупыми? Мне досталось несказанное счастье заполучить в руки новый прибор, с помощью которого можно немного ближе, очень немного, но все же ближе увидеть кусочек вселенной. Используйте же его.
Философ. Ваше высочество, дамы и господа, я могу только вопрошать себя, к чему все это поведет?
Галилей. Полагал бы, что мы, ученые, не должны спрашивать, куда может повести истина.
Философ (яростно). Господин Галилей, истина может завести куда угодно!
Галилей. Ваше высочество! В эти ночи по всей Италии подзорные трубы направляются на небо. Спутники Юпитера не понижают цены на молоко. Но их никто никогда не видел, и все же они существуют. Из этого простые люди делают свои выводы: значит, еще многое можно обнаружить, если только пошире открыть глаза! Они ждут от вас подтверждения истины! Вся Италия насторожилась сейчас. Но ее тревожат не пути далеких звезд, а весть о том, что начали колебаться учения, которые считались незыблемыми, — ведь каждый знает, что их существует слишком уж много. Право же, господа, не будем защищать поколебленные учения!
Федерцони. Вы, как учителя, должны были бы сами их потрясать.
Философ. Я желал бы, чтобы ваш мастер не вторгался со своими советами в научный диспут.
Галилей. Ваше высочество! Работая в большом арсенале Венеции, я ежедневно сталкивался с чертежниками, строителями, инструментальщиками. Эти люди указали мне немало новых путей. Не обладая книжными знаниями, эти люди доверяют свидетельствам своих пяти чувств. Чаще всего не страшась того, куда они их поведут.
Философ. Ого!
Галилей. Это очень похоже на мореплавателей, которые сто лет тому назад покинули наши берега, не зная, к каким новым берегам доплывут и доплывут ли вообще. Видимо, сегодня ту высокую любознательность, которая создала подлинную славу Древней Греции, можно обнаружить на корабельных верфях.
Философ. После всего, что мы здесь услышали, я более не сомневаюсь, что господин Галилей найдет поклонников на корабельных верфях.
Маршал двора. Ваше высочество, к величайшему огорчению, я вынужден заметить, что это чрезвычайно поучительное собеседование несколько затянулось. Его высочество еще должен немного отдохнуть перед придворным балом.
По его знаку великий герцог кланяется Галилею. Придворные торопятся уйти.
Госпожа Сарти (становится перед великим герцогом, заграждая ему путь, и предлагает блюдо с печеньем). Пожалуйста, кренделек, ваше высочество!
Пожилая придворная дама уводит великого герцога.
Галилей (бежит следом). Но, право же, вам достаточно было только поглядеть в прибор!
Маршал двора. Его высочество не преминет запросить по поводу ваших утверждений мнение величайшего из ныне живущих астрономов господина патера Кристофера Клавиуса — главного астронома папской коллегии в Риме.
V
Не устрашенный даже чумой, Галилей продолжает свои исследования
А
Раннее утро. Галилей у телескопа просматривает записи. Входит Вирджиния с дорожной сумкой.
Галилей. Вирджиния! Что-нибудь случилось?
Вирджиния. Монастырь закрыли, нам пришлось немедленно уехать. В Арчетри пять случаев чумы.
Галилей (кричит). Сарти!
Вирджиния. Рыночную улицу здесь перегородили уже с ночи. В старом городе, говорят, двое умерли, а трое умирают в больнице.
Галилей. Опять они все скрывали до самой последней минуты.
Госпожа Сарти (входит). Что ты здесь делаешь?
Вирджиния. Чума.
Госпожа Сарти. Боже мой! Я сейчас же уложу вещи. (Садится.)
Галилей. Не укладывайте ничего. Возьмите Вирджинию и Андреа. Я только захвачу мои записи. (Поспешно бежит к своему столу и торопливо собирает в кучу бумаги.)
Вбегает Андреа. Госпожа Сарти накидывает на него плащ, собирает немного постельного белья и еды. Входит лакей великого герцога.
Лакей. Его высочество ввиду свирепствующей болезни покинул город, отправившись в Болонью. Однако он настоял на том, чтобы господину Галилею также была предложена возможность отбыть в безопасное место. Карета будет через две минуты у ваших дверей.
Госпожа Сарти (Вирджинии и Андреа). Выходите и садитесь в карету. Вот возьмите это с собой.
Андреа. Но почему же? Если ты не скажешь почему, я не пойду.
Госпожа Сарти. Чума пришла, мой мальчик.
Вирджиния. Мы подождем отца.
Госпожа Сарти. Господин Галилей, вы готовы?
Галилей (заворачивая телескоп в скатерть). Усадите Вирджинию и Андреа в карету. Я сейчас приду.
Вирджиния. Нет, мы не пойдем без тебя. Ты никогда не кончишь, если начнешь еще укладывать свои книги.
Госпожа Сарти. Карета подъехала.
Галилей. Будь благоразумна, Вирджиния. Если вы не сядете в карету, кучер уедет. А с чумой шутки плохи.
Вирджиния (вырываясь от госпожи Сарти, которая уводит ее и Андреа). Помогите ему с книгами, а то он не придет.
Госпожа Сарти (кричит снизу). Господин Галилей! Карета уезжает. Кучер не хочет ждать.
Галилей (на лестнице). Сарти, я думаю, что мне уезжать не следует. Тут все в таком беспорядке. Видите ли, трехмесячные записи можно просто выбросить, если я не продолжу их еще одну-две ночи. А чума теперь везде.
Госпожа Сарти. Господин Галилей! Немедленно спускайся. Ты с ума сошел!
Галилей. Увезите Вирджинию и Андреа. Я догоню вас.
Госпожа Сарти. Но уже через час никого отсюда не выпустят. Ты обязан ехать! (Прислушивается.) Карета уезжает. Я должна ее задержать. (Уходит.)
Галилей ходит по комнате взад и вперед. Госпожа Сарти возвращается очень бледная, без узла.
Галилей. Ну чего вы стоите? Ведь карета может уехать! Там дети!
Госпожа Сарти. Они уже уехали. Вирджинию пришлось удержать силой. О детях позаботятся в Болонье. А кто вам будет подавать обед?
Галилей. Ты сумасшедшая. Оставаться в городе ради стряпни. (Берет свои записи.) Не думайте, что я безумец, Сарти. Я не могу оставить на произвол судьбы эти наблюдения. У меня сильные враги, и я должен собрать доказательства для некоторых утверждений.
Госпожа Сарти. Вам незачем оправдываться. Но это все-таки неразумно.
Б
Перед домом Галилея во Флоренции. Выходит Галилей, глядит вдоль улицы. Проходят две монахини.
Галилей. Не скажете ли вы мне, сестры, где можно купить молока? Сегодня утром молочница не приходила, а моя экономка ушла.
Первая монахиня. Лавки открыты еще только в нижней части города.
Вторая монахиня. Вы вышли из этого дома?
Галилей кивает.
Это та самая улица.
Монахини крестятся, бормочут молитву и убегают. Проходит мужчина.
Галилей (обращаясь к нему). Не вы ли пекарь, который приносит нам хлеб?
Мужчина кивает.
Не видали ли вы моей экономки? Она ушла, должно быть, вчера вечером. Сегодня утром ее уже не было дома.
Мужчина качает головой. В доме напротив раскрывается окно, выглядывает женщина.
Женщина (кричит). Бегите! У них там чума!
Мужчина испуганно убегает.
Галилей. Вы знаете что-нибудь о моей экономке?
Женщина. Ваша экономка свалилась на улице.
Она, наверно, знала уже, что больна. Потому и ушла. Такая бессовестность! (Захлопывает окно.)
На улице появляются дети; увидев Галилея, с криком убегают. Галилей поворачивается. Вбегают два солдата в железных панцирях.
Первый солдат. Сейчас же войди в дом!
Своими длинными копьями они вталкивают Галилея в дом. Запирают снаружи ворота.
Галилей (у окна). Можете вы сказать мне, что случилось с этой женщиной?
Солдаты. Таких стаскивают на свалку.
Женщина (снова появляется в окне). Там вся улица теперь зачумлена. Почему вы ее не заграждаете?
Солдаты протягивают веревку поперек улицы.
Но зачем же здесь? Так и к нам в дом никто не войдет! У нас же все здоровы. Стойте, стойте! Да послушайте же! Ведь мой муж в городе, он теперь не сможет попасть к нам. Звери вы! Звери!
Слышны ее рыдания и крики. Солдаты уходят. У другого окна появляется старуха.
Галилей. Вон там, кажется, пожар.
Старуха. А теперь не тушат, если есть подозрение, что в доме чума. Каждый думает только о чуме.
Галилей. Как это похоже на них! В этом вся их система управления. Они отрубают нас, как больную ветку смоковницы, которая больше не может плодоносить.
Старуха. Напрасно вы так говорите. Они просто беспомощны.
Галилей. Вы одна в доме?
Старуха. Да. Мой сын прислал мне записку. Он, слава богу, еще вчера вечером узнал о том, что рядом с нами кто-то умер, и потому уже не вернулся домой. За эту ночь в нашем квартале заболело одиннадцать человек.
Галилей. Я не могу себе простить, что вовремя не отправил мою экономку. У меня-то срочная работа, но ей незачем было оставаться.
Старуха. Но ведь мы и не можем уйти отсюда. Кто нас примет? Вам нечего винить себя. Я видела ее. Она ушла сегодня утром, около семи часов. Она была больна, потому что, увидев меня, когда я выходила из двери забрать хлеб, далеко обошла меня. Она, должно быть, не хотела, чтобы ваш дом отгородили. Но они все равно все узнают.
Слышен шум и треск.
Галилей. Что это такое?
Старуха. Это они шумят, чтобы прогнать тучи, в которых сидят зародыши чумы.
Галилей громко смеется.
Вы еще можете смеяться!
Мужчина спускается по улице, видит, что она перегорожена веревкой.
Галилей. Эй! Здесь перегородили и заперли, а в доме нечего есть.
Мужчина убегает.
Но не дадите же вы людям умереть с голоду… Эй! Эй!
Старуха. Может быть, они принесут что-нибудь. Если нет, то я вам поставлю кувшин молока у дверей, если вы не боитесь, но только ночью.
Галилей. Эй! Эй! Должны же нас услышать!
Внезапно у веревки появляется Андреа. У него заплаканное лицо.
Андреа! Как ты попал сюда?
Андреа. Я был здесь уже утром, стучал, но вы не открыли. Люди мне сказали, что…
Галилей. Разве ты не уехал?
Андреа. Да, уехал, но по дороге мне удалось выскочить. Вирджинию повезли дальше. Можно мне войти?
Старуха. Нет, нельзя. Ты должен пойти в монастырь Урсулинок. Может быть, твоя мать там.
Андреа. Я был там. Но меня к ней не пустили. Она очень больна.
Галилей. Ты шел издалека? Ведь уже три дня, как ты уехал…
Андреа. Да, пришлось так долго идти. Не сердитесь. Они меня поймали один раз.
Галилей (беспомощно). Ну теперь не плачь. Видишь ли, я за это время кое-что опять нашел. Хочешь, я тебе расскажу?
Андреа кивает всхлипывая.
Только слушай внимательно, а то не поймешь. Помнишь, я показывал тебе планету Венера? Не слушай ты этот шум, это ничего не значит. Так ты помнишь? И знаешь, что я увидел? Она совсем такая же, как Луна. Я наблюдал ее в виде половины диска и в виде серпа. Что скажешь на это? Я смогу показать тебе это с помощью шара и свечи. Это доказывает, что и у этой планеты нет собственного свечения. И она вертится вокруг Солнца просто по кругу, разве это не удивительно?
Андреа (плача). Конечно, и это факт!
Галилей (тихо). Я не удерживал ее.
Андреа молчит.
Но, конечно, если бы я не остался, этого не произошло бы.
Андреа. А теперь они должны вам поверить?
Галилей. Теперь я собрал все доказательства. Знаешь, когда здесь все кончится, я поеду в Рим и покажу им.
По улице спускаются двое мужчин, их лица закутаны. Они несут длинные шесты и бадейки. С помощью шеста они передают хлеб в окна старухи и Галилея.
Старуха. Там, в доме напротив, женщина с тремя детьми. Положите и ей.
Галилей. Но мне пить нечего. В доме нет воды.
Мужчины пожимают плечами.
Вы завтра опять придете?
Первый (приглушенным голосом, так как нижняя часть лица повязана платком). А кто знает сегодня, что будет завтра?
Галилей. Не смогли бы вы, когда придете, передать мне таким же образом одну книжку, которая нужна мне для работы?
Второй (глухо смеется). Нашел время для книжек. Радуйся, что хлеб получаешь.
Галилей. Но вот этот мальчик, мой ученик, передаст вам ее для меня. Это книга с картами и расчетами времени, за которое проходит свою орбиту Меркурий. Андреа, я свою куда-то засунул. Не достанешь ли ты мне такую же в школе?
Мужчины уходят.
Андреа. Непременно. Я принесу ее, господин Галилей. (Уходит.)
Галилей отходит от окна. Из дома напротив выходит старуха и ставит кувшин у дверей Галилея.
VI
1616 год. «Коллегиум Романум» — исследовательский институт Ватикана подтверждает открытие Галилея
Не часто услышишь о диве таком, Чтоб учитель назвался учеником. Великий Клавиус — божий раб — Признал, что Галилей был прав.{166}Зал «Коллегиума» в Риме. Группами расположились высокие духовные сановники, монахи, ученые. В стороне одинокий Галилей. Царит величайшая непринужденность. Еще до начала действия слышен мощный хохот.
Толстый прелат (держась за живот от смеха). О глупость! О глупость! Хотел бы я, чтобы мне назвали хоть одно утверждение, которому бы не поверили!
Ученый. Например, что вы, монсиньор, испытываете непреодолимое отвращение к еде.
Прелат. Поверят! Поверят! Не верят только разумному. Сомневаются в том, что существует дьявол. Но вот в то, что Земля вертится, как щепка в сточной канаве, в это верят. Святая простота!
Монах (кривляясь). У меня кружится голова. Земля вертится слишком быстро. Позвольте мне опереться на вас, профессор. (Делает вид, что шатается, и хватается за одного из ученых.)
Первый ученый (подражая ему). Да, она сегодня опять совершенно пьяна, старуха Земля. (Хватается за другого ученого.)
Монах. Держитесь, держитесь! Мы скатываемся. Держитесь же!
Второй ученый. Венера совсем скособочилась. Я вижу только половину ее задницы. Караул!
Все сбиваются в кучу, хохоча; ведут себя так, словно они на палубе корабля и пытаются удержаться, чтоб их не стряхнуло.
Второй монах. Только бы нас не бросило на Луну! Братья, ведь там горы с отвратительно острыми вершинами!
Первый ученый. А ты отталкивайся от них ногой.
Первый монах. Не смотрите вниз! Я страдаю головокружением. Меня мутит.
Прелат (нарочно громко, в сторону Галилея). Мутит? Не может быть! Кто осмелится мутить воду в «Коллегиуме Романум»?!
Взрыв хохота. Из двери в глубине сцены выходят два астронома «Коллегиума». Наступает тишина.
Первый монах. Неужели вы все еще исследуете? Ведь это же скандал!
Первый астроном (гневно). Мы-то ничего не исследуем.
Второй астроном. К чему все это приведет? Не понимаю Клавиуса! Что было бы, если бы стали принимать за чистую монету все, что утверждалось в течение последних пятидесяти лет! В тысяча пятьсот семьдесят втором году в наивысшей восьмой сфере — сфере неподвижных звезд — загорелась новая звезда, более яркая и крупная, чем все соседние с ней звезды. Но не прошло и полутора лет, как она вновь исчезла, канула в небытие. Так что ж, теперь нам следует спрашивать, как обстоит дело с вечностью и неизменностью неба?
Философ. Если им позволить, они разрушат все наше звездное небо.
Первый астроном. До чего мы дойдем? Пять лет спустя датчанин Тихо Браге определил путь кометы. Этот путь начинался над Луной и пробивал одну за другой все сферические опоры — материальные носители подвижных небесных тел! Комета не встречала никакого сопротивления, не испытывала никаких отклонений света. Что ж, значит, мы должны были бы спросить: где сферы?
Философ. Это исключено! И как только может сам Кристофер Клавиус, величайший астроном Италии и церкви, вообще даже рассматривать нечто подобное?
Прелат. Позор!
Первый астроном. И тем не менее он исследует! Он сидит там и глазеет в эту дьявольскую трубу!
Второй астроном. Principiis obsta! [6] Все началось с того, что мы уже давно стали вычислять долготу солнечного года, дни солнечных и лунных затмений и положение небесных тел по таблицам этого Коперника, а он — еретик.
Первый монах. А я спрашиваю, что лучше? Увидеть лунное затмение на три дня позже, чем предсказано в календаре, или навеки погубить душу?
Очень тощий монах (выходит на авансцену, держа в руках раскрытую Библию, фанатически тычет пальцем в страницу). Что сказано здесь, в писании? «Стой, солнце, над Гаваоном и луна — над долиною Ахалонскою». Как же может Солнце остановиться, если оно вообще не движется, как утверждают эти еретики? Разве писание лжет?
Второй астроном. Есть явления, которые нам, астрономам, трудно объяснить, но разве человек должен все понимать?
Оба астронома уходят.
Очень тощий монах. Родину человечества они приравнивают к блуждающей звезде. Людей, животных, растения, целые страны они погружают на тачку, которую гоняют по кругу в пустых небесах. Для них больше нет ни Земли, ни неба. Нет Земли потому, что она только небесное тело, и нет неба потому, что оно состоит из многих земель. И, значит, нет уже различия между верхом и низом, между вечным и бренным. Что мы бренны, мы это знаем. Но они говорят нам теперь, что и небо тоже бренно. Сказано было и записано так: есть Солнце, есть Луна, есть звезды, а мы живем на Земле. А теперь, по-ихнему, и Земля — это звезда. Нет ничего, кроме звезд! Мы еще доживем до того, что они скажут: мет различия между человеком и животным, человек тоже только животное; нет ничего, кроме животных!
Первый ученый (Галилею). Вы что-то бросили на пол, господин Галилей.
Галилей (все это время играл камнем, который достал из кармана, и наконец уронил его на пол. Наклоняется, чтобы поднять его). На потолок, монсиньор, я бросил его на потолок.
Толстый прелат (оборачиваясь). Какое бесстыдство!
Входит очень старый кардинал, опираясь на монаха. Перед ним почтительно расступаются.
Кардинал. Они все еще там? Неужели они действительно не могут побыстрее управиться с такой мелочью? Клавиус-то должен ведь разбираться в своей астрономии! Я слышал, что этот господин Галилей перемещает человечество из центра вселенной куда-то на край. Следовательно, он, совершенно очевидно, враг человеческого рода. И как с таковым с ним и следует поступать. Человек — венец творения; это известно каждому ребенку. Человек самое совершенное и самое любимое творение господа. Разве стал бы господь помещать такое дивное творение, плод таких чудотворных усилий на какую-то мелкую, побочную и все время куда-то убегающую звездочку? Стал бы он посылать своего, сына куда попало! И как могут быть люди настолько развращены, чтобы верить этим жалким рабам своих расчетных таблиц? Какое божье творение допустит это?
Прелат (вполголоса). Этот господин здесь присутствует.
Кардинал (Галилею). Вот как, значит, это вы? Я уже не слишком хорошо вижу, но все же я замечаю, что вы очень похожи на того человека — как там его звали? — которого мы в свое время сожгли.
Монах. Вашему преосвященству не следует волноваться. Врач…
Кардинал (отталкивает его, Галилею). Вы пытаетесь унизить Землю, хотя вы на ней живете и все от нее получаете. Вы гадите в свое гнездо. Но уж я ни в коем случае не допущу этого. (Отталкивает монаха и начинает гордо расхаживать взад и вперед.) Я не какое-то существо на какой-то звездочке, которая короткое время где-то там вертится. Я ступаю по твердой земле, я шагаю уверенно, Земля неподвижна, она — средоточие вселенной, я нахожусь в этом средоточии, и взор творца почиет на мне, и только на мне. Вокруг меня вращаются закрепленные на кристаллических сферах неподвижные звезды и могучее Солнце, созданное для того, чтобы освещать все, что есть в моем мире. А также и меня, чтобы господь меня видел. И так явственно и неопровержимо все сосредоточено вокруг меня, вокруг человека, ибо человек это плод господнего усилия, творение, обретающееся в центре мироздания, образ и подобие божье, непреходящее и… (Шатается, теряет сознание.)
В это мгновение растворяется дверь в глубине сцены; во главе группы астрономов выходит великий Клавиус. Он проходит быстро и молча, не оглядываясь по сторонам, через зал и уже у выхода говорит, обращаясь к одному из монахов.
Клавиус. Все правильно! (Уходит, сопровождаемый астрономами.)
Дверь в глубине сцены остается открытой. Мертвая тишина. Старик кардинал приходит в себя.
Кардинал. Что такое? Решение уже вынесено?
Никто не осмеливается сказать ему.
Монах. Вашему преосвященству нужно проследовать домой.
Старику помогают выйти. Все в смятении покидают зал. Маленький монах из комиссии Клавиуса останавливается возле Галилея.
Маленький монах (шепотом). Господин Галилей, патер Клавиус, перед тем как уйти, сказал: пусть теперь теологи позаботятся о том, чтобы снова вправить небесные круги. Итак, победа ваша. (Идет к выходу.)
Галилей (пытаясь задержать его). Моя? Нет! Это победа разума!
Маленький монах уходят, Галилей тоже направляется к выходу. Из дверей ему навстречу выходит высокий монах — кардинал-инквизитор. Его сопровождает один из астрономов. Галилей кланяется и, прежде чем выйти, шепотом спрашивает что-то у одного из привратников.
Привратник (отвечает шепотом). Его преосвященство кардинал-инквизитор.
Астроном провожает кардинала-инквизитора к телескопу.
VII
Но инквизиция налагает запрет на учение Коперника (5 марта 1616 года)
Когда Галилей приехал в Рим, Кардинальский дворец распахнулся пред ним, Ему сласти несли, подливали вино И просили исполнить желание одно.Дом кардинала Беллармина в Риме. Бал в разгаре. В вестибюле два монаха-писца сидят за шахматами и ведут записи о гостях.
Входят Галилей, его дочь Вирджиния, ее жених Людовико Марсили; их встречает рукоплесканиями небольшая группа мужчин и дам в масках.
Вирджиния. Я буду танцевать только с тобой, Людовико.
Людовико. У тебя пряжка на плече расстегнулась.
Галилей.
Сместившийся слегка платок нагрудный Не поправляй так тщательно, Таисия! Иной беспорядок случайный позволит Скрытые прелести вдруг подглядеть. Так в людном, огнями сияющем зале Можно мечтать о таинственном парке, Где темная тень ожиданий полна.Вирджиния. Послушай мое сердце.
Галилей (кладет ей руку на сердце). Бьется.
Вирджиния. Я хочу быть красивой.
Галилей. Да-да, будь красива. Не то они опять усомнятся, что она вертится.
Людовико. Да она же вовсе не вертится.
Галилей смеется.
Весь Рим говорит только о вас. Но с сегодняшнего вечера, сударь, будут говорить о вашей дочери.
Галилей. Говорят, что нетрудно быть красивым в Риме весной. Тут даже и я могу уподобиться располневшему Адонису. (Писцам.) Я должен здесь подождать господина кардинала. (Дочери и Людовико.) Идите веселитесь.
Вирджиния (не успев еще войти в бальный зал, возвращается, подбегает к отцу). Отец, парикмахер на Виа дель Трионфо принял меня вне очереди, заставил четырех дам ожидать. Ему известно твое имя. (Уходит.)
Галилей (писцам). А почему вы играете в шахматы еще по-старому? Тесно! Тесно! Теперь везде играют так, что большие фигуры могут проходить по всей доске. Ладья так (показывает), слон так, а ферзь и так и эдак. Теперь есть простор и можно строить планы.
Первый писец. Это, знаете ли, не соответствует нашему малому жалованью. Мы можем ходить только так! (Делает короткий ход.)
Галилей. Напротив, милейший, напротив. Кто живет на широкую ногу, тому и обувь дают пошире. Нельзя отставать от времени. Не все же плавать только вдоль берегов. Когда-нибудь надо и в открытое море выйти.
По сцене проходит очень старый кардинал в сопровождении монаха. Он замечает Галилея, но проходит мимо него, потом нерешительно поворачивается и кланяется. Галилей садится. Из бального зала слышен хор мальчиков, поющих начало известного стихотворения Лоренцо Медичи о бренности жизни:
«Зрел я умиравшие розы на кустах, Лепестки завядшие опадали в прах, Созерцая это, понял я с тех пор, Сколь бесплодно тщетен юности задор».Да, Рим… Большое нынче празднество, не правда ли?
Первый писец. Первый карнавал после чумы. Здесь представлены сегодня все лучшие семьи Италии: Орсини, Виллани, Нукколи, Сольданьери, Кане, Лекки, Эстензи, Коломбини…
Второй писец (прерывает). Их преосвященства кардиналы Беллармин и Барберини.
Входят кардинал Беллармин в маске ягненка и кардинал Барберини в маске голубя. Маски они держат на палочках перед собой.
Барберини (вытянув указательный палец к лицу Галилея). «Восходит солнце, и заходит солнце и спешит к месту своему». Так говорит Соломон, а что говорит Галилей?
Галилей. Когда я был вот таким (показывает рукой) малышом, ваше преосвященство, я однажды стоял на палубе корабля и кричал: берег уходит! Теперь я знаю: берег был неподвижен, а уходил корабль.
Барберини. Хитро, хитро. Тому, что ты видишь, Беллармин, а именно тому, что вращается звездное небо, не нужно верить, — вспомним о корабле и береге. А верить нужно тому, чего нельзя видеть, тому, что вертится Земля. Хитро. Однако его луны Юпитера — это твердые орешки для наших астрономов. Да, Беллармин, к сожалению, и я тоже когда-то занимался немного астрономией. Это прилипчиво, как чесотка.
Беллармин. Будем идти в ногу со временем, Барберини. Если звездные карты, основанные на некоей новой гипотезе, облегчают нашим мореплавателям их странствия, пусть они пользуются этими картами. Нам только не нравятся те учения, которые опровергают священное писание. (Приветливо машет кому-то в бальном зале.)
Галилей. Писание гласит: «Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ». Притчи Соломоновы.
Барберини. «Мудрый таит свое знание». Притчи Соломоновы.
Галилей. «Где есть волы, там и стойла грязны. Но много прибыли. — от силы вола».
Барберини. «Кто держит в узде свой разум, лучше того, кто завоевал город».
Галилей. «У кого сломлен дух, у того иссохнет плоть».
(Пауза.)
«Разве не громко вопиет истина?»
Барберини. «Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих?» Добро пожаловать в Рим, друг Галилей. А вы знаете, как возник Рим? Предание гласит, что двух крошек-мальчиков приютила волчица и вскормила их своим молоком. С той поры все дети должны за свое молоко платить волчице. Но зато волчица заботится о всяческих утехах — земных и небесных, начиная от бесед с моим ученым другом Беллармином и кончая тремя или четырьмя дамами, которые имеют международную известность. Позвольте, я покажу их вам.
Барберини ведет Галилея к бальному залу, тот упирается.
Не хотите? Он упрям и хочет вести серьезную беседу. Ладно! А не кажется ли вам, друг мой Галилей, что вы, астрономы, просто хотите сделать свою науку более удобной? (Ведет Галилея опять на авансцену.) Вы мыслите кругами или эллипсами, мыслите в понятиях равномерных скоростей и простых движений, которые под силу вашим мозгам. А что, если бы господь повелел своим небесным телам двигаться так? (Описывает пальцем в воздухе сложную кривую с переменной скоростью.) Что было бы тогда со всеми вашими вычислениями?
Галилей. Ваше преосвященство, если бы господь так сконструировал мир (повторяет движение Барберини), то он сконструировал бы и наши мозги тоже так (повторяет то же движение), чтобы именно эти пути познавались как простейшие. Я верю в разум.
Барберини. А я считаю разум несостоятельным. (Указывая на Галилея.) Он молчит. Он слишком вежлив, чтобы сказать, что считает несостоятельным мой разум. (Смеется, возвращается к балюстраде.)
Беллармин. Друг мой, разум ограничен; мы видим вокруг только ложь, преступления и слабость. Где же истина?
Галилей (гневно). Я верю в разум.
Барберини (писцам). Не записывайте ничего, это научное собеседование друзей.
Беллармин. Подумайте на мгновение о том, сколько стоило труда и напряжения мысли отцам церкви и многим после них, чтобы внести хоть немного смысла в этот мир; а разве он не отвратителен? Подумайте о жестокости тех помещиков Кампаньи, в чьих имениях хлещут бичами полуголых крестьян, подумайте и о глупости этих несчастных, целующих ноги своим насильникам,
Галилей. Это позор! На пути сюда я видел…
Беллармин. Ответственность за все явления, которые мы не можем понять, — ведь жизнь состоит из них, — мы переложили на некое высшее существо. Мы говорим, что все это имеет определенную цель, что все это происходит согласно великому плану. Нельзя сказать, что так обеспечивается полное умиротворение, но вот теперь вы обвиняете верховное существо в том, что оно даже не понимает толком, как движутся небесные тела, и только вы это поняли. Разве это разумно?
Галилей (готовится дать объяснение). Я верующий сын церкви…
Барберини. Нет, это просто ужасно! Он хочет нам с самым простодушным видом доказать, что бог наделал грубейших ошибок в астрономии. Что ж, по-вашему, господь недостаточно внимательно изучал астрономию перед тем, как создал священное писание? Дорогой друг…
Беллармин. А вам не кажется более вероятным, что создатель все же лучше разбирается в созданном, чем одно из его созданий?
Галилей. Однако, господа, в конце концов, человек может ошибиться не только в суждениях о движении звезд, но и в толковании Библии.
Беллармин. О том, как понимать Библию, предоставим уж судить теологам святой церкви, не правда ли?
Галилей молчит.
Вот видите, теперь вы молчите. (Делает знак писцам.) Господин Галилей, святейший совет постановил сегодня ночью, что учение Коперника о том, что Солнце неподвижно и служит центром вселенной, а Земля не центр вселенной и движется, является безумным, нелепым и еретическим. Мне поручено призвать вас отказаться от этих взглядов. (Первому писцу.) Повторите.
Писец. Его преосвященство, кардинал Беллармин, обращается к упомянутому Галилео Галилею: святейший совет постановил сегодня ночью, что учение Коперника о том, что Солнце неподвижно и служит центром вселенной, а Земля не центр вселенной и движется, является безумным, нелепым и еретическим. Мне поручено призвать вас отказаться от этих взглядов.
Галилей. Что это значит?
Из зала доносится новая строфа песни, исполняемой хором мальчиков.
«Пока не кончилась весна, Сорвите розу, вот она!»Барберини жестом просит Галилея молчать, пока звучит пение. Они прислушиваются.
Но как же тогда факты? Я понял так, что астрономы римской коллегии признали правильными те записи, которые я представил…
Беллармин. Да, и с выражением глубочайшего удовлетворения, в самой почетной для вас форме…
Галилей. Но спутники Юпитера, но фазы Венеры…
Беллармин. Святая конгрегация приняла свое решение, не учитывая эти подробности.
Галилей. Значит, всякие дальнейшие научные исследования…
Беллармин. …полностью обеспечены, господин Галилей. В соответствии с учением церкви, которое гласит, что мы не можем познать, но вправе исследовать. (Опять приветствует кого-то в зале.) Вам предоставляется право использовать и это учение как математическую гипотезу. Наука является законной и весьма любимой дочерью церкви, господин Галилей. Никто из нас не считает всерьез, что вы намерены подорвать доверие к церкви.
Галилей (гневно). Доверие иссякает, когда им слишком злоупотребляют.
Барберини. Вот как? (Громко смеясь, хлопает Галилея по плечу, потом пристально смотрит на него и говорит почти дружелюбно.) Не выплескивайте вместе с водой из ванны младенца, друг мой Галилей. Ведь и мы этого не делаем. Вы нужны нам больше, чем мы вам.
Беллармин (берет под руку Галилея). Мне не терпится представить величайшего математика Италии комиссару святейшего совета, он чрезвычайно высоко ценит вас.
Барберини (подхватывая вторую руку Галилея). После чего он снова превратится в агнца. И вам было бы лучше прийти сюда ряженым, переодетым в почтенного доктора схоластики, дорогой друг. Мне, например, моя сегодняшняя маска позволяет некоторую свободу. В таком виде я могу даже бормотать: если бы не было бога, то следовало бы его выдумать. Итак, наденем опять наши маски. А вот у бедного Галилея вовсе нет маски.
Кардинал Беллармин и кардинал Барберини уводят Галилея, взяв его под руки.
Первый писец. Ты записал последнюю фразу?
Второй писец. Еще пишу.
Оба усердно пишут.
У тебя записано, как он сказал, что верит в разум?
Входит кардинал-инквизитор.
Кардинал-инквизитор. Беседа состоялась?
Первый писец (автоматически). Сперва пришел господин Галилей со своей дочерью. Она сегодня обручилась с господином…
Кардинал-инквизитор жестом прерывает его.
Господин Галилей потом объяснял нам новый вид шахматной игры, по которому, вопреки всем правилам, можно передвигать фигуры через всю доску.
Кардинал-инквизитор(опять прерывает его жестом). Протокол!
Первый писец передает ему листы. Кардинал-инквизитор садится и просматривает их. Через сцену проходят две молодые дамы в масках, они приседают перед кардиналом-инквизитором.
Первая дама. Кто это?
Вторая дама. Кардинал-инквизитор.
Обе, хихикая, уходят. Входит Вирджиния, оглядывается, разыскивает кого-то.
Кардинал-инквизитор(из своего угла). Итак, дочь моя?
Вирджиния (вздрагивает, так как не сразу увидела его). О, ваше преосвященство!
Кардинал-инквизитор, не вставая, протягивает ей правую руку; она подходит, становится на колени и целует его перстень.
Кардинал-инквизитор. Великолепнейший вечер. Позвольте мне поздравить вас с обручением. Ваш жених из знатной семьи. Вы останетесь у нас в Риме?
Вирджиния. Пока еще нет, ваше преосвященство. Нужно так много приготовить к свадьбе.
Кардинал-инквизитор. Значит, вы последуете за отцом во Флоренцию. Рад этому. Могу себе представить, как вы нужны отцу. Жить в доме с одной лишь математикой неуютно, не правда ли? А существо из плоти и крови в таком доме значит очень много. Ведь так легко затеряться великому человеку в столь обширных звездных мирах.
Вирджиния (взволнованно). Вы так добры, ваше преосвященство. Право же, я почти ничего не понимаю во всем этом.
Кардинал-инквизитор. Неужто? (Смеется). В доме рыбака не едят рыбы, не так ли? Это, вероятно, очень позабавит вашего батюшку, дитя мое, когда он узнает, что все, что вам известно о звездных мирах, вы услыхали от меня. (Перелистывает протокол.) Я прочел здесь, что наши обновители, главой которых, как признано всеми, является ваш отец — великий человек, один из величайших, — считают современные понятия о значении нашей милой Земли несколько преувеличенными. Со времен Птолемея, великого мудреца древности, и до сегодняшнего дня считалось, что вся вселенная, весь кристаллический шар, в середине которого покоится Земля, имеет поперечник примерно в двадцать тысяч раз больше поперечника Земли. Это очень большая величина, но, оказывается, она слишком мала, совсем-совсем мала для обновителей. Если им поверить, то все это пространство невообразимо расширяется, и расстояние от Земли до Солнца, которое всегда казалось нам очень значительным, теперь окажется столь ничтожно малым в сравнении с тем расстоянием, которое отделяет нашу бедную Землю от неподвижных звезд, закрепленных на самой внешней кристаллической сфере, что его даже не стоит принимать в расчет при вычислениях. Ну кто после этого еще осмелится говорить, что наши обновители не живут на широкую ногу.
Вирджиния смеется; кардинал-инквизитор смеется тоже.
Действительно, некоторых господ из святейшего совета недавно чуть не оскорбила такая картина вселенной, по сравнению с которой та, что существует сейчас, оказывается очень маленькой картиной. Настолько маленькой, что ее можно было бы повесить на очаровательную шейку некоей юной девицы. Эти господа опасаются, что в столь чудовищно огромных пространствах может легко затеряться любой прелат и даже кардинал. Всемогущий бог мог бы не заметить даже самого папу. Да, это забавно, но я рад, что вы, милое дитя, и в дальнейшем будете находиться при вашем великом отце, которого мы все так бесконечно ценим. Я пытаюсь вспомнить, не знаю ли я вашего исповедника…
Вирджиния. Отец Христофор из монастыря святой Урсулы.
Кардинал-инквизитор. Да-да, я рад, что вы будете сопровождать вашего отца. Вы будете нужны ему. Вы, наверно, даже не можете себе представить, насколько нужны. Но это будет так. Вы молоды, вы полны жизни, вся из плоти и крови. А величие не всегда легко вынести тем, кого господь наделил величием, не всегда. Никто из смертных не велик настолько, чтобы его нельзя было помянуть в молитве. Однако я вас задерживаю, милое дитя, и могу возбудить ревность вашего жениха, а может быть, и вашего отца тем, что рассказал вам кое-что о звездах, что к тому же, быть может, устарело. Идите скорее танцевать и не забудьте передать от меня привет отцу Христофору.
Вирджиния низко кланяется и быстро уходит.
VIII
Разговор
Запретил ту науку святейший престол, Но монах молодой к Галилею пришел, Хоть был он крестьянина бедного сын, Хотел всю науку познать до глубин, Хотел познать, хотел познать.Дворец флорентийского посла в Риме. Галилей беседует с маленьким монахом, тем самым, который после заседания «Коллегиума» шепотом сообщил ему мнение папского астронома.
Галилей. Говорите, говорите! Одежда, которую вы носите, дает вам право говорить все что хотите.
Маленький монах. Я изучал математику, господин Галилей,
Галилей. Это имело бы смысл, если бы побудило вас признать, что время от времени дважды два бывает равно четырем.
Маленький монах. Господин Галилей, уже три ночи я не могу заснуть. Я не знал, как примирить этот декрет, который я прочел, со спутниками Юпитера, которые я наблюдал. Но сегодня я решил отслужить утреннюю мессу и пойти к вам.
Галилей. Чтобы сообщить мне, что спутников Юпитера не существует.
Маленький монах. Нет. Мне удалось постичь мудрость декрета. Он открыл мне опасности, которые таятся для человечества в слишком безудержном исследовании, и я решил отказаться от занятий астрономией. И, кроме того, я считаю очень важным изложить вам те соображения, которые могут побудить и астронома отказаться от дальнейшей разработки известного учения.
Галилей. Смею сказать, что мне эти соображения известны.
Маленький монах. Я понимаю горечь ваших слов. Вы думаете о тех чрезвычайных средствах поддержания власти, которыми располагает церковь.
Галилей. Скажите прямо — орудия пытки.
Маленький монах. Но я хочу говорить о другом. Позвольте мне рассказать о себе. Я из крестьянской семьи, вырос в Кампанье. Мои родные — простые люди. Они знают все о масличном дереве, но, кроме этого, почти ничего не знают. Наблюдая фазы Венеры, я думал о своих родителях. Вместе с моей сестрой они сидят у очага, едят створоженное молоко. Над ними перекладины потолка, почерневшие от дыма нескольких столетий, в их старых натруженных руках маленькие ложки. Им живется плохо, но даже в несчастьях для них скрыт определенный порядок. Это порядок неизменных круговоротов во всем: и в том, когда подметают пол в доме, и в смене времен года в масличных садах, и в уплате налогов. Все беды, которые обрушиваются на них, тоже как-то закономерны. Спина моего отца все больше сгибается, но не сразу, а постепенно, с каждой новой весной, после новой работы в поле. И так же чередовались роды, которые сделали мою мать почти бесполым существом, — они следовали с определенными промежутками. Все свои силы — силы, необходимые для того, чтобы, обливаясь потом, таскать корзины по каменистым тропам, рожать детей и даже просто есть, они черпали из ощущения постоянства и необходимости. Из того ощущения, которое возбуждали в них уже сама земля, и деревья, ежегодно зеленеющие вновь, и маленькая церковка, и воскресные чтения Библии. Их уверили в том, что на них обращен взор божества — пытливый и заботливый взор, — что весь мир вокруг создан как театр для того, чтобы они — действующие лица — могли достойно сыграть свои большие и малые роли. Что сказали бы они, если б узнали от меня, что живут на крохотном каменном комочке, который непрерывно вращается в пустом пространстве и движется вокруг другой звезды, и что сам по себе этот комочек лишь одна из многих звезд, и к тому же довольно незначительная. К чему после этого терпение, покорность в нужде? На что пригодно священное писание, которое все объяснило и обосновало необходимость пота, терпения, голода, покорности, а теперь вдруг оказалось полным ошибок? И вот я вижу, как в их взглядах мелькает испуг, они опускают ложки на плиту очага; я вижу, что они чувствуют себя преданными, обманутыми. Значит, ничей взор не обращен на нас, говорят они. Значит, мы сами должны заботиться о себе, мы, невежественные, старые, истощенные. Значит, никто не придумал для нас иной роли, кроме этой земной, жалкой, на этой вот ничтожной звездочке, к тому же совершенно несамостоятельной, вокруг которой ничто не вращается? Нет никакого смысла в нашей нужде; голодать — это значит просто не есть, — это не испытание сил; трудиться — это значит просто гнуть спину и таскать тяжести, в этом нет подвига. Понимаете ли вы теперь, почему я в декрете святой конгрегации обнаружил благородное материнское сострадание, великую душевную доброту?
Галилей. Душевную доброту! Вероятно, вы рассуждаете так: ничего нет, вино выпито, их губы пересохли, пусть же они целуют сутану! А почему нет ничего? Почему порядок в нашей стране — это порядок пустых закромов? Почему необходимость у нас — это необходимость работать до изнеможения? Среди цветущих виноградников, у нолей колосящейся пшеницы! Ваши крестьяне в Кампанье оплачивают войны, которые ведет наместник милосердного Христа в Испании и в Германии. Зачем он помещает Землю в центре мироздания? Да затем, чтобы престол святого Петра{167} мог стоять в центре Земли! В этом-то и все дело! Вы правы, речь идет не о планетах, а о крестьянах Кампаньи. И не говорите мне о красоте явлений, позлащенных древностью. Знаете ли вы, как создается жемчуг в раковине Margaritifera? Эта устрица смертельно заболевает, когда в нее проникает какое-нибудь чужеродное тело, например песчинка. Она замыкает эту песчинку в шарик из слизи. Она сама едва не погибает при этом. К черту жемчуг, я предпочитаю здоровых устриц. Добродетели вовсе не сопряжены с нищетой, мой милый. Если бы ваши родные были состоятельны и счастливы, они могли бы развить в себе добродетели, возникающие в благосостоянии и от счастья. А теперь эти добродетели истощенных бедняков вырастают на истощенных нивах, и я отвергаю их. Сударь, мои новые водяные насосы могут творить больше чудес, чем вся ваша сверхчеловеческая болтовня. «Плодитесь и размножайтесь», ибо ваши поля бесплодны и войны сокращают вашу численность. Неужели я должен лгать вашим родным?
Маленький монах (очень взволнован). Наивысшие соображения должны побудить нас молчать, ведь речь идет о душевном покое несчастных!
Галилей. Показать вам часы работы Бенвенуто Челлини, которые сегодня утром привез сюда кучер кардинала Беллармина? Дорогой мой, в награду за то, что я не потревожу душевного покоя, скажем, ваших близких, власти дарят мне то самое вино, которое изготовляют ваши родные в поте лица своего, созданного, как известно, по образу и подобию божьему. Если бы я согласился молчать, то поступил бы так, уж конечно, не из высших, а из очень низменных побуждений, чтобы жить в довольстве, не знать преследований и прочего.
Маленький монах. Господин Галилей, я священник.
Галилей. Но и физик тоже. И вы видели, что у Венеры есть фазы. Погляди-ка туда! (Показывая в окно.) Видишь там миленького Приапа над ручьем у лаврового дерева? Бог садов, птиц и воров, двухтысячелетний похабный крестьянский идол! Он меньше лгал. Впрочем, ладно, оставим это, я тоже сын церкви. Но знаете ли вы восьмую сатиру Горация? В эти дни я опять перечитываю его; он иногда помогает сохранить душевное равновесие. (Берет небольшую книжку.) Вот что у него говорит именно Приап, маленькая статуя в Эсквилинских садах. Начинается так:
«Я был стволом смоковницы бесплодной, Когда однажды плотник, размышляя, Что вытесать: скамью или Приапа, Решил сомненье, вырезавши бога…»Как вы полагаете, позволил бы Гораций запретить упоминание о скамье и заменить ее в стихах словом «стол»? Сударь, мое чувство прекрасного не допускает, чтобы фазы Венеры отсутствовали в моей картине мироздания. Мы не можем изобретать механизмы для выкачивания воды из рек, если нельзя изучать величайший механизм, который у нас перед глазами, — механизм звездного неба. Сумма углов треугольника не может быть изменена согласно потребностям церковных властей. Пути летящих тел я не могу вычислять так, чтобы эти расчеты заодно объясняли и полеты ведьм верхом на метле.
Маленький монах. А не думаете ли вы, что истина — если это истина выйдет наружу и без нас?
Галилей. Нет, нет и нет! Наружу выходит ровно столько истины, сколько мы выводим. Победа разума может быть только победой разумных. Вот вы уже описываете крестьян из Кампаньи так, словно они мох на своих лачугах! Кто станет предполагать, что сумма углов треугольника может противоречить потребностям этих крестьян? Но если они не придут в движение и не научатся думать, то им не помогут и самые лучшие оросительные устройства. К чертям! Я насмотрелся на божественное терпение ваших родных, но где ж их божественный гнев?
Маленький монах. Они устали!
Галилей (бросает ему связку рукописей). Ты физик, сын мой? Здесь рассмотрены причины приливов и отливов, движущих океан. Но ты не должен читать этого. Слышишь? Ах, ты уже читаешь. Значит, ты физик?
Маленький монах погружается в бумаги.
Яблоко с древа познания! Он уже вгрызается в него. Он проклят навеки и все же должен сглодать его, злосчастный обжора! Иногда я думаю, что согласился бы, чтобы меня заперли в подземной тюрьме, на десять сажен под землей, куда не проникал бы и луч света, если бы только взамен я мог узнать, что же такое свет. И самое страшное: все, что я знаю, я должен поведать другим. Как влюбленный, как пьяный, как предатель. Это, конечно, порок, и он грозит бедой. Как долго еще я смогу кричать обо всем, что знаю, только в печную трубу, — вот в чем вопрос.
Маленький монах (указывает на страницу). Не могу понять этого места.
Галилей. Я объясню тебе, я объясню тебе.
IX
После восьмилетнего молчания Галилей узнает, что новым папой стал ученый; ободренный этим известием, Галилей начинает новые исследования в запретной области. Солнечные пятна
Он правду хранил за семью замками И язык держал за зубами. Молчал он восемь постылых лет, Но после выпустил правду на свет.Дом Галилея во Флоренции. Ученики Галилея — Федерцони, маленький монах и Андреа Сарти, который стал уже юношей, — собрались на экспериментальные занятия. Галилей стоя читает книгу. Внизу Вирджиния и госпожа Сарти шьют белье для приданого.
Вирджиния. Шитье приданого — это веселое шитье. Вот это скатерть для стола больших приемов. Людовико любит гостей. Но шить нужно очень хорошо. Его мать видит каждый стежок. Она не согласна с книгами отца. Так же как отец Христофор.
Госпожа Сарти. Вот уже много лет, как он не написал ни одной книги.
Вирджиния. Я думаю, он понял, что заблуждался. В Риме одно высокое духовное лицо многое объяснило мне по астрономии. Расстояния слишком велики.
Андреа (пишет на доске). «Четверг, после полудня. Плавающие тела». Опять лед, лохань с водой, весы, железная игла, Аристотель. (Приносит перечисленные предметы.)
Остальные читают книги.
Входит Филиппо Муциус, ученый средних лет. Он чем-то расстроен.
Муциус. Не можете ли вы сказать господину Галилею, что он должен меня принять? Он осуждает меня, не выслушав.
Госпожа Сарти. Но ведь он не хочет вас принимать.
Муциус. Господь наградит вас, если вы его упросите. Я должен с ним поговорить.
Вирджиния (идет к лестнице). Отец!
Галилей. Что такое?
Вирджиния. Господин Муциус!
Галилей (резко повернулся, идет к лестнице, за ним ученики). Что вам угодно?
Муциус. Господин Галилей, я прошу вас разрешить мне объяснить вам те места в моей книге, в которых, как может показаться, я осудил учение Коперника о вращении Земли. У меня…
Галилей. Что вы собираетесь объяснять? У вас все в полном соответствии с декретом святой конгрегации от тысяча шестьсот шестнадцатого года. Следовательно, вы вполне правы. И хотя вы изучали здесь математику, но это не позволяет нам требовать от вас, чтоб вы утверждали, будто дважды два равно четырем. Вы имеете полное право утверждать, что этот камень (вынимает из кармана камешек и бросает его с лестницы на пол) только что взлетел вверх, на крышу.
Муциус. Господин Галилей, я…
Галилей. Не вздумайте говорить о трудностях! Я не позволил даже чуме помешать моим наблюдениям.
Муциус. Господин Галилей, чума еще не самое худшее.
Галилей. Я говорю вам: тот, кто не знает истины, только глуп. Но кто ее знает и называет ложью, тот преступник. Уходите из моего дома.
Муциус (беззвучно). Вы правы. (Уходит.)
Галилей возвращается в кабинет.
Федерцони. К сожалению, это так. Он мелкий человек и вообще ничего бы не значил, если бы не был вашим учеником. Но теперь они там, конечно, говорят: вот он слыхал все то, чему учит Галилей, и сам признает, что все это ложь.
Госпожа Сарти. Мне жаль этого господина.
Вирджиния. Отец его так любил.
Госпожа Сарти. Я хочу поговорить с тобой о свадьбе, Вирджиния. Ты еще так молода, и матери у тебя нет, а твой отец кладет в воду кусочки льда. Во всяком случае, не советую тебе спрашивать его ни о чем, относящемся к свадьбе. Он стал бы целую неделю говорить самые ужасные вещи, к тому же за столом, в присутствии молодых людей. Ведь у него нет и никогда не было стыда ни на грош. Но и я не думаю о таких вещах, а просто о том, как получится в будущем. Знать я ничего не могу, я необразованная женщина. Но в такое серьезное дело нельзя пускаться вслепую. Я думаю, ты должна пойти к настоящему астроному в университет, чтобы он составил тебе гороскоп, и тогда ты будешь знать что к чему. Почему ты смеешься?
Вирджиния. Да потому, что я уже была там.
Госпожа Сарти (с жадным любопытством). И что он сказал?
Вирджиния. В течение трех месяцев я должна остерегаться, так как Солнце находится под знаком Козерога, но потом расположение звезд будет благоприятным для меня, и тогда тучи разойдутся. Если я не буду упускать из виду Юпитер, я могу предпринимать любое путешествие, так как я сама Козерог.
Госпожа Сарти. А Людовико?
Вирджиния. А он — Лев. (Немного помолчав.) Говорят, это значит, что он чувственный.
Пауза.
Знакомые шаги. Это ректор, господин Гаффоне.
Входит Гаффоне — ректор университета.
Гаффоне. Я только принес книгу, которая, может быть, заинтересует вашего батюшку, пожалуйста, ради бога, не тревожьте господина Галилея. Право же, мне всегда кажется, что каждая минута, которую крадут у этого великого человека, украдена у Италии. Я осторожненько вложу книгу в ваши ручки и ухожу. На цыпочках. (Уходит.)
Вирджиния передает книгу Федерцони.
Галилей. О чем это?
Федерцони. Не знаю. (Читает по складам.) «De maculis in sole…».
Андреа. О солнечных пятнах. Еще одна!
Федерцони с досадой передает ему книгу.
Слушайте, какое посвящение! «Величайшему из ныне живущих авторитетов физики Галилео Галилею».
Галилей опять углубился в книгу.
Я прочел трактат о солнечных пятнах голландца Фабрициуса. Он предполагает, что это скопления звезд, которые движутся между Землей и Солнцем.
Маленький монах. Разве это не сомнительно, господин Галилей?
Галилей молчит.
Андреа. В Париже и в Праге полагают, что это испарения Солнца.
Федерцони. Гм.
Андреа. Федерцони сомневается в этом.
Федерцони. Уж будьте любезны, оставьте меня в покое. Я сказал «гм», только и всего. Я шлифовальщик линз, я шлифую линзы, а вы смотрите через них на небо, и то, что вы там видите, это вовсе не пятна, а «макулис». Как я могу сомневаться в чем-либо? Сколько раз вам повторять, что я не могу читать книги: они на латыни. (Сердито размахивает весами.)
Одна из чашек падает на пол. Галилей подходит и молча поднимает ее.
Маленький монах. А в сомнении заключено счастье, хоть я и не знаю, почему это так.
Андреа. За последние две недели я каждый солнечный день забирался на чердак, под крышу. Через узкие трещины в дранке падает очень тонкий луч. И тогда можно поймать на лист бумаги перевернутое изображение Солнца. Я видел одно пятно величиной с муху, расплывчатое, как облачко. Оно перемещалось. Почему мы не исследуем пятен, господин Галилей?
Галилей. Потому что мы исследуем плавающие тела.
Андреа. Даже бельевые корзины моей матери уже полны писем. Вся Европа спрашивает о вашем мнении. Ваш авторитет так возрос, что вы не можете молчать.
Галилей. Рим позволил вырасти моему авторитету именно потому, что я молчал.
Федерцони. Но теперь вы уже не можете позволить себе молчать.
Галилей. Но я не могу себе позволить, чтобы меня поджаривали на костре, как окорок.
Андреа. Вы думаете, что пятна как-то связаны с этим делом?
Галилей не отвечает.
Ну что ж, остаемся при наших ледышках. Это вам не повредит.
Галилей. Правильно. Итак — наш тезис, Андреа!
Андреа. Что касается плавания тел, то мы полагаем, что при этом форма тела не имеет значения, а важно лишь то, тяжелее ли это тело, чем вода, или легче.
Галилей. Что говорит Аристотель?
Маленький монах. «Discus latus platique…»
Галилей. Переводи, переводи.
Маленький монах. «Широкая и плоская пластина льда может плавать на воде, тогда как железная игла тонет».
Галилей. Почему, согласно Аристотелю, не тонет лед?
Маленький монах. Потому что он широк и плосок и, следовательно, не может разделить воду.
Галилей. Хорошо. (Берет кусок льда и кладет его в лохань.) А теперь я нажимаю на лед, силой опускаю его на дно сосуда. Вот я убираю руки, нажима больше нет. Что происходит?
Маленький монах. Он снова всплывает.
Галилей. Правильно. Видимо, подымаясь, он все же может разделять воду. Не так ли, Фульганцио?
Маленький монах. Но почему же он вообще плавает? Ведь лед тяжелее воды, поскольку он сгущенная вода.
Галилей. А что, если он разжиженная вода?
Андреа. Он должен быть легче воды, иначе бы он не плавал.
Галилей. Вот-вот.
Андреа. Так же как не может плавать железная игла. Все, что легче воды, — плавает, все, что тяжелее, — тонет. Что и требовалось доказать.
Галилей. Андреа, ты должен научиться осторожно мыслить. Дай-ка мне железную иглу и лист бумаги. Ведь железо тяжелее воды, не так ли?
Андреа. Да.
Галилей кладет иглу на лист бумаги и опускает ее на воду.
Пауза.
Галилей. Что происходит?
Федерцони. Игла плавает! Святой Аристотель, ведь его же никогда не проверяли!
Все смеются.
Галилей. Главная причина нищеты наук — почти всегда — их мнимое богатство. Наша задача теперь не в том, чтобы открывать двери бесконечному знанию, а в том, чтобы положить предел бесконечным заблуждениям. Записывайте!
Вирджиния. Что у них там?
Госпожа Сарти. Каждый раз, когда они смеются, я пугаюсь. Думаю — над чем это они смеются?
Вирджиния. Отец говорит: у богословов колокольный звон, а у физиков смех.
Госпожа Сарти. Но я рада, что он по крайней мере теперь не так часто смотрит в свою трубу. Это было еще хуже.
Вирджиния. Теперь он все время лишь кладет куски льда на воду; от этого, пожалуй, не может быть большого вреда.
Госпожа Сарти. Не знаю.
Входит Людовико Марсили в дорожной одежде, сопровождаемый слугой, несущим поклажу. Вирджиния бежит к нему, обнимает.
Вирджиния. Почему ты не писал, что приедешь?
Людовико. Я был здесь поблизости, осматривал наши виноградники у Бучоле и вот не мог удержаться.
Галилей (близоруко щурясь). Кто это там?
Вирджиния. Людовико!
Маленький монах. Разве вы его не видите?
Галилей. Ах да, Людовико. (Идет к нему навстречу.) Ну как лошади?
Людовико. Отлично, сударь.
Галилей. Сарти, празднуем встречу! Тащи кувшин сицилийского вина, того, старого!
Госпожа Сарти и Андреа уходят.
Людовико (Вирджинии). Ты что-то побледнела. Сельская жизнь пойдет тебе на пользу. Моя мать ждет тебя к сентябрю.
Вирджиния. Погоди, я покажу тебе подвенечное платье! (Убегает.)
Галилей. Садись.
Людовико. Я слыхал, сударь, что ваши лекции в университете слушают теперь больше тысячи студентов. Над чем вы работаете в настоящее время?
Галилей. Обычная повседневная суета. Ты ехал через Рим?
Людовико. Да. Позвольте, пока не забыл, — мать просила выразить вам свое восхищение по поводу вашей достохвальной сдержанности перед лицом этих оргий с солнечными пятнами, которые затеяли голландцы.
Галилей (сухо). Благодарю.
Госпожа Сарти и Андреа приносят вино и стаканы. Все собираются вокруг стола.
Людовико. В Риме это стало уже притчей во языцех. Кристофер Клавиус высказал опасение, что из-за этих солнечных пятен сейчас может опять начаться балаган с вращением Земли вокруг Солнца.
Андреа. Нечего беспокоиться.
Галилей. Какие еще новости в святом городе, если не считать надежд на мои новые прегрешения?
Людовико. Вы, конечно, знаете, что святейший отец умирает?
Маленький монах. О!
Галилей. Известно, кто будет преемником?
Людовико. Большинство называет Барберини.
Галилей. Барберини.
Андреа. Господин Галилей знаком с Барберини.
Маленький монах. Кардинал Барберини математик.
Федерцони. Ученый на папском престоле!
Пауза.
Галилей. Итак, теперь им нужны такие люди, как Барберини, люди, которые смыслят в математике. Мир приходит в движение. Федерцони, мы еще доживем до времени, когда не придется оглядываться, как преступнику, говоря, что дважды два — четыре. (К Людовико.) Мне это вино по вкусу, что ты скажешь о нем?
Людовико. Хорошее вино.
Галилей. Я знаю этот виноградник. Он на крутом каменистом откосе, и ягоды почти синие. Люблю это вино.
Людовико. Да, сударь.
Галилей. В нем есть легкие оттенки. И оно почти сладкое, но именно только «почти». Андреа, убери все это — лед, лохань и иглу. Я ценю утехи плоти. Я не терплю трусливых душонок, которые называют их слабостями. Я говорю: наслаждаться тоже нужно уметь.
Маленький монах. Что вы хотите делать?
Федерцони. Мы снова начнем балаган с вращением Земли вокруг Солнца.
Андреа (напевает).
Писание гласит: не движется она. Профессор нам твердит: недвижной быть должна. Святейший папа сердится, Земле стоять веля, Но движется, но вертится, но движется Земля.Андреа, Федерцони и маленький монах спешат к рабочему столу и убирают с него лишнее.
Мы можем обнаружить, что Солнце тоже вращается. Как это понравится тебе, Марсили?
Людовико. Почему такое волнение?
Госпожа Сарти. Ведь вы же не начнете опять возиться с этой чертовщиной, господин Галилей?
Галилей. Теперь я понимаю, почему твоя мать послала тебя ко мне. Барберини — папа! Наука станет страстью и исследования — наслаждением. Клавиус прав, эти солнечные пятна меня очень занимают. Нравится тебе мое вино, Людовико?
Людовико. Я уже сказал вам, сударь.
Галилей. Действительно нравится?
Людовико (сухо, напряженно). Да, нравится.
Галилей. И ты пойдешь настолько далеко, что примешь мое вино и мою дочь, не требуя, чтобы я отказывался от своего призвания? Что общего между моей астрономией и моей дочерью? Фазы Венеры не меняют форм ее ягодиц.
Госпожа Сарти. Не говорите таких гадостей. Я сейчас позову Вирджинию.
Людовико (удерживает ее). Бракосочетания в таких семьях, как моя, заключаются не только на основе плотского влечения.
Галилей. Значит, тебе в течение восьми лет не позволяли жениться на моей дочери, пока я не пройду испытательный срок?
Людовико. Моя супруга должна и в нашей сельской церкви появляться как вполне достойная особа.
Галилей. Ты полагаешь, что твои крестьяне будут решать, платить ли им за аренду или нет, в зависимости от святости их помещицы?
Людовико. В известной мере.
Галилей. Андреа, Федерцони, тащите латунное зеркало и экран! Мы на нем получим отражение Солнца, чтобы пощадить наши глаза. Это твой метод, Андреа.
Андреа и маленький монах принесли зеркало и экран.
Людовико. В свое время в Риме вы дали подписку, сударь, что не будете вмешиваться в споры о вращении Земли вокруг Солнца.
Галилей. Ах вот что! Но тогда у нас был папа-реакционер!
Госпожа Сарти. Был! Ведь его святейшество еще даже не умер!
Галилей. Почти, почти умер. Нанесите на экран сетку меридианов и параллелей. Будем действовать систематически. И тогда уж мы сможем отвечать на их письма. Не так ли, Андреа?
Госпожа Сарти. «Почти»! По пятьдесят раз он взвешивает свои кусочки льда, но слепо верит во все, что ему нравится!
Ученики устанавливают экран.
Людовико. Если его святейшество умрет, господин Галилей, то следующий папа — кто бы он ни был и как бы велика ни была его любовь к наукам — должен будет считаться и с тем, как велика любовь к нему со стороны знатнейших семейств Италии.
Маленький монах. Бог создал физический мир, Людовико; бог создал человеческий мозг; бог разрешит физику.
Госпожа Сарти. Галилео, а теперь послушай меня. Я видела, как мой сын погряз в грехах со всеми этими «экспериментами», «теориями», «наблюдениями», и я ничего не могла поделать. Ты восстал против властей, и они уже однажды тебя предостерегли. Самые высокие кардиналы увещевали тебя, заговаривали, как больного коня. На какое-то время это помогло, но вот два месяца назад, сразу после благовещенья, я тебя поймала на том, как ты украдкой опять начал свои «наблюдения». На чердаке. Я ничего не сказала, но я все поняла. Я побежала в церковь, поставила свечку святому Иосифу. Но это уже выше моих сил. Когда мы бываем с тобой вдвоем, ты рассуждаешь довольно здраво, говоришь, что не должен так себя вести, потому что это опасно. Но стоит тебе дня два повозиться с твоими «экспериментами», и все опять как было. Если уж я лишаю себя вечного блаженства, потому что не расстаюсь с тобой, еретиком, — это мое дело, но ты не имеешь права растаптывать своими ножищами счастье твоей дочери!
Галилей (ворчливо). Принесите телескоп!
Людовико. Джузеппе, отнеси вещи обратно в карету.
Слуга уходит.
Госпожа Сарти. Она этого не вынесет. Можете сами сказать ей! (Убегает, не выпуская из рук кувшина.)
Людовико. Как я вижу, вы уже все приготовили. Господин Галилей… Мы с матерью большую часть года живем в имении в Кампанье и можем засвидетельствовать вам, что наших крестьян никак не беспокоят ваши трактаты о спутниках Юпитера. У них слишком тяжелая работа в поле. Однако их могло бы встревожить, если бы они узнали, что остаются безнаказанными легкомысленные посягательства на священные устои церкви. Не забывайте, что эти жалкие существа в своем полуживотном состоянии все путают. Они ведь почти животные, вы вряд ли даже можете себе это представить. Услышав, будто где-то на яблоне выросла груша, они удирают с работы, чтобы почесать языки.
Галилей (заинтересован). Вот как?
Людовико. Они — животные. Когда они приходят в имение жаловаться на какой-либо вздор, мать вынуждена приказывать, чтобы на их глазах отхлестали бичом одну из собак, чтобы напомнить им о послушании, порядке и вежливости. Господин Галилей, выглядывая из дорожной кареты, вы, может быть, иногда замечали поля цветущей кукурузы. Вы, ни о чем не думая, едите наши оливки и наш сыр и даже не представляете себе, сколько труда нужно, чтобы их получить, какой бдительный надзор требуется.
Галилей. Молодой человек, когда я ем оливки, я вовсе не перестаю при этом думать. (Грубо.) Ты меня задерживаешь. (Кричит ученикам.) Ну что, установили экран?
Андреа. Да, вы идете?
Галилей. Ведь вы хлещете не только собак, добиваясь послушания? Не так ли, Марсили?
Людовико. Господин Галилей, у вас великолепный мозг. Жаль его!
Маленький монах (изумленно). Он угрожает вам!
Галилей. Да. Ведь я мог бы смутить его крестьян, возбудить новые мысли у них, у его слуг, у его управителей.
Федерцони. Но как? Ведь никто из них не знает латыни.
Галилей. Я ведь мог бы писать на языке народа, понятном для многих, а не по-латыни для немногих. Для новых мыслей нужны люди, работающие руками. Кто еще захочет понять причины вещей? Те, кто видит хлеб только на столе, не желают знать о том, как его выпекают. Эта сволочь предпочитает благодарить бога, а не пекаря. Но те, кто делает хлеб, поймут, что ничто в мире не движется, если его не двигать. Твоя сестра, Фульганцио, которая работает у пресса, выжимающего оливки, не станет удивляться и, вероятно, даже посмеется, когда услышит, что Солнце — это не позлащенный герб, а рычаг и что Земля движется потому, что ее двигает Солнце.
Людовико. Вы навсегда останетесь рабом своих страстей. Извинитесь за меня перед Вирджинией — я полагаю, будет лучше, если я ее не увижу.
Галилей. Приданое в вашем распоряжении в любое время.
Людовико. Всего хорошего. (Уходит.)
Андреа. Кланяйтесь от нас всем Марсили!
Федерцони. Которые приказывают Земле стоять неподвижно, чтобы их замки не свалились!
Андреа. И всем Ченчи и Виллани!
Федерцони. И Червилли!
Андреа. И Лекки!
Федерцони. И Пирлеони!
Андреа. Всем, кто целует папе ноги, только если он ими топчет народ!
Маленький монах (у приборов). Новым папой будет просвещенный человек.
Галилей. Итак, мы приступаем к наблюдениям над солнечными пятнами, которые нас интересуют, приступаем на собственный риск и страх, не слишком рассчитывая на покровительство нового папы.
Андреа (прерывает). Но с полной уверенностью в том, что рассеем звездные тени господина Фабрициуса и солнечные испарения, которые придумали в Париже и в Праге, и докажем вращение Солнца.
Галилей. Нет, лишь с некоторой уверенностью, что докажем вращение Солнца. Я вовсе не намерен доказывать, что был прав до сих пор; я хочу проверить, был ли я прав. Я говорю вам: «Оставь надежду всяк сюда входящий»{168} — сюда, где исследуют. Может быть, это испарения, а может быть, и пятна. Но прежде чем мы сочтем их пятнами, как нам больше всего хотелось бы, мы лучше предположим, что это рыбьи хвосты. Да, мы будем все снова и снова подвергать сомнению. И мы не помчимся семимильными шагами в сапогах-скороходах, нет, мы станем продвигаться со скоростью улитки. И то, что мы обнаружим сегодня, мы завтра зачеркнем и только тогда запишем снова, когда обнаружим то же самое еще раз. И особенно недоверчивы мы будем, обнаруживая именно то, чего нам бы хотелось. Итак, мы приступим к наблюдениям над Солнцем с беспощадной решимостью доказать неподвижность Земли! И только если это нам не удастся и мы окажемся полностью и безнадежно разбитыми, то, зализывая раны, в самом печальном состоянии начнем мы спрашивать: а не были ли мы все-таки правы, а не вращается ли все-таки Земля? (Подмигивая.) И если у нас будут расползаться под руками все иные гипотезы, кроме этой, тогда уж никакой пощады тем, кто не исследует, но все же спорит. Снимайте покрывало с трубы и направьте ее на Солнце! (Устанавливает латунное зеркало.)
Маленький монах. Я догадался, что вы уже начали работать. Я понял это, когда вы не узнали господина Марсили.
Молча начинают работать. Когда на экране появляется пылающее отражение солнца, вбегает Вирджиния в подвенечном платье.
Вирджиния. Отец, ты прогнал его? (Падает без чувств.)
Андреа и маленький монах бегут к ней.
Галилей. Я должен, должен узнать!
X
В течение последующего десятилетия учение Галилея широко распространилось в народе. Памфлетисты и уличные певцы подхватывают новые идеи. В карнавальную ночь 1632 года во многих городах в оформлении карнавальных шествий многих гильдий использовались астрономические темы
Полуголодная чета бродячих певцов с пятилетней девочкой и грудным ребенком выходит на рыночную площадь, где толпа ожидает карнавальное шествие. Часть людей в масках. Певцы несут с собой узлы, барабан и другие приспособления.
Уличный певец (бьет в барабан). Почтенные жители, дамы и господа! Перед тем как начнется карнавальное шествие гильдий, мы исполним новейшую флорентийскую песню, которую мы добыли ценой значительных затрат. Эта песня озаглавлена: «Ужасающие учения и мнения господина придворного физика Галилео Галилея, или Предвосхищение грядущего». (Поет.)
«Да будет свет!» — провозгласил всевышний И приказал, чтоб солнце с этих пор Вокруг земли, без проволочки лишней, Вращалось впредь — и кончен разговор! Хотел господь, чтоб каждый индивид Вертелся вкруг того, кто выше чуточку стоит! И холуи вращаться стали вкруг людей, имевших вес, И на земле, сырой и грешной, и в синих заводях небес! Вокруг папы зациркулировало кардинальство, А вокруг кардинальства — епископат, А вокруг епископата — светское начальство, А вокруг светского начальства — секретарский штат, Городские гласные вокруг секретарского штата, Вокруг гласных — мещане, ремесленный люд. А вокруг ремесленников — слуги, куры, и цыплята, И оборванцы, и псы, которых нищие бьют! [7]Вот это, добрые люди, и есть великий порядок мира, ordo ordinum, как говорят господа ученые богословы, regula aeternis, закон законов, правило правил. Но что же произошло с ним, представьте себе, добрые люди! (Поет.)
Вскочил ученый Галилей, Отбросил святое писание, Схватил трубу, закусил губу, Осмотрел сразу все мироздание. И солнцу сказал: шагу сделать не смей! Пусть вся вселенная, дрожа, Найдет иные круги; Отныне станет госпожа Летать вокруг прислуги! Нет, братцы, с Библией я вовсе не шучу! И так уже от рук прислуга вся отбилась! Руку на сердце положу и так скажу: я сам теперь хочу Начальством быть себе! Не так ли, ваша милость?Почтенные жители, ведь такие учения совершенно недопустимы! (Поет).
Холоп хозяину дерзит, Собаки разжирели, А певчий встретить норовит Заутреню в постели! Уж это вон из рук! Нет-нет, я не шучу! И так уже петля душить нас утомилась! Руку на сердце положу и так скажу: я сам теперь хочу Начальством быть себе! Не так ли, ваша милость?Добрые люди, заглянем в грядущее, каким его предсказывает ученый Галилео Галилей. (Поет.)
Две дамы заохают в рыбном ряду: — Так можно сойти с ума! Рыбачка, забыв про простую еду, Умяла всю рыбу сама! А каменщик после работы дневной Подрядчику объявил: — Я тоже решил поселиться в одной Из этих прелестных вилл! Все изменилось вокруг! Нет-нет, я не шучу! И так уже петля душить нас утомилась! Руку на сердце положу и так скажу: я сам теперь хочу Начальством быть себе! Не так ли, ваша милость? Нога мужичья угостила Барона в зад пинком; Детей крестьянка напоила Поповским молоком! Нет, братцы, с Библией я вовсе не шучу! И так уже петля душить нас утомилась! Руку на сердце положу и так скажу: я сам теперь хочу Начальством быть себе! Не так ли, ваша милость?!Жена уличного певца.
А я на днях у муженька Спросила, не таясь: Нельзя ли мне вступить пока С другим светилом в связь?Уличный певец.
Нет! Нет! Нет-нет! Нет-нет! Пусть замолчит мудрец! Взбесившемуся псу намордник крепкий нужен! Но шутки в сторону, признайтесь наконец, Что с господами мы порой не слишком дружим!Вместе.
Свой век влача в юдоли бедствий и скорбей, Воспряньте! Мужество еще не испарилось! Пусть добрый доктор Галилей Обучит счастью вас по азбуке своей: Мы свой свинцовый крест влачили много дней. Мы сбросим этот крест! Не так ли, ваша милость?Уличный певец. Люди, глядите на необыкновенное открытие Галилео Галилея! Земля кружится вокруг Солнца! (Неистово бьет в барабан.)
Жена уличного певца и девочка выступают вперед. Женщина держит грубое изображение Солнца, а девочка, подымая над головой тыкву, изображающую Землю, кружится вокруг женщины. Певец возбужденно указывает на девочку, так, словно она производит смертельно опасные упражнения каждый раз, когда она передвигается рывками шаг за шагом в такт ударам барабана. Затем слышен барабанный бой из глубины сцены.
Низкий голос (кричит). Шествие идет!
Входят два оборванца, они тянут повозку — на ней установлен карикатурный трон, на котором сидит в картонной короне закутанный в дерюгу «Великий герцог Флоренции» и смотрит в телескоп. Над троном на щите надпись: «Высматривает неприятности». За ним идут четверо мужчин в масках, несущих большой растянутый холст. Они останавливаются и подбрасывают на холсте куклу, изображающую кардинала. В стороне карлик с транспарантом, на котором написано: «Новое время». Из толпы выбирается нищий на костылях, подтягивается на них, пляшет, стуча по земле, и с грохотом падает. Входит на ходулях чучело, изображающее Галилея, раскланивается перед публикой, а перед ним ребенок держит огромную Библию, страницы которой перечеркнуты крест-накрест.
Уличный певец. Галилео Галилей — разрушитель Библии!
Оглушительный хохот толпы.
XI
1633 год. Инквизиция вызывает всемирно известного исследователя в Рим
Глубина горяча; высота холодна. В предместьях шум; во дворце тишина.Прихожая и лестница во дворце Медичи во Флоренции. Галилей и его дочь ожидают приема у великого герцога.
Вирджиния. Как долго это тянется.
Галилей. Да.
Вирджиния. Вот опять этот человек, который шел сюда за нами. (Указывает на субъекта, который проходит мимо них, не обращая на них внимания.)
Галилей (он плохо видит). Я не знаю его.
Вирджиния. Но я его часто вижу в последние дни. Он пугает меня.
Галилей. Чепуха! Мы во Флоренции, а не среди корсиканских разбойников.
Вирджиния. Идет ректор Гаффоне.
Галилей. Вот его я боюсь. Этот дурак сейчас опять затеет со мной разговор на несколько часов.
Вниз по лестнице спускается господин Гаффоне. Увидев Галилея, он явно пугается и, отвернувшись, проходит мимо, едва кивнув головой.
Что это с ним? Сегодня я опять плохо вижу. Он вообще-то поздоровался?
Вирджиния. Едва кивнул. Что там написано в твоей книге? Может быть, ее сочли еретической?
Галилей. Ты слишком много слоняешься по церквам. Эти ранние вставания и беганье к утренней мессе совсем испортят цвет лица. Ты что, за меня молишься?
Вирджиния. Вот господин Ванни — владелец литейной, для которого ты делал чертежи плавильной печи, не забудь поблагодарить его за перепелок.
Вниз по лестнице опускается Ванни.
Ванни. Пришлись вам по вкусу перепела, которых я вам послал, господин Галилей?
Галилей. Перепелки были великолепные, еще раз весьма благодарю.
Ванни. А там, наверху, говорили о вас. Считают, что вы ответственны за те памфлеты против Библии, которые недавно продавались повсюду.
Галилей. О памфлетах ничего не знаю. Библия и Гомер — мое любимое чтение.
Ванни. Но если бы даже и так, хочу воспользоваться случаем и заверить вас, что мы, люди промышленные, на вашей стороне. Я не из тех, кто много смыслит в движениях звезд, но для меня вы человек, который борется за свободу обучения новому. Например, тот механический культиватор, изобретенный в Германии, который вы мне описали. Только за один последний год в Лондоне выпустили пять книг по сельскому хозяйству, а мы здесь были бы благодарны хотя бы за одну книжку о голландских каналах. Те же самые господа, что чинят затруднения вам, не разрешают врачам в Болонье вскрывать трупы для исследований.
Галилей. Ваш голос будет услышан, Ванни.
Ванни. Надеюсь. Знаете ли вы, что и в Амстердаме и в Лондоне есть уже особые рынки, на которых продают деньги. Там существуют ремесленные школы. Там постоянно издают печатные новости, так называемые газеты. А здесь у нас нет даже свободы наживать деньги. Здесь возражают против устройства литейных, потому что считают, будто скопление слишком большого числа рабочих в одном месте содействует безнравственности. Я целиком и полностью на стороне таких людей, как вы, господин Галилей. Если против вас попытаются что-нибудь затеять, то вспомните, пожалуйста, что у вас есть друзья среди всех деловых людей. За вас все города Северной Италии, господин Галилей.
Галилей. Насколько мне известно, никто не собирается предпринимать что-либо против меня.
Ванни. Нет?
Галилей. Нет.
Ванни. А по-моему, в Венеции вы были бы в большей безопасности. Там меньше черных сутан. И оттуда вы могли бы вести борьбу. У меня здесь дорожная карета и лошади, господин Галилей.
Галилей. Я не могу стать беглецом. Я слишком ценю удобную жизнь.
Ванни. Разумеется. Но судя по тому, что я слышал наверху, вам нужно спешить. У меня создалось впечатление, что именно сейчас было бы лучше, если бы вы оказались вне Флоренции.
Галилей. Чепуха! Великий герцог — мой ученик, и к тому же сам папа решительно отвергнет любую попытку сплести для меня петлю, какой бы там повод ни придумали.
Ванни. Кажется, вы не слишком хорошо отличаете друзей от врагов, господин Галилей.
Галилей. Я хорошо отличаю силу от бессилия. (Резко поворачивается и отходит.)
Ванни. Пусть будет так. Желаю вам счастья. (Уходит.)
Галилей (возвращается к Вирджинии). В этой стране каждый обиженный хочет, чтоб я был его ходатаем, и как раз там, где это мне вовсе не на пользу. Я написал книгу о механике вселенной. Вот и все. А что из этого делают или не делают другие, меня не касается.
Вирджиния (громко). Если бы только люди знали, как ты осуждаешь все то, что происходило в последнюю карнавальную ночь.
Галилей. Да, протянув медведю мед, потеряешь и руку, если он голоден.
Вирджиния (тихо). Великий герцог сам пригласил тебя на сегодня?
Галилей. Нет, но я просил известить его, что приду. Он хотел получить книгу. Он заплатил за нее. Найди кого-нибудь из чиновников и пожалуйся, что нас заставляют ждать.
Вирджиния (сопровождаемая субъектом, подходит к одному из чиновников дворца). Господин Минчо, его высочество извещен, что мой отец просит его о приеме?
Чиновник. Откуда мне знать?
Вирджиния. Это не ответ.
Чиновник. Вот как?
Вирджиния. Вы обязаны быть вежливым.
Чиновник отворачивается от нее и зевает, покосившись на субъекта.
(Возвращаясь.) Он говорит, что великий герцог еще занят.
Галилей. Я слышал, ты сказала что-то о вежливости. В чем дело?
Вирджиния. Я только поблагодарила его за любезное сообщение. Не мог бы ты просто оставить здесь книгу? Ведь ты зря теряешь время.
Галилей. Я начинаю спрашивать себя, какую цену имеет это время. Может быть, я все же последую приглашению Сагредо и поеду недели на две в Падую. Со здоровьем у меня неважно.
Вирджиния. Ты ведь не сможешь жить без твоих книг.
Галилей. Немного сицилийского вина можно будет в одном-двух ящиках погрузить в карету.
Вирджиния. Ты же всегда говорил, что оно не выносит перевозок. А двор еще должен тебе жалованье за три месяца. Тебе не пошлют этих денег вслед.
Галилей. Да, это правда.
Кардинал-инквизитор спускается по лестнице.
Вирджиния. Кардинал-инквизитор.
Кардинал, проходя, низко кланяется Галилею.
Зачем это кардинал-инквизитор приехал во Флоренцию, отец?
Галилей. Не знаю. Он вежливо поздоровался. Да, я правильно поступил, что уехал тогда во Флоренцию и восемь лет молчал. Они меня так расхвалили, что теперь уж должны принимать меня таким как есть.
Чиновник (громко). Его высочество великий герцог!
Козимо Медичи спускается по лестнице. Галилей идет ему навстречу. Козимо останавливается, он несколько смущен.
Галилей. Ваше высочество, позвольте мне вручить вам написанные мною диалоги об обеих величайших системах мироздания…
Козимо. Ах да. Как ваши глаза?
Галилей. Неважно, ваше высочество. Если ваше высочество соблаговолит, то моя книга…
Козимо. Состояние ваших глаз меня очень беспокоит, очень беспокоит. Оно свидетельствует о том, что вы, пожалуй, слишком ревностно пользуетесь своей замечательной трубой, не правда ли? (Проходит, не беря книги.)
Галилей. Он не взял книги, да?
Вирджиния (очень взволнованно). Отец, я боюсь.
Галилей (тихо и решительно). Не подавай виду. Отсюда мы пойдем не домой, а к стеклорезу Вольпи. Я условился с ним, чтобы во дворе соседнего трактира постоянно стояла телега с пустыми винными бочками, которая смогла бы увезти меня из города.
Вирджиния. Значит, ты знал…
Галилей. Не оглядывайся.
Идут к выходу.
Важный чиновник (спускается по лестнице). Господин Галилей, мне поручено известить вас о том, что флорентийский двор не в состоянии долее отклонять требования святой инквизиции, которая вызывает вас для допроса в Рим. Карета святой инквизиции ожидает вас, господин Галилей.
XII
Папа
Покой в Ватикане. Папа Урбан VIII (о прошлом кардинал Барберини) принимает кардинала-инквизитора. Во время аудиенции его облачают. Снаружи слышно шарканье многих ног.
Папа (очень громко). Нет, нет и нет!
Кардинал-инквизитор. Итак, ваше святейшество, вы хотите сказать это всем собравшимся здесь — профессорам всех факультетов, представителям всех святых орденов и всего духовенства, которые пришли сюда, исполненные детской веры в слово божие, изложенное в писании? Они пришли, чтобы получить от вашего святейшества подтверждение своей веры, — и вы хотите им сказать, что писание больше нельзя считать истинным?
Папа. Я не позволю разбить аспидную доску. Нет!
Кардинал-инквизитор. Есть люди, уверяющие, будто речь идет об аспидной доске, а не о духе мятежа и сомнения. Но дело обстоит иначе. Ужасное беспокойство проникло в мир. И это беспокойство, царящее в их собственных умах, люди переносят на неподвижную Землю. Они кричат, что их вынуждают числа. Но откуда эти числа? Любому известно, что они порождены сомнением. Эти люди сомневаются во всем. Но разве можно строить человеческое общество на сомнении, а не на вере: «Ты мой господин, но я сомневаюсь, хорошо ли это. Это твой дом и твоя жена, но я сомневаюсь, не должны ли они стать моими». А тут еще и общеизвестная любовь вашего святейшества к искусству. Этой любви мы обязаны столькими прекрасными коллекциями, но она встречает совершенно издевательское толкование. На стенах домов здесь в Риме появляются надписи: «То, что варвары оставили Риму, грабят теперь Барберини». А за границей? Господу угодно подвергнуть святой престол тяжелым испытаниям. Испанская политика вашего святейшества непонятна для людей недостаточно проницательных, они сожалеют о ваших раздорах с императором. Вот уже полтора десятка лет, как вся Германия превращена в бойню, люди убивают друг друга, возглашая цитаты из Библии{169}. И вот теперь, когда вследствие чумы, войн и Реформации число истинных христиан сократилось до нескольких маленьких кучек, в Европе распространяются слухи, что вы заключаете тайный союз с лютеранами-шведами, чтобы ослабить императора-католика. В то же самое время эти математики, эти жалкие черви, направляют свои трубы на небо и сообщают миру, что, оказывается, и здесь, в последнем пространстве, которого у вас еще никто не оспаривал, вы тоже не слишком сильны. Спрашивается, откуда этот внезапный интерес к такой отвлеченной науке, как астрономия? Не все ли равно, как именно вращаются планеты? Но тем не менее вся Италия вплоть до последнего конюха заражена дурным примером этого флорентийца и болтает о фазах Венеры. Пока еще никто из них не задумывается о других вещах. Ведь многое в жизни им в тягость. Много такого, что освящено церковью. Но что же произошло бы, если бы все они, необузданные, грешные, стали верить только своему разуму? А ведь этот безумец объявляет единственным верховным судьей именно разум. Усомнившись однажды в том, что Солнце остановилось по велению Иисуса Навина, они обратили бы свои грязные сомнения и на церковные сборы. С тех пор как они стали ездить по морям — впрочем, я ничего не имею против этого, — они уже полагаются не на господа бога, а на медную коробку, которую называют компасом. Этот Галилей, еще будучи юношей, писал о машинах. С помощью машин они хотят творить чудеса. Какие чудеса? Бог, во всяком случае, им уже не нужен, но какие же это должны быть чудеса? Например, не будет больше различия между верхом и низом. Они в этом больше не нуждаются. Аристотель, с которым они, кстати говоря, обращаются как с дохлой собакой, сказал — и это они цитируют, — что если бы ткацкий челнок сам ткал и цитра сама играла, то мастеру не нужны были бы подмастерья и господам не нужны были бы слуги. И вот сейчас им кажется, что они уже достигли этого. Этот негодный человек знает, что делает, когда пишет свои астрономические труды не на латыни, а на языке торговок рыбой и торговцев шерстью.
Папа. Это свидетельствует об очень плохом вкусе. Я скажу ему.
Кардинал-инквизитор. Он подстрекает одних и подкупает других. В портовых городах Северной Италии мореплаватели все настойчивее требуют звездные карты господина Галилея. Им придется уступить; это деловые интересы.
Папа. Но ведь эти карты основаны на его еретических утверждениях. Речь идет именно о движении некоторых созвездий, о движении, которое оказывается невозможным, если отрицать его учение. Нельзя же предать проклятию его учение и принять его звездные карты.
Кардинал-инквизитор. Почему же нет? Иначе поступить мы и не можем.
Папа. Это шарканье действует мне на нервы. Простите, что я все прислушиваюсь.
Кардинал-инквизитор. Может быть, это скажет вам больше, чем могу сказать я, ваше святейшество. Неужели все они должны уйти отсюда, унося в сердцах сомнение?
Папа. Но, в конце концов, ведь этот человек — величайший физик нашего времени, светоч Италии, а не какой-нибудь путаник. У него есть друзья: версальский двор, венский двор. Они скажут, что святая церковь стала выгребной ямой для гнилых предрассудков. Нет, руки прочь от него!
Кардинал-инквизитор. Практически нам не придется заходить слишком далеко. Он человек плоти. Он немедленно уступит.
Папа. Да, он склонен к земным наслаждениям больше, чем кто-либо другой из известных мне людей. Он и мыслит сластолюбиво. Он не может отвергнуть ни старое вино, ни новую мысль. Однако я не хочу осуждения научных данных. Я не хочу, чтобы звучали враждебные боевые кличи: «За церковь!» и «За разум!». Я разрешил ему издать книгу, поставив одно условие, чтобы в конце было указано, что последнее слово принадлежит все же не науке, а вере. Он выполнил это условие.
Кардинал-инквизитор. Но как? В его книге спорят глупец, который, конечно, защищает воззрения Аристотеля, и умный человек, конечно, представляющий господина Галилея. И кто же, ваше святейшество, как вы думаете, произносит это заключительное суждение?
Папа. Что еще за новости! Кто же выражает наше мнение?
Кардинал-инквизитор. Уж конечно, не умный человек.
Папа. Какова наглость! Однако этот топот невыносим. Что там, весь свет собрался?
Кардинал-инквизитор. Не весь, но его лучшая часть.
Пауза.
Папа (уже в полном облачении). В самом крайнем случае пусть ему только покажут орудия.
Кардинал-инквизитор. Этого будет достаточно, ваше святейшество. Господин Галилей ведь разбирается в орудиях.
XIII
Галилео Галилей по требованию инквизиции 22 июня 1633 года отрекается от своего учения о вращении Земли.
День июньский скоро угас, А был он важен для вас и для нас. Разум вышел из мрака вперед И стоял у дверей весь тот день напролет.Дворец флорентийского посла в Риме. Ученики Галилея ожидают известий. Маленький монах и Федерцони играют в шахматы по-новому (делая ходы через всю доску). В углу Вирджиния на коленях читает молитву.
Маленький монах. Папа его не принял. Теперь с учеными диспутами покончено.
Федерцони. В этом была его последняя надежда. Да, правдой оказалось то, что он ему сказал много лет тому назад в Риме, когда еще был кардиналом Барберини: ты нам нужен. Теперь они его заполучили.
Андреа. Они убьют его. «Беседы» останутся недописанными.
Федерцони (смотрит на него искоса). Ты думаешь?
Андреа. Да, потому что он никогда не отречется.
Пауза.
Маленький монах. Когда по ночам не спится, в голову лезут всегда какие-то посторонние мысли. Сегодня ночью, например, я все время думал о том, что ему не нужно было покидать Венецианскую республику.
Андреа. Там он не мог бы написать свою книгу.
Федерцони. A во Флоренции он не смог ее издать.
Пауза.
Маленький монах. И еще я думал — оставят ли они ему его камешек, который он все время носит в кармане. Его камень для доказательств.
Федерцони. Там, куда они его уведут, носят одежду без карманов.
Андреа (кричит). Они не осмелятся! Но даже если так, он не отречется. «Кто не знает истины, тот просто глуп, но кто знает истину и называет ее ложью, тот преступник».
Федерцони. Я тоже не верю этому, и я не хотел бы жить, если он поступит так. Но ведь у них сила.
Андреа. Не все можно сделать силой.
Федерцони. Может быть.
Маленький монах (шепотом). Он просидел в тюрьме двадцать три дня. Вчера его вызывали для большого допроса, а сегодня заседание. (Заметив, что Андрей прислушивается, говорит громче). Когда я пришел к нему сюда в тот раз, через два дня после декрета, мы сидели вон там, и он показал мне на маленькую статую Приапа в саду, у солнечных часов, — вон она видна отсюда, и он сравнивал свой труд со стихотворением Горация, в котором тоже ничего нельзя изменить. Он говорил о своем чувстве красоты, которое побуждает его искать истину. И он вспомнил девиз: Hieme et aestate, et prope et procul, usque dum vivam et ultra [8]. И он подразумевал искания истины.
Андреа (обращаясь к маленькому монаху). Ты рассказывал ему, как он стоял перед римской коллегией, когда они испытывали его трубу? Расскажи ему!
Маленький монах качает головой.
Он был таким же, как всегда. Уперся руками в свои окорока, выпятил брюхо и заявил: «Я прошу вас быть разумными, господа». (Смеясь, копирует Галилея.)
Пауза.
(Показывает на Вирджинию.) Она молится, чтобы он отрекся.
Федерцони. Оставь ее. Она совсем запуталась с тех пор, как они с ней поговорили. Они вызвали сюда из Флоренции ее исповедника.
Входит субъект, который следил за Галилеем во дворце великого герцога Флоренции.
Субъект. Господин Галилей скоро прибудет сюда; ему может понадобиться постель.
Федерцони. Его отпустили?
Субъект. Ожидается, что в пять часов господин Галилей выступит на заседании инквизиции с отречением. Тогда зазвонят в большой колокол собора Святого Марка и текст отречения будет прочтен всенародно.
Андреа. Я не верю этому.
Субъект. Ввиду большого скопления людей на улицах господина Галилея проведут через садовую калитку позади дворца. (Уходит.)
Андреа (внезапно повышая голос). Луна это Земля, и она не имеет собственного света. И Венера тоже не имеет собственного света. И тоже подобна Земле и движется вокруг Солнца. А четыре луны вращаются вокруг Юпитера, который находится на высоте неподвижных звезд, но не прикреплен ни к какой сфере. И Солнце является центром вселенной, и оно неподвижно, а Земля — не центр и не неподвижна. И показал нам это он.
Маленький монах. И никакое насилие не может сделать невидимым то, что уже было увидено.
Молчание.
Федерцони (глядит в окно на солнечные часы в саду). Пять часов.
Вирджиния молится громче.
Андреа. Я не могу больше ждать! Слышите, они обезглавливают истину.
Андреа и маленький монах зажимают уши. Но звона колокола не слышно. После короткой паузы, заполненной бормотанием Вирджинии, Федерцони отрицательно качает головой. Андреа и маленький монах опускают руки.
Федерцони (хрипло). Ничего. Уже три минуты шестого.
Андреа. Он устоял!
Маленький монах. Он не отрекся.
Федерцони. Нет. Какое счастье!
Они обнимаются. Они безмерно счастливы.
Андреа. Не все можно сделать насилием! Насилие не всевластно. Итак, глупость можно победить; она не так уж неуязвима! Итак, человек не боится смерти.
Федерцони. Вот теперь действительно начинается время науки. Это час ее рождения. Подумайте только, если бы он отрекся!
Маленький монах. Я не говорил об этом. Но я так боялся. О, я маловер!
Андреа. А я знал это.
Федерцони. Если бы он отрекся, это все равно что если бы после утра опять наступила ночь.
Андреа. Если бы скала назвала себя водой,
Маленький монах (становится на колени и плачет). Господи, благодарю тебя!
Андреа. Но сегодня все изменилось! Человек подымает голову. Измученный страданиями, он говорит: я могу жить. Какая победа достигнута тем, что один человек сказал — нет!
В это мгновение раздается звон большого колокола собора Святого Марка. Все стоят оцепенев.
Вирджиния (подымается). Колокол Святого Марка! Он спасен, он не проклят!
С улицы доносится голос герольда, читающего отречение Галилея.
Голос герольда. «Я, Галилей, учитель математики и физики во Флоренции, отрекаюсь от того, что я утверждал: что Солнце является центром вселенной и неподвижно на своем месте и что Земля не является центром и не является неподвижной. Я отрекаюсь от этого, отвергаю и проклинаю с чистым сердцем и нелицемерной верою все эти заблуждения и ереси, равно как и все заблуждения и любое иное мнение, которое противоречит святой церкви».
Наступает тьма.
Когда снова становится светло, все еще слышен звон колокола, затем он прекращается. Вирджиния вышла. Ученики Галилея остались.
Федерцони. Он никогда не платил тебе за работу как следует. Ты не мог купить себе штанов, не мог сам печататься. Ты все терпел, потому что ведь это была «работа для науки».
Андреа (громко). Несчастна та страна, у которой нет героев!
Входит Галилей. Он почти до неузнаваемости изменился за время процесса. Он слышал слова Андреа. Несколько мгновений, стоя в дверях, он ждет, что с ним поздороваются. Но ученики отступают от него, и он идет медленно, неуверенными шагами, так как плохо видит; подходит к стулу и садится.
Я не могу смотреть на него. Пусть он уйдет.
Федерцони. Успокойся.
Андреа (кричит Галилею). Винный бурдюк! Обжора! Спас свою драгоценную шкуру? (Садится.) Мне худо.
Галилей (спокойно). Дайте ему стакан воды.
Маленький монах приносит Андреа стакан воды. Никто не обращает внимания на Галилея, который, молча прислушиваясь, сидит на стуле. Издалека слышен опять голос герольда.
Андреа. Теперь я могу идти, если вы мне поможете.
Они ведут его к двери. Голос Галилея останавливает их.
Галилей. Нет! Несчастна та страна, которая нуждается в героях.
Перед опущенным занавесом читают:
«Разве не ясно, что лошадь, упав с высоты в три или-четыре локтя, может сломать себе ноги, тогда как для собаки это совершенно безвредно, а кошка без всякого ущерба падает с высоты в восемь или десять локтей, стрекоза — с верхушки башни, а муравей мог бы даже с Луны. И так же как маленькие животные сравнительно сильнее и крепче, чем крупные, так же и маленькие растения более живучи. И теперь, я полагаю, господа, вы понимаете что дуб высотою в двести локтей не мог бы обладать ветвями в такой же пропорции, как дуб меньшего размера, и природа не могла бы создать лошадь, которая была бы величиной в двадцать лошадей, или великана в десять раз большего, чем обычный человек, без того, чтобы не изменить пропорции всех членов, особенно костей, которые должны быть утолщены во много раз по сравнению с нормальной пропорциональной величиной. Общепринятое мнение, что большие и малые машины одинаково прочны, очевидно, является заблуждением.
Галилей. Discorsi»{170}
XIV
1633–1642. Галилео Галилей живет в загородном доме вблизи Флоренции, вплоть до своей смерти оставаясь пленником инквизиции. «Discorsi»
С тысяча шестьсот тридцать третьего По тысяча шестьсот сорок второй год Галилео Галилей Был пленником церкви до дня смерти своей.Большая комната, в ней стол, кожаное кресло, глобус. Галилей, одряхлевший и полуслепой, очень тщательно производит опыт с деревянным шариком на изогнутом деревянном желобе. В передней сидит на страже монах. Стук в ворота. Монах отворяет, входит крестьянин, несущий двух ощипанных гусей. Из кухни выходит Вирджиния. Ей теперь примерно сорок лет.
Крестьянин. Велено их здесь отдать.
Вирджиния. От кого это? Я не заказывала гусей.
Крестьянин. Велено сказать — от проезжего. (Уходит.)
Вирджиния изумленно смотрит на гусей. Монах берет их, недоверчиво осматривает и ощупывает. Потом, успокоенный, возвращает. Вирджиния идет к Галилею, неся гусей за шеи.
Вирджиния. Какой-то проезжий передал тебе подарок.
Галилей. Что именно?
Вирджиния. Разве ты не видишь?
Галилей. Нет. (Подходит.) Гуси. Кто прислал, не сказано?
Вирджиния. Нет.
Галилей (берет одного гуся в руки). Тяжелый. Я бы съел еще кусочек гуся.
Вирджиния. Ты не мог уже проголодаться. Ведь ты только что ужинал. И что это опять с твоими глазами? Неужели ты даже на таком расстоянии не видишь?
Галилей. Ты стоишь в тени.
Вирджиния. Вовсе я не стою в тени. (Уходит в переднюю, унося гусей.)
Галилей. Не забудь к нему тмину и яблок.
Вирджиния(монаху). Необходимо послать за глазным врачом. Отец, стоя у стола, не смог увидеть гусей.
Монах. Пусть сначала монсиньор Карпула даст мне на это разрешение. Он опять сам писал?
Вирджиния. Нет. Он диктовал мне свою книгу, вы же знаете это. Вы уже получили страницы сто тридцать первую и сто тридцать вторую; это были последние.
Монах. Он старая лиса.
Вирджиния. Он не делает ничего, что противоречило бы предписаниям. Он раскаялся совершенно искренне. Я слежу за ним. (Отдает ему гусей.) Скажите там, на кухне, чтоб печенки поджарили, добавив одно яблоко и одну луковицу. (Проходит в большую комнату.) А теперь мы подумаем о наших глазах и быстренько перестанем возиться с этим шариком и продиктуем еще кусочек нашего еженедельного письма архиепископу.
Галилей. Я себя не совсем хорошо чувствую. Почитай мне немного из Горация.
Вирджиния. Только на прошлой неделе монсиньор Карпула, которому мы столь многим обязаны, — на днях он опять прислал овощи, — говорил мне, что архиепископ каждый раз его спрашивает, как тебе нравятся вопросы и цитаты, которые он тебе посылает. (Села, приготовилась писать под диктовку.)
Галилей. На чем я остановился?
Вирджиния. Раздел четвертый: что касается отношения святой церкви к беспорядкам в арсенале Венеции, то я полностью согласен с мнением кардинала Сполетти относительно мятежных канатчиков…
Галилей. Да. (Диктует.) Согласен с мнением кардинала Сполетти относительно мятежных канатчиков, а именно, что куда лучше выдавать им во имя христианской любви к ближнему похлебку, чем — платить им больше денег за канаты для колоколов. Поелику представляется более мудрым взамен их корысти укреплять их веру. Апостол Павел говорит: «благотвори с радушием». Ну как, тебе нравится?
Вирджиния. Это чудесно, отец.
Галилей. А тебе не кажется, что в этом можно усмотреть иронию?
Вирджиния. Нет, архиепископ будет очень рад. Он такой практичный.
Галилей. Я полагаюсь на твое суждение, Что там еще?
Вирджиния. Прекрасное изречение: «Когда я слаб — тогда я силен».
Галилей. Толкования не будет.
Вирджиния. Но почему же?
Галилей. Что там еще?
Вирджиния. «…И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову…». Послание апостола Павла к эфесянам, глава третья, стих девятнадцатый.
Галилей. Особенно благодарен я вашему преосвященству за дивную цитату из послания к эфесянам. Побуждаемый ею, я нашел в несравненном творении святого Фомы «Подражание Христу» (цитирует наизусть): «Он, кому глаголет вечное слово, свободен от многих расспросов». Смею ли я по сему поводу обратиться к вам по личному делу? Меня все еще попрекают за то, что некогда я написал книгу о небесных телах на языке простонародья. Но ведь это отнюдь не означало, что я тем самым хотел предложить, чтобы и книги на значительно более важные темы, такие, как, например, богословие, также писались на наречии продавцов макарон. Объясняя необходимость богослужения по-латыни, обычно говорят, что благодаря всеобщности этого языка все народности слушают одну и ту же святую мессу. Но такая аргументация представляется мне не совсем удачной, ибо дерзкие насмешники могли бы возразить, что, таким образом, ни одна из народностей не понимает смысла слов. Я, однако, считаю, что священные предметы вовсе и не должны быть общепонятны и всем доступны. Латынь, звучащая с амвона, оберегает вечные истины церкви от любопытства непосвященных, пробуждает к себе доверие, когда произносится священниками-выходцами из низших сословий, — с интонациями местного говора… Нет, вычеркни это…
Вирджиния. Все вычеркнуть?
Галилей. Все после слов «продавцов макарон».
В ворота стучат. Вирджиния выходит в переднюю. Монах открывает. Входит Андреа Сарти. Теперь он уже мужчина средних лет.
Андреа. Добрый вечер. Я уезжаю из Италии, чтобы вести научную работу в Голландии; меня просили посетить его, чтобы я мог сообщить о нем.
Вирджиния. Не знаю, захочет ли он тебя видеть. Ведь ты никогда не приходил. Андреа. Спроси его.
Галилей узнал голос Андреа. Сидит неподвижно. Вирджиния входит к нему.
Галилей. Это Андреа?
Вирджиния. Да. Сказать ему, чтоб уходил?
Галилей (после паузы). Веди его сюда.
Вирджиния вводит Андреа.
Вирджиния (монаху). Он не опасен. Он был его учеником. А теперь он его враг.
Галилей. Оставь нас вдвоем, Вирджиния.
Вирджиния. Я тоже хочу послушать, что он расскажет. (Садится.)
Андреа (холодно). Как вы поживаете?
Галилей. Подойди ближе. Чем ты занимаешься? Расскажи о своей работе. Я слышал, ты занимаешься гидравликой.
Андреа. Фабрициус из Амстердама поручил мне узнать, как вы себя чувствуете.
Пауза.
Галилей. Я чувствую себя хорошо. Мне уделяют много внимания.
Андреа. Меня радует, что я могу сообщить о том, что вы чувствуете себя хорошо.
Галилей. Фабрициус будет рад услышать это. Можешь сказать ему, что я живу с достаточными удобствами. Глубиной моего раскаяния я заслужил благорасположение моих руководителей настолько, что мне разрешено в известной мере вести научные работы под духовным надзором.
Андреа. Да, мы тоже слышали, что церковь довольна вами. Ваше полное подчинение подействовало. Уверяют, что церковные власти с удовлетворением отметили, что, с тех пор как вы покорились, в Италии не было опубликовано ни одной работы с новыми утверждениями.
Галилей (прислушиваясь). К сожалению, существуют и такие страны, которые уклоняются от покровительства церкви. Я опасаюсь, что эти осужденные учения продолжают развиваться там.
Андреа. И там ваше отречение также вызвало такие последствия, которые весьма радуют церковь.
Галилей. Вот как?
Пауза.
Ничего нового у Декарта? В Париже?
Андреа. Есть новое. Узнав о вашем отречении, Декарт спрятал в ящик свой трактат о природе света.
Продолжительная пауза.
Галилей. Я все беспокоюсь о тех моих ученых друзьях, которых я некогда увлек на неверный путь. Надеюсь, что их вразумило мое отречение?
Андреа. Чтобы иметь возможность вести научную работу, я намерен уехать в Голландию. То, чего себе не позволяет Юпитер, того, уж наверно, нельзя позволить быку.
Галилей. Понимаю.
Андреа. Федерцони опять шлифует линзы в какой-то миланской лавке.
Галилей (смеется). Он не знает латыни.
Пауза.
Андреа. Фульганцио, наш маленький монах, отказался от науки и вернулся в лоно церкви.
Галилей. Да.
Пауза.
Мои руководители предвидят, что скоро у меня наступит полное душевное оздоровление. Я делаю более значительные успехи, чем предполагалось.
Андреа. Так.
Вирджиния. Слава и благодарение господу!
Галилей (грубо). Погляди, как там гуси, Вирджиния.
Вирджиния, рассерженная, выходит. Монах заговаривает с ней, когда она проходит мимо него.
Монах. Этот человек мне не нравится.
Вирджиния. Он не опасен. Вы же слышите сами. Мы получили свежий козий сыр. (Уходит.)
Монах идет вслед за ней.
Андрея. Мне предстоит ехать всю ночь, чтобы завтра на рассвете пересечь границу. Могу я уйти?
Галилей. Я не знаю, зачем ты пришел, Сарти. Чтобы растревожить меня? Я живу осторожно и думаю осторожно с тех пор, как очутился здесь. Но все же бывает, что вдруг примусь за старое.
Андреа. Я не хотел бы вас волновать, господин Галилей.
Галилей. Барберини сказал, что это прилипчиво, как чесотка; он и сам не избежал этого. Я опять писал.
Андреа. Да?
Галилей. Я закончил книгу «Беседы».
Андреа. Ту самую? «Беседы о двух новых отраслях науки: механика и падение тел»? Здесь?
Галилей. Мне дают бумагу и перья. Мои руководители не глупцы. Они знают, что укоренившиеся пороки нельзя истребить за один день. Они оберегают меня от вредных последствий, забирая и пряча каждую новую страницу.
Андреа. О господи!
Галилей. Что ты сказал?
Андреа. Значит, вам позволяют пахать воду! Вам предоставляют бумагу и перья, чтобы вы были спокойны! И как же вы только могли писать, зная, куда это идет?
Галилей. О, я ведь раб моих привычек.
Андреа. «Беседы» в руках монахов! А в Амстердаме, в Лондоне, в Праге так жаждут их иметь!
Галилей. Да, мне кажется, что я слышу, как там скулит Фабрициус, требуя свою долю; сам-то он в Амстердаме в безопасности.
Андреа. Две новые отрасли науки все равно что утрачены!
Галилей. Однако и Фабрициуса и других несомненно ободрит, если они узнают, что я рискнул последними жалкими остатками своих удобств и снял копию, так сказать, тайком от самого себя, использовав малые толики света, в лунные ночи последних шести месяцев.
Андреа. У вас есть копия?
Галилей. Мое тщеславие до сих пор удерживало меня от того, чтобы ее уничтожить.
Андреа. Где она?
Галилей. «Если твое око соблазняет тебя, вырви его». Кто бы ни написал это, он понимал жизнь лучше, чем я. Мне кажется, что было бы верхом глупости отдать эту рукопись. Но раз я уж так и не сумел удержаться от научной работы, то вы могли бы ее получить. Рукопись лежит в глобусе. Если ты решишься увезти ее в Голландию, ты, разумеется, примешь на себя всю ответственность. В случае чего ты скажешь, что купил ее у кого-то, кто имел доступ к оригиналу, хранящемуся в святейшей коллегии.
Андрея (подошел к глобусу. Достает рукопись). «Беседы»! (Перелистывает рукопись. Читает.) «Мое намерение заключается в том, чтобы создать новую науку, занимающуюся очень старым предметом — движением. С помощью опытов я открыл некоторые свойства, которые заслуживают того, чтобы о них знали».
Галилей. Что-то же мне нужно было делать со своим временем.
Андреа. Это станет основанием новой физики.
Галилей. Спрячь за пазуху.
Андреа. А мы думали, что вы переметнулись. И я громче всех обвинял вас!
Галилей. Так и следовало. Я учил тебя науке, и я же отверг истину.
Андреа. Это меняет все. Все.
Галилей. Да?
Андреа. Вы спрятали истину. Спрятали от врага. Да, и в нравственности вы на столетия опередили нас.
Галилей. Объясни это, Андреа.
Андреа. Мы рассуждали так же, как люди толпы: «Он умрет, но не отречется». Но вместо этого вы вышли из тюрьмы: «Я отрекся, но буду жить». Мы сказали: «Ваши руки замараны». Вы ответили: «Лучше замараны, чем пусты».
Галилей. «Лучше замараны, чем пусты»! Звучит реалистически. Звучит по-моему. Новой науке — новая нравственность.
Андреа. Я первым должен был бы понять это! Мне было одиннадцать лет, когда вы продали венецианскому сенату подзорную трубу, изобретенную другим. И я видел, как вы нашли для этого же прибора бессмертное применение. Ваши друзья качали головой, когда вы склонялись перед мальчишкой во Флоренции, а наука приобрела аудиторию. Ведь вы всегда смеялись над героями. Вы говорили: «Страдальцы нагоняют на меня скуку». Вы говорили: «Несчастье проистекает из неправильных расчетов» и «Когда имеешь дело с препятствиями, то кратчайшим расстоянием между двумя точками может оказаться кривая».
Галилей. Да, я припоминаю.
Андреа. И когда, в тридцать третьем году, вы сочли нужным отречься от одного популярного тезиса вашего учения, я должен был понять, что вы просто отстранялись от безнадежной политической драки, с тем чтобы продолжать ваше настоящее дело — науку.
Галилей. Которая заключается…
Андреа. …в изучении свойств движения, являющегося матерью машин; именно они сделают землю такой благоустроенной, что можно будет отказаться от неба.
Галилей. Вот именно!
Андреа. Вы обрели время, чтобы создать научный труд, который могли создать только вы. Если бы вы погибли в огненной славе костра, то победителями были бы они.
Галилей. Они и есть победители. И нет таких научных трудов, которые мог бы создать только один человек.
Андреа. Почему же вы тогда отреклись?
Галилей. Я отрекся потому, что боялся пыток.
Андреа. Нет!
Галилей. Они показали мне орудия.
Андреа. Значит, не было обдуманного расчета?
Галилей. Не было.
Пауза.
Андреа (громко). Наука знает только одно мерило — вклад в науку.
Галилей. И я внес этот вклад. Добро пожаловать в сточную канаву, мой брат по науке и кум по измене! Ты ешь рыбу? Есть у меня и рыба. Но воняет здесь не от рыбы, это я сам провонял. Я продаю, ты покупаешь. Вот он, священный товар, перед которым нельзя устоять, — книга! При виде ее текут слюни, в них тонут проклятия. Великая вавилонская блудница, мерзостная смертоубийственная тварь разверзает чресла, и все становится иным. Да будет свято наше мошенническое, всеобеляющее, одержимое страхом смерти содружество!
Андреа. Страх смерти свойствен человеку! Человеческие слабости не имеют отношения к науке.
Галилей. Нет?! Дорогой мой Сарти, даже в моем нынешнем состоянии я все же чувствую себя способным дать вам несколько указаний о том, что имеет отношение к науке, которой вы себя посвятили.
Короткая пауза.
(Сложив руки на животе, говорит поучающим академическим тоном.) В свободные часы — у меня теперь их много — я размышлял над тем, что со мной произошло, и думал о том, как должен будет оценить это мир науки, к которому я сам себя уже не причисляю. Даже торговец шерстью должен заботиться не только о том, чтобы самому подешевле купить и подороже продать, но еще и о том, чтобы вообще могла вестись беспрепятственно торговля шерстью. Поэтому научная деятельность, как представляется мне, требует особого мужества. Наука распространяет знания, добытые с помощью сомнений. Добывая знания обо всем и для всех, она стремится всех сделать сомневающимися. Но князья, помещики и духовенство погружают большинство населения в искрящийся туман — туман суеверий и старых слов, — туман, который скрывает темные делишки власть имущих. Нищета, в которой прозябает большинство, стара, как горы, и с высоты амвонов и кафедр ее объявляют такой же неразрушимой, как горы. Наше новое искусство сомнения восхитило множество людей. Они вырвали из наших рук телескоп и направили его на своих угнетателей. И эти корыстные насильники, жадно присваивавшие плоды научных трудов, внезапно ощутили холодный, испытующий взгляд науки, направленный на тысячелетнюю, но искусственную нищету. Оказалось, что ее можно устранить, если устранить угнетателей. Они осыпали нас угрозами и взятками, перед которыми не могут устоять слабые души. Но можем ли мы отступиться от большинства народа и все же оставаться учеными? Движения небесных тел теперь более легко обозримы; но все еще непостижимы движения тех, кто властвует над народами. Благодаря сомнению выиграна борьба за право измерять небо. Но благодаря слепой вере римская домохозяйка все время проигрывает борьбу за молоко. Однако, Сарти, и та и другая борьба связаны с наукой. Человечество, бредущее в тысячелетнем искристом тумане, слишком невежественное, чтобы полностью использовать собственные силы, не сможет использовать и тех сил природы, которые раскрываете перед ним вы. Ради чего же вы трудитесь? Я полагаю, что единственная цель науки — облегчить трудное человеческое существование. И если ученые, запуганные своекорыстными властителями, будут довольствоваться тем, что накопляют знания ради самих знаний, то наука может стать калекой и ваши новые машины принесут только новые тяготы. Со временем вам, вероятно, удастся открыть все, что может быть открыто, но ваше продвижение в науке будет лишь удалением от человечества. И пропасть между вами и человечеством может оказаться настолько огромной, что в один прекрасный день ваш торжествующий клич о новом открытии будет встречен всеобщим воплем ужаса. Я был ученым, который имел беспримерные и неповторимые возможности, Ведь именно в мое время астрономия вышла на рыночные площади. При этих совершенно исключительных обстоятельствах стойкость одного человека могла бы вызвать большие потрясения. Если б я устоял, то ученые-естествоиспытатели могли бы выработать нечто вроде Гиппократовой присяги врачей — торжественную клятву применять свои знания только на благо человечества! А в тех условиях, какие создались теперь, можно рассчитывать — в наилучшем случае — на породу изобретательных карликов, которых будут нанимать, чтобы они служили любым целям. И к тому же я убедился, Сарти, что мне никогда не грозила настоящая опасность. В течение нескольких лет я был так же силен, как и власти. Но я отдал свои знания власть имущим, чтобы те их употребили, или не употребили, или злоупотребили ими — как им заблагорассудится — в их собственных интересах.
Вирджиния вошла с миской и остановилась в дверях.
Я предал свое призвание. И человека, который совершает то, что совершил я, нельзя терпеть в рядах людей науки.
Вирджиния. Зато теперь ты принят в ряды верующих. (Проходит в комнату, ставит миску на стол.)
Галилей. Правильно. А теперь мне пора есть.
Андреа протягивает ему руку. Галилей видит ее, но не пожимает.
Ты сам уже стал учителем. Как же ты можешь себе позволить пожать такую руку, как моя! (Идет к столу.) Какой-то проезжий прислал мне двух гусей. Я все еще люблю поесть.
Андреа. И вы теперь уже не думаете, что наступило новое время?
Галилей. Все-таки оно наступило. Будь осторожен, когда поедешь через Германию с истиной за пазухой.
Андреа (не в силах уйти). Что касается вашей, оценки автора, о котором мы сейчас говорили, я не знаю, что вам ответить. Но я не могу поверить в то, что ваш убийственный анализ останется последним словом.
Галилей. Благодарю, сударь. (Начинает есть.)
Вирджиния (провожая Андреа). Нам не очень приятны посещения старых знакомых. Они волнуют его.
Андреа уходит. Вирджиния возвращается.
Галилей. Как ты думаешь, кто прислал этих гусей?
Вирджиния. Не Андреа.
Галилей. Может быть, и не он. Какова ночь сегодня?
Вирджиния (у окна). Светлая.
XV
1637 год. Книга Галилея «Discorsi» переправлена через итальянскую границу
Поймите, люди, — так должно было случиться. Наука нас покинула, удрала за границу. А все мы, кто жадно стремился к знаниям, Оставшись одни, поневоле отстанем. Теперь уж вам науки чистый свет оберегать, Употреблять на благо, не злоупотреблять. Чтоб против вас он не восстал, Чтобы огня внезапный шквал И вас и нас бы не пожрал.Небольшой итальянский пограничный городок на рассвете. У пограничного шлагбаума играют дети. Андреа и кучер ожидают, пока пограничная стража проверит документы. Андреа сидит на сундучке и читает рукопись Галилея. По ту сторону шлагбаума видна дорожная карета.
Дети (поют).
Мария на камне сидела, Сорочку цветную надела. Сорочка от грязи замшелая. Когда же зима наступила, Мария все ту же сорочку носила — Сорочка грязна, зато целая.Пограничник. Почему вы уезжаете из Италии?
Андреа. Я ученый.
Пограничник (писцу). Запиши: «Причина выезда: ученый». Ваш багаж я должен проверить. (Роется в вещах.)
Первый мальчик (к Андреа). Вам не стоило бы здесь сидеть. (Показывает на хижину, перед которой сел Андреа.) Там живет ведьма.
Второй мальчик. Старая Марина вовсе не ведьма.
Первый мальчик. Хочешь, чтобы я тебе руку вывернул?
Третий мальчик. Конечно же, она ведьма. Ночью она летает по воздуху.
Первый мальчик. А если она не ведьма, то почему ей никто в городе не даст и капли молока?
Второй мальчик. Как она может летать по воздуху? Этого никто не может. (К Андреа.) Разве можно летать?
Первый мальчик (показывая на второго). Это Джузеппе. Он совершенно ничего не знает, потому что не ходит в школу, у него нет целых штанов.
Пограничник. Что это за книга?
Андреа (не поднимая головы). Это книга великого философа Аристотеля.
Пограничник (недоверчиво). Это еще кто такой?
Андреа. Он давно умер.
Мальчики, поддразнивая Андреа, ходят, уставившись в свои ладони, как в книги, словно читая на ходу.
Пограничник (писцу). Погляди, нет ли там чего-нибудь о религии.
Писец (перелистывая рукопись). Не могу ничего найти.
Пограничник. Да и нечего искать. Разве кто станет открыто выкладывать то, что хотел бы спрятать. (К Андреа.) Вы должны расписаться, что мы у вас все проверили.
Андреа нерешительно встает и, продолжая читать, уходит с пограничником в дом.
Третий мальчик (показывая писцу на сундучок). Тут еще что-то есть, видите?
Писец. Разве этого раньше не было?
Третий мальчик. Это черт принес. Это чертов сундук.
Второй мальчик. Да нет, это сундук проезжающего.
Третий мальчик. Я бы туда не пошел. Она заколдовала лошадей у возчика Пасси. После метели я сам смотрел сквозь дырку в крыше и слышал, как они кашляли.
Писец (уже подошел к сундучку, но колеблется и возвращается). Чертовы штуки! Да мы ведь и не можем все проверять. До чего бы мы тогда дошли?
Возвращается Андреа с кувшином молока. Он садится опять на сундучок и продолжает читать.
Пограничник (выходит вслед за ним с бумагами). Закрывай ящики. Итак, все проверено?
Писец. Все.
Второй мальчик (к Андреа). Ведь вы ученый? Скажите, разве можно летать по воздуху?
Андреа. Погоди немножко.
Пограничник. Можете проезжать.
Кучер взял вещи; Андреа поднимает сундучок и хочет идти.
Стой, а это еще что за сундук?
Андреа (снова погружаясь в рукопись). Это книги.
Первый мальчик. Это сундук ведьмы.
Пограничник. Чепуха. Как бы это сна могла наколдовать сундук?
Третий мальчик. Так ведь ей же черт помогает!
Пограничник (смеется). Ну здесь это не действует. (Писцу.) Открой!
Сундук открывают.
(Невесело.) Сколько их там?
Андреа. Тридцать четыре.
Пограничник (писцу). Сколько тебе времени потребуется?
Писец (начал небрежно рыться в сундуке). Да они все уже напечатаны. Так вы позавтракать не успеете. И если я стану перелистывать каждую книгу, кто тогда сбегает к кучеру Пасси, чтобы получить долг по дорожному сбору, когда его дом продадут с молотка?
Пограничник. Да, деньги нужно обязательно получить. (Толкает ногой книги.) Э, да что там может быть такого! (Кучеру.) Езжай!
Андреа уходит с кучером, тот несет сундучок. Они переходят границу. Оказавшись на той стороне, он засовывает рукопись Галилея в дорожный мешок.
Третий мальчик (показывая на кувшин, который оставил Андреа). Смотрите!
Первый мальчик. А сундук исчез! Вот видите, это все черт.
Андреа (оборачиваясь). Нет, это я. Учись смотреть открытыми глазами. За молоко заплачено и за кувшин тоже. Пусть все достанется старухе. Да, я еще не ответил на твой вопрос, Джузеппе. На палке нельзя летать по воздуху. Для этого к ней нужно было бы по меньшей мере приделать машину. Но такой машины пока не существует. Может быть, ее никогда и не будет, ведь человек слишком тяжел. Но, разумеется, этого знать нельзя. И мы вообще еще очень мало знаем, Джузеппе. У нас все впереди!
Примечания
1
Страна господа бога (англ.).
(обратно)2
лица игроков в покер (англ.).
(обратно)3
Скажите ваше имя по буквам (англ.).
(обратно)4
Сделано в Роттердаме (англ.)
(обратно)5
Вселенная божественного Аристотеля (лат.).
(обратно)6
Нарушены принципы! (лат.).
(обратно)7
Перевод А. Голембы.
(обратно)8
Зимой и летом, вблизи и вдали, пока я живу и после смерти (лат.).
(обратно)Комментарии
1
В течение пятидесятых и шестидесятых годов в ГДР (издательство «Ауфбау») и в ФРГ (издательства Зуркампа) вышли идентичные в обоих государствах многотомные издания произведений Б. Брехта, объединенных по жанрам его творчества: «Пьесы», «Стихотворения», «Проза», «Сочинения о театре», «Сочинения о литературе и искусстве», «Сочинения о политике и обществе». Вслед за тем издательство Зуркампа выпустило общее Собрание сочинений в 20-ти томах («Gesammelte Werke in 20 Banden, Frankfurt am Main, 1907). Это Собрание сочинений Брехта, в текстологическом отношении наиболее достоверное, и положено в основу настоящего издания.
Использованы переводы из прежних русских изданий Брехта, в частности: «Стихи, роман, новеллы, публицистика», Изд-во «Иностранная литература», М. 1950; «Театр», тт. 1–5, «Искусство», М. 1963–1965, и др. Однако старые переводы заново отредактированы, а многие произволения — это относится и к пьесам и к рассказам, но в особенности к стихам — в переводе на русский язык появляются впервые.
(обратно)2
СТИХОТВОРЕНИЯ
Песня железнодорожников из Форт-Дональда (стр. 27). — Впервые появилось 13 июля 1916 г. в газете «Аугсбургер нейесте нахрихтен».
(обратно)3
Форт-Дональд — пункт в бассейне реки Огайо, где через девственные леса прокладывалась железная дорога и где в 1913 г. во время сильнейшего наводнения погибло много людей.
(обратно)4
Легенда о девке Ивлин Ру (стр. 28). — Некоторые исследователи усматривают в этом стихотворении скрытую полемику с евангельской легендой о Марин Магдалине: для Марии обращение к Христу означало отпущение грехов и спасение — Ивлин Ру, несмотря на свою преданность сыну божьему, обречена на проклятие и гибель.
(обратно)5
О грешниках в аду (стр. 30). — Отто Мюллерэйзерт — гимназический товарищ Брехта, ставший впоследствии врачом, подпись которого стоит под официальным медицинским заключением о смерти Брехта.
(обратно)6
Каспар Неер — гимназический товарищ Брехта, выдающийся театральный художник, друживший и сотрудничавший с Брехтом в течение десятилетий.
(обратно)7
Георг Нфащелът — гимназический товарищ Брехта, умерший в молодости.
(обратно)8
Песня висельников (стр. 32). — Это стихотворение входило в состав небольшой рукописной книжки, озаглавленной «Песни под гитару Берта Брехта и его друзей, 1918».
(обратно)9
О Франсуа Вийоне (стр. 33). — Франсуа Вийон — гениальный французский поэт XV века. Бедствовал, бродяжничал, совершал преступления, был связан с воровскими шайками, подвергался преследованиям. По преданию, кончил жизнь на виселице. Наряду с Артюром Рембо, Редьярдом Киплингом и Франком Ведекиндом Вийон оказывал заметное влияние на поэзию Брехта в годы его молодости.
(обратно)10
О, Фаллада, висишь ты!.. (стр. 35). — Фаллада — имя лошади из сказки братьев Гримм «Гусиная пастушка».
(обратно)11
Баллада о старухе (стр. 37). — Стихотворение было напечатано в ноябре 1922 г. в журнале «Дас тагебух» с указанием, что этой публикацией журнал представляет читателям нового лауреата премии имени Клейста.
(обратно)12
Мария (стр. 38). — В этом стихотворении Брехт возвращает евангельскую легенду о рождестве Христовом к ее реальной бытовой первооснове.
(обратно)13
Рождественская легенда (стр. 38). — Варьирующийся рефрен этого стихотворения представляет собой парафраз христианской застольной молитвы.
(обратно)14
Я ничего не имею против Александра (стр. 40). — Тимур, или Тамерлан, — великий эмир Мавараинехра, крупнейший среднеазиатский завоеватель конца XIV — начала XV в.
(обратно)15
— Александр, — Имеется в виду Александр Македонский, великий греческий полководец и завоеватель IV в. до н. э.
(обратно)16
Гордиев узел (стр. 40). — Гордион, или Гордиум, — древняя столица Фригии. По преданию, основатель и первый правитель Гордиона Гордий оставил у дышла своей колесницы узел, который никто не мог развязать и который спустя четыре столетия разрубил мечом Александр Македонский.
(обратно)17
«Домашние проповеди» (стр. 43). — О предстоящем выходе этого сборника стихов Брехта издательство «Кипенхойер» сообщило в рекламном объявлении еще в 1922 г. Но вышла книга лишь спустя пять лет, в 1927 г., в другом издательстве («Пропилеен-ферлаг»). Основной корпус баллад и песен, составивших эту книгу, сложился уже к 1922 г.; он относился к аугсбургскому периоду жизни и творчества Брехта. В издании 1927 г. он был дополнен лишь очень немногими стихотворениями, написанными после 1922 г.
(обратно)18
Апфельбек, или Лилия в долине (стр. 45). — Стихотворение это во многом напоминает «жестокий романс» Франса Ведекинда «Убийца тети».
(обратно)19
О детоубийце Марии Фарар (стр. 47). — Толчком к написанию этого стихотворения послужило подлинное происшествие из судебной хроники Аугсбурга.
(обратно)20
Литургия дуновения (стр. 50). — Здесь переплетаются две пародийные линии: в социально-сюжетной части стихотворения пародируется многоголосый строй протестантского богослужения, в рефрене — хрестоматийно известное в Германии стихотворение Гете «Ночная песня странника». Весь контекст стихотворения придает рефрену обличительный характер. Сарказм Брехта направлен не столько против Гете, сколько против его современных эпигонов, представителей «чистой лирики», поэтов «покоя» и «гармонии», равнодушных к социальной несправедливости, к страданиям голодных и угнетенных и способных реагировать лишь на угрозу их собственному благополучию.
(обратно)21
Медведь — традиционный на Западе символ России; красный медведь — в данном случае символ Советской России, то есть нового, революционного и социалистического общественного порядка.
(обратно)22
Песня за глажкой белья об утраченной невинности (стр. 55). — На рукописи этого стихотворения рукой Брехта помечено: «Посвящается Г. Цилле». Генрих Цилле (1858–1929) — немецкий художник, график, бытописатель берлинских социальных низов.
(обратно)23
О городах (стр. 27). — Это — последнее по времени написания — стихотворение из «Домашних проповедей» несколько позднее было включено Брехтом в оперу «Подъем и упадок города Махагони» (1928–1929).
(обратно)24
Большой благодарственный хорал (стр. 60). — Стихотворение представляет собой полемическую параллель, почти пародию на популярный среди лютеран хорал бременского проповедника Иоахима Неандера «Хвала господу». Как замечает один из исследователей творчества Брехта, «антихристианское содержание хорала Брехта облечено в христианскую форму».
(обратно)25
О сподвижниках Кортеса (стр. 61). — Кортес (1485–1547) — испанский конкистадор, завоеватель Мексики.
(обратно)26
Хорал о Великом Ваале (стр. 73). Об утонувшей девушке (стр. 76). — Прежде, до включения их в «Домашние проповеди», входили в состав пьесы «Ваал» (1918). «Об утонувшей девушке» написано под влиянием Артюра Рембо, в частности, его стихотворения «Офелия».
(обратно)27
Легенда о мертвом солдате. — Одним из стимулов для написания этого антивоенного стихотворения было известие о гибели на фронте товарища Брехта солдата Кристиана Грумбейса. Брехт положил это стихотворение на музыку и исполнял его под гитару раненым в аугсбургском военном госпитале, в котором служил санитаром. По свидетельству одного из друзей юности Брехта Г.-О. Мюнстерера, в первоначальной редакции это стихотворение заканчивалось строфой:
Любое сословье свое мастерит: Музыканты — трезвон и вой, Священники — постный, набожный вид, А медики — годных в строй. (обратно)28
Против соблазна (стр. 80). — Первоначально стихотворение называлось «Вечерняя песня Люцифера», чем специально подчеркивалась его идея: развенчание христианских иллюзий, опровержение религиозного обмана.
(обратно)29
О бедном Б. Б. (стр. 81). — По поводу этого стихотворения — итогового в сборнике «Домашние проповеди» — один из исследователей замечает, что поэт высказывает «в маске рядового американца своего рода прогноз обо всей этой американизированной цивилизации» (Clemens Heselhans, Die Masken des Bertolt Brechts, in: «Deutsche Lyriker der Moderne», Düsseldorf, 1962). Ср. со стихотворением «О городах».
(обратно)30
«Из Хрестоматии для жителей городов» (стр. 83). — Стихотворения этого цикла, задуманные Брехтом как тексты для граммофонных пластинок, не были изданы ни на пластинках, ни в виде книги. В 1926–1927 гг. они частично и порознь были напечатаны в различных периодических изданиях, и лишь в 1930 г. во втором выпуске своих «Опытов» Брехт опубликовал десять стихотворений под общим названием «Из Хрестоматии для жителей городов».
(обратно)31
Баллада о приятной жизни (стр. 96). — Написана по мотивам одноименной баллады Франсуа Вийона.
(обратно)32
Сонет к новому изданию Франсуа Вийона (стр. 100). — Был напечатан в качестве предисловия к вышедшему в 1930 г. второму немецкому изданию стихотворений Франсуа Вийона в переводе К.-Л. Аммера. Сонет имеет свою историю. В отдельном издании «Сонгов Трехгрошовой оперы», вышедшем в 1928 г., Брехт снабдил пять сонгов пометкой: «По Ф. Вийону», забыв при этом указать, что им были частично использованы ранее изданные переводы К.-Л. Аммера (из 625 строк 25 были заимствованы у Амме-ра). Это упущение дало повод театральному критику Альфреду Керру, давнишнему противнику Брехта, обвинить последнего в плагиате. Брехт выступил в газете «Берлинер берзен курир» от 6 мая 1929 г. с объяснением. Статья Керра и ответ Брехта вызвали отклики в печати. Между тем Брехт, высоко ценивший переводы Аммера, добился их повторного издания, предпослав ему написанный для этой цели сонет.
(обратно)33
«Большое Завещание» — основное произведение Вийона, поэма со вставными балладами и рондо.
(обратно)34
Я сам немало из нее извлек. — Намек на использование некоторых баллад Вийона в «Трехгрошовой опере».
(обратно)35
Песня солидарности (стр. 100). — Эта песня, написанная Брехтом для фильма «Куле Вампе» и положенная на музыку Гансом Эйслером, вскоре приобрела всемирную известность в исполнении Эрнста Буша, стала боевой песней пролетарских демонстраций и митингов.
(обратно)36
Три параграфа Веймарской конституции (стр. 103). — Ваннзее, Николасзее — небольшие озера, окруженные роскошными виллами, в аристократическом юго-западном предместье Берлина.
(обратно)37
Ах, доктор… (стр. 106). — Это стихотворение было написано Брехтом для коммунистической агитпроппрограммы «Красное ревю», исполнялось оно Еленой Вайгель. Оно было направлено против ненавистного параграфа 218 (запрещение абортов), имевшего в условиях кризиса, безработицы, нищеты роковые последствия для неимущих слоев населения.
(обратно)38
Ни единой мысли не тратьте на то, что нельзя изменить… (стр. 107). — …при виде восстания на броненосце «Потемкин»… — Имеется в виду советский фильм «Броненосец «Потемкин» (режиссер Сергей Эйзенштейн), с огромным успехом демонстрировавшийся в Германии.
(обратно)39
Переезжая границу Советского Союза (стр. 109). — Это стихотворение возникло в связи с первым посещением Брехтом в 1932 г. Советского Союза по поводу премьеры фильма «Куле Вампе».
(обратно)40
Когда фашизм набирал силу… (стр. 110). — Рейхсбаннер — военизированная социал-демократическая организация в Веймарской республике.
(обратно)41
…то самое меньшее зло,//О котором твердят вам из года в год… — Социал-демократические лидеры выдвигали лозунг «меньшего зла», призывая во время президентских выборов 1925 г. голосовать за кандидата партии центра, как «меньшее зло» по сравнению с Гинденбургом, а во время президентских выборов 1932 г. голосовать за Гинденбурга, как «меньшее зло» по сравнению с Гитлером. Политика «меньшего зла» способствовала приходу Гитлера к власти.
(обратно)42
Социал-демократы//Приветствуют нас «Рот-Фронтом»… — Так называлось приветствие, введенное членами Союза красных фронтовиков, военизированной коммунистической организации: сжатый правый кулак, поднятый до уровня головы.
(обратно)43
«Песни, стихотворения, хоры» (стр. 111). — Этот второй сборник стихов Брехта был им составлен в изгнании, в Дании, и был издан в Париже в 1934 г. На книге значилось также имя Ганса Эйслера и были приложены ноты к некоторым из положенных им на музыку стихотворений Брехта.
(обратно)44
Эпитафия 1919 (стр. 111). — Красная Роза. — Имеется в виду Роза Люксембург, принадлежавшая (наряду с Карлом Либкнехтом) к основателям и вождям Коммунистической партии Германии. Оба они были убиты контрреволюционным офицерьем 15 января 1919 г. в Берлине.
(обратно)45
Колыбельные песни (стр. 111). — Это стихотворение приобрело широкую известность в пролетарской аудитории в исполнении Елены Вайгель.
(обратно)46
Блюхер и Мольтке//Не побеждали так. — Гебхард Блюхер — прусский генерал периода антинаполеоновских войн, сыгравший в частности важную роль в битве при Ватерлоо. Гельмут
Мольтке — прусский фельдмаршал, начальник полевого штаба во время войн Пруссии с Австрией (1860) и Францией (1870–1871).
(обратно)47
Песня о штурмовике (стр. 114). — Это стихотворение было написано Брехтом для «Красного ревю», положено на музыку Гансом Эйслером и стало широко известно в исполнении Эрнста Буша. Заключительная строфа этого стихотворения, прогнозировавшая политическое прозрение и положительный поворот в поведении героя, оказалась исторически несостоятельной; поэтому после фашистского переворота Брехт ее снял, и в дальнейших изданиях она отсутствовала.
(обратно)48
Песня о классовом враге (стр. 115). — В этом стихотворении в иносказательной форме излагается история Германии от первой мировой войны до прихода Гитлера к власти.
(обратно)49
…терпя небольшое горе,//Избегнем мы больших зол. — См. примечание к стихотворению «Когда фашизм набирал силу…».
(обратно)50
…вслед за попом был юнкер //За юнкером — генерал. — Правительство деятеля католической партии центра Брюнинга сменилось правительством ставленника крупных землевладельцев юнкера фон Папена, которое, в свою очередь, было сменено правительством генерала Шлейхера.
(обратно)51
//Понятие «классовый враг». — Фашистская пропаганда утверждала демагогический тезис о «народной общности» и отсутствии классовой борьбы в Третьей империи.
(обратно)52
Напрасно ты будешь стремиться//Замазать вражду, маляр! — Маляр — часто употребляемое Брехтом ироническое обозначение Гитлера, который «усердно замазывает краской трещины в стенах разваливающегося дома».
(обратно)53
Из «Хоралов о Гитлере» (стр. 120). — Эти стихотворения представляют собой антифашистские пародии на популярные тексты из сборника протестантских псалмов и хоралов.
(обратно)54
Погребение подстрекателя в цинковом гробу (стр. 125). — Гитлеровцы выдавали тела убитых в концлагерях антифашистов родственникам для погребения в запаянных цинковых гробах, чтобы скрыть следы пыток и истязаний.
(обратно)55
Послание товарищу Димитрову… (стр. 126). — …обвиняешь виновных и заставляешь их орать, вытаскивать тебя из зала… — Имеется в виду конкретный эпизод Лейпцигского процесса: уличаемый Димитровым в организации поджога рейхстага Геринг, выступавший перед судом в качестве «свидетеля», пришел в ярость, начал публично выкрикивать угрозы по адресу Димитрова и потребовал его удаления из зала суда.
(обратно)56
Баллада об одобрении мира (стр. 128). — Первоначально носила подзаголовок, позднее Брехтом снятый: «Ввиду чрезвычайного закона, запрещающего осуждение» (правительство Брюнинга издало целый ряд «чрезвычайных», то есть идущих вразрез с постоянно действующими, законов).
(обратно)57
Волшебною горой почтил нас автор… — Этот выпад против Томаса Манна (автора романа «Волшебная гора») характеризует неизменно настороженное, а подчас и резко отрицательное отношение Брехта к мастеру современной немецкой реалистической прозы.
(обратно)58
Седлоголовые Георга Гросса… — Георг Гросс, талантливый немецкий график и карикатурист, в особенности прославился созданными им злыми сатирическими образами спекулянтов и нуворишей Веймарской республики.
(обратно)59
Померкшая слава Нью-Йорка, города — гиганта (стр. 133). — Мы ее называли по одним лишь начальным буквам — США, словно… друга юности. — В Германии принята фамильярно-дружеская форма обращения по инициалам.
(обратно)60
…в один прекрасный день по миру пронесся слух о небывалых катастрофах… — Имеется в виду так называемая «черная пятница» в октябре 1929 г., день колоссального биржевого краха в Нью-Йорке, знаменовавшего наступление мирового экономического кризиса 1929–1933 гг.
(обратно)61
Когда изгнали меня на чужбину… (стр. 147). — …в некоем стихотворенье я надругался… — Имеется в виду «Легенда о мертвом солдате».
(обратно)62
Против объективных (стр. 149). — Брехт несколько раз изменял название этого стихотворения. Было: «Наши поражения ничего не доказывают» и «Нетерпение тех, кто пребывает в безопасности».
(обратно)63
Медея из Лодзи (стр. 154). — Стихотворение представляет собой один из откликов Брехта на антисемитскую пропаганду гитлеровцев.
(обратно)64
Песня о Сааре (стр. 156). — Стихотворение было написано к плебисциту в Саарской области по вопросу о присоединении к Германии. Плебисцит состоялся 13 января 1935 г.
(обратно)65
Дырка в ботинке Ильича (стр. 158). — Это стихотворение возникло во время второго посещения Брехтом Советского Союза в 1935 г.
(обратно)66
Дворец профсоюзов. — Видимо, имелся в виду Дворец Советов, проект строительства которого остался неосуществленным.
(обратно)67
Мысль в произведениях классиков (стр. 163). — Классики — часто употребляемое Брехтом понятие. Так он называл не художников, не писателей, а классиков марксизма-ленинизма.
(обратно)68
Цитата (стр. 169). — Под псевдонимами Кин или Кин-Е Брехт часто изображал себя самого.
(обратно)69
Хвала сомнению (стр. 170). — Отплывавшая Великая Армада была неисчислима… — Великой, или Непобедимой, Армадой называли испанский флот под командованием адмирала Медина Седониа. В августе 1588 г. Армада была разгромлена и почти полностью уничтожена английским флотом.
(обратно)70
«Свендборгские стихотворения» (стр. 174). — Этот третий сборник стихов Брехта назван по имени небольшого датского городка Свендборга, вблизи которого поэт жил в 1933–1939 гг. Сборник составлен из произведений, отобранных Брехтом и его сотрудницей Маргарете Штеффин для издания «Избранных стихотворений», которое готовилось издательством Малик в Праге. Последний раздел этого издания должен был называться «Стихи в изгнании». Издание не смогло осуществиться из-за гитлеровского вторжения в Чехословакию. Тогда Брехт и издатель, переехавший из Праги в Лондон, решили последний раздел несостоявшегося издания выпустить отдельной книгой. «Свендборгские стихотворения» были напечатаны в Копенгагене в 1939 г., незадолго до начала второй мировой войны.
(обратно)71
Баллада о Марии Зандере, «еврейской шлюхе» (стр. 178). — В Нюрнберге они сочинили закон, — В Нюрнберге проводились имперские партейтаги (съезды) гитлеровской партии. Здесь было выработано расовое законодательство, согласно которому связь «арийской женщины» с евреем объявлялась «расовым бесчестьем» и подлежала уголовному преследованию.
(обратно)72
Гитлер и Штрайхер шагают к славе. — Юлпус Штрайхер, впоследствии повешенный по приговору Международного трибунала, был редактором газеты «Штурмовик» и видным нацистом, в особенности известным своей погромной антисемитской пропагандой.
(обратно)73
Баллада об осекских вдовах (стр. 179). — В более поздних изданиях Брехт снабдил это стихотворение примечанием: «120 жен и 80 детей горняков, погибших в Осекской нельсоновской шахте, пришли в апреле 1934 года в Прагу и явились в парламент, чтобы напомнить о своих требованиях».
(обратно)74
Мой брат был храбрый летчик (стр. 181). — …и укатил на юг. — Подразумевается итало-германская фашистская интервенция в Испании в 1930–1939 годах.
(обратно)75
Песня единого фронта (стр. 181). — О возникновении этой песни композитор Ганс Эйслер вспоминает: «Она была написана в 1936 году в Лондоне. Так как после Конгресса Народного Фронта вопрос о единство рабочего класса снова был очень важен, Брехт позвонил мне и сказал, что об этом нужно написать песню. На следующий день Эрнст Буш уже пел ее по-английски». Песня приобрела в 30-е годы огромную международную популярность.
(обратно)76
Резолюция коммунаров (стр. 182). — Эта песня впоследствии была включена Брехтом в пьесу «Дни Коммуны».
(обратно)77
Вопросы читающего рабочего (стр. 184). — Фридрих Второй одержал победу в Семилетней войне, — Исторически неточно: во время Семилетней войны прусский король Фридрих II неоднократно терпел поражения (крупнейшее из них при Кунерсдорфе) от русских войск, которые в 1760 г. даже заняли Берлин. Фридрих II был спасен лишь тем, что вступивший на русский престол пруссофильски настроенный Петр III отказался от продолжения войны с Пруссией.
(обратно)78
Башмак Эмпедокла (стр. 184). — Эмпедокл (490–430 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, поэт и врач, житель Сицилии. На сюжет легенды о его смерти Фридрих Гёльдерлин написал драму «Смерть Эмпедокла».
(обратно)79
Легенда о создании книги «Дао Дэ-цзин» на пути Лао Цзы на чужбину (стр. 187). — Лао Цзы — полумифический китайский мудрец, живший в VI в. до н. э., основатель религии даосизма, положения которой сформулированы в книге «Дао Дэ-цзин».
(обратно)80
Посещение изгнанных поэтов (стр. 189). — Все названные в этом стихотворении поэты подвергались изгнанию или другим формам преследования и в этом смысле были сотоварищами Брехта.
(обратно)81
С приходом Якова даже мне запретили писать. — Исторически неточно: Шекспир отошел от литературной и театральной деятельности лишь с 1613 г., то есть спустя десять лет после восшествия на престол Якова I.
(обратно)82
Притча Будды о горящем доме (стр. 190). — Будда (по санскритски «просветленный») — прозвище Сиддхартха, основателя буддистской религии; жил в V–IV в. до н. э. Другое его прозвище (племенное) — Гаутама.
(обратно)83
Непобедимая надпись (стр. 194). — Сюжет этого стихотворения почерпнут Брехтом из автобиографической повести Джованни Джерманетто «Записки цирюльника», вышедшей в 1930 г. в немецком переводе. О сходной истории, произошедшей в Сорренто в 1924 г., сообщал и М. Горький в «Беседе с молодыми ударниками, вошедшими в литературу».
(обратно)84
Уголь для Майка (стр. 194). — Это стихотворение написано под впечатлением романа Шервуда Андерсона «Бедный белый», изданного в Германии в 1925 г.
(обратно)85
«Уилинг Рэйльрод» — железнодорожная компания.
(обратно)86
Примкнувшим (стр. 199). — Это стихотворение было написано для Московского радио и в 1935 г. передавалось на Германию.
(обратно)87
На смерть борца за мир (стр. 201). — Стихотворение посвящено памяти мужественного немецкого публициста — антифашиста и антимилитариста Карла фон Осецкого (1889–1938), лауреата Нобелевской премии, умершего от истязаний в гитлеровских застенках.
(обратно)88
Сожжение книг (стр. 203). — Это стихотворение имеет значение документально-исторического свидетельства. Действительно, 10 мая 1933 г. в Берлине, на площади перед Оперой, фашисты в «торжественной» обстановке, при свете прожекторов произвели публичное сожжение неугодных им книг. И действительно, случайно «обойденный» ими немецкий писатель-антифашист Оскар Мариа Граф опубликовал тогда страстный протест — «Сожгите меня!», обошедший затем мировую прессу. Это стихотворение, как и восемь последующих, входит в цикл «Немецких сатир», написанных Брехтом в 1937–1938 гг. для Московского радио на немецком языке.
(обратно)89
Запрещение театральной критики (стр. 212). — Прежде всего он//Запретил театральную критику. — Действительно, при фашизме критика литературы и искусства была запрещена и заменена «созерцанием» (Betrachtung).
(обратно)90
Ежегодно первого мая… — Учитывая огромную популярность первомайского праздника среди немецких трудящихся и стремясь в то же время лишить этот праздник его интернационального и революционного характера, гитлеровцы объявили 1 Мая «днем национального труда» и ежегодно торжественно его отмечали.
(обратно)91
Спектакль, проводимый вблизи Байрейта под названием «Имперский партейтаг». — Нюрнберг, в котором проводились фашистские партейтаги, находится недалеко от города Байрейта, где осуществляются традиционные праздничные постановки опер Вагнера.
(обратно)92
А в вашей стране? (стр. 214). — Этим стихотворением Брехт приветствовал в 1935 г. своего друга Лиона Фейхтвангера.
(обратно)93
Литература будет проверена (стр. 220). — Это стихотворение было написано к семидесятилетию друга Брехта, известного датского писателя Мартина Андерсена Нексе. Оно публиковалось также под другими названиями: «Как грядущие времена судить будут о наших писателях» и «История литературы». На одной из рукописей сохранилось также название «Песня о судьях».
(обратно)94
О повседневном театре (стр. 228). — Это стихотворение и четыре последующих входят в состав театрально-теоретического трактата Брехта «Покупка меди». Первую публикацию этого стихотворения Брехт сопроводил примечанием: «О повседневном театре» и следующие стихотворения относятся к «Покупке меди, диалогам о новых задачах театра».
(обратно)95
После смерти моей сотрудницы М. Ш. (стр. 237). — Маргарете Штеффин — служащая и член коллектива молодых актеров — исполняла роль служанки в берлинской постановке «Матери» Брехта (1932 г.). С этого времени она принадлежала к кругу ближайших сотрудников Брехта. Тяжело больная, она эмигрировала вместе с ним в 1933 г., делила его скитания. В мае 1941 г. по пути из Финляндии в США она скончалась в Москве от туберкулеза легких.
(обратно)96
На самоубийство изгнанника В. Б. (стр. 239). — Вальтер Беньямин — друг Брехта, немецкий литературовед, философ, социолог, эссеист. С 1933 г. жил как антифашист-эмигрант в Париже.
(обратно)97
Ты последней не одолел границы // И земной перешел рубеж… В сентябре 1940 г. Беньямин, спасаясь от немецко-фашистских войск, был задержан испанским патрулем при попытке перейти франко-испанскую границу. Понимая, что он будет выдан гестапо, Беньямин предпочел добровольную смерть.
(обратно)98
Письмо драматургу Одетсу (стр. 250). — Клиффорд Одетс — американский драматург, занимавший в 30-е годы революционные позиции, а затем поставлявший сценарии для коммерческих фильмов Голливуда. Датировка этого стихотворения неясна. Оно может относиться либо к концу 1935 — началу 1936 г., когда Брехт приезжал в Нью-Йорк и, возможно, видел пьесу Одетса на сцене, либо к 40-м гг., когда Брехт жил в США и неоднократно встречался с Одетсом у Ганса Эйслера.
(обратно)99
Все снова и снова… (стр. 254). — Тянутся желтые люди в мертвые лагеря. — Вскоре после начала войны между США и Японией многочисленные японцы, жившие на западном побережье США — в большинстве своем рыбаки, фермеры и садоводы, — были выселены из родных мест и интернированы в лагерях в глубине страны.
(обратно)100
Письма о прочитанном (стр. 258). — Санта-Моника — предместье Лос-Анджелеса, где Брехт жил в 1941–1947 гг.
(обратно)101
Сатурнов стих — древнейший стих италийской народной поэзии, позднее вытесненный пришедшим из Греции гекзаметром.
(обратно)102
Бараний марш (стр. 260). — Рефрен этой песни пародирует гитлеровский гимн «Песню Хорста Весселя».
(обратно)103
С чувством позора (стр. 267). — Это стихотворение входит в текст заключительной части хоровой композиции «Немецкое убожество», сочиненной композитором Паулем Дессау на слова Брехта.
(обратно)104
Баллада о приятной жизни гитлеровских сатрапов (стр. 267). — Ср. с «Балладой о приятной жизни» из «Трехгрошовой оперы». Данное стихотворение было написано во время процесса над главными военными преступниками, представшими перед Международным трибуналом в Нюрнберге.
(обратно)105
Толстяк рейхсмаршал — то есть Герман Геринг
(обратно)106
…шампанским торговавший… — Гитлеровский министр иностранных дел фон Риббентроп прежде был агентом фирмы по торговле шампанскими винами.
(обратно)107
…в Бисмарки ефрейтором крещенный… — то есть возведенный в сан крупного дипломата Гитлером, который сам был ефрейтором во время первой мировой войны.
(обратно)108
Из чувства «долга» предал он друзей… — После покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. были казнены десятки генералов и высших офицеров вермахта, причем многие из них были друзьями или сослуживцами Кейтеля, который не только не пытался спасти их, но, напротив, стремясь выслужиться перед Гитлером, активно участвовал в расправе с заговорщиками.
(обратно)109
Лоэнгрин и Парцифаль — легендарные герои средневековых куртуазных романов.
(обратно)110
Грааль — сказочная чаша, описанная в романе средневекового поэта Кретьена де Труа «Персеваль, или Повесть о Граале».
(обратно)111
Валгалла — по древнегерманским поверьям, загробное обиталище героев, павших на поле боя.
(обратно)112
Анахроничное шествие, или Свобода и демократия (стр. 269). — Это стихотворение написано в подражание гротескно-сатирической поэме Шелли «Маскарад анархии». В 1938 г. Брехт перевел отрывки из этой поэмы и процитировал их в своей статье «Широта и многообразие реалистического метода» (см.: Б. Брехт, Театр, т. 5/1, М. 1965, стр. 156–163).
(обратно)113
…в зону трех держав — то есть в американскую, британскую и французскую зоны оккупации Германии.
(обратно)114
«Сэв дзы кинг», «Алонзанфан» — исковерканные слова из британского и французского государственных гимнов.
(обратно)115
Слуга того, кто в Риме… — то есть папы римского.
(обратно)116
«Штурмовик» — нацистская газета погромно-антисемитского направления, которую издавал Юлиус Штрайхер.
(обратно)117
«Ами» — американцы.
(обратно)118
Главный город всех несчастий. — Имеется в виду Мюнхен (расположенный на реке Изар), где зародилась и делала свои первые шаги гитлеровская национал-социалистская партия.
(обратно)119
Коричневый дом — резиденция НСДАП в Мюнхене.
(обратно)120
«Подборка М. Штеффин» (стр. 273). — В течение 1937–1940 гг. сотрудница Брехта Маргарете Штеффин собирала и сохраняла выходившие из-под пера Брехта разрозненные стихотворения. После смерти М. Штеффин остались две рукописи. На одной из них рукой Брехта написано: «Подборка М. Штеффин», на другой — «Стихотворения, собранные моей сотрудницей Маргарете Штеффин приблизительно с 1937 года в Дании, Швеции и Финляндии». Вернувшись из эмиграции в Берлин, Брехт собирался издать «Подборку М. Штеффин» в виде особого раздела в книге стихотворений, написанных в изгнании, но не успел осуществить это намерение.
(обратно)121
Актеру П. Л. в изгнании (стр. 284). — Имеется в виду Петер Лорре, который в веймарские годы был занят в нескольких брехтовскнх спектаклях и с которым Брехт был дружен во время эмиграции в США.
(обратно)122
О счастье дарения (стр. 284). — Это стихотворение вошло в состав либретто онеры «Персидская легенда» Рудольфа Вагнер-Речени и Каспара Неера.
(обратно)123
О воинственном учителе (стр. 284). — Старый Фриц — прусский король Фридрих II, кумир германских шовинистов и милитаристов.
(обратно)124
Китайский лев, выточенный из корней чайного куста (стр. 288). — На суперобложке сборника Брехта «Сто стихотворений» по предложению Виланда Херцфельде была напечатана фотография льва, выточенного из корней чайного куста. Для этой суперобложки Брехт написал и данное стихотворение.
(обратно)125
Песня о счастье (стр. 288). — Это стихотворение было написано Брехтом для кинофильма «Женские судьбы».
(обратно)126
Неуловимые ошибки Комиссии по делам искусств (стр. 291). — В этом и в следующем стихотворениях Брехт подвергает критике догматические взгляды в области искусства и методы грубого администрирования, которые применялись в период культа личности некоторыми органами руководства культурой.
(обратно)127
Не то имелось в виду (стр. 291). — Это стихотворение было ответом на демагогический маневр реакционных кругов на Западе, объявивших с политически провокационной целью о своей солидарности с той критикой догматических извращений в области культуры, которая исходила от Академии искусств ГДР и особенно яркое выражение нашла в статье Брехта «Культурная политика и Академия искусств» (см.: Б. Брехт, Театр, т. 5/1, М. 1965, стр. 135–138).
(обратно)128
«Буковские элегии» (стр. 295). — Этот последний цикл стихотворений Брехта был написан в 1953 г., главным образом в летние месяцы, в загородном доме, который он снимал под Берлином в населенном пункте Буков. При жизни Брехта стихи из этого цикла издавались выборочно, небольшими подборками. Первое полное отдельное издание вышло в 1964 г.
(обратно)129
Над советской книгой (стр. 299). — Брехт имел в виду книгу А. Аграновского и В. Галактионова «Река становится морем».
(обратно)130
РАССКАЗЫ
Смерть Цезаря Малатесты. — Впервые было напечатано в газете «Берлинер берзен курир», 29/VI 1924 г..
(обратно)131
Четверо мужчин и покер. — Первая публикация — в журнале «Симилициссимус», № 5, 3/V 1926 г.
(обратно)132
Стрит и флешь-ройяль — комбинации в покере.
(обратно)133
Изверг. — Было напечатано в газете «Берлинер иллюстрирте цейтунг», № 50, декабрь 1928 г. Рассказ получил первую премию в объявленном этой газетой конкурсе на лучший рассказ. Фильм «Белый орел» (по рассказу Л. Андреева «Губернатор») был снят в 1928 г.; режиссер Протазанов, в главной роли — В. Качалов.
(обратно)134
Солдат из Ла-Сьота. — Впервые было опубликовано в журнале «Интернационале литератур», 1937, № 2, под названием «Человек-статуя». Написан был рассказ в 1935 г., когда началась итало-абиссинская война; в первой редакции рассказа содержалось прямое указание на события начала этой войны, как на события, происходящие в настоящее время.
(обратно)135
Кир и Камбиз — древнеперсидские цари и завоеватели, жившие в VI в. до н. э.
(обратно)136
Артаксеркс — имя трех персидских царей V–IV вв. до н. э.
(обратно)137
Людендорф — генерал-квартирмейстер германской армии во время первой мировой войны.
(обратно)138
Плащ еретика. — Было напечатано в журнале «Интернационале литератур», 1939, № 8, под названием «Плащ ноланца».
(обратно)139
…тайны физики и мнемоники. — Мнемоника — совокупность правил, приемов, имеющих целью облегчить запоминание возможно большего числа сведений, фактов.
(обратно)140
Опыт. — Рассказ был написан в 1939 г. в Дании; первоначальное его название — «Помощник конюха». Впервые был опубликован в сборнике Брехта «Истории из календаря», Берлин, 1949.
(обратно)141
Раненый Сократ. — Написано в Дании в 1939 г., опубликовано в 1949 г. в сборнике «Истории из календаря».
(обратно)142
Протагор — древнегреческий философ-софист.
(обратно)143
Горгий — сицилийский софист, оратор, приезжавший в Афины.
(обратно)144
Рассказы о господине Койнере. — Короткие рассказы и притчи, образующие этот цикл, Брехт начал писать с 1926 г. и пополнял его вплоть до последних лет жизни. Они публиковались небольшими подборками в разных изданиях начиная с 1930 г.
(обратно)145
ПЬЕСЫ
БАРАБАНЫ В НОЧИ
Пьеса была написана вскоре после восстания «Спартака» в Берлине в январе 1919 года. Вспоминая о своем знакомстве с Брехтом, Лион Фейхтвангер писал в 1928 году: «На рубеже 1918–1919 годов, вскоре после начала так называемой германской революции, в мою мюнхенскую квартиру явился очень молодой человек, худощавый, плохо выбритый, небрежно одетый. Он жался к стенке, разговаривал на швабском диалекте, написал пьесу, звался Бертольтом Брехтом. Пьеса называлась «Спартак»… Позднее, уже добившись постановки «Спартака», я убедил Брехта назвать пьесу «Барабаны в ночи».
Премьера «Барабанов в ночи» (режиссер Отто Фалькенберг) состоялась в Мюнхенском камерном театре 29 сентября 1922 года. Ее успех принес Брехту литературную премию имени Клейста. За мюнхенской премьерой последовали премьера в Берлине и постановки в ряде других городов. В 1923 году пьеса вышла отдельным изданием в Издательстве трех масок в Мюнхене. В начале 50-х годов, готовя многотомное издание своих пьес, Брехт подверг «Барабаны в ночи» довольно существенной переработке, смысл которой объяснил в статье «Перечитывая мои первые пьесы» (см.: Бертольт Брехт, Театр, т. 5/1, «Искусство», М. 1965, стр. 286–292). В настоящем издании мы помотаем именно эту позднюю, переработанную автором редакцию пьесы. В русском переводе она выходит впервые.
Как и другие произведения Брехта конца 10-х — начала 20-х годов, пьеса «Барабаны в ночи» была внутренне полемична по отношению к экспрессионизму, прежде всего к его абстрактно-гуманистическим идеалам и этическим представлениям. Брехт считал невозможным правдивое изображение революции, если не исходить при этом из рассмотрения социальных и материальных интересов лиц и общественных слоев, в ней участвующих. Его возмущала идеалистическая позиция тех писателей, которые «отказывались принимать во внимание подлинные, повсеместно наблюдаемые явления и изображали революцию как чисто духовный, этический подъем людей». Эта полемичность, заключенная в самой пьесе, была в дерзкой, вызывающей форме подчеркнута и при ее сценическом воплощении в Мюнхенском камерном театре. Так, в зрительном зале были развешены транспаранты с изречениями из заключительного монолога Краглера: «Нечего глазеески так романтически!» и т. д.
(обратно)146
СТРАХ И НИЩЕТА В ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ
Сцены были написаны в 1934–1938 годах, впервые изданы в 1938 году в Праге, но весь тираж издания пропал в связи с немецко-фашистской оккупацией Чехословакии. В первое издание входило 27 сцен, во все последующие — 24: три сцены — «Выборы», «Новое платье» и «Что помогает против газа?» — Брехт снял, а сцену «Интернационал» заменил аналогичной ей по теме сценой «Болотные солдаты».
На русский язык сцены были переведены в 1941 году и тогда же вышли отдельным изданием. В это издание входило лишь 14 сцен. Многие сцены печатались в журналах. Первый полный перевод был издан в 1950 году в однотомнике пьес Брехта (изд-во «Искусство»).
«В сценах «Страх и нищета в Третьей империи», — пишет В. Миттенцвай, — Брехт показал, как фашизм вторгся во все области жизни, как он отравил и разрушил самые интимные человеческие отношения» (W. Mittenzwei, Bertolt Brecht, Berlin, 1962, S. 194). В этих 24 сценах дана панорама политико-морального состояния всех общественных слоев Третьей империи — интеллигенции и мелкой буржуазии, рабочего класса и крестьянства и т. д., находящихся под гнетом кровавого террора и порождаемого им страха. В рабочих заметках, озаглавленных «Страх и нищета в Третьей империи», давая как бы обобщенный вывод из своих сцен, Брехт писал: «Германия, наша родина, стала народом, состоящим из двух миллионов шпиков и восьмидесяти миллионов подвергаемых шпионской слежке… То, что отец говорит сыну, он говорит, чтобы не быть арестованным. Священник листает свою Библию, ища слова, которые он может произнести, не будучи арестованным. Учитель подыскивает для какого-то деяния Карла Великого такую причину, которую он может преподать ученикам без того, чтобы его за это арестовали. Подписывая свидетельство о смерти, врач выбирает такую причину смерти, чтобы она не привела к его аресту. Поэт ломает голову над рифмой, за которую его нельзя было бы арестовать. И крестьянин решает не давать корма своей свинье, чтобы избежать ареста» (Архив Брехта, 42/45-46).
Первое представление состоялось в Париже 21 мая 1938 года на немецком языке. Режиссер — Златан Дудов. В ролях: Елена Вайгель, Эрнст Буш, Эрих Шенланк, Штефи Шпира и другие. Спектакль назывался «99 процентов». В него входило восемь сцен: «Меловой крест», «Зимняя помощь», «Шпион», «Жена-еврейка», «Два булочника», «Правосудие», «Крестьянин кормит свинью» и «Работодатели». Постановка была организована парижской секцией Союза немецких писателей. Весь сбор поступил в пользу немецкого национального комитета помощи республиканской Испании. Спектакль имел большой успех не только чисто театральный, но и политический. Одна из газет антифашистской эмиграции писала: «Так этот спектакль, на который собрались представители всех кругов эмиграции, стал антифашистской демонстрацией в духе народного фронта. В этом, мы считаем, заключается настоящее и истинное значение постановки сцен Брехта. Собравшиеся — мы уже давно не видели в Париже такого сплочения сил самых различных группировок — были едины в своей позиции против национал-социализма» («Дойче фольксцейтунг», 29 мая 1938 г.).
Накануне и во время войны отдельные сцены исполнялись в странах антифашистской коалиции и в нейтральных государствах. 12 мая 1939 года состоялась премьера нескольких сцен в Лондоне. 29 апреля 1944 года «Правосудие» было поставлено в Стокгольме. В июне 1945 года в Нью-Йорке и затем в Сан-Франциско было поставлено семнадцать сцен под общим названием «Частная жизнь расы господ».
После войны сцены «Страх и нищета в Третьей империи» многократно ставились как в ГДР, так и в ФРГ. В ГДР спектакли состоялись в 68 профессиональных и самодеятельных театрах. Особо следует отметить премьеру — 8 февраля 1957 года — в театре «Берлинский ансамбль». Композиция включила десять сцен, поставленных молодыми режиссерами, учениками Брехта Карлом Вебером, Лотаром Беллагом, Конрадом Свинарским, Петером Паличем и Кетой Рюлике. В ролях: Елена Вайгель — жена-еврейка и женщина-работница в «Плебисците», Норберт Кристиан — рабочий в «Меловом кресте» и прокурор в «Правосудии», Мартин Флерхингер — следователь в «Правосудии» и учитель в «Шпионе» и другие. Стихотворный пролог и эпиграфы к сценам звучали в зале через динамики и звукозаписи в исполнении Елены Вайгель. Одновременно на экран проецировались фотодокументы фашистских зверств, показывались кинокадры из документальных фильмов — заседание фашистского Народного трибунала, речь Гитлера к молодежи и т. п. Спектакль имел огромный успех, с 1957 года он не сходит со сцены.
(обратно)147
Стр. 401. Рейникендорф, Руммелъсбург, Лихтерфельде — рабочие районы Берлина.
(обратно)148
Стр. 408. Доктор Лей отправился… пропагандировать «Силу через радость»… — Лей — главарь фашистской псевдопрофсоюзной организации «Рабочий фронт». «Сила через радость» — название фашистской «культурной» организации, насаждавшей среди трудящихся идеи «народного единства».
(обратно)149
Стр. 409. …народное единство, включая самого Тиссена? — Тиссен — один из крупнейших немецких капиталистов.
(обратно)150
…масла не будет, не угодно ли пушку? — Насмешливый намек на пропагандистский лозунг, сформулированный Герингом: «Пушки вместо масла».
(обратно)151
…загляну тут в одно место на Александерплаце. — На Александерплаце находилось здание полицейпрезидиума.
(обратно)152
Стр. 434. …у них в Коричневом доме… — Коричневый дом — резиденция Гитлера и помещение Центрального правления нацистской партии в Мюнхене.
(обратно)153
Стр. 439. …в тридцать втором еще читали «Форвертс», а в мае тридцать третьего вывесили черно-бело-красный флаг! — «Форвертс» — центральный орган социал-демократической партий. Черный, белый и красный — цвета германского республиканского флага.
(обратно)154
МАМАША КУРАЖ И ЕЕ ДЕТИ
Пьеса была написана в Швеции осенью 1939 года, в дни, непосредственно предшествовавшие возникновению войны в Европе. Впоследствии Брехт признавался: «Когда я писал, мне представлялось, что со сцен нескольких больших городов прозвучит предупреждение драматурга, предупреждение о том, что кто хочет завтракать с чертом, должен запастись длинной ложкой. Может быть, я проявил при этом наивность, но я не считаю, что быть наивным — стыдно. Спектакли, о которых я мечтал, не состоялись. Писатели не могут писать с такой быстротой, с какой правительства развязывают войны: ведь чтобы сочинять, надо думать. Театры слишком скоро попали во власть крупных разбойников. «Мамаша Кураж и ее дети» — опоздала» (цит. по статье: Hans Bunge, Brecht im zweiten Weltkrieg. — «Neue Deutsche Literatur», 1962, № 3, S. 46–47).
Литературным источником пьесы была повесть немецкого писателя времен Тридцатилетней войны Ганса Якоба Кристофеля фон Гриммельсгаузена «Подробное и удивительное жизнеописание отъявленной обманщицы и бродяги Кураж». Эта повесть вместе с двумя другими повестями и знаменитым романом Гриммельсгаузена о Симплициссимусе входит в цикл так называемых «Симплицианских сочинений». Однако, почерпнув у Гриммельсгаузена некоторые импульсы (Тридцатилетнюю войну как исторический фон для действия, образ маркитантки по имени Кураж и пр.), Брехт написал пьесу по сюжету и проблематике вполне самостоятельную, почти никак не связанную с повестью писателя XVII века.
Брехт неоднократно высказывался о «Мамаше Кураж», комментировал спорные или вызывающие различные толкования места, подчеркивал то, что считал главным и важным, составил «модель», то есть полное описание поставленного им спектакля — мизансцена за мизансценой (часть этих материалов см. в кн.: Бертольт Брехт, Театр, т. 5/1, «Искусство», М. 1965, стр. 382–449).
В пьесе чрезвычайно велика роль сонгов. «Мамаша Кураж и ее дети» — один из наиболее совершенных в драматургии Брехта примеров сочетания сценического действия, диалога и сонгов, при котором последние образуют органически необходимый элемент художественного целого. Сонги очуждают действие, комментируют его, проливают дополнительный свет на характеры персонажей, иногда даже, как справедливо заметил один критик, являются «ключом к основной драматической концепции пьесы». Так, например, песня Кураж проходит сквозной нитью через всю пьесу. Ее первые строфы исполняются в самом начале, когда Кураж на вопрос фельдфебеля: «Вы что за народ?» — отвечает: «Народ торговый». За этой репликой следует сонг, с помощью которого маркитантка представляется публике, как в более поздние века люди более высокого общественного положения делали это с помощью визитной карточки. Следующие строфы исполняются в седьмой картине, звучит эта песня и в финале. В этом сквозном сонге выражен лейтмотив всей темы Кураж: война и торговля, война — источник коммерции.
Особое значение имеет сонг о великих людях. В нем сходятся все основные мотивы. В некоторых строфах этой песни слышатся пародийно-иронические интонации, что, однако, не нарушает того горького и глубоко серьезного смысла, который в них заложен. «Мудрость» ведет Кураж к таким же печальным итогам, к каким она привела царя Соломона. Храбрость была причиной смерти Эйлифа (равно как и Цезаря). Швейцеркас погиб, подобно Сократу, от честности. Немую Катрин ждет смерть, как святого Мартина, — от самоотверженности… Не в добродетелях ли источник зла в жизни человеческой? Но этот упрощенный вывод, казалось бы, вытекающий из сонга, корректируется обстоятельствами сценического действия, ибо в то самое время, когда Кураж вместе с поваром поет эту песню, она принимает трудное, но доброе решение: отклонить предложение повара и остаться с Катрин. Кураж отлично осознает все выгоды сделанного предложения и все тяжелые последствия отказа от него, но человечность берет в ней верх. Следовательно, мало сказать: добро гибельно! — следует одновременно признать: добро человечно, оно присуще человеческой природе! И если оно губит человека, то зло не в нем, а в тех обстоятельствах жизни, которые превращают его из блага в орудие гибели. Именно такова та сложная диалектика художественной мысли драматурга, которая вытекает из сопоставления, из взаимного комментирования сонга и сценического действия.
Премьера пьесы состоялась в Цюрихе (Швейцария) в театре «Шау-шпильхауз» 19 апреля 1941 года. Режиссером спектакля был Линдберг, художником Тео Отто, главную роль исполняла Тереза Гизе, а в роли Эйлифа выступал актер и известный писатель-антифашист (автор книги «Болотные солдаты») Вольфганг Лангхоф. Спектакль имел большой успех, но некоторые для Брехта принципиально важные акценты в идейной концепции пьесы были не совсем правильно поняты режиссером и критикой, что побудило автора несколько переработать первоначальный текст и создать новые редакции первой и пятой картин. Эта исправленная редакция пьесы легла в основу всех немецких ее изданий, а также русских переводов. Кроме печатаемого в настоящем издании и издававшегося еще прежде перевода С. Апта, имеется также перевод Б. Заходера и В. Розанова (см.: Бертольт Брехт, Театр, т. 3, «Искусство», М. 1964).
Совершенно особое значение в истории мирового театра имела постановка «Мамаши Кураж» в Берлине в Немецком театре имени Макса Рейн-гардта, состоявшаяся И января 1949 года. Режиссеры — Б. Брехт и Эрих Энгель, художники — Тео Отто и Г. Клингер, композитор — Пауль Дессау. Роли исполняли: Кураж — Елена Вайгель, Эйлифа — Эрнст Калер, Катрин — Ангелика Хурвиц, повара — Пауль Бильдт, Иветты — Рената Кейт, священника — Вернер Хинц. Этот спектакль приобрел всемирную славу, и на его основе несколько позднее возник театр Брехта «Берлинский ансамбль», с этим спектаклем «Берлинский ансамбль» гастролировал в крупнейших театральных столицах мира. О спектакле имеется огромная литература на многих языках
(обратно)155
Стр. 443. Главнокомандующий Оксеншерна Аксель (1583–1654) — шведский полководец и государственный деятель.
(обратно)156
Стр. 455. Песня о солдате и бабе. — Первый вариант этой песни был создан на рубеже 10—20-х годов и входил в состав сборника «Домашние проповеди». Текст, включенный в пьесу «Мамаша Кураж», несколько отличается от ранней редакции.
(обратно)157
Король. — То есть шведский король Густав И Адольф.
(обратно)158
Стр. 461. Император всех угнетал… — Имеется в виду император Священной римской империи Матвей.
(обратно)159
ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЫЧУАНИ
Отдельные мотивы этой пьесы возникали и постепенно кристаллизовались, начиная еще с 20-х годов, когда были написаны стихотворения «Сонг Махагони № 3», «Матине в Дрездене» и др. Несомненное отношение к формированию сюжета и идеи «Доброго человека» имела, с другой стороны, и известная баллада Гете «Бог и баядера», пародийно-полемические реминисценции из которой отчетливо слышатся в пьесе.
Практически к работе над пьесой Брехт приступил в 1930 году, прочитав давшую ему толчок заметку в газете. Первоначальный набросок содержал пять сцен. Пьеса тогда должна была называться «Товар-любовь» («Dio Ware Liebe» — по-немецки в этом названии была заключена намеренная двусмысленность, так как на слух оно могло быть воспринято и как «Истинная любовь»). В 1939 году Брехт вернулся к этому наброску, расширил его, затем несколько раз перерабатывал с начала до конца, написал сонги и лишь в апреле 1941 года в Финляндии признал пьесу под названием «Добрый человек из Сычуани» завершенной. На русский язык пьеса была переведена Е. Ионовой и И. Юзовским (стихи в переводе Бориса Слуцкого) и впервые напечатана в журнале «Иностранная литература» (1957, № 2).
В «Добром человеке» Брехт применяет интересную технику сочетания эпического (рассказ и комментарий у рампы) и драматического (действие и диалог) планов, которые как бы спорят между собой и опровергают друг друга. У рампы госпожа Ян с материнской гордостью хвалит своего сына Суна, восхищенно комментирует его поведение, а на сцене мы видим Суна в действии, совершающим один за другим коварные, корыстные, эгоистические поступки, подлые и предательские по отношению к товарищам. Несостоятельность комментария доказывается действием. Вот рабочий Сун, заметив приближение хозяина Шой Да, вероломно, под видом помощи взваливает на свои крепкие плечи часть груза, который не по силам его старому и слабому товарищу. Хозяин обращает на Суна благосклонное внимание, а его товарища заставляет в наказание нести тройной груз. Комментарий у рампы гласит: «Господин Шой Да, конечно, сразу увидел, что такое настоящий рабочий, который по-настоящему относится к работе…» Вот Сун компрометирует в глазах хозяина надсмотрщика, хорошо относившегося к рабочим, чтобы спихнуть его и занять его место. Комментарий у рампы гласит: «На самом деле, чего только не создадут образование и ум? Разве без них попадешь в число лучших людей? Мой сын творил настоящие чудеса на табачной фабрике господина Шой Да!» Вот Сун, уже став надсмотрщиком, безжалостно погоняет рабочих, детей и стариков, заставляет их трудиться в непосильном, потогонном темпе. Комментарий у рампы гласит: «И ни вражда, ни брань необразованных людей — а в этом не было недостатка — не удержали моего сына от исполнения своего долга!» и т. д. Прием, применяемый здесь Брехтом, можно назвать приемом «несостоятельного, провоцирующего» комментария. Он провоцирует зрителя на несогласие, на то, чтобы, сопоставив эпический и драматический планы, зритель пришел к выводам, противоположным тем, которые госпожа Ян провозглашает у рампы. Один из критиков видит в этой сцене отличный пример, «доказывающий, что литература может быть безусловно тенденциозной, не освобождая публику от обязанности самостоятельно мыслить».
Первая постановка «Доброго человека» состоялась 4 февраля 1943 года в Цюрихе (Швейцария). Режиссер — Леонгард Штеккель, художник — Тео Отто. На подмостки германских театров пьеса пришла значительно позднее.
(обратно)160
КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ
Замысел пьесы возник в 20-е годы, когда Брехт познакомился с драмой Клабунда «Меловой круг», представлявшей собой обработку пьесы китайского автора XIII века Ли Сын-тао. Эта старинная китайская пьеса, а также библейская притча о суде царя Соломона послужили источником сюжета двух произведений Брехта — новеллы «Аугсбургский меловой круг» и пьесы «Кавказский меловой круг». Мотив, который лежал в основе как китайской пьесы, так и библейской притчи, был тесно связан с сущностью породивших его исторических эпох. В древности и в раннем средневековье как на Востоке, так и в Европе, тема нарушенных семейных уз, потерявших и находящих друг друга детей и родителей была распространенной темой эпоса (см., например, «Песнь о Хильдебранде», «Рустем и Зораб» и др.), продиктованной истребительными войнами и походами, столкновениями племен, переселениями народов. В поэтических памятниках того времени на передний план выдвигался вопрос о родовых и кровных связях, но Брехта привлекали социальные и социально-этические аспекты темы, что и сказалось в тех принципиальных новациях, которые он внес в старинный традиционный сюжет в своей новелле и в пьесе.
Новелла Брехта «Аугсбургский меловой круг», написанная в начале 40-х годов в США, была опубликована в 1946 году в журнале «Дас гольдене тор», а затем вошла в сборник «Истории из календаря» (русский ее перевод см. в кн.: Бертольт Брехт, Стихи, роман, новеллы, публицистика, изд-во «Иностранная литература», 1956). Пьеса «Кавказский меловой круг» была написана Брехтом в 1945 году и переработана им в 1953–1954 годах. Ее первая редакция была опубликована в журнале «Зинн унд форм» в 1948 году, а окончательная — в 1954 году в сборнике «Опыты», № 13. Русский перевод С. Апта впервые был напечатан в кн.: Бертольт Брехт, Пьесы, «Искусство», М. 1956.
Пролог пьесы вызвал сильное раздражение на Западе. Почти все театры капиталистического мира, ставившие «Кавказский меловой круг», ставили его без пролога, то есть по существу фальсифицировали пьесу, лишали ее смысла, делали во многом непонятной. Чтобы как-то оправдать это самоуправство, в оборот была пущена версия, будто пролог с точки зрения цельности пьесы не нужен, является в ней совершенно инородным телом, к тому же его прежде и не было в тексте пьесы, и лишь для спектакля «Берлинского ансамбля» Брехт был вынужден его написать — по требованию или в угоду руководящим инстанциям ГДР. Все это вымысел. Подчеркивая в письме к своему издателю Петеру Зуркампу, что пролог был первым, с чего он начал писать пьесу еще в США, Брехт продолжал: «Постановка вопроса в параболической пьесе должна ведь вытекать из потребности действительности, и я думаю, что это происходит в ясной и легкой форме. Без пролога непонятно ни то, почему пьеса не осталась «Китайским меловым кругом» (со старым решением судьи), ни то, почему она называется «Кавказский меловой круг». Сначала я написал небольшой рассказ (он помещен в «Рассказах из календаря»). Но при драматизации мне именно недоставало исторической, объясняющей смысл всего подоплеки» (Архив Брехта, 128/01).
Именно пролог создает эту подоплеку, то есть широкую историческую перспективу, и вносит в действие ту большую общественную мысль, ради которой и была написана пьеса. Без пролога нет проблемы, «вытекающей из потребностей действительности». Характерно, что в одной из ранних редакций пьеса заканчивалась продолжающим пролог и обрамляющим действие эпилогом. На сцене снова появлялись колхозники, они обсуждали только что просмотренный спектакль, связывая его с темой спора между колхозами и сообща решали уступить долину плодоводческому колхозу под сад. Позднее Брехт отказался от эпилога, считая, видимо, что связь основной истории с проблемой, поставленной в прологе, и без того достаточно ясна.
Действие «Кавказского мелового круга» происходит в Грузии. Было бы, однако, наивно искать в пьесе этнографически точное изображение места и времени. В ранних редакциях вообще русский колорит преобладал над кавказским. В пьесе действовали не князья, а бояре, герои носили имена Анастасия, Петр, Петр Петрович, Павел Павлович и т. п. и лишь затем, стремясь углубить «эффект очуждения» и еще более дистанцировать действие от привычного круга представлений западноевропейского зрителя, Брехт перенес его в Грузию, но, разумеется, весьма условную, во многом вымышленную.
Первая редакция пьесы была впервые поставлена Студенческим театром в Нордтфилдсе (США) в 1947 году. Премьера в «Берлинском ансамбле-) состоялась 15 июня 1954 года. Режиссер — Б. Брехт при участии М. Векверта, композитор — Пауль Дессау, художник — Карл фон Апиен. В ролях: Аздак — Эрнст Буш, Груше — Ангелика Хурвиц, жена губернатора — Елена Вайгель. С этим спектаклем «Берлинский ансамбль» гастролировал во Франции, в Англии, в Советском Союзе, и он был признан мировой театральной критикой одним из высших достижений режиссерского искусства Брехта и немецкого театра вообще.
«Кавказский меловой круг» многократно ставился в театрах ГДР и ФРГ, а также во множестве стран мира.
(обратно)161
Стр. 623. Пиастр. — Здесь чисто условное название монеты. Пиастры были в хождении в Турции, Египте и некоторых других ближневосточных странах.
(обратно)162
Стр. 673. Фемида — древнегреческая богиня правосудия.
(обратно)163
Стр. 674. Время вышло из колеи. — Цитата из «Гамлета» Шекспира.
(обратно)164
ЖИЗНЬ ГАЛИЛЕЯ
Пьеса написана в ее первой редакции в 1938–1939 годах, была напечатана на стеклографе в театрально-прокатных целях в 1946 году, издана в 1955 году. На русский язык была переведена Л. Копелевым в 1956 году и тогда же вышла отдельным изданием.
Немецкое издание сопровождалось заметкой: «Пьеса «Жизнь Галилея» была написана в эмиграции в Дании в 1938–1939 годах. Газеты опубликовали сообщение о расщеплении атома урана, произведенном немецкими физиками». В этой заметке содержался намек на связь идейного замысла пьесы с определенными событиями в области атомной физики. Однако эта связь не в равной степени и не в одинаковом направлении находила свое выражение в пьесе на разных этапах работы автора над ней. В этом смысле Важно различать две редакции пьесы.
Первая редакция (датская) относилась к 1938–1939 годам. Она получила известное распространение, будучи размножена на стеклографе издательством Зуркампа. Вторая редакция (американская) относилась к 1945–1946 годам. Она возникла в ходе совместной работы Брехта с американским актером Чарльзом Лафтоном, впоследствии исполнителем роли Галилея: они переводили пьесу на английский язык, тщательно ее обсуждали, причем Брехт вносил существенные изменения в текст. Эта значительно отличная от первой редакция лежит в основе всех немецких изданий и принята также в нашем издании.
В первой редакции Галилей является носителем положительного примера. Изображая его, Брехт имел в виду ту сложную и подчас хитроумную тактику, к которой приходится прибегать борцам-подпольщикам (в частности, антифашистам в Третьей империи), для того чтобы донести слово правды до народа: приходится маскироваться, таиться, показной лояльностью и законопослушанием вводить власти предержащие в заблуждение. Эта подразумеваемая, подспудная параллель проливала совсем иной свет на поведение Галилея: его отречение было не позорной капитуляцией, а лишь искусным маневром. Усыпив бдительность инквизиции, Галилей тайно продолжал свои научные исследования в прежнем направлении и пересылал через специального курьера-подпольщика свои рукописи заграничным издателям.
Во второй редакции Брехт удалил все реплики, ремарки, даже целые эпизоды и сцены и некоторых персонажей, все, что могло бы побудить к положительному истолкованию поведения Галилея. Одновременно Брехт создал новые образы (например, Федерцони и Ванни) и ввел некоторые существенные моменты (особенно в четырнадцатой картине), подчеркивающие общественное и нравственное банкротство Галилея. Исторические предпосылки столь резкого отличия второй редакции от первой очевидны: в 1945–1946 годах вопрос о тактике антифашистов-подпольщиков уже не был столь актуален, а атомный взрыв над Хиросимой властно продиктовал Брехту другие проблемы. «Атомная бомба и как техническое и как общественное явление — конечный результат научных достижений и общественной несостоятельности Галилея», — писал Брехт. Подспудная параллель второй редакции — уже иная: Судьба Галилея связывается Брехтом с предательством современных физиков-атомщиков по отношению к человечеству.
Некоторые исследователи пишут об еще одной, третьей (берлинской) редакции, имея в виду текст спектакля театра «Берлинский ансамбль» (1957 г.). Действительно, незадолго до смерти, репетируя и готовя постановку «Жизнь Галилея», Брехт произвел в тексте некоторые купюры, ничего, однако, не дописывая; такие режиссерские купюры — явление обычное и не дают оснований рассматривать текст спектакля как новую литературную редакцию пьесы. Произведенные Брехтом купюры лишь еще более усилили тенденцию второй редакции. В частности, Брехт снял целиком картину пятую (Чума) и картину пятнадцатую (Андреа провозит рукопись Галилея через границу). Он, видимо, исходил из того, что картина пятая подымала героя на высоту такой самоотверженной, не знающей страха смерти преданности науке, которая вступает в противоречие с его последующим поведением. Картина же пятнадцатая могла создать у зрителей впечатление, что отречение Галилея все же в итоге оказалось актом разумным, совершенным в интересах науки.
«Жизнь Галилея» — одно из самых значительных произведений Брехта, одна из главных опор современного мирового репертуара, хотя постановка этой пьесы по плечу лишь крупным театрам, располагающим яркими актерскими индивидуальностями и многочисленной труппой.
Первое представление пьесы состоялось в Цюрихе 9 сентября 1943 года. В роли Галилея выступал Леонгард Штеккель. 10 декабря 1947 года состоялась премьера в Нью-Йорке (несколько ранее в Лос-Анджелесе) в Экспериментальном театре Американской национальной театральной академии. Роль Галилея исполнял всемирно известный актер Чарльз Лафтон, композитор — Ганс Эйслер. Првхмьера проходила в отсутствие Брехта, который в это время был уже на пути в Европу, но до того в течение многих месяцев работал совместно с Лафтоном над переводом пьесы, ее переработкой, толкованием мельчайших фабульных положений, режиссерским планом постановки. Таким образом, спектакль, в общем, отвечал принципам и идеям Брехта. Последний высоко ценил работу Лафтона и оставил подробнейшее — кадр за кадром — описание роли, снабженное в немецком издании пятьюдесятью фотографиями. «Описанием лафтоновского Галилео Галилея, — замечал Брехт, — драматург пытается не столько на какое-то еще время продлить жизнь такому быстро преходящему явлению искусства, как творчество актера, сколько скорее воздать должное тем усилиям, которые великий актер оказался в состоянии употребить ради столь быстро преходящего явления искусства. Ныне это уже не принято». Описание игры Лафтона и другие материалы Брехта к пьесе «Жизнь Галилея» см. в кн.: Бертольт Брехт, Театр, т. 5/1, «Искусство», М. 1965, стр. 340–381.
Среди постановок «Жизни Галилея» особое значение имел спектакль и театре «Берлинский ансамбль». Премьера состоялась 15 января 1957 года. Спектакль ставил Брехт, но смерть застигла его в разгаре работы. Постановку довел до конца и выпустил друг Брехта, режиссер Эрих Энгель. Художник — Каспар Неер, музыка — Ганса Эйслера. В ролях: Галилей — Эрнст Буш, Вирджиния — Регина Луц, Сарти — Ангелика Хурвиц. папа — Эрнст Отто Фурман, кардинал-инквизитор — Норберт Кристиан и др. Исполнение роли Галилея Бушем было описано Гансом Эйслером подобно тому, как Брехт описал лафтоновского Галилея. Спектакль «Берлинского ансамбля» имел огромный успех и приобрел всемирную известность.
(обратно)165
Стр. 713. Пожалуй, назову их звездами Медичи в честь великого герцога Флоренции. — Здесь и в дальнейшем речь идет о Козимо Медичи, который в действительности жил гораздо раньше: когда он умер, Галилею было только десять лет. Подобные анахронизмы Брехт допускал сознательно, тем самым как бы подчеркивая, что он заботится не о воспроизведении с педантической точностью определенных картин исторического прошлого, а о создании обобщенных образов, по своему значению выходящих за узкие рамки изображаемого исторического момента.
(обратно)166
Стр. 728. Великий Клавиус — божий раб — //Признал, что Галилей был прав. — Снова анахронизм: Кристофер Клавиус умер в 1612 году, то есть за четыре года до изображаемых здесь событий.
(обратно)167
Стр. 742. …престол святого Петра — то есть панский престол.
(обратно)168
Стр. 753. «оставь надежду всяк сюда входящий» — такова, как рассказывается в поэме Данте «Божественная комедия», надпись у входа в ад.
(обратно)169
Стр. 762. Вот уже полтора десятка лет, как вся Германия превращена в бойню, люди убивают друг друга, возглашая цитаты из Библии. — Имеется в виду Тридцатилетняя война, в идеологическом обосновании которой видное место занимала религиозная рознь между католиками и протестантами.
(обратно)170
Стр. 768. «Discorsi» — книга Галилея «Беседы», подводившая итоги его исследованиям в области физики, изданная в 1638 г. в Голландии. Ее более полное название: «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки».
И. Фрадкин
(обратно)


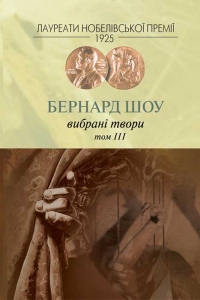

Комментарии к книге «Стихотворения. Рассказы. Пьесы», Бертольд Брехт
Всего 0 комментариев