Александр Солженицын Пьесы и сценарии
Информация от издательства
В издании сохранены орфография и пунктуация автора.
Его взгляды изложены в работе «Некоторые грамматические соображения» (Солженицын А. Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1997. Т. 3).
В настоящем Собрании сочинений статья будет напечатана в т. 24.
Солженицын А. И.
Собрание сочинений в 30 т. Т. 19. Пьесы и сценарии. — М.: Время, 2017.
ISBN 978-5-9691-1611-5
Девятнадцатый том знакомит читателя с Солженицыным — драматургом и сценаристом. Драматическая трилогия «1945 год», состоящая из Комедии, Трагедии и Драмы, представляет нам искрящееся юмором содружество офицеров победоносной армии; трагические судьбы, перемалываемые контрразведкой СМЕРШ (февраль 1945); дикий быт послевоенных советских лагерей. В томе печатаются три киносценария: «Знают истину танки» (о знаменитом лагерном восстании в Кенгире), «Тунеядец» (комедия из советской жизни) и «В круге первом», написанный для одноименного телесериала режиссера Г. Панфилова (2006); последний публикуется впервые.
© А. И. Солженицын, наследники, 2017
© Н. Д. Солженицына, составление, краткие пояснения, 2017
© Б. Н. Любимов, сопроводительная статья, 2017
© «Время», 2017
ПЬЕСЫ
Драматическая трилогия «1945 год»
Пир Победителей. Комедия
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
БЕРБЕНЧУК, подполковник, командир отдельного армейского разведывательного артиллерийского дивизиона.
ВАНИН, майор, заместитель командира дивизиона по политчасти.
ДОБРОХОТОВ-МАЙКОВ, капитан, начальник штаба.
НЕРЖИН, капитан, командир батареи звуковой разведки.
ЛИХАРЁВ, капитан, командир батареи топографической разведки.
ГРИДНЕВ, старший лейтенант, уполномоченный контрразведки СМЕРШ.
АНЕЧКА, капитан медицинской службы, врач дивизиона, фронтовая жена Ванина.
ГЛАФИРА, жена Бербенчука.
ГАЛИНА.
ПРОКОПОВИЧ, техник-лейтенант.
ПАРТОРГ ДИВИЗИОНА, «освобождённый».
НАЧХИМ ДИВИЗИОНА.
ЯЧМЕННИКОВ, лейтенант, командир взвода в батарее Нержина.
КАТЯ, ОЛЯ — девушки из соседней части.
САЛИЙ (Салиев), 3АМАЛИЙ (Замалиев) — два неразличимых красноармейца-татарина.
ПОВАР дивизиона.
Сержанты и красноармейцы при штабе.
Действие происходит 25 января 1945 года в Восточной Пруссии.
Декорации всех четырёх актов безсменны: это — зал старинного замка. В правой стене — несколько окон, задёрнутых шторами, перед ними — рояль, круглый столик с креслами. В задней — высокая парадная двустворчатая дверь, есть и другие, обычные. Надо всем — галерея военных предков, ещё выше — хоры. У левой стены — рация радиста на маленьком столике, мелочь мебели, ближе — радиола, ещё ближе — лестница наверх. Над сценою свешивается парадная, но не светящая люстра. Когда есть ток — горят несколько сильных электрических лампочек, наплетенных на люстру времянкой.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
На сцене — полная темнота, только слева — красный глазок рации. Слышен в глубине звонкий командный голос.
МАЙКОВ
Держи, держи, ребята, не удай!
Там, наверху, с канатом!
ГОЛОС
(сверху из глубины)
Есть с канатом!
МАЙКОВ
Не ронь!
Салий! Огня сюда давай!
Какой там есть, зови сюда огонь!
(Тише.)
Вопросов нет? Спокойненько.
Сейчас его мы кантом, кантом.
Эй, Замалий, ты где тут?
ГОЛОС
Я!
МАЙКОВ
За техник-лейтенантом
Бегом!
Из задних дверей, с лестницы и на хорах одновременно появляются разрозненные колеблющиеся огни — факелы, свечи в канделябрах и без них, керосиновые лампы, фонари, все они в движении. Из темноты постепенно проступает происходящее: огромное пристенное зеркало нескольких метров в высоту, отражающее на зрителя огни, валится набок. Его поддерживают красноармейцы: снизу — руками, палками, сверху — верёвками. За правым столиком впереди — две женские фигуры.
ГОЛОС МАЙКОВА
Сюда! Светильники! и факелы! и свечи!
Эй, наверху!
ГОЛОС
(с хор)
Есть наверху!
МАЙКОВ
Легонечко трави!
Поддерживай, поддерживай! на плечи!
Подхватывай! подхватывай! лови!
Зеркало всё более и наконец вовсе валится набок, оставаясь лицевой поверхностью к зрителю. Поставили на ребро. Передышка. Отвязывают верёвки.
Пор-рядочек армейский. Так. Ну, подняли! На тумбы!
Зеркало поднимают ребром на приготовленные тумбы.
ГОЛОС ГАЛИНЫ
Зачем вам зеркало?
МАЙКОВ
Яйцо Колумба!
Простая мысль. Не скрою — ради
Оригинальности отчасти,
Сегодня — праздник в нашей части,
Обширный ужин при параде,
А в этом зале нет стола — или упёрли кто.
Вспыхивает яркий электрический свет на люстре. После этого все огни гасятся, уносятся, кроме забытых двух-трёх свечей. Виден десяток хлопочущих красноармейцев, которые потом постепенно тоже уйдут. Доброхотов-Майков, стройный невысокий светлоусый офицер отменной выправки, со многими орденами, иногда без надобности позванивающий шпорами. За столом справа — «карманная» Анечка в военной форме и Галина, одетая строго, с преобладанием чёрного. Радист согнулся у рации. Зеркало блещет в зрительный зал.
(Примерившись.)
Не низко?..
(Картинно облокачивается о подзеркальник с точёными ножками, торчащий теперь вперёд.)
По вдохновению, Галина Павловна! Как пианистка,
Вы знаете — его не охватить логическим умом…
(Жест солдатам класть зеркало плашмя, зеркальной поверхностью вверх.)
…Вот так, чтоб люстра над стеклом…
Оно приходит к нам негаданно, необоримо, грозово! —
Как Суриков — ворону с поднятым крылом
Увидел на снегу — боярыня Морозова!
А ну-ка, Дягилев, вот эту вот приставочку — долой.
(Отходит, распоряжаясь.)
Пожилой красноармеец Дягилев любовно щупает подзеркальник, который ему приказано отбить.
АНЕЧКА
Моложе я его. Двенадцатью годами.
ДЯГИЛЕВ
Тут, видишь, надо’ть с головой…
АНЕЧКА
И может, к лучшему, что разница такая между нами?
ДЯГИЛЕВ
Она, вишь, на шипах да на клею…
РАДИСТ
Приём, приём.
МАЙКОВ
Черта тут думать? — топором!
Быстро входит Старшина, подчёркнуто приветствует Майкова, за ним — Прокопович. В сугубо гражданской унылой позе он долго потом стоит на заднем плане, как бы не замечаемый Майковым.
Что скажешь, старшина?
СТАРШИНА
Я — насчёт скатерти…
МАЙКОВ
Концертный «Беккер»…
И мрачность готики… и скатерть белая… не стиль!
Без скатерти! Командуй: пятый «Студебекер»
Сюда, на зеркало, перенести!
Старшина козыряет.
ГАЛИНА
С подругой детства, за романами романы осушая,
А в сущности, всё повесть грустную о том,
Что охлажденья не минёт любовь мужская…
ДЯГИЛЕВ
(всё так же робко примеряясь к подзеркальнику)
Сказали — чем, товарищ капитан?
МАЙКОВ
Сказал я: то-по-ром!
Дягилев осторожно постукивает обухом.
АНЕЧКА
…Да?
ГАЛИНА
Да.
Что если это неминучая беда,
Так нет спокойней мужа пожилого,
Уж не изменит он, ни-ни.
МАЙКОВ
(отстраняя Дягилева)
А ну-ка, Бурлов, шибани!
Другой красноармеец плюёт на ладони, берёт топор и в два удара с треском отваливает подзеркальник. Анечка затыкает уши. Из коридора бойцы начинают носить угощения, которые тут же, под руководством Майкова и Старшины, раскладываются, наливаются и насыпаются в вазы, графины, на блюда, на тарелки, ставятся в банках стеклянных и металлических. Несут в изобилии и пустую посуду, фарфоровую, серебряную, хрустальную, цветы. Обширный «стол» до отказа заставляется кушаньями и винами. Солдаты вышколены и чётки до циркового предела. Майков распоряжается театральными жестами.
Интересуюсь, Прокопович,
Вы — офицер или попович?
Что вы пришли?
ПРОКОПОВИЧ
(собираясь уйти)
Простите, мне сказали,
Что будто бы меня вы вызывали.
МАЙКОВ
Не будто бы, а вызывал.
А вы пришли и жмётесь, как мешок.
В чём дело? Света не было. Опять стоял движок?
Небось, искра?
ПРОКОПОВИЧ
(сокрушённо)
Искра…
МАЙКОВ
Не может штаб работать в темноте!
За-пом-ни-те!
Сегодня свет не должен здесь ни на минуту гаснуть!
Вам — ясно?
ПРОКОПОВИЧ
(отаптываясь)
Но в функции мои, коль рассуждать формально…
МАЙКОВ
(трагическим шёпотом)
Как вы сказали? — Рассуждать? Печально.
А тысячёнка в месяц — как? А дополнительный паёк?
Да на гражданке б вас заездили, как чёрта,
За это маслице. Вы разве на войне? — вы на курорте!
И кто на радиоле мне исправит рычажок?
Кто вообще попрёт, за грубость извините мне, телегу-с?
Быть может, абиссинский негус?
ГАЛИНА
Но, Анечка, но эти фрукты, вина…
Вы — часто так?
АНЕЧКА
О нет, сегодня — именины!
МАЙКОВ
И без того я вам смягчил муштровки школу.
Садитесь и чините. Радиолу.
В дальнейшем Прокопович осматривает неисправность, уходит, возвращается с отвёрткой, паяльником, радиодеталями, садится чинить.
АНЕЧКА
Конечно, вы сегодня за столом у нас.
С комдивом и женой комдива познакомились.
А про меня подумали: вот в голове ничуть?
С порога вздумала так откровенничать!
ГАЛИНА
Да что вы!
АНЕЧКА
Я ни с кем! Всё средь мужчин, всё жизнь кочевная,
Общенья женского мне так недоставало.
Придёте!
ГАЛИНА
Неудобно…
АНЕЧКА
Слышать не хочу.
МАЙКОВ
(услышав обрывки их разговора, продолжая распоряжаться)
И будете царевною
Штабного бала!
Польстил бы я сторицею,
Что будете царицею,
Но, сами понимаете, — масштаб —
Дивизионный штаб…
АНЕЧКА
Уйди! Привычка — вмешиваться в женский разговор.
МАЙКОВ
У-шёл!
АНЕЧКА
Вот, собственно, и весь народ.
Ещё начхим — но это вздор,
А звукотехник — он не в счёт.
Ещё узнаете парторга —
Не испытаете восторга.
Ещё должны быть два комбата,
Но оба славные ребята,
Да вот один…
Из коридора проходит, слегка прифокстрочивая, к радиоле Лихарёв. У него тоже шпоры и отличная строевая выправка.
ЛИХАРЁВ
(напевает)
Эс гэет аллес форюбер, эс гэет аллес форбай,
Унд нах йедем децембер комт видер айн май…
МАЙКОВ
Дитя моё, по скользкой ты идёшь тропинке.
ЛИХАРЁВ
Я отберу пока пластинки?
(Отбирает.)
МАЙКОВ
Забыл ты край родной, забыл родной Прованс.
ЛИХАРЁВ
Живу, пока имею шанс.
МАЙКОВ
В трудах войны не ты ль, Иван,
Все эти годы был и дран,
И потен был, и был почти в лаптях?
ЛИХАРЁВ
(ощипываясь)
Как кителёк, товарищ капитан, —
Не узок мне в плечах?
(Отбирает пластинки; взяв пачку, удаляется, пританцовывая и косясь на Галину.)
Эс гэет аллес форюбер, эс гэет аллес форбай,
Унд нах йедем децембер…
АНЕЧКА
А я боюсь одеться пышно.
Одна пестриночка — и та уж кажется излишней
На платьи на моём. и как это ни горько — Примерю что-нибудь, а лезу в гимнастёрку. Я до войны и в институте одевалась девочкой.
Жаль, что теперь нельзя.
ГАЛИНА
Как так — одеться не во что?
В каком хотите роде,
Сегодня здесь, в хозяйском гардеробе…
Зайдёте в комнату ко мне.
АНЕЧКА
Спасибо, милая, зайду,
Но не найдёте вы…
ГАЛИНА
Найду!
Не знала прежде я сама,
У венок набралась ума.
РАДИСТ
Рязань, Рязань! Всё понял. Кострома.
Приём.
МАЙКОВ
Когда ж ты позывные сменишь, косопузый?
РАДИСТ
(трясёт бумажкой)
Да вот они! Да не довыкну я до этих до… Флоренций…
МАЙКОВ
И скифы мы, и азиаты мы, —
а, поглядишь, шарахнули французов.
Напёрли немцы — шуганули немцев.
А?! Прокопович? Как вы в рассуждении славян?
ПРОКОПОВИЧ
Я — занят, видите, товарищ капитан?
МАЙКОВ
Ч-чёрт, потрепаться не с кем.
АНЕЧКА
И хочу заранее
Предупредить вас — не зовите меня Анею, —
Лишь Анной Зотовной. Здесь армия, я — офицер…
ГАЛИНА
Да-да, пожалуйста, к обычаям своим
кто ж не привержен…
РАДИСТ
(вскакивая)
Товарищ капитан! Вторая Бэ-Зэ-Эр
Снимается с порядков боевых, а Нержин
Здесь будет через час!
У Прокоповича радиола начинает работать. Музыка.
МАЙКОВ
Да два часа приказ передавал?
Мотай отсюда удочки!
Радист собирает рацию и уходит. Галина взволнована и пытается скрыть.
ГАЛИНА
Простите, или я…
Я не дослышала? Как он назвал фамилию?
Фамилию — как он назвал?
АНЕЧКА
Какую? Нержин?
ГАЛИНА
Да.
АНЕЧКА
Вы знаете его?
ГАЛИНА
Нет! То есть… знала
Когда-то одного… А — Бэ-Зэ-Эр?
АНЕЧКА
Я б вам расшифровала,
Да ведь нельзя: секретный наш дивизион.
ГАЛИНА
Откуда он?
АНЕЧКА
Кто?
ГАЛИНА
Нержин.
АНЕЧКА
Из Ростова.
ГАЛИНА
Тогда не он!
АНЕЧКА
А не земляк ли ваш?
Вы, помнится, сказали между словом…
ГАЛИНА
Вам показалось.
АНЕЧКА
Да? Быть может.
(С порывом.)
А я… я не могу ничем помочь вам?
Что-то вас тревожит!
Весь вечер я смотрю на вас — вас угнетает что-то,
Какой-то страх, какая-то забота…
ГАЛИНА
Вы с добрым сердцем родились. Спасибо вам за то.
Но здесь — помочь — не может мне никто.
Стол готов, хотя Майков ещё что-то переставляет. Снование солдат прекратилось. Прокопович ещё занят с радиолой. Музыка обрывается. Из коридора поспешно входит дородная Глафира. Руки у неё заняты: сверкающий чайник и что-то в полотенце.
ГЛАФИРА
Кто это здесь? Ах, это вы, несчастная страдалица!
Вы — спасены, а сколько их, освобожденья
дожидаются,
Рабыни бедные! Я приняла вас к сердцу
ближе… ближе…
Я вся дрожу!
АНЕЧКА
Больна?
ГЛАФИРА
Как я их ненавижу!
Да попадись мне фриц какой-нибудь обаполы,
Да я б ему глаза все расцарапала!
Такую девушку!.. Фашизм! Рабский рынок!
ПРОКОПОВИЧ
Вверх — станции ловить, а книзу — для пластинок.
ГЛАФИРА
Начальник штаба! Накажи его!
Что свет всё время тухнет?
Майков жестом отпускает Прокоповича.
Ходила я, ходила я — зашла проверить кухню.
На полочке фарфоровые, беленькие, в ряд
Вот эти двадцать девять баночек стоят!
(Высыпает их из полотенца и расставляет на круглом столике.)
В головках дырочки и надпись. Хоть не знаю языков,
Но полизала языком, —
Где перец, мак, желток, укроп,
Где тмин, ваниль, орех, корица, —
Я их конечно сразу — хоп! —
Вот это нам годится!
Но что я? Майков! Мне же некуда грузиться!
Потом ещё: совсем случайно
Узнала я, что этот чайник
Не прост! О фрау о своих подумал изверг Гитлер:
Поставь на печь и не смотри, кипит ли?
Он сам! — как закипит! —
Как засвистит!! —
А я услышала свисток — вот это нам годится!
Но что я, что я? — мне же некуда грузиться!
Изящный чайник!
Дюжину взяла бы!
Начальник!
Штаба!!.
МАЙКОВ
Глафира Евдокимовна. Я очень уважаю вас.
И всю вашу семью.
Три пары битюгов. и две автомашины. Как хотите, —
В обоз ваш больше не даю.
ГЛАФИРА
Комдив прикажет — и дадите!
Он мне даёт! Три пары битюгов!
Что ж, руки мне сложить в стране врагов?
АНЕЧКА
Ты, правда, странная какая-то, Глафира,
Не понимаешь, что порочишь командира
И часть.
ГАЛИНА
Я, Анна Зотовна, к себе. Вас буду ждать я.
(Направляется к лестнице.)
ГЛАФИРА
А что такое? что??
АНЕЧКА
Так, ничего.
ГАЛИНА
Примерить платья…
ГЛАФИРА
Кому примерить? Ей? Да бросьте, Галочка, всё впусте!
При Анечкином росте… Анечкином бюсте…
Походит и в военном. Понимает ведь майор.
А что? У вас большой набор?
Салиев — или Замалиев, их не различишь, — вбегает, запыхавшись, в правые двери, оставляя их распахнутыми.
САЛИЕВ
Комдыв! С майором!
И с какой-то толстой старшим лейтенантом!
(Кивает в далеко видный теперь второй зал в глубине.)
МАЙКОВ
(стремительно)
А ну-ка, фея!
Убрать трофеи!
Глафира поспешно собирает баночки в полотенце, схватывает чайник. Салиев исчезает. Галина замирает, застигнутая на первых ступеньках лестницы.
(Командует, как на параде полка, но с комическим оттенком.)
Все по места-а-ам!! На одного линейного дистан-нция!
(Идёт строевым шагом к роялю, открывает крышку.)
Марш, м-м-музыканты!!!
(Стоя играет «Турецкое рондо» Моцарта.)
По второму залу приближаются из глубины и под музыку входят: высокий представительный подполковник Бербенчук при многих орденах, румяный плотный майор Ванин и очень молодой Гриднев, уже одутловатый старший лейтенант с лицом херувимчика.
(Обрывает музыку и со всею строгостью строя, голосом, рассчитанным на обширный плац, с тою же игрой.)
Товарищ подполковник! Разрешите доложить?!
Всё подготовлено к торжественному ужину!
Бербенчук торжественно принимает рапорт, делает жест «вольно!», проходит вперёд, озирает зеркало.
БЕРБЕНЧУК
Роскошный стол… Скота
(выразительно)
не резали?
МАЙКОВ
Оставил жить!
БЕРБЕНЧУК
И не обидели гражданских?
МАЙКОВ
Таковых не обнаружено!
БЕРБЕНЧУК
(оглядываясь на Гриднева)
Ну что ж, я полагаю, угощение заслужено?
ГРИДНЕВ
Как говорил Суворов, то, что с бою взято, —
То свято.
БЕРБЕНЧУК
Прекрасно сказано. и кстати очень.
Действительно, не взять добытое в бою как-то… обидно.
Прошу знакомиться: контрразведки СМЕРШ
уполномоченный! —
Начальник штаба!
МАЙКОВ
Майков.
ГРИДНЕВ
Гриднев.
Здороваются за руку. Майков тянет его вперёд и проходит на авансцену между Анечкой и Глафирой, которая застыла с полотенцем и чайником в руках.
МАЙКОВ
Я оч-чень рад! Я оч-чень рад!
ГРИДНЕВ
Чему так рады вы?
МАЙКОВ
Что будет полный штат!
Вы можете поднять меня на смех,
Но в штатах, как в штанах, — не выношу прорех.
Уполномоченные СМЕРШ буквально есть у всех! —
За что же нет у нас?
И вот прислали вас!
Всех смершевцев — люблю! На ногу тесной дружбы!
И на передний край катнуть и выпить первача!
Теперь и я представлю — капитана медицинской службы
Григорьеву — дивизиона нашего врача.
ГРИДНЕВ
Приятно познакомиться. Как говорят — змея вкруг чаши?
АНЕЧКА
Вы очень милою остротой начали знакомство наше.
Теряюсь только я:
Где чаша, где змея.
Чётко выстукивая каблуками, отходит к Ванину, знакомит его с Галиной у начала лестницы.
МАЙКОВ
(фамильярно толкая Гриднева в бок)
А звать тебя?
ГРИДНЕВ
Владимир Николаич.
МАЙКОВ
Вовка?
Держи, я — Сашка!
ГРИДНЕВ
Не пойму!
МАЙКОВ
Да что ты брянским волком?
Узнаешь! Я — такой! Есть? — мне не жалко, — на!
(Хлопает его по плечу.)
Пор-рядочек! Пойдёт у нас шикарно!
БЕРБЕНЧУК
Гм… Во-от… А это, значит… вот… моя жена
Со мною следует по разрешению штабарма.
ГЛАФИРА
(высвобождая одну руку и протягивая её, как палку)
Глафира Бербенчук!
ГРИДНЕВ
(сдержанно здороваясь с Глафирой, Бербенчуку)
Есть, говорите, разрешенье?
БЕРБЕНЧУК
Да, да. Я специально подавал прошенье.
Уж двадцать лет я в армии,
учения, походы, что ни говори…
ГРИДНЕВ
Понятно. Только женщин я тут вижу три,
А у меня застряло в голове,
Что вы дорогою сказали — две?
БЕРБЕНЧУК
А третья… та…
ГЛАФИРА
Рабыня. Вырвана из гитлеровских лап.
МАЙКОВ
Хе-ге! Да ты, я вижу, больше насчёт баб!..
ГРИДНЕВ
Послушайте! Вы как-то странно сразу начали на «ты».
МАЙКОВ
Да милый, ради простоты!
Повеселиться, поделиться,
Душой измученной открыться, —
Не строевик же ты! — листать тебе уставные страницы —
«Товарищ капитан» да «разрешите обратиться»!
ГАЛИНА
(Ванину)
Нет, нет, зовите просто Галей…
ГЛАФИРА
(из глубины резко окликая Бербенчука, который
направляется к группе у лестницы)
Евгений! К ужину умыться и одеться не пора ли?
(Завладевая им, ведёт к одной из дверей.)
ГРИДНЕВ
По роду нашей службы нам разрешено
В обход армейского устава…
МАЙКОВ
Но-но-но!
БЕРБЕНЧУК
(уже уходя)
Начальник штаба!
МАЙКОВ
Я!
БЕРБЕНЧУК
Устроить гостя…
МАЙКОВ
Первый класс!
БЕРБЕНЧУК
А ужин — через час?..
МАЙКОВ
Есть ужин через час!
Глафира и Бербенчук уходят.
Спешу на кухню, но — позволь!
Ты наступаешь на мою любимую мозоль!
Да строевик, с постели ночью встав,
Уметь отбарабанить должен скоростью пожарной
На память боевой и внутренний устав,
И гарнизонный весь, и весь дисциплинарный!
Ведь так?
ГРИДНЕВ
Ну, так…
МАЙКОВ
Нет, ты скажи мне — так?
ГРИДНЕВ
Да так!
МАЙКОВ
Так для тебя же лучше делаю, чудак!
Я проявляю чуткость!
(Быстро уходит за Ваниным и Анечкой.)
Не успевшая Галина поднимается по лестнице.
ГРИДНЕВ
Гражданочка!
Галина продолжает подниматься.
Гражданочка!
Галина замедляет шаг.
Одну минутку!
Галина стоит на верху лестницы, Гриднев — в центре внизу. В продолжении дальнейшего действия напряжение в лампочках неуклонно падает, сцена всё время темнеет.
Спуститесь-ка сюда!
ГАЛИНА
Мне некогда.
ГРИДНЕВ
Чем это вы так заняты?
ГАЛИНА
Что вам?
ГРИДНЕВ
А у меня к вам дельце есть.
ГАЛИНА
Я слушаю.
ГРИДНЕВ
Нет, слушать буду я. Вы станете
Рассказывать.
ГАЛИНА
О чём?
ГРИДНЕВ
Спуститесь.
ГАЛИНА
Слышно мне и здесь.
ГРИДНЕВ
Я не могу кричать.
ГАЛИНА
Кричать? У вас и прав нет.
ГРИДНЕВ
А эта книжечка бордовая…
(Достаёт удостоверение.)
…вы знаете, чем пахнет?
(Перелистывает.)
Так… Предъявителю сего… задерживать гражданских лиц
О-по-зна-вать… Правам моим границ
Не знаете. Спуститесь же!
Галина сходит на несколько ступенек.
Ещё.
Галина сходит немного.
Ещё.
Галина почти сошла.
Сюда. Волнуетесь заметно…
ГАЛИНА
Вы обращаетесь…
(Она еле стоит, держится за зеркало.)
ГРИДНЕВ
При чём тут? Будем говорить конкретно.
Волненье
Приходит неспроста.
В ком совесть перед Родиной чиста,
Тот не… У вас
Есть при себе какое-нибудь удостоверенье,
Какой-нибудь немецкий пасс?
ГАЛИНА
Нет.
ГРИДНЕВ
Нет?
А — почему? Ведь немцы их давали нашим, не секрет.
ГАЛИНА
Нам не было положено.
ГРИДНЕВ
Кому это?
ГАЛИНА
Рабочим ОСТа.
ГРИДНЕВ
Но что-нибудь взамен?
ГАЛИНА
Нагрудный знак.
Да-да!
ГРИДНЕВ
Я знаю. Я шучу. Я просто
Так…
Как аккуратненько вы с платьица спороли остик, —
Хоть пятнышко, хоть чуть бы ярче полоса,
Галина…
ГАЛИНА
Павловна.
ГРИДНЕВ
А? Чудеса?
Вы знаете, был в Англии такой философ Юм, агностик,
Он говорил — не верь своим глазам.
ГАЛИНА
Скажите, я могу идти?
ГРИДНЕВ
Конечно, можете.
Галина порывисто всходит на первые ступеньки.
Задам
Галина останавливается.
Ещё вопрос: откуда вы?
ГАЛИНА
Из Харькова.
ГРИДНЕВ
Как? Земляки?!
Все наизусть я харьковские знаю уголки.
И даже все дома по номерам.
Ну, улыбнитесь же. Приятно будет нам
Припомнить молодость… Игра войны!
Когда вы освобождены?
ГАЛИНА
Когда я — что?
ГРИДНЕВ
Я говорю — когда
Освободили вас?
ГАЛИНА
Ах, да!
Освободили… Прошлой ночью.
ГРИДНЕВ
Где?
ГАЛИНА
(сходит)
Здесь.
ГРИДНЕВ
Вы жили здесь?
ГАЛИНА
Жила.
ГРИДНЕВ
И — долго?
ГАЛИНА
С год. Не помню точно.
ГРИДНЕВ
Что вы здесь делали?
ГАЛИНА
Прислугою была.
ГРИДНЕВ
Кем именно? Кухаркою? Дояркою?
ГАЛИНА
Нет, горничной.
ГРИДНЕВ
А дома, в Курске, кем работали?
ГАЛИНА
А в Харькове
Училась.
ГРИДНЕВ
Нич-чего для времени военного местечко!
На губы просится словечко!
Передничек крахмаленый,
Воротничок мережный.
Хозяином какой-нибудь эсэсовец оскаленный,
В кругу домашнем нежный…
ГАЛИНА
Прекрасно знаете, что силою нас брали с биржи…
ГРИДНЕВ
Но выбрали-то вас? Не мир же
На вас одной сошёлся клином?
Вы угождали в них кому? — фашистам ли? мужчинам?
ГАЛИНА
Что я могла?
ГРИДНЕВ
Могли быть в армии, в отряде партизанском,
Могли быть Зоею Космодемьянской!
Но вы — вы птичка! Вы прекрасно разочли.
Забыли вы одно:
Что мы — придём! Что мы — пришли!!
Взгляните-ка в окно!
(Подходит и отдёргивает шторы у трёх окон.)
Мерцающее голубое сиянье разливается по залу, где свет лампочек уже очень тускл.
Смотрите! — даже ночь сегодня голуба!
По трём шоссе — смотрите, сколько фар!
То катит ваша смерть! То занесла судьба
Карающий удар!
Галина обращена к окнам. За спиною Гриднева у неё на мгновенье жест отчаяния.
И вон пожар! и вон — пожар! и вон, и вон — пожар!
(Стучит кулаком в грудь.)
Мы шли под танки, жизни не щадя,
За нашу Родину, за нашего любимого Вождя!
А вы? поджали ножки? с книжкой? на кушетке?
Смотрите — артиллерия! мотопехота! конница!
И думаете, славная чекистская разведка
Захочет с вами церемониться?
Вы под святое сталинское знамя
Шмыгнуть намерились в победный час?
Но Маяковский нам сказал: тот, кто не с нами, —
Тот против нас!!
(Наступает на Галину.)
Она отходит и, споткнувшись о стул, садится.
Весь путь ваш, с кем вы виделись, с кем знались,
Откуда вы, куда, и для чего вот здесь одна остались, —
Доподлинно известно Органам.
Мы видим вас — насквозь!
А ну-ка, карты на стол! Маска сорвана!
(Стучит по столу.)
Не удалось!
Галина поникла. Пауза.
Единственно одно — чистосердечное признанье
В глазах народа с вас снимает полвины.
Кто вам давал секретное заданье?
Что вы здесь выполнить должны?
При последних словах Галина удивлённо поднимает голову, слабая улыбка освещает её лицо.
ГАЛИНА
Ах, Боже мой! Слова такие безпощадные
И сказаны таким ужасным тоном…
Вы — любите конфеты шоколадные?
Я с детства неисправная сластёна.
(Встаёт.)
Пока никто не видит, стащим, а?
(Берёт горсть из вазы и предлагает Гридневу.)
Покушайте со мной! Не бойтесь! Не отравлены!
Ха-ха-ха-ха! Как вы застращены!
Вы думаете, я оставлена,
Чтоб подносить советским офицерам яд?
Не бойтесь, это тающий, прелестный шоколад.
(Ест.)
Пусть. Проглочу одна. Как верный пёс,
Издохну в корчах, доползя до двери.
Не жалко будет вам? Утешитесь, что ваш прогноз
Был абсолютно верен.
ГРИДНЕВ
Вы не пытайтесь…
ГАЛИНА
Справедливо!
Как справедливо всё, что вы сказали мне!
Я — женщина! Я в мир пришла, чтоб быть счастливой! —
Мне дела нет, в какой стране
И при каком правительстве дурацком!
Военной формы не терплю и обожаю штатскую.
На сапоги зенитчицы я не сменяю туфли модные,
Ни на солдатские обмотки шёлковый чулок!
Откуда взяли вы, что я мечтаю быть свободною?
Хочу — рабою быть! Хочу — семейный уголок!
Что я мечтаю трактором пахать,
Откуда взяли ваши головы светлейшие?
Я, может, призвана смеяться и порхать!
Я, может, уродилась гейшею?!
Сто лет твердить — «равны», «равна», —
Возьмите равенство себе! и без него неплохо жили мы.
Вот новости! Кругом и каждому я что-то вам должна?
Я не брала у вас взаймы!
Три штуки слопала — и до сих пор жива.
Попробуйте.
Гриднев колеблется.
Стыдились бы. Вас угощает дама!
Ну, слушайте, зачем все эти пышные слова?
Вся эта мелодрама?
Ведь сами вы не верите тому, что говорите?
В таком мундирчике, как ваш, не ползают под танки.
А окажись войны игрою где-нибудь на Крите —
Махнули бы на всё, влюбились бы в гречанку…
Откуда я — из Харькова? Из Ровно?
Жила безгрешно ли? немножечко греша?
Ни перед кем и никогда не буду я виновна,
Затем, что хороша.
Вы — юноша. Едва сведя отроческие прыщики,
Зачем вы тужитесь быть непременно сыщиком?
Нагородили — клятвы! трубы! трупы!
Вы пожалеете когда-нибудь, как это было глупо!..
ГРИДНЕВ
Галина Павловна! Надеюсь я… что я…
ГАЛИНА
(идя вкруг стола)
Траля-ля-ля, ля-ля, ля-ля!
ГРИДНЕВ
(следуя за ней)
Помиримся.
ГАЛИНА
Мизинчиками? У меня болит сустав.
ГРИДНЕВ
Конечно, вы правы. Конечно, я не прав.
Но я раскаялся. Раскаянье…
ГАЛИНА
Снимает полвины.
ГРИДНЕВ
По долгу службы должен был, простите.
ГАЛИНА
Да никому вы не должны,
Поймите!
ГРИДНЕВ
(неотступно за ней)
Галина Павловна! Где ваша комната?
ГАЛИНА
Ого!
А больше — ничего?
ГРИДНЕВ
А больше — то, что я от вас не отступлю,
Я вас люблю!
ГАЛИНА
Не смейте это слово!
ГРИДНЕВ
Ну не надо, ну нельзя,
Галина! Галечка!
(За плечи.)
Галю-
ся!!
ГАЛИНА
(вырываясь)
Пустите!
ГРИДНЕВ
До утра!
ГАЛИНА
А после?
ГРИДНЕВ
В тыл отправлю.
Бумажки, справки дам! А хочешь — здесь оставлю.
Со мной — поедешь, а?
ГАЛИНА
Но — как же?
ГРИДНЕВ
Ну, там придумаем! Ну, секретаршей!
А? Галя?.. Галечка?.. Ну, оглянись…
Война всё спишет. Кто узнает?
Пытается обнять её. Галина вырывается.
ГАЛИНА
(сильно повышая голос)
Я закричу.
ГРИДНЕВ
(оставшись на месте)
Ах, так?..
Ну, ну. Кричи. Как нас учил великий гуманист,
Что если не сдаётся враг,
Его уничтожают.
Пауза. Они вдали друг от друга.
Кричи-кричи!.. Что горла, громко!
Вот прибегут защитнички толпой!..
Давно ж ты не была в СССР. Не знаешь этой кромки —
Вокруг погонов кромки голубой.
Пусть прибегут. Скажу: а-рес-то-вал!
И — всё. и между вами — пропасть. и — в подвал.
Без хлеба и без сна на пятидневку!
ГАЛИНА
(опускаясь)
Две мерки к женщине:
застенка жертва — уличная девка…
ГРИДНЕВ
(постепенно подходя)
Ты зря упрямишься… Ну что ты потеряешь?
Сегодня — ночь. Разъедемся. Живи себе, как знаешь.
Лампочки еле светятся. В голубом сиянии окон всё сильнее багровый отсвет пожаров. В наступающей темноте заметнее свет забытых свечей. Из коридора вбегает и печатает шаг Салиев.
А ты зачем?
САЛИЕВ
(козыряя)
Боец Салиев.
Приказано доставить вас на отдых!
ГРИДНЕВ
(поколебавшись, Галине)
Так я приду к тебе. и помни: часовые
Стоят на выходах и входах.
(Уходит с Салиевым.)
Галина идёт было к лестнице, подымается на несколько ступеней — но сходит назад. Безсильно, безцельно бредёт по залу. Одну за другой задёргивает шторы. Садится за рояль, роняет голову. Потом начинает играть. Во время игры, не замеченный ею, в парадную дверь входит без шинели капитан Нержин. Он останавливается, слушает. Беззвучно садится.
НЕРЖИН
(когда Галина кончает играть)
Дарф их зи биттен, гнедигес фройляйн,
Айн биссхен нох?
Галина вскакивает, встаёт и Нержин, они пытаются всмотреться друг в друга.
ГАЛИНА
Серёжка!!!
НЕРЖИН
Галка!!
Коротко целуются, перебирают друг друга за руки, говорят наперебой. Вся сцена — при слабом свете и свечах.
Я…
ГАЛИНА
А я…
НЕРЖИН
Ты отступала с немцами?
ГАЛИНА
Ах, долгая история!..
Тебя узнать нельзя! в военной форме! капитаном!
Уехала? учиться. В венскую консерваторию,
По классу фортепьяно.
НЕРЖИН
Как?? — в Вене??
ГАЛИНА
В Вене!!!
Где Моцарта, где Гайдна тени!..
Но — Люся?.. Перед сдачею Ростова
В бомбоубежище мы встретились.
В ней не было кровинки…
НЕРЖИН
Она бежала на Кавказ. и снова, снова
Куда-то в горы, под обстрелом, по тропинке…
Полуживая в Казахстан… Но объясни…
ГАЛИНА
Ах, Боже!
Так много надо мне сказать тебе, Серёжа!
(Мечется.)
Куда пойти? Пойдём ко мне! Да нет, нельзя…
НЕРЖИН
Да что ты?!
Чего боишься ты?
ГАЛИНА
Ты сам, ты сам со мною берегись!
НЕРЖИН
(расстёгивает кобуру пистолета)
Что, немцы здесь?
ГАЛИНА
Ах, если б немцы! Желторотый
Какой-то бродит тут чекист.
НЕРЖИН
Штаб нашей части тут, ты бредишь.
ГАЛИНА
Ты — не боишься?!
НЕРЖИН
Да чего ж?!
ГАЛИНА
Ой, как тебе я рада! Ты сейчас поедешь —
Куда поедешь ты? Меня с собой возьмёшь?
Скажи, что — можешь, умоляю!
НЕРЖИН
Я — ничего не понимаю!
ГАЛИНА
Ты всё сейчас поймёшь!
НЕРЖИН
Ну, если хочешь, я возьму, конечно, но…
Но я ведь еду на передовую.
ГАЛИНА
В какую сторону?
НЕРЖИН
Тебе не всё равно?
ГАЛИНА
Нет, очень важно мне, в какую?
Хоть подвезёшь. Сойду — оттуда
Попробую сама добресть.
Ах, Игорь-Игорь, да! После такого чуда
Ты прав, что Бог на небе — есть!
НЕРЖИН
(оглядываясь)
С кем ты? Кто — Игорь?
ГАЛИНА
Мой жених.
НЕРЖИН
Он здесь?
ГАЛИНА
Нет, к счастью, не у вас!
НЕРЖИН
Ах, он у них?
ГАЛИНА
Да, он у нас!
НЕРЖИН
Ну, что ни слово, то загадка.
Сядь, расскажи всё по порядку.
Выходишь замуж?
ГАЛИНА
Выхожу.
Да подожди, да расскажу.
Ты видишь, я ещё дрожу.
Он тут допрашивал меня…
НЕРЖИН
Кто — он?
ГАЛИНА
Чекист.
НЕРЖИН
Ка-кой?
ГАЛИНА
Такой,
С рогами.
НЕРЖИН
Ну, успокойся, ты со мной,
А здесь, в полоске фронтовой,
Они не очень-то над нами.
ГАЛИНА
Студентик хиленький! Куда! Стал выше, твёрже,
Движений, голоса спокойное единство.
Пусть говорят — ужасен фронт, а всё же
Мужчин перерождает он, как женщин материнство.
Когда поедешь ты? Нельзя ли поскорей?
Мне надо вырваться, уйти!
НЕРЖИН
Да что ты так торопишься? Ты ж не среди зверей.
ГАЛИНА
Почти…
НЕРЖИН
Но что творится здесь? Тут зеркало упало?
ГАЛИНА
Тут будет пир.
НЕРЖИН
А ты зачем? Как ты сюда попала?
ГАЛИНА
Не сразу всё… товарищ командир.
Опять слова противные — «товарищ» да «гражданка»…
Как можно благородно: «господин», «сударыня»!
…Для всех я — остовка, немецкая служанка,
Вчера освобождённая с приходом вашей армии.
НЕРЖИН
Зачем?.. Как занесло тебя сюда из Вены?
Кто твой жених?.. Что же молчишь ты, Галя?.. А?
ГАЛИНА
(затруднённо)
У вас это считается изменой.
Он — враг тебе. Он — офицер РОА.
НЕРЖИН
Не обязательно.
ГАЛИНА
Что?
НЕРЖИН
Враг.
ГАЛИНА
Серёжка!! Ты не оболванен?!
Зачем ты служишь им? Ты — наш?
НЕРЖИН
Чей — ваш? Не враг — ещё не значит друг.
ГАЛИНА
Скажи, а тут вот комиссар есть — Ванин, —
Хороший человек?
НЕРЖИН
Я лучшего не знал.
ГАЛИНА
А — политрук?
НЕРЖИН
Да тут не только что майор,
Тут все ребята на подбор.
ГАЛИНА
Но если так, скажи: каким же роком?
Какими зельями? какою силой
Вас всех понудили служить морлокам,
Врагам народа нашего, врагам России?
НЕРЖИН
Кому?
ГАЛИНА
Морлокам.
НЕРЖИН
Это — из Уэллса?
ГАЛИНА
Нет, из Москвы, а старший их — из Гори.
НЕРЖИН
Морлокам. Шибко сказано.
ГАЛИНА
Не смейся.
Всю юность просмеялись мы на горе.
НЕРЖИН
На наше горе, Галка, ты права.
Напоминают мне твои слова,
Как в детстве я по улице, безпечный ученик,
Бежал, свистел. Суровый подозвал меня старик:
«Не смей свистеть, щенок! На этакой свирели
Россию просвистели».
ГАЛИНА
Не то, не то, ты всё ещё легко…
Не нравишься ты мне — как о чужой беде
Ты обо всём об этом рассуждаешь.
Да обернись, одумайся, — ты где?
Где ты живёшь, ты знаешь?
Есть уговор у нас, гляди —
(быстро вынимает что-то висящее на шее на цепочке)
Вот ампула, в ней яд мгновенный, —
Что если мы не встретимся и, Бог не приведи,
Я в ваши руки попаду, то мёртвой, но не пленной.
НЕРЖИН
Галина! Ты в уме?
ГАЛИНА
Я не хочу изгнить в тюрьме!
Ни в Джезказгане — задохнуться пылью медной!
Ни в Заполярьи — кровоточить от цынги!
Ни выбирать из мусора оглодки пищи бедной,
Ни продавать себя Хозяину тайги!
НЕРЖИН
Галина! Что за вздор?
ГАЛИНА
Та-ков наш уговор!
Не убеждай, напрасных слов не трать.
И он застрелится. Живым его не взять!
С — С — С — Р! Ведь это лес дремучий!
Дремучий лес!
Законов нет, есть власть — хватать и мучить
По конституции и без.
Доносы, сыщики, анкеты,
Лауреаты и банкеты,
Магнитогорски и онучи —
Страна чудес!
Страна измотанных, запуганных, оборванных,
Трибуны главарей — один в один как боровы,
Туристам западным — зажиточность
потёмкинских колхозов,
Для школьников — доносчик на родителей Морозов,
С дверьми за кожей чёрной — комнаты-капканы,
В пять Франций — лагеря вдоль Вычегды и Камы,
Куда ни глянь — то вдовья боязно отёртая слеза, —
Аплодисменты,
Сто процентов
ЗА!!!
Страна чудес! За голод, за невзгоды
Единым выдохом хвалебные акафисты и оды!
Страна чудес, где целые народы
— Коммунистические чудеса! —
Переселяют в глубь Сибири
За двадцать и четыре
Часа!
Ваш Рокоссовский не вчера ли
Ещё был зэк,
Не человек,
В Сибири ж где-то на лесном повале
Не то стволы пилил, не то грузил на баржи,
Сегодня вызван, нужен, маршал, —
А завтра, может быть, опять его в тайгу??
Ой, не могу!..
НЕРЖИН
Мне страшно, Галочка. Ты — та, и ты — не та.
По-новому светится каждая черта.
Ты одержимая. Твои глаза горят.
Кто всё это вселил в тебя? Откуда это сталось?
ГАЛИНА
Как ваши комсомолки говорят, —
Пе-ре-ко-ва-лась…
Как будто люди — лошади. Да, жребий верно узнан:
Тяни и подыхай, один конец.
В одной и той же чёрной кузне
Заплечный нас ковал один кузнец.
НЕРЖИН
Я соглашусь во многом. Многое тут правда.
Но краска чёрная в природе не бывает сплошь.
ГАЛИНА
Не спорь, не знаю я! Я буду мёртвой завтра,
Если сегодня ты меня не увезёшь!
Нержин погружён в слышанное.
Среди советских — как вести себя? что делать? научи.
НЕРЖИН
Сумеешь — грубых нас порадуй, позвени, похохочи,
Пройдись разочек в слоу-фоксе.
ГАЛИНА
А мы с тобой — знакомы?
НЕРЖИН
Н-нет…
Пусть будет так, что я тобой увлёкся.
Кто ж твой жених? Он белоэмигрант?
ГАЛИНА
Да нет, как мы — из подсоветских.
Был лейтенант.
И в плен попал.
НЕРЖИН
И в армии немецкой…
ГАЛИНА
Теперь уж в русской армии, ты опоздал,
Там русские дивизии и авиация при этом!
НЕРЖИН
Я слышал.
ГАЛИНА
Слышал?
НЕРЖИН
Пражский зал
И учрежденье Комитета.
ГАЛИНА
Он мне рассказывал, он был! О, это будет грандиозно!
НЕРЖИН
Галиночка, Галина, — поздно.
ГАЛИНА
Немного поздно, да.
НЕРЖИН
Галина, не немного…
ГАЛИНА
Убийца, замолчи! Всегда ты был фанатиком!
Но жизнь — не математика!
Не всё же надо строго.
И мягко надобно, Серёженька…
Ведь у меня всего одна дорога,
Одна дороженька…
Ты Люсе так пиши: негаданно, нежданно
Твою подругу лучшую я сам отвёз к венцу.
Горели свечи. Скрябина играли. Странно,
Что чёрный цвет невесте был к лицу.
Мне не пришлось увидеть жениха,
И в церковь, где венчали, не вступил я на порог.
Но как невеста ни злосердна, ни капризна, ни плоха,
Пошли ей счастья, Бог…
(Рыдает.)
НЕРЖИН
Галюша… Этого ещё… Сказал же — увезу.
День-два пройдёт, и ты…
ГАЛИНА
Уже всё кончено. Одну слезу
От сердца полноты.
Откуда-то спустился ты как ангел
И вот опять уйдёшь, навек должно-нибудь…
Я так близка была к нему! — но танки!
Но ваши танки заложили путь!
О, если бы ты знал, как дрогнула Европа
В то утро страшное тринадцатого января,
Когда в её последние варшавские ворота
Вы двинули дубиною Иван-богатыря!
Всё закружилось, завертелось шабашом Вальпургия,
Кто онемел, кто извивался, кто бежал, а я —
Я кинулась сюда, чтобы прорваться к Растенбургу,
Где легион его, где он, где жизнь моя
Должна окончиться или начаться!
НЕРЖИН
Ах, вот он где!.. Я мог бы догадаться.
ГАЛИНА
Что? что? что знаешь ты?
НЕРЖИН
Я… ничего не знаю.
ГАЛИНА
Но ты сказал…?
НЕРЖИН
Теперь я понимаю,
Как получилось то, что путь твой здесь пролёг.
Рассказывай, рассказывай, Галёк.
ГАЛИНА
Уж всё. Из Вены десять суток я в пути. Бомбёжки,
Пожары, пересадки, эшелоны кувырком, —
И вот теперь, когда совсем немножко,
Когда б могла дойти пешком, —
Откуда — снова — вы? Поток, поток зловещий,
Войска, войска, нет перерыву им…
О чём ты хмуришься?..
НЕРЖИН
Что Пруссию мы взяли в клещи
И с часу на час их соединим.
ГАЛИНА
Он там!!!
НЕРЖИН
Он там.
ГАЛИНА
Мне говорили немцы, верить я боялась,
Зато у вас у каждого читаю на челе,
Что это так. Пусть так… Хотя бы мне досталось
Уйти из жизни с ним в одной петле.
НЕРЖИН
Галина. Галя. Подыми лицо.
Не побеждал ещё никто, лицо державший книзу.
Уж если едешь ты в кольцо,
То не с таким девизом.
Избранника не знаю твоего. Но если
Достоин он любви своей невесты, —
Скажи ему: спокоен я за русскую судьбу,
Пока у нас такие жёны,
Пусть до поры клеймёны мы по-разному на лбу
И в разные мундиры наряжёны.
Я обещаю: через двое суток
Ты будешь по-тот бок,
Какие б ни были маршруты —
На запад, север или на восток.
ГАЛИНА
Так руку!
НЕРЖИН
Руку!
ГАЛИНА
С плеч гора!
Вторую!
(Их руки соединены и скрещены.)
Нет пути назад! Ура-а-а!!..
Не будет много, если я тебя ещё раз поцелую?
НЕРЖИН
По-моему, не будет.
ГАЛИНА
Господи, прости меня, шальную.
Целуются. Внезапно вспыхивает полный электрический свет.
Отталкиваются.
Ага!
НЕРЖИН
Ага!
ГАЛИНА
Я ж говорю — страна чудес!
(Весело бежит к роялю, играет.)
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Там же, те же, в тех же положениях. Незамеченный обоими, появляется Бербенчук. Постепенно подходя, слушает.
БЕРБЕНЧУК
Ах, вот кто здесь всей музыке виновник!
ГАЛИНА
(встаёт, смущённо)
Товарищ командир…
НЕРЖИН
Товарищ подполковник!
По вызову по вашему…
Бербенчук делает милостивый жест: сейчас мы не на службе. В продолжении всей дальнейшей сцены он очень галантен, бас его переливается.
БЕРБЕНЧУК
И я, и я играл когда-то.
(Садится за рояль, исполняет несколько тактов «собачьего вальса».)
Ну, как нашли вы моего комбата?
Он кавалер плохой, далёк от всяких этих… этик.
Средь офицеров наших он — чудак и… теоретик.
Вы думаете что? — командовать легко?
Хо-го!
Тут мало… личной храбрости. Имей и хитрость лисию.
Усаживаются с Галиной за круглый столик, Нержин поодаль.
Сидят, скучают там, в штабах, но — начеку.
Чуть нет боёв — послать к Бербенчуку
Такую-то комиссию.
Ну, иногда у помпохоза им устроишь угощенье,
И пронесло. А то — вези в подразделенье,
Хотим на край передний, хоть умри!
Вот тут и думаешь: к кому? Ведь батарей-то — три.
Я не теряюсь — сразу за рога:
А что интересует вас? Да то, да сё… Ага!
Сохранность техники? Храненье документов? тайн? —
К Макарову! Аккуратист. Хозяин!
Катушка с кабелем? — на каждой бирочка:
«Ответственный — красноармеец Ляпкин-Тяпкин».
Отчётность по имуществу? Читайте! Без задирочки
Красивым почерком, четыре папки.
Развед-планшет? Икона!
Сто листиков прозрачных, страшно тронуть!
И сам Макаров — де-ержится!.. Да нас, кадровиков,
Не хочешь — уважай.
Во-от… А второй — танцор и шалопай.
Он здесь сегодня, Лихарёв.
Задачи не дослушает — так точно! есть! пошёл!
Где поле минное — прошёл,
А где картофельное — сел!
(Хохочет.)
Галина вежливо улыбается.
Стреляет влёт, на выпивку не слаб,
Но, извиняюсь, слишком смел
Насчёт, как говорится, баб.
Бойцы его — по закромам, по ямам, влезут в щёлку,
Запасов завались у них, мука бела.
А то свинью убьют — из жалости: осколком
На поле боя, бедная, поранена была!
(Хохочет.)
ГАЛИНА
(наивно)
Из пушки?
БЕРБЕНЧУК
М-да. А шкура содрана — проверь. Так доскажу:
Сам езжу я к нему, комиссий не вожу.
Во-от… А приедет из Москвы в пенсне интеллигент:
«На уровне науки ли инструментальная разведка?» —
Такого — к Нержину.
Поправочка на влажность, гра-ди-ент,
Мы тоже, дескать, кормлены не редькой!
И как это ещё? Температурная…
НЕРЖИН
Инверсия.
БЕРБЕНЧУК
Оближет пальчики! Доволен! Персия!
Пришлют инструкторов политотдела — я уже
С порога вижу: плохо дело, кляуза!
И — к Нержину! Дадут вам там ума,
Почище вашего комбатом там наверчено!
Шмурыгнет носом у него последний чухлома
И вякнет про лиз-ленд, про Черчилля.
Он
(кивает на Нержина)
всё не по-людски. Не пьян, когда все пьяны,
Не спит, когда все спят. Дошёл до капитана, —
Уставы ж наши и традиции — смеётся, всё к нулю!
А впрочем, мягче стал. За это похвалю.
Женат. Жене дотошно верен.
И даже в верности чрезмерен.
ГАЛИНА
Да разве верности есть мера?
БЕРБЕНЧУК
Ну, знаете, для офицера!..
Что, в штаб приехав за задачей боевой, —
Он с вами?..
НЕРЖИН
Слушал музыку.
БЕРБЕНЧУК
Ну да, но, милый мой,
Война не ждёт! Там кровь, там жертвы поминутно.
(Увидев Салиева-Замалиева, вошедшего с вазой.)
Сюда, Салий!
НЕРЖИН
(решительно встаёт, расстёгивает планшетку с картой)
Прошу задачу мне!
БЕРБЕНЧУК
(Галине)
Засушенный
Калифорнийский виноград. Трофейный. Кушайте.
НЕРЖИН
(наступая)
Прошу задачу!
БЕРБЕНЧУК
Подожди!
ГАЛИНА
(угощаясь)
Воюете уютно.
НЕРЖИН
Прошу…
БЕРБЕНЧУК
Отстань!
ГАЛИНА
Но где же вы доста…
БЕРБЕНЧУК
Тут были склады Красного Креста.
Мне удалось установить,
Где именно, накрыли цель, —
Не курите?
(Доставая из одного кармана кителя.)
Вот сигареты «Честерфильд»,
(из другого кармана)
а вот — «Камель».
(Закуривает.)
Галина Павловна! А как вы отнесётесь к мысли,
Что я вас в свой дивизион зачислю?
ГАЛИНА
Да разве можно?
БЕРБЕНЧУК
Назовите мне, чего не мог бы я?
Свой штаб, печать своя.
Зову портного — кителёк! и юбочку! скорее!
И по уставу сшить — и вместе помоднее.
Патриотизм какой! и в оборону вклад!
И как я лично был бы рад!..
ГАЛИНА
Но чем полезна буду вам?
БЕРБЕНЧУК
Не нам, не мне!
Галина Павловна, — стране!
Вот вы увидите сейчас —
Отдам приказ — и вас
Зачислят в список. Эт-то нам легко!
Стремительно входит Майков с двумя красноармейцами.
МАЙКОВ
Где молоко? Где молоко?
Американское?
Поварёнок показывает на столе.
Немецкое?
Тот показывает.
Сгущённое?.. Сухое?..
Эх, чёрт!
(Любуется столом.)
БЕРБЕНЧУК
(благодушно)
Э-э, Майков.
МАЙКОВ
(рассеянно)
Я.
(Поварёнку.)
А это что такое?
БЕРБЕНЧУК
Э-э…
МАЙКОВ
Эт-то что тут за мужицкие стаканы?
БЕРБЕНЧУК
(раздражаясь)
Начштаба!
МАЙКОВ
Да!.. Убрать гранёные, болваны!
(Только тут, наткнувшись на Нержина, на ходу запросто здоровается с ним.)
БЕРБЕНЧУК
(грозно)
Начальник штаба!!
МАЙКОВ
Слушаю!
(Вполголоса.)
Хрустальных, тонких, чтоб звенели!
Поварёнок убегает.
БЕРБЕНЧУК
(яростно)
Начальник штаба!!!
МАЙКОВ
(застывает «смирно»)
Весь вниманье!
БЕРБЕНЧУК
Неужели
Я!? — должен повторять?
Пауза. Майков своей навек застывшей готовностью рассеивает это сомнение комдива.
(Смягчая тон.)
Вот эту вот советскую гражданочку,
Не знаю — барышню, не знаю — дамочку,
Бойцом в дивизион включить с сего числа.
Она уже согласье мне дала.
НЕРЖИН
(вставая, официально)
Товарищ подполковник! Я…
ГАЛИНА
Согласие? Когда же?
БЕРБЕНЧУК
Вам ясно?
МАЙКОВ
Ясно!
БЕРБЕНЧУК
Выполнять!
МАЙКОВ
(сокрушённо разводя руками)
Нет прав.
БЕРБЕНЧУК
У вас?
МАЙКОВ
У нас. и даже,
Увы, у вас.
БЕРБЕНЧУК
Как так? Если приказами проведена…
Ну, как там нужно, сделай поформальней.
В конце концов, я — кто? я едино-
Начальник?!
Майков выразительно смотрит на Бербенчука. Тот слабеет.
Но если я хочу?.. но ты… но я… тебе ведь
Виднее, как за это взяться.
МАЙКОВ
(скороговоркой)
Инструкция ноль-ноль сто восемьдесят девять,
Приказ четыреста пятнадцать
Гласят, что без путёвки райвоенкомата,
Или без справки медсанбата…
БЕРБЕНЧУК
Но для чего ты есть? Но ты начальник штаба!
Ну, сделай так или иначе…
НЕРЖИН
Товарищ подполковник! Я бы
Просил поставить мне задачу!
МАЙКОВ
(подходя к Бербенчуку, тихо)
Особенно теперь, когда
Здесь смершевец…
БЕРБЕНЧУК
Ах, да…
Задачу?.. Ну, поди сюда.
(Отходит с Нержиным.)
Галина, стараясь быть незаметной, проходит и подымается по лестнице. Нержин развернул планшетку и на руках держит перед Бербенчуком карту.
Достань-ка карту. Во-от… Противник отступил к востоку
И закрепился… закрепился… Где же тут Либштадт?
Куда ж он делся?.. Гм… Был тут… А нет ли сбоку?..
Ну, в общем, отступил назад.
Мы — наступаем, и бои идут
(Широкие жесты по карте.)
Вот где-то тут… А может быть, и тут…
Я даже допускаю, что уже
На этом рубеже…
НЕРЖИН
Я уточнить хочу. Сперва вы показали…
Бербенчук смотрит не на карту, а вверх, вслед уходящей Галине. Нержин умолкает. В правую дверь вбегает одетый по-зимнему, запорошенный снегом Сержант.
СЕРЖАНТ
Товарищ капитан! На «Опель-Адмирале»
Наш повар…
МАЙКОВ
Что??
СЕРЖАНТ
Застрял.
МАЙКОВ
Но с тортом?
СЕРЖАНТ
Не может выйти. Держит на руках.
Галина ушла. Бербенчук спешно возвращается к карте.
БЕРБЕНЧУК
Во-от… обстановка в основных чертах.
МАЙКОВ
Командой вытянуть! Какого чёрта?
СЕРЖАНТ
Кого забрать прикажете?
МАЙКОВ
Телефонистов!
Связных! и писарей! фотографов! топографов! радистов!
Сержант убегает.
НЕРЖИН
Но я не понял…
БЕРБЕНЧУК
Разберёшься. Ты способный.
Начальник штаба разъяснит тебе подробней.
Рукой к козырьку отпускает Нержина и поспешно поднимается вслед Галине. Нержин с измерителем и картой в руках смотрит вослед Бербенчуку.
МАЙКОВ
(поглядывая на Нержина, напевает)
КТО ИГЛОЙ ПО РАЗОРВАННОЙ КАРТЕ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕРЗОСТНЫЙ ПУТЬ!(Обнимает его за плечи, поворачивает к зеркалу.)
А? Комильфо? Ну, оцени.
Ведь мы же вспомним эти дни!
Король Артур за круглый стол сажал,
Но кто же с зеркала едал?
Такое празднество забудется нескоро.
НЕРЖИН
Да что за повод?
МАЙКОВ
Два. Рожденья день майора
И…
НЕРЖИН
И?..
МАЙКОВ
Ох, я и начудачу!
НЕРЖИН
Пока не пьян — поставь задачу.
Нержин выносит вперёд столик, раскладывает на нём карту, оба садятся, причём Майков — с ногами на стул, крест-накрест поджав их.
МАЙКОВ
Так. Обстановка. Обстановки
Никто не знает, как всегда.
Услышишь выстрел из винтовки,
Свернёшь машины к правой бровке,
Узнаешь-сходишь, не беда.
Либштадт. Река Пассарге. Мостом
На правый берег и — нах остен!
НЕРЖИН
К востоку? Подожди!!
(Вскакивает.)
Так Пруссия…?
(Рукопожатие с размаху.)
МАЙКОВ
Котёл!
Наш корпус танковый сегодня днём дожал-таки:
Разрезал немцев и у Эльбинга прошёл
До Балтики!
НЕРЖИН
(в большом волнении)
Мечта Самсонова!
МАЙКОВ
И торжества второй наш повод.
Бригада N-ская к тебе притянет провод.
Веди разведку в этом
(отчёркивает)
секторе,
Все цели нам передавай по радио,
а некоторые
Дави с бригадою. Ты их найти изволь.
Твоя готовность к четырём ноль-ноль.
Где батарея?
НЕРЖИН
Уезжая,
Её оставил я на съёме.
МАЙКОВ
Так час-другой, душа родная,
Ты будешь гостем в этом доме?
Ты оценишь изысканность затей и угощенья.
Им не найти ценителя мне больно было б, Серж.
Всё хорошо: войны конец, весёлый день рожденья,
И этой милой девушки явленье, —
Так нет, приполз гадёныш СМЕРШ.
НЕРЖИН
Кто?
МАЙКОВ
Не видал ещё? Из Армии прислали.
НЕРЖИН
Уполномоченный?
МАЙКОВ
У-гу.
НЕРЖИН
Не фронтовик?
МАЙКОВ
Да где!
Да поросёнок розовый. Дерьмом чекистским напихали
В училище НКВД.
Весь мир его — училище: как одевали, как кормили,
Да как людей собаками травили…
Пойду. Состряпай донесеньице и схемку набросай,
Пометишь четырьмя утра.
НЕРЖИН
Но где передний край,
Где развернусь, не знаю, что ты, Сашка?
МАЙКОВ
Да ты пиши! Как Ванин говорит, нужна бумажка.
Ты — мне, я — в Армию, а Армия пошлёт
Во Фронт, а ты ночуй, и не доехав даже.
Ну, глупость напиши, кой чёрт там разберёт?
Сто тысяч там таких бумажек!
Узнаю утром новенькое что-нибудь — подправлю,
А нет — пошлю и так, подумаешь, проблема!
НЕРЖИН
Нет, это глупо.
МАЙКОВ
(выпрямляясь)
Да? Так я, товарищ капитан, добавлю:
К пяти утра прислать связного с донесением и схемой.
НЕРЖИН
Куда прислать? Сюда?
МАЙКОВ
Ну да.
НЕРЖИН
Ещё глупей. Он и к шести утра,
И не сюда, в Либштадт не доберётся.
МАЙКОВ
А мне какое дело? Знать бы вам пора,
Вы — офицер, не детка,
За что глазами и ушами армии зовётся
Разведка вообще и, в частности,
артиллерийская разведка,
По мере того как Майков увлекается, Нержин любуется им.
Что никогда ещё такого отношенья строгого,
Не требовала чёткости такой документация,
Как именно теперь, когда мы к зверю в логово
Вступаем в окружении враждебной нации,
Как именно теперь…
НЕРЖИН
(напевает)
ИЛИ, БУНТ НА БОРТУ ОБНАРУЖИВ, ИЗ-ЗА ПОЯСА РВЁТ ПИСТОЛЕТ,(Вдвоём с Майковым.)
ТАК, ЧТО СЫПЕТСЯ ЗОЛОТО С КРУЖЕВ РОЗОВАТЫХ БРАБАНТСКИХ МАНЖЕТ.МАЙКОВ
Пи-ши!
(Уходит.)
Оставшись один, Нержин чертит, пишет и разговаривает между делом.
НЕРЖИН
Вот мне сказали бы в сороковом году,
В мои доверчиво неопытные дни,
Что я с высот Истории… безропотно сойду…
До низменной штабной стряпни…
Входит Ванин, куря трубку. Он каждый раз курит что-нибудь новое — то сигарету, то папиросу, то из газеты махорочную цыгарку непомерно больших размеров. Нержин не замечает Ванина.
Война за революцию!
Такой ли в юности тебя мы представляем?
Катушки с бирками…
Бумажки, чтоб начальство высшее провесть.
Всё выдумки — и героизм, и жертвенности тайны…
Как непохоже всё, что мы читаем,
На то, как это есть.
ВАНИН
Вот удивил! Образование ума не прибавляет.
Читай поменьше, менее того — пиши.
НЕРЖИН
(вскакивает)
Та-ащ майор! Вы, говорят, сегодня… Поздравляю!
И долгой жизни вам, от всей души!
(Рукопожатие.)
ВАНИН
Спасибо, дорогой. Но я скриплю давненько,
Пора мне, слышь, на печку помаленьку.
НЕРЖИН
Да сколько ж вам?
ВАНИН
Мне? Тридцать шесть.
НЕРЖИН
Все-го?
Мне столько же почти, а в мускулах, в крови…
ВАНИН
Тебе-то сколько?
НЕРЖИН
Двадцать семь.
ВАНИН
Хо-го!
До лет моих, милок, ещё ты доживи.
НЕРЖИН
Но девять лет? Что в них? Велик ли ваш излишек?
ВАНИН
Четвёртый-то десяток! — вот оно.
Показывает он и то, как жизнь промотана,
И то, что нет у ног кудрявеньких детишек.
НЕРЖИН
Детей?
ВАНИН
Детей. Весёленьких, здоровых.
Мы все не понимаем схолоста.
Питаемся в нарпитовских столовых,
Ночуем у куста…
НЕРЖИН
Да-да-да-да! Как это вы сказали ловко! —
Вот именно — столовка!
Ещё не раз я ею детство помяну:
Доска облезлая, и мелом процарапано меню,
Всегда одно — капуста и перловка!..
Но поглядеть на вас сейчас — полны, в лице румянец,
Не выправка пускай, а всё ж армейский глянец,
Нет, не стары!
ВАНИН
На вид! А чувствую, что стар.
Из муромской деревни, в НЭПовский угар
Приехал я мальчишкой в город,
И вот с тех пор кружусь… кружусь с тех пор вот…
Х-эх, было времячко!
НЕРЖИН
Я помню!
ВАНИН
Помнишь? Ты?
По три копейки хлеб, да с дом величиной кино-анонсы?
А мы, стянувши пояса до туготы,
Шли штурмовать и верили, что мы штурмуем солнце!
Что запахи лугов вольются в города,
Что в сёлах заблестит хрусталь лабораторий,
Что четырьмя часами светлого труда
Все будем равные, все будем господа
Над жизнью. Над природой. Над Историей.
С субботников — на диспуты, с ячеек — в клубы,
С рабфаков — в Академии! — путёвку в зубы…
И не заметил, брат ты мой, я в этой суете,
Как жил и отжил. А теперь, как сорок мне без малого,
Ранения под Хортицею след на животе —
Рубец, извилистее перелёта Чкалова.
НЕРЖИН
Неповторимый НЭП! Под чьими небесами, —
Под нашими ты цвёл?.. и сами ж вы, вы сами
Его…
(Делает душащее движение на горле.)
Подойдя к радиоле, Ванин рассеянно включает её.
ГОЛОС ОТТУДА
…Весть о новых грандиозных победах героической Красной Армии вызвала прилив невиданного энтузиазма и небывалого патриотического подъёма среди ивановских текстильщиц. На многочисленных цеховых митингах работницы выкликают здравицы в честь гениально-мудрого стратега, вождя, отца, учителя и лучшего друга текстильщиц — товарища Сталина. Прядильщицы Моломонова и Натягушина 72 часа не отходили от своих сорока станков и досрочно выполнили план 1969 года…
Ванин выключает.
ВАНИН
Что — сами? Знаем, кривы сани.
Посердится на них кобыла,
А прёт и под гору и в гору.
НЕРЖИН
Арсений Алексеевич! Всё то, что было, —
Могло бы мягче быть? Без казней, без террора, —
С того последнего решающего спора
Между Бухариным и Сталиным?
ВАНИН
Меж них
И спору не было. Один скрипел пером за семерых,
Другой повсюду расставлял людей своих.
НЕРЖИН
Так было?
ВАНИН
Так.
НЕРЖИН
Тем хуже!..
Как скрыта истина Истории, и как её к тому же
Ещё темнят. У оппозиции у правой обнаружа…
ВАНИН
Какая оппозиция права, лева,
Всё это, слышь, браток, — слова!
Что от меня добыть ты хочешь? Ты-то
Уж мог бы знать мой нрав.
Хотел Бухарин, чтоб была Россия — сытой?
Так он и прав.
НЕРЖИН
Ах прав?! и я так думаю! Я чувствую порой,
Что в Революции, что в самом стержне становом
Есть где-то роковой,
Проклятый перелом,
Но где? Но в чём?
Когтями землю я царапаю, как зверь,
Я рылом под землёй ищу его на ощупь…
ВАНИН
И я так думал раньше. Но теперь
Боюсь, что дело проще.
НЕРЖИН
Как?
ВАНИН
А зачем тебе?
НЕРЖИН
А мне всего важней!
ВАНИН
Сказал я: «проще»? Я обмолвился. Сложней.
Долгонек разговор. Не здесь его начать.
Тебе — статистику, тебе — колонки диаграмм,
В учёность эту я и сам
Не больно крещен.
Скажи по-умному: умеешь различать
слова и вещи?
НЕРЖИН
А… в отношении каком?
ВАНИН
Ф-ф-ф! Умри!
Уже ответил — не умеешь.
Пять пиджаков над книгами протри —
Не поумнеешь.
Представь себе колхоз. Зажиточный, какого нет в Союзе,
Какого даже на картинках не расписывают нам,
Где не в ручную тачку — в три автомашины еле грузит
Колхозник хлеб свой, заработанный по трудодням.
Электро-дойки, — плуги, — вейки,
Во всём учёт и самый строгий план,
Где — ты не смейся! — ни одной общественной копейки
Никто и никогда не положил себе в карман.
Фруктовые сады, и пасеки, и фермы…
А общежитье — дом колонный.
Ну и сидит какой-нибудь там хрен, наверно,
На яблоки и на квартиры выдаёт талоны.
Конечно, дисциплиночка: всё строго по звоночку —
Ведь дело миллионное, нельзя в нём без порядку.
Зайдёшь в правление — на завтра разнарядка —
Куда тебе, куда жене, куда сыночку.
Так вот: в такой колхозный рай
Мужик пойдёт по воле?
НЕРЖИН
Полагаю — да?
ВАНИН
Узнай,
Что — нет!!
К тебе бы в кабинет
Пришли, сказали бы: вот эту стенку мы сломаем,
Там за стеной такие же м-мыслители,
И чтоб крепить науку вашу, ви-ите ли,
Усилья мозгов ваших мы сольём,
Исследований темы спустит вам Обком,
А от гостей, от праздников ваш интеллект храня,
Дадим звонок и распорядок дня! —
Ты б согласился?
НЕРЖИН
Не-ет! Свободу замысла утратить? Что вы!
ВАНИН
Ага! А что ж мужик, по-вашему, — корова?
Он — годы, месяцы и сутки —
О чём он думает? Всё о желудке?
А у него от солнца одного горит лицо,
Когда над пахотой о жниве он мечтает?
А он, в саду своём он любит деревцо
За то одно, что яблочки с него снимает?..
Вот мой тебе примерчик с ноготок.
А из таких примерчиков плетётся жизнь, браток.
Кабы не он, не миллион таких «кабы», —
Тогда садись, катай законы классовой борьбы.
Как, полицейские прочтя мои приметы,
Не можешь ты себе лицо моё представить,
Так общества не может Марксов метод
Ни объяснить, ни исчерпать, ни к лучшему направить.
Конечно, Маркс во многом прав.
Но мир взрывать? но взяться пальцами
за эту электрическую ручку?!.. —
Медведь, слышь, тоже костоправ,
Да самоучка.
НЕРЖИН
Гори, моя головушка!.. Я ждал от вас чего угодно,
Но не такого дальнего удара!
Вы так естественно, вы так свободно
Несёте сан и службу комиссара!
ВАНИН
Я? Что же я? Догадкой смутной я живу.
В поток попав однажды, им плыву…
А главное, что лучшего-то я не вижу и не знаю…
Я — колокол: людей, вишь, в церковь я зову,
А сам в ней — не бываю…
НЕРЖИН
(ходит в волнении)
Но как же жить? Но думать что?
ВАНИН
Вот думать-то как раз
Не надо. Есть начальство. Есть приказ.
От думанья никто не потолстел. От думанья сгоришь.
А меньше знаешь — больше спишь.
Приказ! Куда вертят, туда и доворачивай руля.
Прикажут завтра, что земля квадратная, —
Тык-мык — и что же? — дело неприятное —
На митинги! — Товарищи! Квадратная земля!
Твой бывший политрук бойцам в ответ —
Спросили, помнишь, почему, что церкви снова честь? —
«Ошибся я, робятки. Говорил, что Бога нет,
А Бог-то, оказалось, есть…»
(Смеются.)
Быстро входит Майков, за ним Салиев и Замалиев несут большой торт. Обегая их, семенит долговязый чёрный повар в белой шапочке и измятой расстёгнутой солдатской шинели поверх белого передника.
МАЙКОВ
Я в подземелье посажу тебя, урода!
Такой измяли торт!.. Поставьте тут.
(Показывает.)
Салиев и Замалиев торжественно ставят.
ПОВАР
Товарищ капитан!
МАЙКОВ
Я капитан уже два года.
Никак в майоры не произведут.
А десять юбок где собрал? А опоздал? А пьян?
Гордись! Шпану такую — в подземелье!
Вопросы есть? Соломы клок. Воды холодной жбан.
ПОВАР
За непорочную? За службу? Неужели?
Товарищ капитан!
МАЙКОВ
Нет времени, клянусь Зевесом,
Я сам бы сел для интереса.
О, камни древние темниц Средневековья,
Где билось столько благороднейших сердец!..
ПОВАР
(со слезами)
Отечество я защищаю кровью…
МАЙКОВ
…свиней подстреленных? зарезанных овец?
Арестовать!
Салиев и Замалиев бросаются на повара.
ПОВАР
(яростно отбиваясь)
Но! Хамы! Тихо!
МАЙКОВ
Да завтра же сменю на повариху —
Молоденькую, чистенькую… у-у, скотина!
Один погибнет под бомбёжкой,
другой напорется на мины,
Потонет третий! — ведь хороший человек — он не живуч!
А ты? — травился, и горел, и падал с круч, —
И жив?
ПОВАР
Ну, хорошо, сажайте, я умру невинный.
МАЙКОВ
(Салиеву и Замалиеву)
Да не попутайте, там рядом погреб винный!
ВАНИН
(задерживая их, повару)
Четыре раза нас тягал Политотдел
Из-за тебя! — а ты всё цел.
МАЙКОВ
Поссорился с комкором 35-го комдив
Из-за тебя! А ты всё жив!
ПОВАР
(высвободившись, развязно)
Из-за меня? А кто докажет? Здрасьте!
(Снимает колпак.)
Я жеребёнка приручил, а у комкора той же масти
Пропал!.. Теперь — испёк воздушный торт,
Во всей бы армии никто не мог такого испекти,
И этим я сегодня горд,
И —
(глядя на Ванина)
я могу идти?
Ванин машет рукой, освобождённый повар, Салиев и Замалиев уходят.
МАЙКОВ
Я б наказал.
ВАНИН
Да ну его совсем.
Из тех, кто хапает, не самый он заметный.
Но, шуток кроме, совсекретный
Приказ по фронту. Ноль-ноль-семь:
(тоном, как будто читает)
«При выходе на территорию Восточно-Прусскую
Замечены в частях Второго Белорусского,
Как в населённых пунктах, так и при дорогах,
Происходящие при попущеньях офицерства
Отдельные пока что случаи — поджогов,
Убийств, насилий, грабежей и мародёрства.
Всему начальствующему, всему командному составу
Вменяется в обязанность, даётся право
В частях своих, а равно и чужих, не проводя раздела,
Для поддержанья воинской советской чести
Подобные поступки пресекать на месте
Любыми средствами вплоть до расстрела».
НЕРЖИН
(свистит)
Сильно! А как же быть с инструкцией Политотдела
О нашей о священной мести?
А как — посылочки? А батарейные тетради
Под заголовком «Русский счёт врагу»?
МАЙКОВ
Ба-батюшки! Скажите Бога ради —
Так я обоз Глафиркин вышвырнуть могу?
НЕРЖИН
Вот это здорово! Ивана заманили,
Ивану насулили, Ивана натравили,
Пока он нужен был, чтоб к Балтике протопать…
МАЙКОВ
Не пить ликёров? Тесто — без ванили?
Сушёную картошку лопать?
Не-ет, это недоразумение!
Конечно, будет Разъяснение…
НЕРЖИН
Полмира обещали мы ему, к прыжку готовясь…
МАЙКОВ
Я гастроном, я вовсе не толстовец.
НЕРЖИН
Он дорвался — чур, не игра, кричим мы, чур!
МАЙКОВ
Победа без обеда?? Это чересчур!
НЕРЖИН
У нас румянец девственный — погоны, гимн и церкви!
МАЙКОВ
(откидывая штору)
Из окна уже светит не голубым, а багровым.
Вы посмотрите, что за прелесть эти фейерверки!
(Задёргивает.)
Насилья — да, насилия — ужасны!
Но если немочка, как говорят, сама согласна?..
НЕРЖИН
Солдат, с которым я лежал в болотах Ильмень-озера,
Солдат, с которым нас в упор клевал
одномоторный «Юнкерс», —
Его — расстреливать? За то, что взял часишки «Мозера»?
И даже пусть — что затащил девчёнку в бункер?
Прощаясь с жизнью там, в орловской ржи,
В палёных запахах, в дыму,
Я жал к земле его — не наша, может быть, лежи! лежи!
И на него теперь я руку подыму?
Вы перед наступлением не так ли непреложно
Приказ оправдывали противоположный?
ВАНИН
Оправдывал, так что ж?
НЕРЖИН
Так где же истина? Где ложь?
Вы говорили, что солдат страдал,
Что ждать его должна в конце пути награда… —
И вот теперь стрелять в него мне надо?
ВАНИН
Попробуй, выстрели! Катну под трибунал.
НЕРЖИН
Как, а приказ?
ВАНИН
А что приказ?
(Дует.)
бумажка!!
Уж если что надвинулось, идёт, так быть ему!
Букашка!
Не мнишь ли управлять событьями?
Приказ? Исполни в меру. Не казня. Не сокрушая.
От крутости себя вы отучите-ка.
Идёт по нашим жизням маленьким — большая
И часто грязноватая Политика.
(Обнимает разом Майкова и Нержина.)
Друзья-друзья!
Как часто зря
Себя в сомненьях и в решеньях мучим мы,
А и без нас всё, всё идёт на свете к лучшему.
НЕРЖИН
Арсений Алексеевич частенько повторяет:
«Всё к лучшему», «Образование ума не прибавляет»,
«Не берегись начала, берегись конца», —
Я в поговорках тех никак не доищусь до ядерца.
МАЙКОВ
Где ж, дьявол, к лучшему? Мы жили тихо, мирно,
Как будто ангел плыл над нами, крылья распростерши,
Так нет, припёрся этот жирный
Свинёнок розовый из СМЕРШа.
НЕРЖИН
Терзает девушку…
ВАНИН
Уже?
МАЙКОВ
Во всё суётся, лезет…
ВАНИН
У нас не разгуляется. Где сядет, там и слезет.
МАЙКОВ
Да! почему? У всех уполномоченный сидит как чирь,
А к нам пришлют — неделя, месяц, — шнырь —
И нет! и тишь, и гладь. За что такая льгота?
НЕРЖИН
(пожимая плечами)
По Гауссу. Рассеиванье. Отклонение от правил.
ВАНИН
Какой там Гаусс! Звездочёты!
Я! Я их сплавил!
НЕРЖИН, МАЙКОВ
(вместе)
Как? Вы?
НЕРЖИН
Но что вы делали?
ВАНИН
Кропал по-тихому на них материальчик.
Ведь он запрётся — пишет, гад, ты не смотри, что мальчик.
(Гневно.)
Я снизу доверху их видел — благодатнейшие ряжки!
Как говорится, сами кобели,
Ещё собак для службы завели, —
Но и над ними есть, над ними есть! — бумажка!
МАЙКОВ
Но что писали вы?
ВАНИН
А что придётся, без разбору.
Мне лишь бы наперёд, не дать им только фору.
Один сболтнул спьяна строенье Органов секретное,
Другой скрывает данные свои анкетные,
Тот выражал неверие в победу, тот симпатии к врагу, —
Да что я, вспомнить всё могу?
А написал — пошло! Друг друга лопают, как крысы.
У них и бдительность,
У них и мнительность,
Кудрявчика выдёргивает следователь лысый,
Скроит ему вину, не в этом — в чём другом,
Да у кого из нас её не сыщешь, присмотревшись?
Я из-за них в году тридцать седьмом
Пять месяцев не мог поспать раздевшись:
Вот-вот по лестнице, вот-вот и постучат…
Старушка мама в час, как все запрутся, —
«Что ж это будет, Сеня? Что ж они хотят?
Людей пересажают всех, а сами останутся?»
И ходит-ходит, ставни-двери крестит
Слабеющим движеньем сморщенной руки…
Не проходило ночи, чтоб не шли аресты,
Чтоб не шныряли воронки.
Пересажали в городе бояр, детей боярских,
Вельмож партийных, профсоюзных,
буржуазных, пролетарских,
И сошку мелкую, и крупную, — а я живу,
А я трясусь на кожаном диване.
Остались в городе: начальник ГПУ
И я, Арсений Ванин.
Уж я готов был рассказать и подписать всё, как телёнок,
С кем связан был от самых от пелёнок,
Уже дела все сдал — не взяли! уцелел!..
МАЙКОВ
А я, любимец муз, едва не погорел.
Взоры обоих обращаются к нему; Майков непринуждённо садится на край зеркала и побалтывает ногами.
Какой-то умник высказал догадку,
Что на плакатах, на блокнотах, ученических тетрадках,
В картинах, статуях, во всём,
чего касались кисть, резец и карандаш, —
Таятся агитация, террор и саботаж.
И началось течение, поветрие, поморье:
Искать и нюхать до упаду, до полегу —
Бородку Троцкого в ветвях дубка у лукоморья,
«Долой ВКП/б/» на поясе у вещего Олега.
Сейчас-то я, конечно, импрессионист,
Но был когда-то узколобый реалист.
Кончая в Строгановском отделение скульптуры,
Как полагается, работою дипломной,
Изобразил я поцелуй Психеи и Амура
Довольно натурально и… не очень скромно…
Между мужчинами сказать, когда срывают розы,
Вы сами знаете, бывают… позы!
(Соскакивает и попеременно то за Амура, то за Психею пытается изобразить свою скульптуру.)
Она — откинулась, одна рука повисла,
Он — взял её вкруг талии, склонился к ней — вот так!
И что ж? Какой-то комсомолец, остолоп,
додумался до мысли,
Что здесь скрывается фашистский знак!
Уж речи нет о выпуске ни о каком,
Меня туда, меня сюда, меня в партком,
Над бедной группою моей — вся детективная гимнастика,
Учёные мужи, комиссии — действительно ли свастика?
Одно-другое-третее жюри —
Да если б знал я?! — мифология! огнём она гори!
Однажды в заседаньи сам директор, цепенея,
В который раз присел перед Амуром и Психеей,
И я не выдержи — уж так на них был зол! —
Из зала крикнул: «Вы залезли бы под стол! —
Оттуда, может быть, виднее?»
И сразу было решено, что — свастика, что, де,
Пора заняться этой парочкой эН-Ка-Ве-Де.
ВАНИН
Х-эх, это был весёлый год,
На анекдоте анекдот.
Сел мой знакомый, врач ветеринарный.
— Личина сорвана с тебя, признайся, враг коварный,
Ты отравлял колхозный скот?
На стула кончике сидит мой врач дрожа.
— За эти годы не было, простите, падежа.
— А вам хотелось бы, чтоб был? А вам бы…
И — по зубам, и — по зубам,
Да на неделечку в подвал под во какую лампу! —
(двумя руками показывает над головой шар)
А хлебца — триста грамм.
Уснуть нельзя: уснёт — сейчас же будят…
Пишите — отравил. Колхозного верблюда.
Наглеешь, сволочь? Издеваться? Над ЧК?
И — под бока, и под бока.
Признайся, гад! Иначе
Послать тебя туда придётся,
Где девяносто девять плачут,
Один смеётся.
Пришлось признаться — парень в лоск ослаб.
Но, сохраняя мысли остроту,
Дал показание, что прививал он сап
Рогатому скоту.
И сразу — булочку ему и дополнительные щи,
Пятнадцать лет, на Север, десять однодельцу, —
Прошла ежовщина, вдруг кто-то разыщи
Его потерянное дельце.
Что значит — врать по-умному! — и ложь-то,
Она не всякого спасёт.
Додули мудрецы: болеют сапом лошади,
Но не рогатый скот!
…Так вот, с ним в камере сидел один дедусь —
Сермяга, лапотник, ну — Русь,
Суда не дождался, почил он в Бозе.
Чтоб следователь душеньку пустил на покаяние,
Дал показанье дед, что у себя в колхозе
Подготовлял вооружённое восстание.
Что танк имел, одиннадцать гранат
И сколько-то охотничьих двустволок,
Что цель имел — идти на Ленинград,
Насилуя дорогой комсомолок…
Военная Коллегия Верховного Суда
По двести приговоров в день пекла тогда.
Судили так: взведут бегом по лестнице два конвоира:
— Петров? — Петров.
(А то и Петушков, попутают случайно.) —
Стоят, присесть им некогда, торопятся отчаянно.
Морской порядок: свистнут — вира!
Нагрузят десять-двадцать — майна!
…А иногда бывало так:
Прислали из Челябинска несуженных этап.
На север, под Печору.
На двор их выгнали — заслушать приговоры.
Выходит лейтенант в сапожках хромовых,
За ним сержанты с папками — «дела», «дела»!.. —
На Тришкиных, на Мишкиных,
Мандрыкиных и Громовых —
А лютая зима была!
Все топчутся, все ёжатся, вкруг солнца — колесо,
Попробуй пальчиками голыми листочки перебросить! —
Чтобы себя не мучить и людей: «Судило вас ОСО», —
Он объявил, — «по десять всем, а кой-кому по восемь.
Понятно?.. Р-разойдись!..» Па-ашли…
Легли на нары…
Пауза.
Ну, Майков, что молчишь? Развесели.
Тащи сюда гитару.
Майков уходит. Вся поза Нержина — напряжение.
НЕРЖИН
Так значит, правда всё, что говорили
Про истязания, про пытки?..
ВАНИН
— А?
НЕРЖИН
Что били, мучили, что голодом морили,
Что в баню голых по снегу водили,
Что в одиночку впихивали дюжину?..
ВАНИН
Когда…
Когда толкали в камеру пред утром, на заре,
Тех самых, что сидели при царе, —
Настолько необычен был для них событий ход,
Настолько неизмеренным падения несчастье,
Что к новичкам кидались — чей переворот?
Товарищи! Скорее! — Кто у власти?
Входит Майков.
МАЙКОВ
(поёт, перебирая струны)
ГАСНУТ ДАЛЬНЕЙ АЛЬПУХАРЫ ЗОЛОТИСТЫЕ КРАЯ, НА ПРИЗЫВНЫЙ ЗВОН ГИТАРЫ ВЫЙДИ, МИЛАЯ МОЯ!..ВАНИН
Нет, эта песенка не вдосыть весела.
Есть песни краше…
МАЙКОВ
Какую ж вам?
ВАНИН
Про степь, что за Волгу ушла…
Про степь сыграй нам, Саша.
Садятся у круглого столика, Майков с гитарой. Поют.
ВМЕСТЕ
ДАЛЕКО-ДАЛЕКО СТЕПЬ ЗА ВОЛГУ УШЛА… В ТОЙ СТЕПИ ШИРОКО БУЙНА ВОЛЯ ЖИЛА… ЗНАТЬ, В СТАРИННЫЙ ТОТ ВЕК ЖИЗНЬ НЕ В РАДОСТЬ БЫЛА, КОЛЬ БЕЖАЛ ЧЕЛОВЕК ИЗ РОДНОГО СЕЛА. ПОКИДАЛ ОТЧИЙ КРОВ, РАССТАВАЛСЯ С ЖЕНОЙ И ЗА ВОЛГОЙ ИСКАЛ ТОЛЬКО ВОЛИ ОДНОЙ…Аккомпанемент смолк.
ВАНИН
(повторяет голосом, близким к рыданию.)
Покидал отчий кров, расставался с женой,
И за Волгой искал только воли одной.
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Там же. Те же. В тех же положениях. По лестнице спускается Глафира, одетая к ужину.
ГЛАФИРА
Начальник штаба! Капитан!
Комдивом час всего был дан,
Но вот и два прошло с тех пор…
(Заметив Ванина, круто снижает тон.)
Я извиняюсь, тут майор.
Ванин и Нержин по-прежнему сидят неподвижно. Майков, с досадой ударив по струнам, встаёт, мгновение как бы обдумывает, потом трижды хлопает в ладоши.
МАЙКОВ
Салий и Замалий!
Салиев и Замалиев одновременно выскакивают из левой и правой двери.
САЛИЕВ и ЗАМАЛИЕВ
Мы тут!!
МАЙКОВ
(показывая на пиршественный стол)
В атаку на большой редут
Созвать гостей!
(Толкает Глафиру гитарой в бок.)
— Гуляй, моя девчёнка! —
И чтобы через пять минут
Я видел в центре поросёнка,
А через семь — консервные котлеты!
(Снова хлопает в ладоши.)
Салиев и Замалиев трижды балетно мечутся по сцене.
(Глафире.)
Что скажет член военного совета?
ГЛАФИРА
(в стиле вульгарной цыганщины перебирает ногами, играет и поёт в быстром темпе)
ГИТАРА МИЛАЯ, ЗВЕНИ, ЗВЕНИ! СЫГРАЙ, ЦЫГАНКА, ЧТО-НИБУДЬ ТАКОЕ, ЧТОБ Я ЗАБЫЛ ОТРАВЛЕННЫЕ ДНИ, НЕ ЗНАВШИЕ НИ ЛАСКИ, НИ ПОКОЯ!Салиев и Замалиев уже убежали. С последней нотой Глафиры Майков включает на радиоле громкий фокстрот и ведёт Глафиру. Она обхватила его спину гитарой. Почти тотчас же из коридора в сложном тройном танце врываются Лихарёв и две девушки в военной форме — Катя, повыше ростом, развязная, с расстёгнутым стоячим воротом гимнастёрки, из-под которого сверкает подворотничок, и Оля, скромная блондиночка. Следом за ними входит и ритмично похаживает вокруг тройки Начхим — лысоватый, пожилой, полный. Лихарёв отдаёт ему Катю, и вот уже три пары носятся по залу с быстротой, возмещающей малое число танцующих. Ванин за это время встряхнулся, медленно прошёл к радиоле и выключает музыку. Все останавливаются. Глафира рассматривает девушек, они — её. Нержин сидит на прежнем месте.
ВАНИН
(Нержину)
Ты понял? Я согласие давал
На ужин маленький, семейный,
А тут выходит целый бал.
МАЙКОВ
(оглядываясь)
К тому ж довольно безпартейный.
ГЛАФИРА
С кем Лихарёв согласовал?..
ЛИХАРЁВ
Прошу простить, та-ащ майор,
Я знал, что женщин недобор,
И если я не разыщу…
МАЙКОВ
То кто же их найдёт!
ЛИХАРЁВ
Звать немок я не мог.
МАЙКОВ
Не мог как патриот!
ЛИХАРЁВ
Бегу искать, але, але,
Смотрю — знакомый «Шевроле»,
Ночует в этом же селе
Знакомый штаб, начальник штаба части!
А по расчётам фронтовым
Мы с ним
В родстве отчасти… —
Сестра с ним общая у нас.
ВАНИН
Твой брат?
Так звать его!
МАЙКОВ
Ты поступил по-свински!
ЛИХАРЁВ
Да нет… поймите… медсанбат…
Сестра была… сестрою медицинской.
КАТЯ
Аркадий, ты… ты негодяй!
ЛИХАРЁВ
К нему! — товарищ! выручай!
В беде не бросит. Машинистку Катю
(представляет её Ванину)
На сутки, как в кинопрокате, —
Пожалуйста, бери.
Одну? Ты шутишь! Нужно три!
Две минимум.
«Нет у меня». — Смотрю, мелькнула глазом синим.
А эта? — «Тут… проходит подготовку, снайпер».
Что, курсы? — «Индивидуально».
Я — слово офицера: только чай пить,
Ни вальсов, ни вина, буквально.
ГЛАФИРА
За женщину дать слово наперёд!
ВАНИН
А танцевал?
ЛИХАРЁВ
Осмелюсь доложить — фокстрот.
Уговорил: на час, не боле,
Он отпустил со мною Олю,
(представляет Ванину)
Ей нужно рано-рано спатки.
ВАНИН
Откуда ж вы?
ОЛЯ
Из Вологды.
ВАНИН
В порядке
Мобилизации?
ОЛЯ
Я добровольно. Комсомолка.
ВАНИН
Дитя моё! Вы думали, без вас не одолеем?
Вздыхали бы над книжечкой, бродили по аллеям…
Безпечность юная, где ты?..
МАЙКОВ
И сколько
Уже убили немцев?
ОЛЯ
Ах,
Я не была ещё в боях.
Начхим алчно оглядывает стол и ищет собеседника в Нержине.
НАЧХИМ
Не понимаю, до каких же пор мы
Губить здоровье будем воздержаньем?
Входят Парторг с Гридневым.
ПАРТОРГ
Национальная по форме
И социалистическая содержаньем.
Ведь так?
ГРИДНЕВ
(несвободно)
Конечно, да.
ПАРТОРГ
И долг партийный…
Проходят по сцене. Слева входит в парадном мундире сияющий Бербенчук. Майков с аффектацией пытается начать рапорт.
МАЙКОВ
Товарищ под…
БЕРБЕНЧУК
(великодушно останавливает)
Откуда девушки, вопрос мой будет первый?
ЛИХАРЁВ
(подхватывая Катю)
В порядке аварийном.
(Подхватывая Олю.)
Из тыловых резервов.
Знакомятся. Салиев и Замалиев на больших блюдах вносят по поросёнку. В дальнейшем они прислуживают за столом. Майков время от времени отрывается на беззвучные распоряжения им и другим красноармейцам.
ПАРТОРГ
На заседаньи партбюро
Мы это всё обсудим.
На самом верху лестницы появляются Галина в бальном туалете и Анечка, преображённая нарядом и причёской. Гриднев первый замечает их и спешит встретить Галину.
ГРИДНЕВ
Да, да, обсудим, секретарь.
КАТЯ
(Бербенчуку)
Старо, комдив, старо!
НАЧХИМ
Как, Нержин, думаешь, мы кушать всё же будем?
ПАРТОРГ
Ох, блюдо, неужели серебро?
ГЛАФИРА
Чего мы ждём, Евгений, наши все!
БЕРБЕНЧУК
(тоже заметив Галину и постепенно подвигаясь ей навстречу)
Ну где же все, когда во всей красе,
В вечерних туалетах, посмотрите!..
ГЛАФИРА
(бросается, опережая его)
Ах, Анечка, какой нелепый бант!
Из-за неё Бербенчук замешкался и не поспевает к Галине. К ней подошёл Гриднев.
ГРИДНЕВ
Ты где была? Я заходил.
ГАЛИНА
(с достоинством)
Товарищ старший лейтенант?..
ГРИДНЕВ
Ты что, забыла?
(Пытается взять её за руку.)
Меж ними втискивается подоспевший Нержин.
НЕРЖИН
Виноват.
(Предлагая Галине руку.)
Вы разрешите?
Галина подаёт ему руку, Гриднев заступает дорогу.
ГРИДНЕВ
Вы кто такой?
НЕРЖИН
А вы?
ГРИДНЕВ
Нет, вы?
НЕРЖИН
Я здесь комбат,
А вы?
За это время вкрадчиво подоспевший Бербенчук уводит Галину. В глубине — предпиршественное оживление. Гриднев и Нержин — на авансцене.
ГРИДНЕВ
(пытаясь настигнуть Галину)
Алё, алё!
Куда же вы? куда же?
НЕРЖИН
(преграждая путь)
Так кто же вы?
ГРИДНЕВ
(пытаясь обойти)
Не ваше дело.
НЕРЖИН
Не моё?
А девушка — не ваша.
ГРИДНЕВ
А вы остры на язычок.
НЕРЖИН
Не притворюсь, что простачок.
ГРИДНЕВ
Свободны в обхожденьи.
НЕРЖИН
Не за словом в карман.
ГРИДНЕВ
(пристально, очень значительно)
А — кто вы есть, товарищ капитан?
НЕРЖИН
Я вам сказал: комбат.
ГРИДНЕВ
Да нет, по соцпроисхожденью!
НЕРЖИН
Я не ослышался?
ГРИДНЕВ
Я думаю, что нет.
НЕРЖИН
Спросили вы…
ГРИДНЕВ
Кто ваш отец, кто дед?
А вы взглянули как-то косо.
НЕРЖИН
Да. Если добрых десять лет
Не слышал этого вопроса
И думал не услышать впредь,
Так как же мне на вас смотреть?
ГРИДНЕВ
А раньше, значит, слышали?
НЕРЖИН
Да кто ж его не слышал?
На каждом повороте.
Но ведь теперь уж он из моды вышел.
Мы — просто русские, мы просто — патриоты.
ГРИДНЕВ
Формулировочка такая нам знакома.
БЕРБЕНЧУК
Товарищи, прошу вас, без стеснения, как дома,
К столу! к столу! к столу!
ЛИХАРЁВ
Сюда вот, Олечка!
ОЛЯ
Не надо на углу!
Все рассаживаются за зеркалом. Майков идёт к Гридневу и Нержину.
ГРИДНЕВ
Да, всё течёт, всё изменяется на свете.
Мы — снова русские, но русские — не просто.
А в офицерское училище вступая, вы в анкете
Не замечали этого вопроса?
НЕРЖИН
Заметил, да. Но думал — старый отпечаток.
ГРИДНЕВ
В ОсобОтделах не бывает опечаток.
Майков уводит их и сажает: Гриднева рядом с Глафирой, Нержина возле себя. В последнюю минуту к столу приходит и Прокопович, садится в неудобном месте, без пары и собеседника. Теперь слышен шум приступа к еде, общие разговоры:
— Позволите?
— Пожалуйста.
— Кусочек ветчины.
— А это что за невидаль?
— Отбросивши чины…
— Обычай русский воскреся,
Под хреном прусский порося.
ОЛЯ
Я не пойму, когда же здесь воюют?
С тех пор, как я приехала, всё кушают, всё кушают.
А там-то думают… А там о вас горюют…
И сводки слушают.
ГОЛОСА ЗА СТОЛОМ
— Когда вы замуж выйдете, то мужу…
— Сюда долей!
— Нет, только меньше жиру!
— Кому-то начинать.
— Кому же?
— Кому же, как не командиру?
— Внимание!
— Внимание!
БЕРБЕНЧУК
(встаёт)
Товарищи! Уже три года мой дивизион,
Ну, не скажу, что в нынешнем составе,
Сметая артиллерии враждебной огневой заслон,
Пусть пушками других частей, но вправе
Мы приписать разведке нашей… во-от…
И всё вперёд… и всё вперёд…
Из-под святой Москвы, из-подо Ржева…
Как вот… волной… как вот… лавиной гнева…
Неся идей советских благородство…
Не зная отдыха… всё время на краю передовом…
Всё время под одним и тем же руководством
(Я — с самого начала был, а заместитель мой уже потом),
Под Старой Руссою… Орёл…
Бобруйск… и Белосток…
И вот сегодня, подводя итог…
Активные участники, не зрители,
В день именин майора, заместителя…
Не кадровик, не строевик… но знает своё место…
А тут — и Пруссия в котле… и было бы уместно…
Язык солдатский мой, он груб и прост…
Короче, я вам предлагаю тост…
Во-от… тост — за армию… за нас… за…
ГРИДНЕВ
Не пойму.
Традиция советская издавняя
Не в том ли состоит, что первый тост заздравний
Возносится Тому…
ВАНИН
(перебивает, вставши с бокалом)
Кто шлёт нам озарение кремлёвских звёзд.
Что значит — «армия»? — Главнокомандующий!
Подполковник предложил нам тост
За Сталина!
Парторг громко аплодирует.
БЕРБЕНЧУК
(заикаясь)
Да-да-да-да! Конечно! Да, да, да!
Все встают, чокаются, общий гул.
МАЙКОВ
Был выпить гренадер! Сюда, Салий, сюда!
(Гридневу.)
Мужчина выпить! — вёдрами, по-русски,
Хоть с огурцом, хоть без закуски.
(Наливает Гридневу и Нержину.)
Теперь нас верных будет три.
Пьют с Гридневым, Нержин едва пригубляет. Майков отлучается.
ГРИДНЕВ
Что ж вы ответили?
НЕРЖИН
Ответил?..
ГРИДНЕВ
В анкете.
НЕРЖИН
А-а… Сын служащей.
ГРИДНЕВ
Как это понимать?
НЕРЖИН
А так, что в учрежденьи служит моя мать.
ГРИДНЕВ
Ответ неполный. По нему не видно вашего лица.
А кто её отец? А — ваш отец?
И наконец —
Отец отца?
НЕРЖИН
А если мой отец убит
За полгода до моего рожденья, —
Как в этом случае мне быть
С моим происхожденьем?
ГРИДНЕВ
Я помогу. Найдём вам вашу полочку.
Кем он убит? Чьей пулей? Чьим осколочком?
НЕРЖИН
Немецким.
ГРИДНЕВ
В армии?
НЕРЖИН
Да, в русской.
ГРИДНЕВ
Скажем — в царской.
НЕРЖИН
Нет, в русской армии.
ГРИДНЕВ
Ну, прямо вот, в кацапской.
БЕРБЕНЧУК
(оживлённо Галине)
А там толпа, несут, кричат!
Он разогнался, чуть назад, —
И танком врезал прямо в склад!
(Хохочет.)
ГРИДНЕВ
Кто ж был он? Серенький солдат?
Навряд…
А ваша память чин его могла б ещё…?
HEPЖИН
Могла бы. Зауряд-
Прапорщик.
ГРИДНЕВ
Ах, пра-апорщик!! Как стал им?
НЕРЖИН
Просто. Был студент.
ГРИДНЕВ
Ага-а, студент! Один момент.
(Важно закуривает.)
Он — сын…?
НЕРЖИН
Крестьянский.
ГРИДНЕВ
Ломоносов?
Вот так из маленьких вопросов
И вам готова западня,
И всё понятно для меня.
Вы — внук, да только не крестьянина. На денежки какие
Отец учиться мог? На трудовые
Шиши?
Кормилица соха?
Нержин взволнован.
Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!
Шучу, комбат. Пока — дыши.
БЕРБЕНЧУК
Не тянет танк, мотор рычит —
А там уж госпиталь горит,
Ну, всё растащит бражка!
— На башню танка и кричит:
— Да мне ж оставьте, пехоташка!
Галина смеётся вслед за Бербенчуком. Глафира нервничает. Возвращается Майков.
МАЙКОВ
(Гридневу)
А ты курить — недавно научился.
ГРИДНЕВ
Давно.
МАЙКОВ
Да брось. Написано ж на лбу.
ГРИДНЕВ
В училище! Я расскажу тебе! Я раз напился —
И в самоволочку! — за девкой волочился.
А тут — патруль. Да брать нас на губу
Нельзя!
ЛИХАРЁВ
(Оле)
Не знаю, как вы будете стрелять,
Но мне под сердце самое установили мушку.
ГЛАФИРА
(Гридневу, указывая на Галину)
Чтоб не сказать, что эта девка — …
(Кончает на ухо.)
Скажу, что эта горничная просто потаскушка.
Узнав, не удивлюсь я, что она …
(На ухо.)
ГРИДНЕВ
Не может быть!?
ГЛАФИРА
Таскалась тут с фашистами. Не дивно.
ГРИДНЕВ
Такая девочка — больна?
ГЛАФИРА
Какой вы всё ж таки наивный.
НАЧХИМ
(Кате)
Как угадаешь? С тылом расставаясь,
Я думал: кончено, прокручена моя кинокартина!
Но вот война проходит, возвращаюсь, —
Здесь
(показывает на грудь)
звёздочка, здесь
(на плечо)
три, а здесь
(на карман кителя)
билет партийный.
ЗАМАЛИЕВ
(подбегая)
Товарищ капитан…?
МАЙКОВ
Неси, неси!
Замалиев убегает.
НАЧХИМ
Куда свободней дышится, как орденок прилепишь.
ГРИДНЕВ
А я чуть-чуть, вы знаете…
ГЛАФИРА
Да боже упаси!
Да от красавицы скорей всего подцепишь.
НАЧХИМ
Ещё б жену сорокалетнюю сменить на две по двадцать,
Карам-бим-бом-були! — и можно жить.
КАТЯ
Я — подошла бы вам?
НАЧХИМ
Но-но! Женой нельзя бросаться!
Жена — не мяч. Вам — положить?
ЛИХАРЁВ
Однажды вот, как вы, такие ж молодые,
Пять девушек проходят гордым шагом,
У четверых медали — «за заслуги боевые»,
У пятой — «за отвагу».
За что вы четверо медали получили — понимаю.
Но, спрашиваю, вам как высшая солдатская досталась?
А я, — ответила, головку подымая, —
Сопротивлялась.
Из вёдер, дымящихся паром, Салиев и Замалиев выхватывают стеклянные банки и, ловко открывая их, выворачивают на тарелки котлеты.
ГРИДНЕВ
А наловчились делать немцы, стервы,
В стеклянных банках этих вот домашние консервы.
НАЧХИМ
Когда-то сжарены котлеты были впрок,
ГЛАФИРА
Горячими под пробку их, впритирку, в погребок,
МАЙКОВ
Бегут, добро бросая, мирные селяне,
ЛИХАРЁВ
Приходят варвары-славяне,
АНЕЧКА
Бросают банку в кипяток,
КАТЯ
Резиночку оттянут — и
НЕРЖИН
Шипят, как только что со сковородки!
МАЙКОВ
И златопенного Аи,
ПАРТОРГ
А то так просто русской водки…
Г
АЛИНА
ЕЩЁ БОКАЛОВ ЖАЖДА ПРОСИТ ЗАЛИТЬ ГОРЯЧИЙ ЖИР КОТЛЕТ…МАЙКОВ
(чокаясь с Гридневым и Нержиным)
И никакохоньких вопросов
Нет!
НАЧХИМ
Нет, есть вопрос: не слышно больше спичей.
БЕРБЕНЧУК
Начальник штаба. Это недостаток.
НЕРЖИН
(вставая)
Товарищи, я поддержу обычай
И, как военный, буду краток.
Общая тишина.
Окончится вся эта заваруха,
Расстанемся, разъедемся, и те из нас, кто будут живы,
Ещё не раз майора Ванина припомнят дар счастливый
Соединять весёлость грустную и твёрдость духа.
Что был он в жизненных вопросах нас мудрее,
Что был он…
ПАРТОРГ
Предан ленинской идее.
НЕРЖИН
…От буквы мёртвой отличал живое дело…
ПАРТОРГ
Не отступал от директив политотдела!
НЕРЖИН
…Не отступал и выполнял их с жаром.
И человеком был и замполитом…
Товарищи! Подымем наши чары,
Чтоб дольше жить ему и лучше, чем прожито!
Все встают, пьют. Гул. Как бы передавая следующую ступень общего опьянения, реплики читаются нараспев.
БЕРБЕНЧУК
Ответственным за радио
Кого определим?
ГОЛОСА
— Аркадия!
— Аркадия!
— Кому ж тягаться с ним?
ЛИХАРЁВ
(идёт, пританцовывая, к радиоле)
С коллекцией пластиночек
Теперь воюет рус.
(Включает радиолу.)
Фокстроты для блондиночек,
(переключает)
А для брюнеток блюз.
Тихая танцевальная музыка сопровождает дальнейшую сцену. Реплики как бы про себя.
ГАЛИНА
Люблю тебя, свечение
Изменчивой судьбы!
НЕРЖИН
Люблю тебя, течение
Разымчивой гульбы!
НАЧХИМ
Люблю, когда бокалами
Весёлый стол звенит,
МАЙКОВ
И крыльями усталыми
Так хочется в зенит!
АНЕЧКА
И хочется, и верится
Душе в чаду угарном,
ВАНИН
Что всё ещё изменится,
Что прожито бездарно.
Дальше — разговорно.
КАТЯ
Я умными вопросами
Не мучаю себя.
ПАРТОРГ
(с протянутой в сторону Гриднева рукой, с вытянутым указательным пальцем застывает, как на плакате)
На время его реплики музыка прерывается, потом выплывает опять.
Товарищ! А с партвзносами
В порядке у тебя?
ГРИДНЕВ
(ворчит вполголоса)
Ты спрашивай, да знай с кого…
Пришлют же ишака.
ОЛЯ
Ну, разве что токайского,
И то лишь два глотка.
МАЙКОВ
(Гридневу)
Парторгов было пятеро.
За дундуком дундук.
ГЛАФИРА
(Оле)
Отправила я матери
Из Гомеля сундук.
НАЧХИМ
Любезнейший! Бутылочку
Вон ту сообрази!
ГЛАФИРА
Посылку за посылочкой
Я шлю, вообрази.
Так дочке на приданое
Сбираем по крохе.
МАЙКОВ
Споём же, бражка пьяная,
Ха-ха!
ГРИДНЕВ
Хо-хо!
ЛИХАРЁВ
Хэ-хэ!
БЕРБЕНЧУК
Ну, Майков!
МАЙКОВ
А?
БЕРБЕНЧУК
Скажи чего…
ГОЛОСА
— Тост!
— Байку!
— Анекдот!
МАЙКОВ
(тяжело подымается)
С начала его речи музыка замедляется, как на останавливающейся пластинке, и замолкает вовсе.
Что ж, торжеству приличное
Скажу и я, уж если мой черёд.
Тишина.
Сегодня я… я как-то странно взвинчен…
Вы ждёте шуток от меня, игривого экспромта.
Друзья мои! Я ощутил впервые нынче,
Что были для меня четыре года фронта.
Победа! Вот она!.. Дай руку! Как мягка!
Благоуханна как и как покорчива…
Но та рука, что нас в окопах корчила, —
О, как она была жестка!
Кто сорок первый год забудет — глаз вон!!
Все вздрагивают.
Кто помянет его неправдой — два!!
…Мне выпало за тех, кто незван, кто не назван,
Проговорить запеклые слова…
Гонялись «мессеры» над ржаной пожней
За каждою машиною, за человеком каждым…
Мы рыли, рыли бархат пыли придорожной
Губами, пересохшими от жажды.
В скирдах запаленных, в мостах упавших,
В дыму, в слезах я вижу нашу Русь…
Не тем, что я средь победителей,
а тем, что был среди бежавших! —
Вот чем сегодня я горжусь!
Из окружения по двести метров в час
Орудья лямками тянули, вздувши жилы, —
Всех орденов
(проводит по груди)
отдам иконостас
За ту медальку раннюю, нехитрую!
(Берётся за неё.)
…Ещё горжусь, что предок мой служилый
Стрелял из пушки пеплом Первого Лжедмитрия!
Мы русскую историю учили по Покровскому —
Не просто в сжатом очерке, а в самом сжатом:
Молитвослов из Разиных, Халтуриных,
Бакуниных, Домбровских, —
Суворов был палач, Кутузов был лакей,
Нахимов был пиратом.
Сейчас смешно! — но кто писал в анкетах
что-нибудь иное,
Чураясь офицерства, как содомского греха, —
Что молодость провёл откатчиком в забое,
Что — сын и внук крестьянина и правнук пастуха?!
Я тем горжусь, что Доброхотовы
рубились под Полтавой,
Что был один из них казнён Бироном за измену,
Что бились мы под Рымником, под Прёйсише-Эйлау,
Что Майков, прадед мой, похоронён под Балаклавой,
Дед Плевну брал, отец был ранен под Мукденом…
Последние слова его покрывает занавес.
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
Там же. Те же. На столе добавился самовар и чайная посуда. Прошло сколько-то времени, так что встали из-за стола и танцуют: Нержин с Галиной, Парторг с Анечкой, Бербенчук с Олей, Лихарёв с Катей, Начхим с Глафирой. Чувствуется общая пьяность. Прокопович в одиночестве с бутылкой. Бербенчук, оставаясь в парадном мундире, на голову надел чёрный поблескивающий цилиндр. От радиолы громкий вальс. Справа, за круглым столиком, Ванин. За зеркалом, примерно посередине, Гриднев. Ванин улучает моменты, кто приближается к нему в танце, и задирает.
ВАНИН
Серёга! Напишу жене!
Эй, напишу жене! Серёга!..
НЕРЖИН
Та-ащ майор! Танцуют все!.. Так почему же мне?..
Пишите уж… Одна дорога!..
ВАНИН
Аркадий!.. Брата обманул! На обещанья ты медовник!
Смотри, смотри! Танцует Оля вальс!..
ЛИХАРЁВ
Но ведь не я… Не я, а подполковник…
Что я могу?.. Против начальств?..
За это время Майков незаметно для танцующих проводит под роялем двух фотографов. Они выползают, один наводит аппарат, другой с магнием. Майков идёт к радиоле и переключает её на радиовещание. Одновременно: обрывается музыка, вспыхивает магний, все замирают в немой сцене и как бы изумлённо слушают радио:
ГОЛОС ДИКТОРА
…Вождь всего прогрессивного человечества, величайший из мыслителей, когда-либо живших на земле, гениально-мудрый, могуче-прозорли…
Так же неожиданно Майков снова включает музыку. Все снова вертятся. Громкий смех шутке. Гриднев мрачен. Вальс проходит ускоренные последние такты и кончается. Бербенчук в манере народного танца лихой присядкой проходится по авансцене и помахивает цилиндром.
БЕРБЕНЧУК
Ой, колы ж мы наемось
Варэников з вышнями?
(И — второй раз.)
Хохот, аплодисменты. Танцующие гуляют парами.
ЛИХАРЁВ
(подходя к Нержину)
Синьор, прошу вас знать и честь.
Галина Павловна мне обещала танец.
(Уводит Галину к радиоле выбирать пластинку.)
Нержин, оставшись один, бредёт к Ванину и садится с ним. Майков садится около Гриднева.
НАЧХИМ
(проходя с Глафирой)
Здесь (показывает на орден)
есть, здесь (на погоны)
есть, здесь
(высовывая партбилет из кармана)
есть.
Да на сберкнижке полевой,
Да в чемодане кой-какой
Кафтанец.
БЕРБЕНЧУК
Салий, сюда!
ВАНИН
Какой же он Салий?
Он — Замалий!
БЕРБЕНЧУК
Три года служат, ну, убей,
Никак не различу я этих двух чертей.
Замалиев подбежал с вазой, Бербенчук угощает Олю.
ПАРТОРГ
(проходя с Анечкой)
Так было раньше, доктор, а теперь
Покушаю — и жмёт, вот тут… вот тут… вот этак…
АНЕЧКА
Куда какой весёлый кавалер!
Зайдёшь, я дам тебе таблеток.
МАЙКОВ
(Гридневу)
Ты что, ты принял всё всерьёз?
Да нет, я скромненький, я малый человечек.
Отец мой, правда, пирожками торговал вразнос,
А остальные все пасли овечек.
НЕРЖИН
(Ванину)
Откуда взяли вы, ну почему:
«Образование ума не прибавляет»?
ВАНИН
Браток, кто это понял — разъяснять не надобно тому.
И не втолкуешь тем, кто этого не знает.
МАЙКОВ
Да пролетарий я исконный:
Дворовой девки сын я незаконный.
Ты в школе ж прорабатывал — помещички бывали!
Им — попадись на сеновале!
Феодализм проклятый! Право первой ночи!
ГРИДНЕВ
Но значит, всё же, кровь твоя полудворянская?
МАЙКОВ
Что — кровь? Ты на нутро смотри.
Нутро моё — рабоче-
— крестьянское!
Да, я горжусь своим сермяжным родом:
Мы — Доброхотовы: добра хотели мы.
Кому? Естественно — народу!
Танго. Галина и Лихарёв танцуют. Музыка постепенно становится беззвучной.
ВАНИН
(Нержину)
Всё на себя беру. Кругом я виноват.
Считай: сдал Луцк. Сдал Львов. Сдал Новоград.
И хоть под Ковелем едва что я не помер, —
Оправился, сдал Коростень. и я же сдал Житомир.
А после, под шумок, при драпе массовом,
На пару сдали Киев с генералом Власовым.
МАЙКОВ
(Гридневу)
Но производственную практику вы всё же проходили?
ГРИДНЕВ
Конечно, и теорию и практику учили.
Арестовать — уметь! Тут способов мильоны!
Чтоб не шуметь. Чтоб шито-крыто.
Оденься лётчиком, электриком, шофёром, почтальоном…
Ну, скажем, как арестовать архимандрита? —
Заночевать просись.
ВАНИН
Полтаву сдал. и Лубны. и Хорол.
А разных там Пирятиных, а Белых там Церквей…
Слышь, счастье, что наш брат до Волги не дошёл, —
И Сталинград мы сдали бы, ей-ей.
Уж как катились — ни заград-отрядами
И ни приказом двести двадцать семь…
Бывало: «Братцы! Не Москва ль за на…» Да я! да мы!
Да по рогам! Да ну тебя совсем!
К Ванину и Нержину переходит Анечка. Нержин вскоре отходит, выглядывает в окна под шторы, расстёгивает планшетку с картой, нервно похаживает. Галина после танца разговаривает с Лихарёвым, с Бербенчуком, но тревожно следит за Нержиным. Нержин уходит в правую дверь.
ГРИДНЕВ
Христовым странникам архимандрит, конечно, рад.
Сидят чекисты и беседуют про страшный суд, про рай.
Заснула братия — встают: «Ты арестован, гад!»
Не вспоминай!..
ГЛАФИРА
(в группе слева танцует с гитарой и поёт)
НЕ ВСПОМИНАЙТЕ МЕНЯ, ЦЫГАНЕ! ПРОЩАЙ, МОЙ ТАБОР! — ПОЮ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ!НАЧХИМ
(сильно пьяный, стоит, почти повиснув грудью на перила лестницы, и декламирует то ли Кате, сидящей неподалёку от него, то ли никому)
И ВОТ МНЕ ПРИСНИЛОСЬ, ЧТО СЕРДЦЕ МОЁ НЕ БОЛИТ, ОНО — КОЛОКОЛЬЧИК ФАРФОРОВЫЙ В ЖЁЛТОМ КИТАЕ…КАТЯ
Эт что?
НАЧХИМ
Вертинский, Катенька. Его когда-нибудь
Слыхали вы?
КАТЯ
Старьё, начхим. Старьё и муть.
(Отходит.)
Начхим ещё стоит, потом опускается на первые ступеньки лестницы. Тихая музыка, как бы из-за стекла.
АНЕЧКА
(Ванину)
Ну, ты доволен праздником?
ВАНИН
Доволен.
АНЕЧКА
А почему ты грустный?
ВАНИН
Да разве человек бывает волен
В чувствах?
Окончится война — закатимся подальше, — от гостей,
От книг, газет, от новостей,
От заседаний, должностей,
Куда-нибудь в стороночку крестьянскую,
В Тамбовскую, в Рязанскую…
Ты будешь там врачом —
Лечи, да не калечь.
А я — фруктовый сад стеречь
Да обиходить пчёл.
Утрами — холодок от речки. Гуси. Стадо. Тишь…
АНЕЧКА
Фантазия. Ты первый так не усидишь.
Бербенчук выводит Галину под руку из группы, ведёт по авансцене.
БЕРБЕНЧУК
Галина Павловна! Я вами очарован!
Галина Павловна! Ещё я не старик!
ГРИДНЕВ
(следя за ними, Майкову)
И человек бывает арестован
В тот самый миг,
Когда он менее всего предполагает,
Когда не ждёт, когда не знает, —
Вот это первый сорт!
Чтоб на свидание спешил, чтоб ехал на курорт,
В командировочку…
Когда он вырван из среды, из обстановочки…
МАЙКОВ
(наливая ему и себе)
Вино, вино! Кто тот беззвестный гений,
В веках потерянный…
ГЛАФИРА
Евгений!
Настороженно следя за Бербенчуком, она выдвинулась из группы. Бербенчук увлечённо разговаривает с Галиной уже неподалёку от Ванина, от которого Анечка ушла к танцующим.
МАЙКОВ
…Кто голой пяткою в чану
Давил впервые виноград?..
ГЛАФИРА
(издали)
Евгений! Подойди сюда.
БЕРБЕНЧУК
Ну что? Ну? Ну?
(Галине)
Я извиняюсь. Виноват.
(Идёт к Глафире.)
Галина, оставшись одна, неуверенно озирается.
ЛИХАРЁВ
Любил я пикники. В цветных одеждах птички
По пятьдесят, примерно, килограмм.
ВАНИН
Вы побледнели, Галя.
ГАЛИНА
С непривычки
К подобным вечерам.
(Повинуясь его пригласительному жесту, садится рядом.)
БЕРБЕНЧУК
Глафирочка! Я буду… я стараюсь…
ГЛАФИРА
С кем хочешь, но не с ней!
ГРИДНЕВ
(Майкову)
Ты думал подпоить меня? А я чем больше накачаюсь,
Тем я трезвей.
ГЛАФИРА
(Бербенчуку)
Пойди, покобели вон около тех двух.
(Кивает на Катю и Олю.)
Я тоже человек советский, есть у меня нюх.
Ты — знаешь, кто она? Проверил документ?
(Уводит его в группу налево.)
МАЙКОВ
(Гридневу)
Я — брудершафт хотел с тобой,
Но ты какой-то сволочной.
ГРИДНЕВ
Начальник штаба! Час ночной.
Ты освети один момент:
Посты стоят на выходах из замка?
МАЙКОВ
На входах.
ГРИДНЕВ
Нет, на выходах?
МАЙКОВ
Здесь не тюрьма, здесь часть.
ГРИДНЕВ
Да ну?
(Указывая на Галину.)
Запомни: если выпустишь вот эту вот гражданку,
Так я тебе на шею мотану.
МАЙКОВ
(вставая, холодно)
Бумажечку.
ГРИДНЕВ
Какую?
МАЙКОВ
Бумажёнку.
ГРИДНЕВ
Гм… Видишь, контрразведке
Не так удобно оставлять излишние пометки.
МАЙКОВ
А я за каждую проезжую девчёнку
Не собираюсь отвечать.
ГРИДНЕВ
Ты зря боишься. Нет в работе нашей брака.
Кто арестован — тот и правильно.
МАЙКОВ
Однако,
Что лоб, что камень, — я служака:
Мне дайте подпись и печать!
(Встаёт; зло.)
Ты… а!.. Ты радость пира,
Живую радость ты во мне убил, как мотылька.
ГРИДНЕВ
Там по пути ко мне прислать не можешь командира?
МАЙКОВ
В твоём погоне, кажется, один просвет пока.
(Отходит направо к окнам.)
ГАЛИНА
(Ванину)
Я вам признаюсь, многих эмигрантов я видала.
Благополучны и сыты, их дом — в полне.
Не объяснить — чего им недостало?
Что бросили? что тянет их к недоброй, злой стране?
В богатую гостиную войдёшь —
вдруг видик деревенский:
Овраг, берёзонька и клуня с прясельным забором.
Я знала старика-помещика. В Смоленске
Упал на площади булыжник целовать перед собором.
Тоска по родине! Нельзя её понять,
Ни излечить, ни оправдать.
Одних здесь ждёт петля, других — тюремный срок, —
Летят, летят на жёлтый огонёк!..
ГРИДНЕВ
(манит проходящего парторга)
Парторг! Вопрос оперативный. Живо
Пришли ко мне комдива.
Парторг идёт его звать.
ГАЛИНА
А молодёжь? Там кончили чужие институты,
Прекрасно знают по три европейских языка,
Женились — на своих! Не верят ни минуты,
Что там и жить… пока вот всё, пока…
Майков отзывает Ванина направо.
ОЛЯ
(в игре, которую затеяли слева)
За это фант! за это фант!
БЕРБЕНЧУК
(подходя и склоняясь к Гридневу)
Товарищ старший лейтенант!
Меня хотели вы…?
ГРИДНЕВ
Хотел.
Ну, как дела? Теченье дел?
БЕРБЕНЧУК
Да, в общем, н-ничего…
ГРИДНЕВ
Дивизион как?
БЕРБЕНЧУК
На полной боевой, вы сами видите…
ГРИДНЕВ
Как Галя?
БЕРБЕНЧУК
Галина Павловна? С изюминкой. А вам?
ГРИДНЕВ
Она шпионка.
БЕРБЕНЧУК
(остолбенело)
Она??!
ГРИДНЕВ
А вы и проморгали?
Галина ёжится под взглядами со всех сторон. Она нервно оборачивается то в сторону Гриднева и Бербенчука, то в сторону Ванина и Майкова.
Вы благодушны, я смотрю, вы просто близоруки.
Вам помахали юбочкой…
БЕРБЕНЧУК
Я, знаете, от скуки,
Но я… о! я!..
ГРИДНЕВ
Конкретно:
Вы — безхребетны.
В СССР ли, за границею, под всякою личиной
Раскрыть врага имейте зренье.
Кого б ни встретили вы — женщину, мужчину, —
Вот это враг! — в себе будите подозренье.
Майков быстро уходит в коридор. Ванин в задумчивости возвращается к Галине. Образовалась как бы невидимая линия, проходящая через Гриднева и отделяющая Галину и Ванина от остального общества. Начхим, всё время сидевший на первых ступеньках лестницы, уронив лицо в ладони, — поднимает голову.
НАЧХИМ
(пьяно декламирует)
БУДЬ ОН НОВЫЙ ПРОРОК ИЛИ НОВЫЙ ОБМАНЩИК, НО В КАКОЙ ТОЛЬКО РАЙ НАС ПОГОНЯТ ТОГДА?.. ЗАМОЛЧИ, ЗАМОЛЧИ, СУМАСШЕДШИЙ ШАРМАНЩИК! ЭТУ ПЕСНЮ ЗАБЫТЬ Я ХОЧУ НАВСЕГДА…(Вновь опускает голову.)
Бербенчук, совершенно невменяемый, отходит от Гриднева.
ВАНИН
(Галине)
Боюсь, что эти вёрстаньки и вёрстаньки до дому
Вам будут нелегки.
Не братья встретят вас, не по-родному,
А пограничные штыки.
Дам вам советец важный:
Снимите вы браслеты эти, сбросьте крепдешин,
Не говорите «каждый», говорите «кажный»,
Сморкайтесь — на пол, пальчиком большим.
Прибейтесь к партии каких-нибудь крестьянок угнанных,
Затурканных, запуганных,
Зипунчик на плечи, на голову платок,
Да чемодан смените на мешок.
Сальцом не брезгуйте. Колбас
Возьмите про запас.
Да табачку. В дороге нет помощника надёжней.
И неглубок пускай ему схорон:
Погранохрана ли, патруль ли железнодорожный,
Не станут вас пущать в Советиш Унион, —
«Закуривай, ребята!» — щедро, вод’ эк,
В шершавые ладони им. Скрутят себе цыгарки —
«Откуда, девочка?» — «Орловская!» —
Возьмут под подбородок —
Езжай, коза, без контрамарки!
Забудьте всё, что видели, — какие тут правительства,
Обычаи, различия, понятья, платья, воздух, свет, —
Приедете — смените местожительство.
«Была под оккупацией?» — в анкетах. — Нет!
Как бы боясь перейти воображаемую разграничительную черту, Бербенчук на авансцене останавливается и хриплым трагическим шёпотом пытается обратить на себя внимание Ванина и вызвать его к себе.
БЕРБЕНЧУК
Майор! Майор!
ВАНИН
А?
БЕРБЕНЧУК
Ванин!
ВАНИН
Что?
БЕРБЕНЧУК
Майор!
ВАНИН
Да что тебе?
Бербенчук делает знаки.
Иди ты к нам.
Бербенчук отчаянно отказывается.
Нельзя? Беда моя,
Ведь знаешь ты — я на ноги не спор
От лишнего питья.
(Тяжело поднявшись, переступает невидимую черту и окончаельно оставляет Галину одну.)
Левая группа незаметно растаяла: ушли Анечка, Глафира, Парторг, Прокопович. Галина вся сжимается. Гриднев не сводит с неё глаз. Электрический свет начинает неуклонно убавляться. Ванин с Бербенчуком — на авансцене.
Ну, что?
БЕРБЕНЧУК
Ой, лышенько, ой, лыхо.
Она — шпионка.
ВАНИН
Кто?
БЕРБЕНЧУК
Тс! Тихо!
Пропали мы!
ВАНИН
Да кто?
БЕРБЕНЧУК
Мы! Ты. и я. Ведь ты мой первый за…
ВАНИН
Кто «за»? Что «за»…? С тебя начнут, начнут с туза.
Бербенчук потрясён.
(Деловито.)
Уполномоченный сказал?
БЕРБЕНЧУК
Ага.
ВАНИН
Есть ордер на арест?
БЕРБЕНЧУК
Та раз вин каже, мабуть е.
ВАНИН
Ты думаешь, что есть?
Но едучи сюда, он мог ли знать о ней?
БЕРБЕНЧУК
Так. Это правильно.
ВАНИН
Иди и спи. Я завтра разбужу.
БЕРБЕНЧУК
(зовёт слабым голосом)
Начальник штаба!
ВАНИН
Я ему скажу.
Иди и спи! С женой.
БЕРБЕНЧУК
С Глафирочкой моей!
(Направляется уйти, но тотчас опять возвращается.)
ВАНИН
А не уйдёшь, так сам расхлёбывай.
БЕРБЕНЧУК
Та я хиба засну? Який то будэ сон?
Ну, я надию маю… Хлопцы оба вы…
(Уходя.)
Дивизион! Пропал дивизион!
(Но в глубине сходится с Катей и возвращается, держа её за вытянутую руку.)
Так ты уладишь, Сеня?
ВАНИН
Всё улажу.
БЕРБЕНЧУК
Ну, выручил, ну, друг!..
Там если что… так знаешь, даже…
К Глафире не стучи… меня чтоб не искать ей…
Я буду это… с Катей.
Уходят с Катей. Лихарёв с Олей тоже ушли. Свет всё гаснет.
ГАЛИНА
(теребя ампулу на шее)
Как сердце сжалось! Боже мой, как страшно!
Ушёл Сергей! и никого из наших!
Отступает. Гриднев встаёт и медленно идёт на неё. Ванин всё так же неподвижен в центре авансцены. Вдруг на самом верху лестницы — громкий топот, почти мгновенно за ним — пистолетный выстрел и откуда-то с хоров звон разбитого стекла. По лестнице суетливо сбегают: Майков с головой, перевязанной окровавленной повязкой, размахивая обнажённой шпагой, за ним — Парторг, почти ещё в нижнем белье, на ходу одеваясь, и Салиев с пистолетом над головой. Сообщая свой испуганный ритм Ванину и Гридневу, они мечутся по сцене, — Ванин нелепо семенит. Выглядывают в окна.
МАЙКОВ
(урывками, в разных местах сцены)
Прорвались!
Автоматчики!
Я ранен!
Окруженье!
Есть путь неперерезанный!..
Последнее спасенье!
Цепочкой, уже впятером с Ваниным и Гридневым, они убегают налево. Салиев, бегущий последним, ещё раз стреляет в воздух. Галинa тревожно-радостно мечется по сцене и убегает наверх. Начхим поднял голову, недоумевающе озирается. Тусклый свет. Справа в шинели и в зимней шапке входит Нержин. Его медлительность не вяжется со стремительным движением, которое только что было на сцене.
НЕРЖИН
Что, разошлись?
(Подойдя к роялю, рассеянно перебирает клавиши.)
НАЧХИМ
Кто тут стрелял?
НЕРЖИН
Тебе приснилось с пьяных глаз?
(Унылый набор нот.)
Начхим, начхим! Где твой противогаз?..
(Тот же набор нот.)
Вот русский праздник! Начался ребром,
Кончается печален.
НАЧХИМ
Ну, расскажи о чём-нибудь смешном.
НЕРЖИН
О чём?..
Стоял сегодня я среди развалин
Вступает музыка от невидимого источника.
Германской славы… Может быть, случайно
Там наша армия не шла. Торчит дощечка «мины».
Припорошённые снежком невдалеке от Хохенштайна,
Застал я свежечёрные руины.
Нержин увлекается рассказом и не замечает, как Начхим уходит, как тихо подкравшийся Салиев что-то кладёт под углы ковра. К концу монолога свет настолько слабеет, что вступают софиты.
Поставлен памятник был в точке самой крайней,
Куда дошли войска российские на выдохе движенья,
Откуда тридцать лет назад им зародилось окруженье, —
Бойцы, вмурованные в каменную ризу,
Семь мрачных башен по числу вильгельмовских дивизий,
Кольцо стены — кольца обхвата наглый
Окаменевший жест.
Штандарты для подъёма флагов.
Арена для торжеств.
Речей и клятв тевтонских сумрачный алтарь!
Сюда стекалась чернь, сюда съезжались власти.
И вот всё взорвано, и одымила взрывов гарь
Гранит безплодный, мрамор безучастный.
В кольце стены — пролома грубый зев,
Иные башни взорваны, иных стоят скелеты…
Безумцы, мигом овладев,
Возмерились владеть им леты!..
Солдат враждебный, я стою у гинденбурговского склепа —
Не гордостно, не радостно, — смешно усталым смехом мне:
Как в человеке самолюбие нелепо,
Так отвратительно оно в стране…
Деревьев ветви, вспугнутые взрывом,
Опять под снежным звёздчатым нападом…
Венчанный полководец! На веку своём счастливом
Ты испытал все высшие награды.
Но что алмазы звёзд твоих и бриллианты брошей
Пред этой тихой примиряющей порошей?..
В правой двери появляется лейтенант Ячменников. Он в шинели, зимней шапке, перепоясан ремнями, молод, строен. Весь белый от снега, он сперва стоит в двери, потом тихо проходит.
Клубок обид, извечный и довечный! —
Торжествовать, рыдать и вновь торжествовать! —
Хотя бы у земли добросердечной
Мы переняли свойство забывать…
Безсчастный враг народа моего!
Как прокричать тебе сквозь глушь непонимания?
Смотри, как кончилось, как кончится любое торжество,
Любое злое торжество, Германия!
Сегодня мы подобны Валтасару,
Сегодня мы ликуем, но какую кару?
Но что за гнев мы нашим детям сеем?
Россия неповинная! безумная Расея!..
Ячменников?! Ух, как тебя снежок запорошил!
ЯЧМЕННИКОВ
(по форме)
Товарищ капитан, моторов не глушил,
Вся батарея прибыла. Прикажете…?
НЕРЖИН
Прися-адь!
Где люди?
ЯЧМЕННИКОВ
В дом завёл.
НЕРЖИН
Сейча-ас. Поедем. Воевать.
ЯЧМЕННИКОВ
Ой, что это? на зеркале?
НЕРЖИН
Ты Библии не чтец?
ЯЧМЕННИКОВ
Читала мать, по праздникам отец.
А нам всё больше Краткий Курс, бывало, подавай.
НЕРЖИН
Жив будешь — почитай.
Сегодня — день рождения майора.
ЯЧМЕННИКОВ
Да? Что ж, мужик он правильный. Такому мужику…
НЕРЖИН
Так выпьем!
ЯЧМЕННИКОВ
А… не заглушить моторы?
НЕРЖИН
Пусть тарахтят помалу, обедняли нешто?
У нас теперь одно ль Баку?
У нас теперь Плоешти.
Чего ж налить тебе? Вот тут есть корсиканское винцо,
Такого мы с тобою не пивали.
Ячменников смотрится в зеркало-стол.
Что смотришь?
ЯЧМЕННИКОВ
Приверяюсь на лицо:
Узнают дома, нет?
НЕРЖИН
Родители. А девки-то едва ли.
С училища, каким тебя я помню, — возмужал.
А что бы, Виктор, в сельсовете Годуновском,
Владимирским своим ты б рассказал,
Как это вот мы шли за Рокоссовским
И кушали с зеркал? —
Ведь не поверили б?
ЯЧМЕННИКОВ
Да на селе у нас-то
И говорить об этом как-то не гораздо.
НЕРЖИН
За что же выпьем, победитель?
Ну, будешь жив, домой вернёшься, мирный житель,
Оженишься, продолжишь род, — об этом кто! —
Давай-ка что-нибудь особенное трахнем, в новом стиле.
Чего б тебе ещё хотелось, а?
ЯЧМЕННИКОВ
(в раздумьи)
Ещё? Ещё… чтоб как ни то
Колхозы распустили.
НЕРЖИН
Кол-хозы распустить?! Ну, вырос ты не прост!
Но тост есть тост.
Подымем по законам пьянства!
Пьют.
А что ты думаешь? Однажды написал и Маркс,
Что, может быть, не ворошить богатого крестьянства?
Был коммунизм для них — земля незнаемая, Марс.
Колхозы распустить!.. Всё басни, Виктор, всё лекарства.
Болтают, чтоб не так обидно лезть под танк железный.
ЯЧМЕННИКОВ
Я тоже так смотрю. Не нам, но — государству
Колхозы очень уж полезны.
Без них бы с нас им ни зернятка не собрать.
Без них ни на шаг.
НЕРЖИН
Что, старый замок? Слышал тост? Знай наших!..
Теперь вот этого старинного какого-то налью,
В пыли была… и выскажу тебе мечту мою:
Чтоб на Руси что думаешь — сказать бы можно было вслух.
Нескоро, а?
ЯЧМЕННИКОВ
Пожалуй что нескоро.
НЕРЖИН
А вдруг?
Чокаются, пьют.
А, выпей ты какого хочешь за майора,
Я слишком выпил и без этих двух.
Да угощайся! Хоть бери в карман!
(Суёт ему.)
Ячменников отклоняет.
ЯЧМЕННИКОВ
Товарищ капитан!
Машины полные!
НЕРЖИН
Да, чёрт, забыл. Из голодающей губернии.
До смерти этой жадности не вытравить, наверное.
Ну что же, друг, покатим дальше по Европе.
Вперёд поставь не газик мой — «Блитц-Опель».
Со мною — девушка поедет… Что? Что смотришь так?
ЯЧМЕННИКОВ
Как я смотрю? Я не смотрю никак.
НЕРЖИН
А думаешь?
ЯЧМЕННИКОВ
А думаю? — в кабине там три места…
НЕРЖИН
А думаешь — комбат затеял под конец?
Нет, милый мой, она — невеста.
Везу её другому под венец.
Ячменников строго выпрямляется, козыряет и, по-военному повернувшись, уходит. Нержин медленно идёт к лестнице, но, услышав шум, поднимается бегом. Внизу быстро входят озабоченные, по-зимнему одетые Ванин, густо опоясанный гранатами и автоматными дисками, Гриднев с автоматом, который он не умеет ни держать, ни повесить, то и дело угрожая застрелить себя или спутников, Парторг, неся без ремня винтовку со штыком. Сзади — Майков в парадном кителе, как был, всё с той же повязкой на голове, одной рукой катит за верёвку станковый пулемёт, в другой несёт саблю. Вся сцена идёт тревожно, при перебегающих прожекторах.
ВАНИН
(курит трубку)
Без паники. Спокойно. Мощь несокрушима.
Начштаба! С нами вы по радио поддерживайте связь.
МАЙКОВ
Ложись!!
Он, Гриднев и Парторг стремительно приникают к полу. Ванин невозмутимо курит стоя. Из-под ковра с шипеньем вырывается кверху и рассыпается огненная шутиха.
ВАНИН
Ну что? Ну что? Ну, адская машина.
Ещё не взорвалась.
Вce трое поднимаются. В дальнейшем Гриднев и Парторг ступают с большой осторожностью. Майков обнажает саблю и размахивает ею.
МАЙКОВ
Ах, сабелька! Парторг!
Рубить их по-будённовски! Возьмёте?
(Привязывает саблю к поясу Парторга.)
Володенька, отчаянный! Ну, на хоть пулемётик!
(Суёт Гридневу в руку верёвку от пулемётного катка.)
ГРИДНЕВ
(отталкивает)
Да что с ним делать? Обращаться я… не знаю.
МАЙКОВ
Ну, дам максимку, хошь? Патрончиков штук триста!
ВАНИН
Спокойно, старший лейтенант. Как нас учил Чапаев?
В такой момент — где место коммуниста?
ПАРТОРГ
Довольно демагогии! Мы — руководство!
Наша жизнь нужна народу!
ВАНИН
А я что говорю? Я говорю: в машину! ходу!
Направляются к выходу. Майков, распахнув руки, преграждает им путь.
МАЙКОВ
Но вы заблудитесь! Но для спасенья жизни
Возьмите карту хоть!
ГРИДНЕВ
(отталкивая)
Я не могу по карте!
МАЙКОВ
Чему ж учили вас?!
ГРИДНЕВ
Основам ленинизма.
Шпионологии. Исторьи партии…
(Неудачным движением задевает вторую скрытую ракету.)
Шипенье, вспышка.
МАЙКОВ
Ай-я-я-яй, какое упущенье!
Но как я рад, что ты выдерживаешь первое крещенье!
ВАНИН
Парторг, без паники. Кого оставим мы для укрепленья
Партийной власти здесь?
МАЙКОВ
Вернётесь вы — похороните наши трупы!
ВАНИН
Без паники. Я открываю заседание партгруппы.
(Взлезает на стул, одну ногу выставляет на зеркало и облокачивается о колено.)
Гриднев и Парторг окружают Ванина. Майков отходит в сторону.
Товарищи! Один вопрос: из нас троих кого,
Хотя бы одного,
Оставим мы в дивизионе как партийную прослойку?
Я предлагаю Гриднева.
Все взоры на Гриднева.
ГРИДНЕВ
(с живостью)
Товарищ замполит! Поскольку…
(Роется в карманах.)
Вот справка медицинская… Моё здоровье слабо…
ВАНИН
Тогда кого?
ГРИДНЕВ
Парторг, пожалуйста!
ПАРТОРГ
Ху-гу!
Я лично тоже не могу.
Есть предложенье — Лихарёв.
ВАНИН
Но где он?
МАЙКОВ
Где-то с бабой.
ПАРТОРГ
Тогда… Тогда — начальник штаба!
ГРИДНЕВ
(с неловким движением автомата)
Ах, не торгуйтесь вы! Нас всех захватят в плен!
МАЙКОВ
(кидаясь к нему, отводит дуло)
Да опусти ты, ради Бога, автомат!
ВАНИН
(всё в той же позе, совершенно хладнокровно)
Его
(кивает на Майкова)
нельзя оставить: он — не член.
Он — кандидат.
Майков виновато опускает голову.
Или доверим? Майков!
Майков поднимает голову и заметно растёт с каждой фразой.
ПАРТОРГ
Партия!
ГРИДНЕВ
Тебе!
ВАНИН
Всецело!
ПАРТОРГ
Высокое доверие!
ГРИДНЕВ
Ответственный участок!
ВАНИН
Веди бойцов за правое…
ПАРТОРГ
За сталинское дело!
ГРИДНЕВ
И контролируй командира части.
ПАРТОРГ
Да чтоб росла организация! Чтоб шёл приём!
ВАНИН
(слезая с пьедестала)
Да где же трубка, чёрт? Ну в возрасте ль моём
Таскаться по ночам?..
САЛИЕВ и ЗАМАЛИЕВ
(вбежав слева, вместе)
Машина подана!!
Гриднев и Парторг устремляются. Ванин подталкивает их в спину.
ВАНИН
Вали, вали! За Сталина! За Родину!
Все трое уходят налево. Замалиев по знаку Майкова с грохотом укатывает туда же станковый пулемёт. Майков остаётся один. Весёлое возбуждение его исчезает. Он стоит в раздумьи, потом срывает повязку с головы, отходит к роялю, поникает на него. Вверху на лестнице появляется Нержин с изящным дамским баулом в руке. Майков видит.
МАЙКОВ
И ты? Ты, Брут, трофейщиком? Кошмар!..
НЕРЖИН
Я еду, Сашка.
МАЙКОВ
Едь.
НЕРЖИН
Пока!
МАЙКОВ
О ревуар!
Нержин стоит выше середины лестницы. Неслышными шагами с ним поравнивается Галина в шубке.
(Теперь видит и её, протяжно свистит, потом, откинувшись спиной к пюпитру, улыбается и поёт.)
И, ВЗОЙДЯ НА ТРЕПЕЩУЩИЙ МОСТИК, ВСПОМИНАЯ ПОКИНУТЫЙ ПОРТ…Нержин и Галина через ступеньку спускаются под руку, прожекторы следят за ними.
ВСЕ ТРОЕ
О-ТРЯ-ХА-ЕТ УДАРАМИ ТРОСТИ КЛОЧЬЯ ПЕНЫ С ВЫСОКИХ БОТФОРТ!Нержин и Галина уходят широкими шагами направо, помахивая Майкову на прощанье, а он — им.
1951
Экибастуз,
на общих работах, устно
Пленники. Трагедия
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
ПЁТР КЛИМОВ, из военнопленных, сержант Красной армии, солдат американской, 25 лет.
КУЗЬМА ЕГОРОВИЧ КУЛЫБЫШЕВ, из военнопленных, солдат штрафной роты, больше 40.
ИГОРЬ БОЛОСНИН, лейтенант Красной, поручик Русской Освободительной армии, 28.
ВАЛЕНТИН ПРЯНЧИКОВ, из военнопленных, бывший офицер Красной армии, 28.
ИВАН ПЕЧКУРОВ, из военнопленных, рядовой, 23.
ЕЛЕШЕВ, из военнопленных, бывший офицер Красной армии, архитектор, 40.
ВАСЯ МЕДНИКОВ, из военнопленных, 23.
ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ ВОРОТЫНЦЕВ, полковник русской императорской армии, 69.
ЛЕВ ГРИГОРЬЕВИЧ РУБИН, майор политической службы Красной армии, 33.
АНДРЕЙ ХОЛУДЕНЕВ, капитан Красной армии, 26.
ПАВЕЛ ГАЙ, сержант Красной армии, 24.
ТЕМИРОВ, ротмистр русской императорской, капитан королевской югославской армии, около 60.
ЕВГЕНИЙ ДИВНИЧ, меньше 40.
МОСТОВЩИКОВ, из невозвращенцев, профессор, физик, за 50.
АРЕСТАНТ с голландской бородкой.
АРЕСТАНТ в роговых очках.
ХАЛЬБЕРАУ, оберлейтенант Вермахта.
ЛЕОН ВЖЕСНИК, подпоручик Войска Польского.
ДАВЫДОВ, майор интендантской службы Красной армии.
ДЖОВАННИ ФЬЯЧЕНТЕ, капрал итальянской армии.
АРЕСТАНТ С ПОДБИТЫМ ГЛАЗОМ.
СИДОРОВ.
ПАХОМОВ.
НЕКЛЮЧИМОВ, старший лейтенант НКГБ, 28.
ГЕНЕРАЛ, начальник фронтового Управления контрразведки СМЕРШ, молодой, красивый.
РУБЛЁВ ПРОХОР ДАНИЛОВИЧ, его заместитель, полковник, лет 55.
ОХРЕЯНОВ ЛУКА ЛУКИЧ, второй заместитель, полковник.
КРИВОЩАП, полковник, председатель военного трибунала.
МОРГОСЛЕПОВ, прокурор, подполковник.
КАШЕВАРОВ, казённый адвокат.
КАПУСТИН, капитан НКГБ.
КАМЧУЖНАЯ ЛИДИЯ, капитан НКГБ, лет 30.
МЫМРА, капитан НКГБ.
СВЕРБЁЖНИКОВ, лейтенант НКГБ, начинающий следователь.
СОФЬЯ ЛЬВОВНА, начальник санотдела, подполковник медицинской службы.
ФИЛИППОВ, капитан конвойных войск, из фронтовиков.
НИНЕЛЬ, секретарша.
1-й оперативник.
2-й оперативник.
ЖОРЖИК, ординарец генерала.
КОМЕНДАНТ ТРИБУНАЛА.
1-й заседатель, 2-й заседатель — в трибунале.
Конвоир Холуденева на суде.
Корпусной.
Офицеры, сержанты, надзиратели, конвойные солдаты.
Заключённые.
Официантки, машинистки, секретарши.
Действие происходит в одной из контрразведок СМЕРШ Красной армии 9 июля 1945 года от полуночи до полуночи.
КАРТИНА 1
Откуда-то — унылое вытьё многих собак, похожее на волчье. К началу разговора незаметно стихает.
Задний двор тюрьмы, плохо освещённый, ограниченный стенами трёхэтажного корпуса. Единственный свет — от костра из-под высокого бака посреди сцены. При баке устроен помост с лесенкой. Двое в чёрных одеждах с ушами шапок, поднятыми и торчащими как рога, хлопочут около бака, старший с ухватом залезает время от времени наверх и помешивает. Вокруг костра — дрова.
Ближе костра сидят на торчмя поставленных чурбаках и лежат на земле Елешев и Холуденев, Воротынцев и Печкуров, Кулыбышев, Климов и Гай. Хальберау занят сучением ниток, Фьяченте не то изготовляет, не то прочищает мундштук. Спиной ко всем лежит Давыдов, разложил перед собой еду в мешочках и ест.
Две пары непрерывно гуляют: Мостовщиков и Дивнич, Темиров и Рубин. Они проходят дугами и восьмёрками, то по авансцене, то в глубине.
Все стрижены и все неодеты, еле-еле прикрывая наготу: один в трусиках, другой надел полотенце набедренной повязкой, Рубин закутан в простыню. На Холуденеве, Давыдове — меховые офицерские жилеты на голое тело. Темиров — в кавказской бурке.
Мостовщиков — в пенсне, Воротынцев — с седой круглой бородкой, Рубин — с длинной чёрной.
ТЕМИРОВ
(выходя с Рубиным)
Есть у вас познания в теории мундира,
Этого оспаривать не стану,
Но сказать, что лейб-гвардейцы кирасиры…
РУБИН
Да-да-да, носили белые султаны!
Проходят.
МОСТОВЩИКОВ
(выходя с Дивничем)
Круто ж ваше христианство, круто.
Значит, в мир несёте вы — не мир, но меч?
ДИВНИЧ
Что же нам? Под колесницею Джагарнаута
Как рабам расслабленным полечь?
Проходят.
КЛИМОВ
Нам понять американцев? Винтиков у нас на это нет!
Выдают консервы. С розовой телятиной.
В банке — не пробоина, но маленькая вмятина,
Всё равно — в кювет!
Вот такие ящики целёхоньких галет! —
Угол где надбит, чуть в упаковке неисправа —
Всё равно — в канаву!!
(Смеётся.)
ХАЛЬБЕРАУ
(напевает за работой)
Унд варст ду кранк, зи пфлегте дихь,
Ден зи мит тифем шмерц геборен.
Унд габен алле дихь шон ауф, —
Ди муттер габ дихь нихт ферлорен.
ПЕЧКУРОВ
Ну, служил бы я в полиции, пошёл бы я в РОА, —
В пленном лагере четыре года, а?!
Старшим не был, с палкой не ходил,
На чужой беде не наживал румянца —
Доходил!
Выносил параши!
Хоть освободили б нас — американцы! —
И в глаза их не видал! Освободили — наши!
ВОРОТЫНЦЕВ
Наши, Ваня, это скользкое словцо.
Что в них наше? Звук фамилий? Русость на лицо?
После всех расстрелов, лагерей, колхозов,
уксуса из чаши —
Отчего б они вдруг стали наши?
РУБИН
(выходя с Темировым)
Да, я коммунист, притом ортодоксальный.
И каков бы личный жребий мой печальный…
Проходят.
ГАЙ
(у него правая рука ранена, подвешена на перевязи)
Наш, советский генерал: «Бойцы! — назад!»
А американский: «Почему?
Извините, вы у нас в гостях, а наш обряд —
Что садится и простой солдат
С генералом к одному столу!»
КЛИМОВ
От-торвал!!
ГАЙ
Рванула на бросок
К угощенью братия!
КЛИМОВ
Ничего не скажете, — урок
Демократии!
Темиров и Рубин минуют жующего Давыдова. Давыдов ловит Рубина за край простыни.
ДАВЫДОВ
Лев Григорьич! Угощений немудрецких
Сядемте, покушаем, прислали тут друзья…
Некому открыться: истинно-советских
В камере лишь двое — вы да я…
РУБИН
Да, но я… повременю
С лёгкостью такой искать себе родню.
(Проходит.)
ЕЛЕШЕВ
(Холуденеву)
Юный друг мой! Сединой увенчан,
(поднимает руку к волосам)
…Ах, острижен я… сказать сегодня смею:
Жизнь свою я прожил ради женщин
И ничуть о том не сожалею.
ДИВНИЧ
(выходя с Мостовщиковым)
Да, я соучастливо немею
И пред тёмной глубиною неба звёздного,
И пред красками восхода и заката,
И перед рыданием раскаяния позднего
Моего страдающего брата.
Я люблю людей в их бренной обволоке,
В том грехе, которым души отенетили, —
Завещал Господь любить людей в пороке, —
Кто ж их не полюбит в добродетели?
Проходят.
РУБИН
(Темирову)
Вот упрутся как бараны в инструктивное письмо!
Ну, не вытерпишь, отпустишь остренькое mot.
Я им всем в политотделе как бельмо.
Знай себе, толкут посылочки супруге, —
Не политработники — трофейщики, хапуги!
Но кому? кому я это говорю?! —
Вы злорадствуете, вам смешно!
Проходят.
ДАВЫДОВ
(завязав мешочки, через плечо)
Джиованни! На сухарь!
Фьяченте поспешно берёт, раскланиваясь.
(Подумав.)
На к сухарю,
Вылижь пальцем стеночки и дно.
Подаёт баночку. Фьяченте берёт её одной рукой, другую прижимая к сердцу; кланяется.
ГАЙ
Сдержанный, толковый, твёрдая рука.
Раньше был он командиром нашего полка.
Видишь сам, он говорит, вот ты войну прошёл, —
За кого мы лили кровь? Когда от дурости излечимся?..
Хоть и горько, а выходит: там, где хорошо, —
Только там отечество.
В языке английском был он шибок.
Взял нас утром четверых на джипик
И — на мост!
РУБИН
(выходя с Темировым)
Я — идиот, что начал с вами разговор!
ТЕМИРОВ
Вы — растлитель душ! Стыдились бы! Позор!
РУБИН
Колчаковский недоносок! Выкормыш притронный!
ТЕМИРОВ
Но не коммунист! Не коммунист зловонный!
РУБИН
Да! Тюрьма — благодеяние, когда сажают вот таких!
ТЕМИРОВ
Я хоть у чужих, а вы вот — у своих!
Круто расходятся.
ГАЙ
Спрыгнул я, прикладом автомата — по зубам!
Оглянулся: джип — хэллоу! — там!
А меня схватили.
ПЕЧКУРОВ
(Воротынцеву)
Да дверями, да ключами,
Да как волки окружат тебя ночами:
Расстреляем да повесим… Я двужильный, что ли?
Да пиши, что хочешь, в протоколе,
Подпишу, отстаньте, не читая.
ВОРОТЫНЦЕВ
Это вот и есть ошибка роковая!
Нашу слабую, истерзанную, стиснутую волю,
Так устроено, что давит вся громада,
Весь их аппарат, сведённый к острию.
В эти трудные, но считанные ночи — надо! —
Надо, Ваня, удержаться на краю!
Эту скачку дикую до пены и до храпу
Выдержать, чтобы себе не опротиветь самому.
ДИВНИЧ
(выходя с Мостовщиковым)
Божьей твёрдостью я выстоял в Гестапо
Божьей милостью пройду сквозь ГПУ.
Проходят.
РУБИН
(обнял за плечи сидящих Елешева и Холуденева)
Не кляните современность, сыновья России!
А когда мы не были восточной деспотией?..
Всё пройдёт, что, маленьким, нам кажется так тяжко.
На счетах Истории мы — жалкие костяшки…
ГАЙ
А зенитки — без снарядов! Мост, река, —
Я обоих «мессершмитов» сбил из дэ-ше-ка.
Воевал я им, ребята, за четыре дурака…
(Стонет, схватясь за голову.)
КУЛЫБЫШЕВ
Нешто, сынок, о прошлом не плачь.
Не тёрши, не мявши не будет калач,
В голове-то всякая дурь буровится.
Не мутясь и море не становится.
РУБИН
(он уже с Дивничем)
Христианство — да! Как и мужчина каждый,
Дорожу я убеждением, достигнутым однажды.
Но когда-нибудь я в ложности его уверься, —
Только, только христианству я бы отдал сердце!
Нет светлей учения от мира римо-греческого
До вершины гения германского.
Я пошёл тропой бы Сына Человеческого!
Я бы выпил чашу сада Гефсиманского!
Я в виду имею, безусловно,
Христианство не в догматике церковной…
Проходят.
МОСТОВЩИКОВ
Вот король Норвегии — тот душка,
От безделья бродит улицами Осло,
С подданным в пивнушке выпьет пива кружку,
Иностранца поучёней зазывает в гости.
Не взмутит недобрым словом гнева
Любознательной своей природы дар,
А его супруга королева,
Взяв кухарку, ходит на базар.
ВОРОТЫНЦЕВ
(Печкурову)
Мы до судорог цепляемся за жизнь, на этом ловят нас.
Мы — любой, любой ценою жить желаем.
Мы идём на все позорные условия
И — спасаем. Не себя уже. Спасаем — негодяя.
Но — непобедим, неуязвим
Тот, кто жизнью собственной уже не дорожит.
Есть такие. Стань таким! —
И не ты — твой следователь задрожит!
ЕЛЕШЕВ
(Холуденеву)
Яркость чувств и росплески ума —
Всё для них! Для них мой каждый шаг!
Архитектор, строил я дома,
В обществе блистал я, весельчак, —
Всё для них!..
ХОЛУДЕНЕВ
Я слушать не могу без жёлчи!
Чёрт волок меня над книгами всю молодость прогнить!
Я сейчас готов с тоскою волчьей
Серенаду женщинам провыть!
Фьяченте по-итальянски мурлыкает страстную песенку.
А теперь дадут мне десять лет…
Мне тянуть их в заполярном мраке, вдалеке…
Собачёнкой я готов бежать вослед
Ножке женской, отпечатанной в песке.
Холуденев уронил голову. Рубин уже теребит Кулыбышева.
РУБИН
Сам я, сам я знал богатые колхозы,
У колхозников — коровы, овцы, свиньи, козы…
Из глубины сцены быстро идут и мимо котла выходят вперёд Прянчиков и сопровождающий его 1-й надзиратель в грязно-белом халате поверх формы. Зритель не сразу может понять, что неестественно в чрезвычайно элегантном костюме и в движениях Прянчикова: все до единой пуговицы на его костюме и прочей одежде обрезаны, и одежда кое-как скреплена верёвочками. Прянчиков в движениях быстр, но стеснён — не обронить бы чего.
ПРЯНЧИКОВ
(на ходу)
Почему к военным ли, к гражданским
Обращение одно у вас — «давай! давай!» —
А? Товарищ?
1-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
Волк тебе товарищ в лесе Брянском.
Барахло в прожарку скидавай!
ПРЯНЧИКОВ
(снимая левой рукой мягкую шляпу, из-под которой рассыпаются богатые каштановые волосы, правую руку вытягивает на мгновение вверх вперёд)
Хайль Гитлер, господа!
(Правою рукою — «рот фронт».)
Да здравствует товарищ Сталин!
(Мелко помахивает Фьяченте.)
Вива Муссолини!
(Отмахивается.)
Хай живэ Бандер!
Разрешите вам представиться? Я — Валя
Прянчиков. Я — агитатор против возвращенья в эС-эС-эР!
Елешев, крадучись, приближается и шепчет ему на ухо.
(Во весь голос.)
Я предупреждён! Я знаю! — в контрразведке
Между нами могут быть наседки.
Но как честный человек скажу вам, не тая,
Что я
1-й надзиратель за его спиной продувает машинку для стрижки. Все разговоры и хождения прекратились, Прянчиков — в центре внимания.
С мировой буржуазией — в самых тесных рамках,
С мировым рабочим классом — еле-еле-еле.
Оборотный капитал — три сотни тысяч франков.
Особняк, жена, машина — всё в Брюсселе.
(Присаживается на чурбак.)
1-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
Вши-то есть?
ПРЯНЧИКОВ
Как вы сказали?
1-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
Вши.
ПРЯНЧИКОВ
(разражается хохотом, теряет равновесие и упал бы с чурбака, если б не схватился рукою за землю)
Ха-ха-ха! Давно я не смеялся от души!
Где ж им взяться? Людоеды! Дурносопы!
Я ж не из Москвы приехал — из Европы!
1-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
Я сказал тебе — скидай в прожарку!
РАБОЧИЙ
(с верха котла)
Гражданин начальник! Тут уж докипает.
1-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
Ну, не надо.
ПРЯНЧИКОВ
Гран мерси! Я рад. На родине так ярко
Человек простые радости переживает!
Да! Совсем забыл я, господа, — один вопрос:
Уровень промышленности, что же, — не возрос?
Ай-ай-ай, как до сих пор тут туго всё!
По тому сужу, что эти вот чины
У меня обрезали все пуг’вицы,
И совсем не держатся штаны.
КЛИМОВ
Металлические были?
ПРЯНЧИКОВ
Что вы! Из кости.
КЛИМОВ
Значит, шик?
ПРЯНЧИКОВ
Конечно. Цвета крем.
КЛИМОВ
Так в посылку взяли. Паря, не грусти,
Пуг’вицы обрезывают всем.
ПРЯНЧИКОВ
Да, но как же быть?
КЛИМОВ
А сделаем из хлеба.
ПРЯНЧИКОВ
(впервые внимательно оглядывается)
Вообще, что здесь творится?
ТЕМИРОВ
Баня.
ПРЯНЧИКОВ
Под открытым небом?
Как-то странно…
XОЛУДЕНЕВ
Что вам странно?
ПРЯНЧИКОВ
Где вода? где душ? где ванны?
ЕЛЕШЕВ
Душ да ванны — полбеды.
ПЕЧКУРОВ
В том беда…
КЛИМОВ, КУЛЫБЫШЕВ
(вместе)
…что нет воды!
Прянчиков, совершенно поражённый, перестаёт вертеться, садится на чурбак. Как раз в этот момент надзиратель кончил прочищать машинку, подходит к нему сзади стричь.
ПРЯНЧИКОВ
Так зачем же гонят?
ХОЛУДЕНЕВ
На прожарку. График.
ПРЯНЧИКОВ
(хватаясь за темя)
Э! кто там?
(Вскакивает, отбегает, щупает выстригнутое место.)
1-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
Ну, что тебя? В наручники да в бокс?
ПРЯНЧИКОВ
Подождите! в боксе я сидел! ведь это — шкафик!
И меня — туда живого? Парадокс!
(Нащупал плешь.)
Что вы сделали? Я буду жаловаться!!
1-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
Чёрт тебя,
Сядешь ты, блоха?
ПРЯНЧИКОВ
А Атлантическая Хартия?
Вы нарушили!.. А?
(Последний вопрос уже к Елешеву.)
ЕЛЕШЕВ
(шепчет)
Милый, покоритесь!..
Все острижены давно, вы оглянитесь…
Прянчиков медленно поворачивается, оглядывая головы. Задор его опадает. Он садится. Начинается стрижка. Перед Прянчиковым на груду поленьев садится Рубин.
РУБИН
Так, товарищ. Вам хоть не достригли головы,
Но легко знакомятся меж этих стен,
Объявляю вам, что вы
С настоящего момента равноправный член
Арестантскими традициями лучшими богатой
Камеры сто двадцать пятой.
По одной из них, не утаю,
С новичков снимаем интервью.
Приготовьтесь. Вы
Подданный — СССР?
ПРЯНЧИКОВ
Увы…
РУБИН
Так. О бабушке, о дедушке пока не спросим.
Специальность?
ПРЯНЧИКОВ
Инженер.
РУБИН
И лет вам?
ПРЯНЧИКОВ
Двадцать восемь.
РУБИН
Я б не дал.
ПРЯНЧИКОВ
Мерси.
РУБИН
Были членом парти…
ПРЯНЧИКОВ
Бож-же упаси!
РУБИН
ВЛКСМ?
ПРЯНЧИКОВ
Имел.
РУБИН
Не понял.
ПРЯНЧИКОВ
Глупость, говорю, имел.
РУБИН
Об оценках мы не спорим. Тут водораздел,
Так сказать, мировоззренческий.
Расставаясь со скамьёй студенческой,
Были холосты? женаты?
ПРЯНЧИКОВ
Ах, моя Мадлен!
РУБИН
Забегаете вперёд, по имени судя.
Дальше — фронт?
ПРЯНЧИКОВ
Да, фронт.
РУБИН
И — плен?
ПРЯНЧИКОВ
И плен,
Немного погодя.
РУБИН
Лагерь?
ПРЯНЧИКОВ
В Рейн-Вестфальской.
РУБИН
Род работ?
ПРЯНЧИКОВ
Руда.
Кстати, очень неприятно.
РУБИН
Доходили?
ПРЯНЧИКОВ
Да.
РУБИН
И — дошли?
ПРЯНЧИКОВ
Мы убежали.
РУБИН
Любопытно знать, куда?
ПРЯНЧИКОВ
В Бельгию. В Арденны. Гос-по-да-а!
Это страшно интересно! Там движение
Этого… Сопротивления.
Что за партизаны — видели вы бы!
Мальчики румяные, здоровейшие лбы,
В батальон их маршевый, нах Остен там, нах Вестен, —
Спрятались, нашли поглуше место
И — сопротивляются: ни на заводы, ни в дивизии.
Вся Европа в крике, в гике,
А над нами — ветки, птички, и провизию
Носят девушки-бельгийки.
Ах, какие девушки!..
РУБИН
Мадлен?
ПРЯНЧИКОВ
Не скрою.
Тут Вторжение, тут всё само собою…
РУБИН
Вы разбогатели, получив приданое?
ПРЯНЧИКОВ
Да, но я…
Я его за десять месяцев утроил!
Давыдов, громко хрюкнув, подходит и слушает с большим вниманием. Стрижка окончена. 1-й надзиратель уходит.
РУБИН
Не пытайтесь нас уверить!
От Адама Смита, от Давида Рикардо
Все законы политэкономии…
ПРЯНЧИКОВ
Пардон! Пардон!
Вы не делайте такой физиономии!
Знаю, прорабатывал!
Маркс-Энгельс, Лапидус-Островитянов!
Так ведь там же вас не жмут, не гнут, не тянут!
Я за год шутя — и стал негоциантом.
Миллионы наживали некоторые!!
Мы, советские, не знаем собственных талантов.
Там же нет ни ГПУ, ни фининспектора!
Есть у тебя тэт, да лишний франк в кармане…
ДАВЫДОВ
Можно делать бизнес?
ПРЯНЧИКОВ
Да, аржан! Да, мани!
(Хохочет.)
Господа, смешно!
Привыкшим к тяжести свинцовой на спине,
К тяготенью вниз, к давлению извне,
Нам на Западе, как жителям земным, ну, скажем, на Луне,
Не ходить, а прыгать! Нам простор, карьера!
РУБИН
Чепуху городите, милейший! Рассуждаете, как лавочник!
Кто-то должен стоимость прибавочную…
ДИВНИЧ
(выйдя вперёд, мягко берёт Рубина за плечи)
Лев Григорьич, не расширьте прав интервьюера.
(Прянчикову.)
Если вы так трезво рассуждали,
Так зачем вернулись?
ПРЯНЧИКОВ
Кто?? Меня украли!!
ГОЛОС
Как украли?
ПРЯНЧИКОВ
Так. Средь бела дня! В Брюсселе.
ГОЛОСА
Где?
Кого?
Когда?
Нет, в самом деле?
ПРЯНЧИКОВ
Господа! Не делайте мне больно!
Что я — ненормальный, чтоб вернуться добровольно?
КУЛЫБЫШЕВ
Есть такие…
ЕЛЕШЕВ
Всю войну на Западе проведшие…
ПЕЧКУРОВ
Всё перепытавшие…
КЛИМОВ
Все огни прошедшие…
ПРЯНЧИКОВ
И — вернулись??
КЛИМОВ
И вернулись.
ПРЯНЧИКОВ
Значит, сумасшедшие!!
ВОРОТЫНЦЕВ
Как сказать? — что ближе к естеству:
Верить ли всему? не верить ничему?
ПРЯНЧИКОВ
Кончилась война — в гражданском, элегантными,
С золотыми росписями, бабочками-бантами,
Понаехали товарищи — и ходят просто бандами! —
(Скороговоркой.)
Чуть посол, посольство, — бах!
И в дыру ползут уже
Сто поверенных в делах,
Двести двадцать атташе,
Триста сорок один штаб —
Русских Ванек цап-царап, —
Неудобно ж отказать союзной нации! —
Представители репатриации!
Ждут вас матери, ждут сёстры в разорённых городах!
Даже кто с оружием в руках
Против Ёськи выступал,
Кровь младенцев проливал, —
Родина простила! Родина зовёт!
Я смотрю — клюёт!
Едут, верят…
МОСТОВЩИКОВ
До чего ж доверчив и безпечен
Русский человек!
ПРЯНЧИКОВ
Кого ни встречу,
Убеждаю, умоляю, — как их от чумы?? —
Денег мало? — на тебе взаймы!
Не найдёшь работы? — на тебе записку!
Мне бы шут бы с ними! — жалко земляков…
Ну, и продали. и кто же продал? Самый близкий
Друг, с которым мы из лагеря бежали!..
ХОЛУДЕНЕВ
(Мостовщикову)
Вот каков
Наш советский человек…
ПРЯНЧИКОВ
Встретились. Помочь? Выписываю чек…
Ничего не надо, говорит, решился, — еду.
Помнишь, как на Рейне?.. как у партизан?..
На прощанье что же? — пообедать!
Назначаю ресторан
Самый фешенебельный…
Вы в Брюсселе не были?..
Там меня и показал, Иуда…
Расплатился, выхожу оттуда, —
Только дверь зеркальную за мною повернуло —
Вот сюда меня как шибануло!
Эт-то был удар! —
Через тротуар —
И — в машину головой!
ГОЛОСА
Прохожие?..
Полиция?..
ПРЯНЧИКОВ
Не помню я!
Это же мгновение, это же как молния!
Ну, лежу в посольстве, — буду отбиваться!
Так-то просто я не дамся вам из Бельгии…
ДАВЫДОВ
Но кому ж? кому могли достаться
Ваши деньги, а?
ПРЯНЧИКОВ
Рот заткнули, обернули этаким кулём —
«Груз дипломатический»,
без обыска, граница, Амстердам…
ГОЛОС
Ну а там?
ПРЯНЧИКОВ
А там?
На аэродром;
На Берлин из Лондона летели лётчики советские.
С визита доброй воли.
Или дружбы, чёрт их разберёт.
Олухи голландские тюк мой не вспороли
И — на самолёт.
Опустились мы в советской зоне.
И ещё не понял я. А вот когда я понял:
Двум солдатам меня сдали. Перед ними — котелок.
Суп едят, верхом усевшись на колодину.
Ложку мне: «Садись. Хороший суп, браток».
Я попробовал…
(Жест бросания ложки наземь; стонет.)
Ты, матушка! ты, Родина!!..
Все поникают. Тишина.
ДИВНИЧ
Родина соломенная, с бытом нашим смрадным,
С дикими понятьями, безправьем безотрадным…
РУБИН
Рабством убеждённым, рабством внутренним…
ДИВНИЧ
В дни, когда померкла яркая война, —
О! какою страшной в сумраке предутреннем
С рубежей ты кажешься, родная сторона! —
Бездыханна, безсловесна, обволочена
Мутновидящим, безчувственным, тупым
Своевольем князя Джугашвили!..
ГАЙ
Да пусти нас из Европы — мы бы в пыль и в дым
Сталина разворошили!
РУБИН
Ах, безумцы! Ах, слепцы! Истории хотите колесо
Повернуть вы вспять!..
ХОЛУДЕНЕВ
Нет, мы будем ждать, пока ОСО
Станет нам клепать по тридцать пять!
РУБИН
Да, друзья мои, не первым нам
Из Европы чистенькой в немытую Россию возвращаться.
И столетие назад, другим полкам,
Это тоже тошно было, братцы.
И тогда на нашей скудости и нестали
Распустилось дивное цветение —
Муравьёвы, Трубецкие, Пестели.
А сегодня — наше поколение.
Но они дошли до площади Сенатской,
Мятежом свой замысел обвершили, —
Вас схватили на границе азиатской
И сидите в СМЕРШе вы…
ВОРОТЫНЦЕВ
Нет, простите, случай ваш — не тот.
Если ожидает нас переворот, —
Дай-то Бог! — то не шипучая дворянская игра
От шампанского, от устриц с серебра,
Не заёмные мечтанья, что там было, где, —
Но вот этот кряжистый народ,
Настрадавшийся на баланде.
ЕЛЕШЕВ
Всё это красиво, то, что декабристы мы.
Но зачем так мрачно? Будет же амнистия!
ПРЯНЧИКОВ
(живо)
Ожидается амнистия?
ЕЛЕШЕВ
Ну да, мы не доедем до Сибири!
ПРЯНЧИКОВ
Скоро?
ЕЛЕШЕВ
Ну, вот-вот, дня три-четыре.
ПРЯНЧИКОВ
И — отпустят?
ХОЛУДЕНЕВ
Да-да-да, к жене и к деткам.
ПРЯНЧИКОВ
(к нему)
Скоро?
ХОЛУДЕНЕВ
Через три-четыре… пятилетки.
ЕЛЕШЕВ
Ах, Андрей Степанович, какой вы зубоскал!
Следователь точно мне сказал!
ДАВЫДОВ
(придвигаясь)
Говорил и мне.
КЛИМОВ
А вы не лезьте!
ДАВЫДОВ
Почему?
КЛИМОВ
(с кулаками)
Вы говорили, что вы здесь —
со сволочью фашистской…?
ТЕМИРОВ
(ступая между ними)
Вас помилуют: вы — вор. Украли тысяч двести, —
Вы советской власти «социально-близкий».
РАБОЧИЙ
(сверху)
Эй! А ну! Готово. Разбирай!
(Начинает ухватом выбрасывать из бака дымящуюся паром одежду.)
Общее поспешное движение. Разбор вещей. Путаница.
РУБИН
Гады! Сволочи! Спалили гимнастёрку!
ЕЛЕШЕВ
Ай-яй-яй!
Общий гул и суета. Фьяченте, ещё не одевшись сам, принёс все вещи Давыдова и ухаживает за ним. Единственный одетый Прянчиков с интересом наблюдает за всем.
РУБИН
Лишних брюк военных нет ни у кого?
ГОЛОСА
Тихо!
Тише!
РУБИН
Брюк немецких, порванных!
КТО-ТО
Не эти ли?
РУБИН
Во-во!
(Передаёт их оберлейтенанту, это его брюки.)
Гул снова усиливается.
ХАЛЬБЕРАУ
(Рубину)
Данке зеер! данке зеер!
ГОЛОС
В чём это измазали, собаки?
ПРЯНЧИКОВ
Интересно, а кого возьмут во фраке,
Как же фрак?
ХОЛУДЕНЕВ
Что — фрак?
КЛИМОВ
Что — как? В жарилку!
ПРЯНЧИКОВ
Эт-то невозможно!
КЛИМОВ
Невозможно знаешь что? Вот это самое — в бутылку.
Остальное — всё возможно, брат…
Пришли 1-й и 2-й надзиратели.
1-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
Р-разобраться по два! Р-руки взять назад!
Заключённые разбираются в колонну по два, кое-кто доодевается на ходу. С жалобой выходит Рубин.
РУБИН
Гражданин начальник! Мне дыру прожгли!
1-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
За-латаешь в камере. Па-шли!
РУБИН
(не отступая)
Буду жаловаться! Есть тут старший, отвечающий…?
2-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
(толкает его в строй)
Марш, направляющий!!
Колонна скрывается в глубине двора.
КАРТИНА 2
Небольшая камера. Нар нет, пол устлан соломой, на соломе тесно спят вповалку арестанты, головами к стенам, ногами в середину. Дверь с «кормушкой» и глазком, близ неё деревянная непокрытая бочка-параша. Единственный оконный проём заложен свежим неоштукатуренным кирпичом, оставлено лишь крохотное обрешеченное окошко вверху. В камере бледный свет, в течение картины заметно рассветёт.
Под окошком Дивнич молится. Лёжа разговаривают тихо Воротынцев и Холуденев. У двери стоят Кулыбышев и Вжесник, прислушиваясь, что в коридоре. Близ параши, как последний прибывший, спит Прянчиков, его можно узнать по шляпе, которой он накрыл голову. Головою к нам, близко лежит Климов. Он не спит, а, подпершись локтями, поёт чистым сильным голосом негромко.
КЛИМОВ
Где ты, где ты?..
Скажи мне, где ты?..
Куда тебя забросила война?..
Четыре года
Кружишь по свету, —
Какие заслужил ты ордена?..
С грохотом открывается дверь, пропускает Арестанта с подбитым глазом, огромным синяком на скуле, и запирается с таким же грохотом. Все спящие вздрагивают, но не просыпаются. Руки вошедшего заложены за спину. Оказавшись в камере, он освобождает их.
(Как бы ударяя себя по скуле.)
Следователь?
АРЕСТАНТ С ПОДБИТЫМ ГЛАЗОМ
Зубы-то дороже, Петя. Подписал,
Где и был, где вовсе не бывал.
(Втискивается между спящими, ложится.)
КЛИМОВ
(поёт)
Снимаешь мины?
Ползёшь под танки?
С катюшей ездишь или водишь ИЛ?
По тропам ходишь
По партизанским?
Иль тиф сыпной в плену тебя свалил?..
С семьёю новой
Живёшь за морем?
И-ли в сырой земле похоронён?
Вот-вот вернёшься
Домой героем?
И-ли в тюрьму посажен как шпио-он?
ВЖЕСНИК
Нэх че лихо вэзьме! На моём примере
Изучайте языки! Нас губит их незнание!
Мог я быть шпионом — в Великобритании!
А пришлось? В са-бачьем эс-эс-эре!
Незнаком с английским! — хау ду ю ду?
Иф ю плиз…
Ну, не хочешь в Тауэр, дурак, —
иди к большевикам на баланду,
Строить коммунизм.
Это что — тюрьма? Солома, гниль, такую вашу мать!
Вот за Польшею тюрьма была: две простыни, кровать,
Книги, тумбочка, прогулка.
Мясо на обед!! На завтрак — беленькая булка!
КЛИМОВ
Ты за что ж сидел?
ВЖЕСНИК
Я коммунистом был, пся крев!
Всё поймёшь, сюда вот только сев…
Дивнич по-прежнему истово молится. Климов начинает выжимать стойку. Он в одних трусах, тело его прекрасно развито.
КЛИМОВ
(из стойки)
А потом?
ВЖЕСНИК
Потом права ищи!
Дали землю! дали жару нам товарищи!
В Красной армии служил.
Вдруг — бах! — инструкция Политотдела:
Еще Польска не сгинела!
Даже кто партиец в доску —
Тот католик, Матка Боска!
Леон Вжесник — подпоручник Войска Польска!
КЛИМОВ
(он уже лёг; в прежней позе поёт)
Напрасно утром
В холодный ветер
Выходит на крыльцо твоя жена:
«Где ты, где ты?
Скажи мне, где ты?
Куда тебя забросила война?»…
(Опускает голову, замирает.)
ВОРОТЫНЦЕВ
(Холуденеву)
Был немилостив алтарь, где головы мы клали,
Мы в своей стране своих не узнавали.
Встала в людях злоба, жадность, тьма, —
Будто наш народ сошёл тогда с ума,
Кинул душу чёрту в исступленьи.
Не ошибка лозунгов, не генеральские промашки:
Никому, ничем не задержать круговращенья, —
Так вот повернула, покатила — и пошла!..
Мне пришлось изведать самых тяжких,
Самых изнурительных российских отступлений
От Мукдена, Найденбурга и к Ростову от Орла
Ход необоримый, —
Никогда мне эта чаша горше не была,
Чем из Крыма.
Я стоял в разноречивой, истеричной тесноте
О потерях плачущей, спасенью веселящейся кормы
И не первый раз уже подумал: «мы», всё «мы», —
А «они»? А — те?
Великодержавному мне, может, москалю
То, что им, не видно с высоты господской?
Может, не жил я в России и России не люблю?
Но позвольте! — но не Ленин!! Но не Троцкий!!
Думал: наши жалобы и вопли — а не вздорны?
Русь отдав! — не Мекленбургское какое-нибудь графство,
Может, проглядели мы источник новотворный
В том обещанном народоправстве?
Херсонесский воспалённый промелькнул маяк.
Скрылся в темноте.
Родина моя! Увидимся ли мы ещё? и как?
И когда? и где?..
ХОЛУДЕНЕВ
Свиделись.
ВОРОТЫНЦЕВ
Не думал так зажить,
В отдалённость. Время, люди — всё сменилось.
Но, однако, ждали мы, что нам пошлётся милость
Перед смертью — Родину освободить!
Нет!! и двадцать пять прошло — и снова нет!!
И теперь ещё — на сколько лет?
И опять — союзников предательский отшат.
И опять — у красных наш солдат.
Надо было на соломку эту мне сюда добресть,
С вами вместе неразваренные зёрна эти есть,
Да послушать, посмотреть, какие вы! —
Да куда вы выросли, да как вы стали знать их, —
Я благодарю Тебя, Создатель,
Что большевики — уже мертвы.
Раньше наших.
XОЛУДЕНЕВ
Маркс и Ленин! Отхватили вы по ломтю
Молодости нашей! Не побыв на фронте,
Да Европы не видав, да не развидев солнца
Чудно-новым через эти ржавые пруты, —
Так и были б мы барано-оборонцы! —
Были — что мы? были — кто мы?
Громоздили ваши томы
Сундуками пустоты!..
Дивнич перешёл к двери и там беседует с Кулыбышевым, сидя на соломе.
ДИВНИЧ
(вещим голосом)
Скоро! скоро пред народом богомольным
В клубах ладана восстанут алтари,
Русь наполнят звоном колокольным
Церкви и монастыри.
Мой народ измученный! Надейся!
Над тобою Божье осияние.
Удививши мир своим злодейством,
Удивишь его ты покаянием.
Проторится новая тропа
К запустению святынь поруганных,
Повалит спасённая толпа
За священниками, за хоругвями!
КУЛЫБЫШЕВ
(ковыряя в носу)
Эт’ да, эт’ верно. Но только, вишь, церква
Я сам закрывал.
Дивнич изумлённо откидывается.
Двадцатипятитысячник мне: не будь опечален!
Думает за вас партия, правительство
и лично товарищ Сталин!
Церковь закрыть — вот вам ссыпной пункт!
Что ты, говорю, — да все бабы в бунт!
Темнота, говорит, наплевать!
И вправь, отперлась деревня чуть не вся, —
А мы, актив, — за них подпися, подпися.
Штук по десять каждый.
ДИВНИЧ
И ты?
КУЛЫБЫШЕВ
Да-к, делай что хошь! —
Без меня, вон, полотнища. Уж где рубь, там и грош.
ХОЛУДЕНЕВ
Как-то мы росли, не чувствуя Лубянки,
На щеках носили жар безпечного румянца…
Вот ирония! — сражались вы — у Франко,
Я ж мечтал — бежать к республиканцам!..
ВОРОТЫНЦЕВ
Раз единственный я там вкусил победу!
Кажется, мы там неплохо подрались,
За Москву и за Орёл — в Мадриде и в Толедо
Хоть на пару сотых разочлись!
Гром замка. Входит, шатаясь, бледный Медников и, натыкаясь, как слепой, идёт к своему месту. Все спящие, как и в первый раз, вздрагивают, поднимают головы и тотчас же вновь их опускают.
ХОЛУДЕНЕВ
Вася, как?
МЕДНИКОВ
Шестые суточки, браты!
Ой, поспать! поспать бы хоть немного!
(Падает на солому и засыпает.)
ДИВНИЧ
Но тогда скажи, старик, но ты —
Веришь ли ты в Бога?!
КУЛЫБЫШЕВ
А?
ДИВНИЧ
Ты в Бога веришь ли?
КУЛЫБЫШЕВ
Я?
ДИВНИЧ
Да!
КУЛЫБЫШЕВ
В Бога?
ДИВНИЧ
В Господа, в Спасителя!
КУЛЫБЫШЕВ
М-молчать беда,
Говорить — другая. Как эт’ ты хочешь — да ли, нет ли?..
Жизни нашей — вон они, петли…
Возьмёт, как кота
Поперёк живота, —
По полу катаешься, всех святых вспомянешь.
А стелется жизнь скатёрочкой —
на иконы те бабьи не глянешь.
Сейчас мы все тут — изменники родины, —
Руби малину, коси смородину!
Но я сперва не за то попал,
А что ведомость раздаточную порвал
Да колхозницам хлебушка ещё по разу раздал,
Куды! Без этого б до весны перемёрли.
Мне не корысть была — у меня-то в доме полно.
Вот оно, тут стоит, вот подходит к горлу, —
Как называется? Что — оно?
Как бы задумываются или дремлют. Воротынцев и Холуденев тоже спят. Вступает музыка, тягостной мелодией тюремного пробуждения. Люди тяжело мечутся на своих местах, борясь между сном и бодрствованием. Подают реплики, как в бреду, и снова роняют головы.
ЕЛЕШЕВ
Что со мной? Я сплю или мечтаю?
Дивный сон! Как быстро ты померк!..
Снова снилась мне головка золотая —
Эльза Кронеберг!
Боже мой! В тюрьме так страшно пробужденье!
Тяжкий миг! Всю ночь тебя гоню.
ДРУГОЙ ГОЛОС
Воли нет для жизни…
ТРЕТИЙ
Силы — для движенья…
ЧЕТВЁРТЫЙ
Смысла — наступающему дню…
ЕЩЁ КТО-ТО
Мутный свет меж прутьев еле брезжит…
Громкий поворот ключа в двери. Все вздрагивают, разом поднимают головы. Но дверь не открывается, головы падают.
ЕЩЁ ОДИН
Как кинжалом в сердце — поворот ключа.
ХОЛУДЕНЕВ
Краткий век мой! Что ты — отжит? вовсе не жит?
Родине на займы отдан сгоряча?
Два хрустящих новеньких червонца…
ГОЛОС
И за них — один измызганный взамен…
ЕЩЁ
Не для нас сегодня всходит солнце!
ПЕЧКУРОВ
Плен немецкий, а теперь — советский плен…
ЕЩЁ ОДИН
Днём обтерпишься — послушно цепь волочишь.
ЕЩЁ
Тупо смотришь на решётку, на замок.
ЕЩЁ
Но вот этот вот из краткой милосердной ночи
В день раба безжалостный швырок!
ЕЩЁ
Днём обвыкнешься — как будто так и надо…
Но вот эта каменная глыбная громада,
Утром привалившая безпомощную грудь!
ЕЩЁ ГОЛОСА
— Десять лет!
— Легко сказать!
— На пальчиках загнуть!..
— Ни жены…
— Ни матери…
— Ни дочери…
— Ни дома…
— Не увидеть…
— Не вернуть…
— и не в силах голову поднять с соломы!..
— и не в силах веки разомкнуть…
Все снова спят. Последние такты стихающей мелодии прерываются громом ключа и открытием двери.
4-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
(кричит)
На опр-равку! Быстро!
ТЕМИРОВ
(поднявшись чуть раньше других)
На опр-равочку! Парашютисты!
Все, кроме Медникова, поднимаются, вскакивают. Общая суматоха. Вжесник пытается первым выйти в дверь.
4-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
(Вжеснику)
Сто-ой! Что прёшься? Проходи с парашей!
ХОЛУДЕНЕВ
(уже держась за одну ручку параши)
Лев Григорьевич!
ГОЛОСА
— Вы с кем несёте?
— С Лёвой.
РУБИН
(торопливо собираясь, всё что-то забывает; полотенце свешивается с его шеи, путается в бороде, мешает)
Разве очередь моя? Да что вы?
(Быстро подхватывая вторую ручку параши.)
Тысячу пардон! Забыл безбожно!
ХОР
Не пролейте!.. Не пролейте!.. Осторожно!..
Рубин и Холуденев выносят. Остальные выходят следом. Видно, как они берут руки за спину, строятся попарно.
КЛИМОВ
(над Медниковым)
Вася! Встань, голубчик. Ведь поднимет, гад.
4-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
(за дверьми)
Р-разобраться по два! Руки взять назад!
КЛИМОВ
Вася!
МЕДНИКОВ
М-м-м…
4-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
(вбегая)
Ну, кто ещё тут? Встать!!
(Бьёт носком сапога в подошвы Медникову.)
МЕДНИКОВ
Не хочу я на оправку. Дайте мне поспать.
4-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
Что ты мне? Права качать?
МЕДНИКОВ
На допросы ночью, на допросы днём…
4-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
Рас-порядочек! Бе-гом!
Вышли все.
Марш!
Строй уходит. Входит 5-й надзиратель.
Давай. Я — эту, ты — вон ту.
(Показывает ему на две стороны камеры, на два ряда соломы.)
5-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
Зна’шь, Валерик, на мою овечью простоту
Эти обыски мне, ну… серпом по… животу.
4-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
Что за «обыск»? Тут зовётся — шмон.
Фронт забудь. По тюрьмам свой закон.
Лейтенант нас учит: ничего хоть не найди,
Но — расшуруди!!
Начинают ворошить солому, раскидывая вещи. Ничего не найдя, выходят. Арестанты возвращаются.
ГОЛОСА
— Шмон опять!
— Шмонали, грёб твою в ГБ! —
— Сволочи!
— Пораскидали!
— Не могу привыкнуть!
— Эт-то меня бесит!
Подгребают солому, ищут свои вещи, расстилают их. Климов стоит среди камеры неподвижно, скрестив руки на груди.
КЛИМОВ
Доживём, браты! и Сталина увидим на столбе!
Будет и над ним когда-нибудь процессик!
КУЛЫБЫШЕВ
Жди, милок, чего иного.
Утопят мыши кота, да неживого.
Фьяченте подходит к Давыдову.
ДАВЫДОВ
Постелил?
ФЬЯЧЕНТЕ
О да, синьор!
ДАВЫДОВ
Смотри теперь, что шить.
Русского не учишь, — как ты будешь жить?
Обсуждают кройку тапочек.
ЕЛЕШЕВ
(Холуденеву)
Вот до этого на стенке отколупа
Никогда вы не лежали.
XОЛУДЕНЕВ
Отвяжитесь.
ЕЛЕШЕВ
Грубо. Глупо.
Вы — не европеец. Не умеете идти на компромисс.
ХОЛУДЕНЕВ
Компромисс — Европа? Это мысль!
(Уступает, подвигается.)
ПЕЧКУРОВ
(Кулыбышеву)
Что бы сон мой значил — не пойму:
Церковь.
КУЛЫБЫШЕВ
К перемене жизни. Вольному — в тюрьму,
Нам — на волю. Это хорошо,
когда в тюрьме приснится церковь.
4-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
(отхлопывая кормушку)
На проверку!
ВЖЕСНИК
На проверку!
ТЕМИРОВ
Становись!
Все быстро выстраиваются вдоль камеры по два в затылок. Рубин — с краю, ближе к зрителю. Темиров в бурке идёт перед строем.
Вопросы?
РУБИН
У меня.
ТЕМИРОВ
Вы — комик.
Сколько можно спрашивать? Кто кроме?
ПРЯНЧИКОВ
У меня! — не кормят! Что за обращенье?
Почему остригли?..
ТЕМИРОВ
Я прошу прощенья, —
Корпусной промчится как комета.
Если вы желаете ответа,
Станьте тут, (показывает рядом с Рубиным)
загородите двери.
РУБИН
Болтовня!
Первый я спрошу. Важнее — у меня.
Прянчиков перебегает на фланг, Темиров заступает его место в строю. Всё с тем же грохотом отпирается дверь. Корпусной стремительно входит, 6-й надзиратель стоит в дверях. Идя мимо строя, корпусной просчитывает пары в прямом направлении, потом в обратном, при полной тишине, и тотчас делает рывок к выходу, но сперва Рубин, а потом Прянчиков заступают ему путь.
РУБИН
Гражданин начальник!
ПРЯНЧИКОВ
Гражданин…!
РУБИН
Согласно
Правилам, висящим…
ПРЯНЧИКОВ
Гражданин…!
РУБИН
Заключённым разрешается…
ПРЯНЧИКОВ
Ведь это же ужасно!..
РУБИН
…жаловаться!
ПРЯНЧИКОВ
…кушать!
КОРПУСНОЙ
(видя, что не уйти)
Кто-нибудь один.
РУБИН
(решительно повышая голос, отталкивая Прянчикова, очень торопится, боясь, что корпусной не дослушает)
Я являюсь жертвой клеветы. Я арестован
Совершенно незаконно.
КОРПУСНОЙ
(удивлённо)
Ну, так что вам?
РУБИН
Следствие проводится необъективно…
ПРЯНЧИКОВ
…Трухлая солома! Спать противно!
РУБИН
…Жалобу писать на имя Берия…
ПРЯНЧИКОВ
…На параше крышки нет! Бактерии!
РУБИН
Перестаньте чепуху нести!..
…В Генеральную Прокуратуру, в наркомат юсти…
ПРЯНЧИКОВ
Мы не печенеги! Мы не эфиопы!
Дайте нам условия Европы!
РУБИН
Дайте мне бумагу! Я неоднократно
Обращался — не дают.
КОРПУСНОЙ
И не дадим!
(Ловко обходит их и выскакивает за дверь.)
Рубин бросается вслед.
РУБИН
По какому праву…?
Дверь захлопывается, вталкивая Рубина назад. Гремит замок. Ряды смешиваются.
ТЕМИРОВ
Вам понятно?
Жалуйтесь в Осоавиахим!
РУБИН
(с кулаками)
Ваша эта мне дурацкая ирония!..
Их разводят.
ПРЯНЧИКОВ
(хватаясь за голову, совершенно серьёзно)
Господа, где мы живём? Ведь это — беззаконие!!
Климов хохочет. Распахивается кормушка. В ней — голова 6-го надзирателя и белый халат раздатчика.
6-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
Восемнадцать!
В кормушку начинают выдавать по две хлебных пайки сразу. Их подхватывают и раскладывают на шинели, расстеленной посреди камеры.
ГОЛОСА
— Паечка!
— Святой костыль!
Темиров стоит у кормушки и ведёт счёт пайкам. В конце он ещё получает сахар в носовой платок. Кормушка захлопывается.
ТЕМИРОВ
Фриц Иванович! Делите сахарок.
Хальберау берёт сахар, садится поудобнее, все дают ему свои бумажки, тряпочки, и он при помощи лопатки из поломанной спичечной коробки начинает священнодействие дележа. С грохотом отворяется дверь. Прислужник в тёмном халате вносит деревянную бадейку с кипятком и несколько пустых литровых консервных банок из-под американской тушёнки. Уходит. Дверь закрывается.
ГОЛОС
Кипяток!
КТО-ТО
(надпив)
Простыл.
Пойло, а не кипяток.
Почти все сидят по своим местам. Темиров и Арестант с подбитым глазом раздают. Медников снова спит.
АРЕСТАНТ С ПОДБИТЫМ ГЛАЗОМ
Кто вчера горбушку…?
ТЕМИРОВ
Вот, дошли досюда.
(Показывает и, начиная с этого места, раздаёт по кругу одни горбушки.)
Так… так…
Очередь дошла до Прянчикова, тот протягивает руку.
Погодите, сударь.
(Минует его.)
Круг один пропустите, вы новичок.
(Окончив горбушки, раздаёт серединки.)
Тут традиция…
ПРЯНЧИКОВ
(горестно)
Не получу?
ТЕМИРОВ
Получите, однако ж
…мякиш.
(Вручает ему последнюю пайку.)
Все уже занялись хлебом. Одни пилят его ниткой на кусочки, другие отщипывают, третьи отгрызают маленькими укусами, четвёртые уже доедают, остервенело жуя.
КУЛЫБЫШЕВ
(ворчит, как бы про себя)
Арестанту четыреста пятьдесят грамм на день,
Куда хошь, туда их и день.
ВЖЕСНИК
Пейте воду! Пейте воду!
ТЕМИРОВ
Кипятка ведро
Сто грамм масла заменяет по новейшим теориям.
ЕЛЕШЕВ
Говорят, доклад был на Политбюро.
Высочайше одобрен.
МОСТОВЩИКОВ
Из какого же расчёта?
ХОЛУДЕНЕВ
По калориям:
Ведь вода-то горяча, а масло холодно.
КЛИМОВ
Сильно!
ДИВНИЧ
(выступая на середину)
Господа! А у меня такое предложение:
Сахар — не делить!
Наши скудные крупиночки сегодня, в день рожденья,
Льву Григорьевичу подарить!
Смешанный шум. Подходят поздравлять. и ропот.
АРЕСТАНТ С ПОДБИТЫМ ГЛАЗОМ
Пайку кровную дарить?
ПЕЧКУРОВ
Такого нет закону.
ВЖЕСНИК
Тут самим жрать нечего.
Отпадает кормушка.
6-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
(в неё)
На «му»!
ДИВНИЧ
(решительно)
Нету!
6-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
(недоверчиво)
Нету?
(Медленно закрывает кормушку.)
РУБИН
(встал)
Я благодарю, товарищи, я очень тронут,
Но, конечно, сахара я не возьму.
ЕЛЕШЕВ
(Дивничу)
Есть же М-едников, М-остовщиков, а вы нас ставите
В положение… зачем их раздражать?
ДИВНИЧ
(ему никак не удаётся начать речь)
Психология раба! Пусть разбираются в алфавите,
Если русскими себя осмелились назвать!
МЕДНИКОВ
(приподнялся, торопливо ест пайку)
Спать ушёл ночной, пытать пришёл дневной…
Ох, ребята, чувствую — за мной.
ДИВНИЧ
Господа! Пора подняться нам
От корысти мелочной…
Отпадает кормушка.
6-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
Так кто на «ам»?
ДИВНИЧ
(резко)
Буквы нет такой!.. Подняться до сознания,
Что подачка эта, эти крохи, эти восемь грамм…
Кормушка закрывается.
Нам не осластят существования.
Нас свели до нужд биологических.
Нас лишили даже званья политических,
Чем единственно гордиться можем мы в тюрьме.
Званье это освятили долгие века.
Званья этого, друзья, не отдадим ЧК!
Отпадает кормушка.
6-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
Кто на «ме», я спрашиваю? Кто на «ме»?
МЕДНИКОВ
Медников.
6-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
Так что тут крутите? Слегка…
Захлопывает кормушку. Медников подходит к двери. Хальберау, пожав плечами, опять ссыпает сахар вместе и выносит на шинель, где делился хлеб.
РУБИН
(всем)
Глубоко признателен. Беру. Но раз уж сахар мой,
(зачерпывает понемногу кипятка в две банки, сыпет туда сахар, мешает палочкой-приколкой хлеба)
В двух… бокалах размешаю и один бокал
Дам тому, кто шесть ночей не спал,
(передаёт Медникову)
А другой — пущу по круговой.
(Мешает.)
ГОЛОСА
— Правильно!
— Вот это понимаю!
— Браво!
РУБИН
(отпив)
Не вода — напиток небожителей. Нектар!
МЕДНИКОВ
(жадно пьёт)
Ну, спасибо, братцы. Ах и сладко! Право,
Сразу покрепчал я. А в башке уга-ар!..
РУБИН
(хлопает его по плечу)
Твёрже, Вася! Пусть твоё сознанье не определяет битие…
Банка — по кругу. Гремит, открываясь, дверь.
6-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
Выходи!
Медников, взяв руки назад, выходит. Надзиратель смотрит в список.
А кто на «е»?
ЕЛЕШЕВ
(испуганно)
Елешев…
6-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
С вещами!
ЕЛЕШЕВ
Мне? С вещами?!
Дверь захлопывается.
Ну, пропал. Ну, всё. Ну, всё…
ТЕМИРОВ
(Прянчикову)
Каждый день берут из камеры утрами.
Кто на трибунал. Кто на ОСО.
ПРЯНЧИКОВ
На… куда?
ХОЛУДЕНЕВ
На Совещание ОСОбое. Вот если нет улик,
Ни свидетелей, ни фактов, дело несуразно…
ЕЛЕШЕВ
(нервно собираясь)
Сколько могут дать? Ведь я уже старик…
ТЕМИРОВ
В сорок лет? Стыдитесь!
ХОЛУДЕНЕВ
Так суют заглазно.
ПРЯНЧИКОВ
Как? Заочно?!
XОЛУДЕНЕВ
Миллионы едут из Европы. Чтобы поскорее
Провернуть их, — быстренькая лотерея,
Но без проигрыша! На любом билете…
ПРЯНЧИКОВ
(берётся за голову)
Бред!
ХОЛУДЕНЕВ
…Распишитесь. Десять лет. Привет!
Гремит отпираемая дверь. Елешев уже собрался. Он судорожно запихивает в мешок недоеденную пайку, поспешно обнимается с товарищами, иным только жмёт руку.
ЕЛЕШЕВ
Ну, друзья!.. Ну, братцы!.. Лихом не вспомяньте!..
Был не прав… обидел я…
ДИВНИЧ
Ни пуха ни пера!
Тех друзей, с кем вместе на баланде,
Помоги нам встретить, лучшая пора!
(Целует его.)
Елешев волочит мешок к двери, только теперь растворяемой. Все стоят полукругом, провожая его, но в дверь заходит новичок, надзиратель машет Елешеву пока остаться. Дверь запирается. Новичок — Болоснин, высок, очень худ, очень бледен, одет по-военному, но не сразу понятно в форму чьей армии. В руке он держит маленький узелочек, это и все его вещи. Выпрямившись, с какой-то дикой торжественностью, Болоснин смотрит на всех.
ГОЛОСА
— Новичок…
— Откуда?..
— Вы не с воли?..
ЕЛЕШЕВ
Там амнистия, не слышали?..
ГОЛОСА
— Молчит.
— Не русский, что ли?..
— Шпрехен зи…?
— Парле ву…?
— Ду ю спик…?
Болоснин с улыбкой счастливого изнеможения откидывается головой к стене. Он говорит медленно, со слабостью, которая потом проходит, и явно наслаждаясь блаженством речи.
БОЛОСНИН
Вы… Не все… Вы… я… отвык
От такого общества блистательного, братцы!
Двадцать суток… двадцать суток… карцер…
И ещё… шестнадцать… одиночки…
Кто курить желает — в этом узелочке…
Слегка выставляет руку с узелочком из носового платка. Арестант с подбитым глазом живо подхватывает узелок, с ним — Вжесник и Печкуров. Начинается свёртывание нескольких папирос. Жестами идут по камере переговоры о количестве и кто с кем курит.
Тридцать лет я прожил — никогда не думал,
Что такое счастье — быть с людьми…
ЕЛЕШЕВ
(изнемогая)
Там… — амнистия…? не слышали?
КТО-ТО
Из трюма
Человек! из карцера, пойми!
Климов на авансцене стоит на коленях. Нарвав из телогрейки ваты, он свернул жгут. С приёмами мастера начинает быстро катать жгут досочкой по полу. Болоснин следит за ним с задумчиво-зачарованной улыбкой.
БОЛОСНИН
Древний способ добывания огня…
Две дощечки… трут…
ЕЛЕШЕВ
Успокойте, успокойте вы меня!
Ведь меня там ждут!..
ТЕМИРОВ
Да не знает он.
БОЛОСНИН
(равнодушно)
Как раз… я знаю.
РУБИН
(напрягаясь)
Знаете? Вы шутите?
БОЛОСНИН
(очень спокойно)
Была бы слишком злая
Шутка.
РУБИН
Есть?!
ЕЛЕШЕВ
Амнистия!!
ХОЛУДЕНЕВ
Не может быть!?
ДАВЫДОВ
Ура-а-а!
БОЛОСНИН
(медленно)
Я у следователя по радио сам слышал в кабинете.
Все сгрудились, жадно слушают.
В честь победы над Германией амнистия объявлена вчера,
Небывалая ещё на свете.
ДАВЫДОВ
(потрясая кулаками)
Я же говорил! Я говорил!
ЕЛЕШЕВ
(убеждая всех сразу)
Все эти приговоры
Для острастки!
РУБИН
Ведь победа же в масштабах мира!
БОЛОСНИН
Независимо от срока амнистированы: воры,
Спекулянты, жулики, бандиты, дезертиры,
Расхитители гражданские, военные, обмер, обвес,
Малолетних девочек растление, —
Словом, весь
Цвет советской нации.
Не помилованы только: бывшие военнопленные,
Начинают расходиться в молчании.
Только мужички, кто был под оккупацией,
Только кто при немцах с фабрик не ушёл,
Да учители, кто не бросали школ,
(теряя сдержанность, голос Болоснина начинает звенеть)
Только кто на поле боя сворой генералов продан.
Только кто в Германию насильно угнан.
Только кто не так оструган,
Думает не так, кому не так взглянулось, —
Так что, кроме разве русского народа,
Остальных — всемилостивейше коснулась
Сталинская длань.
ДАВЫДОВ
(ликуя)
Я свободен! Я помилован!!
КЛИМОВ
Хапужеская рвань!
Ну, скачите, ну, кричите «гип»!
ЕЛЕШЕВ
Всё пропало. Боже! Я погиб…
(Опускается на свой мешок.)
МОСТОВЩИКОВ
Небывалая, действительно…
ХОЛУДЕНЕВ
По-сталинскому глумный
Манифестик.
ГАЙ
А кричат, наверно, до надседу.
ВОРОТЫНЦЕВ
Чья победа? и над кем? Народ, народ безумный!
Над самим собой твоя победа…
Все неподвижны. Только в безшумно раскрывшуюся дверь уходит с мешком понурый Елешев.
ВОРОТЫНЦЕВ. Будем знакомы (представляется no-военному). Полковник русской императорской армии Воротынцев!
БОЛОСНИН (так же). Поручик Русской Освободительной Армии Болоснин!
(Рукопожатие.)
По мере того как Воротынцев называет, арестанты проходят мимо Болоснина и знакомятся с ним.
ВОРОТЫНЦЕВ
— Капитан Красной армии Холуденев!
— Солдат американской армии Климов!
— Капитан королевской югославской армии Темиров!
— Оберлёйтнант Вермахта Хальберау!
— Подпоручник Войска Польского Вжесник!
— Капрал итальянской армии Фьяченте!
— Борец бельгийского движения Сопротивления Прянчиков!
— Профессор Мостовщиков!
— Кузьма Кулыбышев, председатель колхоза «Ивана Сусанина»…
КАРТИНА 3
Попеременно — четыре следственных кабинета, доточно одинаковых по величине, по расположению двери и обрешеченного окна, столов следователя и подследственного, портретов Сталина. Комнаты сменяются при полном выключении света, под мотив «сталинской мельницы».
Мотив сталинской мельницы. Свет.
На сцене Мымра и Климов.
МЫМРА. Вопрос второй. В каком звании вы были и какую должность занимали к моменту сдачи в плен?
КЛИМОВ. Сержант. Командир стрелкового отделения.
МЫМРА (записывая). …стрелкового отделения. Вопрос третий. (Совершенно без выражения.) Какую цель вы имели, сдаваясь в плен? Почему вы не застрелились?
КЛИМОВ. Сильно! А вы бы застрелились?
МЫМРА (так же безстрастно). Подследственный Климов, вы здесь находитесь для того, чтобы отвечать, а не спрашивать. За нежелание отвечать на вопросы вы будете водворены в карцер. Мы лично готовы умереть за нашего вождя. Вопрос третий. Какую цель вы имели, сдаваясь в плен? Почему вы не застрелились?
КЛИМОВ. Я ждал — командир дивизии сперва застрелится. А он из окружения улетел на самолёте в Москву и там повышение получил.
МЫМРА (записывая). Ответ. Я сдался в плен, имея цель изменить социалистической Родине…
КЛИМОВ. Ну-ну, и так можно…
Свет гаснет. Мотив сталинской мельницы. Свет.
На сцене Свербёжников и Печкуров.
СВЕРБЁЖНИКОВ. Вопрос второй. В каком звании вы были и какую должность занимали к моменту сдачи в плен?
ПЕЧКУРОВ. Какое звание! Я — Иван. Бронебойку таскал. Первым номером.
СВЕРБЁЖНИКОВ (вскакивает). Ты не прикидывайся, сволочь! Советскому следствию всё известно! Я под тобой на три аршина в землю вижу! Командир отделения? Треугольники снял?
ПЕЧКУРОВ. Не-е, секелей не было.
СВЕРБЁЖНИКОВ. Плохо служил! Как волка ни корми, он в лес смотрит. Из кулацких сынков?
ПЕЧКУРОВ. и отец батрак, и дед батрак.
СВЕРБЁЖНИКОВ. Советскому следствию всё известно! (Садится, записывает.) Вопрос третий. Какую цель вы имели, сдаваясь в плен? Почему вы не застрелились?
ПЕЧКУРОВ. А вы бронебойку видали когда? Как из ей стреляться-то?
СВЕРБЁЖНИКОВ (кипятясь). Да ты начинаешь наглеть, вражина? Оружия не было? У советской власти не было оружия?
ПЕЧКУРОВ. У советской власти — не знаю, а я бронебойку неделю без патронов таскал.
СВЕРБЁЖНИКОВ (вскакивая). Ух ты, гад! Ух ты, гадина!! Кр-ровью расплатишься за клевету!! Найдём для тебя патрон, выпишем девять грамм дырку во лбу просверлить! (Возвращается к столу, читает с другого листа.) «Я сдался в плен, имея цель изменить социалистической Родине», — вот как надо отвечать!
Свет гаснет. Мотив сталинской мельницы. Свет. На сцене Неключимов и Кулыбышев.
НЕКЛЮЧИМОВ. Вопрос второй. В каком звании вы были и какую должность занимали к моменту сдачи в плен?
КУЛЫБЫШЕВ
В штрафной-то роте? А так, для числа.
На конюшне служил за козла.
НЕКЛЮЧИМОВ (смеётся). Вот старик!.. Но писать-то надо.
КУЛЫБЫШЕВ
А требуют звание —
Пиши: председатель колхоза «Ивана Сусанина».
НЕКЛЮЧИМОВ. Сусанина? Погоди-погоди. Ты сам — откуда, сказал?
КУЛЫБЫШЕВ
Как я те отвечу?
За Костромой невдалече.
НЕКЛЮЧИМОВ. Вот оно что! Так Иван Сусанин тебе земляк?
КУЛЫБЫШЕВ
И ты его зна’шь? Во, люди пронырливы каки!
Иван, Михайло, Фёдор и Глеб — все земляки.
Да’ть только вишь, что неудобно, — они кулаки.
НЕКЛЮЧИМОВ. То есть как?
КУЛЫБЫШЕВ
Очень просто, как! —
При царе им пенсию платили, будешь кулак.
НЕКЛЮЧИМОВ. Пенсию?
КУЛЫБЫШЕВ
Да. Чем-то угодили, скажи!
Вот. А в тридцатом их раскулачили, сослали в тайгу,
Шесть лет про них ни гу-гу,
Мы свой колхоз сгоряча
Назови — «Путь Ильича», —
А в тридцать шестым бумажка:
де, ваш почётный односельчанин,
Переименовать в «Иван Сусанин».
Во время его рассказа Неключимов достал из своего стола тарелку с бутербродами.
НЕКЛЮЧИМОВ. Ах, Егорыч, хорош ты человек! Нелёгкая тебя угораздила в плен попасть. На вот, покушай.
Кулыбышев берёт бутерброд, нюхает, кладёт обратно на тарелку.
Что не ешь? Неужели не голоден?
КУЛЫБЫШЕВ. Почему…
НЕКЛЮЧИМОВ. Так ешь! Ешь, сколько влезет! В камеру я дать тебе не могу, а здесь ешь! (Пристально вглядывается в Кулыбышева.) Подожди-подожди, ты почему нe ешь?
КУЛЫБЫШЕВ
Да’ть вот… и вас… не хочу обидеть, право…
А может — отрава?
НЕКЛЮЧИМОВ (задетый). Кузьма, Кузьма! Неужели я похож на отравителя? (Смотрится в отворенную оконнyю раму, как в зеркало.) А что? Пожалуй… Ну, давай, какой тебя смущает, я съем.
Кулыбышев показывает бутерброд. Неключимов ест и идёт к своему столу. Кулыбышев тоже начинает есть.
Так прошлый раз ты рассказал… О переправе штрафной роты на брёвнах через Днепр. Как тонули убитые и живые, а кучка вас переправилась под крутой берег, но взяты были в плен… Так вот, вопрос третий: какую цель вы имели, сдаваясь в плен? Почему вы не застрелились?
Кулыбышев уплетает бутерброды. Неключимов пишет:
Ответ. Я сдался в плен, имея цель изменить социалистической Родине.
Свет гаснет. Мотив мельницы. Свет.
На сцене Капустин и сержант.
КАПУСТИН (сержанту). Ну, гони по списку, да побыстрей. Пока один здесь, а ты следующего из бокса. Так у нас и пойдёт.
Сержант уходит. Капустин распахивает окно.
Э-эх, погодка, мать твоя родина!.. На речку с удочкой да заночевать. Так поляки подстрелят, пожалуй… Да куда к чёрту, и под воскресенье не вырвешься. Говорят, даже в тридцать седьмом году такой загрузки не было.
Входит Сидоров, похожий на фабричного. У него исподлобный взгляд.
(Через зевоту.)
Фамилие-имя-отчество?
СИДОРОВ. Сидоров Митрофан Поликарпович.
КАПУСТИН. Год рождения?
СИДОРОВ. Я неграмотный, господин начальник.
КАПУСТИН. Какой тебе господин? (Роясь в бумагах.) Господ с революции нет, не знаешь? Восемьсот девяносто пятого, что ли?
СИДОРОВ. Пишусь так.
КАПУСТИН (с жестом). Садитесь. (Скороговоркой.) «Постановлением ОСО НКВД от пятнадцатого шестого сорок пятого Сидорова Митрофана Поликарповича, 1895 года рождения, за измену родине подвергнуть заключению в исправительно-трудовых лагерях сроком на десять лет». Распишитесь.
СИДОРОВ (вставая с кончика стула). Гражданин майор! Силком немец угнал. За что?..
КАПУСТИН. Я же вам прочёл — за измену родине. Расписывайтесь. Вот тут.
СИДОРОВ. Десять лет. Вот это так… Да что подсуваешь?.. Я неграмотный, сказал.
КАПУСТИН. Ну, крест поставьте.
СИДОРОВ. Не именно я. Ты и ставь.
КАПУСТИН (пишет). За неграмотного…
СИДОРОВ. Звезду пятиконечную…
КАПУСТИН. Ну, поговори у меня! Ты, я вижу, шибко грамотный! Алё! Следующий!
Сержант впускает Елешева.
Фамилие-имя-отчество-год рождения?
Сидоров нехотя уходит, оглядываясь. Сержант торопит его.
ЕЛЕШЕВ. Я — московский архитектор, довольно известный, ученик Щусева…
КАПУСТИН. Как? Щуков?
ЕЛЕШЕВ. Моя? Нет, Елешев, Анатолий Николаевич. Я строил… (Садится.)
КАПУСТИН. Год рождения?
ЕЛЕШЕВ. Мой?
КАПУСТИН. Да свой-то я знаю.
ЕЛЕШЕВ. Мне сорок лет. С девятьсот четвёртого. Если вам приходилось бывать, вы, может, видели моё здание…
КАПУСТИН. Садитесь. (Читает скороговоркой.) «Постановлением ОСО НКВД от пятнадцатого шестого сорок пятого бывшего военнослужащего младшего лейтенанта Красной армии Елешева Анатолия Николаевича, 1904 года рождения, за измену родине подвергнуть заключению в исправтрудлагерях сроком на десять лет». Распишитесь.
ЕЛЕШЕВ. Позвольте! С точки зрения юриспруденции…
КАПУСТИН. Об этом вы напишете из лагеря. Распишитесь. Вот тут.
ЕЛЕШЕВ. Выслушайте меня, умоляю вас! Я уступил на следствии, но ждал суда, чтобы в процессе судоговорения…
КАПУСТИН. Вот на говорение у нас как раз не остаётся времени. Расписывайтесь.
ЕЛЕШЕВ. Не стану я расписываться! Это чудовищно! Кто меня судит? Где суд? Вы — суд?
КАПУСТИН. Я вам кажется прочёл ясно: Особое Совещание.
ЕЛЕШЕВ. Но где оно?
КАПУСТИН. В Москве.
ЕЛЕШЕВ. Как же оно может меня судить, если оно меня в глаза не видело?!
КАПУСТИН. Заключённый Елешев! Этого… не я буду вам объяснять! Распишитесь!
ЕЛЕШЕВ (горячо). В материалах следствия нет ничего от истины! Это какой-то фантастический роман! Следователь писал всё, что вздумается, и вынуждал мою подпись под угрозой цементного карцера и расправы с семьёй!
КАПУСТИН. Ах вот как! Вы ещё клевещете на советское следствие? на Органы госбезопасности? Вам мало дали?
ЕЛЕШЕВ. Нет, что вы!.. Но — приговор…
КАПУСТИН. Это не приговор. Это — постановление. Распишитесь только в том, что вы его читали.
ЕЛЕШЕВ (с живостью). Я не читал!
КАПУСТИН. Так так и скажите! Нате, читайте, шут с вами! (Швыряет ему постановление. Закуривает.) Да побыстрей. Ну?..
ЕЛЕШЕВ (прочтя). Десять лет! Боже мой! Я попал в плен тридцати шести лет от роду. Я выйду из лагеря пятидесятилетним стариком. За что? За то, что в сорок первом году офицеры блукали, как слепые щенята, — без карт, без компаса, без пистолета?
КАПУСТИН (скороговоркой). Вы должны были умереть на поле боя. Расписывайтесь.
ЕЛЕШЕВ. Нет!! Это чудовищно!!
КАПУСТИН. Смотрите, не пришлось бы вам раскаиваться. (Берёт перо.) Та-ак… Отказался от подписи и высказывал…
ЕЛЕШЕВ. Нет! Я ничего не высказывал! Я не отказался!
КАПУСТИН. Так расписывайтесь, чёрт вас побери, вы у меня десять минут…!
ЕЛЕШЕВ. Что я действительно прочёл?
КАПУСТИН. Ну да, да, да!
ЕЛЕШЕВ. А это не будет значить, что я согласен с правильностью приговора или что я признаю себя виновным?
КАПУСТИН. Нет, нет, конечно нет.
ЕЛЕШЕВ. Скажите, а… амнистия?
КАПУСТИН. Конечно, конечно будет амнистия.
ЕЛЕШЕВ (робко). Уже была…?
КАПУСТИН. и была, и вторая будет, всех распустят.
ЕЛЕШЕВ. Ну, вы меня успокоили. (Подписывает. Как король, отрекшийся от престола, в изнеможении роняет перо.) Боже мой! Цена человеческой личности!..
КАПУСТИН. Алё! Следующий!
На пороге, со снятой меховой шапчёнкой — Пахомов, маленький мужичок лубочной наружности.
Фамилие-имя-отчество?
ЕЛЕШЕВ (не вставая от стола). В камерах бумаги для жалоб и заявлений не дают, а если дают, то какой-то клочок промокательной бумажки, на котором даже расписаться негде. Я прошу вас дать мне возможность тут же, не выходя из кабинета, написать кассацию по моему делу.
КАПУСТИН (нетерпеливо подзывая Пахомова). Не положено! (Пахомову.) Фамилие-имя-отчество?
ЕЛЕШЕВ. Как не положено? А что же положено?
СЕРЖАНТ (срывает его за плечи со стула, выталкивает). Тебе положено, что в котёл заложено! Иди!
ПАХОМОВ (кланяясь). Пахомов Фёдор Никишин.
КАПУСТИН (в раздражении). Год рождения?
ПАХОМОВ. Девятьсот первый.
КАПУСТИН. Распишитесь! (Пахомов расписывается.) Идите! (Пахомов отходит.) Алё, следующий! Алё! Вы! Я вам прочёл или нет?
ПАХОМОВ. Чего это?
КАПУСТИН. Ат, дурной! В чём же ты расписался? Идите сюда, садитесь. «Постановлением ОСО НКВД от пятнадцатого шестого сорок пятого Пахомова Фёдора Никитича за измену родине, подготовку вооружённого восстания, работу на врага, связь с мировой буржуазией, а также за связи, ведущие к подозрению в шпионаже, — подвергнуть заключению в исправительно-трудовых лагерях сроком на десять лет». Распишитесь.
Пахомов берёт перо.
Ку-да второй раз? (Отбирает перо.) Ясно всё?
ПАХОМОВ (глядя с завистью на окурок в губах майора). Нельзя ли докурить, гражданин начальник?
Капустин передаёт окурок.
(Низко кланяется.) Дай Бог здоровья, гражданин начальник! (Пятясь и кланяясь, затягивается.)
КАПУСТИН. На, на, папаша. (Поспешно достаёт и даёт ему еще пару папирос.)
Пахомов кланяется.
Алё, следующий!
Свет гаснет. Мотив мельницы. Свет.
На сцене Мымра и Климов.
МЫМРА. Вопрос шестой. От кого вы получили задание на развёртывание шпионской деятельности в Советском Союзе?
КЛИМОВ. Это что-то новое. Я шпионской школы не кончал.
МЫМРА (равномерным голосом). Не пытайтесь запутать следствие. Ведь вы служили с 44-го года в американской армии?
КЛИМОВ. У союзников. Да.
МЫМРА. Это не важно, что у союзников. Так неужели вас не завербовали?
КЛИМОВ. Как? Значит, если я только служил…?
МЫМРА. Хорошо. Как американский военнослужащий вы могли получить паспорт в Соединённые Штаты, или в Канаду, или…
КЛИМОВ. Куда угодно.
МЫМРА. Вот вы и запутались. Чем же вы в таком случае объясняете своё добровольное возвращение на родину?
КЛИМОВ. Чем… объясняю… своё добровольное…?
МЫМРА (кивает злорадно, пишет). Ответ. Смешавшись… Я показал неправду. Я получил задание от американской разведки.
Свет гаснет. Мотив мельницы. Свет.
На сцене Свербёжников и Печкуров.
СВЕРБЁЖНИКОВ (пишет). Ответ. Я получил задание от американской разведки.
ПЕЧКУРОВ. Гражданин следователь! Да я американцев в глаза не видел. Меня — наши освободили.
СВЕРБЁЖНИКОВ. Кто это наши? Кто это ваши? Ваши в красноярской тайге на четырёх лапах бегают.
Пауза.
Ну, хорошо, от американской разведки, скажем, через офицера немецкой службы… как его звали?
ПЕЧКУРОВ. Кого?
СВЕРБЁЖНИКОВ (пишет). Рихарда Байера. (Потирает руки.) Вот и готов протокольчик! (Разбирая бумаги, напевает.)
«И тот, кто с песней по жизни шагает…»
Как там тебе — жратвы хватает?
ПЕЧКУРОВ. Где же хватит? Хлеба во кусочек, да баланды две банки в день неполных…
СВЕРБЁЖНИКОВ (несёт к столу Печкурова лист протокола и обмакнутое перо). Выпишу тебе дополнительное — кашу будешь получать и сто грамм хлеба. На, подпишись.
ПЕЧКУРОВ. Не буду. Наскрозь брехня.
СВЕРБЁЖНИКОВ. Ух ты, падло. Кто тебя научил так отвечать?
ПЕЧКУРОВ. Я теперь сам учёный.
СВЕРБЁЖНИКОВ. Нет, ты ещё не учёный. Ты ещё на стального ежа не садился. (Постепенно наступая.) Ты ещё пшеницу отварную жрёшь, ночи спокойно спишь. Я тебе ещё божьего дара в яичницу не давил. А хочешь?
ПЕЧКУРОВ (понурясь). Мне, начальник, так подыхать и так подыхать. Надоела эта волынка. Жить я больше не хочу.
СВЕРБЁЖНИКОВ (останавливаясь, поражённый). Дерьмо собачье, — как не хочешь?
ПЕЧКУРОВ (мирно). А так. Вы вот на тёпленьком месте сидите, по бабам клюёте, вам жить хочется, — и всем, думаете, хочется? Нет. Пять лет я промучился, ещё десятку получу — зачем мне жить?
СВЕРБЁЖНИКОВ (растерянно). Гм. Психология упадочничества. Ну как ты можешь не хотеть жить? (Оживляясь.) Это не твой голосок! Советскому следствию всё известно! Рано я тебя из одиночки взял. Не хотел, но придётся твоих старичков из Смоленской в Сибирь шурануть…
Свет гаснет. Мотив мельницы, прерываемый, как если б что заело.
Свет.
На сцене Неключимов и Кулыбышев.
НЕКЛЮЧИМОВ. Вопрос шестой. От кого вы получили задание на развёртывание шпионской деятельности в Советском Союзе? А? Старик, а? (Смеётся.) От кого получал задание? (Смеётся громче.)
Кулыбышев вторит ему. Смех разрастается.
А? Резидент?
Смеются.
Ответ. Я был завербован американской разведкой. Что не ешь? Доедай.
КУЛЫБЫШЕВ
Наелся как бык,
Не знаю, как быть…
Дай Бог отлежаться,
Никогда так не буду наедаться.
НЕКЛЮЧИМОВ. Ты всё шутишь. Всё бы ты шутил. Весёлый у тебя нрав.
КУЛЫБЫШЕВ
Да ка’б на хмель не мороз,
Он бы тын перерос.
НЕКЛЮЧИМОВ (интимно пересаживаясь поближе к Кулыбышеву). Ладно, Кузьма Егорыч, всё это в сторону, расскажи-ка мне лучше, как тебе у бауэра в работниках жилось?
КУЛЫБЫШЕВ
И-и, милый, где через край льётся,
Там и живётся.
Эт’ название — бауэры, вроде бы мужики,
А в подвалы к ним сойди, а залезь-ка на чердаки!
От лета до лета яблоки лежат во-каки!
Винограду этого, этого вина…
И мне литруху в день, хошь-не хошь, пей! на!
Сам рассуди: что за деревня,
если в два этажа кирпичные дома?
Очнёшься на перине — тужишь: попал в рабство Кузьма.
Птицы, скота всякого на дворе…
Как старики говорили — хоть в Орде, да в добре.
Погнали за Рейн на окопы —
к американцам попал. Рус! рус!
Огляделся и там, — вошёл во вкус.
Хлёстко немцы живут, ну, американцы хлеще,
Дороги у них люди, нипочём у них вещи.
Но русский человек, видно, дурным словом околдован:
И все кузни обойдёт, а воротится некован.
По родным, вишь, истомились. Так увидим их, неш’?
Манят «козанька, козанька!»,
а приманят, — «волк тебя съешь!».
НЕКЛЮЧИМОВ. Вот видишь, старик, вот видишь, — это ты мне — мне! — следователю государственной безопасности! А пусти тебя в костромскую сторонушку? — что ты там расскажешь? Кто захочет после твоих рассказов в колхозах работать? Ну, скажи по-честному, ведь верно?
КУЛЫБЫШЕВ. Да оно конечно…
НЕКЛЮЧИМОВ. Вот какие дела, сам понимай. Выпускать тебя, старик, нельзя! Не за то тебя сажают, виновен ты там, не виновен, изменил ты, не изменил, — ты видел, понимаешь? видел! А что тут напишут в протоколе — разницы нет. (Пауза.) Вот и выбирай. Подпишешь сейчас — поедешь в лагерь, будешь работать, пайку получать кило, — смотришь и дотянул десятку, и вернулся к старухе. А не подпишешь — мне выговор, да у меня уж их хватает, я привык, а тебя передадут другому следователю, заморят тебя в карцере, да на трёхсотке, да без горячего, — на четвереньках приползёшь: дайте протокол, подпишусь!.. Так пожалей ты сам себя, (несёт ему протокол и ручку) царапай, старик, царапай. «Я был завербован американской разведкой».
Кулыбышев трёт голову. Подписывает, шевеля губами.
Свет гаснет. Мотив мельницы. Свет.
КАРТИНА 4
Та же камера. День. Кусочек яркого неба над намордником слепыша. Общее освещение серое. Кончается «обед»: выпили жижу из «тушёночных» консервных банок и теперь едят зерно — ложек нет, и кто стряхивает его из опрокинутой банки в рот, кто выбирает пальцами. Особой методичностью в поедании зерна выделяется Хальберау, который невозмутимо занят едой до самого конца картины.
Ещё занавес не полностью раздвинут, а уже несётся ожесточённый спор, отвлекающий арестантов даже от драгоценного обеда. Спорят не просто с азартом, но с душевной болью. Кроме отмеченных реплик, следующих со стремительностью стрельбы, — ещё и гудят друг с другом. Обороняясь от всех, как загнанный волк, Рубин сидит в углу, механически пытается есть. Но ему не до еды.
Из-за спора остаётся незамеченным впуск в дверь Болоснина. Он порывается сперва поделиться впечатлениями, потом вслушивается в спор и разъяряется.
Сначала все сидят, потом постепенно встают и вскакивают, и только немец и итальянец снизу наблюдают поражённо русский спор.
ПЕЧКУРОВ. Да Лев Григорьич, вы в колхозе отродясь не были!
РУБИН. Был!
ТЕМИРОВ. В качестве корреспондента?
КЛИМОВ (подходя к Рубину всё ближе). Что вы думали? Нет, что вы думали, когда уничтожали крестьян?
РУБИН (кому-то другому). Зато у нас метро — лучшее в мире!
ТЕМИРОВ. Показуха! Во всём показуха, «подпорки деревянные, железные мосты»!
ДИВНИЧ. Да советские люди нищие! В Европу приедут — готовы с прилавка стащить!
ПЕЧКУРОВ. Что получает на трудодень колхозник? На трудодень?
РУБИН. Значит, организация труда плохая!
ПЕЧКУРОВ (кричит). На фуя мне ваша организация? Вы мне землю дайте, я без вашей организации!..
ДИВНИЧ (наступает). У вас разруха! себестоимость безумная! магазины пустые!..
РУБИН. Жизнь только стала налаживаться, война помешала!
КУЛЫБЫШЕВ. Вали волку на холку! Война!
КЛИМОВ. Где налаживаться? В тридцать девятом по всей стране за хлебом тысячные очередя — тоже война помешала?
ГАЙ. Вы зачем Украину голодом задушили? Тоже война?
РУБИН. Вы сами себя задушили! Хлеб по ямам гноили!
ГАЙ. Да не сеяли!
РУБИН. Так надо было сеять!
ГАЙ. Для кого?! А блокаду зачем делали? (Кричит камере.) Тише! Друзья! Кто знает блокаду на Украине в тридцать первом году? Приходит в дом комсомольский пост и не даёт воды набрать из собственного колодца! Скотина непоенная подохла! Сестрёнка маленькая умерла!
ДИВНИЧ. В двадцатом веке вернулись к рабскому труду!
РУБИН. Я не могу всем сразу отвечать! Дайте мне сказать! (Вырывается на середину камеры, говорит во все стороны, ибо кругом враги.) Какая страна нам досталась в наследство?!..
ВОРОТЫНЦЕВ (встаёт). А какая?
БОЛОСНИН (от двери, яростно). Так надо было клопов сперва уничтожить, а потом революцию делать!
РУБИН (мечась серединою камеры). Безумные люди! Когда — потом? Когда — потом? Десять тысяч лет насчитывает человеческая история, и никогда в ней не было справедливости!! Рабы, доведенные до отчаяния, поднимались за Спартаком и Уотом Тайлером, в медных бунтах или в соляных, то штурмом Бастилии, то в коммунах Мюнстера и Парижа. Чаще они погибали, ещё не выпрямясь с колен, редко дотягивались до власти, ещё реже удерживали её, — но никогда им не удавалось воплотить великую мечту о земной справедливости! Потому что были слишком доверчивы ко вчерашним угнетателям! слишком милосердны к своим врагам! Потому что с сомнением и робостью они вступали на путь террора и диктатуры. и вот, когда наконец впервые за много тысяч лет выбилась и вызрела непобедимая наука революции! когда выработана неуклонная тактика диктатуры! когда учтены все ошибки всех революций истории и эта тактика впервые победила! когда новый мир, вырастающий на десятки столетий…
ДИВНИЧ. …на миллионах костей…
РУБИН. …прожил ничтожный для себя отрезок в двадцать пять лет…
БОЛОСНИН. …пол человеческой жизни!..
РУБИН (одну ногу поставив на верхний обрез параши). …вы, несчастные, жалкие людишки, маленькую жизнь которых ущемила революция, — искажаете самое её существо, клевещете на её великое светлое шествие, обливаете помоями пурпурные ризы высочайшей мечты человечества!! Вот! (Проворно взбирается на парашу, садится как положено и, приставив руки трубочками к глазам как бинокль, озирает окружающий мир.) Вот! Вот ваша обсерватория — параша! Вот с какой точки зрения вы наблюдаете и познаёте мир!
ПРЯНЧИКОВ (как флагом колышет чьей-то рваной одеждой). Лев Григорьич! Пурпурные ризы! Ха-ха! Смешно!
БОЛОСНИН (бросается к Рубину, но его держат). Я на вас фронтом шёл не для того, чтобы в камере терпеть!!
РУБИН (соскакивая с параши). Шкура власовская! (Бросается к Болоснину, но его тоже держат.)
ТЕМИРОВ. Мало им дают по десять лет, их расстреливать, трубадуров!
ГАЙ. Кого, кого?
ТЕМИРОВ. Ну, когда в трубу дурак дует — вот это трубадур!
Кормушка отпадает. Все замолкают как обрубленные.
7-Й НАДЗИРАТЕЛЬ. На «хэ».
ХОЛУДЕНЕВ. Холуденев.
7-Й НАДЗИРАТЕЛЬ. На «дэ».
ДИВНИЧ. Дивнич.
7-Й НАДЗИРАТЕЛЬ. С вещами.
Кормушка захлопывается. Уже никто не рвётся друг к другу и никого не держат. Неподвижность.
ХОЛУДЕНЕВ (тянет). Та-а-ак… Значит, заседание продолжается.
Он и Дивнич идут собирать вещи. Все молча наблюдают за их сборами.
ДИВНИЧ (собираясь). и по десять лет дают — и всё поспорить не успеваешь.
БОЛОСНИН (пересыпая Холуденеву из кармана в карман). Там сейчас нервничать будете, покурите.
ХОЛУДЕНЕВ. Ах, не успели мы с вами поговорить! Игорь! С такой ясной головой — как вы могли вернуться в Союз? Зачем?
БОЛОСНИН. На этот вопрос вам мог бы ответить мистер Черчилль! Как я верил в англичан! Меня предупреждали, а я верил. Необъяснимо, чудовищно, но, роя могилу своей собственной империи, они обманом обезоруживали нас и — отдавали большевикам! Сотни офицеров! Десятки тысяч солдат!
Дивнич и Холуденев сносят свои мешки к двери.
БОЛОСНИН (сопровождая Холуденева). Представляете, сейчас встреча: ведут меня по двору, звенит стекло, и в окне — женщина, уцепилась за решётку: «Спасите! Убивают!» — и я узнаю в ней жену моего убитого фронтового друга. Милая, славная женщина, её тут рядом истязают, и нельзя защитить, и (жест в сторону Рубина) доказывают мне, что это всё закономерно.
ДИВНИЧ. Ну что ж, друзья, ваших песен ещё нет, споём нашу, эмигрантскую. (Обнимает за плечи двоих.)
В НЕСКОЛЬКО ГОЛОСОВ
Молись, кунак, в земле чужой. Молись, кунак, за край родной. Молись за тех, кто сердцу мил, Чтобы Господь их сохранил!Стук в дверь — прекратить пение. Но, напротив, теперь уже все, включая Рубина и Фьяченте, обнявшись за плечи, сплачиваются лицом к зрителю и поют.
Молись за то, чтобы Господь Послал нам сил всё побороть, Чтоб мы могли увидеть вновь В краю родном мир и любовь!Грохот распахиваемой двери. Безмолвные объятия и поцелуи. Дивнич и Холуденев уходят, дверь запирается, немец всё так же методично ест пшеничные зёрна. Оставшиеся теснее обнимаются за плечи.
Пускай теперь мы лишены Родной земли, родной страны, Но, верим мы, наступит час, — И солнца луч блеснёт для нас!КАРТИНА 5
Слева — летний павильон, фасад которого обращён к нам тремя окнами и крыльцом. Вывеска:
«СПЕЦТОРГ. РЕСТОРАН № 2»
Направо, вглубь сцены, — аллея. На переднем плане — две садовых скамьи, полукольцом густых кустов скрытые от аллеи и ресторана. Перед рестораном — газон с цветно-травной надписью «Слава Сталину!». Окна распахнуты, за каждым окном — сразу столик, и глубже видно оживлённое ресторанное снование, слышна весёлая музыка. По аллее в ресторан приходят и уходят офицеры контрразведки, иногда — вольнонаёмные женщины.
Солнечно. После полудня.
Сразу после открытия занавеса — общее движение, музыка, говор.
ГОЛОСА ЗА ОДНИМ ОКНОМ. Слушайте, барышня, я вам заказал шато-икем одну, и рейнского одну.
— Виновата, виновата.
— Так надо слушать.
ГОЛОСА НА АЛЛЕЕ. Вы про Мымру знаете?
— Что такое?
— Назначен начальником отделения.
— Лука Лукич его любит.
— Так он же и работает как часы. Учитесь у Мымры.
Подходят Неключимов и Филиппов.
ФИЛИППОВ. Кончал я стрелковое училище, командиром пулемётного взвода, чуть не всю войну на фронте да по госпиталям, — чудно мне в конвойных войсках, душа не лежит.
НЕКЛЮЧИМОВ. Да, каждая работа, капитан, гнёт людей по своему подобию. Ни с кем не пью, с тобой выпью. Пойдём.
ГОЛОСА ЗА ДРУГИМ ОКНОМ
1-Й офицер (2-му). Мы, рядовые следователи, — ишаки. Мы всю телегу тянем, а они ордена получают. Скажешь нет?
На аллее Капустин и два офицера.
— Так велел Лука Лукич!
Проходят.
— Товарищ майор! Политучёба будет?
— Раз понедельник — что спрашивать? В семь часов.
Проходят.
КАПУСТИН (3-му офицеру). Про ельца я тебе скажу: во-первых, он безвкусный, во-вторых, не жирный, в-третьих, озорник. А у язя…
4-Й ОФИЦЕР (навстречу им). Капустин, займи двадцать рублей!
КАПУСТИН (охлопывая карманы). Слушай, ты мне уже двадцать должен.
4-Й ОФИЦЕР. Десять.
КАПУСТИН. А не двадцать?
4-Й ОФИЦЕР. Не, не. Я взял и сразу отдал. Ещё такая помятая бумажка была.
КАПУСТИН (открывая бумажник). Сам знаешь, перед получкой. Когда отдашь?
4-Й ОФИЦЕР (вырывая бумажку). Отдам-отдам-отдам! (Быстро уходит.)
КАПУСТИН. Ползарплаты вот так расхватают… Да, так у язя…
Проходят в ресторан. За одним из окон освободился столик, сели Филиппов и Неключимов.
На аллее три машинистки и офицеры.
1-Я МАШИНИСТКА. Знаю я, и брата видела — брюки в полоску, клёш двадцать семь, примитивно.
5-Й ОФИЦЕР. А она как?
1-Я МАШИНИСТКА. Да как? — вырез углом, аппликации розовые, хлястик аж вот тут прицепила и ходит как дура.
5-Й ОФИЦЕР. Нет, я спрашиваю — с работой как? Её ж уволили, в дело записали…
1-Я МАШИНИСТКА. А-а, не спросила, не спросила.
Проходят.
За окном.
1-Й ОФИЦЕР (2-му). Ты живёшь, дышишь, ничего не знаешь, а на тебя характеристики тайные пишут. Каждый год! Он тебя с дерьмом смешает, а как ты оправдаешься? Прочесть не дадут.
На аллее Нинель и Мымра.
НИНЕЛЬ (виснет на руке у Мымры). Мымра! У вас никакой совести! Получил повышение и не хочет угостить.
МЫМРА (так же безстрастно, как ведёт допрос). Ну, пойдёмте, пирожков куплю.
НИНЕЛЬ. Мымра? Пирожков? Это вульгарно!
Навстречу им идёт Свербёжников.
СВЕРБЁЖНИКОВ. Товарищ Мымра! Поздравляю!
6-Й ОФИЦЕР. Товарищ Мымра! С новым назначением!
МЫМРА. Служу Советскому Союзу. Благодарю, товарищи.
Заходят в ресторан.
2-Я МАШИНИСТКА. Ой, жара! Ой, жара! А эта лахудра уже к Мымре прилепилась.
3-Я МАШИНИСТКА (басом). Интересно, пиво холодное есть?
Заходят.
7-Й ОФИЦЕР (8-му). Лука Лукич, думаешь, этим местом (показывает на голову) берёт? Вот этим (показывает ниже спины). Двадцать пять лет назад он начал с рядового надзирателя.
8-Й ОФИЦЕР. Тихо, тихо, вот он сам.
Охреянов ещё где-то на невидимой части аллеи, но уже вдоль аллеи все сторонятся и, по мере его подхода, приветствуют. Последними по аллее успевают пройти 1-й и 2-й оперативники. Камчужная встречает их перед крыльцом,
1-Й ОПЕРАТИВНИК. Лида, привет!
КАМЧУЖНАЯ. Алё! Ты что, выходной?
1-Й ОПЕРАТИВНИК. Нет, на работе.
КАМЧУЖНАЯ. Здесь?! (Порывисто влечёт его на скамью в центре.)
2-й оперативник садится рядом.
Мальчики! Кого? Кого?
1-Й ОПЕРАТИВНИК. Зачем тебе знать? Сейчас увидишь.
КАМЧУЖНАЯ. Мишка! Скажи! Я тоже с вами! Мне ещё ни разу не приходилось самой…
Шествие, возглавляемое Охреяновым и Кривощапом, — на подходе к крыльцу. Охреянов движется очень медленно, он несёт своё тело, как монумент. Какой-то встречный задержанный им майор оправдывается в чём-то. Движение по аллее прекращается: задние, наткнувшись на группу, прогуливаются, передние возвращаются к ресторану.
ФИЛИППОВ. А за что тебя прозвали астрономом? Ты правда астроном?
НЕКЛЮЧИМОВ. Люди всегда и везде не терпят, когда кто-нибудь на них не похож. Я когда-то хотел быть астрономом, поступил в Московский университет, но меня со второго курса по комсомольской мобилизации взяли в училище НКВД, и никак нельзя было отбиться, никак.
ОХРЕЯНОВ (перед крыльцом). Неужели я во всё должен входить сам? Идёшь к вам в хорошем настроении, а вы только портить умеете. Напишите объяснительную записку.
Майор козыряет, поспешно уходит.
(Адъютанту.)
А здесь деревья подстригают или не подстригают? Где начхоз?
АДЬЮТАНТ. В командировке, Лука Лукич.
ОХРЕЯНОВ. Объявить выговор в приказе.
АДЬЮТАНТ. Есть! (Записывает.)
ОХРЕЯНОВ (мягче). Ну что, Кривощап? Раз уж дошли — зайдём? Тут из графского погребка пузатенькие…
КРИВОЩАП. Нырнём, Лука Лукич.
Входят в ресторан. Движение по аллее восстанавливается.
За окном:
1-Й ОФИЦЕР. Кто говорил — ишаки?
2-Й ОФИЦЕР (сильно пьян). Т-ты с-сказал! и к-к-критиковал х-характеристики!..
1-Й ОФИЦЕР. Ты с ума сошёл! Как я мог это сказать? Аня, ещё бутылочку, быстро!
ГОЛОСА НА АЛЛЕЕ. Я пишущую машинку послал домой. Тысяч пять возьму?
— А шрифт русский?
— Немецкий.
— За переделку тысячу отдашь.
КАМЧУЖНАЯ (кивая на укрытую скамью). Вон там, ладно? (Медленно идёт к окну.)
2-Й ОПЕРАТИВНИК. Напрасно ты ей сказал.
1-Й ОПЕРАТИВНИК. Ничего, баба в доску.
КАМЧУЖНАЯ (снизу в окно). Астроном, ты пьёшь? Что случилось?
НЕКЛЮЧИМОВ. Капитан Камчужная! Фамилия моя Неключимов, зовут Александр Иваныч.
КАМЧУЖНАЯ (напевает). Саша! Ты помнишь наши встречи!..
НЕКЛЮЧИМОВ. Не припоминаю.
КАМЧУЖНАЯ (сорвавшимся голосом). Слушай, какой ты… ах, какой ты… (Не отходит.)
9-Й ОФИЦЕР. Я восхищаюсь вашей работой, товарищ подполковник. Вы сумели стать незаменимым специалистом.
МОРГОСЛЕПОВ. Мой отец говорил так: я буду учить тебя столько лет, чтобы не ты работы искал, а тебя работа искала.
10-Й ОФИЦЕР. и сколько же лет вы учились?
Выходят перед крыльцо.
МОРГОСЛЕПОВ. Школа семь лет, рабфак шесть лет, потом очно, потом заочно, — вы уже обедали? Я пошёл. У меня перерывы короткие. (Входит в ресторан.)
9-Й ОФИЦЕР. Это тот халтурщик! Но скажи, двух прокуроров выжил, за троих работает.
10-Й ОФИЦЕР. Да он от жадности лопнет скоро, с официантки пять копеек сдачи требует. (Отходит.)
11-Й ОФИЦЕР (указывая на него вслед, 9-му). А сам? Самому на месяц двадцать пачек папирос дают — подследственных вознаграждать, так он за одну папиросу удушится, и сам не курит — посылками домой отсылает! — брат у него дома курит! — в лоб тебя драть с таким офицером!
ФИЛИППОВ. Я своими глазами на плацдарме видел, как один сержант подбил два «мессершмита». А теперь конвоируем, смотрю — ведём его…
КАМЧУЖНАЯ. Александр Иваныч, допей и выйди на минутку, ты мне очень нужен.
НЕКЛЮЧИМОВ. Лидия Васильевна, сейчас перерыв, какие дела?
КАМЧУЖНАЯ. Саша! Так нужен! Я бы не звала…
НЕКЛЮЧИМОВ. Ну, посиди, капитан, я сейчас. (Встаёт.)
12-Й ОФИЦЕР (гуляя с 13-м перед клумбой). Одного, Юра, я не понимаю: зачем американцы выдали нам власовцев, англичане — казаков, — зачем? Какая у них цель?
13-Й ОФИЦЕР. Хочешь знать моё мнение? личное?.. Мы за это с Японией будем воевать. Это — плата. Точно!
Проходят.
1-Й ОПЕРАТИВНИК (идя со 2-м в ресторан). Лида, мы пока… (Щёлкает себя по шее в знак выпивки.)
На крыльце оперативники сталкиваются с Неключимовым.
1-Й ОПЕРАТИВНИК. Здорово, Астроном. Как звёзды? На местах?
НЕКЛЮЧИМОВ (неприязненно). Не все.
2-Й ОПЕРАТИВНИК. Падают?
НЕКЛЮЧИМОВ. У-гм.
1-Й ОПЕРАТИВНИК. Это бывает.
Входят в ресторан. Неключимов вслед за Камчужной идёт к укромной скамье. Камчужная садится лицом к ресторану, Неключимов спиной. Ресторанный оркестр играет медленный вальс.
КАМЧУЖНАЯ. Саша! Я тебе… хоть немножечко… когда-нибудь нравилась?
НЕКЛЮЧИМОВ. Неужели вы позвали меня…? (Хочет встать.)
КАМЧУЖНАЯ (удерживает его). Саша! Очень важно! Ответь!
НЕКЛЮЧИМОВ. Я ненавижу тебя!
КАМЧУЖНАЯ. За что?!
НЕКЛЮЧИМОВ. Хочешь знать? (Пауза.) За то, что в прекрасную вазу… не наливают…
КАМЧУЖНАЯ (торжествующе). Значит, всё-таки…!
НЕКЛЮЧИМОВ. Но я — женат, всё это пустые разговоры. Ты что — больна?
КАМЧУЖНАЯ. На жену ты не очень надейся. Впрочем, проверишь, какая она. Саша! Мы не увидимся больше!
НЕКЛЮЧИМОВ. Ты уезжаешь?
КАМЧУЖНАЯ. А… может быть, увидимся… Если позовёшь. Когда тебе будет плохо, очень плохо, — знай и помни: я тебя — любила!.. (Целует его, головой ему на грудь.)
1-й и 2-й оперативники выходят из ресторана, направляются в их сторону, ещё не видимые им.
НЕКЛЮЧИМОВ. О чём ты начала?
КАМЧУЖНАЯ (быстро). У тебя есть что-нибудь, что нужно уничтожить? Адреса? Записки?
НЕКЛЮЧИМОВ. Да что такое…?
КАМЧУЖНАЯ (теребит его). Милый, скорей!
НЕКЛЮЧИМОВ (мгновение думает; передаёт ей записную книжку). А что?
КАМЧУЖНАЯ (прячет у себя). А в столе? А дома?
НЕКЛЮЧИМОВ. Ничего. Всё.
Камчужная обнимает его за шею. Почти тотчас из-за куста показываются оперативники. Камчужная видит их и обращает объятья в резкий рывок за погоны обеими руками. Неключимов вскакивает, озираясь. Музыка в ресторане прервалась. 1-й оперативник на вытянутой руке показывает Неключимову бумажку.
1-Й ОПЕРАТИВНИК. Вы арестованы!!
НЕКЛЮЧИМОВ. Я-а??
Ещё пытается вчитаться в ордер, но оба оперативника уже быстро рвут с него пояс, портупею, звёздочку с фуражки, выворачивают его карманы в четыре руки. 2-й оперативник берёт всё отобранное и проходит вперёд.
1-Й ОПЕРАТИВНИК (вынимая пистолет). Кру-гом! Руки назад! Не разговаривать! Марш!
Оркестр всплескивается румбой. Так выходят на середину и сквозь сгущённую, но сторонящуюся толпу чекистов поворачивают по аллее: 2-й оперативник впереди, за ним Неключимов, потупив голову, с руками за спиной, сзади — 1-й оперативник с обнажённым пистолетом.
Столпились на крыльце, высунулись из окон, там и Филиппов с выражением ужаса. Камчужная, никому не видная за кустами, прижав к щекам погоны Неключимова, неподвижна. Румба.
КАРТИНА 6
Просторное помещение, вроде зала. Портьеры, электрический свет. В глубине — помост, на нём — большая скульптура Сталина в рост, с поднятой рукой, в форме генералиссимуса. На помосте — стол суда и трибуна прокурора, ниже — столик секретарши, ещё ниже и ближе — место адвоката и стул подсудимого. На переднем плане — два ряда скрепленных палками пустых запылённых стульев, спинками к зрителю. Две двери с помоста, направо и налево, и ещё дверь, ближе к нам.
При открытии занавеса через эту дверь в пустой зал разводящий и конвоир вводят Холуденева, держащего руки назад. Ему указывают место.
РАЗВОДЯЩИЙ. Оружие к бою!
Конвоир берёт на изготовку, разводящий уходит. Пауза. Конвоир постепенно ослабляет стойку. Холуденев достаёт из кармана бумажку. Поколебавшись, насыпает в неё табаку.
КОНВОИР. Что это крутишь?
ХОЛУДЕНЕВ. Видишь сам, цыгарку.
КОНВОИР. Бумажку какую?
ХОЛУДЕНЕВ. А… квитанцию тут… на ордена, на часы.
КОНВОИР. А как же получать будешь?
ХОЛУДЕНЕВ. Ордена? Зачем они мне теперь?
КОНВОИР (подумав). Часы.
ХОЛУДЕНЕВ. За десять лет заржавеют.
КОНВОИР. Всё же побереги, на газетку.
ХОЛУДЕНЕВ (беря газетный обрывок и пряча квитанцию). Не тут, так в этапе, всё равно.
КОНВОИР. Возьми махорки. (Протягивает горсть.)
ХОЛУДЕНЕВ. Давай, если не шутишь. (Пересыпает в карман, добавляет и в цыгарку.) Спички есть?
КОНВОИР (давая прикурить). и много орденов?
ХОЛУДЕНЕВ. Да три было.
КОНВОИР. Офицер?
ХОЛУДЕНЕВ. Капитан.
КОНВОИР. За что ж посадили?
ХОЛУДЕНЕВ. А видишь…
Раскрывается та же дверь. Конвоир резко берёт на изготовку и отступает от Холуденева. Входит Кашеваров танцующей походкой, в белых брюках, белой шёлковой рубашке с короткими рукавами. По мере приближения к Холуденеву он вытягивает указующую на него руку.
КАШЕВАРОВ. Вы… как ваша фамилия? (Сверяется с записной книжкой.)
ХОЛУДЕНЕВ (курит, развалясь). А вы тут в каком амплуа?
КАШЕВАРОВ. Я ваш государственный защитник.
ХОЛУДЕНЕВ. Вон что! А я думал — капитан волейбольной команды.
КАШЕВАРОВ. Так как ваша фамилия?
ХОЛУДЕНЕВ. Слушайте, идите вы своей дорогой, я вас не нанимал.
КАШЕВАРОВ. Да, но государство не может оставить вас без защиты.
ХОЛУДЕНЕВ. А я на всё ваше государство…
КАШЕВАРОВ (оживляясь). Слушайте, вы, может быть, ненормальный? Вы экспертизу не проходили? Я могу потребовать экспертизу.
ХОЛУДЕНЕВ (весело смеётся; примирительно). Вот что, парниша, я вас не трогаю, и вы меня не трогайте.
КАШЕВАРОВ. Нет, вы таки ненормальный! Вы просто не знаете порядка. Если не будет защитника, так не будет и прокурора.
ХОЛУДЕНЕВ. Прекрасный порядок.
КАШЕВАРОВ. Но как же вы будете защищаться?.. Если вас безпокоит оплата моего труда, так это каких-нибудь сто рублей, их спишут с вашей квитанции.
ХОЛУДЕНЕВ. Что?? С моей квитанции? (Приподымаясь.) Иди отсюда, гад!
КАШЕВАРОВ (отбегая, визгливо). Автоматчик! Что ты смотришь?!
ХОЛУДЕНЕВ. Гражданин конвоир! Убери его от меня, а то я за себя не ручаюсь.
КОНВОИР (мирно). Ну будет, будет.
В правую дверь помоста быстро входит комендант трибунала. Дверь остаётся открытой, и сквозь неё из соседнего зала слышен голос Кривощапа: «Суд удаляется на совещание».
КОМЕНДАНТ. Встать, суд идёт!
Холуденев ещё и не садился. Справа на помост входят Кривощап, два заседателя, секретарша. Все сразу садятся.
КРИВОЩАП (быстро, озабоченно). Судебное заседание военного трибунала считаю открытым. Подсудимый, отвечайте на вопросы. Фамилия, имя, отчество?
ХОЛУДЕНЕВ (мрачно). Холуденев.
КРИВОЩАП. Имя-отчество-год рождения?
ХОЛУДЕНЕВ. Всё записано сто раз.
КРИВОЩАП. Отводов к составу трибунала нет?
ХОЛУДЕНЕВ. Отвод защите. Не нужно мне…
КРИВОЩАП. Порядок раз и навсегда установлен, мы не можем судить беззащитного человека. Государство предоставляет вам квалифицированную защиту. Стороны! Прошу занять места. (Члену суда.) Читайте!
Косясь на подзащитного, защитник садится.
1-Й ЗАСЕДАТЕЛЬ (быстро бормочет, пропуская иные слова, выделяя громко и раздельно иногда важное, иногда неважное). «Утверждаю, начальник 2-го управления фронтовой контрразведки СМЕРШ Центральной группы войск генерал-майор… Обвинительное заключение по следственному делу номер… по обвинению Холуденева Андрея Степановича.
Органами фронтовой контрразведки СМЕРШ арестован и привлечён в качестве обвиняемого по настоящему делу… Расследованием установлено, что Холуденев, являясь офицером Красной армии, последнее воинское звание “капитан”, в должности командира сапёрной роты, вёл активную подрывную антисоветскую деятельность. Эта подрывная деятельность выражалась, как установлено показаниями парторга батальона Тырлыкова У. В. и замполита батальона Визгунова Г. М., прежде всего в том, что Холуденев совершенно пустил на самотёк партийно-политическую и массово-воспитательную работу во вверенном ему подразделении (следственное дело, листы 25, 26). Весной 1943 года своего заместителя по политической части старшего политрука Хухнобратова Холуденев обозвал оскорбительным прозвищем “дурак” и грозился “переломать ему ноги, если он будет проводить политбеседы не вовремя” (следственное дело, листы 45, 47, показания майора Хухнобратова). Тем самым Холуденев выявил свои злобно-террористические замыслы по отношению к партийному руководству. Обвиняемый открыто заявлял даже при солдатах, что “самая лучшая политбеседа — это крутая каша” (лист 74). В тех же немногих случаях, когда Холуденев не имел возможности уклониться от проведения политбесед, обвиняемый наполнял их извращённо-клеветнической трактовкой событий и безудержным восхвалением англо-американской военной помощи. Когда перед вступлением на территорию Германии политотдел дивизии поручил Холуденеву выступить на общем батальонном красноармейском собрании на тему: “Смерть за смерть и кровь за кровь”, Холуденев наотрез отказался и выявил своё звериное антисоветское нутро следующей фразой: “Немцы тоже люди” (лист 95).
Особое место в цепи злодеяний Холуденева занимает его преступная близость со старшим воентехником того же батальона Иваном Новотёловым, буржуазным перерожденцем, ушедшим от кары советского правосудия из-за своей смерти на поле боя. В нескольких своих разговорах в отдельной палатке, ставших известными работникам СМЕРШ, Холуденев и Новотёлов изливали грязную ненависть к гениальному вождю партии и советского народа, осыпая его светлую личность и особенно его полководческий талант насмешками, нападками, оскорбительными прозвищами и самой безудержной похабной руганью (листы 9, 18, 101–103)».
2-Й ЗАСЕДАТЕЛЬ (молитвенно приподымаясь в сторону скульптуры Сталина). и вы — осмелились?..
ХОЛУДЕНЕВ. Осмелился.
1-Й ЗАСЕДАТЕЛЬ. «Но обвиняемый вместе с убитым Новотёловым не ограничились только оклеветанием гениальной сталинской стратегической мысли. В одном из своих разговоров, извращённо трактуя революционные преобразования в деревне в 29–30 годах, они фактически объективизировались как защитники кулачества и как противники сплошной добровольной коллективизации.
На основании изложенного обвиняется Холуденев Андрей Степанович, 1919 года рождения, уроженец города Тамбова, русский, безпартийный, ранее не судимый, гражданин СССР… в том, что
он вёл гнусную антисоветскую агитацию среди себя и своего убитого однодельца Новотёлова, готовился к активной подрывной деятельности и проявлял террористические намерения, то есть в преступлениях, предусмотренных статьями 58-десять-часть вторая, 58-восемь-через-девятнадцатую и 58-одиннадцать УК РСФСР.
В предъявленных обвинениях Холуденев виновным себя признал и изобличается показаниями свидетелей.
Руководствуясь статьёй 208 УПК РСФСР, настоящее дело направлено прокурору Моргослепову для предания обвиняемого суду.
Обвинительное заключение составлено… подпись… согласен…» (Садится, переводит дух.)
КРИВОЩАП. Переходим к судебному следствию. Подсудимый Холуденев, признаёте ли вы себя виновным в предъявленных обвинениях?
ХОЛУДЕНЕВ. Да какая разница, всё равно…
КРИВОЩАП. Таким образом, вы признаёте, что…
ХОЛУДЕНЕВ. Ага.
КРИВОЩАП. и вы остаётесь при этих убеждениях?
ХОЛУДЕНЕВ. Нет.
КРИВОЩАП. Искренно ли это? До конца ли вы искренни?
ХОЛУДЕНЕВ. Искренно, искренно, до конца.
2-Й ЗАСЕДАТЕЛЬ. и вы думаете, что суд поверит вашему раскаянию?
ХОЛУДЕНЕВ. А почему бы и нет? Теперь, когда я разобрался, я вижу, что все вы такие, и не с 29-го года, а с 17-го.
В левую дверь помоста поспешно вбегает Моргослепов, становится на трибуну, перебирает бумажки.
КРИВОЩАП. У прокурора будут вопросы?
МОРГОСЛЕПОВ. Нет-нет, всё ясно.
КРИВОЩАП. У защиты?
КАШЕВАРОВ. Нет.
КРИВОЩАП. Переходим к прениям сторон. Слово имеет государственный обвинитель товарищ Моргослепов.
МОРГОСЛЕПОВ (очень быстро). Товарищи судьи! Кого мы видим перед собой? Мы видим перед собой человека, которого взрастила и вскормила наша родная советская власть, наш родной комсомол. и что же мы имеем в благодарность? Этот выродок, этот ублюдок, я не нахожу для него лучших слов, в первые же дни войны сдался в плен лютым врагам нашего дорогого отечества, чтобы потом с оружием в руках примкнуть к белобандитским…
Кривощап кашляет значительно, Моргослепов взглядывает на него. Кривощап мотает головой.
(Читая с бумажки, вполголоса.) Тепляков?
КРИВОЩАП (так же). Холуденев.
МОРГОСЛЕПОВ (ещё быстрее перебирая бумажки). Товарищи судьи! Кого мы видим перед собой? Мы видим перед собой человека, которого взрастила и вскормила наша родная советская власть, наш родной комсомол. и что же мы имеем в благодарность? Этот выродок, этот ублюдок, я не нахожу для него лучших слов, не остановился перед открытым террором по отношению к партийному руководству и подготовлял мирное врастание кулака в социализм. Товарищи судьи! Есть предел нашему терпению. Вы являетесь карающей десницей коммунистического общества, великодержавного советского народа. Я требую для данного обвиняемого (уже убегая в свою дверь) десяти лет лишения свободы плюс пять лишения прав! (Убежал.)
КРИВОЩАП. Слово имеет государственный защитник товарищ Кашеваров.
КАШЕВАРОВ. Товарищи! Как честный советский гражданин, как верный сын социалистической родины, я только по необходимости беру на себя неблагодарную задачу защищать этого заклятого врага, этого вполне изобличённого преступника. Доводы обвинения неопровержимы, и за такой тягчайший комплекс преступлений прокурор с полным правом мог бы потребовать и расстрела. Кончая свою защитительную речь, я прошу проявить снисхождение к моему подзащитному и ограничить наказание десятью годами плюс пять поражения в правах. (Быстро уходит.)
КРИВОЩАП. Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово.
ХОЛУДЕНЕВ. Возьмите его себе.
Комендант открывает правую дверь и выходит. Слышно, как в соседнем зале он кричит: «Встать! Суд идёт!»
КРИВОЩАП. Суд удаляется на совещание.
Выходят. Пауза.
КОНВОИР. Это, товарищ капитан, вы правильно заметили насчёт каши. Кормят газетами… (Задумчиво.) Да и про немцев…
КАРТИНА 7
Богатая гостиная, обращённая в кабинет начальника контрразведки. Венецианские окна. Справа и слева дубовые двустворчатые двери. Длинный стол заседаний под красной скатертью и поперёк ему — письменный стол генерала. Огромный портрет Сталина, немного поменьше — Берии. Остальное — как было у помещика.
В окна косо бьют лучи заходящего солнца, оживляющие бронзу.
Близко на стуле сидит Генерал без кителя, в нижней рубашке, с мохнатым полотенцем на коленях. Расторопный молодой ординарец Жоржик в изящно пригнанной военной форме без погонов кончает туалет генерала, массируя ему шею и щёки. Полковник Охреянов в парадной форме при многих орденах — радостно стоит; он подвижен, лёгок.
ГЕНЕРАЛ. Вы знаете, Лука Лукич, после полёта — какая-то такая сла-абость, такая сла-абость…
ОХРЕЯНОВ. Переутомление.
ГЕНЕРАЛ. Ну да, всю прошлую ночь мы были у Берии… Крепче, Жоржик, крепче!
Стук в левую дверь, и сразу же входит Рублёв. Он мрачен, немного сгорблен.
РУБЛЁВ. Разрешите? Здравия желаю, товарищ генерал.
ГЕНЕРАЛ. Здравствуйте, Прохор Данилыч. Что это вы как будто почернели?
РУБЛЁВ. Болею, товарищ генерал, очень болею.
ГЕНЕРАЛ (с беззаботностью). Неужели так плохо? Вылечим! Пошлём лечиться. Старые кадры надо беречь. Да, между прочим, я вами недоволен.
РУБЛЁВ. Что именно?
ГЕНЕРАЛ. Ну слушайте, этот сегодняшний случай, вот Лука Лукич свидетель: на весь двор орёт, стёкла звенят, «помогите, убивают». Если что надо, так уж в закрытом помещении, во дворе тысячная толпа, а что конвойные солдаты подумают? что у нас, фашистский застенок, что ли? Нельзя допускать. Это Камчужная? Накажу.
РУБЛЁВ. Она очень способный следователь, товарищ генерал, немного увлекается по молодости, я принял меры…
ГЕНЕРАЛ. Для вас я бы простил, но тут надо наказать! Да, так о чём я?..
ОХРЕЯНОВ. Прошлую ночь были у Берии…
ГЕНЕРАЛ. Да, у Берии до трёх часов утра, а на аэродром к семи…
РУБЛЁВ. Товарищ генерал, разрешите, я сяду.
ГЕНЕРАЛ. Можно, Прохор Данилыч, можно будет сесть.
Рублёв садится.
Летел же я, представляете, с Сергеевым-Артёмом, приёмным сыном Ворошилова, да он и Светланы Сталиной приятель.
Рублёв угрюм, почти не слушает. Слева входит адъютант.
АДЪЮТАНТ. Разрешите доложить, товарищ генерал? Участники совещания по вашему приказанию собраны.
ГЕНЕРАЛ. Ладно, пусть подождут.
Адъютант выходит.
Чудесный парень, моих лет, двадцать четыре года, тоже генерал-майор, но артиллерии. Да неужели вы не знаете? Тот самый Сергеев, у которого с Рокоссовским был знаменитый анекдот.
ОХРЕЯНОВ. Что-то не помню, товарищ генерал.
ГЕНЕРАЛ. Ну-у, слушайте, этого нельзя не знать, как он отомстил Рокоссовскому! — весь Первый Белорусский фронт хохотал! Артём в Москве получил назначение командиром артиллерийской бригады, но в ней трактора плохие, и он через Ворошилова достал полный комплект новых тракторов. Трактора идут себе поездом, Артём приезжает вперёд в штаб фронта — и вдруг узнаёт, что тут командиром бригады назначен не он, а какой-то старпёр. Ладно, он сразу звонит в Москву, из Москвы звонят Рокоссовскому, а этот, представьте, отвечает: сожалею, но не могу отменить, уже приказ подписан.
Туалет окончен.
Ах, так! Сейчас команда: паровоз — наоборот! и поехали трактора с фронта назад в Москву! Ну, весь Белорусский фронт хохотал!
ОХРЕЯНОВ (хохочет). Паровоз — наоборот! Замечательно!
ГЕНЕРАЛ. Но каков Рокоссовский! Он сожалеет! Забыл, как его… Выйди, Жоржик.
Жоржик собирает туалетный набор и мешкает.
Забыл, как его в 38-м году два раза ночью в лес вывозили, на расстрел, пугали. и вот, кстати, что сказал Лаврентий Палыч, — это я только вам двоим говорю…
Жоржик быстро выходит направо.
«Если нужно будет — в третий раз вывезем, и назад не привезём, кончать надо жуковские замашки!»
ОХРЕЯНОВ. Кончать жуковские замашки! Правильно! Распоясался генералитет!
ГЕНЕРАЛ. Сечь запорожская! Партизанщина!.. Да… Но тогда, знаете, фронт ещё на Днепре стоял, и это было неактуально. Ладно, Лука Лукич, запускайте. (Уходит направо.)
Охреянов заходит за стол генерала, звонит, входит адъютант.
АДЪЮТАНТ. Слушаю вас, товарищ полковник!
ОХРЕЯНОВ (совершенно переменился, стал выше ростом, что-то железное в его малоподвижности). Пусть там… заходят…
Адъютант, рука к козырьку, принял приказание, вышел.
(Показывает на более почётное место.) Пересядь, Прохор.
РУБЛЁВ (сидя вполоборота в низком кресле впереди стола заседаний). Ладно, я здесь.
Охреянов садится сбоку стола генерала. В левые двери начинают входить участники совещания. Они держатся тихо. Всего их человек более двадцати, от майора и выше. Здесь — Моргослепов, Кривощап, высокая седая Софья Львовна; Капустин и другие. Слышны неестественное покашливание, тихий гулок разговоров. Рассаживаются вокруг длинного стола и на диванах у стен.
ОХРЕЯНОВ (идёт к правой двери, по мере подхода старается ступать на цыпочках, заглядывает туда, поспешно отскакивает). Внимание!
Все встают. Входит Генерал.
Товарищ генерал! Участники совещания по вашему приказанию…!
ГЕНЕРАЛ. Хорошо, можно будет садиться.
Все садятся. Генерал энергично идёт к своему столу, стоя перебирает бумаги. Гробовое молчание. Охреянов тоже садится, совершенно беззвучно переставив стул.
Да… Так я собрал вас, товарищи, собрал я вас, руководящих работников нашей контрразведки, для того чтобы со всей чёткостью, со всей остротой заострить перед вами основные вопросы, что мы имеем на сегодняшний день. Совещание, с которого я сейчас вернулся, совещание начальников фронтовых управлений контрразведки СМЕРШ и областных управлений НКГБ, три дня заседавшее под руководством Лаврентия Павловича Берия, вчера удостоилось счастья — быть принятым лично товарищем Сталиным!
Дружные аплодисменты, все встают, Рублёв с трудом и первый садится.
Товарищи! Я не стану говорить вам о том величайшем волнении, которое обуревало меня, когда я увидел так близко дорогое нам всем лицо нашего великого Учителя и Вождя. Товарищ Сталин высоко оценил, товарищи, заслуги Органов перед страной во время войны. Я дословно повторю вам безусловно исторические слова, сказанные вчера товарищем Сталиным. Он сказал: «Теперь каждому ясно, что без ЧК мы не победили бы в Гражданской войне, а без НКВД мы не победили бы в Отечественной войне». Но, товарищи, свойственно ли большевикам упиваться успехами? Нет, и ещё раз нет! Самая большая опасность сейчас — это чтобы мы, чекисты, самоуспокоились, что вот, мол, война закончилась, что теперь можно сбавить темпы работы и так и далее. Иосиф Виссарионович так вчера выразился в шутку: «А что, Лаврентий Павлович, всю войну твои ребята провели в третьем эшелоне, а теперь выдвигаются на передовую». Вот это положение, товарищи, каждый из нас должен понять со всей отчётливостью, на что оно нас нацеливает.
РУБЛЁВ. Товарищ генерал, разрешите выйти.
ГЕНЕРАЛ. Что такое? Нет. Война окончена для армии, а для нас сейчас — Сталинградская битва, генеральное сражение, разгар войны. и бой неравный, товарищи: наше управление СМЕРШ по своей численности может быть приравнено, ну, скажем, отборному офицерскому батальону (я не считаю надзорсостава и конвойных войск), — а перемолоть нам надо целые дивизии врага, — посмотрите, они целыми толпами на нашем тюремном дворе, — вы не считайте их соотечественниками — это лютое отребье, надышавшееся отравленным воздухом капиталистической Европы. В эти ответственные дни мы, чекисты, должны быть как никогда безпощадны, как никогда суровы, чтобы достойно выполнить задание великого Сталина по обработке репатриируемых. Ещё и ещё раз, товарищи, прочтите вчерашнюю амнистию, которая есть ознаменование и плод нашей славной Победы: всех поголовно дезертиров войны милует советская власть. Почему это, товарищи? Потому что дезертир — это только трус, это только шкурник, но это социально близкий нам элемент, товарищи. А вот кто не побоялся идти на передовую, кто не побоялся «Тигров» — тот не побоится повернуть оружие и против нас. и так и далее.
Но в эти решающие дни что мы видим в наших рядах, товарищи? С одной стороны, мы отмечаем, мы вывешиваем на доску почёта лучших из лучших наших работников: председателя военного трибунала полковника Кривощапа, прокурора подполковника Моргослепова, майора Огниду, капитана Мымру и так и далее. Но, товарищи, мы не можем и не должны замазывать наших недостатков. Я уж не говорю о таком позорном случае, как мы в собственных своих рядах проглядели буржуазного перерожденца Неключимова. Ответственность за это ложится на весь наш коллектив, но в первую голову на вас, товарищ Рублёв, и на вас, товарищ Охреянов. Пусть это для всех послужит уроком, что железная рука ЧК умеет безжалостно выкорчёвывать и в собственном огороде. Но, товарищи, товарищ Сталин дал нам гениальное указание, что наши методы следствия и суда всё ещё слишком либеральны, всё ещё находятся в плену гнилой юриспрунденции, и с этими методами задач сегодняшнего дня мы не разрешим, и того огромного людского потока, который льётся к нам с Запада, мы не обработаем в срок. Как всегда, товарищ Сталин диалектично вытягивает самое важное звено цепи: пора покончить! Пора покончить, товарищи! Давно ли осуждение двадцати человек в день нам казалось пределом? — а вот мы уже осуждаем по сорок, и только давай! Что здесь принципиально нового? Во-первых, уничтожение по инициативе товарища Кривощапа комнаты так называемых совещаний — действительно, покурить можно и после работы. В первом зале заслушали — во втором приговор, в первом приговор, во втором — заслушали. Потом чёткую работу приговорного отдела, который безошибочно и не позже как накануне суда поставляет все приговоры.
РУБЛЁВ (встаёт; всё время видно было, что он мучается болями). Я… должен выйти… (Идёт к выходу.)
ГЕНЕРАЛ (смерив его недоумённо). …А по чьей вине следователи всё ещё плетутся в хвосте? По вине руководителей отделов, да!
Рублёв, не дойдя до двери, опускается на паркет. Смятение.
ГОЛОСА
— Что с ним?
— Софья Львовна!
— Да поднимайте же…
— Надо в санчасть!
— Кто там в дежурке?
Дверь распахнули, какие-то два лейтенанта и два сержанта неумело выносят Рублёва. Софья Львовна выходит за ними. Участники совещания усаживаются вновь.
ГОЛОСА
— С ним давно уже…
— Рак печени или что-то такое.
ГЕНЕРАЛ. Да… Сдал старик… Сгорел на чекистской работе. Я продолжаю. Вы не контролируете темпов следствия, вы всё ещё допускаете, чтобы следствия тянулись по месяцу и даже больше! Да ведь это же не лезет ни в какие ворота! Ваши следователи как в парикмахерской разваливаются в своих креслах, — Лука Лукич! Сменить на жёсткие стулья…
ОХРЕЯНОВ. …Есть сменить на жёсткие! (Записывает со рвением.)
ГЕНЕРАЛ. …и о чём они там с заключёнными чирикают часами, — не знаю, но иногда проходишь по коридору и не слышишь ни повышенного голоса, ни даже матерного слова, как будто по санаторию идёшь, а не по контрразведке СМЕРШ. Потом, — жаль вот, Софья Львовна ушла, — санотдел нам палки в колёса вставляет: из двух десятков заявок на применение повышенного физического воздействия — три опротестовано санотделом по причине, видите ли, крайней слабости здоровья подследственных, — и потребовалась моя вторая виза. Нет, от этой гнилой практики пора отрешиться! Например, в какие карцеры вы сажаете? — с деревянными полами, дедовская техника, крыловские времена! Лука Лукич, сорвать деревянные полы, где не сорваны, залить бетоном.
ОХРЕЯНОВ. …Есть сорвать полы! (Записывает рьяно.)
ГЕНЕРАЛ. А я привёз разрешение устроить у нас и стоячие карцеры. Человек придавливается дверью и так остаётся. Он хочет сесть, но колени упираются, он повисает на коленях и на спине. Ну, отчаяние, ну, вообще не знает, может, его замуровали навсегда… Ещё можно позвать штукатура и разговоры такие в коридоре вести, что, мол, замазывай… и только на четыре часа в сутки сквозь все карцеры просовывается жердь, на которую он может опереться. Там очень оригинальная конструкция, я привёз типовые чертежи. Это — тот рычаг, которым можно… я не знаю!
КАРТИНА 8
Пышный мрачный кабинет. На задней стене — крупная карта Европы, где красным шнурком отмечена демаркационная линия 1945 года, и большой портрет Сталина. Все окна зашторены. Старинный большой письменный стол, перед ним поперёк другой. Неподалёку от двери — голый маленький столик подследственного и табуретка. Середина кабинета почти пуста. Полутьма.
На диване лежит Рублёв. С лютым стоном он приподымается, спускает ноги на пол. Он одет. Без стука входит Софья Львовна. На ней — халат поверх формы.
СОФЬЯ ЛЬВОВНА. Прохор Данилыч! Лягте. Скоро мы вам повторим укол.
РУБЛЁВ. Слушайте, Софья Львовна, не играйте в сестру милосердия, вы же старый тюремный врач.
СОФЬЯ ЛЬВОВНА. Врач — всегда врач.
РУБЛЁВ. Но не тюремный! Помочь вы мне не можете, спасти вы меня не можете, уходите и дайте мне околеть.
Софья Львовна берёт его руку, щупает пульс.
Что вы щупаете? Пульса нет, не знаете? (Отбирает руку.)
СОФЬЯ ЛЬВОВНА. Есть у вас пульс, но слабый.
РУБЛЁВ. Не у меня! Вообще никакого пульса нет! Для дураков выдумали.
СОФЬЯ ЛЬВОВНА (тревожно). Вам надо лежать. Пейте вот. Ночью будет самолёт, отправим вас в берлинскую клинику.
РУБЛЁВ. Чего ж не в московскую? Немец обезьяну выдумал? (Пьёт лекарство.) Скажите, — живые отчего так боятся умирающих? Почему лгут? Час назад вы сами сказали: несколько дней в мучениях и верная смерть. Сказали?
СОФЬЯ ЛЬВОВНА. Кому-у?
РУБЛЁВ. Столько лет вы в Органах и спрашиваете — кому? При ком! Ладно, придёт самолёт — позвоните. (Набирает номер на настольном телефоне.) Из сто двадцать пятой Воротынцева ко мне!
СОФЬЯ ЛЬВОВНА. Прохор Данилыч! После приступа… (Как бы хочет помешать звонить по телефону.)
Стук.
КАМЧУЖНАЯ (на пороге). Разрешите, товарищ полковник?
СОФЬЯ ЛЬВОВНА. Капитан Камчужная! Полковник Рублёв болен и принимать не может.
КАМЧУЖНАЯ. Тогда простите… (Рублёву.) Вы назначали мне в девять… Но раз вы больны…
РУБЛЁВ. Зайдите.
Камчужная вошла. Софья Львовна, пожав плечами, уходит. Рублёв садится.
КАМЧУЖНАЯ. Товарищ полковник! Только два небольших вопроса! Подследственный Рубин…
РУБЛЁВ. Да?
КАМЧУЖНАЯ. По донесениям осведомителей, в камерных спорах ведёт себя очень лояльно, защищает марксизм, советский режим и даже политику органов госбезопасности, хоть и не в применении к себе лично. На следствии по-прежнему упорствует, что дело его состряпано искусственно и является результатом склоки в политотделе армии. Мне кажется, так и есть. Командир дивизии, узнав об аресте Рубина, прислал на него наилучшую деловую характеристику. Кроме того, получены личные боевые характеристики от офицеров — членов партии, воевавших с Рубиным.
РУБЛЁВ. Включить в картотеку наблюдения.
КАМЧУЖНАЯ. Этих офицеров? Само собой, я включила. Но…
РУБЛЁВ. и командира дивизии.
КАМЧУЖНАЯ (удивлённо). и командира дивизии?
РУБЛЁВ. Лозунг такой: жуковское время кончается.
КАМЧУЖНАЯ. По-нят-но. Но я о Рубине. Искренно преданный коммунистической идее, два ордена, два ранения…
РУБЛЁВ. Так что?
КАМЧУЖНАЯ. Ну, я понимаю, освободить начисто — невозможно, это нужно визу министра… Но если освободить с вербовкой? Сделать его осведомителем! По тонким делам, по идеологическим, он образованный человек, преподаватель марксизма-ленинизма. А это важно! Среди студентов после войны…
РУБЛЁВ. Сложный тип, не будет он надёжным осведомителем. Да и что вам так безпокоиться?.. Второй?
КАМЧУЖНАЯ. Профессор Мостовщиков. Научная экспертиза подтвердила — крупный специалист в области атомной физики. В Европе он работал у…
РУБЛЁВ. Короче.
КАМЧУЖНАЯ. Может быть, не следовало бы его — в общем потоке? Такой человек пригодится, и даже срочно.
РУБЛЁВ (говорит с затруднением, с перерывами). Никаких «срочно». Только в общем потоке! Даже поручаю вам проследить, чтоб он был отправлен на этап со спецуказанием: в Заполярье, с использованием исключительно на физических работах. Но умереть мы ему не дадим. Когда он основательно дойдёт, его выхватят, доставят на Лубянку, какой-нибудь солидный генерал выразит глубочайшее соболезнование, что ничего не знал об аресте и не мог своевременно защитить маститого учёного, и с величайшим почтением попросит профессора вернуться к научным занятиям, мирясь со стеснениями колючей проволоки вокруг лаборатории. и Мостовщиков, которого незадолго любой последний конвойный солдат бил по шее, будет испытывать блаженство, второе рождение. За право не долбать землю тундры, за кубик сливочного маслица к завтраку — он сделает нам больше, чем за золотое море американцам.
КАМЧУЖНАЯ (поражена). Как это глубоко!
РУБЛЁВ. Опыт уже имеется. Подобные учреждения работают уже лет пятнадцать — и с большим успехом. Так созданы лучшие машины нашей авиации. Мы небогаты, Камчужная, у нас мало средств. Взамен этого мы должны изучать человеческую душу. У вас всё?
КАМЧУЖНАЯ. Так точно.
РУБЛЁВ. Вот что, Лида. Могла бы ты быть толковым следователем, большого масштаба. Но ты слишком вкладываешь душу. Слишком увлекаешься.
КАМЧУЖНАЯ. и это — плохо?
РУБЛЁВ. Это никому теперь не нужно. Это когда-то было нужно, давно, когда колесо только раскручивали. А теперь оно разошлось и надо лишь спокойненько смазывать. А душу оставить при себе… Вот сегодня этот случай с разбитым окном. Ведь я продвигал тебя в начотделения, а теперь назначен Мымра. У Мымры никогда не получилось бы такой публичности, тем не менее все протоколы были бы подписаны. Слушай, стань такой, как Мымра. Или вообще брось Органы, а?
КАМЧУЖНАЯ. Но я не хочу быть Мымрой!
РУБЛЁВ. Ну так брось! Неужели тебе такая сладкая эта работа? Как ты пришла в Органы, я не помню?.. Ах да, через мужа, сперва расскажи, потом пусти на следствие, за занавеской посижу, потом на курсы…
КАМЧУЖНАЯ (горячо). Прохор Данилыч! Эта работа для меня! У меня талант! — я проникаю в людей, я всё быстро угадываю, я держу в памяти… и вы, вы говорите мне — бросай…? (Очень сочувственно.) Что с вами, Прохор Данилович? Вы никогда со мной так… Вы всегда… к вам подойти страшно.
РУБЛЁВ (думая о своём). Бросай, Лидка… Бросай и беги!..
КАМЧУЖНАЯ. У меня как раз сегодня — горе, большое горе. Можно вам рассказать?..
ВЫВОДНОЙ (заглядывая в дверь). Разрешите, товарищ полковник?
РУБЛЁВ. Да-да.
Входит Воротынцев, с руками за спиной, в кабинете высвобождая их. Рублёв отпускает выводного отмашкой ладони. Камчужная с досадой минует Воротынцева, уходит.
РУБЛЁВ. и как вы себя чувствуете, Георгий Михайлович? (Встаёт. Зажигает верхний свет.)
ВОРОТЫНЦЕВ. Лучше, чем вам бы хотелось.
РУБЛЁВ. Не ожидали вызова?
ВОРОТЫНЦЕВ. Я подписал закончание следствия, о чём нам ещё?
РУБЛЁВ. Да знаете, я просто… совершенно частным образом… хотел сообщить вам, что дело ваше назначено к слушанию в военном трибунале — завтра.
ВОРОТЫНЦЕВ. Из-за этого — стоило ли трудиться?
РУБЛЁВ. Кроме того… (Острый приступ боли. Запрокинув голову, Рублёв пятится через всю середину кабинета. Натыкаясь, садится в кресло. Овладев собой.) Кроме того, я собирался предупредить вас, что ваша судьба…
ВОРОТЫНЦЕВ. Решена до суда? Я это понимал. Как и у всех…
РУБЛЁВ. Но решена — не как у всех.
ВОРОТЫНЦЕВ. Понимаю и это. Расстрел.
РУБЛЁВ (пристально). Ошибаетесь. Через повешение.
ВОРОТЫНЦЕВ (однако выстоял). и конечно тайком? В закоулке?
РУБЛЁВ. Это будет послезавтра.
ВОРОТЫНЦЕВ. Я уже подсчитал. Всё?
РУБЛЁВ. Чего же вам ещё?
ВОРОТЫНЦЕВ. Чего я ещё могу требовать от большевицкой власти? Верно, край. Я могу идти?
РУБЛЁВ. Неужели вам там лучше, чем здесь? Здесь чистый воздух, мягкие кресла, там смрад, параша, солома.
ВОРОТЫНЦЕВ. Там — люди чистые.
РУБЛЁВ. Сейчас вы поймёте, зачем я вас вызывал. Присядьте. Да не туда, на диван!
Воротынцев садится, однако, за голый столик подследственного. Рублёв идёт к нему, волоча за собой стул. Садится почти вплоть к тому же столику.
Скажите, полковник, — откуда у вас эти сияющие глаза? Почему не согнуты ваши плечи? Почему не опущена ваша голова? Ведь вы давно знаете, что мы вас казним. Ведь вы умрёте, умрёте послезавтра! Неужели вам не страшно расстаться с жизнью, а, полковник?
Пристально смотрят друг на друга.
Я спрашиваю вас не из любопытства. Я тоже приговорён. Мне тоже нет спасения. У меня страшная болезнь. Забудьте, кто я был. Сегодня я вам уже не враг. Я вызвал вас из расположения. Сейчас вы мне уже не враг.
ВОРОТЫНЦЕВ. Если бы вы были враг! По русской поговорке, люблю молодца и в татарине. Но вы — не враг. Вы — палач.
РУБЛЁВ. А у вас их не было? Или не будет?
ВОРОТЫНЦЕВ. Ни в таком количестве, ни в таком качестве.
РУБЛЁВ. Вот сейчас я лежал на этом диване в ознобе, в болях, и понял, что — что всем им я нужен был, пока держал их в руках, пока толкал в спину, а сейчас я их уже тягощу, они торопятся поскорей скачать меня, они уже приготовили мне заместителя… и я просто с радостью вспомнил о вас, идущем туда же… Забудьте, что я — полковник НКГБ. Между нами на днях не будет этой разницы. Как человек человеку, как путник путнику — вы можете мне помочь? подсказать?..
ВОРОТЫНЦЕВ. Честно говоря, придя из камеры и накануне повешения — трудно хотеть вам помочь.
РУБЛЁВ. Я понимаю! Но если стать выше этого? Я никогда не был трус — но как мне сейчас страшно! Я был как камень — почему же я рассыпаюсь? Я хочу встретить смерть с такими же нагло сияющими глазами, как ваши. Научите меня тайне вашей твёрдости!
ВОРОТЫНЦЕВ. Да нет никакой тайны. Мне уже 69 лет, и я вижу, что шёл правильным путём. С чего же мне упасть духом?
РУБЛЁВ. Как правильным? Как правильным? Вы — кадровый военный. В скольких войнах вы участвовали?
ВОРОТЫНЦЕВ. В пяти.
РУБЛЁВ. В русско-японской? и вы её проиграли. В русско-германской? и вы её проиграли.
ВОРОТЫНЦЕВ. Не мы! Из-за вас.
РУБЛЁВ. В гражданской? и опять проиграли. Во второй мировой? и снова биты.
ВОРОТЫНЦЕВ. Испанскую пропустили.
РУБЛЁВ. Двадцать восемь лет мы били вас везде и во всём, мы окончательно вас разгромили сегодня — и вам не из чего упасть духом? Весь путь вашей жизни есть путь сплошных поражений — и этот путь вы считаете правильным?
ВОРОТЫНЦЕВ. В том правильным, что я не ошибся, на чьей мне быть стороне. Всегда был на верной стороне: против вас. Никогда не пошатнувшись, никогда не усумнясь: а вдруг правота за вами? а может, надо было идти к вам?.. В любую минуту любого вашего торжества — против вас. Да, мы проиграли. Но не выиграли и вы! Потому сияют мои глаза, что они дожили и увидели: не выиграли и вы!
РУБЛЁВ. Сегодня? Сегодня вам кажется так? Да вы трезвый?
ВОРОТЫНЦЕВ. Да, сегодня, в час вашей высшей внешней победы, именно в вашей тюрьме и перед смертью послано мне увидеть, что вы — обречены!! Травили нашу монархию, а установили — какую мерзость? Обещали рай на земле, а дали? и особенно радостно, что чем больше иссякают ваши идеи, чем явней для всех крахает ваша идеология, тем судорожней вы за неё цепляетесь, — значит, вы погибли. Без этой ублюдочной идеологии вы, может быть, ещё бы спаслись. Но с ней — вы погибли! Никогда ещё за двадцать восемь лет Россия не была так далека душой от большевизма! В камере контрразведки я понял отчётливо: Россия — не ваша, товарищи! О, в этой камере совсем не те люди, которых вы хватали в восемнадцатом! У них нет перстней на белых пальцах, а на их пилотках — ещё не выгоревший пятиконечный след. Всё это молодёжь, воспитанная в ваших школах, не в наших, по вашим книгам, не по нашим, а выросли-то они…
РУБЛЁВ (кивая). Не наши. Но и не ваши.
ВОРОТЫНЦЕВ. Довольно было одного дуновения свободы, чтобы с русской молодёжи спало ваше чёрное колдовство! Вы поносили первую русскую эмиграцию, что она корыстна, что она не хочет понять передовых идей. Пусть так. Но откуда же теперь вторая русская эмиграция — миллионы простых ребят, отведавших двадцать четыре года нового общества и не желающих вернуться на родину?
РУБЛЁВ. Как не желающих? А где вы с ними встретились? В камере? Так они возвращаются. Вполне добровольно.
ВОРОТЫНЦЕВ. А кого и схватили, украли.
РУБЛЁВ. Они — возвращаются, вот что самое удивительное! Поедут в лагеря — и нет вашей «второй эмиграции»!
ВОРОТЫНЦЕВ. Но отчего, всё-таки, они не поняли ваших передовых идей? Я замечаю — плевать им на ваших основоположников.
РУБЛЁВ. и на ваших святых тоже! Они хотят — просто жить.
ВОРОТЫНЦЕВ. А вы — не даёте им жить!
РУБЛЁВ. Не даём жить? А почему мы растём и крепнем? Различайте вещи, полковник. Вот вещь: ста лет ещё не исполнилось марксизму, а мы оторвали уже во-ка материчок! (Показывает в сторону карты.) и всё растём. (Обезсиленный садится.)
ВОРОТЫНЦЕВ. Да, были годы, когда можно было потерять мужество. Поражался я не раз: сколько лучших стараний и сил ни прилагай — всё как в прорву! Как будто и ошибок не было иной раз, — а поражение за поражением, почему? Не знаю, какой-то есть необъятный Божий план с Россией, он слишком медленно разворачивается, жизни наши короткие, и в момент событий даже мистический ужас охватывает: да почему же так всё безполезно?! Но на победы — не ссылайтесь. Оглянувшись — любую вашу победу как орешек можно расщёлкнуть, объяснить. Приход вашей разрушительной власти — был выгоден Западу! (Встаёт. В дальнейшем вольно расхаживает по комнате.) Вообразите себя — английским министром в семнадцатом году и взгляните на Россию — оттуда! Страна! Океан жемчужного зерна! Кондовые леса в несколько поверхностей Европы! Недра, избывающие всем, чего только ищет человек в планете. Сотни судоходных многорыбных рек, впадающих в дюжину тёплых и холодных, солёных и пресных морей. За каких-нибудь двадцать лет — нефтяные прииски, рудники, шахты, заводы, железные дороги. За каких-нибудь десять лет — столыпинские хутора повсюду. Дай им волю — заколосится второй материк американских фермеров. Сибирь, страшная глухая Сибирь, скиталище медведей и бродяг, вот-вот распустится в четыре русских Канады…
РУБЛЁВ. Далеко! далеко! Не присваивайте себе наших заслуг.
ВОРОТЫНЦЕВ. А что вы сделали в Сибири? Загатили болота вместо чтоб брёвнами — трупами? Енисейскую тайгу обтянули колючей проволокой? Частокол лагерных вышек выставили вдоль Ледовитого океана? Одна из наглейших басен — будто вы развили русское хозяйство! Вы искалечили его начинавшийся ход! Где завод — не на месте, где подъездные пути — не с того боку, где новостройка — капитальный ремонт через три месяца. Все эти годы я следил за вами с вниманием ненависти, я ничего не пропустил!
РУБЛЁВ. Магнитогорск, Турксиб, перечислять даже лень, Кузбасский угольный…
ВОРОТЫНЦЕВ. Да ведь и век не каменный!
РУБЛЁВ. Балхашский медеплавильный…
ВОРОТЫНЦЕВ. А медь для него? За тысячу вёрст?.. Ещё скажите — в России без вас радиовещания не было, электропоездов? Не выдавайте общий прогресс за прогресс вашей системы. Тянетесь за веком, куда же вы денетесь, вам воевать надо.
РУБЛЁВ. Так и вам — надо было тогда, а снарядов — не было.
ВОРОТЫНЦЕВ. …Были снаряды! Ещё одна легенда! Я-то был в окопах, знаю. К семнадцатому году мы были вооружены с верденской густотой. Сделайте в Америке в девятьсот сорок первом году революцию — и смело можете утверждать, что у них «не было боевой авиации», — конечно, во время войны построили!
РУБЛЁВ. Где же были ваши снаряды?
ВОРОТЫНЦЕВ. На фронте! — и вы их отдали по Брестскому миру немцам! В тылу! — и вы три года бросали их на нас же, а потом семь лет учили на них армию. Сто лет, семь поколений английских политиков, двадцать пять правительственных кабинетов только и копали, рыли, городили, чтобы не пустить Россию к проливам, а теперь отдай? В Средиземном море встречать её флот? Воевала Англия против Германии, а России боялась — не меньше. и вдруг словно из какой-то бездны выникает кучка никому не известных проходимцев из числа так называемых профессиональных революционеров — то есть людей, избравших разрушение своей профессией, никогда отроду ничего не создававших и не могущих создать, людей, не имеющих ни национальности, ни равномерного опыта практической жизни, безответственных болтунов, проведших полсуществования в третьесортных эмигрантских кафе…
РУБЛЁВ. Самокритично. Вы это по белой эмиграции восстановили?
ВОРОТЫНЦЕВ. Отчасти — да… и эта кучка проходимцев разлагает десятимиллионную армию, пьяными матросскими штыками захватывает безоружный Петроград, — и вот поля не засеваются, заводы смолкают, шахты глохнут, и русские уничтожают русских, ломая копья уже не о Константинополе, а о Новочеркасске. Скажите вы, сэр, английский министр, — как вам нравится такая партия? Не правда ли, это очень удобная партия? Не правда ли, это замечательная партия? Никакой полковник Лоуренс, никакая Интеллидженс Сервис не могла бы выдумать умней!! Так зачем же душить её?
Пауза.
РУБЛЁВ. Что ж, английская точка зрения…
ВОРОТЫНЦЕВ. Да и французская тоже! Они все кинулись расхватывать Россию для себя. С тех пор как вы живы, никто и нигде за границей по-настоящему не боялся вас и не принимал всерьёз, считая — безосновательно, к сожалению, — всё ваше предприятие балаганом.
РУБЛЁВ. А сейчас — с Гитлером?
ВОРОТЫНЦЕВ. А чем вы хвастаете в войне против Гитлера? Разорённой страной? Блокированным Петроградом? Может быть, двадцатью миллионами убитых? Хоть рыло в крови, а наша взяла? Ведь вы же двадцать четыре года кричали, что — не допустите, что — против любой комбинации, что на чужой территории, что малой кровью, а Гитлер один бил вас где хотел и как хотел, с перерывами на обед, на отдых и на воскресенье. Да разве мы — отступали так? Мы — и десятой доли того не отдали, не то что Кавказа да Волги, мы не сдавали ни Киева, ни Минска.
РУБЛЁВ. А мы — и до Волги отступали, — и победили? Значит, хребет покрепче?
ВОРОТЫНЦЕВ. Вон они, победители, в камерах сегодня! Не жёг бы им Гитлер деревень, они б ему имперской канцелярии не громили. Поработали на вас и западные социалисты, и Черчилль, и Рузвельт особенно. и сейчас: первоклассных воинов отдали вам в Баварии и в Австрии, на уничтожение, это что? не слепота? Не потому ли только, что всё никак не оценят вашего злодейства? Но когда-нибудь же очнутся?
РУБЛЁВ (смеётся). Да никогда, полковник! Да это мы обложим их вкрутую, и они только хрюкнуть успеют, слабаки, как Керенский в Зимнем дворце!
ВОРОТЫНЦЕВ. Не может быть! Ещё найдутся, найдутся на шаткой Земле и места сгущения мужества. О, вы ещё не знаете, как внезапно приходит к державе слабость, как в расцвете мощи она постигает внезапно! Это — мы испытали, изумлённо.
РУБЛЁВ. Ничего не найдутся! Вы отсюда не выйдете, так я вам скажу по секрету: вот так, (подходит, показывает на карте) кусок за куском мы их и слопаем потихоньку! Все — будут наши! Да вы по своим примерьте, по своим! Ваши где были молодчики, правящие? …Молчите? Так я вам скажу! Вы были — поколение банкротов! Банкроты были ваши министры и военачальники. и банкроты были все вожди ваших партий. и сами партии ваши были банкроты.
ВОРОТЫНЦЕВ. Только за партии — я не отвечаю!
РУБЛЁВ. Ладно. Разве вас была — малая шайка? Вас ведь тоже были сотни тысяч — состоятельных, благополучных, дворянчиков, раздражавших народ фейерверками, лихачами, английскими пальто, презрительными манерами. Но когда мы вышли с винтовками на мостовые — куда подевались эти благополучные господа? Они бежали к Деникину? Нет! Они стреляли в нас с чердаков? Нет! Они стояли в очереди сдать тёплое бельё для Красной армии, такой был приказ на стенах. Да на толкучке выменивали свои бархаты на сало. Да, заперевши ставенки, играли в преферанс. и ждали, что бородатый добрый Иван с кокардой приплетётся с Дону их освобождать. А приходила к ним — ЧК! (Хохочет.) Что? Не так? (Хохочет.) Я только потому и разговариваю с вами, что вы дрались как человек. (Пауза. Садится.) Не надо разгадку русской революции искать в Лондоне. Так не бывает: процветающая благословенная империя, а кучка проходимцев дунула — и империи нет. Разложена такая могучая армия. Увлечён такой добродушный народ! Какою же силой? Не силой ли наших идей?
ВОРОТЫНЦЕВ. Прежде всего — силой ваших методов. А потом — да и обманом ваших идей.
РУБЛЁВ. Вот то-то и оно! Побейтесь лбом об эту стеночку.
ВОРОТЫНЦЕВ. Да, когда-то ваши идеи были очень сильны. Эти идеи были: на! бери! Вы же ничего не требовали, вы только давали: мир, землю, фабрики, дома. Это была идея удобная и неразорительная: вы раздавали чужое… В десятках миллионов русских душ вы пробудили дремлющий инстинкт лёгкого стяжания. и на мгновение вы обратились из кучки в массу. Но очень скоро вы раскружили матушкино наследие, и идея ваша стала: даёшь! дай! — вам дай. Вот уже двадцать пять лет как вы ничего не даёте, вы только требуете, вы только берёте: мускулы, нервы, сон, семейное счастье, жизнь. и опять вы обернулись из массы в кучку. Почему теперь вы не суёте — на! на!?
РУБЛЁВ (выходя из боли, медленно). А я, признаться, звал вас и думал, что вы будете говорить мне… (пауза) о чём-нибудь другом… (Пауза.) Ну, там… (Пауза.)
Воротынцев внимательно смотрит на Рублёва.
о переселении душ… о Боге?..
ВОРОТЫНЦЕВ. Как смерть подопрёт — почему все за Бога хватаетесь?
РУБЛЁВ. Потому что, наверно… Потому что… (Не нашёлся. Встряхивается.) Вообще, слабо, полковник, слабо! Вам под семьдесят, а вы наивны, как юноша. Ни сокрушающей мощи нашей армии, ни живучести нашего централизованного аппарата вы не кладёте на весы. Кучка! Народ! Всё это давно срослось, всё это вот так (сплетает пальцы) проросло — и нет человеческих сил разделить это, оставив живым. Стряхнуть большевизм уже нельзя — можно только вырвать его с половиной народа. (Берёт телефонную трубку, набирает.) Вы все ещё верите в пульс?.. Алё. Ужин первой категории ко мне в кабинет.
ВОРОТЫНЦЕВ. Какой пульс?
РУБЛЁВ. У Чехова, не то у кого? — доктор из города приехал, выстукал больного и вызвал тамошнего фельдшера в другую комнату, вроде не обидеть, на консилиум. Так, мол, и так, коллега, безпокоит меня — пульс очень слабый. А фельдшер оглянулся на дверь: доктор, ведь мы одни, со мной-то вы можете быть откровенны, мы-то с вами знаем, что никакого «пульса» нет… Я коллективизацию делал, скажу, не хвастаясь: к толпе с кольями — выходил безоружный. Звонко крикну: хоть растерзайте меня, а будет по-нашему!.. Но шли годы, и какое-то странное ощущение нарастало: мечемся по району, стараемся как лучше, а из Москвы как будто какая-то тупая, неразумеющая, но очень жёсткая сила толкает нас делать как больней, как хуже. В тридцать третьем году такой шарахнули нам план хлебозаготовок, что мы через ГПУ собрали сорок процентов и остановились — нельзя! Соберёшь ещё двадцать — все мужики передохнут. ПредРИКа и секретарь райкома написали бумажку в область, ну и… Через месяц их расстреляли как правых.
ВОРОТЫНЦЕВ. Это я послушаю.
РУБЛЁВ. и в те же дни приходит в райисполком пригласительный билет: прислать в область представителя на празднование пятнадцатилетия энской стрелковой дивизии, формировалась она в Гражданскую войну в наших местах. Привелось поехать мне. Две гостиницы для гостей. Ковры и бронза. На каждом повороте — дежурные с кубиками, шпорами щёлкают, ремнями хрустят. Дверь на банкет распахнули — «Прошу пожаловать!..» — только что не «…господа офицеры!» Из Москвы приехали — с четырьмя ромбами. Хрусталь. Серебро. Невиданные вина. Невесомые печенья. Безшумные лакеи. Хо-хо-хо, думаю… Это только пятнадцатилетие. А — когда будем тридцать?
ВОРОТЫНЦЕВ. Очень забавно.
РУБЛЁВ. После ужина — бал в зале бывшего благородного собрания. Строго по пропускам, конечно. К подъезду — автомобили, чернь глазеет, милиционеры разгоняют. (Вздыхает.) Вот тут-то и понял я, что фельдшер был прав, пульса нет никакого… Где же враг? Мы привыкли считать, что враги — вы. А — они кто ж, директивы нам пишут, а? Сижу в этом блеске, вспоминаю деревеньки наши голодные, заготовок не сдавшие, — Черепениху, Квасниковку…
ВОРОТЫНЦЕВ (мягче). и почему же с той ночи не вступились вы за Квасниковку?
РУБЛЁВ. А — как? В ЦК писать? — то есть сесть в тюрьму и расстреляться? Я ж говорю, наши написали, пустили их в расход… С той-то ночи и решил я из деревни — бежать.
ВОРОТЫНЦЕВ. В Органы?
РУБЛЁВ. Да подвернулись Органы. (Пауза.) Я не апостол, за всех руками не намахаешься.
ВОРОТЫНЦЕВ. Очень жаль. Вот и я, вот и все мы в благополучии так рассуждали, и пока мы так рассуждаем — отнимает Бог у нас душу! Вы хотели секрет? — получите его. Потеряйте всё — и засверкают у вас глаза.
РУБЛЁВ. Ну-ну, вы тут меня сейчас поповщиной замотаете, отдай нательную рубашку, подставь правую щеку… (Оживляясь.) Да неужели я вам уступлю, что люди, которые делали революцию, были проходимцы?! Вы их не видели, этих людей, а я их лично знал. Кто дал вам право так их называть?.. В Тимирязевской академии был у нас секретарём парткома знаменитый Муралов. В вождях ходил. Был я у него на квартире. Десять лет прошло после революции, жил он на девяти квадратных метрах. Партмаксимум — и ниоткуда ни копейки!
ВОРОТЫНЦЕВ. Ну, распределители были? Раз-то в десять больше рабочего, а?
РУБЛЁВ. Стираная скатерть домашняя в заплатках, а на ужин — картофель в кожуре. Что скажете — были у вашего Николашки министры подобной моральной чистоты? На партийной дискуссии выступал он с речью от оппозиции. Мы имели инструкцию райкома: сорвать выступление, не дать ему говорить. Нас было большинство. и два часа мы слушали молча: от сочувствия лично к нему, от разрывающей боли за него. Ох и строгали ж нас за это потом!.. Уходя в ссылку, он не взял с собой ничего, потому что и не было у него ничего, только ружьё охотничье да собаку. Скажу вам, чего не знает никто: я приходил к нему прощаться. «Выше голову, Прохор! Лес по дереву не тужит. Если такие, как ты, понурятся, — кто ж у вас останется? Мы начинали — вам кончать. Берегите партию! Берегите революцию!»
ВОРОТЫНЦЕВ. О! революцию вы славно сберегли, спасибо! Вы разметали её так, как не удалось бы за двадцать лет так называемой реакции. Кто-то сказал: революция нужна, чтобы уничтожить революционеров.
РУБЛЁВ. Сейчас-то вы поумнели, а раньше? Если не революцией — чем было пронять ваши надменные лбы? Чем другим было втолковать Родзянке и Терещенке, что — надо поступиться!!
Стук в дверь.
ОФИЦИАНТКА (в дверях). Разрешите, товарищ полковник?
Рублёв кивает. Входят несколько девушек в передниках. Первая расстилает белую скатерть, принимает из рук других подносы, вино. В течении последующей реплики Воротынцева они беззвучно уходят. Заметно, что Рублёву неприятны запахи еды.
ВОРОТЫНЦЕВ. Да с Терещенко, такой дрянью, я не больше родня, чем вы. Вы по советским представлениям всех в одну кучу валите, кто только не большевик. Можно бы поразвитей. Но поступиться — в этом вы правы. Да вся мировая история была бы другая, если б люди только вот это одно умели — поступиться иногда. Хотите больше, я произнесу надгробную похвалу вашей революции? Совершенно серьёзно. Она была очень полезна почти всему человечеству. Людям правящим, людям богатым свойственно забываться. Она напомнила им, что существует бездна! и на Западе поняли. Посмотрите, сколько социализмов развелось: социал-фашизм, национал-социализм, социал-фалангизм, радикал-социализм, социал-католицизм, язык поломаешь. Посмотрите, во всём мире одна только партия Черчилля осмеливается называть себя консервативной, всё множество остальных наперебой распинается только за прогресс, только за демократию, только за права простого человека. Что можно было смягчить — смягчено, что можно было уступить — уступлено. Выиграли французы и американцы, греки и итальянцы, индусы и зулусы, — радуйтесь! — выиграли все, кроме русского народа. Один раз ощитив своим телом Европу от монгольского вихря, он и второй раз принял на себя ураган коммунизма. Радуйтесь, полковник Рублёв, что же вы не радуетесь?
РУБЛЁВ. Я радуюсь. Я очень рад, неужели вы не видите? Разве не я пригласил вас на этот весёлый ужин мертвецов? А сейчас мы раскупорим бутылку и подымем несколько беззаботных тостов.
ВОРОТЫНЦЕВ. Ужас в том, что вас огорчает судьба нескольких сотен партийных начётчиков, — а двенадцати миллионов мужиков, разорённых и сосланных в тундру, вам не жаль. А цвет и дух уничтоженной нации не реет проклятьем над вашей совестью. А ненависть, распалённая вами к русскому имени на Балтике и на Одере, на Висле и на Дунае, вас не лишает сна!
РУБЛЁВ. Ах, какой прокурор бы из вас получился! Сейчас бросаю всё и сажусь — пишу для вас кассацию. Чем чёрт не шутит, может и помилуют? (Скорчивается в приступе боли. Постепенно распрямляется.) А посмотрел бы я на вас, если б вы дожили до этого кабинета, до этой проклятой должности, до этих надчеловеческих прав. Героя и тюремщика разделяет один волосок. Сегодня вы сверкаете глазами и идёте красивенько умирать за обречённую идею, а обернись история иначе — и сверкал бы глазами я, и справедливо обозвал бы вас палачом, а вы позвонили бы и сказали: в карцер на пятнадцать суток. Что? Нет?
ВОРОТЫНЦЕВ. Вы ослеплены собственными легендами. Наша власть никогда не имела ничего подобного вашему СМЕРШу.
РУБЛЁВ (наливает бокалы). Ну ладно. Не откажитесь со мной поужинать.
Воротынцев отстраняется.
Какая восточная дикость! А ещё обвиняют в партийной узости — нас! Чем виновата эта утка, что её изжарил наш повар, а не ваш? Ведь вы полгода голодали. Садитесь!
ВОРОТЫНЦЕВ. Я голодал не один.
РУБЛЁВ. Всех не накормишь.
ВОРОТЫНЦЕВ. Это ваш старый вывод. Отпустите меня в камеру.
РУБЛЁВ. Да вы сядьте!! (Протягивает ему ампулу.) По латыни немного читаете?
ВОРОТЫНЦЕВ (читает). Венэнум. Яд. (Возвращает.)
РУБЛЁВ. Смерть через повешение! — мучительная штука! Вам не приходилось наблюдать? Повешенный долго корчится, пляшет, отдельно руками, отдельно ногами, потом каждый мускул, каждый тяж сокращается сам по себе. А вы — солдат. На хрена вам это? (Льёт яд в оба бокала с вином.) Разделим, тут на обоих.
Воротынцев колеблется.
Айда на пару. Туда. (Пододвигает ему и себе.)
Воротынцев сел за стол, взялся за бокал. Молчит.
(Очень просто.) Честное слово, одному и мне страшно. Страшно. А вдвоём ничего. Будем друг на друга смотреть и глотать. Огонь внутри несколько минут и… Чего тянуть? (Пытается чокнуться.)
Воротынцев молчит.
Чокнемся и под стол на карачках. Боитесь тоже? Или думаете — вас помилуют?
ВОРОТЫНЦЕВ. Нет. Этого не думаю.
РУБЛЁВ. Так оцените. Неужели лучше, чтоб вас всовывали в петлю?.. Смерть равняет нас с вами. Ну, храбрей! Ваше здоровье, полковник! (Поднимает бокал.)
ВОРОТЫНЦЕВ. Вот странно. Вы меня застали врасплох. Ко всему готов был, а не к этому… Помилуют? Нет, я не жду. Я знаю, что казнь.
РУБЛЁВ. Или, может, думаете — за два дня у нас что перевернётся? Скинут нас?
ВОРОТЫНЦЕВ. Увы, нет. Теперь это надолго стало. Единственную возможность Второй мировой войны упустили — теперь это надолго всем на шею, ещё на двадцать пять лет. Европа так упала — теперь нескоро встанет. Да она была к вам расслаблена ещё и с девятнадцатого. (Пауза.) Я и сам понять не могу: почему ж я — готов и не готов?.. Когда меня брали в плен, если бы было оружие со мной, — англичане обманом отобрали, — ведь я же мог бы кончить? и кончил бы без колебаний. Почему же сейчас? (Свободно ходит по комнате. Больше с собой.) С кем же я ещё не простился? Со своими? Давно. С камерой? Ещё чего-то там не сказал? А от этого может… для кого-то потом… Как будто от тюрьмы появились новые обязанности. (Громче.) Вы знаете, каждый лишний день, который я могу служить… силам добра…
РУБЛЁВ (всё время на месте). А-пять заладил, гимназист! Добро! Зло! Белое, чёрное. Серо-буро-малиновое. Кто их щупал? Видел их — кто? Всё это смешалось и уже никогда не распутается. Трусите, да? Так и скажите. Значит, я всё-таки — смелее вас?
ВОРОТЫНЦЕВ (снова в нерешительности). Н-не знаю…
РУБЛЁВ. А ведь я — моложе, мне горше умирать. Но не хочу больше мучаться… А как хорошо бы кончили? А, полковник?
ВОРОТЫНЦЕВ (с новым удивлением — на него, на стол, на яд). Вот странный оттенок, да. Не скажу, что из соображений религиозных, — ведь я же бы застрелился. и если уж смерть всё равно вот она… Ну, чуть раньше… В чём же оттенок? Нет, не могу. Отказываюсь. (Пауза.) Или вот: вы украли Кутепова — и что с ним сделали? Может, и повесили. А Кутепов был мой друг. Так вешайте и меня. Подождите, и до ваших шей доберутся.
РУБЛЁВ (дотягиваясь до трубки). Алё. В сто двадцать пятую от меня возьмите. (Кладёт трубку.) Были вы, были мы, и третьи придут, может, ещё хуже — и нич-чего хорошего не будет никогда!
ВОРОТЫНЦЕВ. Знаете, давно-давно, ещё в Маньчжурии, старый китаец так мне и предсказал: что я умру военною смертью в 1945 году. Я это всё время помнил. Это помогало мне быть смелее, в прошлых войнах. Но вот эта кончалась, уж каждый день готов был, — не убивают. и — кончилась. А вот она: смерть от врага после войны — тоже военная смерть. Но — от врага. А — от себя? Некрасиво. Не военная. Вот именно трусость. и зачем же снимать с ваших рук хоть одно убийство? брать на себя? Нет, пусть будет и это — на вас!
В дверях выводной. Взмахом руки Рублёв показывает ему убрать Воротынцева. Офицерски подтянувшись, взяв руки за спину, он уходит. Рублёв задумчиво держится за рюмку яда и пытается хрипло напевать «Интернационал».
РУБЛЁВ. …Над нами так же солнце станет
Светить огнём своих лучей…
КАРТИНА 9
Ещё до открытия занавеса со сцены слышно мягкое пение в четыре голоса:
«Динь-дон, динь-дон, слышен звон кандальный, Динь-дон, динь-дон, путь сибирский дальний…»Занавес раздвигается. В камере — вечер. Окошко — черно. На полочке у стены догорает коптилка. У параши спит Медников. Рядом с ним беседуют Гай и Болоснин. В глубине Мостовщиков что-то рассказывает, его слушают, усевшись кружком, Прянчиков и новички — Арестант в роговых очках и Арестант с голландской бородкой. Ближе к авансцене, поджав ноги, под дирижёрство Рубина сидят и поют Кулыбышев, Климов и Печкуров. Больше в камере нет никого.
ГРУППА РУБИНА
(поют)
Динь-дон, динь-дон, слышишь, там идут, —
Нашего товарища на каторгу ведут.
(И ещё поют, но беззвучно.)
МОСТОВЩИКОВ
Сочетанием ли лёгких элементов,
Расщепленьем ли тяжёлого урана, —
Скоро взбросят бомбы толщу континентов
В десятикилометровые фонтаны.
Но и тут ещё не переступим меры,
Если, как дракона сказочной пещеры,
Мы с цепи не выпустим реакцию цепную.
Поздно будет, — когда тронем — атмосферу
И кору земную.
Лишь коснись мы вездесущего азота,
Лишь нарушь покой застывший кремния, —
И, как «подмастерье чародея» Гёте,
Мы не остановим силищу всеземную.
ПРЯНЧИКОВ
(вскакивает)
Ах, о чём печётесь, господа!
Мы взорвали б! — не успеем мы взорвать планету! —
Наше Солнце — «новая звезда»,
Знаете ли вы об этом?
Это значит, что в мгновенье ока
Может разорваться Солнца жёлтый шар,
И свободу Запада и лагеря Востока —
Всё спалит стотысячградусный пожар!
МОСТОВЩИКОВ
Основать Правительство Всемирное не нам ли,
Не учёным ли подходит срок?
Посмотрите — как Лаэрт и Гамлет,
Обменяли шпаги Запад и Восток:
Человечеству на высоте веков
Жить в лачугах наций не пристало, —
Белый Дом разит большевиков
Шпагою отравленной Интернационала.
Но, зовя в Средневековье, в шкуры, в лес,
Бурши одичалые Советов
Тянутся, цепляются за сломленный эфес
Суверенитета.
Так, в десятилетья, увенчавшие века…
Отхлопывается кормушка.
8-Й НАДЗИРАТЕЛЬ
Медников! Слегка!
В камере мгновенное молчание. Медников вздрагивает, поднимает голову, безсмысленно озирается. Движение в камере, как бы ему на помощь. Уже открыта и дверь. Медников неверными движениями становится на колени; опираясь на Болоснина и Гая, поднимается на ноги и, взяв руки за спину, покорно выходит в коридор.
ГРУППА РУБИНА
(поют)
Динь-дон, динь-дон, слышишь звон кандальный? Динь-дон, динь-дон, путь сибирский дальний… Динь-дон, динь-дон, слышишь, там идут? На-ше-го то-ва-рища на ка-торгу ве-дут?!..Дверь за Медниковым закрылась. Группа в глубине разошлась. Мостовщиков и Арестант с голландской бородкой, встав во весь рост, пытаются гулять по камере.
МОСТОВЩИКОВ
Утром вялый просыпаешься — солома, тупость, вонь,
Сковывает мозг безрадостная сонность.
А под вечер — мыслей заплески, воображения огонь,
Лёгкость, взвешенность, всем телом невесомость,
Этакая, знаете, нирвана…
Странно?
АРЕСТАНТ С ГОЛЛАНДСКОЙ БОРОДКОЙ
Странно вам? Отнюдь.
Разве дух наш можно телом обомкнуть?
Дней по девяносту голодал Махатма Ганди!
Мы же, сидя здесь на пайке, на баланде! —
Унываем, опускаемся подчас,
И не верим сами и не знаем —
Сил духовных, сил, крылящих нас,
Жизненный запас
Как неисчерпаем!!
От тщеславья, от самовлюбленья
Жил я взбудоражен, словно на подгуле, —
Лишь тюремные ночные тени
Стержень жизни мне приопахнули.
Мы на воле слишком сытые живём,
Слишком жадны, слишком быстры, слишком громки… —
Жизни вкус впервые узнаём
На пустой баланде, на гнилой соломке.
БОЛОСНИН
(Гаю)
Нас единственных, кто мог бы постоять
За Европу их усталую, засранцы, —
В тьме безумия, ни за хрен, ни за твою мать
Сталину угодливо нас подали сожрать,
Продали в Баварии американцы.
Так и англичане в этом мае
Торопились, предавали наших на Дунае.
Были — от РОА не худшие рубаки,
Русский корпус — и казаки, и казаки…
Всех траншей прошедшие, листовок всех искус —
За черту последнюю, последней веры меру,
И готовые хоть к дьяволу, в Сахару, на Венеру!
В Каледонию! гребцами на галеры! —
Только не в Советский бы Союз!!!
…И свободные британцы не забыли нас:
Выманив оружие, прислали нам приказ:
Офицерам быть на совещаньи в Юденбурге —
В зоне англичан.
Кажется, и оттоманские бы турки
Псам на мясо пожалели христиан!
Мы доверчиво поехали, не зная ни о чём, —
Англичане ж ночью отошли тайком!..
РУБИН
(напевает как бы про себя)
«Как дело измены, как совесть тирана,
Осенняя ночка черна…»
ПЕЧКУРОВ
Что ещё за песня? Ну-к, давайте жахнем!
РУБИН
Мутно, братцы. Завтра… Гаснет и мигалка…
Коптилка судорожно подрагивает. Освещение сцены переходит к скупым софитам.
КЛИМОВ
(хлопая Рубина по плечу)
Лев Григорьич! Просто слушать жалко —
Затвердили: коммунист вы! — да какой вы на хрен?!
С вертухаями ругаетесь, а с нами веселы…
РУБИН
Петя, Петя, не здоровится от этой похвалы…
(Вытягивается на соломе, замирает.)
БОЛОСНИН
Дачные предместия… акаций белых пена…
Мост над улицей. Мы взъехали — полуокружием —
Автоматчики! и звёзды на пилотках!..
— Господа! Измена!!..
Дайте нам оружие! Верните нам оружие!
Русский рок! Каким проклятьем ты отмечен?
Застрелиться! — даже застрелиться — нечем!!..
Всё готово… Пятятся навстречу воронками.
Выкликают по фамилиям с листа…
И с перил в отчаяньи на камни
Кто-то прыгает с моста…
Грохот отворяемой двери. Входит Воротынцев, держась очень ровно, торжественно.
КЛИМОВ
О! Георь’ Михалыч!
ПЕЧКУРОВ
Кто ж вас вызывал?
ВОРОТЫНЦЕВ
(не сразу)
Ну, сынки, последний вечер. Завтра — трибунал.
(Пауза. Обнимает подошедших к нему Климова и Печкурова.)
Дни бегут — и всем нам череда.
Жили плотно — а просторно разбросают…
Затолкают новеньких сюда…
АРЕСТАНТ В РОГОВЫХ ОЧКАХ
Свято место пусто не бывает.
Коптилка окончательно погасает. Углы камеры вовсе чёрные. Освещение людей скупое.
ВОРОТЫНЦЕВ
И кому куда доехать до зимы?..
От мятелей ледяных — в какие жаться норы?..
Кряжевать ли сосны у Печоры?
Отвозить породу Колымы?
БОЛОСНИН
(вставая)
Но не верю я, что нам осталось в мире
Только гордое терпение да скорбный труд
В глубине сибирских руд!
Если прадеды кончали путь в Сибири, —
Может, правнуки в Сибири свой начнут?!
ВОРОТЫНЦЕВ
Этой верою вам крепнуть — надо б, да!
И, друзья, — не ждите помощи от Запада:
Силы нет и воли нет в благополучных странах,
Ни сознанья, ни понятья, ни — перед бедой открытых глаз.
Вся надежда мира — вся на каторжанах!
Вся теперь — на вас!!!
Что Россия в эти годы на себе перенесла —
Может быть, таких, как вы, она ждала.
Свет софитов, собранный на фигурах арестантов, становится постепенно бронзовым. Каждый, произнеся свою последнюю реплику или молча, подходит и как бы включается в групповую скульптуру. Рубин лёжа, облокотясь, Мостовщиков ослонясь о стену — тоже неподвижны.
КУЛЫБЫШЕВ
Десять лет! пятнадцать! двадцать пять!
АРЕСТАНТ С ГОЛЛАНДСКОЙ БОРОДКОЙ
Наша сила в том, что нечего терять!
ПЕЧКУРОВ
Что и так и этак подыхать.
ГАЙ
А подымемся — петля! уже нельзя назад!
КЛИМОВ
И не будет в мире злей на Сталина солдат!
ВОРОТЫНЦЕВ
Не влачить униженно позора,
БОЛОСНИН
Лагерного рабьего клейма!
КЛИМОВ
Эй, дохни-ка, снежная Печора!
ГАЙ
Тряхани плечами, Колыма!
Бронзовый свет постепенно меркнет. Скульптурная группа неподвижна.
Где-то близко, за окном, — унылый вой сторожевых собак, сопровождавший и начало пьесы.
На сцене и в зале всё темнеет.
ГОЛОС ПЕЧКУРОВА
Что ни полночь, воют, воют псы… — кому?
ГОЛОС ВОРОТЫНЦЕВА
Дому сему!
Нарастающее несогласное вытьё собак.
1952
Экибастуз, на общих, устно
1953
Кок-Терек
Олень и шалашовка ДРАМА
Посвящаю Ане Бреславской
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
ЗЭКИ:
ГЛЕБ ВИКЕНТЬЕВИЧ НЕРЖИН, недавний фронтовик.
ПАВЕЛ ТАРАСОВИЧ ГАЙ, тоже; бригадир каменщиков.
ЛЮБА НЕГНЕВИЦКАЯ.
ГРАНЯ (АГРАФЕНА) 3ЫБИНА.
БОРИС КУКОЧ.
ТИМОФЕЙ МЕРЕЩУН, врач зоны.
НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ ЯХИМЧУК.
МАКАР МУНИЦА, ГРИШКА ЧЕГЕНЁВ — литейщики.
ДИМКА, 14 лет.
ШАРЫПО, бригадир штукатуров.
КОСТЯ, нарядчик.
ПОСОШКОВ, комендант зоны.
СОЛОМОН ДАВЫДОВИЧ, старший бухгалтер зоны.
БЕЛОБОТНИКОВ, бухгалтер.
ДОРОФЕЕВ, нормировщик на производстве.
ЗИНА, машинистка там же, лагерная жена Посошкова.
КАМИЛЛ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ ГОНТУАР, бельгиец.
ШУРОЧКА СОЙМИНА.
БЭЛЛА.
1-Я СТУДЕНТКА.
2-Я СТУДЕНТКА.
ФИКСАТЫЙ, ЖОРИК — блатные.
ЛЁНЬЧИК
ЖЕНЬКА, тенор.
ВИТЬКА, конферансье.
АГА-МИРЗА, фельдшер зоны.
АНГЕЛ, дневальный.
ЗАВБАНЕЙ.
СТАРШИЙ ПОВАР ЗОНЫ.
1-Я, 2-Я, 3-Я, 4-Я ЖЕНЩИНЫ ИЗ НОВОГО ЭТАПА.
1-Й, 2-Й, 3-Й, 4-Й КАМЕНЩИКИ.
1-Й, 2-Й, 3-Й БРИГАДИРЫ.
1-Й ДОХОДЯГА.
2-Й ДОХОДЯГА.
РАБОТЯГА ИЗ БРИГАДЫ ШАРЫПО.
ВОЛЬНЫЕ:
ИЛЬЯ АФАНАСЬЕВИЧ КАПЛЮЖНИКОВ, главный инженер треста.
АРНОЛЬД ЕФИМОВИЧ ГУРВИЧ, старший прораб строительно-монтажного объекта.
АКСЕНТЬЕВИЧ ФРОЛОВ, начальник литейного цеха.
ФЁДОР ИВАНОВИЧ ГОРШКОВ, десятник.
1-Й И 2-Й ДЕСЯТНИКИ.
МАСТЕР МЕХЦЕХА, паренёк комсомольского вида.
ОХРАНА:
ОВЧУХОВ, лейтенант, начальник лагерного пункта.
КОЛОДЕЙ, младший сержант, старший надзиратель.
НАДЗИРАТЕЛЬНИЦА С БУЙНЫМИ КУДРЯМИ.
ПРИЕЗЖИЙ НАДЗИРАТЕЛЬ С ЛЕСНОЙ ПОДКОМАНДИРОВКИ.
СЕРЖАНТ КОНВОЯ.
Работяги. Бригадиры. Придурки. Артисты КВЧ.
Надзиратели. Вахтёры. Конвоиры. Попки на вышках.
Время действия — октябрь 1945 года.
Промежутки между актами — по несколько дней.
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ЛАГЕРНОГО ЯЗЫКА (ПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРОГРАММКЕ)
бациллы (блатн.) — жиры
гарантийка — гарантированная (при отсутствии работы) хлебная пайка; осмысливая это трудное слово, называли её и «карантинкой» (за то, что давали её, в частности, в карантине)
быть в законе (блатн.) — жить по воровскому закону, в частности, «законно» не работать
жить в законе — то есть в лагерном «браке» — не таясь, при молчаливой снисходительности начальства
зона — 1) пространство, огороженное колючей проволокой; в частности и особенно — жилая зона; 2) самый забор с запретной полосой
кантоваться, филонить — жить «день до вечера», отбывая срок, стараясь не работать
КВЧ — «культурно-воспитательная» часть (отделение лагерной администрации)
кондей (блатн.) — карцер
костыль (блатн.) — пайка (в смысле: то последнее, что ещё поддерживает жизнь)
кум — чекистский уполномоченный в лагере
мантулить, вкалывать — безсмысленно растрачивать силы в казённой работе, «горбить»
охра, вохра — лагерная полувоенизированная охрана
общие работы — главные по профилю лагеря, самые тяжёлые
параша (одно из значений) — непроверенный лагерный слух
ППЧ — планово-производственная часть (отделение лагерной администрации); следит за наиболее выгодным для лагеря распределением и использованием рабочей силы
придурки — зэки, сумевшие устроиться на физически лёгкую работу (административная, канцелярская должность, сфера обслуживания)
сосаловка, доходиловка — безнадёжно-голодный лагерь
сука — вор, пошедший на службу к начальству и тем изменивший воровскому закону
УРЧ — учётно-распределительная часть (отделение лагерной администрации)
фашисты — так с 1941 года ругали и дразнили всех политических
фитиль (блатн.) — сильно ослабший человек, уже не держится прямо (глагол: фитилить)
на цырлах — одновременно: на цыпочках, стремительно и со всем усердием
ЧТЗ — «Челябинский Тракторный Завод», наскоро сшитая из автомобильной резины грубая обувь, оставляющая после ноги человека как бы автомобильный след
шалашовка — лагерница лёгкого поведения, способная на любовь в непритязательных обстоятельствах
ШИзо — штрафной изолятор
шмон (блатн.) — обыск (глагол: шмонать)
ОБЩЕСОВЕТСКОЕ:
БРИЗ — бюро рационализации и изобретательства
ВЦСП — Всероссийский центральный совет профессиональных союзов
Из освещённого фойе зрители входят в тёмный зрительный зал, где жёлто неярко светятся только фонари под жестяными колпаками, посаженные как бы на верхушки столбов по всему полукругу барьера оркестра. Столбы выдаются невысоко, чтобы не мешать видеть действие. Они оплетены колючей проволокой, уходящей в оркестровую яму. Охранные лагерные вышки приставлены справа и слева к порталу сцены. На вышках весь спектакль стоят часовые.
Занавес: ткань, грубо разрисованная в плакатный оптимистически-индустриальный пейзаж с мускулистыми румяными весёлыми мужчинами и женщинами, трудящимися безо всякого напряжения. В одном из углов его — радостное шествие с цветами и детьми, с портретом Сталина.
Где-то высоко гремит динамик: мощный хор молодых голосов с энтузиазмом поёт:
Мы подымаем знамя! Товарищи! — сюда! Идите строить с нами РЕСПУБЛИКУ ТРУДА!Из-за занавеса — резкие удары ломом о рельс.
Фонари «зоны» гаснут на время всего спектакля, до последней картины.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
КАРТИНА 1
Утро. Скоро взойдёт солнце. На крышах бараков белеет иней осеннего заморозка.
Часть зоны лагеря. В глубине колючая изгородь с предзонником. В ней — двойные ворота: высокие в заборе зоны, низенькие в заборе предзонника. Правее ворот — тесовая будка вахты. Ещё глубже, за изгородью — рабочая зона, там — высокое строящееся кирпичное здание, кран, кое-где леса. Видна дымящая литейка и другие подсобные постройки.
Слева, наискосок к вахте, ведёт линейка развода, густо заполненная заключёнными, мужчинами и женщинами, в грязных изорванных телогрейках и ватных брюках, у некоторых женщин поверх брюк — юбка. У самых ворот развод походит на строй, — там вахтёр и румяный, похожий на боксёра нарядчик Костя пропускают пятёрки, хлопая счётными дощечками крайних по спинам. Дальше от ворот строя нет, безпорядок, разговоры. Общая вялость, понурость, только Чегенёв в шутку возится с Димкой. Один увязывает обувь, другой доминает утреннюю пайку хлеба, третий зябнет, жмётся. В самом хвосте развода выделяются несколько почище одетых производственных придурков, среди них «шикарно» одетая машинистка Зина и низенький толстый нормировщик Дорофеев. У ворот сидит на табуретке гармонист и лениво, не всё время, наигрывает марш из «Весёлых ребят». Обок развода стоит в белом халате чёрный фельдшер Ага-Мирза, у ног его сидит на земле 1-й доходяга.
Столб, на проволоке — рельс. Около стоят низенький надзиратель Колодей и высокий Нержин в долгой, ещё новой офицерской шинели без знаков различия и в сапогах. Оба следят за разводом.
Слева близко выступает угол стандартного лагерного барака, тут маленькая дверь с парой ступенек в нашу сторону. Ещё ближе — тщательно окрашенный дощаной ящик с крышкой и надписью: «Для отбросов».
На стенах бараков и на отдельных щитах в разных местах зоны — плакаты:
«ТРУД ОБЛАГОРАЖИВАЕТ ЧЕЛОВЕКА»
«ТРУД ИЗ ЗАЗОРНОГО БРЕМЕНИ, КАКИМ ОН БЫЛ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ, СТАЛ ДЕЛОМ ЧЕСТИ, ДЕЛОМ СЛАВЫ, ДЕЛОМ ДОБЛЕСТИ И ГЕРОЙСТВА» /СТАЛИН/
«КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ!»
Видно, как бригады в рабочей зоне тотчас разбредаются и к концу картины начинают работать.
ВАХТЁР. Взяться под руки! Первая! Вторая! Третья!..
КОСТЯ (громко). А ну, пятый барак, не фитили! Что, с дрыном давно не заходил? Зайду!
К линейке спешат новые работяги.
ЯХИМЧУК (от вахты). Чегенёв. Шпана!
ЧЕГЕНЁВ (у него фуражка надета по-шпански). Я шпана! (Догоняет бригаду.)
ЯХИМЧУК. Малолетка!
ДИМКА. Я малолетка! (Догоняет.)
ДОРОФЕЕВ (вышел из строя, подходит к Нержину). Глеб Викентьич, дельце одно…
КОЛОДЕЙ. В армии служил?
ДОРОФЕЕВ. Но ведь здесь не армия, гражданин начальник…
КОЛОДЕЙ. Раз-говорчики! Здесь почище армии! Шапку!
ДОРОФЕЕВ (обнажает лысую голову). Гражданин старший надзиратель младший сержант Колодей! Дозвольте обратиться к завпроизводством заключённому Нержину!
КОЛОДЕЙ. Во-от, давно бы так… Не дозволяю!
Дорофеев отходит. Нержин идёт за ним к строю, там разговаривают.
АГА-МИРЗА. Давай градусник!
1-Й ДОХОДЯГА. Доктор, десять минут надо мерить.
АГА-МИРЗА. Ты давно такой умный стал? Права качать? (Берёт градусник.) Нормальная, иди!
1-Й ДОХОДЯГА (не вставая с земли). Гусейн Байрамович! В уборную сколько раз бегал…
АГА-МИРЗА. На кухне работал? Слабинку щупаешь, падло? (Намеревается ударить.)
Доходяга встаёт поспешно.
Гражданин надзиратель! Тут — отказчик, куда его?
КОЛОДЕЙ. В шизо, куда.
Ага-Мирза бьёт доходягу ногой, тот уковыливает вслед своей бригаде. Другой вахтёр вызывает Колодея, Колодей уходит. От ворот ленивые вздохи гармошки.
ГОЛОСА ИЗ ЛЕНТЫ РАЗВОДА. Зинка, шлюха, юбку новую надела.
— А юбка-то Маруськина. Комендант с Маруськи снял, как её на этап отправляли.
— Житьё, девочки, с комендантом! (Поёт.)
Я любила бригадира, Коменданту угодила И с нарядчиком спала, — Так стахановкой была!— Ну всё, с паечкой рассчитался.
— С карантинкой чего не рассчитаться! Вон как бригадир себе и своей гумознице по килу взял!..
— Бригадир! Развалились лапти! Смотри, лапти развалились, в чём пойду?
— Завтра подкую, ЧТЗ получишь.
Развод подходит к концу. Из двери ближнего барака на ступеньки вышел, потягиваясь, Мерещун, полный, солидный человек, ещё полуодетый. К нему подходит Ага-Мирза.
АГА-МИРЗА. Доброе утро, Тимофей Кириллыч!
МЕРЕЩУН. Ох, что-то я рано сегодня встал. Без бабы не спится.
АГА-МИРЗА. Сами прогнали, Тимофей Кириллыч.
МЕРЕЩУН. Надоела, поносница. Ну, чего там, в больнице? Полы драили?
АГА-МИРЗА. Драили всю ночь, правильно драили.
МЕРЕЩУН. Смотри!.. и ещё: в какую тумбочку загляну, если крошки найду — не обижайся.
АГА-МИРЗА. Валька умрёт, наверно, сегодня.
МЕРЕЩУН. А Матвеев?
АГА-МИРЗА. С копыт. Уже в морге.
МЕРЕЩУН. Ну ещё б, с такой высоты!.. Потом это, Ага-Мирза! — простыни чтобы подвёрнуты были. Терпеть не могу, когда простыни не подвёрнуты. (Смотрит направо.) Что это? Этап, что ли?
За их спиной слева к ящику с отбросами прокрадывается 2-й доходяга. Он — в шинельном бушлате, перепоясанном верёвкой, под которую на спине подпущен дужкой немецкий солдатский котелок без крышки. Доходяга открывает ящик, роется там, выбирает пищу и складывает в котелок.
Развод окончился, ворота закрыты. На верхних кирпичах стройки играет первое солнце. Нарядчик с вахтёром ведут подсчёт, каждый по своей дощечке, нарядчик растолковывает вахтёру. Входит Колодей с парой бумажёнок. Следом фырчит автомашина, подаваемая сюда.
КОЛОДЕЙ. А ну, кто там? Завпроизводством! Ко мне. (Кому-то.) Коменданта сюда! и этого… банщика!
Тот убегает.
Сейчас та-ак… На вот, прочти. (Даёт Нержину бумаги.) Этап привезли.
НЕРЖИН. Много? (Читает.)
КОЛОДЕЙ. Четыре машины будет, пока одна пришла.
Медленно задом входит справа трёхтонка с высокими бортами, по видимости пустая, только в передней части кузова стоят, отделённые решёткой, два автоматчика. Они соскакивают и уходят.
НЕРЖИН. Продаттестат. Удовлетворены по восемнадцатое включительно.
КОЛОДЕЙ. По сегодня? Порядок, не кормим. Ещё чего?
НЕРЖИН. Ну, баланды-то бы можно…
КОЛОДЕЙ. Как это — баланды? Баланда денег стоит. Вот на работу ты их выведи.
НЕРЖИН. Сегодня?
КОЛОДЕЙ. Неужто завтра? Пусть проценты несут.
Шофёр открывает задний борт кузова. Из кабины выходит сержант конвоя с пачкой тюремных дел.
НЕРЖИН. Да ведь надо по специальностям разобрать, по бригадам раздать, гражданин начальник… Списки составить.
КОЛОДЕЙ. Ты — человек или чурка с глазами? С утра они у нас, а вечером, может, на лесоповальный участок? Так пусть поработают. У меня — не как у других надзирателей, простоев не бывает. Отмеришь двадцать человек, старшего — и шагом арш! А то начальник лагеря воротится — знаешь, взгрёбка будет? (Подходит к грузовику.) Сла-азь!!
Из кузова начинают подниматься зэки, до сих пор сидевшие на дне его и не видимые за высокими бортами. Они спрыгивают с вещами, разминают затекшие ноги.
Не ходи! Садись!
Шурочка, молодая дамочка в яркой городской шляпке, садится по этой команде не на землю, как все, а на чемодан, и возвышается. Колодей с неожиданным проворством подбегает и носком сапога пробивает чемодан.
Ся-адь!!
Шурочка садится на землю. Появляется краснорожий отъевшийся банщик.
БАНЩИК. Гражданин начальник! По вашему вызову завбаней явился!
КОЛОДЕЙ. Ты… вот что… Белья нет?
БАНЩИК. Откуда бельё?!
КОЛОДЕЙ. А мыло?
БАНЩИК. Не подвезли.
КОЛОДЕЙ. Вода-то есть?
БАНЩИК. Где есть! Перекрыли…
КОЛОДЕЙ. Гм-м…
АГА-МИРЗА. Ещё лучше, гражданин начальник, быстрей вымоем.
КОЛОДЕЙ. и то правда. Прожарку топи, прожарку. Как, доктор, ничего, что без воды?
МЕРЕЩУН. Ничего-о. (Этапу.) Сколько дней в дороге?
ГОЛОС. Вторую неделю.
МЕРЕЩУН. Ничего.
Банщик убежал. С грузовика сошло человек тридцать, грузовик уходит.
НЕРЖИН (внимательно оглядывая прибывших). Ваша фамилия — как?
КУКОЧ (встаёт; он в ярко-красном джемпере). Инженер Кукоч.
НЕРЖИН. Вот и угадал. Будете старшим мужской двадцатки. Список составите, мне дадите.
КУКОЧ. Есть! (Садится.)
НЕРЖИН (так же внимательно оглядывает женщин). А — ваша?
ГРАНЯ (приподымаясь). Зыбина.
НЕРЖИН. Вы — среди женщин старшая!
Гул среди женщин.
Что такое?
ОДНА ИЗ ЖЕНЩИН. Как в воду смотрел.
ДРУГАЯ. Она бригадиршей и была.
НЕРЖИН. Вы что — все из одного лагеря?
КУКОЧ. Из подмосковного. Фрицев военнопленных привезли, а нас расформировали.
Входит маленький, очень подвижный Посошков в большом картузе.
ПОСОШКОВ (отдавая приветствие). Посошков, шесть вершков!
КОЛОДЕЙ (смеётся). Хвастаешь при бабах… Сейчас, комендант, вот что: мы их — выкликать по делам, а вы с нарядчиком сразу шмонайте, я вам доверяю. Только правильно шмонайте!
ПОСОШКОВ (кричит). Женщинам — от пояса раздеться!
В этапе смех.
СЕРЖАНТ КОНВОЯ. На, вычитай!
КОЛОДЕЙ. Я не читатель. Ты вычитай.
Мерещун наблюдает от своей двери. Нарядчик и комендант становятся к нему спиной, лицом к этапу. Сзади их всех 2-й доходяга продолжает ковыряться в отбросах. Нержин — около Колодея. По мере того как сержант выкликает, этапники проходят обыск и переходят налево.
СЕРЖАНТ. Не… гне…
ЛЮБА. Негневицкая.
СЕРЖАНТ. Понавыдумывают фамилиев.
ЛЮБА. Негневицкая, Любовь Стефановна, 23-го года, пятьдесят восемь-десять, восемь лет.
КОЛОДЕЙ (враждебно). Агитация?
ЛЮБА (Посошкову, который при обыске берёт ее за грудь). Не лапай, не купишь.
СЕРЖАНТ. Сойкина.
ШУРОЧКА. Соймина Алексан-на Пал-л-на! 1917-го, пятьдесят восемь-двенадцать, десять лет!
КОЛОДЕЙ (угрюмо). Недоносительство?
СЕРЖАНТ. Зыбина.
ГРАНЯ. Аграфена Михална, 20-го года, сто тридцать шестая, десять лет.
КОЛОДЕЙ (кивая). Убийство.
СЕРЖАНТ. К… К… К…
КУКОЧ. Кукоч Борис Александрович, 10-го года, закон семь восьмых, десять лет.
КОЛОДЕЙ (широко улыбаясь). Сколько хапанул?
КУКОЧ (уже со шмона). На передачи хватает, гражданин начальник!
КОЛОДЕЙ. Моло-одчик.
ПОСОШКОВ (берёт Граню за грудь). А здесь чего насовала?
Граня резко ударяет его локтем, заставив пошатнуться. Проходит. Выкликание продолжается беззвучно.
МЕРЕЩУН (Любе, которая села на вещах неподалёку). Девочка!
ЛЮБА. А?
МЕРЕЩУН. Давно сидишь?
ЛЮБА. Хватает.
МЕРЕЩУН. Подженимся?
ЛЮБА. Так и сразу?
МЕРЕЩУН. А что теряться?
ЛЮБА. Я не дешёвка.
МЕРЕЩУН. Я не дёшево и дам. Вот здесь я живу. Кабинка моя. Чтоб ты знала.
ЛЮБА. Ну и живите.
МЕРЕЩУН. Скучно.
ЛЮБА. Санитарок мало? (Отворачивается.)
Мерещун некоторое время смотрит на неё, потом замечает Кукоча.
СЕРЖАНТ (силясь прочесть). Тьфу, будь ты проклят, где вас берут!.. Гоп… Гоп…
ГОНТУАР (широкоплечий старик с серебряной сединой, остриженный). Гонтуар Камилл Леопольдович, 1890 года рождения, статья пятьдесят восемь-один «А», через девятнадцатую, десять лет.
МЕРЕЩУН (Кукочу). Свитер у вас хороший. Цвет мне нравится.
КУКОЧ (ещё не одевшись после обыска). и вообразите — не линяет. Попробуйте матерьяльчик! (Даёт пощупать.) Заграничный! Знаете, кто его носил? Сын шведского миллионера!
МЕРЕЩУН. Да что вы?!
КУКОЧ. Представляете, такой интересный номер: сидим на куйбышевской пересылке, жара, сто человек в камере, я — в одних трусах, он — в свитере и шерстяных брюках, говорит: изнемогаю, где бы мне в Советском Союзе достать трусы? Я говорю: для сына миллионера у меня есть запасные, немножко рваные, махнём на свитер, не глядя? Махнули. А вот попробуйте, оденьте. Тепло, мягко.
МЕРЕЩУН. Давайте примерю, интересно, сын миллионера… (Надевает.)
СЕРЖАНТ. Семёнов! Семёнов!!
Молчание.
ФИКСАТЫЙ (одетый пестро, франтовато, без вещей, встаёт, подходит с медленной раскачкой). Наверно, буду я.
СЕРЖАНТ. Он же?!
ФИКСАТЫЙ. Макаров.
СЕРЖАНТ. Он же?!
ФИКСАТЫЙ. Балтрушайтис.
СЕРЖАНТ. Он же?!
ФИКСАТЫЙ. Прибыленко.
СЕРЖАНТ. Статьи!
ФИКСАТЫЙ. 162-я, 165-я, 136-я, пятьдесят девять-три.
СЕРЖАНТ. Срок?
ФИКСАТЫЙ. Пять лет.
КОЛОДЕЙ. Работать будешь?
ФИКСАТЫЙ (нараспев). В посылочной — могу… Сам знаешь, начальничек, по субботам мы не ходим на работу, а у нас суббота — каждый день.
НЕРЖИН (командно). и спрашивать нечего — будет! Куда он денется?
Фиксатый обёртывается к Нержину, смотрит молча, проходит к нарядчику.
ПОСОШКОВ (вытряхивая на землю чемодан Гонтуара). Смотри, гражданин начальник, книг понапихано, бумаги. Его — работать прислали или что?
Колодей идёт на зов, оглядывает книги.
ФИКСАТЫЙ (нарядчику). А ты кто? Сука?
КОСТЯ. В законе? (Даёт ему знак пройти без обыска.)
КУКОЧ. Вообще, этот сын миллионера имел на пересылке бледный вид. Такой интересный номер: написал какую-то статью в защиту социализма. Наши по этой статье решили его хапен-гевейзен, чтобы здесь, в СССР, он до конца осознал, перековался, отмежевался от западного мира вообще и от отца-кровопийцы в частности.
КОЛОДЕЙ. и буквы какие-то не наши. Ты не шпион?
ГОНТУАР. Я — ветеран и инвалид двух мировых войн!
КОЛОДЕЙ. Немец?
ГОНТУАР. Я?? Я даже такого слова не знаю — «немец». Мой родной город сожгли боши!!
КОЛОДЕЙ (недослышав). Наши? Значит, надо было, раз сожгли… (Погружается в раздумье.)
КУКОЧ. Нет-нет, не снимайте, возьмите себе. У меня барахла хватает.
КОЛОДЕЙ. Ты к чему это сказал, что инвалид? Чтоб не работать? Я в Спасском лагере был, так там четверых одноруких соберут, чтоб у двоих правая рука, у двоих — левая, и — носилки им с камнями. Ничего, носят…
МЕРЕЩУН. Ну, спасибо, хороший свитер. Вас как зовут, не спросил.
КУКОЧ. Борис.
МЕРЕЩУН. Вы вечерком зайдите ко мне в кабину, поговорим. Надо вам устраиваться.
КУКОЧ (легко). Очень благодарен. Но я трагедии не делаю. Талантливый человек нигде не пропадёт!
ФИКСАТЫЙ (2-му доходяге). Ты!
Доходяга по-прежнему роется в мусорном ящике.
Ты!
Доходяга роется.
Человек!
Доходяга оборачивается.
Этот в шинели — что за Рокоссовский?
2-Й ДОХОДЯГА. Новый. Неделя как приехал.
ФИКСАТЫЙ. Вольняга?
2-Й ДОХОДЯГА. Какой вольняга! Зэк. (Продолжает копаться.)
ФИКСАТЫЙ (глядя на Нержина). Зэ-эк? (С угрожающими жестами, видными Нержину.) У, фашистская морда, глаза выколю!
ШАРЫПО (кричит с той стороны ворот). Завпроизводством! Опять фронта работ нету! Опять люди сидят!
Нержин спешит в производственную зону.
ЗАВБАНЕЙ (входит перед бараком, бьёт доходягу ногой). Опять копаешься, зараза?
Доходяга падает от удара, ухрамывает.
Товарищи бытовики и господа фашисты! Прожарка готова! Пошли!
Движение, начинают уходить налево с вещами.
ГОНТУАР. Кому мешают мои книги? Книги не запрещены.
КОЛОДЕЙ. Ка-ак это книги не запрещены? Кто-о это тебе сказал, что книги не запрещены?..
Разрисованный занавес.
КАРТИНА 2
Высокое помещение литейки. Часть плаца — в грудах обгорелой земли, часть в опоках. Сизо, курится лёгкий дым от отливок. Гудит труба вентилятора.
В глубине — круглая рыжежелезная вагранка, уходящая в прорезь железного потолка; ближе — кирпичная неоштукатуренная сушилка с железной дверью в сторону зрителя. На плоской крыше сушилки набросан хлам, проволочная арматура, старые опоки, худые вёдра, дырявые валенки. Перед сушилкой — дверь во внутреннее помещение. Ещё двери — наружный вход и в задней стене.
На низенькой скамеечке у сушилки сидит Фролов и непрерывно курит цыгарки. На нём синеватый форменный сюртук и затасканная зимняя шапка. Литейщики — крупный лысый Яхимчук, толстый низенький Муница, юркий гибкий Чегенёв и мальчишка Димка, работают быстро, слаженно, понимая друг друга без слов. Бегают без суеты. Лопаты, ломы и счищалки как будто разбросаны, но они — на нужных местах. Все в изорванных брезентовых брюках, голы до пояса, на Чегенёве — лихо надетая рваная фуражка. При раскрытии занавеса Яхимчук большим ломом, как пикой, пробивает заткнутую лётку вагранки. Чугун струёй огня выливается по жёлобу из вагранки в ковш. Когда ковш полон, Яхимчук другой пикой затыкает лётку. Чегенёв снимает счищалкой шлак. Они подхватывают ковш за ручки длинного рогача, несут к опокам. Муница выбивает готовое литьё из опок, Димка относит опоки, штабелюет. Одна из опок, заливаемых после поднятия занавеса, закипает: металл выбрызгивает. Муница заслоняет лопатой лицо Яхимчука, Димка — лицо Чегенёва. Фролов кричит неслышное при гуле, машет руками, встаёт, пошатываясь.
В развевающемся плаще быстро входит Гурвич, стройный, чёрный; за ним усталым шагом — Нержин. Металл перестаёт выбрызгивать, опоку заливают до конца, уносят ковш.
МУНИЦА (на опоку). А, проститутка! Закыпила!
ЯХИМЧУК (перекрывая гул). Я вам казав, шо шишка сырая!
МУНИЦА. Ни, нэ сыра! Ни, нэ сыра!
ЯХИМЧУК. Так от чого? от чого?
МУНИЦА. То мэни вэдомо, от чого.
По знаку Гурвича вентилятор выключают.
ЯХИМЧУК. Вам богато вэдомо! Чекайте, навить и другы обыдве закиплять.
ЧЕГЕНЁВ. Макар, не спорь, сам виноват. Батя говорил — ещё сутки посушим.
ФРОЛОВ. Ну, Чегень, ну с кем ты заводишься? Макар и не прав, так прав.
МУНИЦА (запальчиво). А я вам казав: на ци долги балки мусим выпоров бильш давать и воздух!
ГУРВИЧ. Так почему не дали? Почему не дали? Что тут, старшего нет? Ты, Фролов, тут что? — для мебели?
ФРОЛОВ. Я, Арнольд Ефимыч, свою линию веду, я — руководитель.
ГУРВИЧ. Ай, ты сегодня норму перехватил, вторые поллитра дербанул.
ФРОЛОВ. Не на ваши деньги.
ГУРВИЧ (зорко оглядывая плац). Та-а-ак. Швейную машину опять отлили? Утюгов сколько?
МУНИЦА (с запалом). А ни ж адного! А ни ж адного!
ГУРВИЧ. Макар! Проверю! Здесь — что? (Показывает на залитую, но не выбитую опоку.)
МУНИЦА. Ролики.
ГУРВИЧ. А здесь?
МУНИЦА. Плиты.
ГУРВИЧ (энергично). А ну-ка выбей! Выбей! (Нержину.) Слушайте, как вас там, завпроизводством! Вы, чем в нарядах копаться да по пятам у меня ходить, — вот смотрите: литейщиков прикрутить надо, это те халтурщики, заелись, каждую плавку из государственного чугуна налево отливают!
НЕРЖИН (сдержанно). Хорошо, выясню.
ФРОЛОВ. А ты поймал хоть раз? Хоть раз поймал? Эх, Арнольд Ефимыч! Кабы на твою хитрость да не наша простота!
Муница, осторожно выбив опоки, вытягивает кочерёжкой из земли ещё краснеющие детали: ролики и тонкие плиты.
ФРОЛОВ. Ну что? Взял?
Гурвич молчит.
Зря литейщиков не хай! Не хай! Тут я смотрю! Я не допущу!
ГУРВИЧ. Да ты смотришь! Месяц пьян, день на ногах. А если не твои литейщики льют, так откуда утюги во всём посёлке, в какой дом ни зайди?
ФРОЛОВ. Что ж, снабжение улучшается. Может, ОРС завёз. Или потребкооперация…
ГУРВИЧ. Потребкооперация завезёт, жди!
В дверь заглядывает заключенный.
ЗАКЛЮЧЁННЫЙ. Арнольд Ефимыч! Вас к телефону! Из треста.
Гурвич стремительно уходит, развевая плащом. Яхимчук снова выбивает лётку вагранки. Но чугун течёт чуть-чуть и прекращается.
ЯХИМЧУК. Э-э, плавка вся. На те опоки не стало. (Выбивает подпорку из-подо дна вагранки. Сыпется огненное.)
ФРОЛОВ (вслед Гурвичу). Мальчишка! Указывать он мне будет! Моя кляча, куда хочу, туда и пячу. Вишь ты, завпроизводством, на литейщиков какая худая слава! Чтоб я, Фролов, позволил ребятам налево лить? Да ни в жисть! Это ж подсудное дело.
ЯХИМЧУК. А пойдёмте, завпроизводством, я вам покажу, какая тут техника безопасности. Тонны чугуна на высоту пять метров поднимаем ведром, от руки. Кому-то голову пробьёт, это точно. (Уводит Нержина в заднюю дверь.)
ФРОЛОВ (едва они вышли, живо). Макар! Во Арнольд — волкодав! Во нюх у него! Точно кинулся! Под землёй чует.
МУНИЦА (смеётся). Ще вин молодый мэнэ схопыть! Димка! На стрёму! Чегень!
Димка выбегает в левую дверь, Чегенёв с лязгом открывает дверь сушилки, и они с Муницей в том самом месте, где показывал Гурвич, яростно выкапывают из земли второй скрытый слой опок, вытаскивают из них узорчатые детали станка ножной швейной машины, два паровых утюга, несколько простых и быстро сносят всё на крючках и кочерёжках в сушилку, чернеющую глубиной. Захлопывают её. По свисту Чегенёва возвращается Димка. Он хлопочет около кастрюли, в которой что-то варится у него на отлитой детали. Муница подсаживается к Фролову.
МУНИЦА. Ще такая людына нэ родылась, шоб Макара тутаки в литейке попутать.
ФРОЛОВ. Машина швейная — хорошая?
МУНИЦА. Перший кляс! Макар формував!
ФРОЛОВ. Сегодня ночью ту, окрашенную, заберут, а эту вы приготовьте к субботе. Сколько ж я вам должен? Сорок, да за три утюга…
ЧЕГЕНЁВ. Вы, Аксентьич, масла нам купите и крупы.
ФРОЛОВ. Масло, ребята, сейчас только конопляное. Вы думаете, в посёлке как? Тоже сосаловка. В магазинах водка да спички. и спички-то такие, что не горят. Из чего их делают?
ЧЕГЕНЁВ. Ну, крупы, крупы!
ФРОЛОВ. Как выбросят, так бабу в очередь пошлю, сделаем… Что этот завпроизводством ваш — гордо себя ставит?
ДИМКА. На всю дорогу не хватит!
Включает вентилятор. Чегенёв моется из бочки в глубине. Из заднего помещения возвращаются Нержин и Яхимчук, снаружи всё так же стремительно входит Гурвич. Собираются у сушилки, но разговор слышен, лишь когда Димка по знаку выключает вентилятор.
ФРОЛОВ. Бронзу, Арнольд Ефимыч, плавить нам не в чем. Графитовые тигли, какие от английской концессии остались, прохудились, а сварные все текут.
ГУРВИЧ. Но выход должен быть? Экскаваторы на разрезе стоят, бронзовые втулки полопались!
ФРОЛОВ. А я что вам тигли — рожу, что ли? Давайте командировку на Урал, толкачом поеду.
ГУРВИЧ. Какую тебе командировку? Тебе пять рублей дать нельзя, ты пропьёшь.
ФРОЛОВ. Ну, пишите! Отношения пишите! Пришлют вам тигли на тот год в эту пору…
НЕРЖИН. Гражданин прораб! Я решительно…
ГУРВИЧ (отводя Фролова). Слушай, Фролов, ты же — паразит, понимаешь, гнусный паразит! Ты получаешь полторы тысячи за руководство цехом, ты сверх того две с половиной тысячи отгребаешь за литьё, — за что?
ФРОЛОВ. Позавидовала кошка собачьему житью!..
ГУРВИЧ. Ты не формуешь, не льёшь, всё ребята делают, — неужели ты за это время не мог заранее позаботиться? Душа у тебя не болит за производство!
ФРОЛОВ. У меня не то что душа, Арнольд Ефимыч, — все печёнки уже болят… Вот сон мне давеча нехороший приснился…
ГУРВИЧ. Да пошёл ты вон со своим сном! Ты…
НЕРЖИН (приступая). Гражданин прораб! Я решительно обращаю ваше внимание на средневековую технику подъёма чугуна. Разбитое ведро, из которого куски чугуна прямо вываливаются, — да вы считаете, что заключённые — это не люди?
ГУРВИЧ. Слушайте, вы! — не занимайтесь агитацией! Не читайте мне морали! Я здесь на производстве три года…
НЕРЖИН. Тем хуже!
ГУРВИЧ. …а вы — три дня, и не суйтесь указывать! Вы должны по-мо-гать работать, а вы мешаете! Вы пойдите проверьте строительные бригады, вы поднимитесь на крышу — лежат, сукины дети, не работают! Вот кровное дело! А здесь без вас обойдётся.
НЕРЖИН. На крышу я пойду…
ГУРВИЧ. Вот и идите!
НЕРЖИН. Но и здесь не оставлю! Напишем акт и закроем литейку.
МУНИЦА (взрываясь). А нам — шо? 3 лопатами — траншеи копать? А хто мэни пайку кило двести выпишэ?
ЧЕГЕНЁВ (окатываясь из бочки). Фамилия! Килодвести. Имя-отчество? Два Дополнительных.
ФРОЛОВ (Нержину). А ты кто за птица литейку закрывать?
ГУРВИЧ. Чёрт возьми! Да я до вашего акта напишу записку в лагерь — вас завтра на лесоповал пошлют! Тут экскаваторы стоят, а вы про ведро! Так что будем делать, литейщики?
Нержин растерян дружным отпором. Некоторое время он стоит молча. Потом нерешительно идёт к выходу. Передумав, уходит опять в заднюю дверь.
МУНИЦА. У нас за Румынией на заводи була пичь для бронзы, робыла на солярке. Сто килограмм за яких два часа плавила.
ГУРВИЧ. Ну вот! Ну вот! Значит, можно сделать? Чтоб Макар да не смог! Макар! Сложишь печку?
МУНИЦА. Чому нэ сложить. Складу.
ГУРВИЧ. Макар! Премию получишь! Большую премию!
ФРОЛОВ. Ох, Макар, берёшься! За всё берёшься. Сколько литейками руковожу, ещё никогда такой печи не видел.
ГУРВИЧ. Ты — кто? Ты начальник цеха или кто? Ты что у людей инициативу убиваешь? Давай, Макар, а? Макар?
МУНИЦА. Ну, добре, складу вам пичку! Складу!
ГУРВИЧ. В каком месте поставим? Вон там. (Показывает.)
Входит Гай. Он невысок, но могуч. Он, как и Нержин, в военном ещё обмундировании, но потёртом и перепачканном, в брюках галифе и сапогах.
ГАЙ. Арнольд Ефимыч! Растворомешалка опять стоит. Не могу ж я…
ГУРВИЧ. Как стоит? Почему стоит? (Устремляется к выходу.) Давай, Макар, давай! Премия будет!
Гай направляется за Гурвичем, но Чегенёв останавливает его свистом. Они выходят вперёд.
ЧЕГЕНЁВ. С Игорьком — связь.
ГАЙ. Он — в шизо?
ЧЕГЕНЁВ. Да. В одиночке. Сегодня мой дружок дневалил там…
ГАЙ. Надо ему хлебца подбросить.
ЧЕГЕНЁВ. Уже. и бумагу с карандашом, как он просил.
ГАЙ. Мотают? Второй срок?
ЧЕГЕНЁВ. Мотают.
ГАЙ. Кто его заложил — ты узнал?
ЧЕГЕНЁВ. Фельдшер, Ага-Мирза. В больнице из-под подушки что-то у него вытащил — куму отнёс.
ГАЙ. и из больницы, туберкулёзника — в подвал?!
ЧЕГЕНЁВ. Ещё и Посошков показания даёт.
ГАЙ. Сколько сволочей, Гришка! Сколько сволочей!
ЧЕГЕНЁВ. Не выживет Игорёк. Письмо написал домой. Прощается. Сестре. Жены ещё не было. Отца в тридцать седьмом расстреляли. Мать в лагере умерла… Ну, за горло берут. Что ж делать, Пашка?
ГАЙ. А что мы можем делать? Запоминать…
ЧЕГЕНЁВ. Сейчас письмо отправлю.
Гай уходит. Чегенёв ловко взбирается на сушилку, роется.
МУНИЦА (Яхимчуку). Як, Николай, складэм? Ходко складэм! (Хлопает себя по ляжкам.)
ЯХИМЧУК. Та то вы темите, вы и кладить. Я нэ хтив браться. Мэни прэмия нэ потрибна.
Чегенёв на сушилке достаёт запрятанный конверт, спрыгивает.
ФРОЛОВ. Я не знаю, что ты за человек, Макар? Вот уж говорят: сдуру, как с дубу. Ребята! Ну неужели мы плохо живём? Нормы я вам отхлопотал божеские. Пятнадцать лет я по лагерям работаю, одиннадцать новых литеек поставил, и всегда с заключёнными хорошо жил. Ну чего вам не хватает? Пайка у вас в лагере первая, каши — две, двести один процент, утюги налево гоним, шмотки казённые загнать на волю? — я никогда заключённым не откажу. Письмо бросить? — давай хоть сейчас.
Чегенёв подаёт конверт, Фролов прячет в карман.
Вы работаете — и мне хватает. Нос помочить.
ЧЕГЕНЁВ. Макар в сталинские лауреаты метит.
ФРОЛОВ. Не, правда, ребята: на Игарке я литейку ставил, в Тайшете ставил… Ведь как хорошо: нет тиглей — и спросу нет. Пока кокос есть, чугун есть, льём себе помалу, и вам хватает, и мне. Лёжа кнута не добудешь. А поставь ты печь, да пойди бронза, — так Арнольд со спины не слезет: давай да давай! Ведь я-то знаю, ребята! Я-то знаю! На неделю будешь пять раз лить, закружишься — то втулки, то хаюлки, а процента не будет…
Димка устанавливает посреди литейки подставку вроде столика и вокруг неё — опоки как стулья.
ЧЕГЕНЁВ. Какой процент! Заплатят по весу, как за чугун, это ясно. Так балка — полтонны, а втулка — полкило. Попухнем мы, Макар, на твоей печке. Брось.
ФРОЛОВ. Да никто такой печи!.. А какие мастера были! Бабушкин был, ай, формовщик, царство ему небесное! Уж теперь таких… В двадцать третьем году поучил меня с неделю — «поди, Васька, сюда! ты что, сукин сын, я слышал, — комсомолец?» Я говорю — в пятницу приняли. Как освирепел, усами зашевелит: «Пошёл вон с моих глаз, пащенок, в Бога не веруешь!» и выгнал из литейки, а? Потомственный пролетарий, ничего не боялся. Так я и бросил комсомол, а то б литейщиком не был. (Закашлялся сильно.) Вот сон мне, ребята, худой приснился…
ЯХИМЧУК. А вы, Аксентьич, пойдите поспите, может, хороший увидите.
ФРОЛОВ. Пойду, правда. (Поднимается.)
ЯХИМЧУК. Так насчёт масла, Аксентьич!
ФРОЛОВ. Будет! Сказал — будет! У Фролова — свято слово. Спросит меня Арнольд — скажите, в Первое СМУ пошёл… Или во Второе…
ЯХИМЧУК. Скажу — по профсоюзным делам вызвали.
Фролов уходит.
Сегодняшнюю швейную машину, друзья, не обрабатываем, подзадержим. Что-то Фролов с деньгами резину тянет.
ДИМКА. Крупу принёс вонялую, наверно — для свиней держал.
Сзади входит Нержин. Он подавлен. Нерешительно идёт в сторону выхода. Димка выносит чугунок на середину.
ЯХИМЧУК. Что, завпроизводством, вы приуныли?
НЕРЖИН. Да что-то я, товарищ Яхимчук… (Берётся за голову.) Что-то я… Честное слово, на фронте, оказывается… легче.
ДИМКА. Ну, семейство! Каша готова!
НЕРЖИН. Семейство?
ДИМКА. Это — мой батя, это (на Муницу) — моя мамка, а это (на Чегенёва) — братуха. Житуха!
ЯХИМЧУК. Садитесь с нами кашки поесть.
НЕРЖИН. Да нет. Спасибо…
ЯХИМЧУК. Чего спасибо? Кто в лагере есть не хочет? (Берёт за плечо.) Садитесь, не обидете. Мы себе живём потихоньку, перебиваемся.
Нержин по ошибке едва не садится на горячую деталь.
ДИМКА (кричит). Э! Прожжётесь!!
Все садятся, кроме Муницы, разглядывающего место будущей печи.
ЯХИМЧУК. Ну, Макар! Сидайте. Желтэнька магара, як мамалыга.
МУНИЦА (не идёт). Нибы вы добру мамалыгу колы йилы…
ЧЕГЕНЁВ (Нержину). Ты — с фронта прямо?
НЕРЖИН. Да.
ЧЕГЕНЁВ. Балалаечник?
НЕРЖИН. Называют.
ЧЕГЕНЁВ. Трень-брень, антисоветская агитация?
НЕРЖИН. Посчитали так.
ЯХИМЧУК. Ну, Макар, начинаем без вас.
МУНИЦА (идёт). Як то без мэнэ? Як то без мэнэ? (Садится.)
Начинают мерно черпать кашу. Нержин ест с трудом.
ЯХИМЧУК. Вы — ешьте, ешьте! Кто в лагере задумываться начинает, тот срока не доживёт.
НЕРЖИН (роняя ложку). А — как тут дожить? Как вообще тут можно — жить?! (Застывает.)
Литейщики мерно черпают кашу.
Разрисованный занавес.
КАРТИНА 3
Строительная зона. Строящееся кирпичное здание, из глубины его иногда — мигающие вспышки электросварки. Позади сцены — столбы, колючка зоны и предзонника, безобразная тесовая вышка с часовым, дальше, сквозь все проволоки, — голая степь. Где-то далеко работает экскаватор — сюда доносится его характерное повизгивание.
Куча строймусора, на невысоком штабеле горбыля сидит около десятка женщин нового этапа, уже переодевшихся в грубые рабочие одежды. Среди них Люба и Граня, Шурочка. На штабеле брёвен — десятка два мужчин, все — в изнеможённых телоположениях.
Разогретый солнечный октябрьский день после полудня.
ЛЮБА (тоскливо поёт при раскрытии занавеса).
А через дорогу, за рекой широкой, Тоже одинокий дуб стоит высокий. Как бы мне, рябине, к дубу перебраться? Я б тогда не стала гнуться и качаться.ЖЕНЩИНЫ (не поднимаясь, не шевелясь, подхватывают).
Тонкими ветвями я б к нему прижалась И с его листами день и ночь шепталась. Но нельзя рябине к дубу перебраться, Знать ей, сиротине, век одной качаться.1-Я ЖЕНЩИНА. Мне почудилось — журавли улетают, а это экскаваторы курлычат.
2-Я ЖЕНЩИНА. А и нехитрое дело, если журавли. Зима, девоньки, зима, припасайте потеплее.
ШУРОЧКА (ни к кому). В третий лагерь я приезжаю, и вот этот первый день — самый страшный. Не день, а год… Двигаться — нет сил…
3-Я ЖЕНЩИНА. Вот завезли… Вот завезли…
2-Я ЖЕНЩИНА. Это ещё — не завезли. Где картошка в поле растёт — это ещё лагерь считается ближний. Тут железная дорога близко, сюда — посылки круглый год и на свидания приезжают. Подожди, в Норильск отправят — там навигация полгода, закон.
ГРАНЯ (Любе, продолжая). Я ведь даже семи классов не кончила, а он об-ра-зо-ван-ный! доцент! и какая-то наука у него — египетские вазы разные, кувшины… У нас и дома много стояло. Такой он был нежный, а я что? — баба рязанская.
ЛЮБА. А, брось. Нежных мужчин не бывает. Им только это нужно, больше ничего.
ГРАНЯ. Не говори, Люба, это тебе попадались такие… Ну, война началась, всё у нас навыворот: мужа не взяли на фронт, а меня по комсомольской линии да по авиахимовской, — я стрелок ужасный. За два года он мне писем написал — тысячу!
ЛЮБА. Ты кем же была?
ГРАНЯ. Снайпером, потом командиром взвода, младшим лейтенантом.
ЛЮБА. Фу, так ты на фронте…
ГРАНЯ. Нет! Именно нет! Поверишь?
ЛЮБА. Никогда не поверю!
ГРАНЯ. Ведь я же понимала, что такого счастья второй раз мне не будет!.. и вдруг соседка пишет, что он связался с какой-то шлюхой опереточной. Меня как обожгло! — да не поверила я! У комдива отпросилась, на самолёт, в Москву! Рано-рано, только солнце всходило, прямо вышибла дверь и вошла в комнату. и на моей постели он с ней лежит. Я даже подумать не успела, только выхватила ТТ и — трах его на подушке!
ЛЮБА. Насмерть?
ГРАНЯ. Пять минут жил.
ЛЮБА. А я бы — её! её!
ГРАНЯ. Нет, именно его, раз понимать не может!.. А сейчас жалею… Плохим-то я его не знала, только в то утро…
ЛЮБА. Вот я и говорю, что им только это нужно.
ГРАНЯ. Не может быть! не может быть!
Входят: стремительный Гурвич, развевая плащом; десятник Горшков — низенький старик с большими усами; и Кукоч. За ними — Нержин, в шинели.
ГУРВИЧ. Горшков! Почему люди сидят? Что, у нас работы нет? Я сказал — дать работу!
ГОРШКОВ. Какую я им работу?..
ГУРВИЧ. Ну, хоть… траншеи копать.
ГОРШКОВ. Поставил десять человек, больше лопат нет.
ГУРВИЧ. Почему ж нет? Странно.
ГОРШКОВ. Странно было б, если б были! Сейчас черенки насадят — ещё пять будет.
НЕРЖИН (подавлен, говорит через силу). Товарищ прораб. Как же мне людей процентовать? Я тогда акт простоя составлю.
ГУРВИЧ (резко). Ну и пойдёте с ним в уборную, я не подпишу! Мы заявки на дополнительных людей не давали?
НЕРЖИН. Но люди приехали…
ГУРВИЧ. Да какое мне дело? Мы их не просили. Вообще, слушайте… Учтите — такие законники, как вы, — долго в лагере не живут!.. Горшков! Вот эту кучу мусора перенести… (озирается) вон туда! (Показывает вглубь.) Вот этих женщин поставишь.
ГОРШКОВ. Да носилки все у каменщиков!
ГУРВИЧ. Почему запасных нет?
ГОРШКОВ. А вы мне тёсу расход подписали? Трясётесь над каждой доской.
ГУРВИЧ. Бухгалтерия жмёт, что я могу сделать? Возьми у каменщиков четверо носилок.
ГОРШКОВ. А кирпичи чем подносить?
Гурвич отмахивается. Горшков, Граня и ещё две женщины уходят.
ГУРВИЧ. Мужской бригады кто старший — вы?
КУКОЧ. Инженер Кукоч.
ГУРВИЧ. Вы инженер?
КУКОЧ. Строитель.
ГУРВИЧ. Это хорошо. Впрочем, у меня инженеры тоже землю копают, что поделаешь. Даже академик тут один был. Заболел.
НЕРЖИН. Я слышал — умер.
ГУРВИЧ. Не знаю. Забирайте своих мужчин и вон туда (показывает) идите. Найдём сейчас работу, найдём, расставим.
КУКОЧ (резко командно). Ар-тисты!! Кон-чай Ташкент! Пошли вкалывать!
Мужчины тяжело поднимаются.
ГОЛОСА. Три дня должны в карантине держать!
— Не должны на работу гнать!
Уходят все мужчины и Нержин.
ГУРВИЧ (описал круг, всё зорко оглядывая). Алё! Девушка! Подойдите!
Люба подходит.
Вы из нового этапа?
ЛЮБА. Сегодня привезли.
ГУРВИЧ. У вас как… ноги… хорошие?
ЛЮБА. А… в каком смысле?
ГУРВИЧ. Мне нужна посыльная в контору. Будете бегать по всем этажам, по всему двору. Кабинет мне уберёте. Обед сготовите. Я в перерыв не успеваю домой. Сумеете?
ЛЮБА. Я — всё умею!
ГУРВИЧ. Вы мне нравитесь. Пошли сразу, в курс дела введу.
Быстро входят Шарыпо и Горшков.
ШАРЫПО (кричит). Я по новой штукатурить не буду! За два раза отштукатурили с перетиркой!..
ГОРШКОВ. Ну, не загибай, Шарыпо, — без перетирки.
ШАРЫПО (громче). Как без перетирки?! Давайте комиссию по качеству!!
ГУРВИЧ. Да что случилось? Замолчи ты, Шарыпо!
ШАРЫПО (ещё громче). Никогда я не замолчу!! Я — горой за работягу! (Тихо, спокойно.) Дай закурить, десятник.
ГОРШКОВ (даёт). Что прораб по электромонтажным смотрит? Скрытой проводки не сделали в срок, теперь электрики пришли и в штукатурке канавки рубят для проводки, панели дверные поцарапали, а они окрашены…
ШАРЫПО (опять горячась). …за два раза!
ГОРШКОВ (отмахиваясь). …за один раз!
ШАРЫПО (кричит). Всю дорогу бардак! Ещё сантехники придут батареи переставлять, шлямбурами стенку долбать, точно!!
ГУРВИЧ (Любе). Ищите, ищите Кузнецова!
ЛЮБА (мгновенно входя в роль, громко кричит, убегая). Кузнецо-ов! Кузнецо-ов!!
ГУРВИЧ. Разболтай! Халтурщики! Пьяницы! (Стремительно уходит.)
За ним Горшков.
3-Я ЖЕНЩИНА (вскочив проворно). Бригадир! Дай докурить!
Шарыпо ещё затягивается, отдаёт, шлёпает её, уходит.
ШУРОЧКА. Спаси нас, Боже, от такого бригадира! «Горой за работягу» — а сегодня, видели? — свалил работягу и ногами бил.
2-Я ЖЕНЩИНА. А почему, думаешь, бригадиры по пятнадцать лет в лагерях выживают? На нас они и выживают.
1-Я ЖЕНЩИНА. Вот Любке повезло! и — филонить, и будет чего пожрать.
3-Я ЖЕНЩИНА. Повезло! Чего ж тебе не повезло?
4-Я ЖЕНЩИНА. С её жизнью — ещё год-два, на неё уж и смотреть не будут.
3-Я ЖЕНЩИНА. А ей два и осталось: зима-лето, зима-лето.
4-Я ЖЕНЩИНА. Ну, а на волю выйдет?
1-Я ЖЕНЩИНА. Катенька! До воли дожить надо.
3-Я ЖЕНЩИНА. Она и на воле не пропадёт. Это всегда так. Как после войны мужиков ни мало, у одной всегда будет во (показывает по горлу), у другой — ни одного.
Возвращаются Граня с двумя женщинами, тремя носилками, двумя лопатами.
ГРАНЯ. Ну, девчата, день до вечера, давайте ковыряться. Шестеро носят, двое нагружают… А кого нет?
4-Я ЖЕНЩИНА. Любку прораб в контору забрал.
ГРАНЯ. Чего делать?
2-Я ЖЕНЩИНА. Не понимаешь?..
Женщины разбираются и начинают носить мусор помалу, похоронно-медленными движениями, подолгу останавливаясь у мест нагрузки и разгрузки. Сперва ещё слышны разговоры.
ОДНА ИЗ ЖЕНЩИН. Ну что этой лопатой делать, что? Она в кучу не лезет.
ГРАНЯ (садясь у ковша). Да как-нибудь, чёрт с ней, меняться будете. Уголком цепляй.
1-Я ЖЕНЩИНА. Девчата! Неужели ужинать не дадут?
ШУРОЧКА. Конечно нет. Ты слышала, охра сказала, что конвой оформил нам, будто мы удовлетворены по сегодня.
1-Я ЖЕНЩИНА. Но как это можно? Мы ж не получали!
2-Я ЖЕНЩИНА. Посидишь — узнаешь.
3-Я ЖЕНЩИНА. В лагере — всё можно!
4-Я ЖЕНЩИНА. Подавились бы они этим селёдочным хвостом, гады!
Входит Кукоч, идёт к задумавшейся Гране, садится неподалёку от неё.
КУКОЧ. Ну, Граня, как тебе лагерёк?
Граня молчит.
Доходиловка подходящая. Хотя, как говорится, если работяга в ложке нуждается — это ещё лагерь хороший. Доходиловка — когда миску пьют через бортик.
Граня молчит.
Попухли мы на этом этапе. Всё производство обошёл — ничего не могу выдумать. Придётся там, в зоне, покомбинировать. Уже врач у меня на крючке.
ГРАНЯ. Зачем ты мне всё это говоришь?
КУКОЧ. А кому мне говорить? (Пауза.) Четыре года я в лагерях сижу — дня на общих не работал и не буду! По трупам пройду — но устроюсь.
ГРАНЯ. Я знаю.
КУКОЧ. Ты таким тоном, будто меня упрекаешь. На твоей совести, наверно, побольше.
ГРАНЯ. Может, и больше. Но на войне как-то н-не так. Я не могу объяснить, но н-не так…
КУКОЧ. Да то же самое! Подлый предрассудок! Десятки людей ты подстрелила — тебе за это ордена на грудь, и ты фасонишься. А первого лично хлопнула — тебе десять лет. (Не давая возразить, горячо.) Оставь эту дурацкую честность! Ещё никто честный срока не досидел. Ты — первый год, ты ещё не поняла. Сегодня же вечером я начну действовать. Я сделаю всё — для двоих!
ГРАНЯ. Делай — для одного…
КУКОЧ. Я выстелю тебе лагерь так — ты не заметишь, что здесь проволока! Тебе ещё десять лет сидеть, Граня, подумай! Ты на воле б только рот разинула, когда б я мимо тебя на машине пронёсся. Я инженер, я талантливый человек, я концентрированная энергия, блестящий собеседник, ты не понимаешь этого, — кем бы я был, если бы не сел!
ГРАНЯ. На что мне твой ум?
КУКОЧ. Ты фронт забудь! и волю забудь! Здесь — свои законы жизни. Здесь — ГУЛАГ, незримая страна, которой нет в географиях, психологиях и историях, та знаменитая страна, в которой девяносто девять плачут — один смеётся!! Я предпочитаю — смеяться!
ГРАНЯ. А мне — не смешно.
КУКОЧ (гладя её руки). Мне будет жаль тебя упустить. Но — обойдусь. А ты? Ты пока бригадиршей была, ты ещё не отведала общих работ! Ты скоро-скоро потеряешь эту гордость, этот румянец и за пятьсот грамм слипшегося хлеба ляжешь в постель к такому ничтожеству… Граня!
ГРАНЯ (отнимая руку). Ладно. Сдохну под сосной. Я запуталась. Я сама не могу понять… Уйди, пожалуйста… Уйди!
Кукоч подымается, некоторое время стоит, потом медленно уходит. Женщины похоронно-медленно носят носилки с мусором.
Разрисованный занавес.
КАРТИНА 4
Маленькая голая комната в здании барачной постройки. На единственном окне — марлевая занавеска. Дверь из свежей неокрашенной фанеры. Один стол — наискось в углу (на стене — дощечка: «Зав. производством»), другой — у задней стены (дощечка: «Нарядчик»). Две-три табуретки да нелепая скамейка посреди комнаты, на дороге.
Электрический свет, за окном темно.
Сидят: за главным столом — Нержин в шерстяной гимнастёрке, сбок стола приезжий надзиратель, старик в истёртой шинели с голубыми погонами и лычками сержанта; за другим столом — Костя, тоже в новой офицерской гимнастёрке с широким офицерским ремнем. Он не выпускает изо рта папиросы и похож на Маяковского.
НАДЗИРАТЕЛЬ. Ну, поищи, поищи! С малыми сроками. Понимаешь… Не положено тебе об этом говорить, да вы и сами всё знаете… Командировка у нас лесная, глушь, охрана слабая, всё инвалиды вроде меня, демобилизации не дождёмся… Десятилетников я не могу брать.
НЕРЖИН (раздражённо). Откуда я вам, сержант, наберу малосрочников? Я виноват, что трибуналы меньше десяти не дают? Ну вот, пожалуйста, восемь лет. Берёте? (Просматривает список.)
НАДЗИРАТЕЛЬ. Восемь? Ладно, давай.
НЕРЖИН (записывает). Калашникова Акулина Демьяновна.
НАДЗИРАТЕЛЬ. Специальность какая?
НЕРЖИН. Никакая. Домохозяйка. Лес валить — какая специальность!
НАДЗИРАТЕЛЬ (вздыхает). Старуха, наверно.
НЕРЖИН. Тысяча девятисотого года, сорок пять лет. (Пишет.) Статья… пятьдесят восемь-восемь…
НАДЗИРАТЕЛЬ (живо). Чего-чего? Террор?
НЕРЖИН. Террор. Да через девятнадцатую — намеревалась только… Наверно, на базаре чего сболтнула.
НАДЗИРАТЕЛЬ (пальцем не даёт Нержину писать). Не-не, террору не могу. Вычёркивай.
НЕРЖИН. Ну, сержант, я тоже так не могу. Мне надо сейчас ночью весь новый этап по бригадам разбить, в продстол — разнарядку, утром — на работу. Когда мне с вами возиться? Выбирайте сами! (Суёт ему список.)
НАДЗИРАТЕЛЬ. Слушай, я без очков не вижу. и вообще неграмотный. Ну, я тогда с нарядчиком…
НЕРЖИН. и нарядчик занят, не трогайте.
НАДЗИРАТЕЛЬ. Да, вот ещё что! Ты мне парикмахера обязательно дай. Был у нас хороший парикмахер, грузин, дезертир, дай Бог ему здоровья, ну — по амнистии освободился. Теперь третий месяц лохматые все ходим — и зэки, и охрана.
КОСТЯ. Парикмахера? Подожди-ка. (Подходит, берёт список.) Вот что, старина, ты уваливай на вахту, тут сейчас с работы придут, шум, бригадиры, я к тебе на вахту приду — за полчаса отберём. Лапа будет? Две пачки «Беломору».
НАДЗИРАТЕЛЬ. «Прибоя».
КОСТЯ. За шестьдесят работяг — две пачки «Прибоя»?
НАДЗИРАТЕЛЬ. А парикмахер будет?
КОСТЯ. Ещё «Катюши» пачку прибавишь. Не темни! Из посылок берёшь.
НАДЗИРАТЕЛЬ. Ну, лады, только приходи побыстрей, машины вот-вот… (Уходит.)
НЕРЖИН. Костя! Тут и так работы с новым этапом, на хрена ты связался?
КОСТЯ. Вот ты ещё… олень! Ты ещё ничего не понимаешь. Я ему доходяг спихну, и из нового этапа, и из своих. Зима подойдёт — все в санчасть, косить, дрыном не отгонишь. Я знаю! Пусть едут. (Хлопает в ладоши.) Ангел!
В дверях появляется Ангел — молодой однорукий дневальный.
НЕРЖИН. За что его Ангелом зовут?
КОСТЯ. А он по лагерю летает и рукавом пустым махает, как крылом. Ангел! Из нового этапа вызови ты мне… (Смотрит в список.) Негневицкую. Любка зовут. На цырлах!
АНГЕЛ. Есть Негневицкую Любку на цырлах! (Убегает.)
КОСТЯ. Вот она — парикмахер. Я пошёл. (Из дверей, подмигивая.) Курить — будем!
Соткнувшись с ним в дверях, входит бухгалтер Белоботников, хромой старик в валенках.
БЕЛОБОТНИКОВ (ещё не прикрыв за собой двери, громко). Тут строёвку подписать, Глеб Викентьич! (Закрыв дверь, хромает к столу. Оглядываясь, тихо.) Против вас заговор, Глеб Викентьич! Соломон, Титок, потом Рубен-кладовщик, Посошков-комендант и этот… Ка-Вэ-Че. Я инвалид, меня на общие не погонят, только сердце горит, Глеб Викентьич! В бухгалтерии сижу — всё слышу. Начальника лагеря ждут, чтоб на вас накапать. Книгу приказов у Соломона отберите, отберите книгу приказов! и нарядчику не доверяйте, он и нашим и вашим. Аморальный человек!
НЕРЖИН (оживляясь). Спасибо, папаша! Я их — огневым налётом! Ста-пятидесяти-двух!
БЕЛОБОТНИКОВ. Но — осторожней. Они и срок пришить мастера. В нашем лагере вторые срока клепают — у-у!
Нержин угасает. Входит пышная Бэлла.
БЭЛЛА. Вы разрешите?
Белоботников ухрамывает.
Будем знакомы. (Протягивает руку.)
Нержин пожимает.
(Плавно садится.)
НЕРЖИН (над бумагами, нервно). Быстренько — что?
БЭЛЛА (ничуть не торопясь). Вы не представляете, как приятно видеть за этим столом не какого-нибудь лагерного хама, а образованного интеллигентного человека. Все лучшие люди нашего лагеря просто встрепенулись при вашем назначении.
НЕРЖИН. Какой я интеллигент! Четыре года — солдат, теперь — арестант.
БЭЛЛА. Ах, оставьте, ведь я же вижу человека! Я сама из хорошей семьи.
НЕРЖИН. Очень прошу вас, ближе к…
БЭЛЛА. Вам на первых порах необходимо поставить на все ключевые посты своих людей. Без этого у вас не будет реальной силы. В частности, речь идёт о хлеборезке. Я раньше уже там работала. Меня сняли на общие работы по ложному обвинению, будто я недовешиваю пайки. Вы можете полностью на меня рассчитывать. Если я буду работать в хлеборезке, то минимум три килограмма в день всегда ваши.
НЕРЖИН. Слушайте, мне лично…
БЭЛЛА. Не вам, не вам лично! Конечно, вы не станете кушать чёрного хлеба! Но — продать, но поменять на водку, но кого-то, так сказать, премировать, — ведь вам же надо будет расплачиваться с преданными вам людьми. А как же? Вы ещё молодой лагерник, вы поймёте это потом.
НЕРЖИН. Простите, вы — по какой статье?
БЭЛЛА. Какое это имеет значение? По сто седьмой.
НЕРЖИН. Спекуляция?
БЭЛЛА. Боже мой, какая спекуляция! Пенициллин, патефонные иголки. Очень выгодно, чистенько. (Кладёт на стол Нержина что-то в бумажке.)
НЕРЖИН. А это что?
БЭЛЛА. Это так… вам… На начало жизни. Полкуска.
НЕРЖИН (не разворачивая). Какого куска?
БЭЛЛА. Боже мой, ну, кусок — значит тысяча.
НЕРЖИН. Ни в коем случае! Ни в коем случае! Возьмите сию минуту! (Силой отдаёт.)
Стук.
Да-да!
Робко входят 1-я и 2-я студентки, ещё прилично одетые.
ОБЕ. Разрешите, товарищ начальник?
1-Я. У нас к вам большая просьба…
2-Я. Нас только сегодня привезли…
1-Я. и уже ходят слухи, что отправят дальше.
НЕРЖИН. Да, отправят.
1-Я. У нас к вам очень большая просьба — оставьте нас здесь!
2-Я. и главное — не разлучайте!
Бэлла уходит с достоинством.
НЕРЖИН. Статья?
2-Я. Пятьдесят восьмая конечно.
НЕРЖИН. Пятьдесят восьмая? Хорошо, оставлю. Вы — кто, девочки, будете?
1-Я. Студентки.
НЕРЖИН. Какого института?
1-Я. Бывшего Историко-Философско-Литературного, потом влился…
НЕРЖИН. Ах МИФЛИ! Запорожская сечь свободной мысли?! Германа Никитича Медноборова знали?
1-Я. Ой, как же! Он у нас читал.
2-Я. Какая встреча! А вы…?
1-Я. Среди студентов после войны такие аресты!
НЕРЖИН. Тш-ш! Вы не думайте, что здесь — можно говорить свободно. У вас — по десятке?
ОБЕ (вместе). Нет, по пять лет!
НЕРЖИН. Так тем более берегитесь! Лагерный срок навесят — не оглянетесь.
ЛЮБА (быстро входит). Вы меня звали?
НЕРЖИН. Фамилия?
ЛЮБА. Негневицкая.
НЕРЖИН. Звал. Ну, хорошо, девочки, мы ещё поговорим.
1-Я и 2-Я СТУДЕНТКИ (вместе). Большое, большое спасибо! (Уходят.)
НЕРЖИН. Вы… (Потерял мысль.)
ЛЮБА. Я…
НЕРЖИН. Парикмахер?
ЛЮБА. Часовой мастер.
НЕРЖИН. Как так? А в списках… (Роется.) Да, чёрт, списки забрали. А в списке написано, что вы парикмахер?
ЛЮБА (пытливо, стараясь угадать). Я… и парикмахер.
НЕРЖИН. Ай да молодец! На все руки?
ЛЮБА. Но здесь, я слышала, парикмахер есть?..
НЕРЖИН. Не здесь, на лесную подкомандировку.
ЛЮБА (живо). Так я не такой парикмахер, я — театральный, парики делаю.
НЕРЖИН. Театральный? Да вы сами-то кто? Негневицкая. Вы полька, что ли?
ЛЮБА. Нет, почти русская. Это прадед мой был польский ссыльный в Сибирь, за восстание. Нет, не посылайте меня, пожалуйста!
НЕРЖИН. Милая, да я бы никого не посылал, всех жалко, но кого-то надо?
ШАРЫПО (врываясь и ведя за собой работягу). Слушай, начальник производства!! Что за порядки?! Надоело это гадство! Падлы сидят, задницы греют!
НЕРЖИН. Тихо, тихо, в чём дело?
ШАРЫПО (всё так же кричит). Ботинки привезли, зажимают в каптёрке! Во работяги ходят, во, покажи!
Работяга поднимает по очереди ноги и хлюпает почти нацело оторванными подошвами чуней. Люба тем временем скрывается.
Сволочь бухгалтерская! Счёты ему об морду изобью! Для придурков ботинки заначили! и ты — с ними, завпроизводством?
НЕРЖИН (повелительно). Сядь, Шарыпо! (Хлопает в ладоши.) Ангел!
Ангел в дверях.
Старшего бухгалтера — быстро ко мне!
Ангел исчезает. Шарыпо садится.
Сколько ботинок получили, точно знаешь?
ШАРЫПО (уже не кричит). Пятнадцать пар.
Дверь приоткрывается и колеблется.
КРИКИ ЗА ДВЕРЬЮ. Очередь! Куда без очереди?
КУКОЧ. Ти-ха! (Закрывает за собой дверь, развязно входит.) Что ж у вас кабинет такой скромный, завпроизводством? Свои строители, отделали б шик-блеск-траля-ля! (Садится.) Знакомиться пришёл. Угощайтесь, — «Казбек».
Нержин берёт, закуривает. Кукоч, не вставая, издали едва протягивает коробку в сторону Шарыпо.
Кури, бригадир.
ШАРЫПО (не шевельнувшись). Иван, подай папиросу.
Работяга подходит к Кукочу, берёт одну папиросу и несёт своему бригадиру.
АНГЕЛ (входит). Товарищ начальник! Старший бухгалтер занят.
НЕРЖИН (переклоняясь вперёд, гневно-командно). Я сказал — вызвать старшего бухгалтера!!
Ангел исчезает.
КУКОЧ. и давно вы в лагере?
НЕРЖИН. В этом — пятый день. А вы?
КУКОЧ. Вообще — пятый год. А вы?
НЕРЖИН. Этим летом осуждён.
КУКОЧ. Были в плену?
НЕРЖИН. Нет, с фронта… А вы?
КУКОЧ. Хуже фронта. В наркомате работал. Москва, сорок первый год, бомбёжки, кошмар. и — в каком звании?
НЕРЖИН. Капитан. и — по какой статье?
КУКОЧ. Семь восьмых. Машина сахара.
НЕРЖИН. Броню имели?
КУКОЧ. Да, бронь. Понимаете, такой интересный номер: жену сослали в Нарымский край, а я остался в Москве. Если к ней поеду — бронь ломается, возьмут на фронт, всё равно не вместе. Так и не поехал.
НЕРЖИН. Она что же? — по пятьдесят восьмой?
КУКОЧ. Собственно, семь-тридцать пять, социально-опасный элемент. Она — дочь служащего с КВЖД, воспитывалась за границей. Меня НКВД предупреждало: молодой человек! вы её очень любите? У вас биография кристальная, не советуем жениться. Надо было послушаться, но знаете, что делает с джентльменом хорошенькая женщина! Теперь она там с ребёнком, ребёнка порвали эскимосские собаки, кругом тундра, врачей нет…
ШАРЫПО (вновь повышая голос). Слушай, завпроизводством, ты у себя хозяин или нет?
Нержин порывается выбежать, но тут же входит с большим достоинством Соломон. Он в новенькой хлопчатобумажной спецовке, по-лагерному франтовской.
СОЛОМОН. Что случилось? Земля перевернулась?
НЕРЖИН. Во-первых, случилось то, что если вы хотите остаться старшим бухгалтером, то надо являться на вызов. Во-вторых, сколько пар ботинок вы получили и почему не доложили?
СОЛОМОН (очень медленно). Мы их ещё не заприходовали.
ШАРЫПО. Соломон Давыдыч, не раскидай чернуху! Завбаней одел — раз, зубтехник одел — два.
НЕРЖИН. Сколько пар вы получили?
СОЛОМОН. Двенадцать.
НЕРЖИН (резко). Пятнадцать! Я с вами не в бирюльки играю. Розданные пары немедленно с придурков снять! Через десять минут получите от меня разнарядку, раздадите по ней.
СОЛОМОН. Вы не имееете права так… Вы отрываете от людей!
ШАРЫПО. От придурков, а не от людей!
СОЛОМОН. То пайки дополнительные сняли с бухгалтерии, то — пятнадцать пар на пятьсот человек! Капля в море! Начальник лагеря сам будет распределять, когда приедет.
НЕРЖИН. Начальник лагеря оставил своим заместителем — меня!
СОЛОМОН (сдержанно). Товарищ Нержин. Но вы же не глупый человек! На завбаней они не порвутся, а на работяге в три дня порвутся.
ШАРЫПО (кричит). Для того и ботинки, чтоб их рвать!
СОЛОМОН (указывая на обувь работяги). Вот так рвать, как ты порвал? Когда сюда шёл — сам порвал?
ШАРЫПО (остывая). Не будь слишком умный, Соломон Давыдыч.
СОЛОМОН (Нержину). Зима ещё не наступила. Когда снег — тогда и ботинки.
НЕРЖИН. Когда работяги уже простудятся? Восемнадцатое октября. Не лето. У меня всё.
СОЛОМОН (спокойно). За это самоуправство вы будете отвечать перед начальником лагеря! Люди тут годами живут, а вы — неделю и всё переворачиваете.
НЕРЖИН (кричит). Да я вас завтра же выгоню на общие!
СОЛОМОН (невозмутимо Кукочу). У вас — «Казбек»?
КУКОЧ (подымаясь и предлагая). Да, да, пожалуйста, Соломон Давыдыч.
Соломон закуривает и степенно уходит.
Соломон Давыдыч, один вопросик! (Нагоняя, уходит за ним.)
НЕРЖИН (некоторое время смотрит им вслед; потом отрывает бумажку, пишет). Тебе, Шарыпо, — две пары.
Входит степенный Яхимчук, сверкая лысиной.
ШАРЫПО (враждебно). Завпроизводством!..
НЕРЖИН. А блатных возьмёшь в бригаду?
ШАРЫПО. На фуя мне твои блатные? Своих кормить нечем.
НЕРЖИН. Ботинок две пары. Всё. Можешь идти.
ШАРЫПО. Смотри, круто гнёшь, обломишься! Пошли, Иван. Две пары! На тридцать пять человек! (Уходит с работягой.)
НЕРЖИН. Яхимчук! Ты — старый лагерный волк. Ты четырнадцать лет сидишь. Значит, все годы, что мы воевали, защищали, — а здесь было так?
ЯХИМЧУК (сидит). Хуже было гораздо. Вместо хлеба зерно выдавали. Смешаешь со снегом — вот и суп. Отказчиков на разводе расстреливали. Сейчас — курорт.
Пауза.
НЕРЖИН. Хоть одного блатаря — возьмите.
ЯХИМЧУК. Сколько лагеря стоят — никогда блатари не работали. Бригадиров, нарядчиков — убивали…
НЕРЖИН. Сегодня обещали и мне…
ЯХИМЧУК. Советская власть блатных любит. Они — «социально-близкие».
НЕРЖИН (в волнении). Великолепно получается! Кто убежал с фронта, дезертир, — теперь по сталинской амнистии прощён! Кто не бежал, а дрался и в плен попал, — враг. Я на фронте фашистов бил — значит, я здесь фашист! А кто в тылу воровал и убивал — тот «социально-близкий»! (Отмечает.) Ботинок вам одна пара. Бригада мала.
ЯХИМЧУК. Глеб Викентьич, вы не смотрите, что Шарыпо — на горло, а я тихий. То главное — горят ботинки, горят. Чугун жидкий летит — прожигает, на деталь горячую станет — подошва горит. Процент у нас двести, стахановцы. На литейку и кузню — четыре пары дайте.
НЕРЖИН. Да что вы? — четыре! Шарыпе дал две! Две и вам, ладно. (Записывает.)
ЯХИМЧУК. Добро, не пожалеете. (Идёт к двери, потом возвращается.) В общем, так: сидите здесь — хорошо, погорите — возьму в литейку, ничего не бойтесь.
НЕРЖИН. Спасибо, Николай… Захарович. Пока — сижу.
Яхимчук уходит. Нержин один.
Пока… Что с моей головой? Я в каком-то злом сне… Зачем я полез в начальники? Я думал, это как в армии: офицер! приказ… хо-го!.. Какой-то гадливый ужас — чтобы только самому не попасть на общие. Общие — это смерть! (Пауза.) Но начальником здесь быть — ещё хуже смерти…
Несколько раз в дверь стучат. Наконец Нержин слышит.
Да!
Входит Шурочка. Она в модной шляпке, цветном пальто.
ШУРОЧКА. Разрешите? Здравствуйте. Простите, что я вас безпокою…
НЕРЖИН. Да. Что вам? Остаться?
ШУРОЧКА. Как! А ещё будут увозить?
НЕРЖИН. Конечно. Куда нам столько.
ШУРОЧКА. Тогда — остаться! остаться! и так завезли!.. Я всю жизнь прожила в Москве.
НЕРЖИН. Какая статья?
ШУРОЧКА. Общедоступная, какая!
НЕРЖИН. И вы занимались политикой?
ШУРОЧКА. Что вы, что вы! — я театралка! я поклонница всего изящного! Просто слышала разговор и не донесла… Как мне устроиться на какую-нибудь… канцелярскую работу?
НЕРЖИН. Нич-чего нет.
ШУРОЧКА. Я работала секретарём. Немножко машинисткой. Немножко бухгалтером. Меня зовут Шурочка.
НЕРЖИН (кивая). Я представляю… Вы на премьерах выбегали к рампе и, надев сумочку на локоть, кричали «браво» Остужеву. Этот билет, обязательно на премьеру, вы на долгие сбережения покупали у перекупщиков, да? Увы, я сам тут без году неделя и ничего не могу вам… Зайдите в КВЧ, в бухгалтерию. Может быть, сумеете понравиться.
ШУРОЧКА. Понравиться?.. Вы хотите сказать…
НЕРЖИН. Я не это хотел сказать. Но получается…
ШУРОЧКА (с порывом). Скажите! Почему в лагере люди становятся такими ужасными?! Неужели они и на воле были такими, только скрывались?..
Входит приезжий надзиратель.
НАДЗИРАТЕЛЬ. Ну, слушай, завпроизводством! Парикмахера нашёл?
НЕРЖИН. Парикмахерша, только театральная.
НАДЗИРАТЕЛЬ. Баба? Вот эта?
Шурочка вспыхивает и уходит.
Ничего, лишь бы ножницы из рук не вываливались.
НЕРЖИН. Где ж она есть? (Хлопает.) Ангел!
Ангел в дверях.
Вот эту первую девушку, что ты звал, резвую такую, — давай её сюда!
Ангел исчезает.
Ну, подобрали этап?
В дверь стук. Входят 1-я и 2-я студентки.
НАДЗИРАТЕЛЬ. Подобрали. Кота в мешке купил, не знаю кого. Оглядеть некогда, уж машины на вахте.
1-Я СТУДЕНТКА. Товарищ начальник!
2-Я СТУДЕНТКА. Простите нас!
НЕРЖИН. Что такое?
1-Я СТУДЕНТКА. Мы хотели бы уехать. Говорят, этап хороший.
НАДЗИРАТЕЛЬ. Это мой этап? Конечно хороший. В лесу. Летом смолой пахнет. Как на даче.
НЕРЖИН. Но сейчас к зиме.
НАДЗИРАТЕЛЬ. и зимой хорошо: конвою не хватает, на работу зэков не выводим, ле-е-жат себе на нарах. Пиши их, пиши! (Суёт Нержину список.)
НЕРЖИН. Жалеть будете, девочки!
ОБЕ. Не будем, не будем, пишите!
Нержин вписывает.
НАДЗИРАТЕЛЬ. За вещами и — на вахту, быстро!
Студентки с возгласами убегают.
Вот дурочки! Болота, комары, лесоповал — на что они годятся? Ну, может, какая лейтенанту понравится, он у нас на баб разбойник. Баб нет у нас, мужики одни, тоже-ть изголодались. и парикмахершу возьму. Вот радость будет!
Входит Люба.
НЕРЖИН. Ну, куда ж вы убежали? Тут и так голова затуркана. (Надзирателю.) Вот она!
ЛЮБА. Да, но я не знаю, гожусь ли я?
НАДЗИРАТЕЛЬ. Годишься-годишься. Такая девка-коза!
Люба подходит ближе и протягивает руки. Её пясти — в чёрных волдырях.
НЕРЖИН. Что у вас с руками? Волдыри?
ЛЮБА. Не знаю, не говорят. Лечат. Может, заразное…
НАДЗИРАТЕЛЬ. А может, пройдёт?
ЛЮБА. Да уж больше года мучаюсь.
НАДЗИРАТЕЛЬ. Ай, беда, такая девка славная… Как же нам?.. Ещё чуток волосы отпустим — шерсть валять будем, валенки катать. Ну, иди, что ж. У нас там и санчасти нет.
Люба уходит.
НЕРЖИН. Как же без санчасти?
НАДЗИРАТЕЛЬ. А ничего, обходимся. У нас без врача как-то и не болеют. Жив-жив, потом смотришь — помер. Без хлопот. (Уходит.)
Входит Гай. Нержин подымается и здоровается с ним за руку. Гай садится.
НЕРЖИН. Павел Тарасович! Четверо блатных. Куда девать?
ГАЙ. Четверо — много. А двоих давай, что ж делать.
НЕРЖИН. Работать — не хотят.
ГАЙ. У меня — будут.
НЕРЖИН (записывая). Геройский ты парень, Павел Тарасович. Ты кем был на фронте?
ГАЙ. Спроси, кем не был. Наводчиком зенитки был. В штрафной был. Командиром взвода сорокапяток был. Своими руками двух «мессершмитов» сбил. Жалею.
НЕРЖИН. Жалею, Павел Тарасович, и я. За какой бардак воевали?
Звон отбоя во дворе.
Ах, и поговорить некогда, разобраться…
ГАЙ. У меня вот здесь — бурлит всё! Сидел я во фронтовой контрразведке СМЕРШ — орлы были в камере, ну просто орлы! Когда нам рассказывали про лагеря, мы думали — это Пятьдесят Восьмая стала такая затруханная, рахитики, мы поедем — всё повернём. А приехали сюда — как топор в тесто. Всех пораскидали. Мало нас. Давайте думать, что делать будем? Оружие добывать? В побег уйдём?
НЕРЖИН. А дальше что? К медведям в тайгу?
ГАЙ. Я четыре года как дурак за них воевал. Где голова была?
НЕРЖИН. Надо как-то учиться — не бежать. Надо как-то… чтоб они от нас побежали…
КОСТЯ (в дверях). Р-разойдись, приёма нет! Атбой был! Завпроизводством занят.
Слышен ропот голосов.
Ангел! Никого не пускать! (Входит.) Ну, порядочек, отправили, спихнул фитилей десятка два.
НЕРЖИН. Двух блатных Гаю отдаю.
Гай прощается с обоими за руку.
КОСТЯ. Как закон!
Гай уходит. Костя кладёт перед Нержиным пачку папирос.
Твой «Беломор». (Хлопает.) Ангел!
Ангел появляется.
Беги на кухню, чтобы быстро котлетки или мясо поджарили, на двоих.
НЕРЖИН. Стой, стой, Костя! Это — для нас?
КОСТЯ. Ну а для кого же?
НЕРЖИН. Иди, Ангел, не надо.
Ангел уходит недовольный.
Костя! Парень ты симпатичный, но — никогда и ни в коем случае!
КОСТЯ. Ты — тот ещё керя! Фраер зелёный! Как же ты жить будешь в лагере? Баланду лопать?
НЕРЖИН. Как все — так и я.
КОСТЯ. Ну и подохнешь через неделю.
НЕРЖИН. Люди ж не дохнут…
КОСТЯ. Дохнут! Ещё как дохнут! Или в центральную больницу или в братскую яму сразу. Один процент в день как норма военного времени. Я строёвки писал, знаю. Нет уж, попал на это место — так слушай меня. Иначе на общие слетишь в момент.
НЕРЖИН. Нет, ну их к чёрту, общие!
КОСТЯ. То-то. (Достаёт из кармана пол-литра и, спиной к двери, наливает в глиняную кружку.) Тут я принёс по десять капель на зуб, пей! Чем теперь закусывать будем?
НЕРЖИН (пьёт). Ну что за человек? Откуда? (Пьёт.) В лагере ж она запрещена… Я думал…
КОСТЯ. Тут-то её и пьют, тюря! (Выпивает остальное, прячет в свой стол пустую бутылку.) О! Сала шматочек! Я и забыл. Закусывай. (Режет.) Это один латыш принёс за то, что я его в другую бригаду перевёл.
НЕРЖИН. и ведь ты скажи, на фронте у меня бочка его была, трофейного спирта, ребятам каждый день выдавал, — сам не пил. А здесь приятно.
КОСТЯ. Вообще ты — тяжёлый тип.
НЕРЖИН. Слушай, когда ж мы новый этап по бригадам разобьём?
КОСТЯ. Успеем, ночь большая.
НЕРЖИН (хмелея). Я блатарей двух Гаю отдал… Или говорил? Костя! Ты прости меня… А ты сам немножко не из блатных?
КОСТЯ. А что? Похож?
НЕРЖИН. Да есть чуть-чуть.
КОСТЯ. Я — сука.
НЕРЖИН. Как-как?
КОСТЯ. Сука, говорю, сука.
НЕРЖИН. Это что ж значит?
КОСТЯ. А это значит — от блатных откололись, ссучились, нарядчиками работают, бригадирами, комендантами, то есть псам помогают, — а блатным не положено. Живём так: трое сук, один блатной — зарежем; трое блатных, один сука — зарежут.
НЕРЖИН. Ну, а я по-лагерному — кто?
КОСТЯ. Ты? Я ж тебе говорю — олень. Сидор Поликарпович, вот ты кто. Как человека я тебя не одобряю. Но рубишь ты их правильно, за это я тебя полюбил. Тут придурки — кубло, во кубло. (Показывает переплетение.) и я тоже из того кубла, учти. Только мы с Рубеном-кладовщиком бабы не поделили. Так или я его на лесоповал, или он меня на лесоповал. Поэтому я с тобой могу. Могу вместе. Учти, я надёжный парень, выручка в бою, порядок морской. Сейчас нам — что?
НЕРЖИН (совсем опьянев). Да, — что?
КОСТЯ. Кухня: старший повар — мой человек, порядок. Раз. (Загибает палец.) Хлебореза своего поставить — два. Вещкаптёра своего — три… (Загибает.)
Разрисованный занавес.
В АНТРАКТЕ, не тотчас, — смена часовых на вышках у сценического портала. Сменив одного часового, развод военным шагом спускается, проходит перед первым рядом партера (если там толпятся зрители, разводящий грубо кричит: «Ат-тайди от зоны! Р-разойдись!») и сменяет часового другой вышки.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
КАРТИНА 5
Просторный кабинет начальника лагпункта. Середина комнаты вся пуста, устлана красной дорожкой. У одной стены — десяток рядом стоящих стульев, дверь, большая скульптура Сталина на подставке. Сзади — досчатая перегородка, в ней — проём с расходящимися занавесками и видна кровать. В другой стене — два окна, за ними пасмурно, это единственное освещение. Там же — письменный стол с высоким чернильным прибором в виде кремлёвской башни, этажерка с приёмником, диван.
В тишине хорошо слышен бой дождя в водосточные трубы.
За перегородкой — тяжёлое кряхтение, спускаются с кровати сапоги. Держа в руках ещё не надетый китель, выходит лейтенант Овчухов. Бродит.
ОВЧУХОВ. Где я мог…? Где?.. Вот неприятность!.. и на хрена его нам дают — что мы, на фронте, что ли? Я его и не чистил три года… Доложить — пропал. Не доложить — ещё больше пропал. (У окна.) Это ж вторые сутки без передыху льёт и льёт. Кто там работает!.. (У стола. Не садясь, перебирает бумажки.) О, не успел от них сам, а уж почта здесь. Что они её, по воздуху, что ли, перекидывают? Насажали в управлении сто машинисток — им же надо хлеб отрабатывать. (Зажигает настольную лампу, разрывает конверт.) Пожалуйста. Постановление развёрнутого совещания… Пункт тридцать четвёртый: «Предупредить лейтенанта товарища Овчухова, что, если он не добьётся крутого подъёма производительности труда, он будет переведен в дальние северные лагеря». В ссылку значит. На Колыму куда-нибудь. Ой, мама, вот жмут! вот жмут! (Опускается за стол.) Один выход: доложить, что личное оружие потерял, пускай из органов грёбаных выгоняют, что я себе — работы не найду?.. А где их найдёшь, эти тысячи? Да продукты со склада?.. А ещё ну-ка за потерю оружия под суд?.. Не, не выгонят. Тягать, прорабатывать, а не выгонят. (Звонит в колокольчик.)
В дверях — АНГЕЛ.
АНГЕЛ. С приездом, гражданин начальник! Прикажете завтрак подать?
ОВЧУХОВ. Да. Давай. и этого… завпроизводством.
АНГЕЛ. Он там, на строительстве, гражданин начальник.
ОВЧУХОВ. Вот и вызови.
АНГЕЛ. Есть! (Исчезает.)
Овчухов с подпёртой головой сидит за столом. Стук.
ОВЧУХОВ. Да.
Входит СОЛОМОН. Выглядит очень аккуратно.
СОЛОМОН. Разрешите? С добрым утром, гражданин начальник! С приездом!
Овчухов мычит.
Гражданин начальник! К завтраку вам. (Ставит на стол в свет лампы пол-литра.)
ОВЧУХОВ. и откуда ты, Соломон, всё достаёшь? Откуда ты достаёшь?
СОЛОМОН. Живём потихоньку, гражданин начальник.
ОВЧУХОВ (показывая за перегородку). Там стакан, налей.
Соломон заходит за перегородку.
Свет зажги.
Зажигается яркий свет. Стук. Старший повар в белом вносит поднос, накрытый кисеёй, и ловко закрывает дверь ногой.
ПОВАР (ставя поднос на стол). С приездом, гражданин начальник!
ОВЧУХОВ. Тьфу, чтоб ты пропал, сговорились вы, что ли? Хоть бы новое что сказал.
ПОВАР (откидывая кисею). Антрекот, гражданин начальник!
ОВЧУХОВ. А вон то?
ПОВАР. Котлетки рисовые. Соус плюм.
ОВЧУХОВ. Плюм — это хорошо. Ты всё ж таки готовить умеешь. Не то б я тебя да-а-вно на общие послал.
ПОВАР. За что, гражданин начальник?!
ОВЧУХОВ. Вали, вали, сам знаешь.
Повар уходит. Соломон, крадучись, подносит стакан. Овчухов пьёт, начинает завтракать.
Смотри, хорошее мясо. Неужели с общего котла? Здорово мы вас кормим! Какая у нас норма мяса заключённым?
СОЛОМОН. Вообще-то — пятнадцать грамм, но если субпродуктами третьей категории — лёгкими пикальными, мясокостными хвостами, пищеводом обработанным, то выходит больше. А то заменяем мясо — рыбой или горохом.
ОВЧУХОВ. Просто хорошее мясо! Налей ещё, что ли.
Соломон подносит.
Ну, что тут нового, докладай. Завпроизводством как? Справляется? Чего улыбишься?
СОЛОМОН. Гражданин начальник! Вы его сами выбрали, назначили, — значит, он хороший.
ОВЧУХОВ. Раз я назначил — конечно хороший. Я в людях разбираюсь. А — чего, всё-таки?
СОЛОМОН. Гражданин начальник! Он себя тут ведёт, как будто он бог и царь — ваш заместитель!
ОВЧУХОВ. Правильно ведёт. Я ему так и велел, он за меня остался.
СОЛОМОН. Ну, совершенно верно. Но остаться за вас — это не значит нарушать вашу волю, отменять ваши приказания.
ОВЧУХОВ. Мои приказания?!
СОЛОМОН. Ну, например, на днях перераспределил дополнительные пайки, вообще распоясался. Зубтехника послал на общие. Прижимает обслугу лагеря…
ОВЧУХОВ. Обслугу лагеря не только прижать, всех пошлю на общие! Довольно мне процент снижать! Тебя одного в бухгалтерии оставлю да повара одного, а всех каптёров, парикмахеров, помкомендантов — всех на работу! Я из-за вас в северные лагеря не поеду.
СОЛОМОН. Гражданин начальник! Так если вы мне скажете: Соломон! днём работай в бухгалтерии, а ночью иди землю копай, — я первый побегу кирку захватывать. Но — он? Потом ботинки без вас самочинно раздал.
ОВЧУХОВ. Ботинки — это зря.
СОЛОМОН. Я ему говорил, чтобы вас подождать. Потом — взятки берёт с нового этапа: кого послать на лесоповал, кого оставить.
ОВЧУХОВ. Лапу берёт? Молодчик! Дурак бы был, если б не брал.
СОЛОМОН. Ну, совершенно верно. Но вообще, гражданин начальник, это не такой человек, какой вам нужен, чтобы поднять производительность труда. Среди нового этапа есть один инженер — талантливый энергичный человек, хорошо знает произ…
ОВЧУХОВ. Что значит — талантливый? Что он, Лемешев, что ли? Я таких талантливых, знаешь, всех…
Стук.
Да!
Входит НЕРЖИН. Он в мокром.
НЕРЖИН. Гражданин начальник! По вашему вызову завпроизводством Нержин прибыл.
ОВЧУХОВ. О! вояка! Сразу видно. Так на что, Соломон, ты жалуешься? В чём он не прав?
СОЛОМОН. Я вовсе не жалуюсь, гражданин начальник.
ОВЧУХОВ. А не жалуешься — тогда иди! Иди!
Соломон уходит.
Ну, что ты тут без меня? Самоуправничаешь?
НЕРЖИН (чётко). Я действовал точно по вашим инструкциям: всё для повышения производительности труда.
ОВЧУХОВ. Ну, и насколько повысил?
НЕРЖИН. За истекшую декаду производительность труда поднялась на восемь процентов.
ОВЧУХОВ. Ч-чудеса! Как эт’ ты исхитрился?
НЕРЖИН. Ну, во-первых, за счёт того, что я вмешался в работу нормировочного бюро. Мне удалось обнаружить, что производство нас обманывает: то неполное описание работ по нарядам, то неправильное истолкование единых норм.
ОВЧУХОВ. А Дорофеев куда смотрел, подлюга лысая? Выгоню на общие! Наш, лагерник, — должен за лагерь болеть, а не за производство!
НЕРЖИН. Гражданин начальник! Как раз Дорофеев сам ничего не может сделать — ведь он на службе у Гурвича! Ну, Гурвич его через день прогонит, — какая нам выгода?
ОВЧУХОВ. и ведь ты скажи — я чувствовал, что производство меня обгрёбывает! и на сколько, ты говоришь, повысил?
НЕРЖИН. На восемь процентов.
ОВЧУХОВ. Мало. Ма-ло! Надо на пятьдесят восемь!.. Нет, на пятьдесят восемь не надо… на шестьдесят! Я тебя научу, ты ещё неопытный, не с того конца берёшься. (Раздельно.) На-да за-ставить заключённых (кричит) работать!! Вот сегодня дождь, ты — пошёл, проверил? На открытых работах, ручаюсь, никого нет! Так пойди и выгони! Они — души работе не отдают, а надо всю душу отдать! Заключённый — он падло ленивое, готов от кровной пайки отказаться, с голоду подохнуть, — только б ему не двигаться. А ты его, гада, — по зубам! по кубальнику! по шее!
Нержин молчит.
А ты (берёт бумажку на столе, швыряет) Гурвичу с охраной труда голову морочишь. Чихня это всё. Не твоё дело. Теперь — от нового этапа хороших вещей набрал?
НЕРЖИН. Не понимаю.
ОВЧУХОВ. Ну, джемперов там, польта кожаные, юбки шёлковые… Сам зажать хочешь?
НЕРЖИН. Позвольте, как и зачем я могу брать чужие вещи?
ОВЧУХОВ. Чтобы жить, дурак! «Подохни ты сегодня, а я завтра», — закон знаешь? А на фронте трофеи брал?
НЕРЖИН (смущённо). Брал…
ОВЧУХОВ. Так не одно и то же? Не-ет, ты — Сидор Поликарпович, извиняюсь, не зацепил ли я вас рукавом. Так ты в лагере не проживёшь, не-е. Ты бы пришёл и сказал: вот для вашей жены юбочка шёлковая или там чего другое… Я б тебя любил. и тебе б оставалось.
НЕРЖИН (подавлен). Гражданин начальник! Я в самое первое знакомство вам заявил, что я — фронтовой офицер, опыт руководства людьми имею, в делах производства постараюсь разобраться, — а больше я вам ничего не обещал.
ОВЧУХОВ. Ну, ладно. Поднимешь мне производительность труда на шестьдесят процентов — буду тебя любить. В общем, ты — жми, а я тебя поддержу!
НЕРЖИН. Есть, гражданин начальник! Потом я хочу представить вам сокращение вдвое хозобслуги лагеря — этих нахлебаев! У нас в зоне болтается много лишних людей — в бухгалтерии, на кухне, потом зачем-то два хлебореза, три банщика, а баня никогда не работает, разных дневальных тридцать пять тысяч, какой-то зубтехник, ни одной коронки никому не вставил, потом в санчасти этих санитарок…
Постучался и, не дожидаясь ответа, входит МЕРЕЩУН. Он свеж, выбрит, плотен, из-под белого халата виден ярко-красный свитер Кукоча.
МЕРЕЩУН. Добрый день, гражданин начальник. (Проходит и садится у стола Овчухова.)
Нержин всю сцену стоит.
ОВЧУХОВ. Здравствуй, доктор. Вот завпроизводством говорит — у тебя санитарок много, надо сократить.
МЕРЕЩУН. Зачем завидовать? Пришёл бы, сказал, какую ему — Маню? Клару? — пожалуйста, я бы отдал.
Овчухов хохочет.
А вообще у меня штатных две санитарки — дневная и ночная, а остальных шесть держу по другой графе — как больных, да будет известно завпроизводством.
НЕРЖИН. То есть каждый день шесть больных, вместо того чтобы лечь в постель, идут за зону — оправдывать ваших санитарок?
ОВЧУХОВ (отмахивается). Ну уж, зарапортовался! Люди идут на работу — государство на этом не теряет! (Мерещуну.) Но, вообще, я буду его любить. Если он мне повысит производительность труда. В общем, завпроизводством! Иди — и жми! и — нажимай! Я тебя всегда поддержу.
Нержин поворачивается по-военному, уходит.
Свитер у тебя хороший, красный.
МЕРЕЩУН. Кажется, начальник, магарыч не с меня, а с вас. Вы ничего не потеряли?
ОВЧУХОВ (встрепенувшись). А что я мог потерять?
МЕРЕЩУН. Не потеряли?
ОВЧУХОВ. Нашёл!?!
Мерещун достаёт из кармана маленький свёрток. Овчухов быстро хватает его, разворачивает, потрясает над головой пистолетом, бросается обнимать Мерещуна.
Друг! Керя! Спаситель! Где нашёл??
МЕРЕЩУН (смакуя). Перед тем, как ехать в Управление, вы с вахты ко мне в кабину зашли?
ОВЧУХОВ. Зашёл!
МЕРЕЩУН. Выпили…
ОВЧУХОВ. Порядочно.
МЕРЕЩУН. и заснули.
ОВЧУХОВ. Точно!
МЕРЕЩУН. Утром — когда вы встали? — я не слышал, спал. Подхожу к постели, а он лежит…
ОВЧУХОВ. Из кобуры выпал, цыпочка! (Ласкает пистолет.)
МЕРЕЩУН. Я — в кабинет, я — на вахту, — говорят: уехал.
ОВЧУХОВ. А я сейчас по всей дороге на землю смотрел.
МЕРЕЩУН. Вот я перепугался! Тут предоктябрьского шмона жди, в кабине держать нельзя! Пришлось в тряпочку и — под порог. Получите!
ОВЧУХОВ. Ай да Мерещун! Вот спасибо! А я уж думал — из органов выпрут. Решил пока до зарплаты не признаваться. Ну, полцарства проси — чего тебе надо? Да тебе ничего не надо. Ты же живёшь лучше, чем на воле. На воле сейчас, я тебе скажу, голод. Не для всех, конечно. А ты на жратву не смотришь, баб у тебя хватает, спирта сам я у тебя беру. Ну, что? В областной город без конвою на неделю хочешь? Цени, ведь ты — Пятьдесят Восьмая!
МЕРЕЩУН. В областной город? Это можно.
ОВЧУХОВ. Не то что можно — никак нельзя! Но — сделаем! Я же знаю, ты вернёшься, лучше рая не найдёшь. Ещё тебе что?
МЕРЕЩУН. Спасибо, начальник, пока мне ничего не надо. Разве что — вам помочь?..
ОВЧУХОВ. Скажи, скажи.
МЕРЕЩУН. Вас в Управление зачем вызывали? Небось насчёт производительности жмут?
ОВЧУХОВ. То есть не то что жмут — давят! Косточки хрустят! Сказали: будем вынуждены послать за Полярный круг. Квартира, семья, дом начал строить… Да я рад, хоть пистолет нашёлся.
МЕРЕЩУН. Так вот, если вы хотите производительность труда, — я вам человека нашёл — ай-ай-ай! Не пролей капельки! Ради производительности труда родного отца на лесоповал пошлёт.
ОВЧУХОВ. Иди ты! Такого мне и надо! Где взял?
Мерещун звонит в ручной колокольчик. Вбегает АНГЕЛ.
МЕРЕЩУН. Инженера Кукоча. Он сейчас в зоне. По болезни.
Ангел убегает.
Деловой, требовательный, в производстве собаку съел. Он вам дело поставит — а!
ОВЧУХОВ. Гм-м… Значит, этого — что? снять?
МЕРЕЩУН. Кого? Рокоссовского? Его блатные Рокоссовским прозвали.
ОВЧУХОВ (смеётся). Рокоссовским? Точно!
МЕРЕЩУН. Я — сам офицер и вижу: в армии он, может, и хорош, но здесь не годится. Здесь надо душу лагерника понимать. За пятьсот грамм чёрного хлеба Беломорканал построен.
Стук.
ОВЧУХОВ. Душу, верно. Зайди.
Входит Кукоч.
КУКОЧ. Инженер Кукоч по вашему приказанию.
ОВЧУХОВ. Инженер — какой? По строительству?
КУКОЧ. Так точно.
ОВЧУХОВ. А по механизации?
КУКОЧ. То же самое.
ОВЧУХОВ. А по электрике?
КУКОЧ. Три года работал.
ОВЧУХОВ. Сантехника?
КУКОЧ. Свободно разбираюсь.
ОВЧУХОВ. Смотри, золото, а не человек.
МЕРЕЩУН. Ещё одно он от вас скрывает: он ещё инженер человеческих душ, как сказал товарищ Сталин.
ОВЧУХОВ. А вот мы сейчас проверим. Если я тебя назначу начальником производства и скажу: повысь мне производительность труда, — с какого края начнёшь?
КУКОЧ. С хлеба! Например, гарантийку давать не за сто процентов, а за сто один! Тогда все повременщики станут переходить на сдельщину! Нам выгода. и так же все высшие пайки — сдвинуть шкалу!
ОВЧУХОВ. Подожди, но шкала — ГУЛАГа, мы не можем менять…
КУКОЧ. Можем! Да не безпокойтесь, за это ничего не будет! Я это уже применял в том лагере, где был прорабом. Блестящий результат!
ОВЧУХОВ. Смело придумано.
КУКОЧ. Второе: так же изменить и шкалу каш — чтобы на одну и на две каши нужно было бы перевыполнить больше процентов.
ОВЧУХОВ. Это мы и сами догадались. Повышали, уж некуда. Дойдут работяги.
МЕРЕЩУН. Не дойдут! Как доктор говорю: не дойдут.
КУКОЧ. Третье: разрешать свидания с родственниками только за сто пятьдесят процентов, ночные свидания с женой — только за двести один процент, а за двести пятьдесят — две ночи. Четвёртое: не принимать с почты продуктовых посылок для заключённых, вырабатывающих ниже ста двадцати процентов.
ОВЧУХОВ. Да разве мы имеем право?
КУКОЧ. Слушайте! Пока родственники разберутся, пока напишут жалобы, пока пошлют, пока дойдут, — мы хотя бы на три зимних месяца схватим за горло тех, кто живёт на своих продуктах, кто не нуждается в лагерной кухне! Или вкалывай как вол — или подыхай! Очень важно! Пятое — нормировщик. Ну, этого я сам… Шестое…
ОВЧУХОВ. Это всё верно. Это всё правильно. Много ещё?
КУКОЧ. Пятнадцать мероприятий наберу.
ОВЧУХОВ. Ну, тогда скажи — а шестнадцатое?
КУКОЧ. А шестнадцатое? За счёт общего повышения производительности выделить строительную бригаду для окончания к праздникам вашего собственного дома!
ОВЧУХОВ. Угадал! Угадал! У меня там столярные работы, малярные…
КУКОЧ. Знаю, знаю.
МЕРЕЩУН. и выходит — кругом шестнадцать.
ОВЧУХОВ. Деловой! Опыт имеешь. (Звонит.)
Тотчас же входит СОЛОМОН, держа руки за спиной.
Ты как догадался, что я — тебя?
СОЛОМОН. Ангел отлучился, гражданин начальник, и я зашёл, чтоб вам не ждать.
ОВЧУХОВ. Книгу приказов — тащи!
СОЛОМОН (выводя книгу из-за спины). Пожалуйста.
ОВЧУХОВ (поражённый). Ну, ты настоящий царь Соломон! Как же ты догадался, что мне — книгу приказов?
СОЛОМОН. Угадывать ваши мысли — моя обязанность.
ОВЧУХОВ. Золотые люди меня окружают! Вот что значит — я умею людей подбирать. Как правильно товарищ Сталин сказал: «Кадры решают всё». «Люди — самый ценный капитал». У нас этот лозунг висит во дворе?
СОЛОМОН. В столовой висит, гражданин начальник.
ОВЧУХОВ. Вот дурак этот Культурно-Воспитательная Часть, только знает щепки со строительства домой возить, всё забываю ему сказать: «Кто не работает, тот не ест» в столовую перевесить, а «ценный капитал» во двор.
СОЛОМОН. Передам, гражданин начальник.
ОВЧУХОВ. Садись, пиши.
Соломон присаживается, надевает очки.
Приказ номер… Какой там номер?
СОЛОМОН. Двести тридцать шестой.
ОВЧУХОВ. Так. Параграф первый. Завпроизводством зэ-ка… как его?
МЕРЕЩУН. Нержина…
ОВЧУХОВ. …зэ-ка Нержина за необезпечение крутого подъёма производительности труда…
СОЛОМОН. Может, глаже сказать — за снижение производительности?
ОВЧУХОВ. Катай! За снижение произво…
МЕРЕЩУН. Уж тогда — за резкое снижение.
ОВЧУХОВ. …за резкое снижение производительности труда — снять! Параграф второй: назначить завпроизводством зэ-ка…
МЕРЕЩУН. Зэ-ка инженера Кукоча!
Разрисованный занавес.
КАРТИНА 6
Просторная грубо оштукатуренная комната в строящемся здании. Огромный временный стол. Дверь с табличкой «старший прораб», дверь в маленькую кухоньку, где стряпает Люба, входная дверь. За малым столом сидит Дорофеев, обложенный справочниками и бумагами. Лысая голова его обмотана по лбу полотенцем. Ещё стоит ничей стол впереди посередине. Грубые скамьи, табуретки целые и ломаные.
Нормировочная гудит от ДЕСЯТНИКОВ, заполняющих наряды, и спорящих с ними бригадиров. По одежде и обуви видно, что на дворе — дождь и грязь. Входят, выходят, пишут стоя и сидя, где попало, тащат у нормировщика бланки и портят их, тормошат обезсиленного Дорофеева, берут с его стола книги. В спорах оживлённо участвует и Нержин.
Пасмурно. Неопрятно. Накурено.
Из общего гула вырываются реплики.
ГАЙ. А изготовление раствора?
ГОРШКОВ. Входит в норму кладки. Ты ж не вручную — растворомешалка.
ШАРЫПО (кричит Горшкову). Обгрёбываете православных! На хрена мне ваша растворомешалка? Час работает — сутки току нет!
Из кабинета прораба выходит Кукоч. Он медленно проходит к переднему столу и садится на него, спиной к зрителям.
1-Й ДЕСЯТНИК. Надо горбить, а не тухту писать! За сто двадцать процентов вы должны так наработаться, чтоб на карачках ползали!
1-Й БРИГАДИР. Как? и разметка, и сверловка по ноль восемнадцать за дырку? А ты учитываешь, что я на вертикально-фрезерном сверлю?
ДОРОФЕЕВ. Ну, нормы, ну, единые государственные расценки, милый человек, не сказано — на каком станке.
2-Й БРИГАДИР. План, план! — задницей планируете! Сказали лаги поставить — я поставил, сказали полы настелить — я настелил, а потом срывать? Я виноват, что вам цементный захотелось? Завпроизводством! Мне за работу не платят, я бригаду сажаю, составляйте конфликтную комиссию!
НЕРЖИН. Слушайте, десятник! За ошибки вашего руководства мы не отвечаем. Вы извольте платить!
ДОРОФЕЕВ. Ну кто взял справочник по бетонным работам? Ну кто взял? Не могу я в такой обстановке…
МАСТЕР МЕХЦЕХА. Какие крутильщики станков — шестнадцать человеко-дней? Это же в «Крокодил» — крутильщики станков!
1-Й БРИГАДИР. А когда день току не было, а втулки срочные, — заставили токарные станки вручную крутить! Тогда о «Крокодиле» не думали?
МАСТЕР МЕХЦЕХА. Так это же иначе надо как-то записать. Нельзя же такой позор для истории оставлять! Это же наши советские люди, не американские негры. (Идёт с нарядами в кабинет прораба.)
НЕРЖИН. Короче: за установку лаг, потом за срыв этих же лаг, за подноску досок и относку этих же досок — платите?
1-Й ДЕСЯТНИК. Из каких средствов я платить буду?
Входит Фролов. Он неторопливо толкается меж других, потом садится около Дорофеева, где и сидит до своего ухода.
ГАЙ. А подноска инертных к растворомешалке? Дорофеич! В чём дело?
ДОРОФЕЕВ. Да ведь там десяти метров нет? Не платим.
ГАЙ. Ну восемь метров. А два человека на носилках целый день…
ДОРОФЕЕВ. Государственными расценками не предусмотрено. Не дают работать!..
ШАРЫПО. Дай наряд! Дай наряд! (Выхватывает у десятника наряд и рвёт в клочки.) Пошли вы все на хрен к трёпаной матери! Штукатурка отвалится — мне переделывать? Поставили печку — оплачивайте человека!
ГАЙ. Фёдор Иваныч! Имей ты совесть. Доходят люди. Это целый день с носилками, придут в лагерь, навара капустного похлебают — и ложись. Хоть бы вечером я им мог по кашке прибавить.
ГОРШКОВ. Всё понимаю, милый, сам заездился — нос да борода. Нам велят резать наряды, не давать лагерю денег. Подпишу тебе кусочек тухты, а меня с работы…
ГОЛОС. Как ты бетонировал? Вся арматура повылазила!
ДОРОФЕЕВ. Не трогайте справочники! Не трогайте!
1-Й ДЕСЯТНИК. Дорофеев! Зачем журналы бригадирам даёшь? Тут двадцать было, а он ноль добавил — двести!
3-Й БРИГАДИР. Кто добавил? Твой почерк!
ДОРОФЕЕВ. Они сами берут, как им не дашь? Ну нельзя работать!
2-Й БРИГАДИР. А лаги я им поставил? Лаги?
1-Й ДЕСЯТНИК. и вот подправлено. и вот.
ЯХИМЧУК. Кузнецы и так ничего не зарабатывают с этими нормами.
МАСТЕР КУЗНИ. А сколько ты на цепях заработал? По три нормы в день?
ЯХИМЧУК. Цепями вы меня не попрекайте. На десять лет навесили.
ШАРЫПО (кричит). Портачи! Халтурщики!
НЕРЖИН. Значит, вы не платите?
2-Й ДЕСЯТНИК. Нет!
НЕРЖИН (2-му бригадиру). Тогда — сажай бригаду! Произвол этот надо кончать!
2-й бригадир направляется к выходу, но в дверях остановлен властным окриком Кукоча.
КУКОЧ (сидя на столе, к нам спиной, не шевелясь). Алё! Бригадир! Куда пошёл?
2-Й БРИГАДИР. Бригаду сажать. Тебе что?
КУКОЧ (спокойно). Американская забастовка, что ли? Кто разрешил?
2-Й БРИГАДИР. Завпроизводством. А ты кто такой?
КУКОЧ. Кто завпроизводством?! Я — завпроизводством!!
Бурный шум внезапно сменяется полной тишиной и неподвижностью. Из кухни выглядывает и замирает Люба, она в белом фартуке.
НЕРЖИН. То есть… как это… вы?..
КУКОЧ. А очень просто.
НЕРЖИН. Позвольте, кто вас назначил?
КУКОЧ. Начальник лагеря.
НЕРЖИН. Я полчаса как от него.
КУКОЧ. А я — десять минут.
НЕРЖИН. Как это может быть, чтобы меня не вызвали, не сказали?..
ШАРЫПО. Может! Нержин! В лагере — всё может!
НЕРЖИН. Да что ж это?.. Это на людоедских островах… и то так не делают… Я пойду проверю… Ничего не сказали…
КУКОЧ. Никуда вас вахта не пропустит. Идите до вечера в бригаду. Норму выполняйте. (Громко.) Внимание, бригадиры! Этот вечный шалман в нормировочной — прекратить! Кто зайдёт сюда без моего разрешения — будет иметь бледный вид!
ШАРЫПО. А Шарыпу — три министра десять лет бьются — не перевоспитают, не то что ты!
КУКОЧ (прежним тоном). Что это за номера? Забастовки, базар, а работяги от дождя попрятались? Идите — и выгоняйте! Всех до одного!!
Бригадиры молча, не торопясь, начинают расходиться.
ДОРОФЕЕВ. У-ух, как тихо стало… (Косясь на Кукоча.) Вот хорошо теперь работать будет. Сразу видно, что порядок. Голова у меня, Аксентьич, болит, вот болит…
ФРОЛОВ. и у меня, старик, болит.
ДОРОФЕЕВ. Так у меня от болезни болит.
ФРОЛОВ. Сон, понимаешь, мне приснился, какой день прочнуться не могу, что за видение? Вроде входит в пиджаке, а под пиджаком на груди — шерсть чёрная. К моей постели наклонился: собирайся, Фролов, пошли!.. К чему это может быть?
ЯХИМЧУК. Ну что ж, Глеб? Пойдёмте ко мне в литейку.
ФРОЛОВ. Что эт’ ты литейкой распоряжаешься? Литейке — я хозяин! Там ртов хватает. Кокоса мало, на что жить будем?
ЯХИМЧУК. Не шумите, Аксентьич, кто кого ещё кормит.
НЕРЖИН. Я очень благодарен вам, товарищ Яхимчук, но это теперь зависит… (Смотрит на Кукоча.)
КУКОЧ. А я по убеждениям своим — джентльмен. Лично мне вы дороги не перешли. Если Яхимчук берёт — пожалуйста.
ФРОЛОВ. Чего — пожалуйста? Я не беру! Литейке — я хозяин!
Яхимчук уводит Нержина. Десятники, оставшись без бригадиров, тоже расходятся. Кукоч спрыгивает со стола, выходит на авансцену.
КУКОЧ. Алё. Дорофеев.
ДОРОФЕЕВ (поспешно вставая). Слушаю вас! (Подходит.)
КУКОЧ (неслышно для остальных). Начальник лагеря ставит перед тобой такую задачу: поднять производительность труда всех бригад в два раза!
ДОРОФЕЕВ. Т-товарищ завпроизводством! Если в справочнике рубль — как же я могу два написать?
КУКОЧ. Ты глупей себя не ищи, чернуху не раскидывай. Конечно, за метр штукатурки тридцать две копейки, все знают, а какую-нибудь там коническую шестерню отфрезеровать — десять часов или пятнадцать — кто понимает?
ДОРОФЕЕВ. Но ведь это ж подсудное дело, я не хочу второй срок… Ведь это ж единые расценки, государство…
КУКОЧ. Какое государство, дурак? Ты в ГУЛАГе живёшь!
ДОРОФЕЕВ. Арнольд Ефимыч меня через три дня выгонит…
КУКОЧ. Арнольд выгонит — мы тебя в зоне пригреем, но уж мы тебя выгоним — под сосной подохнешь. Ясно?
Входит разряженная Зина с бумагами, направляется в кабинет Гурвича.
ЗИНА. Борис! Поздравляю! (Жмёт руку.) Я ещё вчера слышала!
КУКОЧ (отходя от Дорофеева). Как вчера? Только сегодня назначили.
ЗИНА. Мой Посошков ещё вчера знал. Он всё на свете узнаёт раньше начальника лагеря. Сегодня справляем вечеринку в честь тебя. Ты ещё без жены? Обзаводись!
КУКОЧ. Ах, красивая жизнь, где ты?.. «Милое глупое счастье с белыми окнами в сад…» (Уходит.)
Навстречу Зине из кабинета резко выходит ГУРВИЧ с пачкой нарядов в руке и мастер мехцеха.
ГУРВИЧ. Дорофеев!
Дорофеев вскакивает.
Ты что слесарям тухту зарядил? (Швыряет наряды Дорофееву через всю комнату.)
Дорофеев поспешно поднимает.
Ты почём слесарям шайбы расценил?
ДОРОФЕЕВ. По три копейки, Арнольд Ефимыч, как в справочни…
ГУРВИЧ. А ты посмотрел, что их — четыре тысячи штук? Это сколько они отметут?! Переделай по три десятых копейки!
ДОРОФЕЕВ. Арнольд Ефимыч! Но единые государственные нормы…
ГУРВИЧ. Ты про государство будешь много разговаривать — я тебя на кирпичную кладку выгоню и вольного посажу. Меньше с лагерем шушукайся! Тебе уже бригадиры на голову садятся. В нарядах — подделки… Смотри, за это судят!.. (Проглядывает бумагу, поданную Зиной.) Что такое?.. «3э-ка Матвеев оступился в колодец из-за отсутствия заграждения…» Что за чушь? Перепечатать немедленно: «Несмотря на имевшиеся около лифтного колодца ограждения, заключённый Матвеев бросился в колодец…»
ЗИНА. Но инспектор техники безопасности…
ГУРВИЧ. Дурак он, а не инспектор! Всё согласовано! В четырёх экземплярах! (Отстраняет Зину.)
Зина уходит.
Фролов! Как бронза?
ФРОЛОВ. Кладём, кладём, Арнольд Ефимыч, простое дело! Я много таких печей по литейках видал, сам Макару показываю. Во бронза будет!
ГУРВИЧ. Когда, когда будет?
ФРОЛОВ. Дня через три.
ГУРВИЧ. Надо завтра, завтра плавку!
ЛЮБА (преграждая ему дорогу). Обед готов, Арнольд Ефимыч.
ГУРВИЧ. Да разве тут…?
ЛЮБА. Пересохнет, выкипит, когда же?
Гурвич машет рукой, уходит с мастером мехцеха.
ФРОЛОВ. Завтра ему плавку! Блоха тоже быстрая! Я на Арнольда в комбинат кляузу буду писать: привязался, чтоб я сортность чугуна выдерживал. А как? Амбулатории нет — раз, шихтовка на глазок — два, обмазка некачественная — три, марганца нет — четыре. Напишу, а?
Дорофеев молча сидит, обхватив голову. Медленно входит КОЛОДЕЙ. Оглядывается.
КОЛОДЕЙ. Ну?.. Как у вас тут?.. Порядок?.. Режим не нарушаете?
Молчание.
Дорофеев! Чем карандаши завостряешь?
ДОРОФЕЕВ. Бритвочкой, гражданин начальник. Поломанная вот тут есть.
КОЛОДЕЙ. А ты знаешь, что колющее-режущее в лагере не положено?
ЛЮБА. Чем же мне Гурвичу картошку чистить?
КОЛОДЕЙ. Да хоть зубами. А ножа не имей. Есть на кухне нож?
ЛЮБА. Нету.
КОЛОДЕЙ. То-то. (Садится, закуривает.) Негневицкая! Кто из вашей комнаты по ночам в мужской барак бегает, а?
ЛЮБА. Откуда я знаю, гражданин начальник! Я ночью сплю.
КОЛОДЕЙ. Все вы спите. А поднимешь одеяло — там чучело. Или двое лежат. А потом в больничку тянутся, рожать. А работать кто будет?
ЛЮБА. Не понимаю, как можно запрещать любовь? Ведь человек же не из дерева, ведь десять лет дают.
КОЛОДЕЙ. Раз запрещают — значит, можно. Не надо было преступления совершать.
ЛЮБА. Хотя правильно. и детей этих, лагерных, по-моему, надо уничтожать.
КОЛОДЕЙ (встрепенувшись). Это почему?
ЛЮБА. Ну как же? Он — преступник, она — преступница, какой же может быть ребёнок? Только преступник. и что он в анкете будет писать, когда вырастет? Так чем потом морочиться, ловить его да судить, так сразу в душегубку, и всё.
КОЛОДЕЙ. Да-а… Получается так. Верно.
ЛЮБА. А с другой стороны — неверно. Ведь сын за отца не отвечает. и советской родине нужны солдаты. Десять миллионов заключённых — это б сколько миллионов детей было от них?
КОЛОДЕЙ. То-оже верно… (Вздыхает, встаёт.) Ну, как скажут, так и — будет. Ох, тяжело товарищу Сталину обо всём самому думать. В общем, вы тут это… работайте. (Уходит.)
ДОРОФЕЕВ (в отчаянии). и кто это нормирование проклятое выдумал, Аксентьич? Работал я мальчишкой у казённого десятника — ни нормировщиков, ни бухгалтерии, а уж как дом построили — без ремонту сто лет. Помнишь?
ФРОЛОВ. Амбулатории нет, весов нет, обмазка некачественная — напишу кляузу! (Уходит.)
ЛЮБА (замерев у окна). Дождь ли, снег ли — работайте, бедные зэки, вкалывайте! Придёте в зону, снимете мокрое и положите просыхать — под себя… Что, Дорофеич, болит?
ДОРОФЕЕВ. Доченька ты моя! Да лучше б я сейчас лопату взял и в эту грязь пошёл, чем здесь мучиться. С двух сторон меня стиснули, дышать не могу…
ЛЮБА (садится на передний стол лицом к зрителю). Нет, Дорофеич, нет. На зиму — лучше здесь! Как задует буран, да землю эту скованную без рукавичек ломом долбать… Нет.
ДОРОФЕЕВ. Наверно, помру я скоро… Говорят, к празднику амнистия будет вторая, для пятьдесят восьмой статьи, а? Говорят, у Сталина уже на столе лежит, подписать осталось…
ЛЮБА. Эх, Дорофеич! Одна нам будет амнистия — амнистия на тот свет… (Пауза.) А мне его жалко…
ДОРОФЕЕВ. Кого?
ЛЮБА. Да вот этого… Нержина…
ДОРОФЕЕВ. А себя тебе не жалко?
ЛЮБА. Себя?? Уже — нет…
Разрисованный занавес.
В антракте — смена часовых на вышках (та же процедура).
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
КАРТИНА 7
Литейный цех, как в картине 2-й, но формовочная земля собрана большим конусом. Цех застлан дымом и чадом. Когда он позже рассеется, в глубине видна новая печь для бронзы: круглая кладка, жестяной колпак с дымоходом в потолок. Из вагранки непрерывно доносится постукивание, под вагранкой стоят чьи-то ноги.
Впереди, присев на пол от дыма, сидят МУНИЦА и Чегенёв.
ЧЕГЕНЁВ. Мало тебе дали — десять лет! Таким дуракам надо по двадцать пять давать, чтоб ты успел пять пятилеток большевикам построить! Ну, теперь выбивай сам, я не буду!
Муница удручённо молчит. Входит ФРОЛОВ.
ФРОЛОВ. Да Гриша! Да окна же открой! Вентилятор сломался — окна открой, ведь дышать же нечем! (Опускается на корточки около литейщиков.)
ЧЕГЕНЁВ. А чего мне дышать? Пусть Макар дышит. Сегодня солнышко, я пойду на крышу загорать, я в таких условиях мантулить не буду.
ФРОЛОВ. Вот распустил я вас на свою голову, никто слушать не хочет. Ну, подождите, плохой вам Фролов — дадут другого начальника, вспомните Фролова.
ЧЕГЕНЁВ (кричит). Димка! Возьми лестницу, пойди все верхние окна выстави.
ДИМКА (появляясь из дыма). Есть, капитан! Разрешите выполнять, господа офицеры? (Берёт лестницу, уходит.)
Дым вскоре рассеивается, видно, как Димка выставляет рамы.
ФРОЛОВ (вовсе сев на землю). Ах ты пакостник, Макар, вот пакостник! Ты думаешь — в одной твоей Румынии печи, а в Расее-матушке печей нет? Да я этих печей больше забыл, чем ты видел, но — молчу. Почему молчу? Потому что без их спокойней, никто не дёргает, пока кокос есть, чугун есть, льём помалу, вам хватает, нам хватает, — чего надо, а? Ребята, чего нам надо?
ЧЕГЕНЁВ. Нам вот масла надо, а ты кислое принёс.
ФРОЛОВ. Что ты, очумел, что ли? Как это — масло, и вдруг кислое?
ЧЕГЕНЁВ. А так вот, редкое, как творог, и пыхтит. Комбинируешь, Аксентьич? С этого не разбогатеешь.
ФРОЛОВ. Да что вы, ребята! Опять плохо?.. Ну, может, по пьянке баба ошиблась, не того купила.
ЧЕГЕНЁВ. Да что она, тоже пьёт?
ФРОЛОВ. Милый, кто теперь не пьёт? Первая жена крепилась, а эта закладает. Да как ей удержаться? — у меня под кроватью ящик с водкой не перепустевает. Я не усну, если он пустой, что ты!
МУНИЦА. А шо Гурвич кажэ?
ФРОЛОВ. Из-за тебя и я: Фролов бронзу сорвал, Фролов экскаваторы остановил. А когда я обещал? Я всегда говорил, что твоя печь — дурная.
МУНИЦА. Але мусит быть бронза! Мусит!
ФРОЛОВ. Смотри, укусит!.. Москва молодцов видала! Умней тебя люди на свете живут — ещё такой печки не придумали. Если б это так просто было — каждый бы дурак такую печку строил. Ты вот думай теперь, как ломать. Сорок килограмм бронзы испортил, сожёг — да это шут с ним, мы её не покупали, — а печку ту как ломать? Бронзу заколодило!
МУНИЦА. Ходко сломаем.
ЧЕГЕНЁВ. Макар — большевик, он ломать умеет.
МУНИЦА. Який я к трёпаной матери большевик? То не жарта!
ЧЕГЕНЁВ. Ты че-ло-век, Макар! (Хохочет.) Ты — человек! Ещё на свете только двое таких есть.
МУНИЦА. Хто?
ЧЕГЕНЁВ (показывает на охранные вышки у сценических порталов). Вон, на вышках стоят!
Муница плюётся.
ФРОЛОВ. Скажи, англичане дошлый народ. Они тигли в двенадцатом году привезли, а мы до сорок пятого дотянули. Ещё б годика на два, а? Ты мне и не думай больше печку перестраивать! Чтоб ровное место было, понял?
Входит ЯХИМЧУК.
Николай! Он опять печку хочет строить.
ЯХИМЧУК. Шо ж? 3 умом, так можлыво и збудовать.
МУНИЦА. Але як? Як?
ЯХИМЧУК. Нибы вы вже не темите? Вы хтилы сами.
ФРОЛОВ. Да вы что — все против меня? Ну, я вас разгоню, ей-богу разгоню, новых наберу! Вот ещё Рокоссовского этого (кивает в сторону вагранки), дармоеда, на мою голову взяли. Кокос кончается, чугун кончается, — чем жить будем?
ЧЕГЕНЁВ. Не на твои деньги, сам с нашего литья живёшь.
МУНИЦА (вскипая). На шо вин мэни потрибен, ничо-го робыть нэ можэ!
ЧЕГЕНЁВ (тянется за лопатой). Эй, мамалыга! Смотри, я казак донской! Всем вам социализм на тридцать лет надо построить, чтоб вы знали.
МУНИЦА (Яхимчуку). Але як? Як?
ЯХИМЧУК. А я прэмии нэ потрибую.
МУНИЦА. Як нэ знаетэ, так и нэ кажить.
ЯХИМЧУК. А як знаю?
МУНИЦА. А як нэ знаетэ?
ФРОЛОВ. Да, ребята, чтоб я этой печки и в глаза…
ЧЕГЕНЁВ. Не говори ему, батя! Не говори, а то он сто тысяч получит!
ЯХИМЧУК. Голова ваша дурья! Форсунку трэба уще зробыть! Воздуходувные отвэрстия трэба заменьше, на який бис гэнде во яки глотки здоровы?
Быстро входит Гурвич.
ГУРВИЧ. Ну что, литейщики, летучий митинг? Провалили бронзу, теперь митингуете? Хвастался, Макар?
МУНИЦА. Чекайтэ, будэ бронза!
ГУРВИЧ. У тебя всё будет! — утюги, сковородки, котелки — ширпотреб наладили, в Москве такого нет! Я вот вас на лесоповал отправлю! Чегенёва — первого.
ЧЕГЕНЁВ. Пожалуйста, я нигде не пропаду.
ФРОЛОВ. А чем ребята виноваты? Такой печки нельзя сложить. Нигде не видано такой печки. Спросите инженеров. Я вот с таких лет по литейках, не люблю по-пустому говорить. Давайте мне командировку тигли толкать. На Урал.
ГУРВИЧ. Я тебе не Урал, я тебе аврал устрою! Строгальный станок не успевает детали обрабатывать, всё утюги ваши строгает… (Подходит к Яхимчуку, кладёт ему руку на плечо.) Яхимчук! Как человека тебя прошу! Ну придумай, помоги! Экскаваторщики на простое стоят, ничего не зарабатывают! Ребята! Ну хоть временную печь! Хоть на одну плавку!
МУНИЦА. Арнольд Ефимыч! Форсунку переробым, фурмы переробым — и будэ бронза перший кляс!
ГУРВИЧ. Ну хоть временную печь, на одну плавку, чтоб к Октябрьской рапортовать.
МАСТЕР МЕХЦЕХА. Арнольд Ефимыч! Прессножницы ведь опять стоят.
ГУРВИЧ (ужаленно). Как опять? Как стоят?.. Ну, Яхимчук, будь человеком, помоги! Давай, Макар, премия будет! (Стремительно уходит с мастером мехцеха.)
ФРОЛОВ. Не соглашайтесь, ребята. Мол, не можем — и взятки гладки… В общем, ковыряйтесь помалу, я пошёл. Если Арнольд спросит меня, скажите — в Первое СМУ пошёл… Или во Второе… (Уходит.)
ЧЕГЕНЁВ. Батя! Ну кто стучит? Ну кто про утюги стучит? Ну не стало жизни от стукачей. Или строгальный засыпался? Горим, батя! (Уходит.)
ЯХИМЧУК. Ну як? Прэмия пополам?
Муница молчит.
То я жартую, жартую… Николы б я вам нэ сказав, але скрыбно мэни дывыться, як вы усе дило губитэ. Закрутылысь с Гурвичем докупы. Дэ оливець? Ходимте, я вам начерчу.
МУНИЦА. А класть удвох будэмо?
ЯХИМЧУК. Удвох, удвох.
Уходят. На сцене никого. Воздух уже чист. Стук внутри вагранки прекращается. Входит ЛЮБА.
ЛЮБА. Арнольд Ефимыч, вас к телефону!.. Только заскочил, где ж он?.. (Заглядывает во внутреннее помещение, возвращается.)
Из-под вагранки на карачках кто-то вылезает.
Ой, кто там?
Это Нержин, он распрямляется. Его до невероятия изодранная брезентовая спецовка с прорехами до голого тела, лицо и рваная фуражка — в серой пыли. На глазах — целлулоидовые самодельные очки, в руках — зубило и молоток.
НЕРЖИН. Я. Не узнаёте?
ЛЮБА. Это вы-ы?! На кого вы похожи!! (Заливчато смеётся.)
Нержин поднимает очки, улыбается, чешет голову молотком.
Как вы там поместились, внутри?
НЕРЖИН. Тесновато, правда. Но я теперь худой. Вот пыли много… Люба. Так вас зовут?
ЛЮБА. Вы запомнили? Мне казалось, когда вы были завпроизводством, — вы людей не замечали.
НЕРЖИН. Отчасти было… Я тянулся — попасть в милость. Поманили меня какой-то иллюзией погонов, и я пошёл. С такой высокой лестницы скатился, а на последней ступеньке хотел удержаться. Гнуть других, только б не гнуться самому… А оказывается, куда вольней простому чумазому.
ЛЮБА. Простые чумазые — умирают…
НЕРЖИН. Ну вот же — долбаю шлак и песни пою.
ЛЮБА. Это потому, что в литейке. Здесь пайка высокая.
НЕРЖИН. Слушайте, а я, знаете, иногда что думаю?.. Может быть, шкура наша всё-таки не самое дорогое, что у нас есть?
ЛЮБА (очень внимательно). А — что же?..
НЕРЖИН. Да в лагере как-то сказать неудобно… Может быть, всё-таки… совесть?
ЛЮБА (пристально смотрит). Вы — думаете?..
Пауза.
НЕРЖИН. Ну, а как ваши руки? Я помню.
ЛЮБА. Руки? (Протягивает их.)
НЕРЖИН. Что такое? (Роняет зубило и молоток, берёт Любу за руки.) Совершенно беленькие? Всё прошло?
ЛЮБА (хохочет). А ничего и не было!
НЕРЖИН. Как не было? Я своими глазами видел — вот тут волдыри были чёрные…
ЛЮБА. Так это ж мостырка!
НЕРЖИН. Что это значит?..
ЛЮБА. Ну, я замостырила, чтоб на этап не ехать. Мостырка — это в лагере называется, если снарошки делают — опухоль, глаз слепой, температуру…
НЕРЖИН. и это всё — можно?
ЛЮБА. Он не верит! Конечно. Вот вас же я обманула.
НЕРЖИН. Удивительно, как вы надзирателя тогда обманули!
ЛЮБА. А он, по-моему, немножко догадался. Но пожалел. Вы бы не пожалели?
НЕРЖИН. Наверно — нет…
ЛЮБА. Хотели меня послать на лесоповал.
НЕРЖИН. Как хорошо, что не послал.
ЛЮБА. Вы… осмотрели мои руки? Теперь отпустите…
НЕРЖИН. Они мне нужны…
ЛЮБА. Зачем?..
Нержин целует ей руки.
Не притворяйтесь, я вам не нравлюсь.
НЕРЖИН. Как вы можете…?
ЛЮБА. Когда нас привезли, новый этап, и посадили на землю, вы подошли к женщинам, оглядели всех и выбрали — Зыбину. Помните?
НЕРЖИН. Подождите! А что вы подумали?
ЛЮБА. Почему — не меня?..
НЕРЖИН. Да просто потому… Я совсем по другому принципу…
ЛЮБА. Но у вас глаза были открыты? Как вы могли выбрать не меня!?
НЕРЖИН. Люба! Мне нужна была боевая бригадирша.
ЛЮБА. Я тогда очень обиделась.
НЕРЖИН. Я сразу заметил, что вы…
ЛЮБА. А зачем на лесоповал посылали?
НЕРЖИН. Но им нужен был парикмахер!
ЛЮБА. А я должна страдать?
НЕРЖИН. Вы… не только страдать… Вы должны быть одеты в лёгкое белое платье… а вот здесь, на груди, приколоть… Но даже и в лагерной телогрейке вы… Дайте мне ваши руки!
ЛЮБА. Зачем?
НЕРЖИН. Я их ещё поцелую!
ЛЮБА. Кто же целует — руки?..
НЕРЖИН. Я больше не смею.
ЛЮБА. Какой ты чудак.
Нержин целует.
У тебя все-все руки поранены.
НЕРЖИН. Шлак острый. А то молотком промахнёшься.
ЛЮБА. Плохо тебе жить, да? Тяжело?
НЕРЖИН. Вот скоро год, как арестовали, — только было мрачно, так тяжело! А сейчас первый раз хорошо.
ЛЮБА. Хорошо? На общих?
НЕРЖИН. Ты пришла…
ЛЮБА. Я приходила и когда ты был начальником.
НЕРЖИН. Как хорошо быть не начальником! Тогда я мог бы подумать, что ты ищешь устроиться. А сейчас…
ЛЮБА. А сейчас я пойду. Пусти.
НЕРЖИН. Нет.
ЛЮБА. Так и будем стоять?
НЕРЖИН. У-гм…
ЛЮБА. Приходи вечером в КВЧ. Будет концерт. А ты прямо за сцену. (Медленно отходит, спиною к выходу.)
НЕРЖИН (слепо шагая за ней). Так я приду?.. Люба?..
Люба кивает. Нержин стоит и смотрит вслед.
Разрисованный занавес.
КАРТИНА 8
Верх строящегося здания на фоне неба — не крыша, но очередное междуэтажное перекрытие. Задняя стена мало выведена над перекрытием. На углу её пилястр со ступенчато опускающейся развязкой. Поперёк, к зрителю, идёт внутренняя стена, которую две пары каменщиков кладут с подмостей. Справа иногда появляется хобот крана, он подаёт площадку, всякий раз с двумя тачками. Тачечные ходы — досчатый настил, идут от крана, поднимаясь к подмостям левой стены. Граня и Шурочка, обе в ватных брюках, отвозят туда тачки, выворачивают раствор в ящики четырём каменщикам, возвращают тачки на площадку крана.
Пара подносчиков-работяг носят кирпич носилками, штук по тридцать. На пилястре стоит Гай, молча мрачно наблюдая работу.
Солнечный осенний день, из последних. Появляются с носилками же пара блатных — Фиксатый и Жорик, они до пояса раздеты, мускулисты, смуглы, исписаны татуировкой. Они не идут, а пританцовывают, несут в носилках три кирпича. Сбросив их на подмость, уходят, так же танцуя и напевая, поглядывая на бригадира.
1-Й КАМЕНЩИК (после их ухода). Павел Тарасович! Дайте других подносчиков! Мне класть нечего. Что ж они, смеются?
Гай молчит.
ШУРОЧКА (поникла). Боже мой, как тяжело… Хоть бы перерыв скорей.
ГРАНЯ (смотрит вдаль). А во-он телега едет. С соломой.
ШУРОЧКА. Отсюда видишь, что солома?
ГРАНЯ. Я — зайца за километр вижу. А ветерок, чуешь, палым листом во-он из того леса… (Вздыхает.)
ШУРОЧКА. Неужели пахнет? Ой, как на волю хочется! Всё забыть, отдохнуть!
ГРАНЯ. А мне — так и нет.
ШУРОЧКА. Что ты!
ГРАНЯ. Я здешним воздухом надышалась, столько здесь подлости навидалась — мне теперь ни на какой воле покою не будет.
Кран подаёт новую площадку. Граня с грохотом укатывает тачку налево за сцену. Шурочка с трудом катит вслед свою.
2-Й КАМЕНЩИК (1-му). Пришло мне извещение на посылку, а саму посылку, говорят, назад отослали. Пока, мол, сто двадцать процентов не будет. Своих же харчей! Может такое быть? Хочу к начальнику сегодня пробиться.
1-Й КАМЕНЩИК. А почему — не может? Где ты правду видел? Вон работяги ишачат, а блатные хоть бы что. Думаешь, им бригадир меньше твоей пайки даст?
2-Й КАМЕНЩИК. Наш? Наш им ни хрена не даст! Никогда не уступит, увидишь.
4-й каменщик — он работает подсобником, вид у него истощённый — ослабев, опускается, садится.
3-Й КАМЕНЩИК. Мишка! Мишка! Что с тобой?
4-Й КАМЕНЩИК. Голова кружится. Дай посижу. Не могу…
2-Й КАМЕНЩИК. Ну, пусть посидит.
3-Й КАМЕНЩИК. Чего — пусть? А мне за двоих мантулить?
2-Й КАМЕНЩИК. Ну, я подмогну. Доходит парень. Кипятка не пьёт — с чего сила будет?
Работают. Подносчики-работяги почти бегом проносят перегруженные носилки и, опростав их, уходят снова. Появляются Фиксатый и Жорик, опять покачиваясь, пританцовывая, на этот раз с единственным кирпичом. Они минуют Гая, поглядывая на него, бросают носилки, садятся. Граня и Шурочка продолжают возить.
ЖОРИК. Ладно! Загораем! (Ложится загорать.)
Фиксатый садится. Потрясывая корпусом и кривляясь, поёт противную песенку, прославляющую блатных.
ПЕСЕНКА.
Гай неподвижен. Входит надзирательница с буйными кудрями из-под военной фуражки. Заметив отдыхающего 4-го каменщика, подкрадывается и бьёт его по шее.
НАДЗИРАТЕЛЬНИЦА. Работать надо, а не сидеть, чурка!
4-й каменщик встаёт с трудом, начинает подавать 3-му. Все каменщики работают живее. Фиксатый продолжает петь свою песенку и кривляться.
НАДЗИРАТЕЛЬНИЦА (минуя блатных, Жорику). Ну, чего пузо выставил? Красиво, да?
ЖОРИК (лёжа). Слушай, краля! Иди сюда! Иди полежим!
НАДЗИРАТЕЛЬНИЦА. Много захотел! (Уходит.)
ФИКСАТЫЙ. Ну ладно, покурим, что ли? Бригадир, дай бумажку.
Гай всё так же неподвижен. Скала.
ГОРШКОВ (проходя). Гай! Гай! Медленно эту стену кладёшь. Из-за неё задержка.
Гай неподвижен.
ЖОРИК (приподымаясь). Бригадир! Иди покурим. Поговорить надо. Вообще.
Гай сразу крупными шагами сходит к ним и садится подле.
ФИКСАТЫЙ. Вот что, бригадир. Ты лагерный закон ещё не знаешь. Нам работать — не положено. Это что мы работали — так, из уважения. Носилки забирай, другим давай, пусть мантулят.
ЖОРИК. Короче, мы — в законе. Ясно?
ГАЙ. В законе?
ЖОРИК. В законе.
ГАЙ. А — пайка вам положена?
ФИКСАТЫЙ. Да. Костыль — первый. А баланду нашу можешь работягам отдавать, нам с кухни носят, у нас и бациллы всегда.
ГАЙ. Кто ж будет работать?
ЖОРИК. Горбить? Мужики. Всякая мелочь. и — господа фашисты.
ГАЙ. Что ж мы заработаем? Чем я буду кормить людей?
ФИКСАТЫЙ. А это пусть у тебя голова болит, как с начальничком рассчитываться.
ЖОРИК. Вообще-то, бригадир прав. Тут сосаловка. Ну, фраером не будешь — будешь с нами кушать, с людьми.
ГАЙ. Так если вы в законе и работать вам не положено, — чтоб не понижать бригадного процента, вы оставайтесь там, в зоне.
ЖОРИК. Ты что, маленький?
ФИКСАТЫЙ. Глупей себя ищешь?
ЖОРИК. Мы не отказчики, век свободы не видать!
ФИКСАТЫЙ. Мы ещё жить хотим.
ЖОРИК. Умри ты сегодня, а я завтра!
ФИКСАТЫЙ. Процент подсчитаешь, на то ты бригадир.
Гай, приподнявшись, резким взмахом бьёт в лицо одного блатного так, что тот опрокидывается, и тотчас же — второго. Они пытаются вскочить, он наносит им ещё удары, не давая подняться.
ФИКСАТЫЙ. Ты что, сука позорная?!
ЖОРИК. Ты что делаешь, гад? Падло!
ГАЙ. Кто падло? (Бьёт.)
ФИКСАТЫЙ. Фашистская морда!
ГАЙ. Кто фашистская морда? (Бьёт.)
ЖОРИК (отбегая). Караул! Фашисты бьют!
Быстро входит Гурвич, за ним Горшков и Кукоч. Они будто не замечают драки. В руках у Гурвича развёрнутый чертёж, Кукоч поигрывает логарифмической линейкой.
ГУРВИЧ. Где полтора кирпича? Где полтора? Ты что — слепой? Чертежей читать не умеешь? (Показывает на поперечную стену.) Гай! Ломай стену! Ломай всю!
Блатные угрожающе уходят направо. Горшков чешет затылок.
КУКОЧ. Сэр! Ничего не выйдет! Пишите наряд на ломку стены.
ГУРВИЧ. Как это — на ломку стены? На скамью подсудимых, что ли? Половина десятников — пьяницы, половина — неграмотные…
КУКОЧ. Эт-то ваше частное дело! Хотите, запишем строймусором?
ГУРВИЧ. Вот, из его (показывает на Горшкова) зарплаты оплачу.
Горшков, протирая очки, понурился над чертежом.
КУКОЧ (считая на линейке). С отноской мусора вручную на расстояние свыше ста метров, с подъёмом десять метров, всего кубометров…
ГУРВИЧ. С каким ещё подъёмом? Вы знаете, за три года по нарядам проверили: мы отнесли строймусора объёмом больше, чем всё это здание!
КУКОЧ. Значит, уже высокая куча, потому и подъём десять метров.
ГУРВИЧ. Я вам снег напишу, относка снега.
КУКОЧ. Снег дешёвый, снегом вы и кубическим километром не рассчитаетесь.
ГУРВИЧ. Зато снег был, потаял — никакая ревизия не придерётся. Давай ломай, Гай, ломай всю стену и в два кирпича снова перекладывай.
ГАЙ (мрачно, в сторону крана). Женька! Крикни там, лома и большие молота пусть поднимут. Раствор пока не надо.
Гурвич уходит, за ним Кукоч. Справа выглядывает Женька.
ЖЕНЬКА (раскатисто кричит вниз). Э-эй! Ар-тисты! Идите в инструменталку, возьмите два лома, два больших молота, тащите на подъ-ё-омник! (Скрывается.)
ГОРШКОВ. Павел! Ты хоть ломай так, чтобы кирпичи целые оставались.
ГАЙ. Ну, покажите — как, чтобы целые?
Горшков машет рукой, уходит.
3-Й КАМЕНЩИК. Ничего, Павел Тарасович. Цемента в растворе почти нет, песок один, быстро сломаем. Дурное дело не хитрое.
ГАЙ (подносчикам-работягам). А вы пока носите — на ту кладку. (Показывает налево.) Шура, иди и ты туда, кирпич перекидывай.
Шурочка уходит. Подносчики начинают носить кирпичи налево. Гай садится.
ГРАНЯ. А мне куда, Паша?
ГАЙ. Сейчас. и тебе работу найдём.
ГРАНЯ. Смел ты! Один на двоих, да ещё таких.
ГАЙ. А с ними иначе нельзя. Этих блатарей, паразитов, я с первой пересылки бью и до последнего лагеря буду бить. Это — те же чекисты, жить не дают. Отдали им Пятьдесят Восьмую, кровь сосать. А наши — боятся.
Кран подымает ломы и молоты. Каменщики разбирают их и начинают бить стену. Она подаётся — кирпичами и слитками их. Гай сидит мрачно.
ГРАНЯ. Ты всё хмуришься. Как бригаду накормить?
ГАЙ. Пропади оно, это бригадирство, зачем я за него взялся! Если работяга ослаб и нормы не одолевает — что мне остаётся? По спине его?
ГРАНЯ. Павел! Ну, бригадир всё равно будет, не ты, так другой. Да стерва попадётся. Работягам только хуже.
ГАЙ. Так рассуждать — знаешь… (Задумывается.)
Долгая пауза. Рабочие шумы стройки.
Моя дивизия на Эльбе войну кончила, а я — здесь… Теперь дезертиров отпустили, фронтовиков держат. Отец мой умер в лагере, друзья легли на фронте. Кого контрразведка схватила. Кто утёк, ищет счастья в Бразилии, в Австралии…
ГРАНЯ (берёт его за плечи). У тебя и здесь друг.
ГАЙ. Ты — женщина и бытовичка.
ГРАНЯ. Я фронта прошла, как и ты. Я немца врукопашную заколола. и те самые переправы видела, что ты. и на тех плацдармах землю грызла.
ГАЙ. Дадут тебе амнистию — ты через год всё забудешь.
ГРАНЯ. Ну и ты забудешь.
ГАЙ. Нет, я не забуду. Контрразведок ты не видала, Граня, и какие там люди сидят. Этим людям я кровью клялся, что жизнь моя теперь уже не моя.
Входит Кукоч, но, увидев их, отступает.
Слушай, был у нас в камере человек, говорил так: если б не жили люди семьями — ни один тиран не удержался бы на троне. Снесло б его, как водой. То-то и оно, что нам шею ломают, а мы всё семьями обзаводимся.
ГРАНЯ. Паша! Ну что ты сравниваешь, — ну какая тут семья?
ГАЙ. Всё равно, эта любовь нам все руки-ноги путает. Теперь завели моду при КВЧ танцевать под баян. Так что? Танцуют! Десять лет им влепили ни за хрен, дуракам, — танцуют!!
ГРАНЯ. Э-э-эх, горюшко ты моё, горе… Пожалеешь когда-нибудь и ты обо мне…
Где-то за зданием внизу раздаётся звон об рельс. Каменщики бросают работу. Справа входит ЖЕНЬКА.
ЖЕНЬКА. Таш-кент! Наша бригада на обед последняя!.. (Ложится.)
2-Й КАМЕНЩИК. Правда, братцы, ночью был шмон, недоспали, давайте поспим!
Каменщики располагаются на подмостях. Гай идёт на середину сцены, ложится навзничь, неподвижен. Вместо него к Гране садится Шурочка, она рассматривает себя в карманное зеркальце.
ШУРОЧКА. Годы идут, Граня… Надо в лагере замуж выходить. Кому мы потом на воле?.. (Пауза.) Правду говорят, тебе Борис хлеборезку предлагал, а ты отказалась?
ГРАНЯ. Предлагал.
ШУРОЧКА. Ну знаешь, ты в гнилого интеллигента превращаешься. Это редкий в лагере человек, кто б от хлеборезки сам отказался. Сыта, к зиме тепло, в юбочке, в блузочке, — а тут вата вон из брюк вылезает, да машина ОСО, две ручки, одно колесо…
ГРАНЯ. С какой душой можно работягу обвесить хоть на грамм?.. Я для себя решила: по-лагерному не жить. Лишь бы мне сволочью не стать! — а жива-нежива — какая разница?
Снова появляется Кукоч.
КУКОЧ. Здравствуй, Граня.
Пауза.
Слушайте, леди, давно хочу вас спросить: с бригадиром уже… у-гм? Нормально?
ГРАНЯ (с догадкой). Да ты не на этап ли его метишь?..
КУКОЧ. Что, это от меня зависит? (Хочет пройти, она его задерживает.)
ГРАНЯ. Слушай… Давно и я хочу тебя спросить… А ты… в оперативной части… подрабатываешь?
КУКОЧ (отшатываясь). Пусти!
ГРАНЯ (держит его). Ты, может, на него… материал оформляешь? (Трясёт его.) Слушай! Если только опер начнёт ему мотать… Или на этап его отправят… я тебя — убью!!
КУКОЧ. Ты с ума сошла. При чём буду я?
ГРАНЯ. Смотри, словами я не бросаюсь. Не такого, как ты, убила, а тебя мне убить — что гусеницу раздавить… зелёную… (Отталкивает.)
КУКОЧ. Ты какая-то заклятая. Я таких женщин не встречал никогда. У тебя сердца нет…
Никем не замеченные, справа безшумно вбегают ЖОРИК и Фиксатый и бросаются душить спящего Гая. Первый их замечает Кукоч — убегает налево, ещё остановясь, чтоб оглянуться. Граня коротко вскрикивает, Шурочка — пронзительно, разбудив всех. Работяги поднимаются, однако никто не решается приблизиться, некоторые притворяются спящими опять.
ГРАНЯ. Ну что же вы? Спасайте бригадира! Вы, Пятьдесят Восьмая дерьмовая, чёрт бы вас драл!
Граня впивается в одного из блатных. Хрипение. Стоны и безсвязные выкрики борьбы. Гай мучительно-постепенно начинает подыматься, и все четверо безпорядочной кучей заваливаются направо, скрывшись от зрителя. Все остальные только наблюдают, Шурочка взвизгивает.
Справа на сцену влетает и валится, отброшенный мощным ударом, ЖОРИК. Отступая под частыми ударами короткой тесины из рук Гая, Фиксатый падает и тщетно пытается встать. За ними — Граня, пошатываясь. Гай стоит между упавшими и, задыхаясь, измученно-ленивыми движениями бьёт поочерёдно по голове того и другого. Тесина ломается. Гай ищет другую, в этот момент слева вбегает Лёньчик. Он бежит балетно, легко перепрыгивает через сидящего работягу, при этом на лету оборачивает фуражку козырьком на затылок.
ГРАНЯ (успевает крикнуть). Сзади!
Едва обернувшись, Гай встречает Лёньчика, они катятся, вскакивают уже на парапете задней стены и пытаются столкнуть друг друга с крыши. Фиксатый сидит, очумев, в крови. Жорик поднимается с ножом и метит Гаю в спину. Граня ударяет его тесиною по голове, подхватывает выроненный нож, взбегает на пилястр. Жорик снизу толкает её длинной тесиной за стену, Граня, едва не сорвавшись, перехватывает доску, они борются за неё.
ЛЁНЬЧИК. Фашист, падло!
ГАЙ. Кто фашист? Кто фашист?
Упав, борются на парапете. Висящая люлька подъёмника показывает обрез стены. Фиксатый встаёт, подхватывает лом и идёт к ним. Но справа вбегает в своей изорванной спецовке и лихой шапчёнке Чегенёв и, сразу оценив обстановку, догоняет Фиксатого, вырывает у него лом уже на размахе и ломом бьёт. Фиксатый падает с криком. Жорик обернулся, покидает Граню, бросается на Чегенёва. Тот сильно размахивается ломом, но Жорик уворачивается, и, сцепившись, они катятся. Гай ухватывает Лёньчика за горло обеими руками, перетягивает за стену и держит на весу.
ГАЙ. Опустить? Опустить, гад, с четвёртого этажа? Кто фашист? Говори, кто фашист? (За шею же поднимает Лёньчика на стену, оставляет на парапете.)
Граня, убежав с пилястра по разрушаемой стене, сверху бросает Гаю нож.
ГРАНЯ. Держи, Паша!
ГАЙ (поймав). Хор-рошая финочка!
Фиксатый встаёт, Граня прыгает на него, сбивает с ног. Жорик одолел Чегенёва, душит. Гай бежит, сваливает Жорика вниз, наступает на него, заносит нож.
Ну, господин блатной, молись своему богу!
ЖОРИК (гадко). Прости, Паша! Прости!
ЛЁНЬЧИК (сидя). Павло! Друзья будем. Слово вора, век свободы не видать! Мир.
ГАЙ (торжествующе оглядывая всех троих). Что-о, теперь честное комсомольское? (Жорику и Фиксатому.) Там (указывает направо) осталось четыреста кирпичей, — чтобы к концу перерыва они были (указывает за сцену налево) на рабочем месте! Марш!
Фиксатый и Жорик берут носилки и уходят направо. Чегенёв сидит отдуваясь.
ГАЙ (Чегенёву). Спасибо, казак!
ЛЁНЬЧИК (щупая шею). Ну и грабли у тебя.
ГАЙ. Это что, по вашему закону — на сонного нападать?
ЛЁНЬЧИК. Они без меня напали.
ГАЙ. Только за то я тебя и со стены не спустил. Ты у них — пахан, пойди политбеседу проведи.
ЛЁНЬЧИК. Всё! Друзья, сказал. (Каменщикам.) А вы, мужики, (грозит) молчите, что воров побили! Молчите! (Уходит направо.)
ШУРОЧКА (молитвенно). Вы — античный герой, Павел Тарасович!
ГАЙ. Сволочи! Если б не на сонного, я б их не так измолотил…
Гай всё ещё не может отдышаться. В опущенной руке его — нож. Граня подходит к нему сзади, обнимает, кладёт голову на плечо. Справа появляются Жорик и Фиксатый с носилками, где штук пятьдесят кирпичей.
Пока они пересекают сцену, закрывается разрисованный занавес.
КАРТИНА 9
Просторная комната с временными полами, одранкованными стенами. За окнами ночь, в комнате — яркий свет. Дверь — одна, на «сцену». Близко — ширмочка из фанерных щитов, поставленная для переодевания женщин. Около ширмочки, почти на авансцене, — скамья с прислоном, на ней сидят Нержин в чёрном, лагерном, и Люба, одетая для концерта.
Комната наполнена возбуждённой суетой: переодеваются, репетируют, ищут недостающие по ходу представления вещи, убегают на «сцену» и возвращаются, дверь туда часто остаётся открытой, и тогда слышны отрывки водевиля, действующие лица которого:
— глупый немецкий офицер — нарядчик Костя
— его денщик-идиот
— старуха в платке
— её дочь-подпольщица — Шурочка
— внук-пионер — Димка
— страшный чернобородый партизан, идущий на «сцену» только к развязке.
Небольшой эстрадный оркестр и с ним Женька сбились тут в глубине, пытаются тихо репетировать, но получается громко. Больше всех носится расторопный рыжий конферансье Витька.
КОНФЕРАНСЬЕ (оркестру). Тихо, орлы!
КТО-ТО. Витька! Ужин артистам будет?
КОНФЕРАНСЬЕ. Сигнальщик передал — повар в бухгалтерии! (Убегает.)
Входит Гонтуар.
ГОНТУАР (устало). Пионер! Неси ружьё.
Димка уходит с бутафорским ружьём.
ЖЕНЬКА (проверяя голос).
Мы летим, ковыляя во мгле,
На честном слове и на одном крыле.
ГОЛОС КОСТИ (со «сцены»). Их верде вас всех перестрелять, руссише швайне!
КОНФЕРАНСЬЕ (вбегая). Где макитра? Что вы делаете!
Несут бутафорскую макитру.
КТО-ТО. Витька! Повтори, кто за кем.
КОНФЕРАНСЬЕ. Женька! Вот лейтенант записку прислал: «Песню американского бомбардировщика» не пускать!
ЖЕНЬКА. Почему не пускать? Союзники!
КОНФЕРАНСЬЕ. Ну почему, почему! Были когда-то! По-моему, дуй «Синий платочек». Внимание, друзья! После водевиля «Глупый немец» — сразу оркестр, «Песню о родине», вторым номером — Негневицкая, потом Женька — «Синий платочек», потом Димка — «казачок», опять Негневицкая, марш, оркестр уходит и — «Волки и овцы».
Гул среди артистов.
ШУРОЧКА. Камилл Леопольдович, ну как идёт?
Из «зала» — громкие аплодисменты.
ГОНТУАР. Вы же слышите сами… «Допущено внутри ГУЛАГа»!
КОНФЕРАНСЬЕ. Не знаю, не знаю, не знаю! (Убегает.)
ГОЛОС СО «СЦЕНЫ». Ты думаешь, как я старуха, так я ваших танков испугалась? Переведи ему, внучек, — да здравствуют колхозы!
Аплодисменты.
ГОНТУАР (без всякого иностранного акцента). О таком ли искусстве мечтали мы, когда в девятнадцатом году ехали в молодую Россию энтузиастов создавать неотеатр, невиданный в истории человечества?!
Мы радугу тебе — дугой! А Млечный Путь — на сбрую! — О, вывези наш шар земной На колею иную!Садится гримироваться под Лыняева. Шурочка уходит на «сцену».
ЖЕНЬКА (поёт печально).
Мы летим, ковыляя во мгле, На честном слове и на одном крыле…ЛЮБА. Мне было шесть лет тогда. Я смутно помню огромную баржу с раскулаченными. В трюме не было ни перегородок, ни этажей, просто лежали люди на людях. Может, потому, что я была маленькая, — стены баржи казались мне высокими, как утёсы, — и там, на самом верху, ходили часовые с винтовками. и вышки вот эти гадкие (кивает на вышки у краёв сцены) на пересылке запомнились мне первым детским впечатлением. Ссылали всю нашу семью, но старший брат уже не жил с нами, его не коснулось. От последней пересылки он догонял нас в лодке и всё искал случая выручить семью. Это не удалось, но начальнику конвоя он отдал рубашку с застёжкой «молния» — тогда такие только входили в моду, — и тот уступил меня. Как меня брали — не помню… Ехали потом в лодке, и очень сверкала вода от солнца.
НЕРЖИН. А родители?
ЛЮБА. Все умерли в тундре, Глеб, умерли с голоду, их пустили без ничего в голую тундру — как же проживёшь?
КОНФЕРАНСЬЕ. Братцы, внимание! От советского информбюро! Ужин артистам — утверждён! Содержание выясняется.
Оркестр негромко играет туш.
ЛЮБА. А как мы жили потом! Комнаты не было, пять лет в тёмных проходных сенях, нет даже окна, чтобы готовить уроки. В школу всегда иду одетая, как нищая, есть хочется. и нельзя жаловаться, нельзя просить помощи, чтоб никто не узнал, что мы раскулаченные. А одеваться хочется! и в кино хочется! Брат женился, свои дети… и в четырнадцать лет меня выдали замуж…
НЕРЖИН. В че-тырнадцать?..
Водевиль кончился. Шум, движение. Шурочка бежит за ширму переодеваться.
КОНФЕРАНСЬЕ. Оркестр, на сцену! Любка, приготовься!
ГОЛОСА: Да ты целый кусок пропустил!
— Я потом вернулся.
— Где вазелин?
— Кто на платьи сидел, что за хамство?
— Ой, жа-ра!
«Старуха» в сбившемся платке прыжком садится на стол, лихо закуривает.
«СТАРУХА» (оркестру). Привет босякам Москвы!
ДИМКА. Камилл Леопольдович! А я здорово роль знал!
КТО-ТО. Малолетка! А за что ты сидишь?
ДИМКА. А я из ремесленного убёг. Жрать ни хрена не давали.
КТО-ТО. Ещё хуже попал.
ДИМКА. Хо! Теперь я какую пайку имею! и жить научился.
ГОНТУАР (гримируясь). и что же ты понимаешь под словом жить?
ДИМКА. А чтоб не ишачить. Пусть другие ишачат. (Переодевается в казачка для пляски.)
Шурочка выходит из-за ширмы в костюме Глафиры из «Волков и овец».
ШУРОЧКА. Что вы со мной сделали! Я такая нервная, я такая нервная!!
НЕРЖИН (удерживая Любу). Подожди минутку!
ЛЮБА. Мне идёт это платье?
НЕРЖИН. Что тебе не идёт!
ЛЮБА. Я обожаю выступать, и чтобы к каждому номеру в новом платье!
КОНФЕРАНСЬЕ. Любка! Сколько раз говорить!
Люба убегает. Нержин неотрывно смотрит вслед.
ШУРОЧКА (уже гримируясь). Глеб Викентьич, вы слышали, как Леопольдович читал сегодня Толстого?
НЕРЖИН. А?
ШУРОЧКА. Чему вы там улыбаетесь?
НЕРЖИН. Улыбаюсь?
ШУРОЧКА. Обидно, так плохо слушали, разговаривали. Во всём зале могло быть только несколько ценителей — и вот вы не слышали!.. Это из «Войны и мира», отрывок о дубе.
НЕРЖИН (оживляясь). О чёрном дубе, который зазеленел?!
ГОНТУАР. Я неисправимый старый глупец. Мне всё хочется верить, что красивое приподнимает людей. Мне всё хочется кого-то подбодрить, что в жизни не только баланда, развод и шмон.
КОНФЕРАНСЬЕ. «Синий платочек»! Приготовиться! Внимание, друзья! Дополнительный ужин уточнён: по одному пончику и по две ложки рисовой каши!
ШУРОЧКА. Рисовой? Ты бредишь! Да разве на свете есть рис? А что это такое?
КОНФЕРАНСЬЕ. Беленький такой! В Китае, говорят, ещё есть. Скоро и там не будет! (Убегает, оставив дверь раскрытой.)
Слышно, как Люба кончает петь:
А тебя об одном попрошу — Ты напрасно меня не испытывай. Я на свадьбу тебя приглашу, А на большее ты не рассчитывай!Долгие шумные аплодисменты, крики «бис!». Люба появляется в дверях, но возвращается на «сцену».
ШУРОЧКА. Камилл Леопольдович! Ходит параша, что на днях будет большой этап. Пятьдесят Восьмой статьи.
ГОНТУАР. Перед праздником — вполне допускаю. Но бывает ли в лагере хоть один день без параш?
ШУРОЧКА. Ой, сил нет ещё куда-нибудь ехать на зиму! Хоть бы этапами нас не мучили!
Люба вбегает, но, едва добежав до Нержина, убегает опять.
Аплодисменты.
ГОНТУАР. Я вот слышал другое, вы не слышали? Что перед нашим приездом арестовали здесь, — ну, взяли в шизо, — одного молоденького поэта, — стихи у него фельдшер вытащил из-под подушки. и теперь под следствием, говорят, он умирает…
Аплодисменты. Возвращается Люба, сияющая, стремительная.
ШУРОЧКА. Я поздравляю тебя, Люба. Ты — почти как Шульженко.
ЛЮБА. Правда? Ты заметила? Все говорят, что я на неё очень похожа. и — попала в тональность, боялась не попасть. Ну, переодеваться! Глебушка, быстро, помогай!
Забегает за ширму, оттуда время от времени появляется её обнажённая рука, подающая или берущая от Нержина что-нибудь из частей туалета, сложенных на скамье.
Возьми!.. На, положи!.. Вон то, под голубеньким!.. Да осторожней, не помни, это же всё чужое, от вольняшек. Иди застегни мне! Сюда иди, сюда!
Нержин обходит ширму, скрывается там. Потом ширма сама поворачивается так, что открывает Любу и Нержина зрителям, но скрывает от остальной комнаты. Люба смотрится в ручное зеркало. Нержин застёгивает ей сзади платье, целует в шею, обнимает, оборачивает к себе. Долгий поцелуй.
НЕРЖИН. Любонька, что со мной?..
ЛЮБА. А что с тобой?
НЕРЖИН. Кт-то тебя так научил целоваться?
ЛЮБА. Научи-илась…
Целуются.
НЕРЖИН. Ты… просто отчаянная какая-то. Ты меня… выпиваешь всего. Я… теперь не буду без тебя, слышишь? Я не могу без тебя!..
ЛЮБА. Сегодня познакомились — и уже не можешь?
НЕРЖИН. С тех пор, как я арестован, — я как в чёрном дыму, я улыбаться перестал. А с тобой мне так хорошо стало, будто ты меня освободила! На волю выпустила!
ЛЮБА. Говори ещё…
НЕРЖИН. После этой твоей баржи, этих тёмных сеней — ты мне как сестрёнка обиженная младшая! и вдруг — так невозможно целуешься, в руках так бьёшься! Я — полюбил тебя, Любонька!.. Не по-лагерному, по-настоящему.
ЛЮБА. Как это может быть? У тебя жена…
НЕРЖИН. Где-то за тридевять проволок и на десять лет… Я сам не понимаю, как это может быть…
ЛЮБА. Ты не знаешь, какая я… Первый муж меня бил, я от него ушла, второй безпутничал, а когда меня арестовали — отказался от меня. С тех пор…
НЕРЖИН. Бедная ты моя, бедная…
ЛЮБА. Я совсем не бедная, Глебушка… С тех пор — я жила не с одним…
НЕРЖИН (вздрагивая). Со многими?
ЛЮБА. Не с одним. Ты не можешь меня любить.
НЕРЖИН. Любушка! Но ведь тебе пришлось так, ты… не из жадности?
ЛЮБА. А если как раз — из жадности?.. Ты думаешь — замужество в четырнадцать лет проходит даром?
НЕРЖИН. Люба! Тебя для этого ли спасали с баржи!?
ЛЮБА (оплетая ему шею). Нежный ты мой! Зачем ты меня растравил? Почему я раньше тебя не встретила?..
КОНФЕРАНСЬЕ. Любка! Где ты есть! На сцену!
ЛЮБА. И-ду!.. (Медленным, безвольным шагом уходит.)
Нержин опускается на скамью, перебирает пальцами платье, снятое Любой. Кто-то тихо играет на гитаре в дальнем углу.
ШУРОЧКА (в сторону Нержина, внятно). «Я вам говорила, что любовь, кроме страданий, ничего не доставит…»
Нержин оглядывается.
Это я роль повторяю, роль. Это Островский написал. Вы так сияете! Вам подарили неразменный целковый? Честное слово, я вам завидую.
НЕРЖИН. Я сам себе… завидую.
ШУРОЧКА (наклоняясь к нему). Вы — всё знаете о Любе?
НЕРЖИН (раздельно). Я ничего не хочу знать.
Шурочка отходит. Слышно пение Любы. Подходит уже разгримированный Костя в своей обычной военной форме.
КОСТЯ. Ну, как живёшь, Глеб? Ты, я вижу, не теряешься?
НЕРЖИН. А ты?
КОСТЯ. Я — нормально. Ну, немножко хреново. С кублом разошёлся. Рубен, гадища, сети плетёт. Кукоч выгрябывается. С тобой я попух отчасти, не думал, что ты так скоро загремишь. Кажется, в общем, горю. (Отходит.)
Бурные аплодисменты. Не сразу возвращается Люба, когда оркестр уже играет марш. Она молча садится около Глеба.
КОНФЕРАНСЬЕ. Камилл Леопольдович! «Волки и овцы» — на старт! Любка, расти! — тебе хлопал сам начальник лагеря! (Убегает.)
ЛЮБА. Почему ты не ходил меня слушать?
НЕРЖИН. Где мы встретимся? Одни!
ЛЮБА. Глеб! А может — не нужно?
НЕРЖИН. Нет, абсолютно нужно! Я теперь не оторвусь от тебя!
ЛЮБА (вздыхает). Давай я буду твоя сестра! Я буду хорошая сестра, увидишь.
НЕРЖИН. Нет! (Оглядывается, увлекает Любу за ширму. Целуются.) После твоего поцелуя мне — хоть и не жить… Где ты так целоваться научилась?..
ЛЮБА (ласкается). Если б я могла перемениться для тебя! Стать чистенькой-чистенькой!
НЕРЖИН. Где мы встретимся? Где?
ЛЮБА. Ну что ж, в литейку к тебе буду приходить… на чердак, где кокс. (Пауза.) Обязательно, да? Обязательно?
Выходят, садятся на скамью.
А что будет из этого, ты не думаешь? (Со внезапной силой.) Скажи, родной! А ты есть не хочешь сейчас? Я есть хочу! Я голодная! Я всю жизнь хотела есть!! Разве мы с тобой в лагере проживём? Устраиваться ты не умеешь, работать ты ничего не умеешь. Один ты ещё как-нибудь выплывешь, а со мной потонешь. Да ты сам скоро откажешься от меня.
НЕРЖИН. Нет! Ни за что!!
ЛЮБА. Прораб меня выгонит на общие…
НЕРЖИН (с тревогой). Прораб зачем тебя взял в посыльные?
ЛЮБА. Это принято в лагерях. Так делают все…
НЕРЖИН. и ты с ним?!..
ЛЮБА. Да ему некогда всё… То к телефону…
НЕРЖИН. Но если завтра у него будет время?..
ЛЮБА. А ты мне другого такого места не найдёшь?
НЕРЖИН. Люба! Люба! С этого дня…
ЛЮБА. Ну зачем я тебе? Ведь я же — лагерная шалашовка!..
Шумно вваливается ОРКЕСТр. Гул голосов. Кладут инструменты. Гонтуар и Шурочка идут на сцену, навстречу им Колодей, Кукоч, Мерещун.
КОЛОДЕЙ. Ух какой ты размазался! Смешная будет пьеса?
ГОНТУАР. Смешная.
КОЛОДЕЙ. Значит, посмеёмся. После работы — почему не посмеяться? А то ты рассказывал что-то, как кота за хвост тянул, — дуб да ёлки, уж и так лесоповал всем надоел.
Гонтуар и Шурочка уходят. Мерещун громко смеётся.
Нет, правда, в том дубе, может, каких четыре кубометра, а разгово-ору!
КУКОЧ. Где она? Где она, обольстительница? Любочка? Пела — блистательно, а сама — помпезна! Успех — голливудский! Сам начальник лагеря хлопал! Поздравляю! (Жмёт руку.)
КОЛОДЕЙ (обходя комнату). Ну, как тут? Режима не нарушаете?
МЕРЕЩУН. Любочка! Сколько огня, сколько экспрессии! (Жмёт ей руку, садится рядом на скамью, по другую сторону от Любы.) Слушал Шульженко — ты ничуть не хуже! Сейчас бы в Сочи телеграмму — чтоб тебе букет! самолётом!
ЛЮБА (польщена). Спасибо, спасибо!
МЕРЕЩУН (беря её за локоть). А почему в санчасть никогда не зайдём? На пару деньков освободить тебя перед праздниками?
ЛЮБА. А зачем? Я не больна.
МЕРЕЩУН. Ну ка-ак зачем? Женские дела — голову помыть спокойно, постирать там. Приходи завтра, освобожу. Придёшь?
КУКОЧ. Ну как, Нержин, в литейке? тяжело? Понимаете, сижу целыми днями, думаю — ничего не могу для вас выдумать.
НЕРЖИН. Я благодарен. Я лучшего не просил.
КУКОЧ. Ну да, но культурные люди должны быть джентльменами, надо помогать, надо выручать… (Увидев Женьку.) Слушайте, мистер, вы же прекрасно поёте, но почему не классику?
ЖЕНЬКА. Я уж писал домой, чтобы мне Чайковского…
КУКОЧ. Зачем Чайковского? Возьми ты «Цыганский барон», возьми «Голубая мазурка»…
КОНФЕРАНСЬЕ. Кто в зал — проходи! Начинаем!
Уходит большинство артистов, Кукоч.
КОЛОДЕЙ. Не начинайте! Ещё я пойду. (Нержину.) Алё! А ты что здесь? Встань, когда с тобой говорят.
Нержин встаёт.
Зачем ты здесь?
НЕРЖИН. Так просто, гражданин начальник.
КОЛОДЕЙ. Так просто не бывает. У заключённых всегда задние мысли. Ты же не артист? Иди в зал.
НЕРЖИН. Гражданин начальник, какая разница? Я отсюда смотрю.
КОЛОДЕЙ. Не положено отсюда смотреть. Был завпроизводством — смотри, откуда хочешь. А сейчас работяга? Кончились денёчки, иди, где все.
НЕРЖИН. Разрешите, я останусь, гражданин начальник.
КОЛОДЕЙ (сердясь). Говорю — не положено! Тут — зона рядом. Может, ты побег готовишь. Иди, иди, пока в кондей не послали.
Нержин уходит, оглядываясь на Любу.
Доктор!
МЕРЕЩУН (сидя). Что скажешь, начальник?
КОЛОДЕЙ (тихо). Там спирт есть у тебя?
МЕРЕЩУН. Вообще, нет. Но для тебя поищем.
КОЛОДЕЙ. А для других и не надо. Грамм сто приготовь. Приду после концерта.
МЕРЕЩУН. Ладно.
КОЛОДЕЙ. Ну так что? Начинаете? Пойдём, посмеёмся. (Уходит.)
Спектакль почти не слышен. В комнате остался мало кто.
МЕРЕЩУН. Люба, я был в армии начсандив, полковник, так что мне садиться было тяжелей, чем другим. С меня сняли погоны, ордена, швырнули в лагерь и велели работать в санчасти под командой какого-то неграмотного фельдшера, который бы у меня в дивизии сапоги чистил, а здесь он «гражданин начальник»! Но хлебнул я тридцать дней общих работ, опухли ноги, так что сапог снять не могли, голенища разрезали, — смирился. и теперь меня из санчасти калачом не выманишь. Любочка! Санчасть в лагере — это всё! Я тебя в санчасти устрою. Раздатчицей.
ЛЮБА. Я и так устроена…
МЕРЕЩУН. Тоже мне устроена! Устраиваться надо, чтоб за зону не ходить, чтоб до конца срока! Я только молчу, а знаешь, какие корни я здесь пустил? Скорей начальника лагеря на этап шуганут, чем меня. Ты думаешь, я тебя на одну ночь зову? Любочка, нет! В законе будем! Будем жить.
Люба молчит.
Сейчас посылка пришла. (Берёт её за руки.) Ты — настоящие пирожные сколько лет, как не ела? Настоящие пирожные «наполеон»! Колбаса настоящая! Американская тушёнка — мечта!
ЛЮБА (отнимает руки). Очень рада за вас, доктор. Вот и покушайте с кем-нибудь… с другой…
МЕРЕЩУН. А я с тобой хочу, Любочка! (Обнимает её.)
ЛЮБА (слабым голосом). Доктор! Кто может устоять?.. Любая женщина в лагере — ваша. Ну, не на мне же клином… Мне так тяжело слышать сейчас это всё… (Освобождается от его рук. Сидит понурясь.)
Одинокий оркестрант издаёт печальные звуки на духовом.
Разрисованный занавес.
В антракте, как и в двух первых, — смена часовых на вышках. Развод проходит перед первым рядом партера, отгоняя попавшихся зрителей.
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
КАРТИНА 10
Литейка. Печь для бронзы перестроена ещё на новый лад. В щели её иногда виден огонёк. Около печи — Муница и Яхимчук. Муница очень суетлив, всё время заглядывает в смотровое окошечко. Нержин лопатой перемешивает формовочную землю. Дверь сушилки распахнута. На крыше сушилки Чегенёв прибирает хлам.
МУНИЦА. Плавится, проститутка, плавится! (Приплясывает.) За яких пятнайцать хвылын пиде бронза перший кляс!
ЧЕГЕНЁВ. Теперь пойдёт, как батя тебе помог.
МУНИЦА. А шо мэни Николай? Я сам мав и липше збудовать. Мэни вэдомо, шо форсунку потрибно малэньку.
ЯХИМЧУК. Як то така дурныца — шо ж вы нэ допэрлы? Шо ж ваша бронза выгорала дочиста?
ЧЕГЕНЁВ (разбирая хлам). Арматура, трубы, опоки, вот набралось! Что б мы делали, если б праздников не было, а? Глеб! Что такое большевицкий порядок, ты знаешь?
НЕРЖИН. Да приблизительно.
ЧЕГЕНЁВ. Когда нет ничего, хоть шаром покати! Сейчас подряд, что нужно, что не нужно, в печку покидаю, и будет у меня большевицкий порядок!
Входит Люба в запахнутой телогрейке, дверь за ней сильно хлопает.
ЛЮБА. Тут Кузнецова не было?
Литейщики, занятые каждый своим делом, не отвечают, Люба делает знак Нержину, тихо идёт к сушилке. Нержин за ней. Стоя в дверях сушилки, зияющей чернотою, как пещера, они разговаривают тихо.
НЕРЖИН. Что ты, Лю?
ЛЮБА (в большом волнении). Глебушка! (Обнимает его.) Я — на всякий случай… Попрощаться!
НЕРЖИН. Этап? Да?
ЛЮБА. Этап.
НЕРЖИН. Но подожди, может, мы ещё… может, нас?..
ЛЮБА. Неужели ты думаешь, Тимофей стерпит всё, как сейчас есть? Или тебя, или меня… (Пауза.) Хорошо тебе было эту недельку со мной?
НЕРЖИН (гладя её лицо). Так хорошо!.. Как на небе.
ЛЮБА. Спасибо и тебе! Я эту недельку глубоко спрячу, я её — навсегда…
НЕРЖИН. Слушай, ну неужели мы ничего не можем?..
ЛЮБА (живо). Можем! Мы можем и уцелеть! Мы можем и любить друг друга очень-очень тайком, — только обещай… только согласись… Разделить меня. С Тимофеем. Я буду приносить тебе и покушать!
НЕРЖИН. и ты могла бы?..
ЛЮБА. Я бы могла! Братик мой — ты сможешь? Ну примирись! Зачем тебе уезжать? Ну, я хоть буду видеть тебя издали…
НЕРЖИН (сжимает её). Никому ни кусочка тебя, Любашенька!
ЛЮБА (высвобождаясь, печально). Ну, значит, тогда… всю меня… Тогда — всю… (Медленно отступает к главной двери.)
Дверь хлопает, вбегает радостный ДИМКА.
ДИМКА. Ура-а! Звезду зажгли! На главном корпусе! Ура-а! (Сделав круг и едва не сшибив Любу, убегает.)
Дверь хлопает. Нержин неподвижен. Люба уходит. Дверь хлопает.
ЧЕГЕНЁВ (присел на сушилке, посмотрел через верхние окна, куда указал Димка; с верха сушилки подражает приёмам оратора). Товарищи, внимание! Празднование двадцать восьмой годовщины великой Октябрьской и конечно социалистической революции считаю открытым! Сегодняшнее празднование в нашем лагере будет отмечено особенно торжественно. На повестке дня. Первое. Доблестная трудовая вахта Макара. Второе. Этап непокорных на лесоповал, человек сорок-пятьдесят.
ЯХИМЧУК. Ты накаркаешь.
ЧЕГЕНЁВ. Третье. Отнесли Игорька в морг и прокололи штыком. Четвёртое. Шмон в бараках со взламыванием полов и переворачиванием матрасов. Пятое. Шмон на вахте со снятием кальсон. Шестое. Стахановский слёт лучших работяг с выдачей каждому по одному пирожку с пшеном, а мука и пшено будут удержаны со всего лагеря за следующую неделю.
НЕРЖИН. Где это ты так набойчился?
ЧЕГЕНЁВ. Берлин, Ляйтштелле, курсы агитаторов. Седьмое. Безплатное кино «Сталин в 1905 году» с давкой в дверях и сидением на головах. Эх-ма, да не до-ма! (Вскакивает верхом на подходящий предмет.) По ко-ням! Сабли вон! (Делает вид, что скачет, размахивает воображаемой саблей. Локти его вылезают в прорехи рукавов.)
ЯХИМЧУК. Ой, шпана, докричишься ты.
ЧЕГЕНЁВ. Да будь они прокляты, батя, ты думаешь, я за литейку держусь? Ну, дали бы мне лет пять, я бы в охотку погорбил, — ну зачем пятнадцать сунули? Пятнадцать — зачем? Нет уж, остаток срока пусть мне пахан сухим пайком выдаёт!
МУНИЦА. Як то — сухим пайком?
ЧЕГЕНЁВ. Девять грамм. (Показывает себе выстрел в голову и свисает, как умер.)
Входят Каплюжников — дородный опрятный мужчина в хорошей шубе, Гурвич и Фролов. Ветер ещё сильней захлопывает за ними дверь. Они не замечают Чегенёва, тот безшумно принимает рабочее положение, ещё некоторое время убирает на сушилке, позже соскакивает вниз. Нержин перелопачивает формовочную землю.
ФРОЛОВ. Товарищ главный инженер! У Фролова — твёрдо слово. Я сказал: будет бронза. и будет. По моей инициативе. Я понимаю — экскаваторы стоят.
ГУРВИЧ. По чьей инициативе — это мы не здесь обсудим. Ты мне палки в колёса…
ФРОЛОВ. Эх, Арнольд Ефимыч, стыдно вам так говорить! Добрую лошадь одной рукой бей, другой слёзы утирай. Вы ходите командуете, а я сижу над печкой, голову ломаю… Спросите ребят!
МУНИЦА (хохочет и бьёт себя по ляжкам). За яких пять хвылын — и бронза! Макар литейное дело розумие!
ЯХИМЧУК (опершись о счищалку, как о долгий меч). Будэ бронза — Богу дьяковаты, а нэ даст Бог — не будэ.
КАПЛЮЖНИКОВ (благодушно). Вот уж бог тут абсолютно ни при чём. Производство решает техника и люди, овладевшие техникой.
ЯХИМЧУК. А по-нашему — Бог.
КАПЛЮЖНИКОВ. Если б вы были образованные — знали бы такую науку, марксистскую диалектику, которой вы обязаны всеми вашими успехами. Наш передовой общественный строй от бога не зависит.
МУНИЦА. Який же вин передовой, шо взрослы мужики соби на пайку нэ зароблять? Ось, штаны мои яки рваны. (Показывает.)
КАПЛЮЖНИКОВ. Гурвич! Правда, почему спецовок им не выдаёшь?
ГУРВИЧ. Илья Афанасьевич, но вы же сами знаете — в тресте нет на это фондов.
КАПЛЮЖНИКОВ. Фондов нет? Ну, в лагерь напиши, может, там что найдут… Хотя бы б/у.
ЯХИМЧУК. Там — не обязаны. Потом, у нас горячий цех, мы такие ж рабочие — почему нам молока не дают, как вольным?
КАПЛЮЖНИКОВ (изумлён). Молока-а вам? Ещё чего? Может, мёду пчелиного? А? Ну знаете, товарищи… то есть не товарищи… Так можно дойти до… я не знаю… С этим сейчас трудности, понятно?
ЯХИМЧУК. Мне, гражданин начальник, уже двадцать восемь лет как всё понятно: шаг вправо, шаг влево, конвой открывает огонь без предупреждения.
КАПЛЮЖНИКОВ (как бы не дослышав). Гурвич! А когда будут балки, плиты?
ГУРВИЧ. Фролов! Как с чугуном? Почему чугуна не наформовано?
ФРОЛОВ. Яхимчук! Чугун подан наверх?
ЯХИМЧУК. Да что чугун подать? — два дня. А формовать кто будет?
ФРОЛОВ (Гурвичу). Чегенёв формует, что попроще, а Макар бронзой занят. Не разорваться.
ГУРВИЧ. Илья Афанасьевич! Чугун из-за бронзы задерживается.
КАПЛЮЖНИКОВ. Э-э нет, товарищи, так не пойдёт. Советское производство — всё дай! и бронзу дай, и чугун дай! Бронзу отольёте — похвалим. Чугун сорвёте — под суд. А как вы думали?
ГУРВИЧ. Фролов! Чтоб через три дня чугунная плавка была! При чём тут бронза? Привыкли лоботрясничать. Не успевает Макар за день? — пусть вечерами формует, пусть на праздники. Я ему дополнительный конвой закажу.
ФРОЛОВ. Всё, Макар. Через два дня плавка! На праздники придёшь — будешь формовать. Николай! Почему чугуна не подаёте? Распустились!
ЯХИМЧУК. Димка!.. Димка!.. Дэ вин, бисов хлопец?
Димка появляется.
Иди с Глебом чугун подавай. Я бронзу отолью — тоже приду. (Гурвичу.) Вы бы лучше заграждения там поставили.
Нержин и Димка уходят в заднюю дверь.
ГУРВИЧ. Я вижу, твои литейщики уже за работой не гонятся. Расценки высокие? Можем снизить.
ФРОЛОВ. Расценок вы не касайтесь, Арнольд Ефимыч.
ГУРВИЧ. Потому что ты с них живёшь, поэтому?
КАПЛЮЖНИКОВ. и расценки надо пересмотреть, конечно. Так неужели бронза будет, а? Вот к Октябрьской годовщине подарочек. Сейчас же дам в комбинат телеграмму. (Отводит Гурвича вперёд.)
Фролов подбочается к ним, желая подслушать и вмешаться. На чердаке по железному потолку — время от времени удары бросаемых кусков чугуна.
Надо на эту печь документы в БРИЗ оформить, как на изобретение твоё и моё.
ГУРВИЧ (отводит Каплюжникова от Фролова). Я уже приготовил, Илья Афанасьевич.
Фролов подступает.
КАПЛЮЖНИКОВ. Придётся и Фролова взять соавтором.
ГУРВИЧ. Но ведь он ничего не делал, только мешал.
КАПЛЮЖНИКОВ. Ты не знаешь, какие у него связи в отделе кадров. Он нас доносами закидает. Эти денежки боком выйдут. (Кивает Фролову подойти.)
Все три головы сдвигаются на шёпот. Тем временем Яхимчук с Чегенёвым подносят к печи ковшик, ставят его в рогач. Муница суетится около печи, смотрит в её окошечко.
ЧЕГЕНЁВ. Ну, Макар, поздравляю! — получишь штаны, бывшие в употреблении. Даже если трохи заузки промеж ног — на празднички поработаешь. А мы с батей поспим как-нибудь.
МУНИЦА. Ну! Ну! Чекайтэ!
Фролов отходит от начальства, идёт к печи.
ГУРВИЧ. Потом, Илья Афанасьевич, насчёт того случая, что заключённый в колодец прыгнул…
КАПЛЮЖНИКОВ. Прыгнул бы он тебя, Гурвич, на скамью подсудимых, если б не заключённый. Этот акт прошёл. Но ты можешь технику безопасности…?
ГУРВИЧ. Илья Афанасьевич, неужели я без головы? Техника безопасности! А досок на заграждения бухгалтерия не выписывает, в стройматериалах перерасход!
КАПЛЮЖНИКОВ. Значит, надо изыскать.
Гурвич и Каплюжников уходят во внутреннюю дверь. В наружную дверь входит нарядчик Костя со списком, за ним — группа зэков, уже в телогрейках и шапках по-зимнему. Ветер хлопает дверью — как выстрелы. Среди вошедших — тревожный шум.
ГОЛОСА. Кого ещё? Кого ещё?
— Костя! Куда этап, не знаешь?
КОСТЯ. Южный берег Крыма.
ГОЛОС. Костя! А меня нет?
КОСТЯ. Не галдеть! Кому-то в лоб закатаю! Что, этапа не видели? Ну, литейщики, ветрюган! — списка в руках не удержишь. (Подошедшему Чегенёву.) Где Глеб?
ЧЕГЕНЁВ. На этап?
КОСТЯ. Был. Санчасть вычеркнула. Только что. (Уходит.)
За Костей уходит гурьба зэков.
ЕЩЁ ГОЛОСА: Если красными вагонами — сейчас все пуговицы обрежут…
— Говорят — на Воркуту…
— Эх ты, жизнь арестантская!
Грозные выстрелы дверью. Возвращаются ГУРВИЧ и КАПЛЮЖНИКОВ.
ФРОЛОВ (у печи). Готово, Макар! Выпускай!
МУНИЦА. Зараз! (Пробивает лётку.)
По жёлобу в ковшик льётся струя бронзы.
ЯХИМЧУК, ФРОЛОВ (вместе). Довольно! Шлак! Довольно!
КАПЛЮЖНИКОВ. Мало! Мало! Ещё!
ЯХИМЧУК (повелительно). Затыкай!
Муница затыкает.
ГУРВИЧ (просительно). Может, ещё можно, Яхимчук?
ЯХИМЧУК. Нэ можно! и так дерьмо будет, а не втулки.
Муница очищает поверхность бронзы. Чегенёв и Яхимчук несут ковш, льют.
ФРОЛОВ. Прекрасная плавка! Всё! Экскаваторы пошли!
МУНИЦА (над залитой опокой). Ну, шо я вам казав? Макар шо вам казав? Будэ бронза!
ЯХИМЧУК. Ещё какая бронза — токарный станок покажет.
ФРОЛОВ. Ты нам праздник не отравляй. Победа литейного цеха. Всё!
КАПЛЮЖНИКОВ. Оч-чень хорошо! Оч-чень хорошо! Иду давать телеграмму в комбинат. (Уходит.)
МУНИЦА. Ну, Аксентьич, прэмия будэ, а?
ФРОЛОВ (вздыхает). То есть как тебе сказать, Макар. Премия — за что пре-мия? Если б это новая была печка! Но она ж не нами выдумана. Мудрёное дело корыто! — кто не знает, кораблём назовёт. Если б ты не заключённый был — ну, можно, знаешь, на горло брать, до ВЦСПС дойти, до ЦК…
ГУРВИЧ. Давай, Макар, давай выбивай! Втулки посмотрим!
МУНИЦА. Як выбивать, як воны ще нэ схопылысь? Мусят застыгнуть.
Из заднего помещения сверху громкий крик Димки, потом последнее падение чугуна на потолок. Чегенёв бросается в заднюю дверь, Яхимчук за ним.
ГУРВИЧ. Что там такое? (Спешит туда, но в двери сталкивается с Димкой.)
ДИМКА (кричит). Глеба убило! Чушка на голову! (Убегает наружу, выстрел двери.)
Чегенёв и Яхимчук вносят Нержина с окровавленной головой, без памяти. Гурвич идёт сзади, опустив голову.
ФРОЛОВ. Что такое? Как случилось?
ЯХИМЧУК. Так! Халтурщик вы, а не литейщик! Сколько раз говорено — ведром не поднимать!
Нержина уносят, с трудом открывая дверь против ветра.
МУНИЦА (нагоняя Гурвича). Насчёт прэмии як, гражданин начальник?
ГУРВИЧ. Чугун формуй! Чугун!
Разрисованный занавес.
КАРТИНА 11
Декорации первой картины. Воет и крутит ветер с мелкой позёмкой. Сумерки. В глубине над зданием постройки светится красная звезда. За проволокой в рабочей зоне столпились зэки. Неподвижные, они смотрят сюда, в жилую зону. Человек пятнадцать уже опрошенных по формулярам других зэков сидят посреди двора прямо на земле, с вещами, тесной кучкой. Луч прожектора упирается в нововывешенный плакат:
«ЛЮДИ — САМЫЙ ЦЕННЫЙ КАПИТАЛ.» И. СТАЛИН
Отправкой распоряжается Колодей, ему помогает надзирательница с буйными кудрями из-под зимней шапки, фельдшер Ага-Мирза, Костя и Посошков. Светится окошко «кабины» Мерещуна. Сам он в белом халате поверх тёплой одежды стоит на крылечке.
Справа задним ходом подаётся тот же грузовик с высокими бортами, что и в первой картине.
КОЛОДЕЙ. Давай, кого вызвали, по одному!
Зэки, отталкивая друг друга, начинают быстро карабкаться в кузов.
КОНВОИР (с автоматом, стоит в рост в кузове за решёткой, защищающей его). Садись! Сразу садись! На пол, не на мешки! Не оборачиваться! Смотреть назад! Кончай разговоры!
КОЛОДЕЙ. Нарядчик! Кого нет?
КОСТЯ. Вот последние тянутся. Эй, побыстрей!
Слева из-за барака подходят с вещами Гонтуар, Граня, Шурочка.
СЕРЖАНТ КОНВОЯ. Гоп… Гоп…
ГОНТУАР. Гонтуар Камилл Леопольдович, 1890 года, пятьдесят восемь-один «А», через девятнадцатую, десять лет.
СЕРЖАНТ КОНВОЯ. А ну, шапку сними!
Гонтуар обнажает серебряную голову. Сержант сличает со снимком на «деле».
Непохож что-то… Ну, ладно, проходи.
Гонтуар карабкается на грузовик.
Сойкина!
ШУРОЧКА (хлопоча с вещами). Соймина Алексан Пал-л-на! Пятьдесят восемь-двенадцать, десять лет!
Она чуть не плачет. и вещи тяжёлые. Никто не помогает. Наконец Костя взбрасывает их в кузов.
СЕРЖАНТ. Зыбина!
ГРАНЯ (звонко, зло). Аграфена Михална, двадцатого, сто тридцать шестая, десять!
ГОЛОС ГАЯ (из рабочей зоны). Прощай, Граня!
ГРАНЯ (кричит). Прощай, Павел!
КОЛОДЕЙ (заступая). Но-но! Хахаля бросаешь?
ГРАНЯ (кричит через него). Кукоча берегись! Он — стукач!! Точно!
НАДЗИРАТЕЛЬНИЦА. Смотри, в зубы прикладом, падло!
Граня и Шурочка скрываются в кузове за бортом.
КОЛОДЕЙ. Все?
КОСТЯ. Все.
КОЛОДЕЙ. Давай сюда список. (Берёт у нарядчика. Сержанту конвоя.) Теперь вычитай.
СЕРЖАНТ КОНВОЯ (у него ещё осталось одно «дело» в руках). Ефимов!
КОСТЯ. Меня-а? На этап?!
СЕРЖАНТ. Он же!
КОЛОДЕЙ. Тебя, тебя, быстро, конвой ждёт!
СЕРЖАНТ. Он же!
КОСТЯ (отступая). Шли бы вы на …! Не дамся!
ПОСОШКОВ (приступая). Ну, Костя, раз надо, раз надо.
КОСТЯ. Отойди, гад! Предатель, падло! Угрёбывай, пока цел! (Отбегает, вспрыгивает на мусорный ящик, выхватывает нож, обнажает живот.) Не подходи! Не подходи! — испишусь!
Посошков, Ага-Мирза, надзирательница приступают.
Не подходи, испишусь! В больницу заберёте! Кишки выпущу, не поеду!
ПОСОШКОВ. Костя, Костя! Мы же с тобой друзья. Приказывают — что делать?
КОСТЯ (размахивая ножом). Сука позорная! Помоечник вонючий! Не подходи! Первого зарежу! Испишусь!
КОЛОДЕЙ. Взять его.
Наступающие не решаются.
АГА-МИРЗА. Костя! Тебе же хуже будет. На штрафную пошлют!
КОСТЯ. Шкура собачья! Стукач! Испишусь! Не подходи!
Но сзади к нарядчику подкрадывается Мерещун и ударяет его в подколенки. Костя падает. Наступающие набрасываются, валят его, отнимают нож, душат.
КОСТЯ (лёжа). и ты, доктор? Ну, подожди, встретимся!
МЕРЕЩУН. А что ты, гад, — испишешься, а мне тебя лечить?
КОЛОДЕЙ. Посошков! Принеси верёвку!
ПОСОШКОВ (достаёт из кармана). Вот она, верёвочка! Верёвочка запасена, гражданин начальник!
Костю вяжут.
КОЛОДЕЙ. Вещи его из каптёрки — сюда!
ПОСОШКОВ. Ангел! Вещи! Уже всё собрано, гражданин начальник!
Ангел выносит вещи, вскидывает их в кузов. Связанного Костю подталкивают и сажают туда же.
КОСТЯ. Развяжите вещи! Вещи не все! Украл, падло! Сапоги мои хромовые отмёл, шакал? Пальто кожаное?
КОЛОДЕЙ. Некогда, некогда, конвой ждёт.
Задний борт кузова захлопывают.
КОНВОИР (в кузове). Внимание, заключённые! При попытке встать рассматриваю как побег, открываю огонь без предупреждения!
Всходит второй автоматчик, грузовик трогается.
КОСТЯ (кричит, его уже не видно за бортами). Никуда из лагерей не денетесь, сволочи! Ещё встретимся!
АГА-МИРЗА. Ладно, встретимся! Напугал.
Грузовик ушёл.
КОЛОДЕЙ (Посошкову). Сапоги-то взял?
ПОСОШКОВ. Полчемодана отмёл, гражданин начальник! и вам будет! Это ж у него всё сдрюченное с людей. и офицерское обмундирование тоже сдрюченное.
КОЛОДЕЙ. и ты, доктор, молодчик!
МЕРЕЩУН. Дешёвка полуцветная, лечить я его буду! (Уходит к себе.)
КОЛОДЕЙ (надзирательнице и Посошкову). А теперь пошли шмонать. Хорошо шмонайте, не торопитесь. Ножи, напильники, водка, письма, фотографии, может бумажка с записями, денег у кого больше положенного, карандаши химические… (Кричит на вахту.) За-пус-кай по десять человек!!
Все четверо идут вглубь. Ангел бежит к столбу и звонит о рельс несколько раз. ДВА ВАХТЁРА выходят с вахты и становятся обок линейки с поднятыми фонарями. В распахнувшиеся ворота входят строем две первых пятёрки зэков.
КОЛОДЕЙ. Лапти, ботинки — развязать! Распустить пояса!
Зэки исполняют команду. Начинается обыск. Ветер завывает. Ангел идёт налево перед бараком. Слева входит Люба, кутаясь в платке. Она минует Ангела потупясь.
АНГЕЛ (окликает, уже пройдя). Любка! Ты — из больнички? Глеб — как?
ЛЮБА. Жив…
АНГЕЛ. Крепкая голова. (Уходит.)
На заднем плане продолжается обыск. Мигают фонари в руках вахтёров, крутит позёмка. Люба ещё стоит неподвижно, потом понуро всходит на крылечко Мерещуна, стучит. Дверь впускает её. На окне силуэтно видно, как, войдя, она снимает платок.
Разрисованный занавес.
В зрительном зале темно. Светят фонари «зоны» на барьере оркестра. Замерли попки на вышках.
Сверху из невидимого динамика — мощный хор молодых горячих голосов:
Мы подымаем знамя! Товарищи! — сюда! Идите строить с нами РЕСПУБЛИКУ ТРУДА!Верхний свет так и не зажигается.
1954
Кок-Терек
Свет, который в тебе (Свеча на ветру)
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
МАВРИКИЙ КРЭЙГ, профессор-музыковед, 70 лет.
ТИЛИЯ, его третья жена, 40 лет.
ДЖУМ, сын, 19 лет.
АЛЬДА, дочь Маврикия от первого брака, 32 года.
АЛЕКС КОРИЭЛ, математик, племянник Маврикия, 40 лет.
ФИЛИПП РАДАГАЙС, ученый-физик, биокибернетик, 40 лет.
АННА БАНИГЕ (ЭНИ), биолог в лаборатории Радагайса, лет 25.
СИНБАР АТОУЛЬФ, врач в лаборатории Радагайса, лет 27.
ТЕРБОЛЬМ, социолог, кибернетик, 34 года.
ГЕНЕРАЛ
КАБИМБА, африканец, аспирант у Радагайса.
ТЁТЯ ХРИСТИНА, больше 70 лет.
1-Й ДИПЛОМНИК, 2-Й ДИПЛОМНИК — у Радагайса.
ДЕВУШКА из кодовой группы.
Гости на вечере у Радагайса; сынишка Альды лет 5.
КАРТИНА 1
Лёгкий холл. По двери слева и справа. Позади — неограждённый вид на океан. Там проходят парусные яхты, иногда катера с водными слаломистами, всё ослеплено летним дневным солнцем.
Газовая плита, холодильник. Развешана и расставлена разнообразная кухонная посуда, набор сковородок. Поблизости и обеденный стол. Здесь хлопочет Маврикий. Он высок, плотен, у него величавая почти облысевшая голова, пенсне, повязан фартук.
Соты с пластинками, у открытой радиолы сидит Алекс Кориэл. Холл залит радостным рондо из 2-го фортепьянного концерта Бетховена.
МАВРИКИЙ. Один из важных критериев человеческого вкуса — сыр. Какой ты предпочитаешь сыр, Алекс?
АЛЕКС (радостно смеётся, слушает). Не разбираюсь, дядюшка, любой.
МАВРИКИЙ. Лю-бой? Нет, ты таки дикарь! (Подходит ближе.) Может быть, ты…
АЛЕКС. Дядя Маврикий! Почему вот я старую музыку люблю, а новую нет?
МАВРИКИЙ. Может быть, ты и помола кофе не можешь определить, когда пьёшь?
АЛЕКС. А он имеет значение?
МАВРИКИЙ (хохочет, выключает музыку). Нет, ты — совершенный дикарь!!
АЛЕКС. Дядюшка! Дай дослушать!
МАВРИКИЙ. А-а, всё это слышано и переслышано. Подарю я тебе весь ящик, ладно. В сорок лет тебе надо начинать жить с самого начала.
АЛЕКС. Да. Я так и собираюсь.
МАВРИКИЙ. Но с того ли конца ты собираешься? Я у тебя замечаю чудаковатые какие-то высказывания. Нам бы с тобой поговорить, поговорить неторопливо… Ну, иди садись. Сейчас я тебя накормлю за все пятнадцать лет.
АЛЕКС. С фронтом — восемнадцать. (Переходит к столу.)
МАВРИКИЙ. Восемнадцать?!.. Начинай с угря, а отбивная должна дойти медленно, чтоб сохранились соки.
АЛЕКС. Дядя, мне, честное слово, неудобно! Ты из-за меня… всю эту женскую работу…
МАВРИКИЙ (хлопоча у стола, серьёзно). Алекс! Вот в этом треугольнике: холодильник-плита-обеденный стол, моё любимое теперь времяпровождение. Началось когда-то с того, что я никому не доверял варить кофе, но постепенно вник и в другие операции и теперь часто готовлю на всех троих. Ведь чужой человек не может готовить с любовью. и тут надо много сообразительности, знаний, такта. В девяноста пяти случаях хозяйки не приготовляют пищу, а губят её, да будет тебе известно! и осложняется дело тем, что страшно отстают поварские книги. Я подписан на «Вестник гастрономии», он ведётся в согласии с новейшей медициной. Ну, раз ты ничего не понимаешь, то пей, что дают!
Пьют.
Вот этот салат бери. Всё-таки я не могу примириться: почему ты за все годы мне ни разу не написал?
АЛЕКС. А о чём бы, дядюшка, я тебе писал? и — зачем?
МАВРИКИЙ. Чёрт возьми! Что значит — зачем? Хотя бы затем, чтоб я тебе помог! Ведь тебе было несладко? Расскажи хоть толком, как это всё получилось.
АЛЕКС. Судебная ошибка. Все улики так плотно сложились против нас, что опровергнуть их мы были не в силах. Меня и друга моего взяли прямо из армии после войны, осудили на десять лет и послали в Пустынную Каледонию. и там мы отгрохали девять из десяти. Оставалось нам по году, когда нашли настоящего убийцу. Нас освободили, извинились, — но кто бы мог вернуть нам эти девять лет?!
МАВРИКИЙ. Потерянные годы!
АЛЕКС. Нет, не то что потерянные. Это очень сложно. Может быть даже — необходимые…
МАВРИКИЙ. Как это — «необходимые»? Что ж, по-твоему, человеку необходимо сидеть в тюрьме? Проклятье всем тюрьмам!!
АЛЕКС (вздыхает). Нет, не так просто. У меня бывают минуты, когда я говорю: благословение тебе, тюрьма!
МАВРИКИЙ. Ду-рак!.. Ага! (Встаёт к плите.) Вот самое время есть отбивную! Вот когда она сочится! (Подаёт.) Клади горошку. А главное — вот эту подливку. Секретом этой подливки обладают немногие на нашем континенте. Я — в их числе.
АЛЕКС. Дядя Маврикий! Не надо. Я отучаюсь есть по стольку. Большую часть того, что мы едим, мы проглатываем совершенно безполезно.
МАВРИКИЙ. Так, так… (Накладывает ему.) В тебе проступают явные черты мозгового сдвига. Еда — радость жизни, а ты от неё отучаешься! А тебе она безполезна! Я думал, ты действительно набрался здоровых мыслей в тюрьме. Но я разочарован. (Наливает.) Пей!
Алекс пьёт.
Да похвали же вино, мерзавец!..
АЛЕКС. Очень тонкое.
МАВРИКИЙ. Я думаю! Вино — от Гарфа-старшего. Наконец, с тех пор как тебя освободили, прошло пять лет. Где же ты был?
АЛЕКС. Там и оставался.
МАВРИКИЙ. В Каледонии?
АЛЕКС. У-гм. В маленьком домике на краю огромной пустыни.
МАВРИКИЙ. У тебя не было денег выехать?
АЛЕКС. Не денег. (Пауза.) Убеждений.
МАВРИКИЙ. и на таких убеждениях ты стоишь до сих пор?
АЛЕКС. Да. Почти.
МАВРИКИЙ (машет). Не устоишь! Перед жизнью? — не устоишь! Но всё-таки там был… посёлок?
АЛЕКС. Посёлок. Я преподавал в школе.
МАВРИКИЙ. Но позволь! Но там, наверно, ни водопровода! ни канализации! ни газа…
АЛЕКС (смеётся). Какого там газа! На краю посёлка даже не было электричества.
МАВРИКИЙ. Э-лек-тричества?! Так это каменный век! Чем же ты освещался?
АЛЕКС. Свечой.
МАВРИКИЙ. Ослепнуть можно!
АЛЕКС. А у Платона был аккумулятор? У Моцарта — двести двадцать вольт? При свече, дядюшка, открывается сердце. А выйдешь наружу — ветер из степи, тянет запах диких трав! — у-у! и вот именно без электричества, если уж всходит над пустыней луна — так вся вселенная залита луной! — ты помнишь ли это хоть с детства, дядя?! Что вы тут моргаете сквозь фонари?..
МАВРИКИЙ. Луна? Сколько тебе лет? Я тебе завидую.
Вбегает Джум, глядя не сюда, на море.
ДЖУМ. Маврушка! Смотри, наш сосед не успел дачу купить, а уже на воде, на лыжах! А мы здесь третье лето живём — ты не можешь мне водного слалома обезпечить, Маврушка?
МАВРИКИЙ (гневно). Как ты с отцом разговариваешь, негодяй?
ДЖУМ (заметил незнакомого). Виноват, я хотел сказать — отецка.
МАВРИКИЙ. А если отец, так можно на голову садиться? Тебе яхты мало? Тебе аквалангов мало?
ДЖУМ (с достоинством). Я не искал конфликта, отецка! Но я тебя честно информирую: мне нужен водный слалом. Не в твоих интересах вынуждать меня изыскивать средства самому.
МАВРИКИЙ. Какие к чёрту средства? Откуда они у тебя возьмутся?
ДЖУМ. Я найду. Но учёба моя может при этом пострадать. (Уходит.)
МАВРИКИЙ (вдогонку). Да уж она и так страдалица, куда дальше?.. Чёрт знает, до шести лет казалось забавным, что он называет меня Маврушкой. А теперь плетью не вышибешь. (Расстроен.) Что ж ты не скажешь? — кофе налить. (Наливает.) У тебя деньги-то есть, Алекс? Нужны? Скажи честно. (Отвернув фартук, вытягивает бумажник.) Две-три сотни я тебе дам?
АЛЕКС. Нет-нет, дядя, у меня есть. и вообще — мне очень мало нужно.
МАВРИКИЙ. Где ж не нужно? Ты одет смотри как.
АЛЕКС. А как? Дырок нет.
МАВРИКИЙ. Ч-чёрт его знает, у тебя понятия!
АЛЕКС. Вот кофе — наслаждение. Сто лет такого не пил.
МАВРИКИЙ. Ага! Значит, ты не безнадёжен. Выпьешь вторую?.. Кофе надо покупать только у Стилихона, и чтобы мололи при тебе.
АЛЕКС. Скажи, дядя Маврикий… А где… твоя дочь?
МАВРИКИЙ. Альда? Да, вообще, где-то в нашем городе.
АЛЕКС. А что она делает?
МАВРИКИЙ. Откровенно говоря — не знаю.
АЛЕКС. Вы так давно не виделись?
МАВРИКИЙ. Нет, почему? Вот недавно в консерватории отмечали моё семидесятилетие — она пришла. Смотрю — сидит в конце стола. Такая… одухотворённая мордочка. Я её представил обществу, все удивлялись, что у меня дочь. Ну, а поговорить не удалось.
АЛЕКС. Значит, вы совсем не видитесь?
МАВРИКИЙ. Нет, она бывала. После войны. Вскоре после смерти её матери. Она приходила, мы её приласкали. Тилия к ней очень хорошо относится. Но Альда сама как-то… чуждается.
АЛЕКС. Я помню её ещё школьницей — такой прелестной живой девчёнкой лет пятнадцати. У тебя нет фотографии тех времён?
МАВРИКИЙ. и тех должна быть, и на юбилее её сфотографировали. Да постой, альбомы здесь, на даче, я тебе покажу.
АЛЕКС. Мне очень хочется её найти. Но справки мне не дали. Она, вероятно, не под твоей фамилией?
МАВРИКИЙ. Даже не скажу. Она носила фамилию мужа.
АЛЕКС. Разошлись?..
МАВРИКИЙ. Первого. А потом был второй.
АЛЕКС. Ах, вот что… Так она сейчас…
МАВРИКИЙ. Нет, сейчас не замужем. Вообще-то, ты прав, положение ненормальное: не знать, где и что дочь родная… Я даже сам не понимаю, как это получилось. Ты, если найдёшь её, приводи обязательно, приводи!
АЛЕКС. Она мечтала стать пианисткой. Не стала?
МАВРИКИЙ. Ничем она не стала. Она если за всю жизнь делала что-нибудь благоразумное, так это — соблюдала правила уличного движения и только поэтому уцелела. Да я всегда и против был её музыки. Что могла принести ей музыка? Я желал ей устойчивого семейного счастья. Но счастье надо уметь завоевать.
АЛЕКС. Я и тётю Христину хочу найти. Говорят, она в большой бедности.
МАВРИКИЙ. В самом деле! и Христина, чудачка, ведь тоже ещё, наверно, жива. Неужели она ещё жива? Найди, найди её и мне расскажешь. Надоело мне жить и ничего не знать о родственниках, серьёзно. Вот хорошо, что ты нашёлся!
В глубине прерывистый шум мотора. Дорожка высока, и нам виден верх въезжающего автомобиля сапфирового цвета. Он круто останавливается с резкими выхлопными взрывами и смолкает. ТИЛИЯ, стройная ловкая женщина в дорожном комбинезоне, выпрыгивает из него как подброшенная, бежит и бьёт по капоту.
ТИЛИЯ. Проклятый тарантас! (Откидывает капот, заглядывает в мотор. В нашу сторону:) Папка! Жрать хочу! Мясное есть? Подготовь!
МАВРИКИЙ. Отбивная?
ТИЛИЯ. О’кей, отбивная! (Машет и кричит вдаль.) Джу-у-ум! Сюда-а!
Углубилась в машину. Вскоре к ней подбегает ДЖУМ, они возятся, чертыхаются, брякают инструментами.
МАВРИКИЙ (спешит к плите, жарит). Вот и Тилия. Она тебя, конечно, не узнает. Вы с ней почти ведь и не виделись никогда.
АЛЕКС. По-моему, только в Розовом Каньоне, после рождения Джума. Она тогда надеялась ещё вернуться в балет.
МАВРИКИЙ. В балет она не вернулась, но в любительских танцует и сейчас. Недавно увлеклась журналистикой. Вообще, Тилия — яркая, многогранная личность. (Жарит.) Да… Три раза в жизни я женился, Алекс, — и все три раза на восемнадцатилетних девушках. В старости это как-то утешает…
ТИЛИЯ (оставив Джума возиться, идёт в холл в комбинезоне, с большим гаечным ключом в руке). Мавр! Я готова съесть сейчас дикого жареного кабана! (Увидев незнакомого, останавливается.)
Алекс поднимается из-за стола.
У нас гости?
МАВРИКИЙ. Нет, родственник.
ТИЛИЯ. Родственник? (Подходит ближе.) Простите, что я в таком виде… Но — кто же?..
МАВРИКИЙ. Твой племянник.
ТИЛИЯ. Такого взрослого и симпатичного племянника у меня, кажется, нет… Но раз ты говоришь, что племянник, — надо, по крайней мере, поцеловаться? (Бросает на пол гаечный ключ.) Я — чумазая, грязная, ничего, племянничек?
Целуются.
Как я рада! Я думаю, что папочка не будет ревновать, если я тебя поцелую лишний раз? (Целует.) Но всё-таки, кто ж это такой?
МАВРИКИЙ. Алекс.
ТИЛИЯ. Алекс?..
МАВРИКИЙ. Сын моей покойной сестры Маргариты.
ТИЛИЯ. Ах Маргариты?.. Это мы виделись…?
АЛЕКС. В Розовом Каньоне, перед войной.
Маврикий жарит.
ТИЛИЯ. Ах в Розовом Каньоне! Тот блестящий студент, выпускник университета, золотые надежды, да? (Движения буйной радости.) Ну как я рада! Ну как мы рады! (Целует его. Скороговоркой.) Где же ты был? Где пропадал? Почему не писал? Рассказывай! (Отступает.) Ты видишь, какая я рабочая лошадка — до обеда в редакции, потом сто километров по шоссе, по жаре, — чтобы только мои тут жили и наслаждались океаном. По дороге забарахлил мотор, я в нём ковырялась, копалась, лазила под него, еле дотянула. (Тем временем она расстегнула комбинезон и вышла из него в цветном платьи.)
Джум завёл мотор.
Браво, Джум! (Бросает к выходу комбинезон и гаечный ключ.) Забери, мой мальчик! (Проходит перед Алексом.) Ну, как ты меня находишь?
АЛЕКС. Вы очаровательны!
ТИЛИЯ. Ещё не хватало «вы»! Ещё будешь меня звать тётушкой? или бабушкой? Только — «ты» и «Тилия»! (Проходит.) и сколько мне лет?
АЛЕКС. Скоро тридцать?
Джум уезжает.
ТИЛИЯ (довольна, хохочет). Если бы не сын! Но я мать, Алекс, ты понимаешь, я — мать! (Около столика с радиолой.) Как тебе нравится этот столик? Прелесть, правда?
АЛЕКС. Изящный.
ТИЛИЯ. Недавно купили. Сто шестьдесят дукатов. (Моет руки.) Я — мать, и проблема девятнадцатилетнего сына накладывает морщины на мой атласный лобик.
АЛЕКС. Не заметил морщин.
ТИЛИЯ. Хо! Я умею их скрыть! Это целая система! Тут и — сон в холодном свежем воздухе, регулярная гимнастика, обтирания, подвижный образ жизни! Чтобы к сорока годам сохранить фигуру девочки, надо по-ра-бо-тать!
Отбивная уже на столе, Тилия садится, начинает быстро жадно есть, не прерывая, однако, разговора. Маврикий прислуживает.
Кроме того, мой лозунг: никаких врачей, а лекарства — только самые естественные и только в самых малых дозах!
АЛЕКС (оживляясь). Это я могу понять! Это я поддерживаю!
ТИЛИЯ. Ну, я сразу почувствовала, что мы с тобой единомышленники! Ты знаешь, папку я лечу сама. У нас вот (вскакивает, приносит) «Справочник практического врача». Для образованного человека — что может быть лучше? Не доверяться этим равнодушным предвзятым шаманам, а самому выяснить патогенез, избрать лечение. Ну, у папки что, например? (Листает.) Вот — аментивный синдром. Это больные нервы. Симптомы такие: колебания аффектов, обманы чувств. В чём обманы чувств? Ревнует. Если бы ты не был мой родной племянник, то вот за эти несколько поцелуев мне б уже влетело. Тут к соседу приезжал его аспирант, африканец Кабимба. и мы с ним просто плавали, что тут такого?..
МАВРИКИЙ (останавливая). Тили-Ти!
ТИЛИЯ. Папочка! В тебе говорят расовые предрассудки! Чем африканец хуже тебя? Двадцатый век есть век равенства наций… А вообще, у нас выработан режим: папе ничего мясного, мне ничего мучного, поменьше солёного, регулярная прочистка желудка…
МАВРИКИЙ. Засоренный желудок — это страшное дело!
ТИЛИЯ. Это ужас! Так пусть слабительное по вечерам, но зато еда — радость жизни! и вот профессор Крэйг в расцвете творческих сил, а я…
МАВРИКИЙ. Ну, насчёт меня-то…
ТИЛИЯ. А что насчёт тебя? Тебе семьдесят лет, но ещё не выяснилась болезнь, от которой ты мог бы умереть.
МАВРИКИЙ. Сердце…
ТИЛИЯ. Эт-то самовнушение! Ты бодр, справляешься с хозяйством, у тебя целы зубы. Ах, Алекс, недавно был юбилей Маврикия — банкетик тысячи на три дукатов! Гостей! Телеграмм! От композиторов! Дирижёров!
МАВРИКИЙ. Прожёвывай! Прожёвывай.
ТИЛИЯ. Ты прекрасно ещё можешь работать! Пусть ты оставил лекции, но именно теперь ты обязан написать новую книгу.
МАВРИКИЙ. Где уж мне новую…
ТИЛИЯ. Ну, хотя бы переиздать старую!
МАВРИКИЙ. Тили-Ти, для этого надо добавить в неё свежих идей.
ТИЛИЯ. Так добавь свежих идей! Уж не говорю, что у меня гарнитур — лавка древностей, но с ума сойдёшь от одного позора ездить в этом корыте…
МАВРИКИЙ. Спортивный седан позапрошлогодней марки…
ТИЛИЯ. Аб-солютно устаревшей конструкции! Меня гложет мечта иметь кабриолет «Супер-88» цвета «брызги бургундского» на триста пятьдесят лошадиных сил! Так у папки не хватает денег!
АЛЕКС. Ну, деньги вы соберёте.
ТИЛИЯ. Ты рассказывай, рассказывай, что же всё мы да мы! Где ты работаешь? Сколько зарабатываешь? Женат ли? Есть ли у тебя дети?.. Дети, дети!
По дорожке сзади пробегает Джум, резвясь с мячом.
Сыну девятнадцать, и уж он начинает шалить с девушками.
МАВРИКИЙ. Хороши шалости, когда приходится оплачивать аборты.
ТИЛИЯ. Но ты бы не хотел иметь эту девку невесткой? Надо радоваться, что у малыша, по крайней мере, здравый смысл.
Джум прислушивается, подходит.
Но ты прав, ты прав! Надо его женить — категорически! Причём на самой простой девушке из народа, пусть поменьше этого образования…
МАВРИКИЙ (вспыхивает). Что за чушь? Какую там ещё из народа?..
ДЖУМ. А что мне на её интеллигентности — суп варить?
ТИЛИЯ. Мы задыхаемся без женских рук! Некому пуговицы пришить. У нас даже в муке моль завелась. Постепенно ты её обучишь, передашь ей плиту и сковородки.
ДЖУМ. Да чего ты споришь, отецка? Кому жениться — тебе или мне? Моя мать дальновидная женщина, она умеет жить.
ТИЛИЯ. У нас будет гармоничная жизнь. Она будет скользить по дому с тряпкой и вытирать пыль.
МАВРИКИЙ (гневаясь). Да вы что, уже сговорились? Мы для этого растили сына?
ТИЛИЯ. Мавр! Положи валидол! Положи валидол и не делай страшных глаз! Я этого не люблю. Почему тебя оскорбляет невестка из народа? Разве ты не чувствуешь, что весь наш век дышит демократией? Надо действовать в духе века! Уж у себя-то в редакции я всегда знаю дух века.
АЛЕКС. А что за редакция?
Джум убегает с мячом.
ТИЛИЯ. Журнал «Альголь», слышал?
АЛЕКС. Политический?
ТИЛИЯ. Да так… международное ревю. (Вскакивает, приносит пару ярких журналов.) Вот!
АЛЕКС. Альголь — так называется бета в созвездии Персея, это «звезда дьявола»? (Берёт журналы, перелистывает.)
ТИЛИЯ. Возможно, возможно, что-то в этом роде. Платят мне там немного, я не для денег, а — общее развитие, интеллектуальная жизнь…
МАВРИКИЙ. Тили не могла бы сидеть дома хозяйничать. Она бы задохнулась.
ТИЛИЯ. Я бы задохнулась!.. Я люблю — жизнь, Алекс! Я люблю жизнь во всех её проявлениях! В конце концов, мы живём на свете один раз! Ничего нельзя упустить!
АЛЕКС. Меловая бумага, цветная печать… и кажется, только внешние проблемы?
ТИЛИЯ. Ну, с внутренними-то у нас всё в порядке, о чём писать?! А внешние — да. Что у нас? Обзор заокеанских стран, их экономических пороков, их социальных язв. Участвуем в основных кампаниях. Боремся за мир, за то, чтобы перевес сил был всегда на нашей стороне…
МАВРИКИЙ. и только благодаря усилиям их журнала мир на планете ещё как-то держится.
ТИЛИЯ. Сколько энергии! Сколько искусства! Постоянная взбудораженная атмосфера редакции! То интервью, то заседание, то правка… Ты не представляешь, Алекс, как я кручусь и как мне некогда!
АЛЕКС. Некогда? Это бич современного человека. Тебе некогда, человек? — значит, ты неправильно живёшь. Перестань так жить, иначе погибнешь!
ТИЛИЯ. Браво! Замечательно сказано! Где ты набрался таких мыслей?
МАВРИКИЙ. Где же? В тюрьме!
ТИЛИЯ. Что-о-о?
МАВРИКИЙ. Оказывается, он десять лет сидел в тюрьме.
Тилия замерла.
АЛЕКС. и вот мне на всё стало хватать времени и ещё остаётся.
МАВРИКИЙ. А теперь он полностью оправдан. Это была судебная ошибка.
ТИЛИЯ. Ах ошибка! Ах оправдан. Как хорошо. Слава богу, которого нет. Но знаешь что, Алекс? Я — прямодушный человек, и скажу тебе, обижайся не обижайся: ты — страшный эгоист!
АЛЕКС. В чём?
ТИЛИЯ. В том, что ты лишил нас возможности сделать доброе дело! Ты нуждался в помощи — и с какой охотой мы бы… О-о-о!..
По ступенькам террасы в сопровождении Джума поднимается Филипп Радагайс, широкоплечий, загорелый, весь в белом спортивном.
ФИЛИПП (остановился, не видя Маврикия и Алекса). Мадам! Я ловлю вас на слове! Вы говорили, что у вас есть бездействующий подвесной мотор. А у меня — корпус катера. Мы их соединяем, и вы и ваше чадо можете учиться у меня водному слалому.
Маврикий снимает фартук. Алекс поднимается, глазами прикованный к Филиппу.
ДЖУМ. Мама! Как умно! Конечно!
ФИЛИПП. Если других реакций нет, вопросов нет, — я пришёл за мотором. Мне надоело цепляться к чужому катеру. Только я (смотрит на часы) ограничен во времени, форсируем мотор! Профессор, простите, не видел вас! (Здоровается с Маврикием, вперяется в Алекса.) Ч-ч-что??!
АЛЕКС. Фил!
ФИЛИПП. Ал!
Бросаются друг к другу и душат в объятиях. Тилия подбегает, очень заинтересованная. Маврикий растерян.
Откуда ты взялся? Где ты был?
АЛЕКС. Почему ты здесь?
ФИЛИПП. Я? Моя дача рядом! Ты откуда?
АЛЕКС. Это мой дядя родной.
ТИЛИЯ. Господа! Откуда вы друг друга знаете? (Вьётся около них.)
Они всё ещё не разомкнулись вполне.
ФИЛИПП. Откуда!! Мы знаем друг друга столько же, сколько стоит свет.
АЛЕКС. Мы вместе учились в школе. Мы вместе кончили университет. Мы (не замечает знаков Филиппа) вместе попали на фронт и…
ФИЛИПП. …и только там разделились!
ТИЛИЯ. Слушайте, это замечательно! Я ведь тоже фронтовичка! Я тоже была на фронте! А на каком вы участке…?
АЛЕКС. Наконец мы вместе…
ФИЛИПП. …На фронте я потерял Алекса из виду, и с тех пор он не возвращался в наш город.
ДЖУМ. Мама, так как с мотором? Я полезу доставать?
ТИЛИЯ. Если господин Радагайс обещает научить тебя слалому…
ДЖУМ. и тебя тоже, мама!
ТИЛИЯ. Боюсь, мне поздно?
ФИЛИПП (со щедрым жестом). Вы — чудесно сложены! У вас пойдёт, пойдёт!
ТИЛИЯ. Доставай!
Джум убегает.
ФИЛИПП. Моя помощь? Мои руки?
ТИЛИЯ. Мы вас позовём. Сперва я переоденусь.
МАВРИКИЙ. Так это что ж? Вы тридцать лет уже дружите?
ФИЛИПП. Именно!
МАВРИКИЙ. Ну так вы заслужили поговорить без меня. Потом, Алекс, будем смотреть с тобой альбомы. А завтра мне нужно ехать в город, поедешь со мной, полазишь там у меня в кабинете и наберёшь себе пластинок.
АЛЕКС. Спасибо, дядя.
Маврикий идёт направо, походка у него старческая. Тилия нагоняет его.
ТИЛИЯ (тихо). Мавр! Насчёт кабинета ты — не опрометчиво?
МАВРИКИЙ. А что?
ТИЛИЯ. Ну, во-первых, ты обещаешь ему пластинки. Значит, ты лишаешь его возможности относиться к нам вполне безкорыстно. Потом — чего он набрался в тюрьме? — ты не знаешь. У тебя рукописи Рахманинова, Изаи…
МАВРИКИЙ (повышая голос). Да как ты…
ТИЛИЯ. Тс-с-с! Именно потому, что мы его любим, мы тем более не должны подвергать его таким соблазнам!
Маврикий отмахивается, уходит направо. Тилия смотрит на друзей, уходит налево. Друзья начинают говорить громче. Алекс больше сидит, Филипп расхаживает.
АЛЕКС. Так ты что? О тюрьме не говоришь?
ФИЛИПП. Ты с ума сошёл! Об этом никто не знает! Я это скрыл и зачеркнул!
АЛЕКС. Но что скрывать? Если ты оказался невиновен…
ФИЛИПП. Невиновен! Тюрьма накладывает чёрную тень! «Тот, кто раз поел тюремной баланды»!
АЛЕКС. Не знаю. Я не стыжусь тюремных лет. Они были плодотворны…
ФИЛИПП. Плодотворны? Да как у тебя язык поворачивается? Это вот ножницами такими — слесарными! — выхватили из жизни кусок — нежных нервов! алой крови! молодого мяса! Мы с тобой возили тачки на каменном карьере, медной пылью дышали, а они тут свои белые телеса раскладывали на океанских пляжах! Нет, Ал, напротив, — надо навёрстывать! (Размахивает кулаком.) Надо брать от жизни вдвойне и втройне! Это наше право! Мы с тобой знаем — и хватит! Объявлять? Никто не поймёт. Когда я вернулся в университет, я ахнул: тупицы, заморыши, которых мы за людей с тобой не считали, экзамены они по шпаргалкам сдавали, — а сейчас на первом плане, старшие бакалавры! Ты думаешь, для старшего бакалавра много надо? Упереться в одно место лбом и давить! Да что говорить? Елинодий — завкафедрой колебаний!
АЛЕКС (поражён). Елинодий??
ФИЛИПП. Да! А Ирун Зиодор — уравнения математической физики читает!
АЛЕКС (изумлён). И-рун Зио-дор?! Математическую физику!
ФИЛИПП (хохочет). Ну! Вот и сам посуди. Ужас! Но подожди, я уже их начал прочёсывать. Я показал им, как надо работать! Сам себя не щажу — ну, и вокруг меня тянут! Увлекательный спорт: выжигать рутинёров из гнёзд одряхлевших теорий!! (Хохочет.) Слушай, эти пять лет после оправдания — где ты был?
АЛЕКС. А там же, в Каледонии.
ФИЛИПП. То есть… это в плане того, что… смысла жизни искал?
АЛЕКС. Пожалуй, что так. (Смеётся.) Девяти лет мне не хватило, остался додумать.
ФИЛИПП. М-да-а-а… Ну и сколько ты зарабатывал? Что ты там делал?
АЛЕКС. Преподавал.
ФИЛИПП. Детишкам?
АЛЕКС. У-гм.
ФИЛИПП. Ты просто губил себя!
АЛЕКС. Сперва был доволен очень. А потом… Начал понимать, что преподавание моё — отчасти ложь. Наталкиваю я их теоремами, чертежами, разговорами о Космосе. Но не готовлю, как сопротивляться безсердечию и расчёту, ожидающему их в жизни.
ФИЛИПП. Слушай, ты помнишь, каким я был до войны? Раскисляй, лапша, философ на огуречном рассоле, — помнишь?
АЛЕКС. Да.
ФИЛИПП. Так вот теперь такой ты!
АЛЕКС (тихо смеётся). А во-вторых, честно говоря, на-до-ело как-то. Из года в год параграфы — потом спрашивать, опять параграфы — и опять каждого спрашивать. Мозги сохнут.
ФИЛИПП. Да ведь нельзя же паклею заткнуть вулкан! Что ж у тебя — простого человеческого самолюбия не осталось?! и в такой же цвет ты и жену подыскал?
АЛЕКС. Нет. Жену другую.
ФИЛИПП. Там? Но кого ты мог там найти?
АЛЕКС. Да я несколько бы стеснялся её сюда привезти. Но этот вопрос отпал. Её уже нет.
ФИЛИПП. Молодчик! Ты её бросил!
АЛЕКС. Смешно сказать, но она — меня…
ФИЛИПП. Она тебя (громоподобно хохочет с широкими жестами.)
Алекс присоединяется.
Она тебя?! (Смеётся ещё громче, его всего трясёт, он отмахивается.) Так слушай, она трезвый человек! Она правильно сделала! (Новый приступ смеха. Вытирает слёзы.) Она тебя?!.. (Успокаивается.) Блестяще! и — где ты сейчас?
АЛЕКС. Пока нигде. Я только что приехал.
ФИЛИПП. и — кто ты?
АЛЕКС. Пока никто. Соискатель на место.
ФИЛИПП. …школьного учителя?! (Яростно.) Ал! Ты ещё не безнадёжно потерян! Слушай внимательно: за эти пять лет я перевернул здесь горы! Я иду колоссально вверх, колоссально вверх! Я избрал биофизику. Это оказалось очень свежо. Я защитил первую диссертацию, добился — в страшных боях! — создания при университете лаборатории биокибернетики, она растёт, и я её начальник. У нас интереснейшие результаты! Через несколько месяцев я — доктор наук и профессор!
АЛЕКС. Фил! А ты помнишь, каким я был до войны? Человек-снаряд!
ФИЛИПП. Ну да, да! Поэтому я и верю в тебя!
АЛЕКС (грустно). Теперь такой — ты… Как поразительно. Мы полностью поменялись с тобой характерами. Мы поменялись взглядами на жизнь.
ФИЛИПП. Да ты в науку сейчас бросишься, как лев, я не сомневаюсь! Ты будешь работать со мной! Ты повторишь мой путь ещё быстрей. Только перестань здесь всем тыкать свою тюрьму. О тебе недавно даже ректор вспоминал. Тебе все будут рады! А кто не рад — посторонись!! Ты же острый математик. В спины и в паруса нам дует неистовый ветер кибернетики!! Наш корабль — на полном ходу! Пока не поздно — держи канат, взлезай на борт, дружище! (Протягивает ему руки.) Жизнь есть борьба!!
АЛЕКС (не принимая рук, обнимает Филиппа). Прекрасно, друг, прекрасно. Я благодарен тебе. и я любуюсь, что ты стал таким. и то, что ты предлагаешь, конечно, волнует меня: наш старый университет! дорога славы под сводами, видавшими нашу молодость… Но если б ты мог ответить мне на один вопрос… На один вопрос… Зачем?
ФИЛИПП. То есть… что — зачем? Зачем… вообще наука?
АЛЕКС. Да. ЗАЧЕМ — НАУКА?
ФИЛИПП. Ты просто разыгрываешь меня? В чём ты видишь тут вопрос? Азбучные истины! Да прежде всего… это дьвольски интересно! Это высокое наслаждение, неужели тебе…
АЛЕКС. Так что? Просто для себя? Из эгоизма?
ФИЛИПП. Да все материальные богатства, созданные человечеством, не через науку ли созданы?
АЛЕКС. и это не ответ. А зачем нам богатство? Богатство улучшает разве человека? Я не замечал.
ФИЛИПП. Вот прицепился к слову! Ну, не богатства, — все блага материальные на нашей планете, вся цивилизация, вся культура — всё создано наукой, всё!! О чём тут спорить?
АЛЕКС. О том, что, хвастаясь, как много благ теперь совокупно добываем мы, не упоминают — а чего нам это добывание стоит? Ответ будет ужасен: весь человеческий интеллект до конца уходит на добывание благ! Все духовные силы наши — до исчерпа! Вру, ещё остаётся часть, чтобы давить друг друга.
ФИЛИПП. Прицепился ты, как клещ. Да, в конце концов, двадцатый век без науки не был бы двадцатым веком! Это — душа его!
АЛЕКС. Или — бездушие?
ФИЛИПП. Да не сомневаться, а — на колени! Преклоняться перед наукой!
АЛЕКС. «О, великая наука!» Это всё равно, что «о, МЫ — великие умы!» или, точнее, «о, великий Я!». Поклонялись люди и огню, и луне, и деревянному идолу, — но, боюсь, даже идолу поклоняться не так нищо, как самому себе.
ФИЛИПП. Да ты мракобес там вырос в своей пустыне! А что же — боженьке будем поклоняться? Зачем этот глупый безпредметный спор — развивать или не развивать науку? Как будто это от нас зависит! Всё равно что продолжать нам обращаться вокруг Солнца или остановиться отдохнуть? Это помимо нас. А ты должен решать о себе: опять потащишься талдыкать теорему Пифагора? Или пойдёшь официантом в ресторан? Очень люблю бывать в ресторане, любимый мой отдых, но предпочитаю сидеть за столиком. За философию твою нудовую тебе нигде не заплатят. Зарабатывать ты что-то должен? Весь город тем и занят, что делает дукаты! Вся страна тем и занята, что делает дукаты! Ничто живое без дукатов не существует!
АЛЕКС. Так неужели же… из-за дукатов?
ФИЛИПП. Вздор! Мы живём наукой, мы дышим наукой, но если при этом деньги выскакивают сами собой и весьма обильно — это приятно, поверь! Да неужели я тебе должен доказывать, что наука это свет, и смысл, и интерес жизни для таких, как мы? С эстафетной палочкой, которую в руках держали Ньютон, Максвелл, Эйнштейн, — пробежать по второй половине двадцатого века и на черте передать двадцать первому?
АЛЕКС (поникло). Филипп! У меня такое ощущение, что палочку передавать нам не придётся…
ФИЛИПП. Ядерная война? Стихия, зависящая, к сожалению, не от учёных.
АЛЕКС. От них-то бы больше всего!..
Справа показывается Маврикий. У него в руках — раскрытый альбом.
МАВРИКИЙ. Алекс! Я нашёл старые фотографии твоей мамы, папы и тебя маленьким. У тебя ведь ничего не осталось? Приходи сюда, когда кончишь.
АЛЕКС. Да что ты? Спасибо, дядя. и — Альды?
МАВРИКИЙ. Странно, но Альды ни одной карточки не нашёл. Даже не понимаю, кто их мог из альбома… Они были здесь. (Уходит.)
АЛЕКС. Надо пойти, старик рылся.
ФИЛИПП. Слушай, я почти не знаю этой семьи, мы месяца не знакомы. В чём тут дело? Она (показывает, куда ушла Тилия) на тридцать лет моложе. Как это получилось?
АЛЕКС. Мой дядюшка имел несчастье — или, наоборот, счастье? — слишком долго увлекаться молодыми. Вот это и… зафиксировано. Дядюшка был светило музыковедения, у него есть и свои квартеты, сонаты…
ФИЛИПП. Я почему спрашиваю. Мадам Тилия, выражаясь по-солдатски, просто лезет на штык. Чёрт знает, что за баба… Так, Ал… (выводит его, показывает) вот рядом моя дача. Ты отсюда не уедешь, пока не придёшь ко мне. и я тебя буду держать под замком, пока ты не дашь письменного согласия работать у меня. Вопросы есть?
АЛЕКС (тихо смеётся). Поговорим, ладно… Ну, а ты-то? Женат?
ФИЛИПП (голос его теряет всю энергию). Ж-женат. (Пауза.) А как будто стал и не женат… Я женился на Нике два года назад, она ещё была студенткой. и так славно мы жили, весело. Она меня и в спорт втянула. и вдруг — заболела. Что-то случилось с позвоночником. И, как на зло, когда была беременна. Пришлось пожертвовать ребёнком. Ну, сперва обнадёживали, что поправится, она и вставала. Потом всё реже, реже. Теперь только лежит. Лежит, смотрит, как я по морю катаюсь… Ты увидишь её сегодня. Ну, иди, каторжанин, неудавшийся бандит! (Толкает его в спину.)
АЛЕКС. От такого же слышу! (Уходит направо.)
Филипп смотрит на часы, садится. Не видимая ему, из своей двери тихо выходит Тилия в халате. Останавливается, озирается. Расстегивая пояс халата, отступает в свою комнату и тотчас выходит оттуда в купальном костюме.
ТИЛИЯ (громко). Филипп! Я — голая! Не оборачивайтесь!
ФИЛИПП (вздрагивает, резко поворачивается, медленно встаёт). Слушайте!..
Тилия делает стыдливое оборонительное движение, стоит на месте.
Слушайте!! (Делает крупные шаги к ней.)
Тилия отступает к своей комнате.
До каких пор вы будете меня…? (Идёт за ней.)
КАРТИНА 2
Небольшая рощица, редкие деревья, пни. Позади — дорога, где то и дело проходят, не слышимые нам, грузовики, автофургоны с прицепами, автокраны, скреперы, бульдозеры.
Попеременно то солнце, то облачка, игра осеннего мягкого света.
Идут Алекс и Альда — высокая, гибкая, тёмные волосы её свободны. Алекс несёт плащи. В отличие от предыдущей картины, он одет даже с тщательностью.
АЛЬДА (раскинув руки). Что за славный лесочек! Какое солнце! Какие лёгкие облака! и — дышится тут! Ты знаешь, сегодня за много времени первый раз меня ничто не сжимает. Почти ничто…
АЛЕКС. А что тебя сжимает?
АЛЬДА. Всегда у меня какое-то опасение, будто что-то плохое против меня готовится, что меня ждёт беда… Будто у меня хотят отнять…
АЛЕКС. Но что можно отнять у человека, у которого ничего нет?
АЛЬДА. О, всегда можно!.. Но сегодня такой счастливый день!..
Кружится. Вдруг — сильный баллистический удар от самолёта, переходящего звуковой барьер, и потом — вой самолёта. Альда вскрикивает, прижимается к стволу.
АЛЕКС. А, проклятые, как надоели…
АЛЬДА (совсем уже другая, подавленная, даже постаревшая, еле стоит). Ну, теперь ты видел, как тётя Христина живёт. Эта хижина, пол земляной, печка дымит, крыша течёт… Даже трудно поверить, что в наше время человек… (В голосе слёзы.)
АЛЕКС (следит с тревогой). Да, живёт она героически. Только вот кошек у неё — девять, десять? Что-то слишком.
АЛЬДА. Аль, она их не собирает, они сами к ней идут. и подбрасывают ей кошек, которых дети искалечили, — с проглоченными иголками, с отрубленными лапами, в керосине обожжённых… А она их жалеет. Вот эту помнишь кошечку, у которой движения несогласованные, то упадёт, то ножками дёргает… (Задумывается.) Эта кошечка одна на свете слабее меня. Похожа очень… (Плачет.)
АЛЕКС. Альда! Альдонька! Ну так же нельзя! От каждой случайной мысли…
АЛЬДА. Неужели и ты так жил в своей Каледонии?
Где-то близко с грохотом проносится электричка. Альда зажимает уши, съёживается, пока та пройдёт.
АЛЕКС. Я-а?! Намного лучше. Правда, домик мой тоже был из глины, и в дверях я нагибался, вот так… Но внутри стоял совершенно прямо (распрямляется)… если посередине. (Смеётся.)
Альда начинает улыбаться.
И было два окошка на солнечную сторону. Нет, я жил там роскошно! Пока был один. Но потом появилась жена. Неугомонная, она стыдилась нашей хижины! Честолюбивая, она требовала, чтоб я воздвиг палаты, покрытые шифером! и чтоб я больше зарабатывал. и чтобы вёз её в большой город, в большие магазины.
АЛЬДА. Скажи, Аль… Ой, что я тебя хотела спросить? (Мучительно.) Ой, что я хотела спросить??.. Ой, как я не люблю это, терять мысли!.. Ну вот, буду думать теперь.
АЛЕКС (гладя ей лоб). Ну успокойся. Вспомнишь. Само придёт. Вернётся обязательно.
АЛЬДА. Рассказывай.
АЛЕКС. Да уже и рассказал. Я после освобождения был настроен жить в тишине и совсем просто, жениться на какой-нибудь примитивной натуре, в которой, мол, правда, и сила, и смысл. А оказалось, что в наше время все эти примитивные натуры думают только, как урвать, да купить, да перед соседями отличиться…
АЛЬДА (очень пристально). Так неужели ты мог жениться — не любя??.. и ты!? и ты — тоже??.. Как же ты смел?
АЛЕКС. Во-первых, Альдонька, там выбора не было.
АЛЬДА. Так не надо! Совсем не надо!.. (Раскачиваясь, как от боли.) Нет любви!.. В наш век нет любви… Замужество — сплошная ложь… Значит, когда она тебя бросила, ты просто… сигарету вынул, закурил, да?
АЛЕКС. Альдонька! Я понял тогда, что не могу я так жить, каждый шаг соразмерять — а что это даст для семьи? а как бы не пострадали домашние? Кого-то ублажать, о ком-то заботиться и чтоб это определяло мою философию. Я один раз живу на земле и хочу исходить из чистой истины. Жена сделала благое дело: она тотчас нашла себе другого мужа, приносящего хорошие деньги…
АЛЬДА (вдруг вспомнив). Да! Скажи, Аль, так, по-твоему, не надо много зарабатывать?
АЛЕКС. Бож-же тебя упаси!
АЛЬДА. Но как же тогда, например, одеваться по моде?
АЛЕКС. А зачем — по моде? Чтобы быть похожей на всех, как чурки с одного конвейера? Люди созданы разными, зачем же вколачивать себя в стандарт?
АЛЬДА. Ну, это ты какую-то дикость… Ты просто оторвался от жизни и не понимаешь. Как же можно ходить ни на кого не похожим чучелом?
АЛЕКС. Вот вам для того моды и придумывают, чтоб вы за заработками гнались и ни о чем другом думать не успевали.
АЛЬДА. Ну, освежать костюмы надо? Туфли менять надо?
АЛЕКС. Туфли? Надо носить, пока подмётки не сотрутся. Это логично.
АЛЬДА (смеётся). С ума ты сошёл, ненормальный. и мебель надо менять, теперь стиль другой…
АЛЕКС. Да мебель-то зачем? Пока ножки целые — зачем её менять? Это ужасно, Альда, вот такие рассуждения я слышал от бывшей моей жены.
Снова звуковой удар и рёв самолёта. Альда вздрагивает, сжимается.
Зачем же отдавать лучшие годы, лучшие силы — за деньги, и деньги эти тут же разбрасывать на пустяки?
АЛЬДА (пониклая). Проклятые дукаты! Как утомительно их зарабатывать! От этой проверки безконечных телевизоров у меня в глазах рябит. Смотреть я не могу на телевизоры!
АЛЕКС. Я телевизоров пятнадцать лет вообще не видел — и то смотреть не могу. Там, где прежде общались души, теперь…
Близко, заглушая его, с грохотом проносится электричка. Альда закрывает уши. Позади проползает экскаватор.
АЛЬДА. А никакой другой работы я достать не умею. Так презираю себя за безалаберную жизнь. и музыке я училась, и иностранным языкам, и ничему не доучивалась.
АЛЕКС. Но когда на прошлой неделе ты в папином кабинете села за рояль…
АЛЬДА. А, да разве это настоящая игра!.. Надо инструмент дома, и четыре часа в день.
АЛЕКС. Не понимаю я дядю Маврикия. Дочь родилась в него, музыкантом! А он…
АЛЬДА. Папа как раз собирался купить мне рояль. Несколько раз встречал маму и обещал…
АЛЕКС. …а он не только не помог — оттолкнул тебя от консерватории!
АЛЬДА. Я сама не хотела туда, Аль!
АЛЕКС. Почему?
АЛЬДА. Чтобы не компрометировать папу, что вот ещё я есть. и он тоже боялся для меня этой среды искусства. Этих людей, таких благородных в своих ролях. В конце концов так и получилось… (Поникла. Пауза.)
Алекс смотрит с тревогой.
Нет, не говори, отец — хороший, он очень хороший.
АЛЕКС. Он порывами — великолепный человек.
АЛЬДА (светлеет). Правда? Ну правда же! Маму, конечно, он жестоко обидел, но и мама говорила всегда, что он — великий и замечательный человек.
АЛЕКС. А тёте Христине? Чтобы за двадцать лет гроша ей не бросить? Я ему всё выскажу! и ведь не от скупости, а — ровное благополучие, когда не хочется пальцем пошевелить. Тебя! — годами не видит — и спокоен.
АЛЬДА. Ты не прав! Это я сама не ходила к нему. Теперь так получилось, ты меня ввёл, а, вообще, зачем создавать ему двойную жизнь? напоминать собой о прошлом?.. Я не ходила, не ходила, только когда узнала о юбилее — тайком пошла. Села на самом дальнем краешке, надеялась, что меня не заметят, и наслаждалась, как его чествуют. Нынешние ученики расписались на бочонке масляными красками и бочонок втащили прямо на стол. Разливали черпаком с дли-инной ручкой! (Смеётся, очень оживлена.)
АЛЕКС (поправляя волосы на её лбу). Вот сейчас я могу тебя узнать! Сейчас ты похожа на ту прелестную девчёнку, школьницу, с которой я познакомился перед войной.
Альда смотрит шаловливо.
Если бы ты всегда была такая!
АЛЬДА. Если бы всегда был такой счастливый день!
АЛЕКС. У тебя карточки того времени не сохранилось?
АЛЬДА. У меня нет, но у папы должна быть. Он тебе не показывал?
АЛЕКС (рассеянно). А?.. Он?.. Та довоенная девчёнка так в меня впечаталась, что я на фронте и первые годы в тюрьме часто-часто тебя вспоминал. Написать даже хотелось.
АЛЬДА. Отчего же не написал? Ни разу.
АЛЕКС. С фронта? Ты была ещё слишком девочка. Из Пустынной Каледонии? Когда десять лет впереди?
АЛЬДА. А если бы ты писал мне, — моя жизнь могла бы сложиться совсем иначе.
Звуковой удар. Рёв самолёта. Альда вздрагивает, рыдает.
Ну что это? Ну что это?.. (Опускается на землю.)
АЛЕКС. Альда! Альда! (Опускается рядом, держит её за плечи.)
Альда рыдает надрывно, безутешно.
АЛЬДА. Зачем такая жизнь жестокая, Аль?.. Зачем жить в такой жизни?..
АЛЕКС (обнимая её, мерно, медленно). Нет, так нельзя. Так тебя надолго не хватит. Хоть этот день один, я думал, ты проживёшь улыбаясь. Вот послушай, дружок. В лаборатории биокибернетики, где я работаю теперь у моего друга, счастливым образом как раз сейчас всё готово к тому, что нужно тебе: из человека хрупкого сделать несгибаемого. Ты слышишь меня?
Альда смолкает.
Дать ему устойчивый, неунывающий характер, дать ему душевную невозмутимость. Ты не больна, лечения в обычном смысле тебе не нужно, но ты слишком отзывчива, уязвима. Тебе надо помочь жить. Я уже втягиваюсь в эту технику и могу оценить.
Альда подняла голову, слушает.
Сестрёнка моя, давай попробуем! Ну, дай мне руку! Для тебя. Для тебя! Чтобы спокойная улыбка не сходила с твоего лица. Довольно тебе страдать, а?
Альда слабо улыбается.
КАРТИНА 3
Лаборатория. Три двери, большое окно. Близ работающих приборов — письменный стол. Один ящик выдвинут, и над ним с двух сторон склонились 1-й и 2-й дипломники в тёмных халатах. 1-й насвистывает ритм новейшего танца и трясёт корпусом.
Электрическое освещение. Пасмурный день.
2-Й ДИПЛОМНИК. А качество тебе придётся отдать.
1-Й ДИПЛОМНИК. Двух пешек оно стоит. (Делает ход в ящике.)
2-Й. Одной? (Делает ход.)
1-Й. Нет, двух! (Делает ход.)
Услышав шум, мгновенно задвигают ящик и наклоняются над столом. В среднюю дверь входит Эни. Она невысокого роста, тугонькая, светленькая, твёрдые движения.
ЭНИ (строго). Чем заняты, молодые люди?
1-Й. Снимаем точки, мисс Баниге.
ЭНИ. и что ж получаются за кривые?
2-Й. Пожалуйста.
Передают ей со стола большой лист.
ЭНИ (смотрит). А почему только для двух значений параметра?
1-Й. А скольких?
ЭНИ. По крайней мере, четырёх. Нам важно иметь семейство кривых. Недостающие — доснять. (Возвращает им лист; идёт к левой двери, открывает, кричит внутрь.) Кабимба!
2-Й. Он вышел, мисс Баниге.
Эни уходит в среднюю дверь.
1-Й (проводив её восхищённым взглядом). Ты знаешь, а я вообще бы не от-ка-зал-ся!
2-Й (открывает ящик и, думая над ходом, напевает).
Но подруга Синбара
Нам не па-ара! не пара.
1-Й. Нам важно иметь семейство! — это всё равно что заново. В конце концов, мы работаем у самого шефа, и пусть скажет сам шеф.
2-Й. Но мисс Баниге думает с шефом одной головой, это уже замечено. (Сделав ход, идёт к щитку, смотрит приборы, регулирует.)
1-Й (обдумывая над ящиком, напевает, трясёт корпусом, пристукивает).
Но подружка Синбара нам не пара!
Но подружка Синбара-морехода…
А ладье-ладье ловушка тут в два хода!
Мгновенно задвигает ящик. В правую дверь входит Кабимба, рослый африканец. 1-й дипломник снова открывает ящик, думает над ходом и свистит на прежний мотив. Кабимба печален. Идёт к окну, прислоняется, смотрит.
2-Й ДИПЛОМНИК (от прибора). А правда Синбар не был моряком?
1-Й. Я тоже спрашивал. Нет.
2-Й. Вполне он тянет на жюльверновского капитана. (Отходит от приборов.) Кабимба-Кабимба! Что вы так невеселы?
КАБИМБА. Дождь идёт… (Смотрит в окно.)
1-Й (думая над ходом). Улыбнитесь, Кабимба! Покажите ваши сахарные зубки!
КАБИМБА. Я получил письмо с родины. Я давно должен быть там.
2-Й. Как давно?
КАБИМБА. После университета, два года сзади. Но шеф меня позвал, я остался. Чем в науку глубжей, тем трудней оторваться.
2-Й. и что ж тут плохого, Кабимба? Хоть что-нибудь в жизни есть неподдельное — наука! Да ещё спорт.
1-Й. Когда судья не жульничает.
КАБИМБА. Биотоки! Для каждого самого это очень интересно, но моей стране ещё о-о-ой сколько не понадобится. Я должен был вернуться домой с простой физикой.
2-Й. и наладить выпуск школьных амперметров?
КАБИМБА (энергично). Да! Моя родина нищая, неграмотная, верит в меня, а я сижу тут с биотоками.
1-Й (сделав ход). Смешно, Кабимба! Родина! (Смеётся.) Где вы были раньше? О родине надо было думать в семнадцатом веке или там в каком! А сейчас никаких родин давно нет, это — жуткий анахронизм. Жюткий! Есть только наша маленькая планетка, да и та, кажется… (Машет безнадёжно; трясёт корпусом, вычмокивает ритм.)
2-Й (сделав ход). Кабимба! Вы ещё небось и в партии какой-нибудь состоите?
КАБИМБА. В либерально-демократической!
Оба дипломника смеются взрывом.
2-Й. Да кто ж нынче состоит в партиях, Кабимба? Опомнитесь! Либералы, демократы, прогрессисты, коммунисты — все эти шайки думают только о себе!
1-Й. и каждый должен думать только о себе!
2-Й. Бросьте вы грязную политику, занимайтесь наукой! У вас идёт, у вас получается! (1-му:) Снимаем точку! (Подходит к щитку.)
КАБИМБА (гневно). Вы ещё… детишки! Вы достали лёгкое впечатление! Никуда вы дальше этого города не ездили, ничего не видели, не возьмитесь рассуждать!
1-Й (ещё над ходом, напевает).
Но подружка Синбара-морехода…
(Стремительно задвигает ящик и поворачивается к приборам.)
Из правой двери быстро входят Филипп и Алекс. Они направляются к средней, но, заметив присутствующих, останавливаются. Филипп мрачен, говорит очень жёстко.
ФИЛИПП. Что у вас, мальчики? Сколько точек? (Берёт лист.)
2-Й. По три на каждую кривую.
ФИЛИПП. Мало, не отражает всей характерности. и работаете медленно. Нет преданности науке. Позвольте! А почему только два значения параметра?
1-Й. А вы не говорили, что…
ФИЛИПП. Если и не говорил, можно сообразить самим, вы не дети. Четыре-пять кривых по основному параметру — неужели нельзя догадаться? (Швыряет лист на стол.)
1-й дипломник подхватывает, чтоб он не упал.
Так из вас никогда ничего не выйдет! Надо думать! и отказаться от дедушкиных темпов. Завтра с утра — всё снова. Сейчас поможете Кабимбе.
Дипломники начинают выключать приборы, свёртываться.
Кабимба! Вы к записи биотоков с человека сегодня готовы?
КАБИМБА. Да.
ФИЛИПП. Прошу вас. Можем начать в любую минуту.
Кабимба кивает, уходит в левую дверь.
Ну, где ж твоя кузина? (Смотрит на часы.)
АЛЕКС. Да, я зря на неё понадеялся. Нужно было с утра самому за ней… Так тут работа станет. Альда — она такая, она может прийти и на час раньше…
ФИЛИПП. Но этого не случилось.
АЛЕКС. …и на полдня позже. Она искренно будет спешить, стремиться, но любое столкновение может отбросить её в сторону.
ФИЛИПП. Выражаясь нашим языком — мала длина свободного пробега?
АЛЕКС. Да, очень силён броуновский элемент.
Дипломники свернулись, заперли ящик с шахматами, переоделись в белые халаты. Уходят налево.
ФИЛИПП. Но как же тогда мы будем с ней сотрудничать?
АЛЕКС. Так именно это нам в ней и дорого! Мы собираемся её векторизовать! — пусть же до опыта она будет предельно разбросана. Ты сам удивишься, до чего она нам подходит! Она начинает мысль — и забывает её. То она слушает тебя — и как будто не слышит. Смеётся — и вдруг плачет. Она смутная и неуловимая, как отраженье в воде.
ФИЛИПП. Интересно, посмотрим. (Закуривает.) Она замужем?
АЛЕКС. Была два раза. Оба её… бросили.
ФИЛИПП. С детьми?
АЛЕКС. Ты знаешь, она такая ранимая, чуть неосторожно заговоришь — плачет, о замужествах вспомнит — плачет, и я боюсь спросить. Живёт она, во всяком случае, одна.
ФИЛИПП. У отца я её не встречал.
АЛЕКС. У отца! Отец её карточек сберечь не мог! — два пятна в альбоме, как глазницы от выколотых глаз. Я вчера у него был, всё высказал. Поругались, он меня выгнал.
ФИЛИПП. Ну, ладно. Скажи вот: кодовая группа — тебе достаточна по объёму?
АЛЕКС. Нет! и никогда не будет достаточной!
ФИЛИПП. Что ж ты предлагаешь?
АЛЕКС (быстро, уверенно). А — решительно сменить всё направление. Конструировать автоматические программаторы на каждый тип задач. На первых порах это будет большая перегрузка, потом оправдает себя блестяще.
ФИЛИПП. Деньги? Люди? Помещение?
АЛЕКС. Кооперируемся с другими! Кибернетиков много развелось.
ФИЛИПП. Ты знаешь, Ал… Не хотелось бы. Когда истина открыта не нами, она что-то теряет из своей привлекательности.
АЛЕКС (так же быстро). Фил, надо стать выше этого! Если между нами и счётными машинами будет сидеть кодовая группа — это кибернетика на волах! Я представляю дело только так: я подумал — машина поняла! машина подумала — я понял. Всё! Для этого нужны автопрограмматоры.
ФИЛИПП. Ты молодчик. Видишь, как вошёл в курс. А сомневался.
АЛЕКС (очень быстро). Я, Фил, попробовал, и начинаю, кажется, понимать: ни моей и ничьей тут личной заслуги нет. Сейчас во всей науке наступил такой век, как пять столетий назад в географии: любой недотёпистый ка-питанишка на какой-нибудь трёпаной шхуне выходил в море наугад и возвращался если не с новым архипелагом, то с парой новых проливов! Так и теперь — научные мальчики хватаются за проблемы, которых остерёгся бы Резерфорд, и через три месяца у них уже всё получилось. Как будто сила нас какая-то подхватила и… (Увидел, что Филипп погружен в угрюмость.) Слушай, ну как с Никой? Консилиум был?
ФИЛИПП. Был.
АЛЕКС. Что ж молчишь?
ФИЛИПП. Без-пер-спек-тивно. Понимаешь? В ближайшие годы, ты понимаешь — годы! — она с постели не встанет. Вот так будет лежать, как сейчас. и не исключено, что ослабится или парализуется одна сторона. и притом опасности для жизни нет. Она не умрёт. и не будет жить. Вот так, как сейчас.
АЛЕКС (обнимая его за плечи). Но что же можно, друг?.. Что же можно?..
ФИЛИПП. Я понимаю, что разводиться в таком положении считается неэтично…
АЛЕКС. Потом, Фил, медицина же бешено развивается, новые лека…
ФИЛИПП. Нет! Я навёл все справки! Ничего стоящего в разработке нет. (С напряжением.) Как это проклято так заведено! и сколько случаев таких! что человек сам не живет и заедает жизнь другого…
АЛЕКС. Ах, такая молоденькая! Ничего ж не жила!.. Так умоляюще смотрят глазёнки… Верните ей ноги! Дайте побегать!
ФИЛИПП. Жалко, жалко ужасно. Но скажи — нас с тобой никто не пожалел? Десять лет мы отбухали на каторге ни за что, — так не достойны мы сочувствия больше, чем любой другой рядовой человек?
АЛЕКС. Я не уверен. Я боюсь, что тут легко перейти грань: вот мы невинно пострадали, вот мы правы — и вдруг станем неправы. Это как-то моментально поворачивается.
ФИЛИПП. Ну-ну! Поворачивается! Да я за десять лет такую накопил тоску, такую накопил отдачу! и что же теперь? Неужели я не заслужил радости? полной жизни? ребёнка, наконец?
АЛЕКС. Ну, без ребёнка ты можешь и прожить.
ФИЛИПП. Как это без ребёнка?
АЛЕКС. Всё равно дети никогда не вырастают такими, как мы хотим. Рождаются эгоистами, живут для себя. Ищи духовных детей.
ФИЛИПП. Да у меня их целый воз — духовных. Я хочу собственного сына, династического! Неужели ты этого не чувствуешь?
АЛЕКС. Да как-то нет…
ФИЛИПП. Выродок! Педант! Ждать! Мне сорок лет, куда же дальше ждать? А? Слушай, Ал, загробной жизни не бывает! У нас одна жизнь, эта одна! — и надо прожить её во всех красках!
АЛЕКС. Очень трудно, Фил. Жизнь — одна. Но и ещё что-то у нас одно. и тоже второй раз не даётся.
ФИЛИПП. Что ещё?
АЛЕКС. Глупое врождённое чувство. Рудиментарное.
ФИЛИПП. Э-э, братишка, скажи что-нибудь покрепче. Совесть? — слишком не-ма-те-ри-альна, чтоб жить ей в двадцатом веке. Мы не знаем её компонентов. Формулы. Некоторые считают её просто условным рефлексом. Совесть — чувство факультативное.
В среднюю дверь входят Эни и Синбар. У него — бакенбарды, трубка.
Итак, вся пожарная команда в сборе? Тогда — маленький совет. Садитесь, друзья! Давайте думать. Мы задыхаемся от тесноты. Нам не хватает людей. Ещё острей нам не хватает финансов. Откуда всё брать?
СИНБАР. Пришла пора атаковать и уничтожить Тербольма. Доказать, что вся эта социальная кибернетика — абсолютный вздор! и уж во всяком случае забрать его помещение и субсидии.
АЛЕКС. Кстати, я не успеваю всё схватывать. Эта социальная кибернетика — что такое?
ФИЛИПП. Да нелепость! Они хотят найти законы в человеческом обществе! и по этим законам построить алгоритмы и проворачивать прогресс на электронной машине.
АЛЕКС. Стой, это что-то занятно.
СИНБАР. Да дикий бред! Проглотим Тербольма и не поперхнёмся. Но ведь этого всё равно мало!
ФИЛИПП. Мы переросли рамки университетской лаборатории, нам надо становиться отдельным интститутом.
ЭНИ (не сводит глаз с шефа). Да! Мечта!
Алекс, взглянув на часы, порывается уйти.
ФИЛИПП. А с людьми? Кориэл предлагает конструировать автопрограмматоры. Откуда брать людей?
ЭНИ. А вот именно, пока мы ещё в составе университета, — надо его ловко использовать! Во-первых, производственная практика студентов-математиков, физиков. Заставить их работать на нас! Чем они там занимаются?!.. Во-вторых, с курсовыми работами. Разные дохлые стариканы высасывают темы из пальца. Наш фронт работ разбить на темы, утвердить в ректорате — и пусть кафедры эти темы дают!
ФИЛИПП. и так в наше русло будут затягиваться самые способные студенты. Блестяще, Эни! У вас золотая голова и в науке и в жизни!
ЭНИ (очень довольная). Я только отражаю свет. Но отражать — я умею.
АЛЕКС. О’кей, шеф, я пойду, некогда.
ФИЛИПП (вдогонку). Так что ж она не идёт, слушай?
Алекс ушёл направо.
СИНБАР (по-прежнему стоит, эффектно курит трубку). Всё это, шеф, детские игры. Я не хотел говорить при Кориэле, у него это больное место. Но таких субсидий, какие нужны нам, не даст никакая фирма. В нашу эпоху только государство платит деньги не считая. Если нам пристегнуться к военному ведомству или внутренней безопасности, — о нашем бюджете позаботится сенат!
ФИЛИПП. Я понимаю. Я над этим думал. Но если мы пристегнёмся, — ведь мы потеряем свободу поиска.
СИНБАР. Ничего мы не потеряем! Мы пристегнём одно-два направления, полезные для них. А делать будем — что нам надо. Вообще, я хочу предложить вам интересное знакомство, буквально на этой неделе. Один офицер, занимающий важный пост, хочет посмотреть нашу лабораторию.
ФИЛИПП. Да?.. А что, друзья, ведь это выход?
ЭНИ. и ещё какой!
ФИЛИПП. Выход. Выход! Приглашайте его, Синбар. Поговорим. Итак, что ж? Опыты на животных прошли безукоризненно, начинаем на человеке. Если эта особа, которую обещает Кориэл, всё-таки сегодня приедет, — сегодня же снимаем с неё биопотенциалы.
ЭНИ. По двумстам каналам?
ФИЛИПП. Да. Альфа, бета, тэта-ритмы, все острые волны, посторонние частоты. Затем…
СИНБАР. …кладём, даём состояние покоя в темноте, снимаем дельта-ритм. Затем световые вспышки нарастающей частоты… Да! Сказать Кабимбе, что… (Подхватывается, быстро уходит налево.)
Филипп и Эни сидят на прежних местах и внимательно смотрят друг на друга. Пауза.
ЭНИ. Наверно, всё-таки, не следовало мне идти к вам вчера…
ФИЛИПП. В конце концов, вы — моя близкая сотрудница. Почему вы не можете ко мне зайти?
ЭНИ. Это получилось жестоко.
ФИЛИПП. Но постепенно когда-то надо же… приучать её.
ЭНИ. Но как она смотрела на меня!
ФИЛИПП. Вот это как раз то, через что надо… переступить.
ЭНИ. Мне было гадко очень…
ФИЛИПП. Но если есть вина, — пусть она будет на мне. При чём же вы? Ну, не были бы вы, — рано или поздно другая. Надо же смотреть реалистически.
Пауза. Смотрят друг на друга.
ЭНИ. Хорошо. Я постараюсь…
Быстро входит СИНБАР.
ФИЛИПП (встаёт). Итак, обязанности распределены и известны. Вы меня позовёте. (В средней двери останавливается. Рассеянно.) Что-то я ещё хотел… Да… Ну, пока всё… (Медленно уходит.)
ЭНИ. Бедный Радагайс! Самый напряжённый момент, ему нужна ясность, твёрдость, — а у него такая трагедия дома.
Синбар молчит, вглядывается. Он когда и не курит — вертит трубку.
Что ты на меня уставился?
СИНБАР (прочно стоит, расставив ноги). Жду, что ты скажешь ещё.
ЭНИ. Пока всё.
СИНБАР. Мне кажется, ты интересуешься не тем, что нужно.
ЭНИ. Нашим общим делом?
СИНБАР. Семейные дела шефа?
ЭНИ. В той мере, в которой они отражаются на руководстве?
СИНБАР (подходя, мягче). Эни! Мне кажется, уже шепотком о нас начинают шутить.
ЭНИ. От этого женщина всегда страдает больше!
СИНБАР. Хорошо. Я осознал. Это была моя ошибка.
ЭНИ. Сколько я ночей проплакала, ты не знаешь.
СИНБАР. Ну, теперь ты разветвлённо будешь меня попрекать. (Берёт её за локти.) Теперь я говорю: женимся! немедленно женимся! А ты…?
ЭНИ. Но я приучена к логике, Синбар. Ты говорил — надо ждать твоей диссертации. Так подождём, осталось меньше.
СИНБАР. Но ты ещё недавно сама настаивала!
ЭНИ. А ты мне плёл о науке, о стариках-родителях, о твоих маленьких сёстрах…
СИНБАР. Эни, ты росла в благополучии, у тебя был гладенький путь. Не успела ты кончить университет, я ввёл тебя сюда. А я знал нужду, и напуган ею, и не хочу больше. (Пытается обнять.)
ЭНИ (вырываясь). Тут студенты ходят!
СИНБАР. Хорошо, ждём так ждём. Но что изменилось? Целый месяц ты… н-н-н… Я озверею к чертям скоро! Придумываешь разные предлоги… Я могу заподозрить у тебя…
ЭНИ (раздельно). А ты не думал, что я у тебя давно могла заподозрить…?
Напряжённо стоят друг против друга. Ослабляются при открытии двери. Справа входят Альда в плаще, со следами дождя; за ней Алекс.
АЛЕКС. Ну вот, наши сотрудники. (Знакомит.) Альда Крэйг, моя кузина. Анна Баниге, руководитель биологического направления нашей лаборатории.
ЭНИ. Ой, как громко и неуклюже, Кориэл! (Альде.) Просто — Эни. (Рукопожатие.) Зову шефа, он просил сейчас же… (Уходит в среднюю дверь.)
АЛЕКС. Синбар Атоульф, врач.
СИНБАР (знакомясь, холодно). Вы никак не приходитесь профессору Крэйгу?
АЛЬДА (робко). Я… его дочь…
СИНБАР. Позвольте, у него сын, дочери у него нет.
АЛЕКС. Она перед вами, Синбар.
СИНБАР. Нет, тут какая-то ошибка. Я точно знаю, у него только сын.
АЛЬДА (с живостью). Папа не виноват, это я виновата! Я жила сама по себе…
Алекс делает знак Синбару. Тот уходит вслед за Эни.
Ах, из-за меня будут плохо думать о папе! и ты! Даже ты вчера так папу оскорбил! Но я вас помирю непременно.
АЛЕКС. Ну, помиришь, конечно. (Помогает ей снять плащ, вешает.)
АЛЬДА. Какая Эни миленькая. Ты за ней ухаживаешь?
АЛЕКС. Мне, Альда, сейчас не до миленьких. Я знаешь как закрутился? Сплю пять часов в сутки.
АЛЬДА. Смотри-смотри, упустишь. (Оглядывается.) Ой, что это мне как-то не по себе? (Ещё оглядывается.) Аль, мне страшно стало почему-то. (Держится за него.) Может, отменим, уйдём, зачем это всё?
АЛЕКС (улыбаясь). и я — Аль, и ты — Аль, и чего же ты боишься?
АЛЬДА. Даже тебя боюсь. Ты здесь переменился. Скажи, это будет больно?
АЛЕКС. Ничуть.
АЛЬДА. Но ты же сам не испытал?
АЛЕКС. Снятие биотоков? Да со всех сотрудников снимают, записывают.
АЛЬДА. Ах, ну всё равно, Аль! Это что-то нечеловеческое. Зачем это? Уйдём!
АЛЕКС (усаживает, успокаивает). Альдонька! Но ведь мы же договорились. Обсудили. Это будет лучше для тебя. Тебе нельзя иначе.
Входят Эни, Филипп, Синбар.
Филипп Радагайс, начальник лаборатории.
Альда поднимается.
ФИЛИПП. Мы рады видеть вас здесь. Хотя вы и… заставили нас ждать.
АЛЬДА (поспешно). Это можно объяснить! Это так получилось!..
ФИЛИПП (великодушно). Ничего не надо объяснять. Но… (смотрит на часы.)
Эни и Синбар надели белые халаты
…и откладывать не будем. (Надевает белый халат.)
АЛЬДА (покорно). Надо идти?
Синбар показывает ей на левую дверь. Опустив голову, Альда уже направляется туда, но останавливается внезапно.
Но позвольте, господа, я же всё-таки не кролик. Объясните, что вы будете со мной делать?
Синбар уже открыл дверь, оттуда вышел Кабимба. Он в белом халате, рукава засучены. По знаку Филиппа он закрывает дверь, оставшись с этой стороны.
ФИЛИПП. Это ваше право. Садитесь.
Альда садится. Все стоят: Алекс — позади её кресла, остальные — в белых халатах, настороженные, пристальные — против неё.
Ну-с, прежде всего — что такое биотоки? Биоток — это очень маленький электрический ток, непрерывно идущий в каждой нашей нервной клеточке. Всё, что мы ощущаем, думаем, переживаем или делаем, — всё это в конце концов так или иначе отражается на биотоках или определяется биотоками. Биотоки даже прочитывать мы научились совсем недавно, по сути…
ЭНИ. Год назад.
ФИЛИПП. Что же касается обратного нашего влияния на биотоки — вот это и есть наша задача теперь. Сперва, конечно, мы основательно изучим ваши биотоки, посмотрим энцефалограммы, обработаем при помощи электронных машин…
АЛЕКС (почти на ухо Альде). Это всё — не сегодня, это — много дней.
ЭНИ. Даже недель.
ФИЛИПП. и в конце концов мы вас подвер… мы применим к вам так называемую кибернетическую нейростабилизацию… Стабилизацию! — значит, мы обезпечим вам самое оптимальное…
АЛЕКС (на ухо). …самое наилучшее…
ФИЛИПП. …внутреннее душевное состояние и сделаем его стабильным, как будто вы родились с ним, как будто это не дар науки, а дар природы. После этого никакие потрясения, никакие удары судьбы не будут вам страшны. Вы не будете никогда испытывать ужаса, гнева…
АЛЬДА (вскакивает, вскрикивает). Что вы все на меня так смотрите?! Неужели я душевнобольная?..
Стонет, едва не падает. Алекс успевает подхватить, вместе с Синбаром сажают её в кресло. Эни подносит воды.
АЛЕКС. Альда, милая, успокойся, что ты вообразила?.. Выпей воды. Альда, что ты придумала? Неужели я хочу тебе хуже?
Альда выпила воды, откинулась, безжизненна, бледна.
ФИЛИПП. Сударыня, это совершенно добровольно, мы ни к чему не понуждаем вас, и вы можете уйти. Ну, наконец, если хотите, мы сегодня при вас сделаем запись биотоков с кого-нибудь другого, и вы убедитесь…
АЛЬДА (после глубокого вздоха, слабо). А вы не обманываете меня? Вы меня там не запрёте? не оставите?
АЛЕКС. Альда!!..
АЛЬДА (грустно). Что ж — «Альда»? Меня обмануть легко… (Обводит всех глазами.) Но нет, я верю вам. Это мне так померещилось. Что я должна делать? (Встаёт.)
ЭНИ (ведёт её под руку налево). Пойдёмте, милая, мы немножко с вами переоденемся.
Идут. Альда из дверей оборачивается и улыбается Алексу, как бы прощая его.
АЛЕКС (тихо). Её волнение — не испортит записи?
ЭНИ (услышав, из двери). Как раз наоборот: будет чёткая запись! (Уходит.)
За ними уходит Кабимба.
СИНБАР. Это очень хорошо, что она так взволнована! (Уходит туда же, прикрывая дверь.)
ФИЛИПП (кивает). Это позволит оптимально выявить характерные для неё частоты! Да, хороша твоя кузина, Ал. Вот из кого вылепить, что нам надо!
АЛЕКС (удерживая его). Она — свечечка, Филипп! Она — трепетная свечечка на ужасном нашем ветру! Может, зря я её привёл?.. Не задуйте её! Не повредите!
ФИЛИПП. Мы дадим ей настоящее, гранитное душевное здоровье. Мы превратим её нервную систему в неотклоняемый вектор! (Не пуская его за собой.) Ты — не ходи, ты будешь на неё воздействовать. Не ходи, останься! (Уходит налево, закрывает дверь.)
Алекс в колебании, в раскаянии — то к одной двери, то к другой. Входит девушка из кодовой группы.
ДЕВУШКА. Господин Кориэл! Код нанесен. Перфолента готова.
АЛЕКС. Да? Иду… (Смотрит туда и сюда.) Иду. Иду. (Медленно уходит направо вслед за девушкой.)
Близ левой двери вспыхивает светящееся, не замеченное нами прежде табло:
ИДЁТ ЗАПИСЬ. НЕ ВХОДИТЬ!!
КАРТИНА 4
В доме у Радагайса. Попеременно: большая гостиная, где рояль, радиола, телефон; малая гостиная с телевизором; в конце картины ещё и прихожая. Из обеих гостиных в глубине видна столовая, где уже расстроен обильный праздничный стол.
Часть гостей в большой гостиной слушают Альду, гладенько играющую на рояле пьесу Шуберта. Другие гости — в столовой, всего их человек около двадцати пяти, университетская публика, среди них — энергичный средних лет Генерал.
В малой гостиной сидит ТЕРБОЛЬМ; стоит, слушая игру Альды, Алекс.
Фортепьянная пьеса тут же и кончается. Аплодисменты. Многие переходят в столовую.
АЛЕКС (очень расстроен; садится возле Тербольма). Разве это Шуберт?
В столовой — импровизированный тост, кто сидит, кто стоит.
ГОЛОС ФИЛИППА (из столовой). Дорогие друзья! Много лестных тостов было сегодня произнесено в честь создания института биокибернетики, в честь его жарких научных боёв, в честь получения профессорского звания вашим покорным слугой. Но мы обошли одну из главных виновниц торжества — госпожу Альду Крэйг, чьей пре-лест-ной игре мы все только что аплодировали и чьё многомесячное любезное сотрудничество с нашей лабораторией помогло нам блестяще доказать эффективность нашей методики, нашу способность преобразовывать характер человека!
Аплодисменты.
Однако, перед тем как поднять тост, мне хочется поднять вот этого крепыша, (двумя руками высоко поднимает мальчика)
Тот хочет спать; смех.
сына госпожи Альды, которого мы вернули счастливой матери.
ГОЛОС. Радагайс! Вы так гордитесь им, будто целиком изготовили его в лаборатории биокибернетики.
Смех.
ФИЛИПП. Зубоскальте-зубоскальте! А мы видим в нём символ нашей удачи!
Аплодисменты.
(Опускает мальчика.) Итак, за госпожу Крэйг и её сына!
Гул одобрения. Пьют.
АЛЕКС. Я не понял, Тербольм, — хозяйку этого дома вы откуда же знаете? Ведь здесь, у Радагайса, вы не бывали раньше?
ТЕРБОЛЬМ. А — в больнице, в Гран-Эрроле. Я там — свой человек: я лежал там многие годы. Теперь показываюсь врачам иногда. и вот меня подвели к её постели, чтоб на моём примере приободрить.
АЛЕКС. Удобно ли спросить, что было с вами?
ТЕРБОЛЬМ. У меня в юности были очень больные слабые ноги. Они и сейчас некрепкие. Когда я волнуюсь — мне трудно стоять. Я пролежал семь лет. Я не был уверен, что встану.
АЛЕКС. Семь лет вы пролежали, отроду вам тридцать четыре, когда ж вы так много успели?
ТЕРБОЛЬМ. По аналогии со своим печальным опытом вы можете догадаться: именно потому и успел, что лежал. Недостаток внешнего движения взывает к движению внутреннему.
АЛЕКС. Но всё-таки как вы могли додуматься посягнуть — на человеческое общество?!
ТЕРБОЛЬМ. А социология «вообще», то есть болтовня, — это не худшее посягательство? Когда мы берёмся вмешиваться в будущее, не умея предсказывать его ни точно во времени, ни точно в пространстве, ни — точно по форме и величине?
Проходят Генерал и Синбар.
ГЕНЕРАЛ. Слушайте, доктор, с кибернетикой мы уже немного обожглись. Обожглись! Даже у такой полезнейшей кибернетики, как военная, оказалось коварное свойство… э-э… перешагивать.
СИНБАР. Перешагивать?
ГЕНЕРАЛ. Да! Через задачи, поставленные командованием.
СИНБАР. Инициатива! Вы должны радоваться.
ГЕНЕРАЛ. Чему тут можно радоваться? Первая машина была сделана против Воздуха. Она получала от локаторов сигналы о подходящих самолётных группах, ракетах, всё это моментально обрабатывала, молодчина, и сама же включала ракетодромы, аэродромы, зенитные батареи — оч-чень хорошо!
СИНБАР. Очень хорошо.
ГЕНЕРАЛ. Но не очень. Уже тогда появилось сомнение: э-э-э… а-а… авиационному командованию что же делать? Ладно. Тут нам сделали вторую модель — «Воздух и Вода». Теперь в неё входили сигналы ещё от подводных лодок, от кораблей, от торпед, всё это обрабатывалось, выскакивало, и сама машина совершенно немедленно давала лучшее решение: какому нашему кораблю куда стрелять, какие контрторпеды… какие минные заграждения… и все наши адмиралы… э-э-э… вы понимаете?
СИНБАР. Начинаю улавливать.
ГЕНЕРАЛ. Так тут наши электронные умники стали делать нам такую Главную Штабную Машину! и поменьше — Корпусную! и поменьше — Дивизионную! В которые теперь должны закладываться и все данные с земли — движение моторизованных частей, сапёрные работы, переправы, расположение артиллерии… и Машина всё это с какой-то чёртовой скоростью проворачивает и даёт безупречно лучший вариант боя!! А? А?
СИНБАР. Так победа будет наверняка за вами?! Блестяще!
ГЕНЕРАЛ. Да на кой чёрт нам такая победа! Кто обслуживает машину? Университетские мальчишки! А люди, умудрённые опытом мировой войны, локально-колониально-освободительных войн, люди, покрытые орденами, пол-ко-водцы!!? Какой труд в человеческом обществе ценится выше, чем пол-ко-водческий? Какие гении оставили в истории более яркий след? Александр Македонский, Чингисхан, Наполеон, я не буду перечислять. Так что нам с такой кибернетикой? Разогнать?!
СИНБАР. Господин генерал! Но уверяю вас, что биологическую кибернетику…
ГЕНЕРАЛ. …не придётся ли тоже когда-нибудь разогнать?
СИНБАР. Может быть и разогнать, но совсем в другом смысле: придать ей побольше скорости!
Генерал хохочет. Показывается шуточная процессия: 1-й и 2-й дипломники, обмотав головы полотенцами, как чалмами, выбивают ритм — в самодельный бубен и ложкой по кувшину. Девушка из кодовой группы идёт с печальными плясовыми движениями. Сзади — Кабимба, меланхолически улыбаясь. Все мужчины уже изрядно выпили.
СИНБАР (преграждая дорогу). Что это?
1-Й ДИПЛОМНИК. Торжество омрачено, сэр! В этот весёлый вечер мы провожаем Кабимбу и хороним его диссертацию.
КАБИМБА (машет). Забирайте что хотите…
СИНБАР. Но вы ещё к ней вернётесь?
КАБИМБА. Всё стареет, пока вернусь.
2-Й ДИПЛОМНИК. Кабимба! Ещё не поздно одуматься!
1-Й ДИПЛОМНИК. Кабимба! Не платите за билет! Вот этот капитан (показывает на Синбара) может вас подкинуть в Африку безплатно!
ДЕВУШКА ИЗ КОДОВОЙ ГРУППЫ. Капитан! Не разрежьте нас лопастями! (Расталкивает дипломников.) Железный капитан! Мы пропускаем вас!
Синбар и Генерал проходят между ними. Молодежь возобновляет процессию.
СИНБАР (указывает Генералу на Тербольма). А вон тот белокуренький — вы знаете кто? Вот кого надо, генерал, душить в колыбели. Он… (Рассказывает беззвучно.)
ТЕРБОЛЬМ. Теперь в мои две голые комнаты ломятся корреспонденты, нюхают, ищут — где ж эта машина, которая должна изображать собой государственное устройство? Задают мне вопросы вроде таких: не может ли моя машина остановить революцию? не может ли моя машина заменить правительство? не может ли она обезпечить всеобщее разоружение? А машины нет. Как? Ещё нет? Уходят разочарованные.
АЛЕКС. Я боюсь, вам не следовало так рано печатать статью. Открывать себя.
ТЕРБОЛЬМ. Что делать? Нельзя ж идеям лежать? Не хватит сил у нас — пусть сделают другие. Денег нам не дают. Сотрудники к нам не идут. Вот вы ж не пойдёте?
АЛЕКС. Не пойду. Но не потому, что у вас нет денег, а потому, что боюсь — как это вы начнёте кромсать бедное человечество…
ТЕРБОЛЬМ. Кориэл! Простительно кому-нибудь другому сказать, но не вам. Почему мы должны отказывать коллективу людей — обществу, в тех принципах информации, координации и обратной связи, которыми в отдельности пользуется каждый человеческий организм, каждый коллектив клеток?
Синбара нет.
ГЕНЕРАЛ (подходя). А слово «коллектив» вы не могли бы заменить каким-нибудь другим? «Коллектив» как-то отдаёт социализмом.
ТЕРБОЛЬМ (пытается привстать, но садится). Ничего не могу. Это удачное слово. Обществу надо уметь переживать свои разрушительные явления: засуху, эпидемию, землетрясение, экономический застой, финансовый крах, войну, революцию. Изо всего этого надо выходить восстановленным и способным к дальнейшему развитию. и для всего этого обществу необходимы только: безупречная информация, координация и обратная связь.
ГЕНЕРАЛ. Но при чём тут электронная машина?
ТЕРБОЛЬМ. Машина будет моделью общества. Любую реформу, предлагаемую для общества, не надо долго обсуждать, не надо гадать, голосовать — укрепит она общество? или ослабит? или разрушит? Реформу эту мы кодируем, впускаем в машину, и через несколько минут — ответ!!
АЛЕКС. Вообще — здорово!
ГЕНЕРАЛ. Ничего не понимаю! Проверять реформу на какой-то безответственной электронной машине, если о ней достаточно авторитетно всегда может судить парламент? министр! и, наконец, совет министров!
ТЕРБОЛЬМ. Видите ли, беда в том, что люди могут находиться во власти случайных настроений. Оскорблённых самолюбий. Групповых пристрастий и антагонизмов. Тщеславия. Поспешности.
АЛЕКС. Да сказать просто — они могут быть корыстны! Уж человеческими ли обществами не управляли при помощи злой воли?!
ГЕНЕРАЛ (не первый раз всматриваясь в Алекса). То есть, какими обществами и когда?
АЛЕКС. Ну, я говорю — раньше, раньше.
ГЕНЕРАЛ. Ах раньше? Это верно. (Тербольму.) Но чем вас не устраивает современное демократическое государство?
ТЕРБОЛЬМ. В нём нет надёжности. Очень капризное соединение элементов. Почему-то нигде в природе мы ничего подобного не находим. Эту форму придумали люди, и отнюдь не удачно.
ГЕНЕРАЛ. А мы, господа, все за демократию, — но в разумных пределах. Без сильной руки демократия невозможна. А если этот ваш… коллектив автоматов… сойдёт с ума и погубит нацию?
ТЕРБОЛЬМ. Опасность есть всегда, во всякой конструкции. Мост может рухнуть, самолёт — развалиться. Обязанность создателей — неблагоприятные возможности пресечь.
АЛЕКС. Но зато злоупотреблений — можно скорей ожидать от людей. Эта электронная машина, во всяком случае, не будет стремиться нажить капиталы, пристроить родственников! потребить общественной энергии больше, чем ей отведено по схеме. и она не потребует завоеваний.
ГЕНЕРАЛ. Я всё время смотрю на вас и не могу вспомнить — откуда я знаю ваше лицо?
АЛЕКС. Я тоже не сразу вспомнил. Вы раньше не служили в Управлении Мыслей и Чувств?
ГЕНЕРАЛ. Допустим.
АЛЕКС. А не приходилось вам инспектировать Пустынной Каледонии?
ГЕНЕРАЛ. Да.
АЛЕКС. Так я приходил к вам однажды. С протестом от имени каторжан.
ГЕНЕРАЛ. Ка-тор-жан?!
АЛЕКС. По поводу плохого питания и плохого обращения. Впрочем, протест мой успеха не имел.
ГЕНЕРАЛ. и вы не стесняетесь открыто вспоминать, что вы там были?
АЛЕКС. Если не стесняетесь вы! Я-то оправдан.
ГЕНЕРАЛ. Ну знаете, «оправдан» — этим не следует козырять. Это не следует понимать так, что вы вовсе не виноваты.
АЛЕКС. А я понимаю так.
ГЕНЕРАЛ. Напрасно. (Тербольму.) Молодой человек. То, что вы изложили, — это какое-то маниакальное безумие. Вы хотите, чтоб обществом управляли машины?
ТЕРБОЛЬМ. Да нет же! Машины будут только моделировать реформы и проверять их. А управлять машинами…
ГЕНЕРАЛ. Инженеры? Учёные?.. Не пойдёт. Не подойдёт. Слушайте! Чтобы управлять обществом — к этому нужно готовиться с детства. Не во всякой семье родившись, вы можете управлять. Это — уменье немногих, и ни на что не похожее. Я вам очень советую, молодой человек, изберите какое-нибудь более… прогрессивное направление. Займитесь Космосом. Промышленностью. Спортом, наконец. и вы будете благоуспевать. А на такую машину вы не получите нигде ни шиша. и может быть, в интересах демократии придётся вас немножко… подзавернуть. (Уходит.)
ТЕРБОЛЬМ. Вот так. и никто ко мне не идёт. и вы тоже не идёте.
АЛЕКС. Страшно, Тербольм. Вот мы здесь взяли одно человеческое создание — и что наделали? А вы хотите — миллионы людей сразу!
ТЕРБОЛЬМ. Но никакой же «обработки» миллионов! Никакого натиска на душу людей! Мы только хотим помочь людям предвидеть их социальное будущее. Не вести человечество ложными путями.
Видно, как из столовой сюда Филипп катит столик-тележку с вином и тарелками.
Мы только разрабатываем правила перехода к идеально регулируемому обществу.
АЛЕКС (горячо). Хо-го! «Идеально регулируемое» — это ещё не значит идеальное! Для отдельного человечка! Нет, так просто вы меня…
ФИЛИПП (громко, с широкими жестами). Друзья мои! Это уже нечестно! Надо уметь отдыхать! Отдыхать! Otium post negotium![1] и — как ещё там?
ТЕРБОЛЬМ. Otium reficit vires[2].
ФИЛИПП (почти кричит). Сегодня мы отдыхаем! А у вас деловой разговор? Запрещено! (Садится на подлокотник в свободной позе.) Слушайте, Тербольм, неужели вы до сих пор на меня сердитесь? Да никогда мне не мешало ваше научное направление! Да мне не жалко, крутите его хоть до небес. Но жизнь есть борьба!! В тот момент мы столкнулись на узкой тропинке. Теперь же конфликт ликвидирован. Выпьем за дружбу! (Наливает всем троим.)
АЛЕКС. Но эти месяцы Тербольму пришлось…
ФИЛИПП (смеётся). Вот, между прочим, если бы не он (кивает на Алекса), мы б вас добили, это верно. (Кричит.) Но теперь конфликт улажен! Мы выделяемся из университета, вам вернут ваш бюджетик, получите назад ваши комнаты, можете прихватить часть наших. Никаких последствий!
АЛЕКС. Последствия — моральные.
ФИЛИПП. Ал! То, что не материально, — то не су-ще-ству-ет! Выпьем!
ТЕРБОЛЬМ. Социальная кибернетика почему-то всех бешено задевает. Именно в общественной жизни все себя считают знатоками. У меня и без вас было много врагов…
ФИЛИПП. Да никогда я не был ваш враг! и что вам враги? У вас ещё больше идей! Вы напечатали такую статью — вы прогремели на весь мир! Вот если сейчас не выпьем — буду ваш враг. Вы — социолог, я — биолог, я готовлю вам почву. За почву будете пить?
К ним подошла Эни.
В частности, вы обижаете мисс Эни.
ТЕРБОЛЬМ (взялся за бокал). Нет, я никак не хочу обидеть мисс Эни.
Алекс тем временем пьёт.
ЭНИ. А у меня не было большего праздника в жизни, чем сегодня.
ФИЛИПП. Это раз. А во-вторых, мисс Эни была столь любезна, что взяла на себя роль хозяйки дома.
ЭНИ. Разумеется, только сегодня.
ФИЛИПП. и поэтому вы обижаете её вдвойне.
ТЕРБОЛЬМ (привстаёт, чтоб усадить Эни). Но тогда и вы с нами…
ЭНИ. Нет-нет! Я должна быть всё время в движении, и у меня должна быть сегодня особенно ясная голова.
ФИЛИПП. Ну, чуть-чуть можно. (Наливает ей.)
Алекс тянется налить себе снова.
Спеши навёрстывать, Ал! Правильно!
АЛЕКС. Куда спешить нам, Фил? Оказывается, мы нигде ничего не упустили. Разве только — осматривать средневековую готику.
ФИЛИПП. Ста-рьё!! Сломаем — и будем строить из пластмассы и стекла. Итак, за единение, за продвижение, за…
АЛЕКС. Но, по возможности, без генералов.
ФИЛИПП. А чем тебе не нравится генерал? Радушнейший человек! и расположен к нам! Ну, выпили-выпили-выпили!
Пьют вчетвером.
И помирились. Конфликт исчерпан! (Хлопает Алекса по плечу.) Отдыхать, отдыхать, Ал!
Филипп уходит в большую гостиную. Эни идёт в столовую. Ей преграждает путь Синбар, раскуривающий трубку. Сперва он стоит, не пропуская её, потом подчёркнуто уступает дорогу. Эни проходит. Синбар, покуривая, медленно передвигается по малой гостиной, рассматривает картины на стене. Тихо доносится музыка из большой гостиной.
ТЕРБОЛЬМ. и вот она сейчас там лежит, глаза в потолок, под лампочки, ей даже повернуться больно. А мы тут все знаем о ней и улыбаемся друг другу, как будто не знаем. Так устроен мир: радоваться достаётся нам вместе, а страдать, болеть, умирать — в одиночку. (Долгая пауза.) Кориэл! Серьёзно. Переходите к нам.
АЛЕКС. Говоря откровенно, Тербольм, я не только к социальной кибернетике, я ко всякой науке вообще отношусь с подозрением. Она доказала, что неплохо умеет служить тирании.
ТЕРБОЛЬМ. Тираны рождаются не наукой. В ненаучную эпоху и в ненаучных странах их было ещё больше.
АЛЕКС. Но и наука успела им неплохо послужить!
ТЕРБОЛЬМ. Её захватили безсовестные руки! Вот и надо создать идеально регулируемое общество, где науку не используют уже во зло.
Синбар включает телевизор. Оба оборачиваются. Алекс отмахивается.
АЛЕКС. Синбар! Пощадите! Не надо сумасшедшего дома!
Синбар выключает. Прислушивается к их разговору.
ТЕРБОЛЬМ. А вы? Вы относитесь к науке с подозрением, но всё-таки занимаетесь ею.
АЛЕКС. Да может быть и брошу, не знаю. Для меня главный вопрос в жизни был всегда: зачем? Ведь в каждом частном мелком поступке… Выходя из дому, я всегда знаю, куда и зачем. и покупая какую-нибудь вещь, я всегда знаю — зачем. А в крупном почему-то считается — можно не знать, не думать… Вот я работаю у Радагайса уже полгода и всех спрашиваю: зачем это мы всё делаем? Никто не может мне ответить. Зачем вообще наука?? Мне отвечают: она интересна; этот процесс не остановить; она связана с производительными силами. Но всё-таки — зачем? Нам всюду подсовывают какие-то странные цели: трудиться надо — для труда, жить надо — для общества.
СИНБАР. Прекрасная цель. Почему она вам не нравится?
АЛЕКС. Прекрасная, но не цель.
СИНБАР. Почему?
АЛЕКС. Так ведь, если я живу для вас, а вы живёте для меня, — это замкнутый круг. Ответа «зачем мы живём?» — всё равно нет.
ТЕРБОЛЬМ. А «зачем мы живём?» — это неточная постановка вопроса. Мы же не родились актом собственной воли с заранее заданным намерением. Зачем можно было бы спросить либо у Бога…
СИНБАР. Ну, боженьку сюда давайте не путать!
ТЕРБОЛЬМ. Религия смешна, это общепринято. Тогда — у наших родителей.
АЛЕКС. Но мы тоже родители. Значит — зачем даём жизнь?
ТЕРБОЛЬМ. Вот так можно. и ещё так можно: поскольку ты уже родился и вырос существом сознательным, то какую ты лично ставишь перед собою ЦЕЛЬ? Или — никакой и живёшь по необходимости горькой.
АЛЕКС. А, Синбар? Ваша цель? и цель ваших будущих детей?
СИНБАР. Счастье конечно, что за наивный вопрос!
АЛЕКС. Pardon, но что такое счастье?
Большая гостиная. Пожилые — за картами, малыша нет. Под крикливую песенку с радиолы несколько пар танцуют современное, в их числе Филипп с Альдой, Генерал с Эни. Вскоре танец кончается. Генерал подходит к Филиппу и Альде. Эни проходит по гостиной, следя, чтобы всем было весело.
ГЕНЕРАЛ. Я благодарю вас, профессор, за прекрасно проведенный вечер. Мне скоро пора уходить. На прощанье вы разрешите задать несколько вопросов вашей подопечной?
ФИЛИПП. Разумеется, генерал, разумеется!
ГЕНЕРАЛ (Альде). Я вас не утомлю? Не обезкуражу?
АЛЬДА (всё, что она говорит сегодня, — размеренно, равнодушно, отчасти устало). Пожалуйста.
ГЕНЕРАЛ. Скажите, свойственно ли вам было прежде чувство страха? Страха?
АЛЬДА. Очень.
ГЕНЕРАЛ. Вы — боялись, да? и чего вы боялись?
АЛЬДА. Мне сейчас даже не верится. Всего боялась. По утрам — что надо идти на шумные улицы. По вечерам — одиночества, темноты.
ГЕНЕРАЛ (с надеждой). А теперь?
АЛЬДА. Ничего не боюсь.
ГЕНЕРАЛ (всплескивая). Великолепно! Замечательно!.. Ну, а например — страх за сына?
АЛЬДА. А почему я могу бояться за сына?
ГЕНЕРАЛ. Кстати, у вас его отнимали, да? По суду?
АЛЬДА. Нет, свекровь только угрожала судом — и я сдалась. Я издёрганная была. А теперь вот мистер Радагайс выхлопотал мне медицинские справки. и я решительно забрала.
ГЕНЕРАЛ (просияв). Решительно? Вот это интересно тоже. Вам раньше свойственны были… колебания?
АЛЬДА (смеётся деревянно). Никогда я не знала, как сегодня одеться. Как построить день. Что приготовить поесть. Если бы вы дали мне на выбор две одинаковых конфеты — я б не выбрала.
ГЕНЕРАЛ. Эт-то замечательно! Эт-то удивительно! Ну, благодарю вас, благодарю! Вы не представляете, как вы меня радуете! (Отдельно Филиппу.) Скажите, ну а в масштабе… э-э-э… сотен человек? Тысяч?.. Я не говорю пока… э-э-э… миллионов? Такую операцию можно произвести?
ФИЛИПП. Средства! Только средства, господин генерал.
ГЕНЕРАЛ. Так я гарантирую вам! Можете считать, что в текущем году ваш институт уже на нашем бюджете.
Целует руку Альде. Подошла Эни. Филипп направляется провожать.
Нет-нет, уж доставьте удовольствие, пусть меня проводит ваша обаятельная хозяйка. (Прощается. Уходит с Эни.)
ФИЛИПП. А куда делся ваш бутуз?
АЛЬДА. Да где-то Эни его положила спать. Кажется, в комнате Ники.
ФИЛИПП. Очень вы были внимательны к Ники, скрасили ей немало вечеров. Спасибо. Понимаете, трудно было решиться на этот шаг, но… Болезнь так затянулась… Дома невозможно было обезпечить правильный уход, полное лечение.
АЛЬДА. Это понятно.
ФИЛИПП. и по-моему, ей там будет даже лучше. Там будут разные процедуры…
Альда кивает.
У неё появится надежда на выздоровление.
АЛЬДА. Но надежды нет?
ФИЛИПП. Нет. и куда же, Альда, теперь вы?
АЛЬДА. В мою обычную жизнь.
ФИЛИПП. Если собирать телевизоры — не допущу! Вот развернётся мой институт — я устрою вас у себя. Это будет и оплачиваться лучше, и…
Звонит телефон. Возвратившаяся Эни берет трубку.
ЭНИ. Квартира профессора Радагайса… Да, празднуем, но кто говорит? (Холодно.) А, здравствуйте… Эни, да… Разумеется, в полном составе… Я передам ваши поздравления… Она здесь. Я позову её сейчас. (Громко.) Альда!
Но кто-то на мгновение ещё громче включил радиолу, и Альда не слышит.
(В трубку.) Почему не надо? Я сейчас позову… Хэллоу! Хэллоу! (Недоумение. Кладёт трубку. Идёт к Филиппу и Альде.) Я прошу извинить меня, но звонила Тилия Крэйг. Она передала новому профессору и новому институту свои… самые пылкие, как она выразилась, поздравления.
Филипп молчит.
Затем она попросила к телефону вас, Альда, но тут же бросила трубку. Может быть, вы позвоните ей сами?
Альда, пожав плечами, встаёт, медленно идёт к телефону. Сев около него, звонит. Но никто не подходит.
ЭНИ. Фли! Я скоро буду тебя ревновать. и к Альде. и к Тилии.
ФИЛИПП (улыбается). Сядь.
Эни садится.
Ты сегодня держишься отлично, с прекрасным тактом. Ты просто освещаешь всё вокруг.
ЭНИ. Но не думай, что это мне легко, Фли. Во всех глазах мне чудится осуждение или насмешка. Двусмысленное положение…
ФИЛИПП. Так вот чтоб оно не было больше двусмысленным — сегодня ты будешь хозяйкой до конца. Хватит скрываться! Дверь за последним гостем мы закроем с тобой вместе.
ЭНИ (живо). Нет ещё!
ФИЛИПП. Да!! До каких пор мы, живые, должны сторониться перед тенью? Это же не логично! Довольно, что мы в дом не могли войти, не испытывая этого давления упрёка. Да теперь она сама со временем всё поймёт и примирится.
ЭНИ. С чем же ей примириться, Фли? С тем, что мы ждём её смерти?
ФИЛИПП. А мы вовсе не ждём. Пусть живёт. Но будем жить и мы!
Снова малая гостиная. Тербольм, Алекс и Синбар — в оживлённом споре. Трубка Синбара участвует в его аргументах.
ТЕРБОЛЬМ. Так примем, что: счастье — это душевная полнота? У кого есть ощущение наполненности его жизни — вот тот и счастлив?
АЛЕКС. Что-то близкое, но ещё не то. Ощущение наполненности жизни может возникнуть и от добрых, и от злых причин. Наполнена жизнь учёного. Одинокой старушки, лечащей больных кошек. Но и мерзавца, который богатеет за счёт других. Но и гусеницы, поедающей плодоносное дерево. Если всё это — счастье, так поставить ли его целью? Не следует ли такие счастья различать?
СИНБАР. Но кто будет различать? Вы? Или я? Почему мерилом правильного счастья будет ваша точка зрения, а не моя? а не его?
АЛЕКС. Не моя и не ваша! — внутренний нравственный закон! Быть счастливым — но не в противоречии с ним!
СИНБАР. Ка-кой ещё внутренний нравственный закон? Врождённый, что ли? (Хохочет.) Изучайте медицину! В нашем организме просто нет органа, в котором бы помещался внутренний нравственный закон!
АЛЕКС. Я знаю вашу теорию: всего человека с Рафаэлем и Моцартом объяснить гормонами.
СИНБАР. Да! Изучайте гормональную жизнь! А то — абсолютная мораль, бабушкины сказки! Всякая истина конкретна! и всякая мораль относительна!
АЛЕКС. Проклятая зацепка с относительностью морали! Вы любое злодейство оправдаете относительностью морали! Изнасиловать девушку — всегда плохо, во всяком обществе! и — избить ребёнка! и выгнать из дому мать! и распространить клевету! и нарушить обещание! и использовать во вред доверчивость!
СИНБАР. Ерунда! Га-ли-ма-тья!
АЛЕКС. Как? Это всё может быть и хорошо?
СИНБАР. А — убить собственных родителей, если они постарели, это плохо или хорошо? Вон, спросите Кабимбу. Есть такие племена, где это хорошо, даже гуманно.
ТЕРБОЛЬМ. Так может быть, закон есть, но проясняется нам тысячелетиями? и ещё дополнительно программируется каждым обществом?
СИНБАР. Не барахтайтесь! Никакой абсолютной морали! и никакого внутреннего нравственного закона! А если б он и был, то не было бы такой силы, которая заставила бы нас с ним считаться!
Появляется Альда. Её не замечают.
АЛЕКС. Такая сила есть!
СИНБАР. Назовите!
АЛЕКС. Смерть!! Постоянная загадка смерти! Постоянная преграда перед нами — смерть! Вы можете изучать кибернетику или голубые галактики, и всё равно никак вам не перескочить через смерть!
СИНБАР. Будет время — перескочим и через неё!
АЛЕКС. Никогда! Смертно всё во Вселенной — даже звёзды! и мы вынуждены философию свою строить так, чтоб она была годна и к смерти! Чтоб мы были готовы к ней!
СИНБАР. Надоели эти кладбищенские нравоучения! Ими хотят задавить живую клокочущую жизнь! Сколько времени занимает та несчастная смерть — голый момент отрицания, небольшой дополнительный фактор, — по сравнению с нашей длительной разнообразной многокрасочной жизнью?
АЛЕКС. Мала по времени — не мала по значению! Не прячьтесь — найдёт!
ТЕРБОЛЬМ. Мы так говорим о смерти, будто умирать будет кто-то другой, а не мы.
СИНБАР. Мы так говорим о смерти, будто мы умираем каждый день! Земной шар — велик! Людей — три миллиарда. Почти невероятно, чтобы во всякий данный момент в эту дверь (показывает на правую) вот, я безстрашно оборачиваюсь к ней, — чтоб в эту дверь вошла чья-нибудь смерть!
Все обернулись на дверь, мгновение ждут. Но никто не входит. Синбар издаёт смешок. Воспользовавшись паузой, Альда, подошедшая сзади к Алексу, трогает его за руку. Тот оборачивается.
Больше того! Вот я иду и заглядываю в прихожую. (Заглядывает.) Нет никого и там!
АЛЬДА. А ты всё споришь! и охота тебе? Мрачность какая-то.
АЛЕКС (усаживает её рядом; в споре он был радостно-возбуждён, сейчас затемнился). А что я… ты бы хотела?
АЛЬДА. Ну, потанцевать, что ли.
АЛЕКС. Что за занятие — танцевать?
СИНБАР (из двери, Тербольму). Ну, я, пожалуй, пойду, покурю около форточки. (Уходит направо.)
Тербольм тоже поднимается, уходит в большую гостиную.
АЛЬДА. Отчего ты не подошёл ко мне за целый вечер? Мог бы сказать, как я играла.
АЛЕКС. Очень прилично. Очень технично. А тебе самой как кажется? (Пьёт.)
АЛЬДА. По-моему, неплохо. Всем понравилось.
Алекс молча кивает.
Генерал меня сейчас расспрашивал. Удивлялся. Я ещё ему не рассказала, как я стала всё спокойно переносить. В кино не плачу. А вчера на улице при мне автобус задавил собаку. Большую бело-рыжую собаку. Она спокойно так переходила улицу наискосок и автобуса не видела. и он почему-то не гудел. Толкнул её мягко, как ватную, и переехал. Но ты, Аль, как будто не рад моему выздоровлению.
АЛЕКС. Что ты, что ты, я очень рад.
АЛЬДА. Ведь ты больше всех этого хотел.
АЛЕКС. Я больше всех?.. Да, верно.
АЛЬДА. Это ты меня заставил. Молодец. А теперь не рад?
АЛЕКС. Я рад, Альда. Я рад. Тебе так кажется потому… ну, может быть, потому… Тебе не кажется, что это ты ко мне переменилась?
АЛЬДА. Я к тебе? Может быть. Пожалуй, да. Но это тоже к лучшему, Аль.
Смотрят друг на друга.
Это к лучшему. (Пауза.) Да, между прочим, Тилия сейчас мне звонила, но бросила трубку.
АЛЕКС. Так может, случилось что-нибудь?
АЛЬДА. Ну почему обязательно надо предполагать плохое?
Прихожая. Здесь — вешалка с зимними пальто, зеркало, простая мебель. Входная дверь. Окно. Налево — дверь в малую гостиную.
Около открытой форточки стоит Синбар, курит трубку.
В дверь короткий звонок. Синбар косится, нехотя идёт открыть и отступает. Входит Тилия в серебристой шубке.
ТИЛИЯ. Вы? Вы знали, что это — я?
СИНБАР. Сударыня, каждый день работая с биотоками, поневоле начинаешь читать мысли.
ТИЛИЯ. Я… начинаю вас бояться… Впрочем, вам Эни сказала.
СИНБАР. За целый вечер я не сказал с ней ни слова.
ТИЛИЯ. Я могу вам поверить?.. Кстати, а что ваша свадьба с Эни? Откладывается?
СИНБАР. Да пожалуй. А что?
ТИЛИЯ. За откровенность — откровенность. Я не сочувствовала бы этому браку.
СИНБАР. Почему?
ТИЛИЯ. Видите ли, это безотчётно. Женщины никогда не знают причин своих антипатий и… (пристально) симпатий. А почему вы не предлагаете мне раздеться?
СИНБАР. Мне кажется, вы не хотите этого.
ТИЛИЯ. Вы угадали… Я шла сюда, чтобы как-нибудь незаметно вызвать вас… друг мой. Ведь вы мой друг? Вы обещали мне дружбу!
СИНБАР. Я — ваш друг.
ТИЛИЯ. Синбар! Мне так нужна сейчас мужская защита! Положение профессора Крэйга резко ухудшилось, вы предсказали верно. А ведь как я старалась его уберечь! Я всё время старалась, чтоб он не ложился, а продолжал работу до последнего дня! Переделывал свой учебник, так и не кончил.
СИНБАР. Это несколько необычное лечение.
ТИЛИЯ. Но это так понятно! Я боялась, что слишком серьёзное лечение наведёт его на слишком серьёзные мысли. Если б он прекратил работу, слёг, задумался, — это как раз могло бы ускорить его конец. Но и мой метод не помог: теперь врачи говорят — вопрос нескольких дней. Я хочу знать ваш телефон. (Протягивает записную книжечку.) Рабочий там уже записан, но мне нужно и ночью в любую минуту.
Синбар записывает.
Ведь библиотека — редкая по ценности, это же стоит десятки тысяч! Там рукописи великих композиторов! письма Тосканини, Стравинского! В доме начнётся кавардак, проходной двор, сбегутся родственнички ша-ка-лы и всё могут растащить! Надо будет в первую же минуту опечатать. Вы не покинете меня, Синбар?
СИНБАР (целует ей руку). Значит, вы едете домой.
ТИЛИЯ. В том-то и дело, что нет! (Скороговоркой.) У нас в редакции сейчас срочная подготовка к конгрессу — за право каждой стране иметь ядерное оружие, но подать это нужно как борьбу за мир, очень тонкая работа!
СИНБАР. А лучше бы вам быть дома, Тилия.
ТИЛИЯ (вздрагивает; с жестом просьбы). Ну, сегодня вечером — никак! Такая горячка — обработка делегатов! Но потом — только дома, обещаю вам. Да, кстати, у меня же новая машина! Пневматическая подвеска заднего моста, гидравлическое переключение передач, цвет «брызги бургундского», а внутри отделочка!! — не посмотрите?
СИНБАР. Но я надеюсь в ней ещё поездить?
ТИЛИЯ. и я — надеюсь!.. А теперь прошу вас очень: позовите на минутку Альду!
СИНБАР. Хорошо. Только вы с ней осторожно. Чтоб не было потрясения. Это наша продукция четырёх месяцев работы. Осторожно! (Грозит. Уходит налево.)
Тилия проверяет себя перед зеркалом в шубке и распахнув. Слева скучающе входит КАБИМБА.
КАБИМБА. О-о-о-о?
ТИЛИЯ (показываясь ему оживлённым движением). Я слышала — вы уезжаете! Но вы будете вспоминать?.. как мы плавали…?
КАБИМБА. Вас трудно забыть.
ТИЛИЯ (быстро, смотрит в просвет двери). Там никого? (Оттягивает Кабимбу дальше от двери.) Ну, на прощанье! поцелуйте меня быстренько! крепко-крепко! (Виснет на нём, тотчас соскакивает.) Скажи, Кабимба…
В двери — Альда.
…неужели ваш дом стоит на сваях? Это ужасно! Вообще — вы из Северной Африки или из Южной?
КАБИМБА. Из Центральной.
ТИЛИЯ (машет рукой, печально). Ну так привет Центральной Африке!
Кабимба уходит.
Альдочка, милая! Только ты не пугайся! (Со слезами.) Папе очень плохо! Ему хуже гораздо! Только ты не волнуйся.
АЛЬДА (за весь вечер — первое резкое движение, первое сильное чувство). Папа?! Но он — жив??
ТИЛИЯ. Пока — да. Пока — ещё жив. Я бы тебя не звала, тебе опасны волнения, но папа очень хочет тебя сейчас видеть.
Порыв Альды к пальто. Тилия держит её.
Такие тяжёлые дни, а у меня в редакции работа, и нельзя отказаться, общественный долг! Поезжай прямо к папе. Там — Джум. и побудь до меня. Но не вздумай приводить с собой Алекса, папа этого не переживёт! Ему нельзя сердиться. Или вот что — я тебя подброшу на своей машине. Одевайся скорей! Жду внизу! (Уходит.)
Снова малая гостиная. Алекс и Кабимба. Стоят.
КАБИМБА. …все богаты, все безпечны, никогда им не сможется понять, чем живут остальные люди! Я себя ненавижу, что к ним прилипал! Я их всех ненавижу!
АЛЕКС. Кабимба! Ну, вот я тоже безнадёжно отстал от них, из-за тюрьмы. Так что теперь? — расталкивать их локтями? бить им стёкла? Кабимба! Ненависть и обида никуда не ведут. Это — самые безплодные чувства на земле. Надо подняться и понять: мы потеряли века или десятилетия, нас оскорбляли, нас унижали, а мстить — не придётся. и не надо. и всё равно — мы богаче их.
КАБИМБА (возмущённо). Мы? Чем богаче? Чем?
АЛЕКС. Тем, что перестрадали, Кабимба. Страданье — это стержень для роста души. А довольный — всегда душою нищ. Так будем строить потихоньку.
Кабимба мучительно трёт лоб. Вбегает АЛЬДА в пальто. Она вне себя. С другой стороны входит Эни.
АЛЬДА. Эни! Я умоляю вас! Пусть сынишка переночует здесь! Можно?
ЭНИ. Да, конечно! Но что с вами?
АЛЬДА. Ах, не могу! не могу! потом!.. Аль! Иди сюда!! (Утягивает Алекса за рукав в прихожую.)
Эни в тревоге ступает за ними, но останавливается.
Снова прихожая.
АЛЕКС. Что с тобой?
Снежный ветер через форточку играет её шарфом.
Алекс захлопывает форточку.
Что с то…
АЛЬДА (сильно возбуждена). Папе — очень плохо! Меня Тилия ждёт внизу! Но ты не езжай!
АЛЕКС (застёгивая её). Да, нас поссорили! Но если…
АЛЬДА. Что может быть с папой?? Мне страшно!!
АЛЕКС (открывает ей дверь). Ты… я прошу тебя… Альдонька! Альдонька!..
Стоят на пороге. Альда качнулась к нему. Он её целует. Слева входит Филипп. Не видя его, Алекс машет Альде, спускающейся по лестнице, откуда ещё слышен её голос. Заперев дверь, Алекс видит Филиппа. Форточка опять распахивается с силой, врывается струя метели. Филипп захлопывает форточку.
ФИЛИПП. Ал, я давно хочу тебе сказать, — женись-ка ты, братец, на Альде! Хороша ведь как, где ты лучше найдёшь? Сестра двоюродная — это всё вздор, женись!
АЛЕКС. Я сообразил это и без тебя давно, Фил. Но я не знал, что… и сам-то я… и вообще, это всё так сложно, так сложно…
Быстро входят Эни и Синбар.
ЭНИ. Шеф! Что нам сделали с Альдой?
СИНБАР. Кориэл! Где Альда? Неужели вы её отпустили?
ФИЛИПП. Как? А что с ней?
ЭНИ. По-моему, она полностью выбита из интервала стабилизации!
СИНБАР. Если амплитуда выше предельной…!
ФИЛИПП. и ты мог?.. Ал!
АЛЕКС. Я…
СИНБАР и ЭНИ (вместе, наступая). Да как вы могли? Наши усилия!! Четыре месяца!!
ФИЛИПП, СИНБАР, ЭНИ (наступая). Наш единственный экземпляр! Наша общая работа!!
АЛЕКС (отступая, перекрикивая). Наша! — общая! — работа! — я пользуюсь случаем сказать — окончилась!! Мы взяли чудо природы! — и превратили его в камень! А по коридорам уже топают сапоги генералов! Разрешите быть — свободным!!
КАРТИНА 5
Библиотека Маврикия. Книги, ноты. Рояль. Письменный стол. Временная постель, приподнятая помостом.
Ночь. Маврикий сидит в постели. Альда. Джум — в ярком спортивном костюме, с хоккейной клюшкой в руках. Он готов бежать.
АЛЬДА. Когда проедешь весь посёлок, сразу сверни налево, под деревья, и там сзади последних домов стоит земляночка, хижина. Там — тётя Христина. Понял?
ДЖУМ. Понял! Папа! Еду?
МАВРИКИЙ. Да… Поторопись, Джум.
АЛЬДА. Скорее, Джум!
ДЖУМ (убегая, бросает клюшку). Аут! Рву! Тормозим не мы!!
МАВРИКИЙ. Всё собирался я повидать Христину бедную и всё откладывал… всё откладывал… Даже на внука я не посмотрел никогда.
АЛЬДА. Папа! Не отказывайся! Я потороплю врачей! Как можно так рисковать?
МАВРИКИЙ (привлекает её, сажает рядом). Нет, нет, Аленька! Они только что уехали, и зачем же их звать? Они надоели мне. Все мои вены исколоты, варварский век. Никакими уколами… всё равно… прожитого не исправишь. Мне было плохо, плохо — и вот уже хорошо. (Поглаживает у сердца.) Ты не бойся. Это — не смерть.
АЛЬДА. Ты прожил великую жизнь, папа!
МАВРИКИЙ (усмехается). О нет, я не был великим… Великие тени — да, были со мной здесь. (Оглядывает библиотеку.) А я не научился у них ничему… Я — ничего у них не почерпнул… (Плачет.)
Альда тоже.
Альда! Мы в жизни очень боимся пожалеть о чём-нибудь упущенном. Мы мечемся всё брать, чтоб только не жалеть. А вот когда страшно пожалеть — умирая… Как это жить, чтоб не жалеть, умирая?..
АЛЬДА. Папа! Вспомни свой юбилей! Сколько учеников! Сколько благодарностей!
МАВРИКИЙ. Учеников давнишних лет, когда я мог ещё что-то… Да и тех половина не стоит ничего… Я натолкал в них терминов и цитат, а чувства верного — ни крупицы. Ничтожная жизнь!.. Я жил в этом вертепе счастливых — и он меня съел… Так и пропала жизнь, которую все называют счастливой… Но почему мы так поздно слышим этот рог? эту трубу? — безполезно и поздно… Ещё в понедельник наши головы заняты были тем, какой сервиз покупать — японский или китайский?.. Как это важно! А жестяная облезлая кружка — чем она хуже? и если бы дали ещё год разумной жизни, только чтобы пить из такой кружки?..
АЛЬДА (плача). Папочка! Это — приступ! Ты будешь жить! Ты будешь ещё писать! А я — помогать тебе, хочешь? Что-нибудь простенькое, ноты переписывать, это я могу…
МАВРИКИЙ (ласкает её; пауза). За что ты так добра ко мне, дочь?.. Ты одна за всю жизнь от меня никогда ничего не требовала — ни сервизов, ни гарнитуров… Душа моя! В чём ты ходила зимами?.. Как я мог никогда не подарить тебе платья? никогда не сшить пальто?
Плачут оба.
АЛЬДА. Пусти! Я позвоню врачу! Это не шутка!
МАВРИКИЙ. Нет. Измучили. Никаких!.. Одна ты из всех моих родных носишь музыку в себе, а я тебя-то и не пустил учиться… Ты недавно приходила поиграть, а я не нашёл времени тебя послушать… Этот рояль теперь твой, слышишь? (Берет её голову.) Простишь ли ты меня когда-нибудь, дочь?..
Альда обнимает его.
Аленька! Вон там, смотри… Шуберт. Достань «Зимний путь». Сыграем вместе.
АЛЬДА. Папа! Другое что-нибудь! Не надо «Зимний путь»!
МАВРИКИЙ. Нет, только «Зимний путь»! (Подталкивает её.) Скорей. Зимний путь…
Вытирая слезы, Альда ищет лесенку, приставляет, взбирается наверх.
(Сам с собой.) Если Шуберт в тридцать лет не дрогнул — чего мне пугаться в семьдесят?.. и зачем долгая жизнь — не умеющему жить?.. Всем можно сегодня остаться под крышей, а кому-то…
Нельзя… мне… медлить… доле… Я должен… в путь… идти… Дорогу… в тёмном… поле… Я должен… сам… найти…АЛЬДА (спускается с лесенки). Вот он, папа.
МАВРИКИЙ (рассеянно). Хорошо. Играй.
Альда зажигает свет у рояля, садится, играет «Спокойно спи».
МАВРИКИЙ (слегка напевает):
Чужим пришёл сюда я, Чужим покинул край…(Не может петь, держится зa грудь.)
Альда играет и плачет.
ВМЕСТЕ:
Здесь больше ждать не стоит, Не то погонят прочь… И пусть собаки воют У входа в дом всю ночь.Рояль. Маврикий тихо ложится.
АЛЬДА (одна):
Давно пора котомку С усталых сбросить плеч. Давно пора на отдых Мне где-нибудь прилечь.(Ещё играет, потом оглядывается тревожно, обрывает игру.) Папа! Папа!!.. (Бежит к нему.) Отец! Ты жив?! (Кричит.) Оте-ец!! (Бьётся, опускается на колени, приникает к умирающему.)
Входит тётя Христина в тёмной нищенской одежде, с маленьким свёртком. Молча смотрит из дверей. Медленно идёт к постели. Альда рыдает. Христина проверяет зеркальцем, дышит ли умерший. Целует лоб мертвеца. Крестит его. Достаёт принесённую с собой свечу, ставит у изголовья, зажигает.
Альда стихла.
ТЁТЯ ХРИСТИНА (раскрывает книгу и читает звучно, отрешённо). «Никто, зажегши свечу, не ставит её в сокровенном месте, ни под сосудом, — но на подсвечнике, чтобы видели свет».
«Итак, смотри: свет, который в тебе, — не есть ли тьма?» (Пауза. Переворачивает страницу. Снова читает торжественно.)
«И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись».
Стремительно входят Тилия, Синбар. За ними — Джум в мотоциклетном шлеме, очках, с большими перчатками. Все останавливаются, переклонясь вперёд.
«Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?»
Все неподвижны.
КАРТИНА 6
Небольшая скудно обставленная комната в первом этаже. В задней стене — два оконца. За ними темно. Низенькая дверь, под стать окнам. Хозяйственный угол. Письменный стол. Простая кровать. Тот самый столик с проигрывателем и пластинками, который был в Картине 1. Проигрыватель открыт, на нём пластинка.
Алекс за письменным столом. Слегка постучав, тут же входит Альда. В руках цветы и свёрток.
АЛЬДА. Ну, медведь. Ты всё сидишь? А на дворе весна. Смотри, какие цветы продают.
АЛЕКС. Цветы хороши. Но довольно сознания, что их продают. Почему обязательно нужно иметь их каждый день у себя на столе? Это однообразно.
АЛЬДА. Цветы — однообразно??
АЛЕКС. Во всяком случае, это противоречит принципу экономии внутренней энергии. Выколачивать лбом дукаты, тут же их разбрасывать. Если любишь что-нибудь одно, всем другим приходится жертвовать.
АЛЬДА. Ты должен был бы радоваться, что у меня хоть эта привязанность не убита. (Окунается в цветы.) Я ведь теперь какой-то получеловек.
АЛЕКС (подходит к ней). Прости, Альдонька. Я расстроен всё это время и не то говорю.
АЛЬДА. А что ты такое любишь, для чего нужно жертвовать всем другим?
АЛЕКС. Сам уже не понимаю. Мне сорок лет, я полон сил — и брошен на спину. Одно — вредно. Другое — безполезно. Третье — скучно смердяще. (Опять сел, опустил голову.)
Альда снимает плащ. Она в чёрном. Близ хозяйственного угла.
АЛЬДА. А здесь с прошлой субботы ничего не изменилось. Если ты считаешь, что кастрюли и тарелки можно держать так месяцами… А тётя Христина не оторвётся от кошек… (Достаёт из свёртка передник, надевает, засучивает рукава.)
АЛЕКС (увидел). Нет-нет, Альда! Не нужно! Я не согласен! (Спешит к ней, удерживает.)
Она так и не завязала ещё передника.
АЛЬДА. Почему?
АЛЕКС. Я не хочу, чтобы ты здесь возилась.
АЛЬДА. Именно я? (Пауза.) Но я сестра тебе. (Пауза.) Хорошо, я тоже не приму от тебя ничего.
АЛЕКС. Слушай, это нельзя сравнивать. Если ты возьмёшь на себя здесь все заботы, значит, по сути…
АЛЬДА. Когда ты мне помогаешь… или когда мешаешь… ты настаиваешь, что ты мой брат.
АЛЕКС. А когда это — я тебе мешаю?
АЛЬДА. Вот помешал пойти работать в институт к Филиппу.
АЛЕКС (горячо). Но если ты будешь у них — они же не удержатся тебя опять стабилизировать. Папина смерть спасла тебя от этого ужаса! от моей тяжёлой ошибки. От моей вины перед тобой…
АЛЬДА. Тогда ты за меня знал, что мне надо идти… Теперь ты за меня знаешь, что не надо… А сына — ты не воспитаешь за меня? Ты бы и своего-то не воспитал, Аль… по принципу экономии энергии. А сыну лучше всего иметь — стабилизированную мать. (Замерла у него на груди. Большая пауза.)
АЛЕКС. Водила ты его к отцу?
АЛЬДА. Водила.
АЛЕКС. Чего они хотят?
АЛЬДА. Не знаю, чего они хотят!.. Не знаю!.. (Плачет у него на груди.)
АЛЕКС. Боже, как всё в мире перепутано, как всё не просто! (Пауза.) Эти господа, свершившие позднее правосудие, — они серьёзно думают, что вернули меня в прежнюю жизнь… Но всё утекло, тот корень жизни, откуда я рос, — кто мне теперь оживит? (Поднимает ей голову.) Ту девчушку прежнюю, прежнюю — кто мне вернёт?..
За стеной — грохот, что-то упало. Алекс и Альда расступаются. Альда вытирает глаза. Алекс спешит к двери, но уже входят Филипп и Эни.
ФИЛИПП. Что-то перевернули, друг. Но оно было пустое. О, и Альда здесь?
ЭНИ. Мы, впрочем, так и предполагали. Ты не испачкался? (Осматривает костюм Филиппа.)
ФИЛИПП. Да вроде нет. (Алексу.) Ну?! Беглец! Здравствуй! (Рукопожатие с размахом.) Здравствуйте, Альда. Здравствуйте, мой немой укор! Творение наше!
Все здороваются.
АЛЕКС. Наше ли, Фил?
ФИЛИПП. Ну-ну-ну-ну! Всё в наших руках. Некоторый срыв с Альдой, срыв частичный, не разрушил, а только дополнил систему нейростабилизации. Он указал нам, какие внезапности надо предусматривать. Другое распределение напряжений по частотам, дополнительные серии сеансов, но опыты с людьми мы продолжаем, они обещают колоссальный успех! и я думаю, что Альда тоже согласится вернуться.
АЛЕКС. Нет, хватит! Альды ты уже не тронешь.
АЛЬДА. А почему? Мне было тогда так покойно.
ФИЛИПП. А? Слопал? Тиран! Ну, так что тут? (Подошёл к проигрывателю.) Музычку слушаешь? Какую-нибудь нудь зелёную?
Раздается певучая мелодия из Allegro con brio 2-го Бетховенского фортепьянного концерта. Немного слушают.
В таком духе я и опасался. Чистый наркотик. (Поднимает иглу.) У тебя парагвайских танцев нет? Вот зажигают! Жизнь есть борьба!
Альда сняла передник, спрятала в сверток. Они с Эни садятся одаль.
Так, так. Значит, сидишь и ставишь тут пластинку за пластинкой, дядюшка коллекцию подарил. (Сердечно.) Ал! Возвращайся к нам!
АЛЕКС. Теперь ты обойдёшься уже и без меня!
ФИЛИПП. Это называется — бросить друга.
АЛЕКС. Бросить друга нельзя в беде. На вершине удачи можно.
ФИЛИПП. Вот именно. Потому я и здесь.
АЛЕКС. Спасибо, Фил. Ценю. Но, видишь ли, человек несчастлив лишь настолько, насколько он сам в этом убеждён.
ФИЛИПП. Да просто нельзя так жить. Ты ничего не зарабатываешь.
АЛЕКС. Нет, почему, я остался в университете, мне там платят.
ФИЛИПП. Сколько там тебе платят!
АЛЕКС. А не нужно много зарабатывать, нужно мало тратить. Мои потребности — полдуката в день. На автомобиль я не собираю.
ФИЛИПП. Тяжёлый у тебя характер. Никакая жена с тобой не уживётся. Бывают неудачники поневоле. Ты неудачник — по заданной теории. Наука? — так тебе неизвестно, зачем она! Талант у тебя — так ты не видишь для него цели!
АЛЕКС. Цель — вижу, пожалуй.
ФИЛИПП. Ну.
АЛЕКС. Скажу, только ты не смейся. Помнишь, говорил ты как-то, что гордился бы эстафету великой физики передать Двадцать Первому веку?
ФИЛИПП. Было, кажется.
АЛЕКС (подходит к проигрывателю). Так хотел бы и я помочь донести туда одну эстафетку. Колеблемую свечечку нашей души.
Ставит иглу. Раздаётся негромко основная мелодия рондо из того же фортепьянного концерта. Выключает.
Там, в Двадцать Первом веке, пусть делают с ней, что хотят. Но только б не в нашем её задули, не в нашем — стальном, атомном, космическом, энергетическом, кибернетическом…
ФИЛИПП (недоумевая). и что для этого практически надо делать?
АЛЕКС. Вот это-то и вопрос…
АЛЬДА (Эни). Два дня у гроба перед фотокорреспондентами она рыдала у меня на плече и кричала: «Бедная девочка! я заменю ей отца!» Но едва завалили могилу, я была ославлена воровкой, интриганкой, будто я хотела поживиться папиным роялем. А папа действительно завещал его мне. Мои первые детские воспоминания: он сидит за ним и играет. и девочкой начинал учить меня на нём же… Впрочем, Аль говорит — хорошо, что рояль мне не достался, он не прошёл бы ко мне ни в окно, ни в дверь.
ЭНИ. Как у них всё изменилось в доме! Библиотеку и рукописи распродали, Джума погнали на работу. Тилии был от железного капитана крепчайший нагоняй за то, что она сорвала нам работу с вами.
ФИЛИПП. Уже и Синбар выделяется в отдельный институт — медицинской кибернетики.
АЛЕКС. Финансируют? Те же хозяева?
ФИЛИПП. А что тут плохого? У нас очень плодотворное направление.
АЛЕКС. Даже чересчур плодотворное! Мало-помалу вы подберётесь к чтению человеческих мыслей.
ФИЛИПП. Это бы сверхзавлекательно! Но мысль оказалась изоэнергетична: правдивая и ложная мысль, утвердительная и отрицательная имеют одну и ту же энергию, и ничего не различишь.
АЛЕКС. Какое счастье!
ФИЛИПП. Прямо беда.
АЛЕКС. Так вы не успокоитесь, начнёте щупать форму кривой, я знаю! и в один прекрасный день явятся к тебе джентльмены от учреждения из трёх букв…
ФИЛИПП. Из трёх букв?
АЛЕКС. УМЧ — Управление Мыслей и Чувств. Поставят охрану около твоих электронных машин — и начнут читать мысли граждан. Уж если и это придёт в мир — пусть не через меня. Не хотел бы я тогда не только работать в твоём институте, но и жить на земле.
ФИЛИПП. Не знаю. Пока ещё мы к этому не подошли.
АЛЕКС. Детекторы лжи уже есть, не за горами и это.
ФИЛИПП. Но — ты! Ты! Ты кибернетики отведал, уже отравлен и не бросишь. В какую ж подашься? В космическую?
АЛЕКС. Ничего мы в Космосе не потеряли. Мы на Земле теряем последнее наше.
ФИЛИПП. Так уж не в социальную ли? (Хохочет.) К Тербольму?
АЛЕКС. Да вот есть два письма. Зовёт.
ФИЛИПП. Да никакой у них поддержки нет, финансов нет, вообще лавочка, мыльный пузырь! (Читает.)
АЛЕКС. Он мне и магнитофонное письмо прислал из больницы. (Ставит кассету.)
ФИЛИПП. Что, опять у него с ногами? (Читает, магнитофона не слушает.)
ГОЛОС ТЕРБОЛЬМА (с ленты). Вы всё спрашивали, Кориэл, зачем наука? Вот я снова лежу и вдруг с ясностью понял, что могу ответить. Не надо смущаться внешними целями науки — кто и куда хочет её направить, для чего использовать. Кстати, уже не раз её запрягали везти в одну сторону, а она смеялась и привозила в другую. Но кроме целей явных, видимых всем, у науки есть ещё какие-то таинственные. Как у искусства. Наука нужна не только нашему разуму, но и нашей душе. Осознать мир и осознать человечество может быть так же необходимо нам, как… иметь совесть. Да, такая у меня гипотеза: наука нам бывает нужна — и как совесть! (Пауза.) А сейчас…
Филипп читает, Алекс пристально смотрит на него.
…микрофон перенесут…
АЛЕКС (резко останавливая). Дальше не важно.
ЭНИ (Альде). Живя со мной, он всегда весел, полон энергии. Само счастье наше неужели не оправдывает нас?.. А её мы поместили в самую хорошую больницу.
ФИЛИПП (отдавая письма). Ха-ха-ха! Никакой солидности у фирмы! «Алгоритмы идеально-регулируемого общества»! — да откуда эти алгоритмы брать, если ещё ни один мудрец их не придумал? Нет, скажи, зверь, чем тебе это направление лучше нашего?
АЛЕКС. Да кой-какое преимущество в нём есть.
ФИЛИПП. Ка-кое?!
АЛЕКС. Я понял так: биокибернетика — это вмешательство в самое совершенное, что есть на земле, — в человека! За-чем??!.. Напротив, социальная кибернетика дерзает внести разум туда, где вечно был хаос и несправедливость, вмешаться в самое несовершенное из земных устройств — в человеческое общество.
ФИЛИПП. Так что это будет? Кибернетический социализм? Да вздор! Шарлатанство! Тербольм — фанатик. и никаких боевых качеств у него нет — для пробивания.
АЛЕКС. Ну, попробую добавить я.
ФИЛИПП. Да потом, простое благоразумие: а государство? Да срубят вам всем головы, ты что уже — Каледонию забыл?
АЛЕКС. Вот как раз тут моё преимущество перед тобой: ничего не имея, я ничего не боюсь потерять. Как хорошо, что мы с тобой поговорили! В разговоре-то я и понял: я к ним пойду! Я должен к ним идти!
ФИЛИПП. Смотри! В надежде на успех…
АЛЕКС. В надежде? Нет! Ты не понял. Не в надежде, а в испуге! В боязни успеха! Я пойду к ним для того, чтоб не дать и им когда-нибудь со временем стать Левиафаном, только электронным.
ФИЛИПП (холодно). Да?.. Ну, смотри. Смотри.
АЛЕКС (кладя руку ему на плечо, задушевно). Я смотрю, Фил, — на тебя! Все эти месяцы. и давно хочу тебе сказать, что…
Где-то близко — долгая сирена автомобиля.
ЭНИ (Филиппу). Надо идти.
АЛЕКС. Тебя зовут?
ФИЛИПП (вставая). Да…
Встают и женщины. Пауза. Все стоят.
ФИЛИПП. и всё же, Ал, я думаю — ты не совсем потерян.
АЛЕКС. Я даже думаю — и ты. Тоже не совсем.
Альда взяла плащ.
ФИЛИПП. Ну, ладно, хоть не мешай мне поговорить с Альдой. Она собирается идти, и мы её проводим.
АЛЕКС (делает задерживающее движение). Альда только что пришла. Никуда она…
АЛЬДА (освобождаясь). Нет-нет, Аль, мне надо идти.
ФИЛИПП (помогая Альде одеться). Перестань ты решать за других! Работу хорошую я могу предложить Альде? Ра-бо-ту?
АЛЕКС. Да разве важно — это? Альда!
АЛЬДА. А что — важно? Ты разве сам — знаешь, что важно?.. (Уходит с Эни.)
Филипп треплет друга по плечу, тоже уходит. Опустив голову, Алекс стоит посреди комнаты.
Гаснет свет. Позади возникает сияние. Это вспыхнули яркие фары, бьющие в окна. Алекс подходит к окну, распахивает его. Автомобиль, видимо, разворачивается. Затем, пронося лучи по комнате и воя мотором, минует окна. Но сияние не померкло. Второй автомобиль повторяет манёвр первого и так же проносится с поворотом лучей по комнате, с таким же воем великолепного мотора.
АЛЕКС. Э-э, да они не одни приезжали! «Брызги бургундского»! и Тилия с Синбаром были тут. Корабли счастливых!..
Зажигается свет. Алекс понуро подходит, продолжает магнитофонную ленту.
ГОЛОС ТЕРБОЛЬМА. А сейчас микрофон перенесут от меня к Нике. Она тоже хочет вам сказать.
ГОЛОС НИКИ. Алекс! С тех пор как Филипп привёз меня сюда зимой, он не был у меня ни разу. и я подумала: а если он мучается? Если он просто боится растравить меня своим здоровым видом, своими радостями — и только поэтому не приходит? Тогда отдайте ему эту ленту.
Филипп! Филипп!! Я знаю, что мне уже не встать. и ты — не стыдись, живи своей жизнью. Побеждай!.. и люби — кого ты хочешь. Я тебя не упрекну…
Но один раз. Весной. и летом один раз. и один раз осенью — ты приходи ко мне, не стесняйся. Посиди у меня часок. и так разговаривай, будто всё по-старому… Ну что тебе стоит, Филипп?!!..
Пауза.
Алекс! А если он не поэтому не приходит — слушать ленты ему не надо…
Алекс — в угнетённой позе. Откуда-то еле слышится мелодия одинокого рожка — это мелодия из «Зимнего пути», та самая. Алекс не видит, как за окнами появляется скорбная фигура Альды в светлом. Она с опущенной головой очень медленно проходит мимо закрытого окна, останавливается у открытого, печально смотрит сюда, вовнутрь. Затем так же с опущенной головой удаляется и ещё неясно видна некоторое время при свете уличного фонаря.
1960
Рязань
КИНОСЦЕНАРИИ
Знают истину танки
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
ПАВЕЛ ГАЙ, Т–20.
ПЕТР КЛИМОВ, Т–5.
ИВАН БАРНЯГИН, лётчик, Герой Советского Союза.
ВЛАДИМИР ФЕДОТОВ, Р–27, студент.
ВИКТОР МАНТРОВ, его одноделец.
АЛЕКСАНДР ГЕДГОВД, Ы–448, «Бакалавр».
ЧЕСЛАВ ГАВРОНСКИЙ, Р–863.
ГАЛАКТИОН АДРИАНОВИЧ, хирург.
ДЕМЕНТИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ МЕЖЕНИНОВ, ботаник.
ЕВДОКИМОВ, в прошлом полковник Красной армии.
ТИМОХОВИЧ, бригадир.
ПОЛЫГАНОВ, бригадир.
КИШКИН, Ф–111.
БОГДАН, глава бандеровцев, Ы–655.
МАГОМЕТ, глава мусульман.
АНТОНАС, литовец.
XАДРИС, ингуш.
ЮРОЧКА, молодой врач.
ПОЖИЛОЙ НОРМИРОВЩИК.
АУРА, литовка.
С–213, секретарь прораба, лагерный скрипач.
КОККИ АБДУШИДЗЕ.
ВОЗГРЯКОВ, С–731.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО, майор, начальник ОЛПа.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРЧЕКИСТСКОЙ ЧАСТИ, капитан.
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ, старший лейтенант.
БЕКЕЧ, лейтенант, начальник режима.
НАЧАЛЬНИК КВЧ.
НАЧАЛЬНИЦА САНЧАСТИ.
НАДЗИРАТЕЛЬ С УГОЛЬНЫМ ЛИЦОМ.
НАДЗИРАТЕЛЬ — «морячок».
ПОЛИТРУК КОНВОЯ.
ПРОРАБ.
ДЕСЯТНИК.
ВОСПИТАТЕЛЬ.
Заключённые Особлага в номерах.
Надзиратели. Конвойные офицеры, сержанты, солдаты.
Танкисты.
Во вступлении и эпилоге:
МУЖ.
ЖЕНА.
АЛЬБИНА.
Оркестранты, официанты.
Курортная публика.
Я мало верил, что этот фильм когда-нибудь увидит экран, и поэтому писал сценарий так, чтобы будущие читатели могли стать зрителями и без экрана.
Пусть же не посетуют на меня режиссёр, оператор, композитор и актёры. Они, разумеется, свободны от моих разметок.
Чтобы помочь читателю видеть и слышать — я ввёл систему вертикалей (или отступов).
С левого края страницы начинаются строки, в которых обозначено музыкальное и всякое звуковое сопровождение, кроме речи.
Правее — первый отступ, жирный шрифт: означает вид съёмки, перемену формата экрана или смену эпизодов, охват кадра, положение камеры, её движение.
Следующий отступ, ещё правее: что видно на экране. Значок «=» означает монтажный стык, то есть внезапную полную смену кадра. При отсутствии такого знака: последующий кадр получается из предыдущего плавным переходом.
Ещё правей, последняя вертикаль: диалог (он весь дан курсивом).
Узкий (вертикальный) экран.
Кипарисы! Вытянулись!.. Исчерна-зелёные.
У их подножия — снование маленьких людей. Далеко за вершинами — скалистые горы в клубящемся туманце.
Широкий экран.
= Курортная аллея. Газоны. Стволы и стебли знают своё место.
Хорошо…
Идут курортники нам навстречу в весёлом, пёстром, лёгком. В чалмах самодельных. Защитных очках. и с мохнатыми полотенцами.
Шуршит под ногами гравий. Обрывки неясные речи. Звук подъехавшего автомобиля.
Из «Волги» выходят — Дама со слишком золотистой причёской, её Муж в чесучовом костюме, Девушка и Мантров, подобранный, довольно молодой. Они заперли машину и идут по аллее
то в тени, то на солнце. То сквозь тень, то сквозь солнце.
Свисают ветви с бледно-розовой ватой цветов.
Они идут мимо киоска сувениров.
Мимо скамей, где отдыхают грузные курортники и грузные дети.
= Открывается крутой откос наверх. По откосу — широкие ступени, декоративный кустарник.
Они поднимаются. Вверху — веранда, парусиновые пологи над её пролётами. Над входом надпись: Ресторан «Магнолия».
Оттуда доносится музыка.
Муж дамы:
— Ну как, Виктор? Выдерживаешь?
У Виктора сдержанная, но располагающая улыбка, ясный взгляд. То ли рассеянность, то ли растерянность:
— Не знаю. Ещё не могу привыкнуть.
Золотистая дама:
— Ах, Витенька! К хорошему люди привыкают легко! К хорошему мы вас быстро вернём. Правда, Альбина?
Девушка в той поре, когда всякая хороша. Мило-диковатая причёска. Улыбается вместо ответа.
Ресторанная музыка ближе и громче.
Они уже — под шатром веранды. Белизна и сверкание столов. Есть свободный, они садятся.
= В прозор между балюстрадой и пологом — вершинки кипарисов где-то близко внизу, а за ними — море, море… Беленький пассажирский катерок.
Весёленькая разухабистая музыка.
= Муж:
— Нет! Поразительное и удивительное не что Виктор там был, а что он оттуда вернулся! Невредимым!
Дама:
— Страдалец! Чего он там натерпелся! и ничего не хочет рассказать!
Мантров смотрит ясными глазами, улыбается умеренно:
— К сожалению, я ничего не помню. Я — всё забыл…
= Море — во весь экран, лишь край полога наверху, колонка веранды. и внемлющий профиль Девушки:
— Но сейчас-то вам — разве плохо?
Только голос его:
— Хорошо безконечно.
Море. и профиль Девушки.
В кадр входит плечо и темя официанта, наклонившегося к их столу:
— Антрекот — два, фрикассе из лопатки — раз… Суфле лимонное — четыре…
= Голова Мантрова запрокинулась, кадык ходит по горлу:
— Будто в насмешку…
= Общий вид ресторана. Чистая кушающая публика. Дородные официанты просторными проходами снисходительно разносят подносы. Две пары покачиваются между столиками. На эстраде — маленький оркестр: струнные, саксофонист, ударник.
Безшабашный мотивчик. Голос Мантрова:
— Будто в насмешку вот такой же оркестрик по воскресеньям играл и там…
= Скрипка и виолончель и движущиеся их смычки остаются резкими. Остальные инструменты и все оркестранты расплываются…
Но резко звучит всё тот же, всё тот же распущенный мотивчик.
= И проступают четверо оркестрантов в чёрных спецовках, в чёрных картузиках. Над козырьками картузиков, выше сердца на спецовках и над левыми коленами у всех — белые лоскутки с чёрными номерами. У первой скрипки, одутловатого парня с добродушным видом, — номер С–213.
Стулья оркестра — на маленьком сколоченном возвышении
около квадратного столба,
посреди огромной столовой, где в два ряда идут такие же столбы. и тесовые грубые ничем не покрытые столы — в четыре долгих ряда. и за каждым столом — по десятку заключённых, лицами к нам и спинами к нам (меж лопаток у каждого — тоже лоскут с номером).
В проходах — тесно. Проталкиваясь среди приходящих и уходящих, одни заключённые несут деревянные подносы с полными мисками. А иные собирают пустые миски, накладывая их друг в друга горкой до двадцати. и из мисок, в каких остаётся, — выпивают, вылизывают остатки.
Едящие. Грязная публика. Их плечи пригорблены. Лица — нетерпеливо голодны.
Те — жадно заглядывают в миску к соседу.
А тот пробует ложкой — пуста попалась ему баланда!
Молодой парень снял шапку и крестится перед едой.
Та же счастливая подпрыгивающая мелодия. Только танцевать!
И один сборщик пустых мисок подтанцовывает. Собирая миски, он неприлично подбрасывает зад то правым, то левым боком, горку мисок обнимая, как партнёршу. Лицо у него круглое, придурковатое. и все приёмы шутовские. и одет он по-дурацки: сверх чёрной спецовки — какая-то зелёная рваная жилетка, к которой приколот кумачовый бантик, как на первое мая. На спине жилетки и на груди мелом выведен тот же номер, что на фуражке: Ф–111.
Обедающие смеются над ним:
— Кишкин не унывает!
Обычный экран. Крупно.
Парень наклонился над миской, весь ушёл в жеванье
голого рыбьего скелетика, свисающего у него изо рта. Тут на столе, между мисками, много наплёвано таких костей. Вдруг чья-то рука со стороны трогает его ломтик хлеба, лежащий рядом. Парень вздрагивает и двумя руками ухватывается за свой хлеб. Но, подняв глаза, улыбается:
это Кишкин хватал, теперь отпускает, его круглое лицо в улыбке:
— Все вы такие. Пока вашей пайки не тронь, вы ни о чём не спохватитесь.
= И уже пританцовывает с пустыми мисками дальше. Вдруг поставил горку на край другого стола и наклонился к сидящим:
— Ребята!..
Его голова над столом и несколько обедающих. К нам лицом: Мантров, стриженный наголо, с номером над сердцем, как у всех, и Р–27, юноша с очень впалыми щеками, с быстрыми сообразительными глазами, необщим выражением лица.
— Ребята! Если батька — дурак, а матушка — проститутка, так дети будут сытые или голодные?
— Голодные! —
кричат ему, предвидя забаву. Мантров лишь рассеянно взглядывает, продолжая аккуратно есть. Р–27 остановил ложку, с интересом слушает, как и соседи. Кишкин разводит руками:
— Разделите семь-восемь миллиардов пудов[3] на двести миллионов человек. Сколько получится?
И, обняв миски, приплясывая, исчезает из кадра. Он оставил недоумение. Все считают. Р–27 трясёт за плечо сдержанного Мантрова:
— Слышь, Витька, какая простая мысль! Ай да Кишкин! Я никогда не считал. Значит, это будет…
Но Мантров не увлечён, он методично высасывает с ложки жижицу баланды. Р–27 оборачивается к соседу с другой стороны — к Р–863:
— Пан Гавронский!
У Гавронского — удлинённое лицо с тонкими чертами. Он тоже считал. Он говорит почти без акцента, но с затруднением:
— Сорок пудов в год. Два килограмма в день. Даже на ребёнка в люльке.
С кривой улыбкой жалости он берёт с тряпицы на столе свой кусочек хлеба.
Во весь экран
его ладонь с этой неровно обломленной ничтожной корочкой.
Всплеск наглой музыки!
= Невозмутимо пилит смычком одутловатый скрипач С–213.
Затемнение медленное.
______________
Ба-бам! — оглушительно бьют железом о рельс. — Ба-бам!
Из затемнения крупно.
= Рука в гимнастёрке медленно бьёт молотком о висящий качающийся рельс.
= На алом восходном небе — чёрный силуэт зоны: вышки чёрные по краям экрана, соединённые сплошным забором, над ним — заострённые столбы с фонарями и колючая проволока во много нитей. Чёрная.
Зона медленно проплывает, как видна она изнутри. Одна вышка переходит в другую. и снова проволока. Потом — полукругло вытянутые верхушки ворот.
Ворота — выше забора. Они — двойные во всю их высоту. Простые, деревянные. Но что-то готическое в них. Что-то безысходное.
Только тут смолкают мерные удары в рельс.
Ворота распахиваются к нам.
А мы отступаем.
И видна теперь долгая прямая «линейка» — дорога, ведущая сквозь ворота. Ничем не обсажена, голая, меж бараков.
На ней — три тысячи спин! Три тысячи спин по пять в шеренгу! В одинаковых чёрных курточках (ещё тепло) с крупными белыми лоскутами, пришитыми меж лопаток неаккуратно, неровно — номера! номера! номера!
Мы плывём
над колонной, как над таблицей логарифмов.
Крупно.
= Артистическая рука с кисточкой. и одна такая спина. Кисточка кончает выписывать номер: Ы–448.
Человек поворачивается. Он выше окружающих, даже долговяз. Лицо худое. Пока тот же номер ему выписывают над козырьком шутовского картузика, он говорит:
— Гран мерси! Вы очень любезны. Как сказал некий поэт: «Есть ещё хорошие буквы — Эр! Ша! Ы!»
За его спиной торопливое движение.
Голос:
— Гедговд! Бакалавр!
Ы–448 из-под кисти бросается догонять.
= Разведя полы своих чёрных курточек, пятёрки арестантов отделяются от колонны и проходят раздельно на обыск.
Пять надзирателей с голубыми погонами и голубыми околышами фуражек стоят прочно, расставив ноги, и в обнимку принимают и обхлопывают заключённых.
Пройдя обыск, заключённые добегают к воротам и снова выстраиваются по пять.
За воротами снова счёт:
— Одиннадцатая! Двенадцатая! Тринадцатая!..
Названная пятёрка отделяется от задней колонны и переходит в переднюю. А там — ещё один пересчёт.
= Кругом — оцепление автоматчиков. Автоматы наизготове. Угрожающие нахмуренные конвоиры.
= В строю — Гедговд. Он что-то заметил в стороне, просиял, тормошит соседей:
— Посмотрите, посмотрите, бригадир! Чеслав! Гавронский! Скорее! Вон, где машины ждут каменный карьер.
С ним рядом Р–863, тонконосый Гавронский, и бригадир Т–5, могучий парень, широколицый, курносый. Он поворачивается туда же:
— Ну-у-у!..
Они видят:
= в косом радостном свете восхода стоят два потрёпанных ЗИСа с пустыми кузовами, передняя часть которых отгорожена железной решёткой. За решётками сидят на крышах кабин по конвоиру. Автоматы их до времени безпечно лежат на коленях, но уже и сейчас направлены дулами в кузова. Внизу, прислонясь к борту одного из ЗИСов, ждут в бравых позах остальные конвоиры. Они как будто застыли, фотографируясь. Станковый пулемёт выставлен у их ног. Но где же их офицер?.. В кабине на командирском месте сидит и высунулась сквозь окошко дверцы — большая овчарка. Умная злая морда. Оскаленные зубы. Смотрит на нас,
= на колонну заключённых. Длинный Гедговд в строю поднимает длинные пальцы:
— Ах, как забавно! Страна восходящего солнца!
= Опять тот же живописный неподвижный снимок — конвоиры залиты утренним солнцем. и собака не поведёт головой.
= Бригадир Т–5 усмехается:
— Сторонники мира!
Они трое, рядом. Гавронский впился в увиденное. Его лицо опалено шляхетским гневом.
Аккорды 12-го этюда Шопена доносятся как ветерок.
Он шепчет:
— Да-а… Они — за мир!
= Конвоиры, ЗИС, собака высунулась. Никакого движения. Фотография!
…Они — сторонники мира! Такого мира, чтоб автоматы и собаки были у них, а мы…
Траурные ритмы. Тихо, но настойчиво.
= Долгая колонна заключённых, руки за спину, головы опустив, тянется уныло, как на похоронах. В двадцати шагах от неё слева и справа — автоматчики, колонной по одному, вразрядку.
Мы поднимаемся.
Колонна и автоматчики видны нам сверху. Длинные чёрные тени от невысокого солнца.
И не одна эта колонна, а много их, расходящихся степными дорогами от главных ворот.
И весь лагерь сверху — прямоугольник, обнесенный забором и вышками. Внутри ещё заборы и зоны, бараки, линейки и ни деревца.
Мы опускаемся
к одной из выходящих колонн, к другим воротам.
Эта колонна — женщины… С такими же номерами на груди, на спине, на шапке, на юбке. В таких же платьях и телогрейках, забрызганных глиной, штукатуркой.
Весь кадр брызгами разлетается.
= Это — брызги щебня от камня,
= от молота, опускаемого чёрной рукой заключённого, дробящего камень на щебень. Однообразно он поднимает и опускает молот.
Стук многих молотков по камню.
= Целая бригада заключённых сидит на земле, на камнях — и бьёт камень на щебень, камень на щебень.
Нетрудно как будто, а говорить не хочется. Нетрудно как будто, а работа каторжная.
И так же вручную другие зэки относят набитый щебень носилками.
Медленно относят. Еле покачиваются спины их с латками-номерами.
Они взносят носилки на помост
и высыпают щебень в пасть бетономешалки.
Гудит бетономешалка.
И следующие туда же.
И следующие.
= А внизу в подставляемые носилки-корытца бетономешалка выливает бетон.
И этими корытцами пары зэков несут и несут бетон.
= Все — одной дорожкой, как муравьи.
Как муравьи.
И — трапом наверх. и идут по лесам вдоль опалубки.
И выливают свой бетон. и назад.
Торчат, уходят вдаль вертикальные стойки лесов и опалубки. Вспышки электросварки.
Большое поле стройки вокруг здания. Нагорожено, наставлено, навалено. Строятся и другие здания.
= Клочок строительного поля.
Крупнее.
Земля вылетает из траншеи от невидимых лопат. Сбоку — ноги стоящего в лагерных тупоносых ботинках.
Из траншеи голос:
— Бригадир! Ну, смотри, опять обвалилось. Как копать?
От ботинок вверх — и весь бригадир, Т–5. Очень хмуро он смотрит
= вниз, в траншею. Она уходит за оба обреза экрана — узкая глубокая щель с обвальными песчаными краями. Там внизу, когда копающий наклонится, — кажется, он совсем на дне, черепаха с белой латкой на спине. Сюда наверх, в нас, летят из траншеи сыпки с лопат.
Шорох сыпков земли.
Их четверо копают. Озабоченный низенький мужичок с чёрной небритой щетинкой. и Гавронский, Р–863. Но только долговязый Гедговд, распрямившись, почти достаёт до верха траншеи. Он опять улыбается:
— Покойная мама всегда предупреждала меня: Саша, ты плохо кончишь! Ты кончишь плохо — ты женишься на проститутке!.. Но боюсь, что до этого заманчивого конца я не доживу! Вчера Сатурн зловеще вступил в восьмой квадрат. Это очень меня безпокоит.
= Бригадир хмурится. и слушает и не слушает.
— А ну-ка, Бакалавр, пошли со мной.
Наклоняется и протягивает руку Гедговду. Тот уцепился, карабкается из траншеи. Выбрался, но из-под ног его обваливается косяк песчаной стенки. Гедговд оборачивается, качает головой.
= И — вслед за бригадиром. Тот быстро шагает, широкая спина.
Мимо них опять — с носилками, с носилками… и сидит на земле, как на восточном базаре, та бригада, что бьёт камень на щебень.
Удары молотков о камень.
И тачки катят вереницей, железные тачки. «Машина ОСО»! — две ручки, одно колесо…
Грохот тачек, повизгивание колёс.
= Вот и подходят — близится дощаное временное здание, на фанерной двери кривая надпись углем: «Контора». Бригадир обернулся:
— Подожди меня здесь, Бакалавр. Если ещё раз откажут, так мы…
Обещающе кивнул, вошёл в контору.
Мимо Гедговда проходит автомобиль-самосвал
и останавливается перед вахтой, тоже дощаной некрашеной будкой. Гедговду видно, как из вахты выходит ефрейтор, подходит к кабине шофёра, проверяет его пропуск. На подножку вскочил, заглянул в кузов — не ухоронился ли кто там? Потом прошёл
к воротам — двойным, решётчатым из брусков. Внутренние развёл внутрь, внешние — наружу.
= А между конторой и вахтой — трое заключённых ошкуряют топорами долгие брёвна.
Стучали топорами — и перестали разом.
По всему низу экрана тянется их бревно. А они подняли глаза от топоров и покосились
= туда, на открытые ворота. Самосвал, покачиваясь, прошёл сквозь них.
А сзади нас — опять сигнал грузовика.
Ефрейтор от ворот оглянулся, но не оставил ворот открытыми, свёл и внешние и внутренние.
= Трое опять наклонились над бревном, работают.
Стучат их топоры.
= Опять самосвал, минуя нас и Гедговда, подошёл к вахте. Ефрейтор повторяет всё сначала: проверяет пропуск, осматривает кузов, заглядывает меж колёс. и так же идёт к воротам, открывает внутренние, разводит внешние.
Топоры смолкли.
= И все трое (лицо одного выделяется щедрой мужественностью) смотрят опять от своего бревна…
= …на то, как выходит грузовик в свободные ворота. Как заводит ефрейтор наружные, закрывает внутренние.
А дальше от ворот — колючая проволока в три ряда. Столбы.
И вышка. На ней — часовой. Свесился через барьерчик, смотрит сюда, дуло карабина высовывается над барьерчиком. А с наружной стороны вышка обшита тёсом, от ветра. Ведь ему туда не стрелять.
Застучали топоры.
Шторка.
= Комната конторы. За канцелярским столом — худой мужчина в форменной фуражке с молоточком и ключом — прораб. Рядом со столом прораба сидит майор МВД, очень жирный. Сбоку стоит С–213, он принёс прорабу подписывать бумаги. Он сейчас — деловой, крепенький, и ломком бы мог ворочать.
Голос от нас:
— Почва песчаная, осыпается чуть тронь. Глубина траншеи два метра двадцать!
= Это — Т–5, бригадир. Он говорит со злостью:
…И вы обязаны делать крепление! Техника безопасности одинакова для всех! Заключённые тоже люди!
= Лицо майора. Всем доволен. Его не проймёшь! Даже нахмурился небрежно, не делает усилия как следует нахмуриться:
— Ах, тоже люди?! Ты демагогию бросай, Климов, а то я тебе место найду!
Прораб. Жёстко, быстро, одновременно подписывая бумаги:
— Траншея — временная, и крепления не полагается. Сейчас уложите трубы — и завалите. Вам и дай крепление, так вы только доски изрубите да запишете в наряд! Знаю! А ставить не будете. Не первый год с заключёнными работаю. Уходите!
= Климов. Немного жил — и всю-то жизнь или солдат, или военнопленный, или заключённый. Да чем можно пронять этих людей? Слишком много пришлось бы сказать, если начинать говорить…
За спиной Климова распахивается дверь. В неё ныряет, не помещаясь, Гедговд. Он искажён, кричит:
— Бригадир! Засыпало наших!!
И убежал, ударившись о притолоку.
Лицо Климова!!
Спина!
И убежал. Только непритворенная дверь туда-сюда покачивается, покачивается…
______________
= Всё это засыпает внезапным песком. Густой обвал жёлтого песка по всему экрану.
Сверху.
Мёртвая неподвижность уже свершившегося обвала. Уже и потерялось, где были раньше стены траншеи. Нет, чуть сохранилась линия с краю.
Там картузик лежит на бывшей твёрдой земле: Р–863. А из песка высунулись
руки! — пять пальцев! и другие пять! Они пытаются очистить путь своей голове.
Топот. Сюда бегут.
Выбарахтывается, выбарахтывается кто-то из траншеи.
Его тянут! Тянут и отгребают.
Это — Чеслав Гавронский…
Нет, не дай Бог видеть лицо человека, вернувшегося с того света!.. Губы искривлены, как у параличного. Рот набился песком. Кашляет судорожно.
Его вытащили уже всего. Он кашляет, кашляет — и пальцем показывает, где засыпало его товарищей.
Скорей! скорей! Кто-то с размаху вонзил лопату в песок и выгребает ею.
— Стой! Голову разрубите! Только руками!
В кадр вбегает Климов. Он бросается на колени. и роет быстро-быстро, как лапами крот.
= И с ним рядом — Гедговд. и другие. На коленях все.
А с краёв — лопатами, лопатами. Осторожно.
Гавронский приподнялся на руках, кашляет, хрипит и показывает, где отгребать.
= Кто-то сверху (только ноги его видны да спустившаяся рука) надевает на голову Гавронскому его картузик Р–863. Ног много кругом. Все собрались, да работать негде.
— Врача бы из лагеря…
— Звонили. Конвоя не дают врачу.
Шторка. Вид сверху.
= Со дна траншеи копающие поднимают над собой тело.
Это — мальчик почти. Мертвец. Его лоб надрублен наискосок неосторожной лопатой. Песком забиты ноздри и зев рта.
Положили его на землю. Лицом к небу.
А рядом взмахами рук-плетей делают искусственное дыхание мужичку, чёрной щетинке.
Климов делает. Но уже и он на исходе сил.
Слабеющими взмахами рук-плетей щетинка чёрная отбивается от жизни.
Музыка похоронная.
Климов сидит около мертвеца. Схватился за голову. Плачет солдат. Виноват — солдат…
= Гедговд идёт прочь. Он идёт зоной, не видя её. Он если и слышит что, так
эту музыку. Похоронную.
Мимо него — с носилками, с носилками.
И сидит бригада на земле, бьёт камень на щебень.
Катят тачки железные вереницей.
= Колючая проволока. Передвигается по экрану. Вот и ворота. Вахта. Грузовик ждёт выпуска.
______________
= Ефрейтор проверил пропуск, с подножки осмотрел кузов. Заглянул под задние колёса.
Топоры тесали и остановились.
= Трое смотрят от своего бревна.
= Пошёл ефрейтор к воротам, открыл внутренние, взялся за внешние.
Голос сзади нас:
— Шофёр! Шофёр! Иди сюда! Прораб зовёт.
Шофёр — в старой солдатской пилотке, но в гражданском. Вылез из кабины, пошёл на голос.
А мотор тихо работает.
= Ефрейтор развёл внешние ворота и оглядывается — почему шофёр не едет.
= Трое над бревном. Переглянулись молнией.
= Машина ждёт! и дверца открыта.
= И бросились!
= Двое — в кабину! один — в кузов!
И — тронули, на ходу прихлопывая дверцы!
= Изумлённое лицо Гедговда!!
В музыке — бетховенская рубка! («гремят барабаны! литавры гремят!»)
— И я! и я с вами!!
= Долговязый! Догоняет машину! Вспрыгнул на задний борт. Висит!
= Машина — на нас!! Раздавит!!
Вой мотора.
= Не на нас! — на ефрейтора! Он метнулся прочь, давая дорогу.
И у столба ворот — за пистолетом лезет в кобуру. Лезет, никак не вытащит. Выхватил!
= Вон — уходит грузовик по дороге! Гедговд ноги подбирает в кузов.
Выстрел! выстрел! — от нас, пистолетный. А сбоку сверху, с вышки, — карабинный, раскатистый. и ещё!
Уходит грузовик! уходит!
(«Гремят барабаны! литавры гремят!»)
Мы вознеслись. Сверху.
Угол зоны, обращённый к бегущим. Вот с этой угловой вышки и стрелять! — но несподручно: она с двух внешних сторон обшита от ветра. Изгибаясь, бьёт часовой.
= А грузовик уходит! уходит!
Выстрелы слабеют вдали.
После косой шторки — только уголок экрана.
= Индукторный телефон старого образца. На него падают руки военного — на трубку и на ручку. Круть, круть, круть! — говорящего не видно всего:
— Конвойный городок! Конвойный городок! С третьего объекта — побег! На машине в сторону рудника Дальнего! Дайте знать на рудник Дальний! Вызовите мотоциклы! Всем — в ружьё!!
Косая шторка открывает широкий экран.
= Наискось вырывается наш грузовик.
Он несётся, несётся, несётся! — мимо последних строений посёлка.
Он уходит, уходит, уходит! — уже по степной дороге. и две фигуры видны нам сзади в кузове. Их швыряет, они скрючились, держась за борта и крышу кабины. Один слишком высок.
= А теперь — спереди. Две головы — над кабиной. Два лица — в кабине, через ветровое стекло. Их напряжение обгоняет бег автомобиля: убежать! успеть! уйти!
= Двое в кабине — во весь широкий экран. За рулём — тот крупнолицый, главарь. Что за щедрая сила у этого человека! Крутит руль и стонет:
— Э-э-эх, где вы, мои крылышки? Когда надо — вас нет!..
Сосед его — за плечо:
— Слушай, Ваня! Рудник Дальний — объедем! Они до дороги — достанут! Объедем по целине!
— Не! На целине скорость потеряем! Дуну ветром!
Сосед стучит назад в стекло:
— Эй вы, шпана! Ложись! Ложись! Прицепился, чёрт долговязый…
Но мы отступаем ещё быстрей, чем
на нас несётся грузовик. Мы видим его всё меньшим, меньшим. Его отчётливо видно: чёрненький, сзади от него — хвост серо-белой пыли, перед ним — серо-белая лента дороги.
= Мы видим его с охранной вышки — меж двух её столбиков и под её навесом.
Мы чуть опережаем его дулом нашего карабина.
= Мы видим его увеличенным в наш оптический прицел и выбираем место цели — передний скат. Сейчас мы его…
Оглушающий выстрел около нас.
= Ствол карабина рвануло и увело.
Тем временем — выстрелы неподалёку.
И в прицеле нашем видно, как грузовик уже заносит поперёк дороги.
Бьём и мы!
И вместе с выстрелом несёмся на грузовик. Шофёр-лётчик выпрыгивает, смотрит на пробитый скат.
И назад смотрит, откуда приехали,
на нас. Ну что ж, берите, гады. Крепкие руки из-под закатанных рукавов лагерной курточки скрестил на груди.
Его товарищ выскочил из кабины и показывает:
— Топоры наши!..
Лётчик кивает головой:
— Закинь их подальше…
И те двое выскочили из кузова. Гедговд мечется:
— Ах, ну как же это? Как же это досадно получилось… Побежим напрямик! Побежим!
Лётчик лишь чуть повёл глазами туда, куда машет Гедговд.
= Сколько глазу хватает — открытая степь. Песок. Редкими кустиками травка. Да «верблюжья колючка».
= Четверо у грузовика. Обречённые. Один навалился ничком на капот.
А сзади зрителей, ещё не близко, нарастает рёв мотоциклов.
Лётчик оборачивается:
— Слушайте, кто вы такой?
Гедговд снимает блин фуражки и делает подобие гостиного поклона:
— Вообще, я довольно вздорный человек. Я боюсь, что вы подбиты из-за моего несчастного гороскопа. Сатурн — в восьмом квадрате. и мне не следовало прыгать в вашу машину. Я — недоучка, философ, два факультета Сорбонны. Русский эмигрант, везде лишний. Александр Гедговд, по прозвищу «Бакалавр».
Лётчик протягивает широкую ладонь:
— Будем знакомы. Герой Советского Союза майор авиации Иван Барнягин.
А рёв мотоциклов уже за самой нашей спиной.
Барнягин смотрит, прижмурясь, как они несутся:
— Ну, ребята, сейчас будут бить. Насмерть. и ранеными в карцер. Валите на меня, всё равно…
Уже кричат, чтобы перекрыть мотоциклы:
— Кто останется жив — привет товарищам! Да здравствует свобода!!
Все четверо они впились, как
= летят мотоциклы. Их восемь. Сзади каждого — автоматчик. Все на нас!
Разъезжаются вправо и влево, чтоб охватить нас кольцом. Остановились с разбегу. Автоматчики соскакивают и, замахнувшись прикладами, бегут на
Обычный экран.
нас!!
Опрокидывается небо. Теперь только небо во весь экран, небо с облаками.
Крики:
— Р-разойдись, стервятина! Р-раступись, падаль, по одному! Руки назад! Свободы захотели?..
Бьют. Здесь, в зрительном зале, бьют. Слышны удары по телам, паденья, топот, кряхт, хрип, тяжёлое дыхание бьющих и избиваемых. Крики боли. Ругательства и ликование.
Кучевые облака — храмы небесные, снежные дворцы — медленно проплывают голубым небом.
______________
Стало тихо.
Обычный экран.
Небо отходит в верхнюю часть экрана, а снизу выступают верхушками столбы строительных лесов
и сами леса. Двое заключённых мерно несут по помосту вдоль стены носилки с диким камнем.
Они несут так медленно, как плывут эти облака.
Они идут — и всё здание постепенно показывается нам в медленном повороте. Это — тюрьма-крепость. Одно крыло её уже построено: неоштукатуренный массив дикого камня, только дверь небольшая и оконца крохотные в один рядок. Не пожалели камня.
Второе крыло лишь теперь и строится. Мы поднялись с подносчиками и видим, что возводимые стены тюрьмы — толще метра. Сверху видно, как на клетки маленьких камер и карцеров разделена будущая тюрьма.
Грохот камня, высыпаемого из носилок.
= Подносчики высыпали камень около худощавого юноши Р–27, кладущего стену. Высыпали, постояли. Ещё медленнее пошли назад. Как будто раздумывают: да надо ли носить?
И Р–27 кладёт стену с той же печальной медленностью, с той же неохотой. Камни бывают большие, он их не без труда поднимает на стену двумя руками, выбирает им место.
= А в небе плавает коршун.
= А вокруг — и без того зона. Колючка, вышки.
Степь.
Ветерок посвистывает.
= Р–27 тешет камень молотком, чтобы лёг лучше.
= Каменщики и подносчики в разных местах вокруг возводимых стен. Все работают с такой же надрывной неохотой.
Круто сверху.
От лагерных ворот подходит к тюрьме воронок — такой же, как в городах, но откровенного серо-чёрного цвета. Его подают задом к двери тюрьмы. Все на постройке замирают:
у груд камней, внизу, откуда нагружаются носилки;
на трапах;
на лесах у косо-ступенчатых стен. Бригада напряжённо смотрит, как
= открывается задняя дверца воронка, отпадает подножка, выскакивают трое солдат, и из кабины выходит лейтенант в зелёной фуражке.
= Навстречу им открывается окованная железом дверь тюрьмы. Оттуда выходит надзиратель с большим ключом (его голубые погоны с белыми лычками — мяты) и ещё другой, в матросской форменке без нашивок, на груди обнажён угол тельняшки.
= Лейтенант кричит внутрь воронка:
— Вы-ходи!
И по одному, сгибаясь при выходе, а потом распрямляясь с усилием и болью, выходит четверо беглецов. Все они избиты до крови и досиня. У троих руки связаны за спиной. Первым идёт Барнягин с заплывшим глазом, с лиловой полосой по лбу. Но голову закинул и кивает строителям.
Потом — Гедговд, кровоточа ртом, с распухшей губой. Спина его долгая не распрямляется.
У третьего рука висит плетью, одежда с плеча содрана, там рана.
= Шагов двадцать им до раскрытых дверей тюрьмы. Надзиратель-«морячок» ногой поддаёт проходящим, и лицо его при этом искривляется радостной психопатической истерикой.
Надзиратели вошли вслед за арестантами. Дверь заперлась.
Солдаты вскочили в воронок, и он отходит к воротам.
= Общий вид всё так же неподвижных строителей.
= Острое мучение на чутком лице Р–27. Это его избили вместе с беглецами.
Припал ничком на стену, уронил голову.
Звякнул
= упавший мастерок.
______________
= К Р–27 подходит Мантров. Та же арестантская чёрная куртка, тот же картузик, такие же номера, но какая-то рассчитанность, чуть ли не изящество и в его одежде, и в его движениях. и лицо очень чистое — хорошо выбрито или на нём ещё не растёт.
Обнимает дружески товарища:
— Ну брось, Володька! Володька…
Володя поднял голову. Что же можно «бросить», если тебя только что избили сапогами?!
— Виктор! Как мы можем так низменно жить? Зарабатывать у палачей пайку хлеба! Сто грамм каши лишней на ужин! — и чем? Что строим тюрьму для себя самих?!..
Уголок номера на его фуражке чуть отпоролся и треплется ветерком. Больше нечему развеваться на этих стриженых головах.
Мантров омрачился. Вздохнул:
— Я не напрашивался на эту работу, ты знаешь. Я добивался вывести бригаду за зону. А назначили сюда…
Р–27 с негодованием:
— Хотя бы у блатных мы переняли немножко гордости, цыплячьи революционеры! Ведь блатные не положат ни камешка на стену своей тюрьмы! и не натянут ни одной нитки колючей проволоки! Трёх лет ещё не прошло — студентами какие мы гордые речи произносили! Какие мы смелые тосты поднимали — перед девчёнками! А здесь — наделали в штанишки?..
Мантров, проверив, чист ли камень, садится боком на стену:
— Но прошло три года, и пора становиться мужчинами. Здесь постарше нас, поопытней, — а что придумали? Вот, Герой Советского Союза… А что придумал он? Куда бежал? На что рассчитывал? Таран! — своими боками… Или полковник Евдокимов. Академию Фрунзе кончил, два раза упоминался в сводке Информбюро. и говорит: я из окружения полдивизии вывел, а вот что здесь делать — не знаю…
— Но из нашей трезвой трусости! Из нашего безпамятного рабства! — какой-то же выход должен быть!!
— Самообладание, мой друг, — вот наш выход. Ясность ума. и самообладание. Только тогда мы можем рассчитывать пережить срок. Выйти на волю. Захватить ещё кусочек мирной жизни, пока не начнётся новая война.
Нет! нет! нет! нет! не то!
— Да как ты не понимаешь? Да не нужен мне мир! и никакая воля мне не нужна!! и сама жизнь мне не нужна!! — без справедливости!!
Медленное затемнение.
Стеклянный печальный звон бандуры. Неторопливый перебор струн на мотив «Выйди, коханая…»
Из затемнения.
= По экрану, в длину его, медленно проплывают двухэтажные вагонки, вагонки, вагонки, печь белёная, барачные окошки в решётках (за ними — тьма). Заключённые лежат, лежат, на первых «этажах» ещё и сидят. Раза два мелькают шахматисты. Редкие читают. Кто спит, кто так просто лежит. Слушают, смотрят на…
Звуки ближе.
…бандуру. На втором этаже вагонки поставлен её ящик. Откинута и стоймя держится крышка. На ней изнутри — умильно-лубочный пейзаж: белая мазаная хатка с вишнёвым садочком за плетнём, на улочке — верба погнутая, и дивчина в лентах с писаным лицом несёт на коромыслах вёдра. Но в благородном звоне бандуры у нас не улыбку, а грусть об утраченном вызывает этот наивный рисунок.
Струны бандуры перебирают пальцы двух рук. Это играет старик со стриженой седой головой. Там, наверху, он поджал ноги, сгорбился над бандурой. Он сам — не плачет ли?..
На соседней с бандуристом койке — мордастый парень, Ы–655. У него грубое лицо, но умягчённо он слушает бандуру. и у него в таком селе такая дивчина.
(Выйди, коханая, працею зморена,
Хоч на хвылыноньку в гай!..)
Мы отходим
по большому бараку, а потом и теряем бандуру из виду.
Но она всё играет, надрывая душу. Потом тише.
= Внизу сидит старик с головою льва, только без гривы. Щёки небриты, сильно заросли. Высокое чело, оголённое возрастом темя. Он — в очках, штопает шерстяной носок.
Близкий голос:
— А за что, Дементий Григорьич, могли посадить вас, безвреднейшего ботаника?
Дементий Григорьич поверх очков покосился на спросившего. Улыбнулся:
— Ботаников-то и сажают, вы газет не читаете?… Впрочем, я не за ботанику. Я раньше успел…
Штопает носок.
…Будь это лет сорок-полсотни назад, я вполне мог бы послужить персонажем для чеховского рассказа. Учёная размазня, собирающая свои гербарии где-то в захолустной России. Писал бы труд о каком-нибудь «леукантемум вульгарис». Ну и девушка, конечно, — передовая, непонятая… Какое-нибудь мучительное провожанье между ржи, при луне. Кажется даже, такой рассказ у Чехова есть. Но в наше время новеллы имеют другие сюжеты. Я наказан за реликтовое чувство: за нелепое желание защищать родину. Тюрьма моя началась с того, что я записался в народное ополчение. Кто не пошёл — продвинулся по службе, преуспел. А ополчение бросили с палками на танки, сдали в плен и от издыхающих в плену отказались…
Занимается своим носком.
Косая шторка, зайдя за диагональ экрана, останавливается чёрной чертой.
В нижнем задавленном углу, окружённое сизыми клубами затемнения, остаётся освещённое лицо ботаника. Он — штопает.
А наверху, на просторе экрана — светлая чистая комната. Портрет маршала Сталина на стене. Пирамидка с карабинами и автоматами. На нескольких скамьях, друг за другом, сидят солдаты, сняв фуражки на колени. Бритые головы. Привыкшие к исполнению лица. Очень серьёзные, как перед фотоаппаратом. Скомандуй им залп — и тотчас будет залп.
Плавный поворот объектива.
Солдаты — затылками, а лицом к нам — их политрук. Толоконный лоб!
— …ознакомить вас с некоторыми судебными делами заключённых, чтобы вы понимали, кого вам поручено охранять. Это — отбросы общества, это — гады, задохнувшиеся от ненависти, это — политическое отребье, недостойное того хлеба и каши, которые им даёт советская власть. Я вот в канцелярии лагеря выбрал дела наугад…
Политрук берёт папку из стопы перед ним, раскрывает…
…Меженинов Дементий Григорьевич. По специальности ботаник. Прокрался в аппарат Академии Наук. Получал огромную зарплату. Спрашивается — чего ещё ему не хватало? Так нет! — он отравлял семенные фонды! Подрывал прогрессивную систему академика Лысенко и тем способствовал гибели урожаев! А во время войны пошёл и предал родину!..
Откладывает папку в негодовании, берёт сразу две, одна вложена в другую.
…Или, пожалуйста, его бригадир Мантров Виктор, и в той же бригаде одноделец Мантрова — Федотов Владимир.
= В тёмном задавленном углу гаснет лицо Меженинова, вспыхивает уменьшенный тот же самый кадр, каким смотрели на нас со стены тюрьмы Федотов и Мантров.
А мелодия бандуры не угасла, она порой доносится едва-едва.
…Оба — двадцать седьмого года рождения! Советская власть их вспоила, вскормила, допустила к высшему образованию. Так вы думаете — они были благодарны? Они создали подпольную антисоветскую группу, писали клеветнические сочинения и ставили своей задачей свержение власти рабочих и крестьян, реставрацию капитализма! Растленные бандиты, они по ночам выходили на улицы, грабили прохожих, насиловали и убивали девушек! Так если такой побежит — что? Жалко ему пулю в спину?!
= Лица замерших солдат. Сведенные челюсти. Нет! Пули не жалко! Озверелый автоматчик позади них на плакате.
= В нижнем углу погасли мальчики-однодельцы. В светлом овалике вспыхнуло настороженное, смотрящее вверх лицо Чеслава Гавронского.
Голос политрука:
…Да в любой бригаде! Да кого ни возьми! Вот, например, некий пан Гавронский, лютый враг своего народа, презренный эмигрантский наймит, профессиональный убийца из Армии Краёвой. Вы знаете, что такое Армия Краёва? Это фашистская агентура, которую Гитлер нам оставил на территории Польши, чтобы убивать из-за угла!
Солдаты не просто неподвижны: они наливаются яростью, они, кажется, переклоняются вперёд — и сейчас бросятся колоть и топтать заключённых.
Там смолкает всё. Звук в нижнем углу,
говорит Гавронский, воодушевлённо глядя вверх:
— С тех пор как Гитлер напал на Польшу, а в спину нам ударил Советский Союз, — Армия Краёва не выпускала оружия. Мы ещё хотели быть друзьями Советов…
Но ещё громче:
— Да замолчите вы со своей проклятой музыкой, пока я её не перекалечил!
Раскололось и исчезло всё.
______________
Всё стихло.
= Тот же арестантский барак.
Последний звон струны
= бандуры, случайно зацепленной пальцами. Старик снял руки с бандуры, смотрит сюда.
Все смотрят сюда, на
= гражданина надзирателя. Это он кричал. Здоровый, черночубый, и лицо угольное, в угрях. Рядом с ним — Возгряков, низенький заключённый с подслеповатым испорченным глазом и покатым лбом питекантропа. Тряся пальцем, он тянет гнусаво:
— Я давно-о говорю, гражданин начальник, — эту бандуру в печке истопить. Не положено здесь музыкальных инструментов!
Но надзиратель не ведёт головой:
— Внимание, заключённые! Прослушайте судебное постановление!
Он поднимает бумагу (чуть краешком она становится видна внизу экрана) и мрачно веско читает нам:
…Военный Трибунал Особого Равнинного лагеря МВД СССР, рассмотрев дело по обвинению…
= И опять по экрану проплывают вагонки с заключёнными — те же вагонки и те же заключённые, которые уже прошли перед нами раз. Но теперь они не читают, не играют, не лежат, не спят — они приподнялись, переклонились, неудобно замерли, слушают:
…заключённых 4-го ОЛПа Равнинного лагеря МВД Таруниной Марии, 1925 года рождения, прежде осуждённой к десяти годам по статье 58-один-А, и Скоробогатовой Светланы, 1927 года рождения, прежде осуждённой к десяти годам по статье 58-десять…
Загнанные, с исподлобным страхом. и ко всему притерпевшиеся — равнодушно. и облегчённые, что приговор — не им. и затаив дыхание. Пряча гнев. и не пряча его. Со страданием. С ненавистью.
Бандурист слушает — как будто всё это слышал ещё от дедов. Дивчина с вёдрами кажется испуганной? или удивлённой?
…в том, что они уклонялись от честного отбытия срока заключения и вели у себя в бригаде и в бараке разлагающие антисоветские разговоры…
Мы и раньше видели этого сурового арестанта Т–120: поджав ноги, он мирно играл в шахматы на нижней койке. Сейчас нет его партнёра. и сам он не смотрит на шахматы: он впился, слушая. У него тот украинский тип лица, который бывает от примеси, должно быть, турецкой крови: брови — чёрные мохнатые щётки, нос — ятаган.
…нашёл упомянутых заключённых виновными в предъявленных обвинениях и приговорил…
Рядом с Т–120 приподнялся, взялся за косую перекладину вагонки и как бы повис весь вперёд — Володя Федотов. Каждое слово приговора — прожигает его.
…Тарунину Марию, 1925 года рождения, и Скоробогатову Светлану, 1927 года, — к двадцати пяти годам Особых лагерей!
Весь кадр косо передёрнулся.
= И опять — подслеповатый зэк, слушающий преданно, и надзиратель. Кончил читать. Опускает бумагу. Смотрит на барак:
— Ясно?
О, молчание! Какое молчание!..
= Вдруг в глубине возникает маленький рисунок дивчины с бандуры и…
Всплеск музыки!
…вихрем проносится на нас, захватывая пол-экрана, — потрясённая! с закушенными губами!
И — нет её. Надзиратель небрежно, углом рта:
— Выходи на проверку!
И повернулся, уходит. Подслеповатый Возгряков кричит, тряся над головой фанерной дощечкой:
— На проверку! Бригадиры! Выводите народ на проверку!
= Тот угол барака, где шахматист горбоносый и Федотов. Федотов — не в себе:
— Друзья! Девчёнок, не видевших жизни! За стеной! Здесь! А мы всё терпим? Политический лагерь, да? Гай!
Гай (это Т–120) ещё смотрел туда, откуда читали. Ждал, что ещё не всё прочли?.. Вдруг резким взмахом ударяет по шахматам, фигуры разлетаются.
— Не то, что — девчёнок! А ты задумайся…
Ярость! Извив ищущей мысли пробивается через его лоб:
…Ведь их не случайно взяли — их продали! ведь это кто-то каждый день…
чуть пристукивает согнутым пальцем
…закладывает души наши! Ведь это кто-то стучит, стучит…
Затемнение.
______________
Ясные удары: тук-тук. Тук-тук.
Голос:
— Можно.
Обычный экран.
= В маленькой голой комнатке с обрешеченным окном сидит за голым столом надзиратель, читавший приговор. К столу подходит Возгряков и кладёт перед надзирателем маленькую мятую бумажку:
— Вот, гражданин начальник, списочек: у кого ножи есть. Трое их. Потом вот этот завтра на развод понесёт письмо, чтоб на объекте через вольного передать. На живот положит, под нижней рубашкой ищите. А ещё один — у него я подметил бумагу в зелёную клетку, на какой было написано воззвание. Надо завтра изъять — не та ли самая бумага?
Надзиратель просмотрел списочек:
— Здорово. Этого гада с зелёной бумагой надо размотать. А ножи большие?
— Не, вот такие, сало резать.
— Ну, всё равно посадим. Деловой ты у меня старший барака, Возгряков. С тобой можно работать. Кем ты был до ареста, а?
Подслеповатый Возгряков усмехается, отворачивается от надзирателя в нашу сторону. Глубоко вздыхает. По ничтожному лицу его с постоянно слезящимся больным глазом проходит отблеск величия.
— Я был…
Садится на скамью как равный.
…страшно сказать, какой большой человек!
Крупно.
= Его лицо, искажённое многими годами лагеря, меж губ сильно прореженные зубы.
…Я в ГПУ был, по нынешнему счёту, — полковник. Меня Менжинский знал, меня Петерс любил… Сюда меня Ягода за собой потащил. и вот гноят шестнадцать лет… Не верит мне Лаврентий Павлович… Не верит!..
Шторка.
= Кабинет попросторнее. Обставлен хорошо. У окна (свободного от решётки) — вазон с раскидистой агавой. За письменным столом в свете настольной лампы — старший лейтенант. Близко к нам — спина сидящего заключённого. Он говорит с грузинским акцентом:
— А Федотов на днях прямо призывал к сапративлению! Кричал: девчёнок рядом засуживают — зачем терпим?
Видим говорящего спереди, узнаём, что он был близ Федотова в бараке. Сидит независимо, свободно жестикулирует. Он высок, строен и щёголь: подстрижены височки, выхолены брови.
…И ваабще настроение Федотова — крайне антисоветское.
Голос:
— А Мантрова?
— Мантров — хитрый, никогда не говорит. А Федотов — открыто.
Тот же голос:
— Ну, например. Ну, ещё конкретное высказывание Федотова.
— Ну, пажалуста, канкретно. Говорит: если власть тридцать пять лет на месте сидит, так мы против неё — не контрреволюционеры, а — революционеры.
= Старший лейтенант за столом. Очень заинтересован:
— Но конкретно, он советскую власть называет? Ведь мы сейчас должны протокол написать, Абдушидзе!
— Ну, может советскую власть прямо не называл, но МВД — какая власть? Зачем мне врать, гражданин старший лейтенант? Я не за деньги вам работаю, па сачувствию.
— И ещё — за досрочку, Абдушидзе. За досрочное освобождение.
Быстрое затемнение.
______________
И опять так же: тук-тук. Тук-тук.
Резкий нетерпеливый ответ:
— Да! Войдите!
= Комната, подобная предыдущей. Но офицер — не за письменным столом, а стоит у окна, к нам спиной, в накинутой на плечи шинели. Он повернул голову через плечо к нам. Картинная нервная поза. Он вообще картинно выполняет воинские обязанности. Отрывисто:
— Ну, что пришёл? Почему так поздно?
Мы ещё не видим вошедшего,
только слышим его задыхающийся шёпот:
— Гражданин начальник режима! Готовится большой побег человек на двенадцать!
Начальник режима рванулся и с места бегом, развевая наброшенной шинелью, —
= сюда! Лицом к лицу с С–213, первой скрипкой лагерного оркестра. Но не добродушно-сонное выражение у секретаря прораба. Яркие тёмные глаза его возбуждены:
— Во втором бараке… из той комнаты, где бригада Полыганова… лазят ночами под пол и копают… я установил… копают под зону!!
У маленького лейтенанта — короткие волосы светлого чубика чуть спадают на лоб. Это — мальчишка, очень довольный, что он — офицер и как бы на фронте. Он еле успевает выговаривать вопросы:
— Бригада Полыганова? Какая комната?
— Десятая.
— Кто да кто бежит?
— Точно не знаю. Как бы ещё и не из бригады Климова.
— Давно копают? Сколько прокопали?
— Слышал — дня на два осталось.
Лейтенант скрестил руки на груди. Думает. Отрывисто:
— Ладно, иди!
С–213 отступает из кадра, как бы немного кланяясь, прося не забыть доноса и его самого.
Звук двери (ушёл).
Только теперь лейтенант бежит к телефонной трубке. Колено поставил на стул:
— Ноль три… Жду… Начальник оперчекистской части? Говорит начальник режима Бекеч. Имею срочные сведения…
Затемнение.
= Не сразу поймёшь, что на экране. Наискосок по нему — подземный лаз. Он просторен настолько, чтобы полз по нему один. Туннелик укреплён боковыми столбиками и верхними поперечинками. На потолке даже горит электрическая лампочка. Лагерное метро! Сюда, к нам, ползёт человек, толкая перед собой фанерный посылочный ящик, наполненный землёй. Он ползёт, и за ним, в дальнем конце, открывается второй человек, который там лёжа, не прерываясь, копает короткой лопатой.
А здесь, впереди, откатчика земли встречают руки товарища. Полный ящик сменён на пустой, и первый откатчик ползёт с ним вглубь к копающему, а ящик с землёй
поднят в просторный барачный подпол с кирпичными столбиками там и сям. Скрюченная тёмная фигура заключённого относит ящик, высыпает землю в кучу.
Сверху открывается щель треугольником (отодвинутый люк). Оттуда:
— Орлы! Через пять минут даю смену.
Заключённый снизу, так же приглушённо:
— Михал Иваныч! Юстас твёрдо говорит — зону прошли. Машины с дороги здорово слышно.
— Ну, молодчики. Ещё два ящика и вылезайте.
Люк закрылся.
Но мы проходим линию пола наверх.
= Михаил Иваныч Полыганов, небольшого роста, средних лет мужичок с жёстким волчьим выражением старого лагерника
поднимается от закрытого люка и ещё с одним помощником надвигает на него стойку вагонки.
= Комнатка подходящая — всего из двух вагонок. Кто спит, а кто готовится идти — не одевается, а раздевается (наверху должна быть одежда без земли).
Очень тихо.
Полыганов прислушивается к двери в коридор.
А в оркестре — удар!!
Шторка.
= Группа солдат с двумя собаками и станковым пулемётом полукругом оцепляет место у лагерного забора, снаружи.
= Лейтенант Бекеч. Как это интересно! и при ночных фонарях видно его решительное полководческое лицо.
Он становится на колени. Ухом к земле. Другому офицеру, конвойному:
— Слышно, как царапают. Послушай.
= Мы тоже — очень близко к земле. и вровень видим: солдат, присевших в засаду. Собак с настороженными ушами. Готовый к бою пулемёт.
— Сегодня уже не успеют. А завтра мы их голенькими возьмём!
Широкий экран.
= Уже взошло розовое солнце. По степи идёт колонна заключённых, опустивших головы, человек на шестьсот.
= Против солнца видно, как от тысячи ног поднимается до пояса пыль дороги. и висит.
В стороне — домики посёлка.
= Гуще обычного оцепление конвоя вокруг колонны.
И сзади ещё идёт резервных десятка полтора солдат.
= Видим всю колонну наискосок спереди, в первых шеренгах — Климова и Гая. Сбоку в кадр и в цепь конвоя входит офицер с надменным злым лицом. Подняв руку, он кричит:
— Стой, направляющий!
Остановилось всё оцепление и колонна. Заключённые подняли лица.
…Внимание, конвой! Патроны до-слать!!
Гремят затворы, почти одновременно все.
Смятение по колонне. Оглядываются, переглядываются. Офицер кричит:
…При малейшем шевелении в колонне заключённых — открывать огонь без дополнительной команды! Оружие — к бою!
= Все конвоиры выставили стволы.
…Заключённые!!! Ложись, где стоишь! Ложи-ись!
= Колонна дрогнула. Одни неуверенно начинают приседать и уже ложатся (среди них — С–213).
Но соседи одёргивают. Колебания.
Гай и Климов показывают: не ложись!
Не ложатся. Поднялись и кто лёг. С–213 на одном колене.
Все стоят. Дико смотрят на конвой.
И вдруг из крайнего ряда — здоровый парнюга с глупым лицом —
нет, с лицом затравленным! — нет, с обезумевшим от ужаса! —
поднял руки вверх!
и выбежал из колонны! — и бежит, бежит на конвоиров!
Он сумасшедший просто! Благим матом ревёт:
— Не стреляйте!! Не стреляйте!!
= Колонна напряглась! — но не шевельнулась!
= Офицер убегает и кричит:
— Бей его! Бей его!
= Тот конвоир, на которого бежит безумец, отступает и одиночными выстрелами
Выстрелы.
в грудь ему!.. в грудь!.. в живот! Из телогрейки парня, из спины с каждым выстрелом вылетает кусок ваты! кусок ваты! клочок ваты!
Уже убит. Но ещё бежит… Вот — упал.
= Колонна! — сейчас вся бросится на конвой!
Крик офицера:
— Ложи-ись!.. Огонь! Огонь!
Пальба.
= Бьют как попало, над головами! над самыми головами!! и кричат остервенело сами же:
— На землю!.. Ложи-ись!.. Все ложись!!..
= Как ветер кладёт хлеба — так положило волной заключённых. В пыль! на дорогу! (может, и убило кого?) Все лежат!
Нет! Стоит один!
Пальба безпорядочная.
= Лежат ничком. Плашмя. и скорчась. С–213, жирнощёкий, смотрит зло из праха наверх — как продолжает стоять
Р–863, Гавронский. Вскинутая голова! Грудь, подставленная под расстрел! Гонор — это честь и долг!
С презрительной улыбкой он оглядывает стреляющий конвой и опускается из кадра нехотя.
Пальба реже, а всё идёт.
Конвоиры и сами некоторые трясутся и бьют всё ниже, всё ниже. Это и есть «когда ружья стреляют сами».
Один конвоир ошалел и ещё кричит:
— Ложись! Ложись! Ложись!
= никому. Поваленной колонне.
Стихло.
Гай и Климов лежат впереди других и с земли смотрят зверьми сюда.
Пыль висит над колонной от паденья тел.
= Убитый парень у ног конвоиров.
= Сквозь конвойное оцепление входит Бекеч со списком. Минута его истории!
— Кого называю — встать! и выйти! Полыганов!
= Из навала тел поднимается маленький Михаил Иваныч. Весь перёд его уже не чёрный, а от пыли серый.
…Вон туда!
= показывает ему Бекеч за свою спину. и выкликает дальше:
…Шиляускас! Цвиркун!..
Мы отходим, отходим.
Голос Бекеча слабей. Вот уже не слышен.
Только видно, как встают по его вызову заключённые и, взяв руки за спину, переходят в отдельный маленький строй, где их строят лицами в ту сторону, откуда пришла колонна. Они «арестованы». Их окружает резервный конвой.
______________
Шторка. Обычный экран.
= Два заключённых (передний из них — Меженинов, сейчас он без очков) в затылок один другому несут длинную кривую ржавую трубу. Задний (Евдокимов, нестарый мужчина с крупным носом, крутым выражением) спрашивает:
— Слушайте, доцент! А не поменять ли нам плечи?
Останавливаются. Меженинов:
— Ну, командуйте.
— Раз-два-бросили!
Скидывают с плеч трубу и увёртываются от неё.
Стук и призвон трубы.
Разминают плечи. Кряхтят. Задний показывает куда-то:
— Объясните мне, пожалуйста, член-корреспонден, куда смотрит, например, Госплан? Почему в безлесной пустыне такую громадину…
= Над просторной производственной зоной — длинный, высокий корпус — из ещё не потемневшего струганого дерева. Его кончают строить: по стропилам положили продольную обрешётку, уже много покрыто тёсом. В разных местах перед корпусом и на крыше его — рабочее движение чёрных фигурок.
…отгрохали из чистого дерева? Ведь это дерево везли сюда за три тысячи километров!
Голос Меженинова:
— Полковник! Какой вы стали ужасный критик! А небось, ходя в погончиках, считали, что всё действительное разумно?
Стяжка кружком
вокруг двух фигурок на гребне здания.
И увеличение.
Это Климов и Гай сидят на самом коньке. Вблизи них никого.
Но оживлённый плотничий стук.
Гай:
— …и ничего никогда здесь из побегов не выйдет. Подлезали под проволоку и уходили подкопом, — а далеко? Кого мотоциклами не догнали, — высмотрели самолётом. Разве нас держит проволока? Нас держит пустыня! — четыреста километров без воды, без еды, среди чужого народа — их пройти надо! Полыганова я умней считал, а тебя — тем более.
— Павел! Чем ждать, пока в БУРе или на каменном карьере загнёшься, — лучше бежать! Что-то делать!
— Не бежать надо, Петя!
— А что-о?!
Вдохновение на лице Гая:
— Не нам от них бежать! А заставить, чтоб они от нас побежали!!
Климов пытается угадать мысль Гая.
Весёлый голос поёт неподалёку:
— ЧОМ, ЧОМ, ЧОРНОБРОВ, ЧОМ ДО МЭНЕ НЭ ПРИЙШОВ?= Это ниже, где крыша ещё не покрыта, — с чердака высунулся меж обрешётки тот мордастый молодой Ы–655, сосед бандуриста, такой упитанный, будто он и не в лагере:
— МАБУТЬ, В ТЭБЕ, ЧОРНОБРОВ, ШАПЦИ НЕМАЕ?..И оглядясь:
…Ну, ходимть, бригадиры, до Богдана! Голушки будем йисты!
От него видим,
как Гай и Климов, сидя, съезжают по крыше сюда, вниз, и спрыгивают на чердак.
= Здесь темнее. Двое уже сидят, остальные усаживаются под скосом крыши, в уголке чердака. Здороваются.
— Селям, Магомет!.. Здравствуй, Антонас!
= Богдан:
— Шо ж, паньство, можливо буты спочинать? От мусульманского центра — е, от литовского — е, у русских ниякого центра нэма, Петька будэ тут за усю Московию. А у нас, щирых украинцев, руки завсе на ножах, тильки свистни!
Плотничий стук — отдалённым фоном.
Крупным планом, иногда перемещаясь, объектив показывает нам
то двух, то трёх из пяти. Эпическое лицо кавказского горца Магомета, доступное крайностям вражды и понимания (он уже очень не молод). Смуглого стройного литовца Антонаса — какими бывают они, будто сошедши с классического барельефа. Румяного самодовольного Богдана. Климова. Страстно говорящего Гая:
— Друзья! Вы видите — до какого мы края… Нас доводят голодом, калечат в карцерах, травят медью. и собаками травят. и топчут в пыли. Срока наши не кончатся никогда! Милосердия от них…? — никогда! Мы тут новые, но десять поколений арестантов сложили кости в этой пустыне и в этих рудниках. и мы — тоже сложим! Если не поднимемся с колен! МГБ нас как паук оплело, пересеяло нас стукачами большими и малыми. Мы потому брюхом на земле, что сами на себя каждый день и каждый час доносим начальству. Так какой же выход? Чтоб мы могли собираться! Чтоб мы могли говорить! Чтоб мы жить могли! Выход один:
Лицо Гая. Он страшен.
…Нож в сердце стукача!!
Магомет. Литовец. Климов. Бандеровец.
Да это трибунал!
…Пусть скажет нам Бог христианский, Бог мусульманский, Бог нашей совести — какой нам оставили выход другой?!
Они воодушевлены! Их тоже уже не разжалобишь!
…Не сами ли стукачи поползли за смертью?!..
Затемнение.
______________
Музыка возмездия!
= В серых тревожно шевелящихся клубах — экран. Меж них в середине — беззащитная, равномерно дышащая грудь спящего. Сорочка с печатью «Лагерь №…». Кромка одеяла.
И вдруг взмётывается (крупная) рука с ножом.
Удар в грудь! — и поворот дважды.
Снова взлёт руки. С ножа каплет кровь. и струйкой потекла из раны.
Клубится, клубится экран, как дым извержения.
Удар!! — и поворот дважды!
И в музыке эти удары!
Взлёт руки. Она исчезла. Серое и красное на экране.
Протяжный болезненный человеческий крик:
— А-а-а-а-а-а-а-а-а-а…
Клубы расступаются. Виден весь убитый, лежащий на нижнем щите вагонки. и кровь его на груди, рубашке, одеяле.
= И вокруг — ещё спавшие, теперь в испуге поднимаются с вагонок люди
от крика:
— …А-а-а-а…!
Комнатка — на семь тесно составленных вагонок. За обрешеченным окном — темно.
Это кричит — старик-дневальный в дверях, обронив швабру и мусорный совок. Это он первый увидел убитого и криком поднял спящих. Теперь, когда он не один перед трупом,
крик его стихает.
= Все молча смотрят на убитого. Непроницаемые лица.
Жалости — нет.
Шторка.
= В той же комнате. Всё — так же. Перед трупом стоит Бекеч. Два надзирателя. Режущим взглядом обводит Бекеч
— И ни-кто? Ниче-го? Не видел?!
заключённых. Они:
— Мы спали… Мы спали, гражданин начальник…
Дневальный:
— Только подъём был! Гражданин надзиратель только барак отперли! Я за шваброй пошёл. Прихожу, а уж он…
Бекеч сощурился:
— Тебя-то я первого и арестую! Ты мне назовёшь, кто не спал!
Короткое затемнение.
______________
Те же серые клубы по экрану.
Та же музыка возмездия.
И тот же взмах руки с ножом. Вынутый нож кровоточит.
Шторка.
= Больничная палата, ярко освещённая. За обрешеченным окном темно. На пяти койках — больные. С шестой выносят на носилках тело.
Голос:
— В операционную! Быстро!
Тело вынесли, и Бекеч спиной своей прикрыл за носильщиками дверь:
— И вы?! То-же-ска-жете-что-не-ви-дели?!.. —
вонзающимся взглядом озирает он
= оставшихся оцепеневших больных в своих койках.
…Не слышали, как здесь убивали? Десять ножевых ран, — и вы хрипа не слышали? Тумбочку опрокинули, — а вы спали?
Больные — при смерти от страха, но не шелохнутся. Глаза их остановились. Ещё раньше остановились, чем пришёл Бекеч их пугать. Крик Бекеча возносится до тонкого:
— Спали?! Одеялами накрылись, чтоб не видеть?
Шторка.
= Операционная. Врач с седыми висками из-под белой шапочки. Сосредоточен на работе. Его молодой помощник (больше виден со спины).
Очень тихо. Редко, неразборчиво — команды хирурга.
= Операционный брат чётко, поспешно, беззвучно выполняет приказания. У окна стоит Бекеч, следит пристально. Белый халат — внаброску, поверх его кителя.
Хирург чуть поворачивается в сторону Бекеча. Негромко:
— Он умирает.
Бекеч порывается:
— Доктор! Очень важно! Хотя бы полчаса сознания! Десять минут! Чтобы я мог его допросить! — кто убийца?
= Хирург работает.
Неразборчивые команды. Иногда — стук инструмента, положенного на стекло. Тишина.
Хирург наклонился и замер. Выпрямился. Безстрастно:
— Он умер.
Шторка.
= В предоперационной — хирург и его помощник. Они уже сняли маски, расстёгивают халаты. Видны номера у них на груди.
Молодой увлечённо:
— Галактион Адрианович!.. Простите мою дерзость, но во время операции мне показалось, что вы ещё могли бы… Почему вы не…?
= И шапочку снял хирург. Уважение и доверие внушает его безстрастное лицо. К такому — без колебания ляжешь под скальпель.
Посмотрел на собеседника.
В сторону вниз.
Опять на собеседника:
— Сколько вы сидите, Юрочка?
Молодой врач:
— Два года. Третий.
— А я — четырнадцать. Я — четырнадцать…
Пауза.
______________
Шторка. Широкий экран.
Гул многих голосов. Это гудит строй арестантов.
= Здание барака со светящимися обрешеченными окошками, и ещё два ярких фонаря над его крыльцом.
Спинами к нам — заключённые. Тёмные спины, построенные по пять, перед тем как их загонят в барак. Сзади сплошали, не построились, разброд.
Ещё сзади к ним подкрадывается надзиратель-«морячок». Вдруг взмахивает короткой плёткой и
по шее одного! по шее другого!
Крик ужаленных.
Все бросаются строиться. «Морячок» смеётся. У него истеричный смех, и все черты истеричные.
= И там, на крыльце, под фонарями, смеётся кто-то маленький, с дощечкой в руке:
— Давай их, надзиратель! Давай их, дураков!
Мы несёмся к нему
над головами строя. Это — Возгряков, старший барака. Он трясётся в полубеззубом смехе. и карандашом стучит по фанерной дощечке:
— Ну, разбирайся! А то запрём барак и уйдём. Будете тут стоять!
= Первые ряды, как видны они с крыльца Возгрякову. Молодой мрачный ингуш раздвигает передних и продирается вперёд. Омерзение на его лице.
= Возгряков:
— Ты куда? Тоже плётки…?
= Но ингуш с ножом!!
= На мгновение — Возгряков. Ка-ак?..
= И ингуш с ножом, взлетающий по ступенькам. На нас!
Всё завертелось: Возгряков!
Ингуш! Взмах ножа!
Всё перевернулось!
Хрип. Топот. Стук упавшего тела.
= Труп Возгрякова на ступеньках навзничь, головою вниз. Безобразный оскал застыл на лице. Глаза — открыты. С бельмом один. Под ухом — кровь. В откинутой руке он так и зажал счётную дощечку.
= Арестанты сплотились вокруг крыльца. Вот они, сжатым полукольцом, одни головы да плечи стиснутые. и друг через друга, друг через друга лезут посмотреть на убитого (он лежит ниже и ближе экрана). Весь экран — в лицах.
Любопытство. Любопытство. Отвращение. Равнодушие.
Больше ничего.
И вдруг, расступись, все разом подняли глаза…
= на ингуша. Он с крыльца острым взглядом кого-то ещё увидел в толпе. и поигрывает ножом. Напрягся к прыжку вниз.
= Там надзиратель-«морячок» отбегает задом от толпы, пятится, как собака от кнута.
= Но не его ищет ингуш!
= Вон кто-то метнулся из толпы и побежал прочь. Чёрная фигурка заключённого, как все.
= И ринулся за ним ингуш!! Ему кричат вдогонку:
— Хадрис! Хадрис!
Шарахнулся в сторону «морячок». Хадрис пробежал мимо.
= Убегает жертва.
= Гонится Хадрис.
И мы за ними!
Пересекли ярко освещённую пустую «линейку».
Через канавку — прыг!.. Через канавку — прыг!..
Вокруг барака!.. За столбы цепляясь, чтобы круче повернуть!
На крыльцо!.. В дверь!..
Экран сужается до обычного.
= По коридору!
Двери… Двери…
Убегающий толкает плечом, заперто. и — мимо!
Надпись: «Начальник лагерного пункта». Толкнул. Подалась. Вбежал.
Но закрыть не успел — и Хадрис туда же!
= Кабинет. В глубине за столом — брюзглый майор (что сидел у прораба) в расстёгнутом кителе.
Вскочил:
— Как?! Что?..
И заметался, увидев
= нож, поднятый Хадрисом за головой. Медленно наступает Хадрис по одну сторону продолговатого стола заседаний, ногами расшвыривая стулья.
= Убегающий стукач — вокруг стола майора и цепляется за майора:
— Спасите меня! Спасите, гражданин начальник!
Между ними — опустевшее кожаное кресло майора. Майор отрывает от себя руки стукача:
— Да пошёл ты вон! Да пошёл ты вон!
и отбегая другой стороной стола заседаний, поднял руки:
— Только меня не трогайте, товарищ! Только меня не…
= В круглом кресле майора запутался стукач, ногами не протолкнётся мимо стола:
— А-а-а-ай! —
последний крик его перед тем, как
рука Хадриса наносит ему верный удар в левый бок.
Только этот один удар. и вынул нож.
И в кресле начальника лагеря — мёртвый стукач.
= А Хадрис возвращается, как пришёл.
= Перед ним — открытая дверь в коридор. Майор убежал.
= Хадрис выходит в коридор. Пусто. Медленно идёт, читая надписи:
«Цензор»
«Начальник Культурно-Воспитательной Части»
«Оперуполномоченный». Толкает дверь. Открыл. Вошёл.
В комнате кричат по телефону:
— Всех свободных вахтёров — сюда! и вызовите конвой по тревоге!
= Это — кабинет с агавой, где мы уже были. По ту сторону стола — трое. Загораживаются.
= Это майор звонил (всё так же расстёгнут китель, волосы растрёпаны) — и бросает трубку
= мимо рычажков.
= Рядом — старший лейтенант со стулом в руке (они в зоне без пистолетов)
и истеричный «морячок». Дёргается, размахивает плёткой:
— Не подходи! Не подходи!
= Но Хадрис очень спокойно подходит.
Он несёт кровавый нож на ладони и
сбрасывает его перед собой.
Стук ножа о стекло.
— Это были два очень плохие люди, —
тихо говорит Хадрис. Он уже никуда не торопится, стоит прямой.
= Накровянив, нож лежит на столе, на стекле. Его хватает
= «морячок». Те трое позади стола как за баррикадой.
Старший лейтенант:
— Кто послал тебя? Кто тебя научил??
= Хадрис поднимает глаза к небу. Очень спокойно:
— Мне — Аллах велел. Такой предатель — не надо жить.
Медленное затемнение.
______________
Порывистый стук.
= Распахивается та же дверь. Высокий Абдушидзе вбегает согнутый. Где его щегольство и самоуверенность? Он умоляет, извивается — на том месте, где недавно стоял Хадрис:
— Гражданин оперуполномоченный! Спасите, меня зарэжут! Спасите! В пастели рэжут, на ступеньках рэжут — я не могу там жить! Я вам па-совести служил — спасите меня!
= Старшему лейтенанту — он был один в кабинете — некуда спешить. Заключённые режут заключённых, под начальством земля не горит.
— Я не совсем понимаю, Абдушидзе, — как же я тебя спасу? В другой лагерь отправить — у нас этапов не намечается. Здесь у себя на стуле посадить — не могу, мне работать надо.
= Абдушидзе — почти на коленях, когтит себе грудь:
— Гражданин оперуполномоченный! На адну ночь в барак не пойду! Меня знают! Меня убьют! Посадите меня в БУР! Заприте замком! Там не тронут!
= Удивился старший лейтенант:
— Вот как?..
Рассеянная улыбка. Водит пальцем по долгому листу агавы.
…Это идея. и ты согласен добровольно там сидеть?
Голос Абдушидзе:
— Жить захочешь — куда не полезешь, гражданин старший… уполномоченный…
Набирает номер телефона:
— Начальник тюрьмы? Слушай, какая у тебя самая сухая тёплая камера?.. Так вот эту шестую ты освободи. и пришли ко мне взять одного человечка…
Шторка.
= Кабинет Бекеча. Добродушный доносчик С–213 со слезами:
— Гражданин лейтенант! Ещё день-два они понюхают и поймут, что полыгановских — продал я… А я у матери — один сын. и срок скоро кончается…
Плачет. Бекеч остановился в резком развороте:
— Дурак! На что ты мне нужен в тюрьме? Сейчас ты — сила, ты — кадр! А в тюрьме — дармоед. Что мне тебя — для безклассового общества оберегать?
Плач.
Неподвижная голова Бекеча, как он смотрит вбок, вниз, на плачущего. По его энергичным губам проходит улыбка:
— Ну ладно. Иди в барак и жди. Через час после отбоя придут два надзирателя и тебя арестуют. Строй благородного! Ещё с тобой поработаем!
______________
Затемнение.
= Лежит на нижнем щите вагонки грузный, крупный мужчина. Он — в перепоясанной телогрейке, в ватных брюках и сапогах (редкость среди заключённых). Его нога, дальняя от нас, закинута на раскосину вагонки, ближняя, чтоб не на одеяло, свешивается в проход.
Он — не на спине, а немного повёрнут к нам, и мы узнаём его — это Евдокимов, который нёс трубу. Он говорит лениво, веско, абсолютно:
— Хре-еновина всё это, м-молодые люди. Романтический бандитизм. Корсиканская партизанщина. У меня немалый военный опыт, но и я не могу представить, с какой стороны эта междоусобная резня приблизит нашу свободу?
= Он говорит — Федотову, сидящему через проход на постели около Мантрова. Тот лежит и слушает. Федотов порывается:
— Полковник, я вам скажу!..
= Но с таким собеседником не поспоришь, он давит:
— Да нич-чего вы мне, стьюдент, не скажете! Может быть, режут стукачей, а может быть — достойнейших людей? Кто это фактически докажет — стукач? не стукач? Вы при его доносе присутствовали? Нет! Откуда ж вы знаете?
= Мантров приподымается, впивается пальцами в плечо Федотова. Впервые мы видим его потерявшим самообладание:
— Полковник прав! А за что зарезали повара санчасти? За то, что он бандеровцам отказал в рисовой каше? Палачи! Грязные средства! Это — не революция!
Голос Федотова дрожит:
— Вы меня в отчаяние приводите! Если так…
= Полковник:
— Вы — юноша, очень милый, чистый, очевидно — из хорошей семьи, и вы не можете быть сторонником этих безсмысленных убийств!
Федотов быстро переклоняется к нему и шепчет:
— А что вы скажете, если я сам, сам принял в них участие?!
Полковник, колыхаясь от смеха:
— Ха-ха-ха! Так не бывает! Рука, державшая перо, не может взять кухонного ножа!
— Но Лермонтов владел и кинжалом!..
— Вы-ыходи на развод!! —
= громко орёт в дверях надзиратель, тот черночубый, угреватый, читавший приговор девушкам.
Шум общего движения, ворчание, скрип вагонок.
И уже первые зэки идут на выход мимо надзирателя.
= Вид с крыльца. Свинцовое утро. Ветер. Небо с низкими быстрыми тучами. От крыльца к линейке тянется поток арестантов. Все они — уже в ватном, потёртом и новом, больше — сером, иногда — чёрном. и летних картузиков ни на ком не осталось, а — матерчатые шапки-«сталинки».
Идут на развод, но многие сворачивают в сторону — туда, где стоит газетная витрина с крупным вылинявшим заголовком «ПРАВДА». Вокруг этой «Правды» — толчея, не пробиться.
И мы там,
через плечи смотрим, читаем меж голов — листовку:
Марш освобождения!!
ДРУЗЬЯ!
Не поддавайтесь первому угару свободы!
Стукачи дрогнули, но хозяева — в креслах.
Они плетут нам новые сети. Будьте едины!
ВОТ НАШИ ТРЕБОВАНИЯ:
Свободу узникам БУРа!
Отменить карцеры и побои!
На ночь бараков не запирать!
Восьмичасовой рабочий день!
За труд — зарплату!
Безплатно больше работать не будем!
Тираны! Мы требуем только справедливого!!
= Федотов сам не свернул, но с улыбкой смотрит, как сворачивают к газетной витрине.
Его глаза блестят. Он запрокидывает голову, глубоко вдыхает, вдыхает и говорит никому:
Музыка смолкла.
— Ах, как хорошо у нас в лагере дышится! Что за воздух стал!
С ним поравнялся кто-то и суёт ему незапечатанный конверт:
— Володька! На, прочти быстро, что я пишу, и пойдём вместе бросим.
Федотов изумлён:
— А я при чём?
— Как при чём? Читай-читай! Что я не оперу пишу, а домой. Вместе запечатаем и бросим. Теперь все так делают. Чтоб за стукача не посчитали.
Федотов весело крутит головой, просматривает письмо на ходу:
— И я в цензоры попал! Нет, что за воздух?! Ты чувствуешь — что за воздух!
Они быстро идут. Автор письма заклеивает конверт и при Федотове бросает его в почтовый ящик на столбе.
= Густая толпа на линейке. Оживление. Смех. В толпе курят, ходят, проталкиваются, играют (удар сзади — «узнай меня!»), безпорядочно стоят во все стороны спинами. Потом спохватываются и перед самым пересчётом и обыском разбираются по пять.
Мантров сбочь линейки стоит рядом с дюжим нарядчиком. Тот с фанерной дощечкой, пересчитывает каждую бригаду и записывает. В молодом приятном лице Мантрова — обычное самообладание.
= Нарядчик сверяется с дощечкой:
— Мантров! У тебя на выходе — двадцать один. Меженинова оставишь в зоне.
Мантров поднимает бровь и усталым движением кисти показывает:
— Дементий Григорьич! Вы — останетесь.
= Строй бригады (уже первая пятёрка проходит). В нём — Меженинов.
Его большое лицо, крупные черты, брови седые. Давно не брит. Мягкие глаза его сверкнули твёрдостью:
— Почему это я должен остаться? Для кого?
Голос нарядчика:
— Ничего не знаю. Распоряжение такое.
Но Меженинов, кажется, понял и знает. Непреклонно смотрит он чуть подальше, на…
= лейтенанта Бекеча. В нескольких шагах от линейки недвижимо стоит
Бекеч. Он скрестил на груди руки. Нахмурился. Шапка барашковая большая, сам маленький. Молодой Наполеон?
= Меженинов возвышает голос:
— Передайте, нарядчик, тем, кто вам велел: дурак только к ним сейчас пойдёт! Сегодня останешься — а завтра на койке зарежут.
Всё слышал Бекеч. Ещё хмурей. Неподвижен.
Нарядчик, навёрстывая заминку, пропускает быстро пятёрки:
— Вторая! Третья! Четвёртая! В пятой два. Следующая бригада!
= Бригаду Мантрова (в ней и широкая спина полковника Евдокимова) видим сзади, как она пошла на обыск, распахивая телогрейки. Пять надзирателей в армейских бушлатах, перепоясанных поясами, стоят поперёк линейки и встречают заключённых объятьями Иуды.
______________
Шторка. Широкий экран.
= Во всю ширину экрана видны по грудь четверо из одной пятёрки: Меженинов, Федотов, Евдокимов и Мантров. Пятый изредка виден плечом, иногда скрывается и Федотов. и сзади них мелькают лица — лишь настолько, что мы чувствуем толщу колонны, идущей не похоронно, как в начале фильма, а скорей размашисто. Явно ощущается ходьба. За головами — свинцовое недоброе небо.
Меженинов рассказывает полковнику и Мантрову:
— В зелёном начале моего срока на тихой тёплой подкомандировке оперчасть вербовала меня в стукачи. Удивляюсь сам — это не было легко, но я устоял. Был сослан в штрафную бригаду — на каменный карьер, мрачнейшие бандиты. и полгода тянул среди них…! Устоявши раз, устоявши два, — падать под конец как-то жалко.
Полковник усмехается:
— Всё-таки, доцент, вы в вызывающей форме отказались! При остатке срока в год — можно на этом и погореть.
Мантров внимательно прислушивается к их разговору. Федотов же не слышит. Он упоён, смотрит вперёд и никуда. Когда объектив больше поворачивается в его сторону —
слышно дуновение маршеобразной музыки.
Меженинов:
— На этом нас и ловят. В начале — мы боимся чересчур долгого срока, в конце — дрожим за освобождение. Это — психология набора 37-го года. С ней гнулись и подыхали. А я — сторонник вот этих новых боевых ребят. Тем более сейчас! — чего дрожать? Простая разумная отговорка: боюсь, мол, что меня зарежут!
Резкий окрик:
— Ра-зобраться по пять! Раз-говорчики в строю!
Меженинов:
— …Процедура чекистов, которой мы трепетали всю жизнь, вдруг оказалась такой неуклюжей: арест, протоколы, следствие, суд, пересуд. А здесь возмездие мгновенно: удар ножа! На рассвете. Все видят, что это — пострашней! и никто не только стучать не пойдёт, — не пойдет и минуты с ними беседовать!
Полковник возмущён:
— Вы — интеллигентный человек, а отстаиваете какую-то дикую резню!
Меженинов:
— Прекрасное время! Где это есть ещё на земле? — человек с нечистой совестью не может лечь спать!! Какое очищение!
Маршеобразные мысли Федотова.
Окрик:
— Ра-зобраться по пятёркам! Кому говорят?!
Полковник:
— Ав-вантюра!
Меженинов:
— Но мы доведены и припёрты. А что бы вы предложили другое?
Полковник:
— Да если бы мне только дали сформированный современный полк…
Он приосанился. Он видит сейчас тот полк. Он уже почти им командует…
…я б этим псам показал!
Меженинов:
— Но тот, кто сформировал бы полк, нашёл бы ему командира и без вас, учтите… Нет, не ждать вам полка. Надо учиться действовать там, где живёшь.
Окрик:
— Сто-ой, направляющий!!
= Это — краснорожий старший сержант, вбежавший внутрь цепочки конвоя.
= Остановилась колонна безпорядочной толпой. и вокруг — конвоиры с автоматами и карабинами наперевес. Степь кругом. Небо чёрное. Сержант орёт:
— Что это идёте, как стадо баранов?
Из толпы:
— А мы не в армии!
— Присягу не давали!
— Сам баран!
Сержант:
— Ра-зобраться по пятёркам! Первая!
Первая пятёрка отделилась и прошла вперёд шагов десять.
…Стой! Вторая!
Мы — ближе к толпе.
В ней — движение, гул:
— Не давайте ему считать, не давайте!
— Не иди по пятёркам!
— Прите все!
Голос сержанта:
— Третья!
= Третья пятёрка не отделяется, как первые две, а еле ноги переставляет, и сзади к ней льнут, льнут стадом, нельзя считать!
Смех в толпе. Крик сержанта:
— Сто-ой! Ра-зобраться по пятёркам!
Толпа продолжает медленно густо идти. Нагоняет первые две пятёрки. Остановилась.
Из толпы:
— Хрен тебе разобраться!
— А ху-ху — не ху-ху?
Крик сержанта:
— Не разберётесь — до вечера здесь простоите!
Из толпы (кричащие прячутся за спинами):
— Хрен с тобой! Простоим!
— Время не наше — казённое!
— Пятилетка — ваша, не наша!
Мгновенный перенос (рывком).
Лицо сержанта. Он рассвирепел, себя не помнит. Взмах:
— Оружие — к бою!! Патроны — дослать!!
Лязг затворов.
Грозная музыка.
Объектив кружится медленно.
Под чёрным небом мы видим конвоиров, готовых в нас стрелять. Дула наведены! Челюсти оскалены!
= И мы видим толпу, готовую броситься на конвоиров. Их шестьсот человек! Если в разные стороны кинутся…! Наклонились вперёд! А Гай даже руки приподнял для броска! Радостью боя горит худощавое лицо Федотова!
Что-то сейчас будет страшное! Что-то непоправимое!
В музыке растёт-растёт-растёт это столкновение!
И вдруг отрезвлённый голос сержанта:
— Марш, направляющий.
Общий выдох.
Заключённые вышли из стойки, повернулись. Опять пошли как попало. Оживление в колонне.
= Опять во весь экран — та же наша четвёрка в ходьбе.
Никого не видит Федотов, смотрит далеко вперёд и вверх.
Ветерком — его радостный марш!
______________
Шторка. Обычный экран.
В двадцать глоток — раскатистый хохот.
= Это на скатке брёвен развалились в разных позах заключённые и хохочут в лицо вольному десятнику — жалкому потёртому человечку, стоящему перед ними. Он уговаривает:
— Ребята! Цемент погибнет! Четыре тонны цемента. Ну, дождь вот-вот!
К нему выскакивает круглый придурковатый Кишкин, Ф–111. Номер на груди его поотпоролся, болтается:
— Десятник! Что ты нас, дураков, уговариваешь? Разве знает собака пятницу?
Хохот.
…Нам расчёту нет. Не платят.
— Как не платят? Расценки единые государственные, что для вольных, что для вас!
Сзади на брёвнах всё так же развалились зэки. Кишкин впереди изгибается перед десятником:
— Расценки единые, да у нас семья большая. Гражданина майора Чередниченко надо накормить? А капитана-кума? А лейтенантов двадцать? А надзирателей — сорок? А конвоя батальон? А колючая проволока знаешь теперь почём?
С брёвен возгласы:
— А пули?..
— Масло ружейное!..
— Забор деревянный!
— БУР каменный!..
= Кишкин (показывает свой болтающийся номер):
— Даже вот номера писать — и то художников держим! и как баланс ни крутим — всё мы начальничку должны, не он нам!
Громкий голос:
— В чём дело, десятник? Почему цемент не убираете под навес?
= Это шёл мимо и остановился прораб — тот, который отказал Климову в креплении. Десятник:
— Заключённые работать не идут, товарищ прораб…
— Как не идут?! Заключённые — не идут!! — что за новости? Переписать номера, кто не идёт, всех посадим!!
И ушёл, костлявый, не ожидая, чем кончится.
Ему кричат вдогонку:
— Уже в БУРе места нет, не посадишь!
Десятник достал замусленную книжку и карандаш. Ему зло кричат, выпячивая грудь:
— Пиши!.. Пиши!.. Списывай!..
= Кишкин срывает свой номер, отворачивается, нагибается и, двумя руками держа номер на неприличном месте, пятится на десятника,
на нас, пока его номер не займёт всего экрана:
Ф–111
______________
Шторка.
= Костлявый прораб в своём кабинете у стола стоит и кричит в телефонную трубку:
— Товарищ майор! Я двадцать лет работаю с заключёнными, но ничего подобного никогда не видел. Открытое неповиновение! Забастовки! Заключённые не идут работать!! У нас Советский Союз или Америка? Комбинат будет жаловаться в Главное Управление Лагерей! Это дойдёт, наконец, до товарища Сталина!!
Телефон и трубка — те же, но
наплывом
= вместо прораба — майор Чередниченко. Растерянность, угнетённость на его жирном лице. Капли пота на лбу. Он только кивает в трубку:
— Да… Да, да… Мы принимаем меры… Да…
Положил трубку и отёр пот.
Мы отходим.
Майор сидит в том кабинете и в том кресле, где Хадрис зарезал стукача. За столом заседаний — несколько офицеров МВД, среди них — в картинной нетерпеливой позе — Бекеч. Старший лейтенант-оперуполномоченный. Невзрачный офицер говорит:
— Так что культурно-воспитательная часть со своей стороны… Партийная линия есть перевоспитание заключённых, и, очевидно, даже в Особых лагерях мы не должны его запускать.
Майор:
— Да я бандуру им разрешил, пусть играют.
— …В ближайшие воскресенья я предлагаю… вплоть до того, что не вывести зэ-ка зэ-ка на работу, а если найдутся средства по финчасти, привезти показать кино. Идейно-выдержанное…
Воспитатель сел. Майор мычит, охватя голову:
— М-да… Соберу бригадиров, поговорю с бригадирами, с-сукиными детьми! На что ж они поставлены, сволочи? Мы ж их безплатно кормим! Приказ отдам строгий!..
Рядом с майором — капитан толстогубый:
— Не приказ, а сразу надо срока мотать! Надо группу отказчиков сколотить человек пятнадцать — и вторые срока им мотануть!
= Бекеч (резко поворачивается):
— Разрешите сказать, товарищ майор?
= И вскакивает. Теперь мы видим майора в толстую складчатую шею, а побледневшего Бекеча в лицо:
— Я не понимаю, товарищи, о чём мы говорим? Здесь — старше меня по чину, и я прошу прощения за резкость. Какое кино? Что поможет приказ? и какого раскаяния вы ждёте от бригадиров, если эти бригадиры, может быть, первые наши враги? и разве дело в отказах от работы? Нам выкололи гла-за! Нам отрезали у-ши! Мы перестали в лагере видеть, слышать, иметь власть! Мы посылаем надзирателя кого-нибудь арестовать — а барак нам его не отдаёт! А мы болтаем о каких-то воспитательных мерах! и радуемся, что заключённые режут друг друга, а не нас! Подождите, скоро будут резать и нас! Первым убийством первого нашего осведомителя заключённые начали войну против нас! и это надо понимать. Товарищ начальник оперчасти! Как вы думаете устроить судебный процесс? Где вы возьмёте свидетелей? Одни — уже на том свете. Другие сбежали к нам в тюрьму и ничего не видят. Третьи затаили дыхание и боятся ножа — ножа! А не вашего второго срока!
Капитан (заносчиво):
— Ну, и что вы конкретно предлагаете?
= Бекеч переглядывается с оперуполномоченным:
— Мы предлагаем…
Затемнение.
______________
Под мелодию тюрьмы, гнетущие звуки,
из затемнения
= проступает внутрилагерная каменная тюрьма, БУР. Уже отстроено и второе её крыло. и обносится (ещё не везде обнесена) деревянным заплотом. Давящая угрюмость.
= От нас к тюрьме идут два офицера в зимней форме. Они проходят между столбами недостроенного забора
и звонят у железной двери. Это — Бекеч и оперуполномоченный.
Крупнеет.
В двери отодвигается щиток волчка, его место заступает глаз.
Долгое громыхание отпираемых запоров.
Дверь открывается медленно, тяжёлая. Надзиратель сторонится, пропуская начальство в тамбур. А дальше —
Вертикальный (узкий) экран.
= в ярко освещённый коридор с неоштукатуренными стенами из дикого камня и каменным полом. Ещё запертые железные двери налево и направо.
Надзиратель выбегает вперёд и
лязг, громыхание
отпирает одну из дверей.
Вступаем в неё.
Шторка.
= Тюремная канцелярия — по сути, камера с маленьким окошком вверху, только нет нар, пол деревянный, стены оштукатурены и несгораемый шкаф.
За столом — Бекеч и оперуполномоченный. Перед ними стоит С–213.
— Значит, кормят хорошо?
— Не обижаемся, гражданин старший лейтенант. Погуще кладут, чем в общей столовой.
— И тепло в камере?
Лицо С–213. Круглое. Покойное. Счастливое.
— Спасибо, тепло. и матрасы дали. и домино дали.
— Значит, в козла режетесь?
— В козла.
— Добро! и на работу не гонят. и до конца срока так?
Что ж, хоть бы и до конца, — наверно, думает С–213.
— А вы не подумали там, в шестой камере, что если администрация лагеря спасает вас от ножа, — так надо ей служить!!
С–213 насторожился.
…Сейчас вот у нас идёт спор — не распустить ли вас по баракам?
Сонное благодушие как сдёрнуло со стукача. Открылся неглупый быстрый взгляд:
— Гражданин старший лейтенант! Ведь зарежут как поросёнка! Ведь не знаешь, где смерть ждёт…
— Так надо знать! —
= Это вскрикнул Бекеч и вскочил, презрительный:
…Надо узнать, где эта ваша смерть ходит! На чьих ногах?!
= Растерянное лицо стукача. Он умоляет. Он думает. Он ищет. Он хочет понять!
= Бекеч отрывисто:
— Подозреваемых. А может, тех самых, кто режет. Будем подбрасывать к вам в камеру. По одному. и тут испугаетесь?
= Осенение великой мысли на лице стукача! Его пальцы! Его зубы! Шепчет:
— Забьём! Задушим!
Спокойный голос оперуполномоченного:
— Нет. Лишить жизни — мы управимся и по суду. А ваша задача — до-пы-тать-ся! и запрещённых приёмов — для вас нет. Узнаете — будете в лагере жить. А не узнаете — выкинем вас на говядину!
Пошла мысль! принялась!
______________
Шторка. Обычный экран.
= Камера. Двухэтажные нары с матрасами, над ними — обрешеченное крохотное оконце.
Лязг открываемой и закрываемой двери.
Двери мы не видим, она рядом с нами, — но видим, как человек двадцать этой камеры с обоих «этажей», где они сидят и лежат, — все встрепенулись, бросают домино, обернулись к нам,
и, будто из пещеры, подтягиваются, подбираются к краю нар — четвероногие!
каракатицы!
спруты! Они не помещаются на экране сразу все, они стиснуты.
Общий хриплый возглас торжества.
Абдушидзе соскакивает с нар. Он перекошен:
— А, Гавронский! Сюда резать пришёл?
С–213 зло мигает, выставил дюжие кулаки:
— Это ты резал?
= Гавронский, Р–863. Спиной к закрытой двери. Руками как бы держится позади себя за каменные косяки входа.
Негромкий, но чёткий взлёт революционного этюда. Рёв:
— Убийца!.. Бандит!.. Сучье вымя!.. Волк!.. Задушим на хрен!
Гавронский видит — спасенья нет! Гордо выпрямился в нише двери:
— Предатели! Найдут вас и тут!
Гонор — это долг!
Остервенелые сливающиеся крики.
Вся эта свора каракатиц протягивает к нам конечности!
= На экране — муть.
На полу, под нашими ногами, крики:
— Глаза ему выдавливай, никто не отвечает!
— Рви его с мясом!
— Кто резал, говори!
Резкий крик боли.
Полная тишина.
______________
Шторка.
= Прильнули ухом к стене и напряжённо прислушиваются — лётчик Барнягин и Гедговд. Барнягин грозит нам — не шуметь!
Это он — однокамерникам своим, тоже притихшим на нарах.
Камера — такая же, но нары голые.
= Не слыша сквозь стену, Гедговд на цыпочках, оттого особенно долговязый, переходит к двери и слушает там.
= Барнягин машет рукой, отходит:
— Ничего не разберу. Гудит, кубло змеиное. Тюрьмы, что ли, не поделят господа стукачи?
Какое ж у него располагающее, открытое лицо, всякий раз это поражает. Незажившие следы побоев, розовый шрам на лбу.
= Отчаивается и Гедговд. Он прислонился неподалёку от двери. Своей небрежной скороговоркой:
— Чёрт его знает, на наших глазах хиреют лучшие традиции арестантского человечества. Например, культура перестукивания заменена культурой стукачества.
— И ты бы стал узнавать новости у этих гадов?
— Э, друзья! А сколько новостей мы узнаём из газет? Просеивайте сами, делите на шестнадцать, на двести пятдесят шесть…
= С нар:
— Да что тебе, Бакалавр! Ты завтра выходишь в зону, все новости узнаешь.
Гедговд ближе. Теперь мы видим, как он истощён, один скелет. Но весел:
— Да! В самом деле, как это интересно! — утоптанная песчаная площадка двести метров на двести — и мы её уже воспринимаем как волю! и у меня ещё двадцать три неразмененных года в вещмешке, а я чувствую себя ангелом, взлетающим к звёздам!
______________
Шторка.
= Та же тюремная канцелярия, видим её всю, от входа. В дальнем конце за столом сидят двое, занятые делом.
Ближе.
Это — лейтенант Бекеч и тот врач, которого мы видели за хирургическим столом. Он — в белом халате сверх телогрейки и в шапке с номером. Он подписывается на листе. Бекеч:
— И вот здесь ещё, доктор.
Меняет ему листы. Доктор подписывает, медленно кладёт ручку. Показывает:
— А резолюцию о том, что вы отменяете вскрытие, напишите здесь.
— Это майор напишет. Значит, учтите: за зону мы его отправим, не завозя в морг.
Доктор пожимает плечами. У него очень утомлённый вид.
Шум открывшейся двери. Голос:
— Товарищ лейтенант! Тут — на освобождение, Ы-четыреста-сорок-восемь, Гедговд. Всё оформлено. Выпускать?
Бекеч смотрит в нашу сторону:
— Заведите его сюда.
Голос надзирателя (глуше):
— Эй ты! Алё!.. Иди сюда.
Звук шагов входящего. Дверь закрылась.
Бекеч:
— Та-ак. Гедговд? Сколько отсидел, Гедговд?
Голос Гедговда (около нас):
— Да безделушка, три месяца.
Доктор щурится, вглядываясь в Гедговда. Бекеч поднимает палец:
— И толь-ко потому, Гедговд, что доказана твоя непричастность к группе Барнягина. Мы это учитываем. Мы — справедливы.
Пауза. Гедговд не отвечает.
…Надеюсь, ты усвоишь этот урок и больше бегать не будешь никогда. Обещаешь?
= Долговязый измученный Гедговд. Сзади него, у двери, надзиратель. Гедговд шутит, но улыбка у него получается больная:
— То есть, как вам сказать, гражданин лейтенант? Поручиться честным благородным словом — не могу. Если опять… такой зажигательный момент. Парадоксально, но стремление к свободе, оно где-то там…
тычет себе в грудь
…заложено… заложено…
= Врач — крупно. Седые виски. Властная манера держаться, не как у простого заключённого:
— Это у вас, Гедговд, мы обнаружили спаи в верхушках? А ну-ка, подойдите, поднимите рубашку…
= Все трое. Гедговд уже начинает расстёгиваться. Бекеч:
— Доктор, ведь он выходит, на это есть санчасть.
Врач встаёт:
— Пойдёмте со мной, Гедговд.
Затемнение.
= Из него открывается и светится дверь — выход из тюрьмы. В спину видим выходящего врача с чемоданчиком, Гедговда с узелком.
За дверью свет раздвигается, но не вовсе: это — пространство тюремного дворика. Он обнесен забором в полтора человеческих роста. Сплошной деревянный забор уже окончен постройкой.
И ещё за одной дверью распахивается
Музыка широкая, тревожная.
Широкий экран.
= общий вид лагеря, освещённого перед темнотой неестественным красноватым светом. Край выходных ворот, потом — «штабной» барак, на стене его — щиты-плакаты: «Строители пятой пятилетки!..» — дальше неразборчиво. На другом: «Труд для народа — счастье!» Дальше вглубь — бараки, бараки заключённых.
= Сильный ветер. Взмёл щепу у забора тюрьмы, там и сям — вихорьки пыли или уже снега, надувает и полощет белым халатом врача. Холодно.
Врач и Гедговд идут вдоль линейки.
А на западе — чёрные папахи туч, и в прорыв их — этот неестественный багровый послезакатный свет. и отчётливо видны на этом фоне — чёрные коробки бараков, чёрные столбы, чёрные вознесшиеся пугала-вышки.
= Идут они, двое на нас. Красный отсвет на их щеках.
Врач:
— Гедговд! Я совсем вас не знаю. Но мне понравилось, как вы держали себя с начальством. Я угадываю в вас несовременного человека чести.
Невольно взглянули в сторону и остановились.
= На отдельном щите — объявление, написанное кривовато. Ветер треплет его отклеившимся углом.
В воскресенье в столовой
КИНО
для луччих производственных
бригад. Культурно-
воспитательная Часть.
Щит с объявлением минует (они идут дальше) — и в глубине видно крыльцо столовой. У всхода на него душатся заключённые. Два надзирателя сдерживают напор.
Ближе.
Нестройные крики толкающихся.
= Надзиратель кричит:
— А ну не лезь! Не лезь! Сейчас нарядчик придёт — и только по списку бригад!
Мы — позади толпы и хорошо видим, как здесь проворно разувается Кишкин. Он покидает ботинки там, где разулся, и с помощью товарищей вскакивает на плечи задних. Он быстро бежит по плечам, по плечам так плотно стиснутых людей, что им не раздвинуться.
= Кричит, простирая руки к надзирателям:
— Меня! Меня пропустите! На полу буду сидеть!
И, добежав до крыльца, перепрыгивает на его перила. Надзиратели смеются. Кишкин поворачивается и орёт толпе, тыча себя в грудь:
— Меня! Меня пропустите! Меня!
Лицо его — глупое, дурацки растянутое, язык вываливается.
= Головы толпы, как видны они с крыльца. Голоса:
— Ну и Кишкин!.. Чего придумал!
Но смех замирает. Его сменяет недоумение. Растерянность. Стыд.
Уже не толкаются. Тихо стало. Кто-то:
— Дурак-дурак, а умный.
— Да поумнее нас. Пусти, ребята!
Движение на выход.
— Пусти!
— Расходись! Чего раззявились?
Толпа разрежается.
— А какое кино?
— «Батька Махно покажет… в окно».
Издали.
= Толпа расходится. Пустеет около крыльца. Кишкин, как шут в цирке, боится спрыгнуть на землю и показывает, чтоб ему подали ботинки. Надзиратели растеряны — они стали тут не нужны.
= Врач и Гедговд смотрят на всё это. За головами их — последняя красная вспышка в чёрной заре. Переглянулись, усмехнулись. Идут дальше. Врач:
— Я вспомнил там, в тюрьме, что вы не из бригады ли Климова?
— Да.
— На осмотр к нам вы… когда-нибудь потом. А сейчас прошу вас: пришлите ко мне как можно быстрей вашего бригадира! Только так…
Твёрдое лицо Галактиона Адриановича.
…чтоб об этом вызове никто больше… и никогда!
Гедговд прикладывает руку к сердцу, кланяется:
— Галактион Адрианович! Я — верный конь Росинант…
______________
Шторка.
= Яркий свет. Невысокая, но просторная комната. Два широких редко обрешеченных окна и в той же стене — дверь. Спиной к окнам за длинным столом без возвышения сидит президиум: уже знакомые нам четыре-пять старших офицеров лагеря. Одни в шапках, другие сняли их и положили на красную скатерть стола, на котором ещё только графин с водой. В комнате не тепло: у майора шинель внакидку на плечах, другие — в запоясанных шинелях. Середина комнаты пуста, затем идут ряды простых скамей без прислона, на скамьях густо сидят заключённые спинами к нам, все без шапок, все головы стриженые. Эти подробности мы видим постепенно, а с самого начала слышим майора. Он то отечески журит, то сбивается на злой тон:
— Не по существу выступаете, бригадиры! Не по существу, ребята. Эти ваши мелкие жалобы, что баланда пустая, овощи мороженые, что там денег за работу не платим, — это мы утрясём. В рабочем порядке. Заходите ко мне в кабинет… и не спрашиваю я вас, кто режет. Всё равно вы мне не скажете. Я сам узнаю. Я уже знаю!
Ведёт глазами по рядам. Бекеч — нога за ногу у края стола. Безучастен к выступлениям. Без фуражки волосы его распались и кажутся мальчишескими.
…Из вас покровителей — знаю!! Но хочу слышать от самих вас — отношение ваше какое, что бандиты людей режут? Вы, опора наша, — в чём поддержали? Листовки подлые вывешиваются — а вы хоть одну сорвали? Принесли ко мне на стол? и прямая ваша обязанность — заставлять работать! Проценты в лагерь нести! Иначе зачем вы есть, бригадиры? А вы развалили всю работу! По тресту за прошлый месяц — тридцать процентов выполнения плана. Так зачем тогда и лагерь? Он себя не окупает.
Голос из гущи:
— И не надо!
Оборот.
= Вот они, бригадиры! Тёмный народ, бритые головы. Номера, номера… Телогрейки запахнуты. Шапки топырятся из-под них или зажаты между колен. Угрюмо смотрят лагерные волки. Правды от них не доищешься.
Голос майора:
— Что не надо! Пайки хлеба вам не надо? Не заработаете, так и не будет! Вот, Мантров отмалчивается. А умный парень. Хочу тебя послушать! Ну-ка, вставай! Вставай-вставай!
Гай и Климов во втором ряду. Глубже, у стеночки — Мантров. Нехотя он поднимается, как всегда прямой, даже изящный. Голос чистый:
— Гражданин майор! Я — человек, к сожалению, очень откровенный. Начну говорить — вам не понравится.
Голос из президиума.
— Говори! Говори!
— …Вот вы, гражданин майор, начали сегодня с того, что грозили всех нас поснимать с бригадирства. На это можно сказать только: по-жалуй-ста! Нам быть сейчас бригадирами оч-чень мало радости. Быть сейчас бригадиром — это каждое утро ждать ножа…
Касается белой своей гортани.
…вот сюда. В спокойных лагерях за бригадирские места дерутся, а у нас Пэ-Пэ-Че предлагает — никто не берёт. и если вы хотите выполнения плана — надо принять некоторые разумные меры. Солёные арбузы — гнилые? Гнилые. Зачем же на них баланду варить? Надо подвезти капусты. и хоть рыба была бы на рыбу похожа, а не на ихтиозавра. и конечно, ребятам обидно: в общих лагерях — зачёты, в общих лагерях сколько-то на руки платят, а в особых — ничего. Два письма в год!.. Надо ходатайствовать в высшие инстанции, просить каких-то минимальных…
= Начальник оперчекистской части (он развалился за столом, и кашне его серебристое сильно свешивается):
— …уступок??
Ровный голос Мантрова:
— …изменений к лучшему. и всё опять наладится. и мы обезпечим вам план.
Начальник оперчасти:
— Ишь, лаковый какой! Не с того конца тянешь! Может, вам ещё картошку с подсолнечным маслом? Вы — бордель свой прекратите!
— Я сказал, что думаю. Я предложил разумный план умиротворения.
Майор вздыхает:
— Я думал, ты умней чего скажешь, Мантров. Что я, эти солёные арбузы вам — нарочно, что ли, искал? Отгрузили нам с базы два вагона — теперь их не спишешь, надо в котёл класть. Ещё кто?.. Тимохович!
= В дальнем углу поднялся
Тимохович. У него грубый шрам от угла губы. В набухших узлах — весь лоб, со склонностью к упрямой мысли. Нетёсанный, говорит — как тяжело трудится. Тихо:
— Я часто соглашался раньше… как и все у нас считают… что мы, заключённые Равнинного лагеря, живём, как собаки.
= В президиуме оскалились, сейчас перебьют.
= Многие бригадиры обернулись, все замерли. Тимохович очень волнуется, запинается:
…Но когда я хорошо подумал, я понял, что это не так.
= В президиуме успокоились.
= Бригадиры, бригадиры…
…Собака ходит только с одним номером, а на нас цепляют четыре… Собака отдежурила смену — и спит в конуре, а нас и после отбоя по три раза на проверку выгоняют… Собаке хоть кости мясные бросают, а мы их годами не видим…
= Президиум. Начальник оперчасти протянул руку — перебить. Майор открыл рот и никак не вымолвит.
…Потом у собаки…
Оглушающий звон разбитых стёкол.
Позади президиума на чёрном ночном стекле — разбегающиеся беленькие змейки трещин.
И сразу — рваные остроугольные дыры в стёклах первой и второй рамы.
Падение камня. Дозванивают падающие стёкла. Чей-то громкий злорадный выкрик тут, в комнате:
— Салют!!
Смятение в президиуме. Бекеч вскочил.
Отрывистая смена кадров:
= Камень на полу! — на пустой полосе между президиумом и бригадирами.
= Сжал челюсти Бекеч: ловить! и бросился в дверь как был, без шапки, волосы разметались.
Майор вскочил (шинель свалилась на стул). Президиум — на иголках, дёргается головами. Назад на дыру. Перед собой — на камень. На бригадиров.
= Бригадиры как один — переклонились вперёд, впились в президиум. Молчат зловеще.
= Вьётся майор на председательском месте, крутит головой в испуге.
= Молчат. Напряглись. А если кинутся? Растерзают.
= Президиум. Два окна позади, одно разбитое, другое целое. Трое уселись кой-как, майор наволакивает шинель на плечи, стоит и жалобно стучит кулаком по столу, как бы призывая к… тишине.
Только его стук и слышен в полной тишине.
Голос Тимоховича:
— Потом у собаки…
Майор — раздражённо и вместе с тем упрашивающе:
— Ну-ну, хватит… Не для этого собрались…
Снаружи.
= Ночная тьма. Равномерный умиротворяющий снег в полном безветрии.
Володя Федотов с радостным вдохновлённым лицом подкрадывается ко второму, ещё не разбитому, окну с кирпичом.
В комнате.
= Майор:
— Администрация лагеря призывает вас, товари… тьфу… призывает…
Удар! Звон стёкол!
И — второе окно! Кирпич — наискосок мимо головы майора! и тот же голос:
— Салют!!
Стук паденья кирпича.
Рванулся президиум — бежать!
= Бригадиры как будто привстали. Кинутся сейчас!! Отрежут выход! Растерзают!
= Жалкое бегство президиума. Толкают друг друга и стол. Графин опрокинулся на пол,
звон разбитого графина!
серебристое кашне начальника оперчасти зацепилось за край стола и осталось там, свисая на пол. Майор запутался в падающей шинели и обронил её у дверей… и чья-то шапка на столе, забытая…
= Кусок пола во весь экран. Осколки графина. Лужа, подтекающая под стол президиума. Кончик свисающего кашне. Камень. В другом месте — кирпич. и шинель майора комком, отчётливо виден один погон.
Тишина.
Недвижимые вещи. Только струйки воды пробивают себе дорогу.
Шум встающего человека.
Его ноги вступают в кадр, идут к выходу. Одна нога наступает на шинель майора. Ноги останавливаются.
Постепенно видим в рост и всего Гая, обернувшегося к нам:
— Ну что ж, ребята, сидеть? Время позднее…
И спины бригадиров, встающих со скамей.
Шум вставания, передвиг скамей.
Крупно.
Усмешка Гая! Но не ястребом кажется сейчас — Ахиллом:
…Заседание — окончено…
Музыка жёсткая!
Затемнение.
______________
Обычный экран.
= Приёмный кабинет врача. За столом — Галактион Адрианович в белом.
Вошёл и прикрывает дверь — Климов, держа шапку в руке.
— Подойдите ближе, Климов.
Климов подходит к самому столу, изучающе смотрит на врача. Он всё видывал, его немногим удивишь. Оперев подбородок на составленные руки, врач говорит снизу вверх, очень тихо, раздельно:
— Вчера в БУРе при мне умер ваш бригадник Чеслав Гавронский.
Климов вздрогнул, преобразился.
…Он умер избитый, обезображенный, с выдавленным глазом. Он просил передать вам, что это сделали стукачи из шестой камеры. Запомните — шестой. Ваших товарищей туда бросают, чтоб они раскололись, назвали руководителей и… исполнителей.
Всплеск музыки!
Ноздри Климова раздуваются, лицо — как будто он лезет на пулемёты:
— Доктор!!..
Двумя руками жмёт руку врача. На лице — зреющее решение:
— Доктор!.. Доктор!..
Затемнение медленное.
Музыка нарастающей революции!
______________
Из затемнения. Широкий экран.
= Внутренность большого барака. Электрический свет. Немногие лежат, большинство сидит на низах вагонок и, помалу откусывая от кусочков чёрного хлеба, пьют чай из кружек. Кто-то разложил телогрейку, рассматривает, как латать.
= Быстро входит Богдан, с ним — двое парубков. Окинул взглядом:
— Шо? Вэчеряетэ? Пайку дорубливаетэ? А нашим соколам ясным у БУРе очи выкалуют?
= Всеобщее внимание.
= Богдан срывает номер со своей груди, бросает на пол, топчет:
…Наших ребят до стукачей садовлят — а ти им душу вынают?! А вы тут пайку ухопылы — та жуетэ? А ну, ссовывайся!
Подскакивают втроём к вагонке, сгоняют сидящих, сбрасывают на пол матрасы, щиты, —
Ближе.
= и вот остался уже только каркас вагонки — две стойки из толстого бруса и таких же два прогона. Молотком выбивают клинья,
стук
и прогоны стали таранами. Раскачали их, примериваясь, — вот так будут бить тюрьму! Богдан кричит:
— О то нам зброя! Ломай вагонки! Уси — до БУРа!!
Общий вид.
= В бараке — разноречивое движение. Начинают разбирать ещё несколько вагонок. Кто-то выбежал. Многие мнутся. Богдан быстро идёт по бараку и поддаёт кулаком в спины:
— До БУРа! До тюрьмы!..
= В дверях — Климов.
На лице его — одушевление боя:
— Да что ж вы делаете, четвёртый барак? Там забор ломают — а вы брюхо накачиваете? Ждёте, чтоб и вас по карцерам распихали? Кто свободу любит — вы-ходи!!
Общий вид.
= После оцепенения все бросаются разбирать вагонки
= или с пустыми руками, кто-то с кочергой от печки — бегут!
бегут!
Голос Климова:
— Из хоздвора! Тащи ломы!!
Повелительные призывы музыки.
Бегут на выход! на выход!
Косая шторка, как удар хлыста.
______________
= По вечернему лагерю — бегут фигурки заключённых!
И все — в одну сторону!
В музыке — штурм, в музыке — мятеж!
На белом снегу и в полосах света от окон бараков хорошо видны фигурки бегущих. Они с брусьями, с палками. Уже и с ломами. Бегут! Бегут!
Музыка: лучше смерть, чем эта позорная жизнь! В этой волне нельзя остановиться! Готовы бежать с ними и мы!
Близко
в полутьме — отрешённые лица бегущих! Они слышат
этот марш, которому остановка — смерть!
= Вот виден и мрачный БУР, к которому сбегаются со всех сторон!
Громкое, на весь лагерь, натужное скрипение — это визжат десятки гвоздей,
= это выламывают доски из обшивки забора.
= В мощном заборе уже несколько проломов — и туда лезут, лезут!
= На телефонном столбе — заключённый
обрезает последний провод
и начинает осторожно (он без кошек, в простых ботинках) слезать.
Да это Володя Федотов!
Столб, с которого он слезает, близко от калитки в БУР. Один конец провода так и повис через забор тюрьмы. Связь перерезана!
Всё то же скрипенье. Стук ломов.
Перенос вбок, рывком.
= По линейке убегают двое надзирателей. За ними гонятся зэки, швыряют вслед им камни, кирпичи.
Те успевают вбежать в узкую дверь внешней вахты, закрыться —
и ещё пара кирпичей в тесовую стенку вахты
шлёп! шлёп!
Перенос рывком.
= Бьют стёкла, бегая вокруг штабного барака. В луче мелькает: «Строители пятой пятилетки!»…
Звон стёкол.
= С крыльца сбегает Бекеч. Он озирается. Он бежит…
= …в сторону вахты. Но наперерез ему — двое с ножами! Круто повернув, Бекеч бежит…
= …мимо забора хоздвора… закоулком тёмным мимо уборной… и те двое — за ним!
Встречаются зэки, но не мешают Бекечу…
А с ножами сзади гонятся… гонятся…
= Стремительно пересекая освещённое пространство, Бекеч бежит…
в самый угол зоны, к угловой вышке, на прожектор…
Нас ослепляет прожектор.
Выстрел с вышки над нашей головой.
= Преследующие замялись, отступают.
Голос Бекеча:
— Вышка! Не стреляй! Я — свой! Я — свой! Вышка, помоги!
= Поднырив под луч прожектора, видим, как Бекеч сбросил шинель, перекрыл ею колючую проволоку и неловко перелезает, нелепо балансируя, через угловой столбик предзонника. Спрыгнул с той стороны, упал, поднялся.
И, карабкаясь по откосой ноге вышки, схватился за ствол карабина, спущенный ему оттуда.
Поднялся на вышку (видим его ноги, взлезающие выше экрана).
= Шинель так и осталась висеть на колючей проволоке.
Шторка. Обычный экран.
= Комната тюремной канцелярии. Два надзирателя склонились над телефоном. Один (с угольным лицом, читавший приговор) кричит в трубку:
— Товарищ лейтенант! Решётки ломают!.. В двери долбят! Что делать?!.. Товарищ начальник режима!.. Товарищ Бекеч!..
Нет ответа!..
______________
Шторка. Широкий экран.
А марш! зовёт на штурм, наливается силой! В его тревожных перебеганиях
= перебегают, носятся заключённые за проломленным, а где и поваленным забором.
= Здесь ломами тяжёлыми бьют по решёткам! Отгибают их ломами, как рычагами! Звуки ударов сливаются с ликованием марша!
= С неба вспыхивает странное освещение: яркое, дрожащее, бледно-зелёное.
Это с вышки бросили осветительную ракету — охрана хочет видеть, что происходит в лагере.
= В этом мертвенно-зелёном свете видим, как бьют толстыми ломами в железную дверь тюрьмы. Но она не поддаётся!
Марш обещает победу! Выше, выше! Вперёд, вперёд!
= Ракета померкла. Взгляд вдоль тюремной стены. Кто-то взобрался на спину другого и, сравнявшись с окошком камеры, кричит:
— яка камера? Яка камера?
Ослепительная розовая ракета.
= Голова спрашивающего — сбоку. и окошко тюремное — в полэкрана. Хорошо видна вся глубина ниши — оттуда, ухватясь за решётку, подтянулся к нам — Иван Барнягин! В розовом свете ракеты сияет его лицо.
— Седьмая. А вам какую, братцы?
— Шосту!
— Стукачей? Вот они, рядом, вот они!
Показывает пальцем. Померкла ракета.
= Но по крыше БУРа начинают ползать лучи прожекторов (ниже не пропускает их забор). Отражённый свет их белесовато освещает дворик БУРа.
Спрыгнувший кричит:
— Эй, хлопцы! Ось она, шоста! Ось камера шоста!
— Тащи сюда керосин!
— Солому — сюда, братцы!
А марш — своё!
= Белая ракета! Меж разбитых и отогнутых прутьев одной решётки вытаскивается наружу — Хадрис. Двумя руками из окна приветствует освободителей:
— Селям!
Ему кричат:
— Сколько вас там?
— Я один! Одиночка.
Ликует свобода!
Шторка. Обычный экран.
Музыка оборвалась.
= Камера стукачей. Переполох! Абдушидзе кричит, показывая вверх:
— Лампочку бей! Лампочку бей!
Разбили. Темно.
Тревожный, неразборчивый гул. Стуки в дверь:
— Гражданин начальник! Гражданин начальник!
= Красная ракета! Красное небо за чёрными прутьями решётки. и вровень с окном поднимается сразу свирепое лицо:
— Господа стукачи?..
Замер стук в дверь.
…Господа стукачи! Гавронского замучили? Тараса — пытали?.. Народ приговорил вас — к смерти!!
В погасающем свете ракеты видно, как он поднимает ведро, отклоняется и выплескивает через окно. Хлюпанье. Крики:
— Ке-ро-си-ин!.. Спасите!.. Простите!.. Гражданин начальник!
Отчаянный стук.
Через окно бросают пучки горящей соломы — один! другой! третий!
= Теперь-то мы видим камеру! Загорается сама решётка, откосы оконного углубления, и верхние нары с матрасами, с бушлатами…
…и по керосину вниз перекидывается огонь.
Всё в оранжевом огне! Но где же люди? —
хрипящие, кричащие, стучащие…
= Все столпились у выхода! Толкая и оттаскивая друг друга, они стараются втиснуться в дверную нишу, чтобы быть двадцатью, десятью сантиметрами дальше от огня! Они стараются спрятать от него голову! отвернуться! закрыться руками! пальцами растопыренными! извивающимися!
Вопли! стук! царапанье! плач!
В оранжевом озарении мы не видим их лиц, не различаем тел, — видим одно стиснутое обречённое стадо, которое уже корёжит жаром.
И мелькает лицо С–213 в предсмертной муке.
Шторка.
= Соседняя камера. Выломанным столбом от нар арестанты под руководством Барнягина бьют в дверь и хором ожесточённо приговаривают:
— Раз-два-взяли! Раз-два-дали!.. Е-щё разик! Е-щё раз!
= Надо видеть лицо Барнягина!..
Шторка. Вертикальный экран.
= Длинные высокие (от узости) коридоры тюрьмы, два напролёт через раскрытые двери тамбура. Мало света — тусклые лампочки под потолком в проволочных предохранителях. Два надзирателя беззвучно мечутся, прислушиваясь к стукам и крикам. Приглушённые отголоски марша наступающих. Глухие внешние удары в тюрьму.
Крупно.
= угольный надзиратель, шепчет помощнику:
— Что мы с тобой вдвоём? Пропали! Я отопру шестую!
= Дверь с номерком «6»
Грохот замка.
отпахивается. Оттуда — снопы оранжевого света, дым, и люди падают друг через друга на пол.
Вой, ругательства, радость.
______________
Шторка. Обычный экран.
= Входной тамбур тюрьмы.
Яростные удары в дверь, к нам.
Здесь столпились все освобождённые стукачи. Они вооружены палками, досками, швабрами, кочергами, лопатами. Обозлённые, обожжённые, кровоточащие и жалкие лица. Некоторые сзади влезли на ящики — выше других. У стены — два надзирателя с пистолетами в руках. Биться насмерть — выхода нет. Все молчат. Все с ужасом смотрят на
= железную дверь. Она подаётся. Засовы погнулись. Петли перекосились. В одном месте — уже щель, куда заходят ломы.
Яростные удары в дверь.
= Та же дверь — снаружи. В отсветах прожекторов (из-под крыши) видно:
это Гай долбит!! Ну и силища! Так дрались только у Гомера!
Не-ет, дверь не устоит! и лом — не лом, а на двух человек — балка стальная!
И нахлынул опять тот же марш!
Ещё немного! Ещё немного!.. Устал Гай, отходит со своим ломом.
Широкий экран.
= тогда дюжина зэков берётся за долгое толстое бревно, разбегается с ним и с разгону бьёт:
б-бу!
Отходят с бревном. Видим среди них острую голову Гедговда. Он — без шапки, на лице — восторг. Потому ли, что он длиннее всех, — кажется, что от него — помеха, а не помощь.
А музыка зовёт — не отступать. Тираны мира! — трепещите!
Разогнались —
б-бу!
пролом! Отходят.
И Володя Федотов тут. и худощавый Антонас. Ещё разок!
Но раздаётся густой пулемётный стук из нескольких мест. Оборвалась музыка.
Бросают бревно! Падают! Все замирают.
А луч прожектора над головами начинает переползать туда и сюда.
Близкий крик:
— С вышек бьют, гады!.. По зоне лепят!
Пулемёты стихают.
Лежащие вскакивают. Но не успевают схватиться за бревно, как
= через распахнутую калитку забора кто-то кричит:
— Автоматчики!.. Автоматчики в зоне!
= Раскрыты двойные лагерные ворота.
И по пустынной линейке входят в лагерь две цепочки солдат.
Ощетиненные автоматами, они стараются держаться выпуклыми полукругами. Прожекторы с вышек освещают им путь.
Мы отступаем.
Они идут — мертво перед ними.
Вдруг, по знаку офицера, — огни из стволов!!
Очередь!
В нас! В лагерь! Каждый, стреляя, ведёт автоматом немного влево, немного вправо.
И кончили.
Мы — ещё дальше.
Они продвигаются. В кадр попадают — слева БУР с изуродованным забором, справа — штабной барак с битыми окнами.
Они продвигаются. Они продвигаются. Сопротивления нет. Заключённых нет.
Автоматчики развернулись в обе стороны.
= Бекеч (в военном бушлате вместо шинели) кричит у двери БУРа:
— Откройте! Я — Бекеч!
Изнутри голоса:
— Уже нельзя отпереть! Ещё ударьте! Вылетит!
Знак Бекеча. Автоматчики берутся за бревно и нехотя бьют им.
= Общий вид лагеря, как виден он конвойному офицеру с линейки (его затылок на первом плане). В лагере один за другим погасают фонари на столбах.
Слышно, как бьют камнями то в жестяные щитки, то в сами лампочки.
И окна бараков гаснут одно за другим. Лагерь погружается в сплошную темноту. Окружный свет зоны слаб, чтоб его осветить.
Два пятна от прожекторов здесь, перед конвоем, ещё резче выказывают эту угрожающую темноту.
К офицеру подходит Бекеч:
— Надо продвинуться и захватить мятежников, с десяток.
— Имею приказ только обезпечить вывод. Дальше комбат запросил инструкций, из Караганды.
= Вот кого они выводят: униженной крадущейся шеренгой, всё ещё с палками, лопатами и кочергами, отступают за спинами конвоиров двадцать человек, строивших жизнь на предательстве. Жалкий момент жизни!
Надзиратели замыкают.
= Последняя цепочка автоматчиков втягивается в ворота и сводит их за собой.
______________
Вертикальный (узкий) экран.
= Коридоры тюрьмы напролёт.
Радостные крики под сводами.
И всплеск того же марша!
Сбоку, из входного коридора, вваливаются первые освободители — с брусьями, лопатами, ломами. Они растекаются в дальний и ближний концы коридора!
= Среди передних бегущих — Гедговд. Он озарён восторгом. Он припадает к двери камеры, кричит:
— Барнягин! Ваня! Победа!
Сбоку проступает
толща стены, за ней
= часть камеры. Барнягин кричит:
— Отойди, Бакалавр! Отойди, долбаем!..
и командует своим, снова схватившим столб:
…Раз-два-взяли!
Хор:
— Е-щё дали!
Наплывом
= вместо их камеры — соседняя. Обугленные остатки нар, матрасов, тряпья. Расставив ноги, скрестив руки, посреди камеры стоит Климов. Молчит.
= А в коридоре суета, ломами взламывают дверные засовы. Уже какую-то камеру открыли, оттуда вывалили освобождённые. Объятья!
Крики.
______________
Из затемнения — широкий экран.
= Внутренность столовой — столбы, столы. Множество заключённых митингует в совершенном безпорядке. Несколько человек — на возвышении для оркестра. Вскидывания, размахивания рук.
Нестройный шум, крики.
И вдруг близ самого нашего уха чей-то очень уверенный громкий голос, привыкший повелевать (мы не видим говорящего):
— Ну и что? р-ре-волюционеры!?..
Все обернулись, смолкли.
А он совсем не торопится:
…И есть у вас военный опыт? и вы представляете, что теперь вам нужно делать?
= Что за чудо? Офицер? Генерал?.. В отдаленьи, у входа, один, заложив руку за полу офицерской шинели, правда без отличий и петлиц, стоит высокий, плечистый, в генеральской папахе
= полковник Евдокимов! Он — и не он!.. Что делает форма с человеком! Усмешка на его лице:
…Бить стёкла, долбать забор — это легче всего. А теперь что?
Настороженное молчание толпы, которой мы не видим.
Полковник всё уже сказал, и стоит с пренебрежительной усмешкой.
Голоса:
— Полковника в командиры!.. Академию кончал!.. Хотим полковника!.. Просим!
Полковник быстро идёт сюда, к нам,
= в толпу. Люди раздвигаются перед ним.
= Властно взошёл он на трибуну, стал рядом с Гаем, Богданом, Климовым. Косится на них свысока.
Гай делает уступающее движение:
— Я — только старший сержант. Я не возражаю.
На кого не подействует эта форма, эта уверенность!
Полковник не снисходит митинговать. Насупив брови, спрашивает:
— Каптёр продсклада — здесь?
Голос:
— Здесь!
— Через два часа представить отчёт о наличии продуктов. Бухгалтер продстола?
Визжащий старческий:
— Здесь!
— По сегодняшней строёвке минус убитые выписать на завтра разнарядку кухне и хлеборезке.
— По каким нормам?
— По тем же самым, по каким! Может, в осаде месяц сидеть!
Повелительно протягивает руку:
— Бригадир Тимохович! Соберите по зоне убитых. Подсчитайте побригадно, дайте сведения в продстол. В хоздворе выкопайте братскую могилу, завтра будем хоронить.
Голос:
— Не морочьте голову с каптёрками, полковник! Надо думать о лозунгах восстания!
Полковник Евдокимов грозно удивлён:
— То есть это какие — лозунги?!
Косится на Богдана:
…Свобода щирой Украине? Так завтра нас пулемётами покроют. Если мы хотим остаться в живых, наш лозунг может быть только один: «Да здравствует Центральный Комитет нашей партии! Да здравствует товарищ Сталин!»
Разноречивый ропот.
Вдруг — радостный вопль на всю столовую:
— Эй, политиканы! Стадо воловье! Что вы тут топчетесь?! Наши стенку пробили в женский лагпункт! К ба-абам!!!
Движение среди видимых нам первых рядов. Богдан, потом и Климов спрыгивают с помоста. Гул в толпе. Топот убегающих.
Полковник с досадой бьёт рука об руку:
— Ах, это зря!.. Это надо было остановить!..
Гай:
— Но не в этом ли свобода людей, полковник?
Евдокимов скривился:
— Бар-дак!.. Управление, связь — всё теперь к чёрту!
Гай, насунув шапку на самые глаза:
— Не у всех посылки, как у вас, полковник. Многим давно уже не до баб…
Громко:
…Так насчёт лозунгов, браты!..
Шторка.
______________
= Широкий экран разгорожен посередине разрезом стены, шириной в два самана. Слева — мужчины (мы видим их до колен) долбят стену ломами, кирками, лопатами. Она, видно, замёрзла, трудно колется. Они рубят как бы дыру, арочный свод, стена держится над ними, и её верха мы не видим. А справа — сгущается стайка женщин в ожидании. Они тесно стоят, держатся друг за друга. Они с такими же номерами — на шапках-ушанках, телогрейках, юбках. Они часто оглядываются в опасении надзирателей.
Музыка! Жизни нерасцветшие или прерванные…
Женщины не только молодые, тут всякие. После нескольких лет замкнутой женской зоны, обречённые на ледяной двадцатипятилетний срок, — как могут остаться спокойными к ударам мужских ломов в стену?
Это стучатся в твою грудь!
Это и любопытство.
Это и встреча с братьями, земляками.
Среди женщин мы можем угадать по лицам — украинок…
эстонок…
литовок…
= Уже первый лом один раз прошёл насквозь! Ещё немножко! Ещё! Падают куски! падают!..
Есть проход! Мужчины бросают ломы и кирки, они протягивают руки в пролом и
стайка женщин бросается к ним! и протягивает руки!
Крупно.
= Соединённые руки! Соединённые руки! Союз мужчины и женщины — старше всех союзов на земле!
= Бегут ещё! Одни туда, другие сюда, всё перемешалось! Надзирателей нет!
— Дёмка!
— Фрося!
— Девочки, прыгай, не бойся!
— Вильность, дивчата!..
И ещё — не разбираем языка, и тем выразительней переливание, мука и радость этих голосов.
Номера женской зоны закружились между номерами мужской.
Поцелуи — каменного века! — некого стыдиться, некогда кокетничать!
= И Володя Федотов держит за локти какую-то девушку с нерусским лицом, с чуть высокомерным запрокидом головы.
— Ты не понимаешь меня, Аура?.. Но ты же в лагере немножко научилась по-русски?.. Аура! Меня арестовали — я не только ещё не был женат, я…
Аура отвечает что-то по-литовски.
Они может быть и поцелуются сейчас, но мы этого не увидим.
Затемнение.
= Опять они! Но уже сидя на вагонке. Теперь уж она без шапки, её волосы длинные рассыпались по Володиной груди, он их перебирает и целует.
Доносятся хрупкие стеклянные звуки бандуры.
И соседняя вагонка видна. Мантров, отвернувшись у тумбочки, старается не смотреть на этих двоих, хотя сидит прямо перед ними.
И на других вагонках, на нижних щитах и на верхних, сидят там и сям женщины. Как странно видеть причёски и длинные волосы в лагерном бараке!
Ближе бандура. Несколько тихих голосов, женских и мужских, поют:
— ВЫЙДИ, КОХАНАЯ, ПРАЦЕЮ ЗМОРЭНА, ХОЧ НА ХВЫЛЫНОНЬКУ В ГАЙ…А вот и старик-бандурист — наголо стриженный, как обезчещенный.
И крышка бандуры его с мазаной хаткой, с писаной неживой дивчиной.
И — живая, похожая, лежит на смежной верхней вагонке, поёт.
Её сосед встаёт, шагает по верхним нарам
к ближней лампочке. Выкручивает её и кричит:
— Эй, люды добры! Як майора Чередниченко нэма — так кто ж будэ электроэнергию экономыты? Геть их, лампочки ильичёвы, чи они вам за дэсять рокив у камерах очей нэ выелы?
= Общий вид барака. Вторую лампочку выкрутили. Третью.
А последнюю — украинка толстая.
Полная темнота.
И смолкла бандура посреди напева.
= День. На крыше барака сидят двое зэков в бушлатах и, как-то странно держа руки, запрокинувшись, смотрят вверх.
Из их рук идёт вверх почти непроследимая нить.
Мы поднимаемся.
Явственней верёвочка. Вверх. Вверх.
Мутное зимнее небо. В лёгком ветерке дёргается самодельный бумажный змей. На нём:
Жители посёлка! Знайте!
Мы потому бастуем,
что работали от зари до зари
на хозяев голодные
и не получали ни копейки.
Не верьте клевете о нас!
Отдалённая пулемётная стрельба. Резкий свист пуль по залу
в экран! в змея! одна из очередей проходит дырчатой линией через угол змея.
Но змей парит!
И мы тоже стали птицей.
= Мы делаем круги над лагерем и спускаемся.
На крышах нескольких бараков — по два заключённых. Это — наблюдатели.
На вышках — не по одному постовому, как всегда, а по два.
На одной вышке стоит ещё офицер и фотографирует что-то в лагере.
А в зоне — несколько проломов: повален забор, разорвана колючая проволока.
= За зоной против этих мест — торчит из земли щит с объявлением:
КТО НЕ С БАНДИТАМИ
— переходи здесь!
Тут не стреляем.
= А в лагере против этих мест — баррикады, натащены саманы, ящики.
И около каждой баррикады стоит двое постовых с самодельными пиками (пики — из прутьев барачных решёток).
И против ворот, против вахты — большая баррикада.
И тоже стоят постовые с пиками: двое мужчин, одна женщина.
А за зоной
пехотные окопные ячейки. В них сидят-мёрзнут хмурые пулемётные расчёты, смотрят
= на лагерь.
Шторка. Обычный экран.
= На двери приколота бумажка:
ШТАБ ОБОРОНЫ
Перед дверью прохаживается с пикой молоденький зэк-часовой.
= За этой дверью — по вазону с широкой агавой мы узнаём бывший кабинет оперуполномоченного.
За письменным столом
= сидит полковник Евдокимов в военном кителе с невоенными пуговицами.
Гай уронил чёрную стриженую голову на поперечный стол и как будто спит.
Сложив руки, сидит Магомет, спокойный, как гора.
В разных позах ещё в комнате — Климов, Богдан, Барнягин, Галактион Адрианович и пожилой нормировщик. Все — без номеров.
В углу стоит худощавый Антонас и очень строго смотрит.
= Говорит Евдокимов:
— Я не знаю — какие могут быть претензии к штабу? Мы в осаде — восемь дней. Никакой свалки вокруг продуктов, никаких злоупотреблений на кухне. Имеем месячный запас. Караульная служба — безупречна. Полный порядок!
Косым рывком
переносимся к Барнягину:
— На хрена нам ваш порядок? При МВД тоже в лагере был порядок! Он на шее у нас — порядок! Нам не порядок, а свобода нужна!
— Но откуда нам достать свободу, майор Барнягин? Может быть, в первую ночь мы ещё могли разбежаться. Никто, однако, этого не предлагал. А сейчас — момент упущен, перестреляют.
Климов, рядом с Барнягиным:
— Для свободы нам нужно оружие! — а мы его не ищем.
= Евдокимов. Рассудительно-снисходителен:
— Слушайте, друзья, ну нельзя же планировать операции, находясь на уровне грудных детей. Значит, с ножами и пиками идти добывать пулемёты? — уложим половину личного состава. А что делать потом с оружием? Захватить рудники? Что это нам даст? Идти с боями на Караганду? Утопия.
Пожилой нормировщик, рыхлый, растерянный:
— Товарищи! Товарищи! Да где вы читали, где вы видели, чтобы лагерные восстания удавались? Это же не бывает!
Он мучается, ломает пальцы. Галактион Адрианович, двинув бровями, говорит ему по соседству:
— А где вы вообще видели восстания? Они только начинаются.
= Евдокимов:
— Никаких активных и позитивных действий мы предпринять не способны. и недаром каждый день от нас уходит по несколько дезертиров. Эт-то показательно.
= Богдан кричит:
— Так шо нам — за бабьи сиськи трематься?.. Нас тут як тараканов передушат! Треба яку-сь-то иньшу справу!..
Климов зло:
— Значит, «не надо было браться за оружие»?!
= Евдокимов (твёрдо и на этот раз быстро):
— За ножи? — да, не надо было! Прежде, чем всё это начинать, головой надо было думать, м-мыслители!..
= Магомет поднимает руку, удерживая Климова от ответа:
— Хорошо, полковник. Но уже после ножей вы взялись руководить. Значит, вы видели выход. Какой?
= Евдокимов всех обвёл глазами. Чуть подумал. Не потому, что не знает. Усиленно сдерживаясь:
— Давайте рассуждать трезво, товарищи. Победить — мы вообще не можем. Никто из вас не возьмётся даже назвать, как это мы могли бы «победить».
= Нормировщик, очень волнуясь:
— Но нам три дня подряд предлагали выйти на работу — и надо было не отказываться!
= Антонас из угла (он всё так же не садится):
— А расстрелянных — в землю? А номера — опять на лоб?
= Евдокимов:
— Не надо нам гадать. Никаких фантазий нам не надо. Рассуждайте логически. Мы можем только смягчить поражение. и эту грозную передышку в несколько дней — меня оч-чень безпокоит их молчание — надо использовать, действительно, не для того, чтобы за сиськи трематься, как я тебе, Богдан, и говорил! — а для переговоров! Чтобы наименее болезненно вернуться в рамки… мирной жизни.
Косой рывок.
= Барнягин:
— То есть… просить гражданина начальника… разрешить нам вернуться на каторгу?.. Так??
За его спиной раскрывается дверь. Часовой:
— Товарищ полковник! Дежурный по дозорам — Мантров. Срочное сообщение!
Голос Евдокимова:
— Пусть зайдёт.
Часовой выскакивает, впускает Мантрова и Федотова. Они перепоясаны, подтянуты, Мантров — с номерами, Федотов — без. У Мантрова — его постоянное рассчитанное спокойствие, говорит как об обычном:
— Со станции слышен сильный рёв моторов. Это — не автомашины. Или трактора, или…
оборачивается на Володю. Тот взволнован, решителен, переклонён вперёд:
— …танки! Я различил стволы и башни. По шуму — танков с десяток.
Гай резко поднял голову, лежавшую лбом на столе. Послушал Володю. Обвёл присутствующих.
Встал. Богатырь. Ястребиный профиль. В тишине — тихо:
— Это — не бульдозеры, ясно… Полковник, вы неправы: начи-нали — не мы. Начинал тот, кто сдавал нас в плен, а выжившим навьючивал немыслимые сроки. Начинали те, кто нашил на нас номера и запер бараки. Те начинали, кто…
разгорячается
…оплёл нас стукачами, бил палками и бросал в ледяные карцеры. Никогда с сорок первого года — да с дня рождения самого — не было у нас никакого выбора! и сейчас его нет: надо готовить бутылки горючие! и щели копать! и будем с танками драться!!
Он — пойдёт на танки! Это видно.
Музыка!
= И Федотов пойдёт!
А Мантров (с ним в кадре)…?
______________
Шторка.
= Ночное небо светлее ночной земли, и рядом с баррикадой видны два чёрных силуэта — сторожевой дозор. Ветерок чуть треплет спущенные уши их шапок.
А дальше, за проломом — разбросанные огоньки посёлка. Оттуда, издали, иногда прожектор быстро прошарит по земле, ослепит и погаснет. Мы успели разглядеть, что здесь — Федотов и Мантров.
Они долго молчат. Вздох:
— Да, Володька… Думали университет вместе кончать, а кончим вместе — жизнь… Вот попали в заваруху…
Молчат.
— Здорово всё-таки Гай сказал. Никогда у нас не было выбора, Витька. Не выбирали мы, где родиться. А родясь — не могли не дышать. А за то нас схватили — и опять-таки не могли мы не бороться. и за это теперь умрём…
Пауза.
…Утешимся только тем, что сколько мир стоит, лучшие никогда не выживают, они всегда умирают раньше. Во всей истории так. и на войне так. и в лагере.
— Ну, не согласен. Выживают всегда — умные.
— Так может быть умные — не лучшие?..
Молчат.
— А вообрази, если б тебя сейчас выпустили и Ауру тоже, — ведь ты б на ней не женился.
— Почему ты думаешь?
— Вас просто телячий восторг соединил. А ведь она — чужой человек: католичка, литовка.
— А та, которая нас всех сюда заложила, была комсомолка и русская.
Молчат.
— Слушай, Вовка. Последняя, может быть, ночь. Пойди уж к ней.
— Как же ты останешься один?
— Ну, на часок.
— Н-н-нет…
— Если я тебя отпускаю?
— Не соблазняй.
Пауза.
— Ну, тогда иначе. Пойди разбуди Генку, мы постоим с ним. А потом приходи с Аурой вместе — и вы постоите.
— Так — давай!
— Вали!
И Володя уходит в нашу сторону.
Стихают его шаги.
Мантров некоторое время неподвижен. Ждёт. и вдруг…
Настороженная музыка. Что случилось??
быстро идёт
в пролом!
И мы за ним!
= Мы плохо видим его в темноте, у земли. Он крадётся, он бежит!
Лёгкий топот его и срывчивое дыхание.
Пугающе-громко из темноты — взвод затвора и:
— Стой! Кто идёт?!
Мантров задыхается:
— Не стреляйте! Я к вам! Не стреляйте!
= Луч фонарика оттуда ему в лицо. и теперь видим, как он поднял руки:
— Не стреляйте! Я — добровольно!
= Группа военных в полушубках. Один выступил, слегка обыскал Мантрова при боковом свете фонарика.
— Взять руки назад! Марш!
Увели вглубь, сквозь них. Фонарик, перед тем как погаснуть, косо скользнул по плакату:
КТО НЕ С БАНДИТАМИ…
Темно.
= Вдруг — яркий свет. Просторная комната. Портреты Ленина и Сталина. Десятка полтора офицеров — за длинным столом и кто где попало. Золотые и серебряные погоны. Широкие. и узкие судейские. Подполковники, полковники. Военного вида и чиновного.
Начальство лагеря — Чередниченко, Бекеч, оперативники — сбились в сторону, они тут ничтожны.
= Яснолицый высоколобый подполковник с тремя орденами стоит посреди комнаты прочно, властно (портрет безпощадного Сталина пришёлся сзади него) и как бы рубит указательным пальцем:
— Так. Обстановка в лагере, настроение, планы, организационная структура, — это всё ясно. Благоразумие Евдокимова — учтём по вашему свидетельству. Непримиримость других членов штаба — тоже. Но это не всё!
Быстрый оборот объектива вкруг комнаты, и он покачнулся при этом.
= Мантров — бледный, у стены. Рядом стул, но он не сидит. Языком пробивает сухие губы. Близ него на стене — военная таблица со штыковыми приёмами.
Тот же голос:
…Ведь вы были уважаемым бригадиром! Вы жили в самой этой каше и не могли не знать: кто резал людей? Кто посылал резать? Кто писал листовки? Кто руководил штурмом лагерной тюрьмы? Кто им выдал инструмент с хоздвора?
Обезумело смотрит Мантров. Таких несколько минут на жизнь, и можно потерять разум.
Голос всё громче, до крика:
…А уж о собственной бригаде вы расскажете нам всё! — всё! О каждом! Мне подсказывают, у вас есть дружок и одноделеи Федотов — вот он нас очень интересует!
Мантрову — невыносимо. Его как штыком пригвоздили к стене. Он бьётся и кричит:
— Я не для этого к вам пришёл! Я пришёл потому… что я не одобрял восстания! Я не хотел умирать! Я хочу отбывать срок! Но я не обязан быть предателем! Я — не предатель!..
И — упал на стул. Заплакал.
В кадр вступил яснолицый подполковник:
— Ни-кто не смеет назвать вас предателем! Но помочь правосудию вам придётся.
Медленный поворот. Объектив проплывает
по офицерским лицам. Они застыло смотрят на нас. Они уже победили! Серебро и золото! Изваянные самодовольства! Великое государство! Держава полумира! Кто — дерзнул?!
Срывающийся плач Мантрова.
Затемнение. Экран сохраняется тёмным.
______________
А уже нарастающе, согласно гудят танки.
Широкий экран. Из затемнения, чуть сверху
= в пасмурном рассвете мы видим дюжину боевых прославленных Т–34.
Мы застаём их в тот момент, когда из каждого люка ещё высунуто по последней голове в чёрном шлеме. Танкисты — стальные герои с плакатов. Они не движутся. Они будто даже не команды ждут, а прислушиваются,
как сквозь гудение танковых моторов
мощный хор мужских голосов поёт им напутствие:
ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ! ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЁМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!И — разом все прячутся, закрывая люки.
Громче танковый рёв.
Танки — пошли!
Мы отбегаем
внизу по земле перед ними. Пошли!.. Пошли!.. Пошли на нас!..
Трясётся земля вокруг нас!
Красный всплеск из пушечного дула!.. Ещё!
Оглушающий выстрел! Второй!
= Развалены лагерные ворота! (Мы видим из зоны.) Летят обломки!
В оркестре — мелодия карателей.
= Великолепная атака танков! Головной вырывается вперёд и въезжает в разбитые ворота, расчищая путь от остатков баррикады. От неё отбегает сторожевое охранение.
Около нас — крики:
— Давят!..
Танки!..
Спасайся!..
Спокойно!
Как бы наискосок
= мы видим слева вдали первые танки и пустую линейку от нас к ним, — а справа крупно входит в экран голова Гедговда. Он ободряюще улыбается нам:
— Господа, не волнуйтесь! Ничего плохого не может быть! Ведь они же не звери!
И он проходит мимо нас, наискосок, навстречу первому танку — смешной, длинный, худой Бакалавр.
Рёв танков, трясенье земли.
Хор в небе:
ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА!Гедговд идёт по краю линейки, едва уступая танку дорогу, — и сбоку, движеньями рук, уговаривает его остановиться. Танк резко виляет, сбивает Гедговда и, переехав его одной гусеницей, мчится на нас…
ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯпроносится через экран мимо нас…
СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!Мимо трупа Гедговда несётся второй танк, а сбоку сзади из щели — высовывается рука.
Крупно.
= Это Гай! Из щели бросает бутылку
= в прошедший мимо танк, под башню! Разбилась бутылка, но не горит. Уходит танк!
= А сзади — третий! Мимо Гая! Теперь Гай весь вылез из щели, стал на колено
с ним рядом и мы у земли
= и в остервенелом азарте боя бросает вторую, третью бутылку
= в уходящий танк! Разлился огонь по броне! Запылал танк, уходя из кадра!
Но — грохот танка с другой стороны! Дрожит земля!
Это — сзади следующий! Гай обернулся — поздно!.. Давят Гая у самой щели, и потом
грохочут над нами гусеницы!
= Около нас — месиво трупа Гая. Голова запрокинулась в нашу сторону — почти уцелевшее лицо с тем же азартом боя.
Музыка карателей и гибнущих!
= И ещё один танк мимо нас!
И ещё один!..
И ещё!..
И бегут за танками солдаты-краснопогонники мимо нас, выставив автоматы,
волнами,
волнами… Кто ближе к нам, у тех видим только сапоги.
И дальше всё время — рёв, лязг, стрельба.
Бежим и мы, обгоняя автоматчиков, боясь опоздать, опоздать.
Теперь мы лучше видим их лица, челюсти стиснутые.
Теперь — вслед за танками, между бараками,
и тут остановились, и оглядываем вокруг, и оглядываем вокруг
безсмысленное, безпорядочное убегание зэков — мужчин и женщин, в чёрном лагерном.
Их секут из пулемётов и устилают ими просторный лагерный двор. Падают кучами, по нескольку вместе,
друг на друга вперекрест.
И отдельно падают.
Вот танк утюжит впритирку к долгой стене барака. Стальным боком своим он сдирает штукатурку, рвёт дранку, сдвигает оконные косяки — и стёкла сыпятся из окон,
звенят,
но никто не высовывается в решётки окон. Там — вагонки с жалкими арестантскими постелями и чёрная пустота.
= Бегут два автоматчика вслед танкам и стреляют то в окна, то просто в стены барака.
= Даже не их, а дула их видим перед собой, как будто сами бежим с автоматами.
Опять окно. Сквозь решётку пробивается лицо растрёпанной безумной женщины. Она кричит нам:
— Хай бы вы пропалы, каты скаженные!
Наша короткая очередь — и она готова. Припала к решётке, руки свешиваются наружу.
Дальше бежим,
неся дула перед собой.
Всё косо дёрнулось,
это мы споткнулись
= о труп заключённого.
Бежим дальше. Угол барака.
За углом — открытое крыльцо, ступеньки на все стороны. Из дверей на крыльцо выбегает Володя Федотов. Он — с пустыми руками, в отчаяньи хочет броситься на нас. Одно наше дуло в его сторону поднялось…
Из тех же дверей выбегает Аура. У неё мальчишеская быстрота. Она взмахивает руками и загораживает жениха своим телом.
Выстрел! выстрел!
Убита! Не меняя позы, прямая, медленно начинает падать на нас.
Но объектив уходит, он продолжает с этого места круговой осмотр.
Ещё одна открытая площадка между бараками. Чёрные туши двух танков проносятся мимо.
Безпорядочно лежат трупы. Раненые корчатся. Отползают.
Поднимают голову — и снова кладут.
А вон, притиснувшись к углу барака, с ножом стоит Хадрис. Нам видно, кого он ждёт — автоматчика, бегущего вдоль другой стены. Сравнялись!
Удар ножа в шею! Подкосились ноги автоматчика. Хадрис вырвал себе автомат.
= Оглянулся, ища, кого бить.
= Увидел! Приложился. Очередь!..
Пушечный выстрел близ нас.
Пламя сбоку в кадр! Чёрный фонтан на месте Хадриса! Клочья!
= И нет уже ни его, ни угла барака.
Поворачиваемся дальше.
Один убитый краснопогонник. А второй пытается встать.
Дальше.
Тимохович без шапки, бритоголовый с характерным шрамом на лице идёт в обнимку с некрасивой немолодой женщиной. У них медленные обречённые движенья,
= отчаянные глаза… Увидев
= танк, они делают несколько убыстрённых шагов и, так же обнявшись, падают под него.
= Переехал и ушёл из кадра.
Поворачиваемся дальше.
Никто уже не убегает, не ходит и не преследует…
Трупы на снегу… Трупы на снегу…
Изодранная стена барака с отвисающей дранкой, с голой чернотой окон.
Та же женщина, убитая в решётке, со свесившимися наружу руками.
И на тех же ступеньках Володя Федотов — лежит, обнимая, целуя убитую Ауру.
= Вот теперь-то по завоёванному полю бегут между трупов
= надзиратели! С палками! С железными ломиками! Во главе их — Бекеч с заломленной лихо шапкой. Свирепые обрадованные лица! Истеричный «матросик». угольный надзиратель.
Хор в небе:
ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ= Какой-то драный хромой зэк лежал среди мёртвых, теперь вскочил — и бежать в барак!
ВСКИПАЕТ КАК ВОЛНА!Его настигли и избивают палкой! палкой! ломом! Свалился.
ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯ= А другие двое надзирателей на ступеньках барака выкручивают женщине руки, она кричит.
СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!Ударив по голове, сталкивают её ногой в спину со ступенек на землю.
= Ещё бегут надзиратели и палками добивают раненых.
Очень медленное затемнение.
И тогда — полная тишина.
______________
Из затемнения. Обычный экран.
= Подбородок, офицерский погон на шинели и фанерная дощечка в руках, а на ней —
законченные квадратики, какими точкуют брёвна. Карандаш проводит чёрточку на последнем из них.
Почти шёпотом:
— …Пятьдесят шесть…
Отходим.
= Это лейтенант, начальник культурно-воспитательной части, предлагавший кино. Он стоит у края большой ямы и считает убитых, сбрасываемых в неё.
= Каждого убитого подносят четверо заключённых на куске брезента, прибитом к двум палкам. Они не поднимают голов, смотрят только на край ямы, чтоб не оступиться.
Ссунув мёртвого в яму головой вперёд, уходят с пустыми носилками.
А другого стряхивают вперёд ногами…
Шорох и стуки падения.
= Там, в яме, окоченевшие, они торчат как брёвна — руками, ногами, локтями. Мужчины и женщины.
= Три бравых краснопогонника стоят по углам большой квадратной ямы. Валки свежей глины окружают яму.
Крупно.
= Опять те же руки, дощечка и карандаш. Проводит чёрточку:
— …Пятьдесят семь…
Замыкает квадратик:
…Пятьдесят восемь…
______________
Шторка. Обычный экран.
= Тот кабинет в санчасти. Но за врачебным столом сидит теперь пожилая толстая начальница. Она — с погонами майора медицинской службы. Волосы её окрашены в медный цвет. Гимнастёрка едва объемлет корпус. Рядом у того же столика сидит оперуполномоченный.
Перед ними не навытяжку, но прямой, стоит Галактион Адрианович. В глубине, у двери, видим ещё надзирателя. Оперуполномоченный:
— Но именно их двоих нам надо взять на следствие и на суд!
Галактион Адрианович:
— Но именно этих двух выписывать из больницы сейчас нельзя. Один проглотил столовую ложку — и позавчера мы ему сделали вторую операцию. А у того — швы загноились.
= Женщина бьёт кулаком о стол:
— Так я их выпишу, если вы труситесь!
Крупно.
= Гадкая, слюной брызжет:
…Я тоже врач! Я всю жизнь в лагерях работаю! и вы мне очки не втирайте! А потом они будут ножи глотать, — а следствие будет их ждать?
= Оперуполномоченный. Смотрит пристально, чуть вверх (на стоящего врача):
— Он не трусится. Он просто до конца верен мятежникам.
= Галактион Адрианович старается, чтобы лицо его не дрогнуло. Будто это не о нём.
…И если он все операции кончил, я бы его сейчас уже арестовал.
Голос начальницы:
— Да забирайте его, пожалуйста! Дерьма такого найдём.
Чуть поднялась одна бровь. Медленно снял белую шапочку с седой головы. Расстегнул халат. Снял.
= Как в рассеянности обронил снятое белое на пол — и пошёл к выходу. На спине его курточки — номер. У двери надзиратель:
— Р-руки назад! Порядка не знаешь?..
= Так и остались халат и шапочка на полу близ ножек стола и туфель начальницы.
Затемнение.
______________
И подземный рокот ударных.
На широком экране
= не сразу вырисовываются низко нависшие своды подземного коридора, идущего вдоль экрана. Глыбы сводов занимают его верхнюю половину. Багровые отсветы едва освещают каменные поверхности.
Ясный голос с высоты:
— Именем. Советского. Союза. Военный Трибунал Равнинного лагеря МВД…
Струнные заглушают голос.
…К высшей мере наказания!..
Сбоку появляется в подземельи видный нам лишь по грудь — Пётр Климов. Опустив голову, с руками, завязанными за спиной (это чувствуется по плечам), обросший, в лохмотьях, он идёт, как тень. Он плохо виден и не слышен вовсе — он скользит под этими глыбами вдоль толщи стены…
Тот же голос:
…Заключённого Климова!
Не рука — чёрная тень руки с пистолетом, будто пересекшая луч кинопроектора, — вдвигается на экран, недолго следует за затылком жертвы и
выстрел! гул под сводами!
красная вспышка у дула, — стреляет в затылок. Тело Климова вздрагивает и ничком падает, не видно куда. Тень руки исчезла.
Те же струнные!
И оттуда ж, такою же тенью, вступает Иван Барнягин.
Голос:
…Заключённого Барнягина!
И та же тень руки с пистолетом вступает в экран. Ведёт дуло за затылком. Вспышка в затылок!
Выстрел. Гул.
Убитый Барнягин начинает поворачиваться к нам и рухает боком. Вниз. Исчезла и стрелявшая рука.
Струнные!
И беззвучной же медленной тенью тот же путь повторяет Володя Федотов.
Голос:
…Заключённого Федотова!
И — рука с пистолетом в затылок. Вспышка!
Выстрел!
Плечи Федотова взбросило, голову запрокинуло назад, и
мальчишеский стон вырвался в зал!.. Выстрел! Выстрел!
Ещё двумя поспешными вспышками его достреливают, он оседает, исчезает с экрана вниз.
В начинающемся затемнении
голос:
…Заключённого…
Не слышно. Замирание всех звуков.
И вдруг — тот счастливый эстрадный мотивчик, с которого начались воспоминания Мантрова.
= Яркий солнечный день в лагерной столовой со столбами. Заглядывающие лучи солнца — в пару баланды. Всё забито — проходы и за столами. На деревянных подносах разносят миски. А на помосте — играет оркестр.
= Первая скрипка — С–213. Он беззаботно водит смычком, чуть покачивается. Его довольное жирное лицо улыбается.
Незатейливый весёленький мотивчик!
= У остеклённой двери на кухню, рядом с раздаточным окошком, стоит Абдушидзе в поварском колпаке, халате, с большим черпаком в обнажённых волосатых руках. Он молодцеват, маленькие незаконные усики под носом. Перекладывая черпак из руки в руку, широко размахивает правой:
— Привет, бригадир! Ну как? Отоспался с дороги?
И хлопает в рукопожатие с Виктором Мантровым. Мантров чисто побрит, улыбается сдержанно, пожалуй печально.
Подходит ещё третий заключённый:
— Кокки! Виктор! А куда вас возили?
Абдушидзе с достоинством:
— На суд, куда! На суд! Свидетелями.
= Повар и бригадир. Миновали бури.
Эстрадный мотивчик.
______________
Косая шторка. Обычный экран.
= У себя в кабинете сухой прораб в форменной инженерской фуражке, не садясь, нога на стул, кричит по телефону (в окне разгораются алые отсветы):
— Это — политическая диверсия!.. Это явный поджог!.. Их мало танками давить — их надо вешать каждого четвёртого!! Цех стоит три миллиона рублей! Если я сяду на скамью подсудимых, то я многих за собой потяну, обещаю!.. Да что наши пожарные? Это — калеки! У одной мотор заглох, у другой шланг дырявый!.. Мобилизуйте конвой, мобилизуйте кого угодно — помогите мне потушить!..
Бросает трубку, бежит к двери.
Косая шторка. Широкий экран.
Музыкальный удар! Стихия огня!
= Пылает тот корпус, сплошь деревянный! Он охвачен с коротких и длинных сторон! Огонь, раздуваемый ветром, хлещет вдоль стен, факелами прорывается в окна! Огонь багровый с чёрным дымом. и кирпичный. Красный! Алый! Багряный! Розовый. Оранжевый. Золотистый. Палевый. Белый.
Ликует музыка огня!
Обнажились от крыши стройные рёбра стропил — и ещё держится их клетка, перед тем как рухнуть. Подхваченные восходящими струями горячего воздуха,
рёв этих струй в музыке
взлетают, рассыпаются и ветром разносятся по сторонам снопы искр, огненной лузги. Чем ярче пожар — тем чернее кажется пасмурное небо.
= Со всех сторон по открытому пространству, по серому обтаявшему снегу, по гололедице — сходятся заключённые. Они становятся широким кольцом — поодаль от пожара.
= Озарённые всеми оттенками огня — лица заключённых!
Мы непрерывно оглядываем эту вереницу, немного задерживаясь на знакомых.
Очень хмур, очень недоволен полковник Евдокимов (опять в телогрейке и с номерами). Губы закусил. Широкоплечий, на полголовы выше соседей.
С–213. Трясутся толстые щёки. Вполголоса:
— Да что ж это? Что ж это? Надо тушить. На нас подумают, ребята!
Но не шевелятся соседи.
Прокалённые и перекалённые зэки. Раз горит — значит, так нужно.
Даже злорадство на лицах: строили сами, сами сожгли, ничуть не жаль.
Кишкин, озарённый огнём, декламирует с преувеличенными жестами:
— Прощай, свободная стихия!
Гори, народное добро!
Соседи смеются.
Лица, лица. Ни на одном нет порыва тушить.
Непроницаемое лицо Мантрова. Он не напуган и не рад. Он вернулся к своему постоянному умному самообладанию.
Но любованием, но волнением озарено лицо старика Меженинова в блещущих очках. Он шепчет:
— По-хороны ви-кингов!
Сосед:
— Почему?
— Скандинавский обычай. Когда умирал герой — зажигали ладью умершего и пускали в море!
= Светло-оранжевое торжество победившего пожара. Полнеба в нём.
Крыши нет — сгорела. Невозбранно горят стены цеха — борта ладьи убитых викингов… и ветер гнёт огромный огонь — парусом!
Облегчение и в музыке. Смертью попрали смерть.
= А прораб, путаясь в шинели, шапка на затылке, бежит вне себя перед цепью неподвижных заключённых:
— Что за зрелище? Что вы стоите и смотрите? Подожгли — и смотрите?
Вслед ему на драной рыжей лошадёнке едет спокойный старый казах в санях с лопатами.
Ближе.
= Прораб бежит и кричит:
— Надо тушить! Бригадиры! Мантров! Полыганов! Надо тушить!
Маленький Полыганов (с ним поравнялся прораб). Невозмутимо:
— А как — тушить?..
Прораб размахивает руками:
— Как тушить?! Вон лопаты разби… разби… раздавайте людям! Снегом засыпайте!
Убежал дальше. Вместо него в кадр въезжает лошадь и голова казаха со щиплой бородёнкой, в рыжей шапке (сам казах сидит ниже). До чего ж спокоен казах! — как идол в степи.
Полыганов оскалился (не он ли и поджёг?..):
— Что ж, ребята, приказ — лопаты брать. Снег руби — и кидай туда. Кидай.
= Над санями. Безучастно разбирают лопаты.
Их жестяной грохот.
______________
Общий вид
= пожара. Уже падает сила огня. Уже стены местами выгорели до земли. и — жалкие мелкие человеческие фигурки копошатся вокруг.
Набирает силу звука — заупокойная месса.
Ближе.
= О, лучше б их не заставляли! Эти несовместимые с пожаром медленные подневольные движения рабов.
Мы движемся, движемся перед их растянутым фронтом. Они скребут лопатами лёд — и бросают жалкие горсти его в нашу сторону, в нашу сторону.
Лица их, красные от огня, злорадны и скорбны.
Заупокойная месса!
= Маятник. Мы не видим, где он подвешен (над экраном где-то). А низ его очень медленно проходит по экрану, самым видом своим обомшелым показывая, что считает не часы. Он проходит в одну сторону, снимая с экрана догорающий пожар, заменяя его скудным выжженным степным летом, которое мы видим через колючую проволоку.
И проходит в другую сторону, заменяя лето пеленой и сугробами зимы (но неизменна осталась колючая проволока).
Качанье. Опять лето.
Качанье. Опять зима.
Последним вздохом умерла музыка.
= Последним качанием маятник открывает нам
обычный экран.
= Снизу вверх по нему медленно движется белая бумага, на которой с канцелярской красивостью выписано —
и голос Мантрова, содрогаясь, повторяет эти слова раздельно:
ПОДПИСКА О НЕРАЗГЛАШЕНИИ
Я, Мантров, Виктор Викторович, даю настоящую подписку при своём освобождении из Равнинного лагеря МВД СССР в том, что я никогда и никому не разглашу ни одного факта о режиме содержания заключённых в этом лагере и о событиях в лагере, которым я был свидетель.
Мне объявлено, что в случае нарушения этой подписки я буду привлечён к судебной ответственности по Уголовному Кодексу РСФСР.
Бумага останавливается на последних строчках. С верха экрана над ней выдвигается ручка с пером. Виден обшлаг защитного кителя с небесным кантом. Снизу навстречу ей появляется тонкая нервная рука Мантрова.
Берёт перо. Подписывается. На это время рука в кителе скрывается,
затем, сменяя руку Мантрова, возвращается с тяжёлым пресс-папье
и неторопливо промокает, раскачивая, раскачивая
всё крупней
пресс-папье. Тоже как маятник.
______________
Взрыв наглой эстрадной музыки, хохот саксофона.
= Белая скатерть во весь экран, и та же самая рука Мантрова тянется за рюмкой. Уносит её.
= Виктор пьёт. Опустив рюмку, смотрит горько…
= …на первую скрипку. Тот играет и, кажется, насмехается. Лицо у него такое же толстое и внешне добродушное, как у…
наплывом
= что это? С–213? Нахально оскалился, покачиваясь в такт, подмигнул!
Широкий экран.
= Вот и весь оркестр. Нет, это почудилось. Никакого С–213. Ресторанные оркестранты.
= И весь ресторан на веранде. Розово-фиолетовые цветы олеандров заглядывают в её пролёты.
= Альбина берёт Виктора за руку:
— Вам больно вспоминать! Не надо! Не надо!
= Муж золотистой дамы:
— Да и какой дурак это придумал — старое ворошить? Сыпать соль на наши раны!
Ест с аппетитом.
Дама:
— Вспоминать надо только хорошее! Только хорошее!
И Виктор согласен. Он нежно смотрит на
= Альбину. Вот она, истина и жизнь! — хорошенькая девушка, цветок на груди.
Только хохочущая музыка раздражает, напоминает…
= Соединённые на столе руки — мужская и женская.
Похожи на те. и не похожи.
= Молодые встают:
— Мы хотим побродить.
Старшие кивают:
— Идите, конечно, идите.
= И Альбина, а за ней Виктор проходят между столиками
= под арку входа — Ресторан «Магнолия» —
и спускаются к нам по ступенькам, держась за руки.
Навязчивая музыка глуше и исчезает.
= Завернув по аллейке с розовой ватой цветов,
они останавливаются в уединённом уголке.
Альбина, волнуясь:
— И не надо ничего рассказывать! Я всё понимаю! — мой отец умер в лагере. Но вы победили все ужасы, вы оказались сильнее других!
Виктор:
— Давайте забудем! Давайте всё забудем!.. Помогите мне забыть!
Соединяются в поцелуе.
По всему экрану
сверху вниз начинают сыпаться струйки жёлтого песка. Сперва тонкие, отдельные,
потом всё шире и сплошней, — и вот уже густым обвалом,
тем самым обвалом, каким засыпало работяг в траншее, — закрыло от нас целующихся.
= Как будто чьи-то руки — пять пальцев и ещё пять — хотят выбиться из песка, но тщетно.
Поглощает и их.
Сыпется, сыпется жёлтый песок забвения.
Наискосок по нему, налитыми багровыми буквами, проступает строка за строкой посвящение фильма:
ПАМЯТИ ПЕРВЫХ,
ВОССТАВШИХ ОТ РАБСТВА, —
ВОРКУТЕ,
ЭКИБАСТУЗУ,
КЕНГИРУ,
БУДАПЕШТУ,
НОВОЧЕРКАССКУ…
1959
Рязань
Тунеядец. Кинокомедия из советской жизни
Хотя этот сценарий я писал позже предыдущего на десять без малого лет — я так же не надеялся, что его допустят до экрана. Но мне хотелось, чтобы читатель вместе со мной увидел и услышал воображаемый фильм, оттого я разметил текст так же, как в сценарии «Знают истину танки!».
Во весь экран —
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!!
И проползанием по экрану —
ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА …
Это на длинном полотнище, натянутом
над узким пригородным шоссе. Заборы, склады, тротуаров нет, и люди ходят тут же, по краю дороги. Вот катит «москвич».
Спешим за ним и смотрим сбоку.
За рулём — девушка, в машине одна. Причёска у неё такая: спереди волос гораздо больше, чем сзади. Нервничает, глядя вперёд, и включает
= знак обгона. Ей обгонять
многотонный клубящий чёрным дымом газогенераторный грузовик.
Прохожие прикрываются и отворачиваются от тяжёлого дыма.
Грузовик широк, а шоссе узкое и встречные машины, не обгонишь.
= Нервничает девушка.
= Но грузовик замедляется и, ещё несколько выстрелив дымом, сворачивает прочь. «ОБЕСПЕЧИМ ЯВКУ!» — мелькает на краю дороги. «НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»… Пошла езда по свободной дороге!
Быстрее едем.
Но стоят на правой обочине — трое. и вдруг один из них в последнюю минуту крупно пошёл через дорогу.
Спиною к нам! Не видит!
Резкий сигнал!
Обернулся — и растерялся, образина небритая, растяпа!
А на краю шоссе — те двое, не свернёшь!
= Напряжённое лицо девушки! Так затормозила,
визг тормозов
что на руль её кинуло.
И, рукой размахивая, кричит на образину:
— Смотреть надо, серяк! Жить надоело?
А сзади быстро входит в кадр ещё машина, «Волга», что-то слишком близко!!
Удар!!
И в той, второй, машине — отчаянные лица передних, военных!
Девушку сильно тряхнуло, она
охнула,
обернулась,
выбралась из машины, держится за бок.
Она в крупнополосатой блузке и светлых брюках.
Идёт к задней, той. Не бушует, довольно меланхолично:
— Что случилось, молодые люди? Для чего глаза? Для чего тормоза?
Вылезает шофёр. Ефрейтор, худенький мальчик. Приговорённый к смерти! Нет лица. Самое большое несчастье всей его жизни!
= И тучный подполковник выбирается с командирского места.
Ещё и второй подполковник, тоже ражий. Смотрят все
= на столкнувшиеся места машин. Сильно смят зад «москвича», искалечен передок «Волги», капот снесен,
передний бампер под разбитой фарой одним концом свис на землю.
= А впереди через шоссе поспешно ухрамывает тот образина, всему виновник.
= Девушка укоризненно покачивается перед немым ефрейтором:
— У-у-ух ты, стерлядь, штаны солдатские! Кто тебя за руль сажал?.. Небось и прав нет?
Вот какая на ней кофточка: левый бок в полосах, зато рукав одноцветный, правый бок одноцветный, зато рукав полосатый. Полновата чуть больше, чем надо бы. А — хорошенькая.
Смотрит на раны своей машины, присаживается на корточки и видит
= лужу на асфальте.
— Это что ж такое? Это у кого течёт? — у тебя или у меня?
= А между тем около машин — уже с десяток ротозеев. С интересом разглядывают.
— Да у тебя, девушка, в порядке, можешь ехать!
— Они сами больше разгрохались.
— Они своим ходом не пойдут…
= Приговорённое лицо ефрейтора. Мрачные лица подполковников.
= Девушка, из присядки:
— Могу ехать, вы думаете?
Ещё раз глянула под машину. Побежала
в кабину, включила —
и чуть отъехала. Вышла весёлая.
= Теперь-то видно, что течёт вода из-под мотора «Волги». А там, где стоял «москвич», — лежит никелированное что-то, кусок бампера.
= Подняв его, девушка примирительно:
— Это чей же? — твой или мой?
Ефрейтор шепчет одними губами
и забирает свой бампер. На подполковников он и покоситься боится. Из «губы» ему теперь не вылезать, да хорошо, если только.
= Вдруг девушка заметила:
— Ай-я-яй! Ай-я-яй!
почти плачет:
…Брюки из-за вас испачкала! Будьте вы все неладны! Брюки эластичные, белые! Этого ж не достать!
= Подступает к девушке какой-то мордатый, чубастый, со стороны:
— А почему вы, девушка, отъехали? Вы знаете порядок: до ГАИ надо оставаться на месте?
— Нет, не знаю… А я проверить должна была? — идёт машина или нет?
— Следы заметаете, да?
— Ка-кие следы??..
О, да он — заядлый. Он, может, — дружинник без повязки?
— Почему вы остановились посреди дороги? Почему направо не свернули?
= Девушка горда:
— Как почему? Я человеку жизнь спасла! Что ж, человека давить?
Горлопан (такие завскладами бывают, оборотистый):
— Какого человека? Где — человека?
— Вот, пожалуйста! —
ведёт девушка, —
Вот этого! Товарищ, где вы? Где?
= Но — нет того человека. Перед «москвичом» — там
никто больше не стоит.
И впереди никого.
= И среди собравшихся — его нет, его нет, не он.
= Убежал!.. (Лицо девушки.) Жизнь ему спасла, а он, подлец, убежал…
= Пустая дорога перед «москвичом». Иногда встречная машина…
= Подполковники переглянулись, повеселели.
Горлопан на них посмотрел — и ещё решительней:
— Вы — пьяная, да? Так и скажите!
Сколько напастей на девушку сразу!
— Кто пьяная? Я — пьяная?.. Нате!.. Нате!
И гневно дышит на него, близко. У неё тёмная чёлка по самые брови и ещё по клоку свисает впереди ушей.
Но горлопан наглеет:
— Точно пьяная, пахнет алкоголем! Сейчас будем ГАИ вызывать. Та-аак…
Уже записная книжка у него. Списывает
под измятым искорёженным багажником номер
МОЯ 22–22.
= Девушка себя не найдёт:
— Свинство какое! Пьяная! Пожалуйста, зовите ГАИ!.. Убежал, трусишка! Жизнь ему спасла… Товарищи! Ну, вы же видели: человек был под машиной?! Ну, подтвердите!!
= Никто не видел. Никто не видел. Уходить начинают. Тут к чёртовой матери только свяжись. А горлопан плечи расширил, два места занимает.
Девушка миролюбиво пожимает плечами:
— Ну хорошо, запишем и ваш…
= Ищет в кабине, ноги торчат наружу. Проносится машина мимо её распахнутой дверцы.
= Горлопан показывает:
— Вот так они и ездют!.. Руль им доверяют!..
Девушка вылезает с дамской сумочкой на длинном-предлинном ремне. Ищет в ней. Бумажка есть. А…
— Карандашика ни у кого нет, братцы? Дайте карандаш!
= Стоят ротозеи. Другие расходятся. Карандаша не ищут. Горлопан грозно:
— Чего вам карандаш? Сейчас ГАИ будем звать. Тут, девушка, штрафом не отделаетесь. Военную машину задержали.
Но не зовёт ГАИ, не бежит звонить.
И никто не зовёт. Глазеют.
Подполковник снял картуз, лысину вытирает.
Девушка ходит потерянная:
— Ну, зовите ГАИ… Всё, что угодно… Ладно, запомню номер и так…
Хнычет над своими брюками.
Гладит рукой свой побитый багажник. Ну и исковеркан! — будто великаны над ним издевались. С усилием девушка поднимает искалеченную крышку — там запасное колесо тоже искорёжено. Находит:
— Чей это олень?
= Ефрейтор безсильно шепчет. Протягивает руку за оленем.
Девушка:
— Но я тороплюсь! Звонить — так звонить!.. Пьяная!.. Ответите за оскорбление!.. Ай, брюки пропали!.. Ну, подполковник, так и будем стоять?
= Горлопан:
— И прав лишат! и все убытки заплатите! Научат вас ездить! А то заучились! Образованные очень!
Девушка в отчаянии:
— Да я при чём?
— Там найдут, при чём!..
Подполковник (вытирая лысину):
— Ладно, девушка, езжайте.
Горлопан:
— Никуда она не поедет! Не имеет права ехать! За всё ответит! Еще и пьяная, нахалка такая!..
Но не держит её. Девушка вскакивает в машину и торопливо отъезжает
с измятым, как в потеху искомканным задом.
= Подполковники и ефрейтор смотрят вслед ей. К 1-му подполковнику подходит горлопан:
— Рубликов на сто намяли, подполковник. Ещё неизвестно, с правами ли ваш пацан. Десяточка с вас!
Подполковник достаёт и платит незаметно.
Шторка.
= Хохочут трое парней, вот хохочут! кто во что горазд, даже слёзы утирают. Друг другу показывают пальцами на
= измятый, прогнутый, перекорченный багажник. Ну и действительно смехота!..
А девушка со своей длинноременной сумочкой (от плеча и до колена, так вешается) спрашивает прохожих, спрашивает, — те плечами жмут.
= Один из парней надрывается, душится:
— Девушка! А, девушка! Это у тебя сумка — инструмент носишь?
А другой размахнулся пустой бутылкой и —
= бах о мостовую! всё в осколках! —
как раз позади подкалеченной машины. Девушка направляется сюда, она держится свободно, не боязно:
— Ну и — зачем, ребята? Зачем? Кто-нибудь шину проколет.
= Тот парень, что бутылку разбил, — ещё свободней, давится от своего благородства:
— А м-мы… — н-н-не собственники!
У девушки быстрая манера говорить, еле успеешь слова разобрать:
— Где в вашем городе станция техобслуживания, ребята, не знаете? Никто не знает!..
— Эт-то чего тебе — багажник выправлять?
— Слушай, никакая техстанция тебе не поможет. Слушай, тебе только Пашка поможет. Научить тебя — к Пашке?
— Какой Пашка, я станцию хочу!
— Ну и дура. Ну и делай правый поворот. Квартал, там увидишь.
= И снова — все трое. Смеются вослед, охальники! Подбоченились. Три ли сына купецких? три ли богатыря?
Шторка.
= Плакат с обобщённым космонавтом в скафандре. Ниже — перекладина ворот и надпись:
СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Ещё ниже — ворота распахнуты, но въезд преграждён брусом.
Рядом с воротами — тесовая контора. Наша знакомая со своей длинной сумкой на боку входит туда.
= На стене — «Расценки»… «Табель»… «Наши кандидаты» (с двумя портретами)…
За столом — женщина обильного тела, в руках у неё — крупное вязанье. Она спрашивает ласково, приветливо:
— Задок помяли?
Через плечо косится в окно.
= Девушка улыбается; приятно, когда тебя так встречают:
— Пожалуйста, примите в ремонт.
= Только эта голова на чрезмерной шее отвеку не поворачивалась проворно:
— Очень ты скорая, дочка. Мы работой завалены, дохнуть некогда.
Вяжет.
…По корпусам у нас очередь на месяц.
Просительница. Выразительно держит палец под глазом:
— Но у меня — совершенно трагическое положение, я из другого города, машина — папина…
= Колыхается женщина, отчасти и злорадно:
— Ах, па-апина! А твой бородатый небось рядом сидел?
— Какой бородатый?
— Ваши все теперь бородатые. А вы из юбок по брюкам полезли, срам один!
= Девушка выразительно водит глазами под чёлкой. Почему люди не добры друг ко другу? и эта женщина — тоже. А ведь так просто быть добрыми! Как бы всем было хорошо!
— Мне очень необходимо сегодня починить! Я должна вернуться — и чтоб отец ничего не заметил!
= Женщина наконец и возмущается:
— Нашкодила — и в норку? Сегодня же ей! Сегодня — суббота.
Всё так же вяжет, а та всё так же стоит:
— Но я заплачу! Я мастеру от себя доплачу, как полагается… У меня деньги есть!
Да не сердится женщина, ей и жалко эту глупую:
— Что твои деньги, когда мастера нет? Мастера нет, корпусника, понимаешь? В отпуску. От того дня, как он вернётся, ещё месяц очередь!
= Девушка и рот раскрыла. Она не понимает.
— А ну, справку покажи!
— Какую справку?
Полное недоумение.
= Женщина уже как начальница, строго:
— От ГАИ, какую! Об обстоятельствах.
= В ускользающей надежде девушка держит под глазом сползающий палец. У неё нет никакой справки… Женщина с подозрением:
— Ребёнок — был?
Не-ет! — совершенно честно отрицает девушка.
Женщина ещё смотрит подозрительно, и кому-то другому в комнате:
— А то вот так ребёнка раздавят, преступление совершат, а потом следы заметают. Безо справки ей — да ещё в один день чини! Ты её на дорогах нигде не замечал?
Это — высокий худой шофёр, флегматик. Посмотрел на девушку. Посмотрел на женщину:
— Моё дело — знаки соблюдать. На одну оглянешься — знак пропустишь. Меня уже четырежды за знаки кололи. Я вот что: я пошёл. Освобождён.
— Как так?
— Завтра мне на сутки заступать. В избирательный. С машиной.
— А — сегодня? А мы как?
— Да хоть и вы сворачивайтесь. Распоряжение. Звонили.
Ушёл. Девушка в неподвижной просьбе. Женщина возвращается к вязанью, смягчается.
— Ладно, ты вот что. Сегодня день короткий, кати пока не поздно в четвёртое автохозяйство и спроси там Пашку Алесеенкова. Да с умом спрашивай, чтоб его не завалить. Он — один корпусник во всём городе. Только он тебе может починить.
Шторка.
= Останавливается троллейбус. Задняя дверца. Толпятся сесть, а из задней вываливаются и вываливаются. С двумя корзинами застряла, никак не сойдёт энергичная старуха с крупным носом. и оттуда, сверху, учит
молодую женщину с ребёнком, тщетно ожидающую сесть:
— А уж тебе, матушка, нечего сюда лезть! Вон, передняя дверь для вас!
Выбралась наконец старуха, пошла по улице.
И мы ей вослед.
Высокий новый корпус от улицы и вглубь. На стене табличка: «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО БЫТА». У прохода — большой щит:
ЛЕНИНСКАЯ ПРАВДА ЯРЧЕ СОЛНЦА
А дальше — открытое дворовое углубление с клумбами. и на столбике табличка: «НЕ СКВЕРНОСЛОВИТЬ!»
Дальше — аптека, на её стене — доска объявлений.
Вместе со старухой мы не читаем, мы мимо проходим, но всё же не можем не заметить
одинаковых крупных объявлений:
«ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА»,
«ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА»,
«ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА»…
Дальше, в углублении стены — телефон-автомат. В будке — никого, спереди, загораживая, — молодой человек в фетровой шляпе, курит. А товарищ его между будкой и стеной в щель влип по нужде и так стоит неподвижный, беззащитный.
Мы за угол.
Тут улица — полумощёная, простая. Старые домишки одноэтажные.
На деревянном заборе — «НАШИ КАНДИДАТЫ», лист с портретами.
Несут вёдрами воду
из колонки. На неё мальчишка взобрался и стоит как изваяние.
В первом этаже раскрыты ветхие косые створки оконца. Оттуда выставился здоровый ленивый неснисходительный парень:
— И куда-а я пойду? Что-о за картина?..
А девушка юная перед оконцем так и вьётся, на цыпочках, уговаривает:
— Ну пожалуйста, Лёнечка, ну пойдём! Я уже два билета взяла.
Лёнечка морщится:
— Небось по двадцать пять?
Она тянется, всеми плечами уговаривает:
— По тридцать пять, Лёнечка, честное слово!
Дальше — двухэтажный дом полукаменник, при нём калитка.
Туда и входит наша старуха с корзинами.
Внутри — небольшой дворик. Открытая лестница на второй деревянный этаж. Врыт стол квадратный и вкруг него — четыре скамьи с прислонами. На одной сидит древний, уже полусмысленный дед.
А к перекошенной двери отдельного низкого флигелька, в землю вросшего, хорошо одетая женщина прикрепляет записку:
ближе, крупно
«Товарищ Алесеенков! Никогда не застаю Вас дома, ни утром, ни вечером. Мне надо иметь уверенность, что Вы знаете о голосовании и в воскресенье утром придёте с паспортом. Пожалуйста, не подведите! С нас строго спрашивают. Ваш агитатор».
Агитатор оборачивается к нам. Она вся — в улыбке извинения:
— Здравствуйте. Простите. Я опять к вам, как видите… Вот никак Алесеенкова не застану. Что делать, не знаю…
= Старуха поставила ношу на землю.
— Ядва ли ты его застанешь. А чо ему дома сидеть, рассуди сама, коли его жена бросила? Ты бы без мужа — много дома сидела бы?
Тонкое интеллигентное лицо агитаторши. Как лёгкие тени пробегают невысказанные мысли. Но главное сейчас — безпокойство:
— Так он так и на выборы не придёт?!
Стоят друг против друга. Старуха — дюжая, сильная, а агитаторша — маленькая, слабенькая, птичка.
— Почему не придет? Он малопьющий человек, порядочный. Да за ним всё на машинах приезжают, увозят. Ты бы его досвету прихватывала, досвету.
— А то ведь, понимаете, мы за каждого избирателя отвечаем. Он не придёт, а меня загоняют…
Расстроена агитаторша, мука безсмыслицы на её лбу. Она — старательная, она не может делать плохо, она спать не будет.
…И потом в вашем дворе…
сверяется со списком
…Мурзаков Никифор меня безпокоит. Ведь прописан — а не живёт?..
На суровом лице старухи — снисхождение:
— Э-эх ты, образованная, а не понимаешь. Как же яму в комнате шесть метров с чужой женой жить? Это на что будет похоже? У него своя семья гдей-то, он семью норовит перетягивать. А с Юлькой они только для стажу зарегистрированы, чтобы прописка шла. Он ей ежемесяц платит за то.
— Ах вот оно что… —
озадачена агитаторша. Но и тем более встревожена:
…Так он и голосовать не придёт?!
Старуха твёрдо, даже властно:
— Голосовать должон придти. С Юльки спрашивай! Раз деньги берёт — пусть представит.
Агитаторша не убеждена, её лицо омрачено над списком. Застенчиво:
— Да, и ещё! Простите, пожалуйста. Я понимаю, что это глупо, я уже вам надоела, но заставляют проверять и проверять. Вот вас, Васильевых, тут внесено пять человек: вы, ваша незамужняя дочь, замужняя дочь, зять, и у них тоже дочь? Так и есть? Никто не выбыл?
Большеносое лицо старухи. Всю жизнь — в колотьбе.
— Да ещё малой шестой. Куды выбывать-то нам? Куды? Выборы — кажный год, а квартирой только манят. Зять ещё когда на очередь записан — а нету! Я по этим депутатам три пары чёботов износила! Правильно умные люди учат: вот не подите разок на выборы всей семьей — сразу прибегут, да-дут!
Агитаторша извиняется, улыбается, ёжится:
— Поверьте, я вас понимаю. Но от меня это не зависит. То, что вам предлагают, это тоже не метод… Будем надеяться, конечно…
Кивнула старуха, кивнула,
подняла свои корзины,
пошла по лестнице наверх.
Агитаторша карандашом по своему списку помечает, а дед рядом, от стола, он не дремлет, оказывается:
— Скажи, красавица, тебя как зовут?
— Лира Михайловна…
— А — кто ты есть, Ира Михална?
— Научный работник, дедушка.
Она над списком.
— Это как? — профессор, что ли?
— Нет, дедушка, кандидат.
Хочет уйти. Дедушка оживился, руку тянет:
— Ах, ты ж и кандидат? Вот умница. Да не убегай же, сядь расскажи…
Лира Михайловна смотрит на часы, нервничает:
— О чём тебе, дедушка?
— Да вот же, про кандидатов…
— Дедушка, про них вон на листе всё написано, у вас на воротах висит.
— У меня, видишь, глаза слабые…
— Дедушка, мне на работу надо!
Благостный дед, но и дотошный:
— Вот это и есть твоя работа — люди просят, должна рассказывать!
— Ну, хорошо, пойдёмте к плакату, я вам прочту.
— Нет, ты не читай. Ты мне — душевно расскажи.
— Дедушка, да я так и сама не помню, на память. Дедушка, к вам завтра с урной придут…
Хочет идти. Тоскливо деду одному оставаться:
— Ну, погоди… Ну, хочешь, я тебе расскажу… Как государь император у нас парад в Гатчине принимал… Каждому солдату — по серебряному рублю…
Шторка.
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!!
ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА ЛУЧШИМ ЛЮДЯМ НАРОДА!
«АВТОХОЗЯЙСТВО № 4» — вывеска
над воротами. Ворота раскрыты, но поперёк висит тяжёлая цепь. Вахтёр, проверив пропуск грузовика, снимает цепь и пропускает машину.
Наша знакомая в полосатой блузке с длинной сумкой,
примерившись, идёт быстро через вахту. Вахтёр нагоняет её:
— К кому? к кому? Пропуск!
Девушка через плечо, очень уверенно:
— Что я — автомашина, что ли?
— Нельзя! нельзя! меня с работы уволят!
— Да я — к начальнику автохозяйства.
— А как фамилия начальника? —
не отстаёт вахтёр. Но и девушка не из робких:
— Да я его личная знакомая, зачем мне фамилия?
Тут гудят вахтёру от ворот.
Не разорваться и вахтёру! Пока он сюда, а девушка прошла.
За угол — юрк, и — к первому же рабочему:
— Слушай, браток, где тут Пашка-корпусник?
Тот объясняет, показывает.
= Большой сарай. В распахнутую широкую дверь
мы входим
вслед за нашей знакомой.
Гул компрессора.
Просторный разворот и разворох дел. Кто-то (как бы не сам владелец) со шлангом от компрессора красит на верстаке распылением части разобранного мотороллера (явно «левая» работа). Двое подсобников разгибают и правят покалеченную дверцу грузовика. Там и здесь свалены гнутые, мятые, битые части корпусов грузовых и легковых автомашин. А на одном верстаке, подтянув ноги, сидит, возвышаясь,
с разочарованным и усталым видом сам главный мастер, Пашка. Он молод, лицо совсем простое, большие губы, нос картошистый, причёска короткая, какая попало, а то и никакая, — где торчит, где на лоб свисает.
Умолкает компрессор.
Пашка — всё думает… Нет в жизни счастья!.. и — зачем всё?.. Объявляет:
— Сегодня мне молотка больше в руки не давайте! Хватит! Видеть не хочу. Сообразим вот рыбалку на ночь. Чья бы лодка, а?
Заметил
нашу знакомую.
— Здравствуйте. Скажите, вы — Паша Алесеенков?
Оба они. Он сидит на верстаке как изваяние индийского бога. Не сразу и малым движением губ:
— Допустим.
А она нисколько не стеснена обстановкой, будто бывает здесь что ни день. Подошла — и неподвижномy Пашке протянула руку жестом поощрения:
— Будем знакомы. Эля.
С недоумением Пашка взял руку, подержал, посмотрел, как на небывалый инструмент, не знаешь, на что его обратить. Выпустил.
…Представьте, Паша, только в ваш город въезжала — сзади меня военные толканули и рассадили задок. А машина — отца. Если он… если я… да вы не можете вообразить, это будет мировой кошмар!
Пашка — слышит ли, что ему говорят?..
…Он должен ничего не заметить — и уже завтра… Вы мне — почините?
Человека, постигшего, что нет в мире счастья, не так-то легко уговорить брать молоток. Пашка уверенно медленно качает головой.
Эля изумлена: как же он может отказать, если:
— Но ведь никто в городе!.. Я и на станции была! Все — к вам. А — что ж мне тогда делать? Как же — мне?..
Этого Пашка не знает. Да это и не интересует его. Он устал.
— Я заплачу… Всё что угодно… Вы не стесняйтесь!..
Через силу вздыхает Пашка над её детским неразумием:
— На что мне ваши деньги? Деньги мне ваши — на что?.. Суббота! Я на рыбалку поеду. На ночную. Человек — должен отдыхать когда-небудь?
Нет, она не понимает! Если ей так срочно нужно — как же он может отказать?
…Меня весь город просит. Я не могу всем чинить.
Стук молота по жести. и снова загудел компрессор. Мы снова не слышим ничего больше, не слышим речи,
а Эля ещё убеждает Пашку, убеждает. У неё крупные свободные жесты: то выворот одной рукой, то выворот двух, ещё и с экстравагантной сумкой. Но Пашка нисколько не сдвинут.
Шире.
Видим снова весь цех — и как опыляют краской части мотороллера, и как выправляют дверцу, и втаскивают новый борт вместо разбитого. Быстро входит ещё
майор. Он здесь бывал, знает дорогу, уверенно идёт к Пашке и энергично толкует ему, толкует, отвлекая от Эли.
Для Эли — новый соперник. Она подступает, она своё.
Не слышно их.
Майор так наседает, что раскачал Пашку, тот втягивается отвечать, всё живей, вот уж, кажется, и сговариваются. Пашка и позу переменил, отвернулся с майором — к нам.
Оборвался гул компрессора, и мы слышим:
— Я, майор, из-за этих ветровых стёкол скоро под суд пойду, честно!.. Они везде зажаты, зафондированы, выписать их по накладной — ни по правой, ни по левой — не-воз-можно!
— Но ты ж говорил, у тебя где-то верный дружок на складе…
— Дружок есть, но надо сперва, чтоб стекло списали, будто его на складе разбили по неосторожности. Тогда — взять… Ну, может, ко вторнику сделаем.
Майора Пашка явно уважает за что-то. Майор:
— Так если во вторник будет ветровое, — с утра понедельника мою машину и начинай!
— Легко сказать. А тут? —
Пашка показывает на цех.
…Я буду — вам, а тут кто? — дядя?
Майор его — под руку, тише, особенно от Эли, которая близко:
— Я тебе с понедельника на три дня бюллетень обезпечу, хочешь? и мою сделаешь, и кому ещё.
Они трое в кадре. Пашка затылок чешет.
— Да это б хорошо, это б я обернулся… Ну и тут же работа сама не сделается, всё равно на меня… Да вы, девушка, — чего хотите? Чего просите — сами не понимаете. Вы ж сюда не въедете? — не въедете. А где я буду вам чинить?
Эля показывает порхающей рукой:
— Ну, там… за забором…
— Мне это под забором — вот тут сидит… Я — тоже человек. А как потом красить?
Они двое — в кадре, и только видно, как майор тянет Пашку за локоть.
— А ещё и красить?.. Ну, и красить там…
Смотрит Пашка на фифочку — до чего ж безтолковая.
— А вот это…
Шире.
Пульверизатор, шланг, компрессор сто пудов.
…это тоже через забор?
Эля обезкуражена. Майор теребит. Подступает и Пашкин подсобник — приземистый, в майке, плечи молотобойца:
— А лодку знаешь чью возьмем? Степана. и вся снарядёнка у него. Хошь, я счас за ключом мотанусь?
Из дверей:
— Алесеенков! К начальнику в кабинет, быстро!
Развёл Пашка руками — вот и живи! Вот и работа… вот и рыбалка…
С беззвучной руганью уходит.
Бредёт за ним майор.
И Эля.
Шторка.
= Кабинет. Портреты вождей.
За столом — начальник автохозяйства, жирное, довольное лицо.
Сбоку стола — завкадрами, поджарый, хваткий:
— Я докладывал вам не раз: то под забором чинит, то за квартал отъедет. А вчера я его достоверно поймал: голубая «Волга» из колхоза, он ей крышу правил.
Начальник:
— Что скажете, товарищ Алесеенков?
= Вся комната. Мнётся Пашка у порога, дальше не позвали:
— Ничего я не правил. Шёл мимо. Попросили. Я два раза молотком стукнул.
Завкадрами перебил, как укусил:
— А откуда молоток был в руке? Почему молоток?
Не особо-то Пашка их боится, но и — не тот орёл здесь, как в цеху:
— А я с молотком не расстаюсь. Вы книжку записную на перерыв уносите? А я — молоточек. Мало ли чего?
— Это уже не перерыв был!
Не боится их Пашка, а — нудно ему тут:
— Ну, может задержался какую минуту.
— Тридцать пятая минута рабочего времени!
— А если так спросить: колхозу — где машину выправить? Во всём городе не берут. В Москву ехать? В таком виде ГАИ задержит.
= Начальник — блин масляный, но — недовольный:
— Это — не ваша забота, товарищ Алесеенков. Вы слишком много возомнили как мастер. Где кому править — на то есть руководство. А вы — на советской службе. Вы работаете в моём четвёртом автохозяйстве. и можете работать только по моим нарядам. Ясно?
= Хмурится Пашка:
— Я-асно…
— Нет, вам — вполне ясно?
— Ясно.
— Так вот сейчас в первую очередь посмотрите машину у этого товарища. У Гурия Акинфовича.
Начальник кивает на
маленького, впрочем важного, человека в кресле у стены, мы его и не заметили прежде. Лицо такое: на портрет не просится, в памяти не удержится, на улице не обернёшься, а — достиг!
…И всё, что нужно сделать, — сегодня же сделаете, хоть и допоздна.
Гурий Акинфович:
— Мой шофёр тебе покажет.
Пашка — дерзей:
— Сегодня — суббота.
= Гурий Акинфович спокойно, но всё же с укоризной качает головой:
— Мне, парень, к завтрашнему дню надо. Я — начальник избирательной комиссии, мне так выезжать нельзя.
= Пашку заедает:
— Я тоже — трудящийся!
= Начальник автохозяйства
крупнее, ближе
умеет и гневаться:
— Ты — не трудящийся!
ближе, крупней!
громко:
…Ты — тунеядец!!
ещё крупней!
громче:
…Мало что выгоним тебя! Будем — судить за тунеядство!! Тебя — судить надо! А мы всё терпим!
= Пашка. Мнётся.
— Спасибо, конечно.
Дальше, мельче
и слышно слабей:
…Только суббота. День короткий. Не успею…
Голос начальника как колокол:
— Дам отгул.
Пашка ещё дальше, мельче
и слышно едва:
— Ладно. Наряд пишите…
Голос начальника гудит:
— Эту без наряда сделаешь!!
Голос Пашки как через две витрины:
— А что ж я заработаю?
Гремит начальник:
— Уложишься!! Меньше мухлюй!!
Шторка.
= Пашка осматривает помятую легковую, а рядом завкадрами и шофёр. Пашка:
— Краска такая есть у вас? У нас на складе нет… Та-ак, дверцу всю менять придётся, выписывайте дверцу…
Ползает под машиной:
…А это?.. Тоже рассадили?.. Хе-ге-е!.. Этого тоже у нас нет.
Поднимается:
…Чего ж начинать? Незаимением — не можем. Вы сперва достаньте детали.
Завкадрами:
— Вам приказано начинать пока!
Но и Пашка в заносе:
— А что вы мне принципы ставите? Из воздуха я не могу делать? К понедельнику достаньте всё — начну.
Майор за спиной — как демон. Подталкивает Пашку, отвращает. Пашка ему искоса, со злостью:
— Бери, майор, бюллетень! Бери дней на пять, мать их!..
Майор уметнулся. Пошёл Пашка развалочкой к нам сюда.
В кадр попадает и Эля. Померкла она, слов у неё больше нет. Длинным сумочным двойным ремнём обтянула шею, как душиться собирается, и только видом умоляет. Посмотрел на неё Пашка:
— Ну, игде твоя машина? Вон за тот забор объезжай, приду.
Шторка.
= Долгий низкий каменный забор, вдоль него — пустынная пыльная улочка с канавой, кустами. От нас туда, вперёд, катит знакомая машина с разбитым задом. Останавливается. Выходит Эля, смотрит
= на забор. В одном месте как бы ямка в нём, вылом. Над выломом показывается
голова Пашки. Усилие плеч — скок! — на заборе — и через забор. Привычно, у них тут тропка хоженая.
— Работаешь, как воруешь, —
говорит Пашка. Подходит — удивленье и смех на его лице:
…Ну-у! Растюхала ты машинку!.. Ну, растюхала!
= Вид машины сзади. и правда, как тут не рассмеяться!
…Да ты небось задним ходом семьдесят километров давала, а?
= Эле и тошно и смешно. Смеётся вместе с Пашкой. Он примеривается, кой-где руками трогает. Нагнулся:
— Как это у тебя бак не потёк? Вот счастье… Ты б и до меня не доехала. Вмятина в полбака, а не потёк. А ну, дай на двенадцать!..
Снизу требует рукой, но Эля не понимает, заметалась:
— Чего — двенадцать?
Высунулся Пашка:
— Ключ! — на двенадцать. Не понимаешь? Нет?
Все выражения Эли очень искренни, особенно — полное непонимание.
Поднялся:
— Ну, кой дурак вам права даёт? Где у тебя ключи?
Эля пожимает одним плечом, такой жест у неё. Пашка поднимает крышку багажника, роется:
— Вот это твой инструмент?.. Половины ключей нет… Монтажной лопатки ни одной.
— Лопатка есть, пожалуйста!
— Мон-таж-ная!!.. Смотри, зато деньги лежат — трёшка, мелочь. Да кто ж в багажнике деньги держит? Ну-у, ты-ы! —
изумлённо хохочет Пашка, вскидывая руки. Ворот у него широко расстёгнут, одной пуговицы нет, у плеча дырочка, волосы кое-как, он их назад забрасывает иногда. Хохочет и Эля с ним вместе:
— Случайно!.. Положила — забыла…
— Да-а… Значит, машина — батькина? Будет тебе голову откручивать?.. А где он работает?
— На Космосе.
— Где ж это?
— Так секретно, даже мама не знает.
Ещё Пашка смотрит машину.
— Да-а… Значит, тебя — Елена?
Приосанилась:
— Эльвина.
Теперь не понял он:
— Ль… Львина?
— Эльвина. Зовите Эля.
— А внутри у тебя не может быть инструмента?
— Честное слово не знаю.
Оба разом идут с двух сторон «москвича», открывают задние дверцы
= и там внутрь всовывают головы. А на заднем сиденьи — пассажиры! —
плюшевый слон с хоботом и огромными ушами и такой же медведь — каждый размером с пятилетнего ребёнка.
Пашка глазам не верит:
— Это что такое?
Эля берёт слона на руки и приласкивает:
— Дружок Базилио, символ дружбы!
— А — зачем?
— Подарок. Талисман. Приятно иметь: получается, человек уже не один.
— Ну-у, ты даёшь! —
восхищается Пашка.
…А инструмента нет?
= Нет.
= Низкая чёлка. Ногти ко рту подставлены, как бы грызть:
— Не починим? Нет?..
= Так друг против друга и согнулись, в машине.
— По силе возможности. Ты думай — как красить?
Условный свист.
= То место забора, где вылом. Показывается голова подсобника.
А Пашка — здесь, на улочке.
— Как там?
— Оторвались.
— Ну, кидай. Домкрата — два, у ней нет.
= И полетели через забор: отрезки труб, куски досок, домкрат линейный, домкрат гидравлический, ручки к ним, молотки всех видов до крупного деревянного (киянки). Всё летит через забор само собой и кувыркается в воздухе, только это и видим. и наконец подсобник ловко лезет через забор и сам, с чемоданом.
Спрыгнул. А уже Пашка подхватывает, подхватывает всё брошенное, оба хватают, быстро, как на пожаре,
и тащат к машине. Это слаженно у них получается. Всё известно, кому что делать.
= Пашка распахивает чемодан,
там — мелкий инструмент,
= и они начисто снимают крышку багажника.
Звяканье работы.
Снятые винты, гайки, накладки падают в железное.
— Ставь вот так! —
показывает Пашка, и подсобник, поставив и удлинив стойку линейного домкрата трубою, упирает всё это, ещё подмощая кусками досок, в заднюю и переднюю стенки покорёженного багажника. и Пашка ставит под углом на распор так же второй домкрат.
— Начали!
И — качают, качают. Домкраты растут — и распорным усилием вдруг начинает выпрямляться безнадёжно смятый багажник.
На лице Эли радость:
— Неужели так можно сделать, чтоб ничего не заметно?
Пашка гордо:
— По силе возможности!
Но — оклик:
— Паша! Паша!
= Над забором — голова второго подсобника:
…Требуют тебя!..
= Пашка отрывается как кот от сметаны:
— Хто-о??
— Да кто ж может!..
Зол Пашка:
— Ат, свинота черноморская! Никогда поработать не дадут! Поработать — никогда!..
Смекает. Делит инструмент. Эльвине:
…Вот что… Это всё пусть у тебя… Крышку — с собой возьмём, там выправим. Я там как-небудь отбортуюсь, ребят на посты расставлю и через часок сюда выпрыгну. А ты — сиди жди. Мы куда’ньть в другое место мотанёмся. Здесь всё равно не дадут.
Но с сомнением:
…А — с тобой-то справлюсь без Ивана? Ты хоть трубу в руках удержишь? Ну, покажи!
Эля берётся за распёртую трубу. Стонет Пашка:
…О-о-ох, начеканят вас таких, а куда девать?
Подсобник:
— А как же с рыбалкой, Паш?
Сердит Пашка на девицу:
— Как, как! Вот нашлют этих стиляг, трубой их по заднице, нет рабочему человеку отдыха…
= Эля держит палец под глазом. Она всё же надеется…
= Забор. Лезет подсобник туда, назад.
Подаёт ему Пашка наверх изувеченную крышку багажника. Чемодан.
И сам лезет.
Скрылся. Пустой забор.
Шторка.
= Видим сзади: катит знакомая машина, МОЯ 22–22. Без крышки искалеченный багажник выглядит как раззявленная измятая пасть. В ней подпрыгивает пустой канистр, искривлённое колесо и дребедень.
Нагоняем. Через заднее стекло
= на заднем сиденьи видим крышку багажника, кажется, выправленную, как должно быть, из-под неё и голову плюшевого медведя.
= Внутри. Две знакомых головы в затылок. Эля ведёт, Пашка рассуждает:
— Мо-ожно в какой-небудь гараж попроситься, меня везде пустят. Но мне эти гаражи все настособачили, я из них не вылазю. Духота, бензин… Мы в кустиках ещё лучше починим, и покупаемся. Инструмент есть. Поможете, подёржите.
= Они как будто выезжают за город. Строения кончаются. Поля. Посадки.
Лозунг на плакате:
ГОЛОСУЙТЕ ТОЛЬКО ЗА КАНДИДАТОВ БЛОКА
КОММУНИСТОВ И БЕЗПАРТИЙНЫХ!
ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ВЫЧЁРКИВАЙТЕ!
= Их лица спереди. Эля крутит руль со значением, важно, не подумаешь, что из аварии только что. Она переоделась: на ней теперь трикотажная кофточка без рукавов и плечи голые, а ворот круговой, глухой, высокий, всю шею закрыл, и даже с избытком, свисает немного. Пашка помолчал, посмотрел на неё:
— А если б я не взялся чинить?
Эля уверенно:
— У меня — огромная интуиция! Я не сомневалась, что вы согласитесь.
= Да, загородная местность. Вроде поймы, низменно.
Вдоль дороги плакаты:
ДЛЯ БЛИЗКОГО КОММУНИЗМА СТОИТ ПОРАБОТАТЬ!
НАША ОБЛАСТЬ… ПО МОЛОКУ… ПО МЯСУ…
= Их лица спереди. Эля:
— Скажите, а где вы это всё научились?
— В армии. Там мастер классный был, у него. А бились много, иногда попьяну. Как-то дежурный по части разбил генеральский «виллис», — так мы так отлакировали — генералу подали, он ничего не заметил. и ещё два года ездил…
У него — живое, смышлёное лицо, у Пашки. Не так он прост, как вначале показался.
— И как же в таком городе — и кроме вас второго нет?
— А шут их знает, куда они подевались. Не готовют… Есть, конечно, ну — не классные. С грузовыми справляются, а где по области легковичка разобьётся — ко мне. Я и не рад, покою нет… А вы что ж — студентка?
— М-гм. Вечернего.
— А днём работаете?
— Не-а.
— А — чего ж?
— Да — ничего, так просто.
Пашка вдруг спохватился:
— А права-то — есть у вас? Не потеряли?
Эля безмятежно:
— Не знаю, точно не помню. Посмотрите там в ящичке.
Не успел Пашка и проверить, как
= милиционер у шоссе делает им знак вправо. Так, попались…
— Ничего, это знакомый. У меня полмилиции знакомых, я же всем чиню.
= И крутит ручку стекла, уже высунулся, сам руку тянет:
…Привет.
Милиционер не отказывается, тоже жмёт:
— Привет. Куда собрался?
Оглядывает машину, девушку. Пашка:
— Купаться вот, с подружкой. Да и задок ей починю.
— Хо-о-о, тут тебе починочки! Где ж это?
— Да у нас во дворе саданули.
Милиционер соображает.
— Слушай, я на рыбалку, а мне чтоб в город не ехать, ты тут имущество моё подхвати. А я завтра вечерком к тебе зайду.
— Давай, где? Большое?
Пашка услужливо выскочил. Отшагнули немного — лежит
связка дорожных знаков на проволоке.
…Давай, давай!
Пашка оттащил в машину, бросил под ноги себе, сел.
…Поехали!
= Поехали.
Ещё по шоссе. Потом Пашкина рука высунулась, показывает.
Свернули направо — по ямкам, по ухабам, по заросшей дороге — и в кусты, в мелколесье.
= Вылезает Пашка:
— Зде-есь!
Тут же рубашку стягивает, брюки сбрасывает, остался в трусах.
…Ну что, купаться или вкалывать?
Эля в своём глухом вороте с голыми плечами. Какое купанье?..
…Ах, холодок! Тут сразу работа пойдёт!
Из багажника инструмент
кидает на траву, тут же чемодан разворачивает. Взял нужное.
…Ну…
примеряется
…держи трубу! Держи, не боись!
Наставляет домкрат, подкладывает дощечки, начинает распирать. и киянкой стучит. Но Эля дёргается — один раз… другой раз…
…Эй, смотри, руку отбию. Что такое?
Но она опять дёргается, срывает нужную руку с трубы и шлёпает себя по голой ноге.
…Что такое?
— Ко-ма-ры здесь!!
— Ну так брюки надень, ты ж в брюках была.
— Что вы, эластичные белые брюки? Да у нас ни одна девчёнка таких брюк не носит, это моя гордость!
= Смотрит на неё Пашка, смотрит:
— Этак мы с тобой, девка, не наработаем. Этак нам здесь ночевать.
Но Эля не обезкуражена:
— Ночевать? Тогда я телеграмму дам.
— Кую телеграмму?
— Маме. Что задерживаюсь.
— Нет уж, ты — держи! Крепче держи! У тебя время немерянное, а я человек рабочий, от меня люди зависят, меня люди ждут. Держи, ну!
Эля старается. Пашка разводит домкраты, постукивает по корпусу. Нет, разочарован, не получается.
— Да-а-а, ты, наверно, умоотсталую школу кончала. Что к чему — не соображаешь, и держать не умеешь…
Думает.
…Ну, ладно… Слушай. Вот тут сразу пляж, на нём ларёк. Купи-ка пива бутылки четыре да пирожков с мясом десяток. А дальше пройдёшь — там пристань, там и телеграммы… А я уж буду сам ковыряться потихоньку, ладно…
Ложится под машину и начинает свинчивать погнутый задний бампер.
Звяканье.
Эля наклоняется над ним:
— А — комары?
Пашка из нижнего положения:
— А я комарами не интересуюсь.
Шторка.
Ещё без изображения
голос неподдельно-страстный, убеждённый, предчувствующий победу:
— Как должен начаться день голосования? Вот так, как нам показывает журнал «Огонёк»!
= Во весь экран — застывшая картинка, обложка «Огонька». Шесть часов над дверью. Дверь от нас, как из храма, распахнута наружу, где ещё темно. Движением сдержанного торжества члены комиссии приглашают первых избирателей, уже давно стороживших под дверью. Избиратели держат в руках паспорта с повестками, как молитвенники, и восходят по ступенькам сюда, к нам, на участок. Глаза их блестят экстазом, это — небывалый, высший момент их жизни.
…Мы должны сами ощущать и передать своё ощущение избирателям, что это — не просто выборы, не просто голосование, но день, когда чувства благодарности, гордости и ликования распирают нашу грудь!
«Огонёк» держит поднятая рука
человека в полувоенном френче. Он именно так и чувствует, как говорит, это не притворщик, его голос горяч, для него это не формальность. Он держит «Огонёк» и внушает слушателям:
…И особенно высокие обязанности этот день накладывает на нас, бригаду агитаторов при избирательной комиссии! Именно мы должны создать приподнятое настроение всему населению нашего участка! Именно от нас зависит…
мы перестали слышать его слова,
он опустил «Огонёк»,
мы только вглядываемся в его лицо,
это экстатическое, туманно-пламенное лицо, и нам и без слов понятно и дорого всё, что он говорит. Он — красноречив, он — оратор, он — убеждён и заражает своим убеждением нас. Как на месте этот человек! Как верно нашёл он своё призвание! — и даже достоин большей аудитории, чем эта!
И ещё: кого-то напоминает нам это лицо уверенного пророка? Дантона?.. Робеспьера?.. Где-то мы видели…
= Это всё — в школьном классе. Ученическая стенгазета на стене. За партами сидят и слушают десятка три женщин. Нельзя сказать, чтоб слушали с заглотом, нет, даже несколько рассеянно.
…Вы, агитаторы, всё ещё плохо понимаете свои гражданские обязанности. Сердечные собеседования с каждым избирателем вы подменяете проверкой списков, да и то не качественной…
За задней партой — Лира Михайловна. По росту ей как раз за школьной партой и сидеть. И, как школьница, она за спиной впереди сидящей
читает своё: толстый том, и делает в нём пометки.
Но припрятывает книгу и делает внимательный вид, когда ей кажется:
Бригадир смотрит на неё. Да где мы видели его прежде?..
…Вы не выявляете морально-неустойчивого элемента в своём микрорайоне и не докладываете нам своевременно…
…вот как сейчас особенно, когда Бригадир кулаками прямых рук упёрся в учительский стол перед собой и провидчески смотрит выше слушателей, прямо и вверх, отчего несколько и исподлобья?..
…А завтра, я знаю, вы броситесь в домоуправления брать справки на уточнение фамилий и годов рождения, и на убытие. А завтра, я знаю, вы будете не досчитываться своих избирателей. Но!
…на кого же похож?..
…Лично у меня традиция: на моём участке не бывает явки девяносто девять с половиной процентов, ибо это — полпроцента позорной неявки!
А вот, пожалуй, на кого, вот на кого: на Керенского!
…У меня бывает только сто процентов! — круглых сто! и я не позволю никому уклониться! и я не позволю никому из вас потерять ни единого человека! Каждый из вас будет завтра отпущен домой только тогда, когда всех своих представит к урне!
Лица женщин. Есть испуг и неуверенность. Но одну за первой партой мы давно заметили: каждому слову Бригадира она твёрдо, уверенно подкивывает. У неё пышная голова и широкая челюсть.
…И ещё наша традиция требует, чтобы главная масса пришла голосовать с шести утра!
Робкий голос:
— Сейчас это трудно…
Пышноголовая:
— Ничего не трудно! Надо работу вести!
= Но Бригадир доступен и человеческим слабостям:
— А вы когда будете последний раз обходить — шепните, что с утра в буфете кое-что будет.
= Пышноголовая:
— Правильно, ничего не остаётся! Потому что люди — эгоисты.
Лёгкий гул несогласия.
Она ещё настойчивей:
…Все эгоисты! Даже дети! Даже школьники младших классов!
Гул сильней.
= Правда, Лира от книжки не отрывается, ничего не слышит.
Но рядом с говорящей — несогласные лица. Она же,
крутозамешанным крепким голосом:
…Я свой класс обучила правилам уличного движения. Потом спрашиваю: а зачем вы изучали правила? и все хором мне говорят: «чтобы не попасть под машину»! А? Каково??
Не поняли. Женщины-агитаторы, а не поняли ничего.
…Тогда собираю родительское собрание: «Товарищи! Позор!
Она встала, уже с классом разговаривает.
…Вы растите своих детей не гражданами светлого общества, а буржуазными эгоистами. Ваши дети все сорок ответили: чтобы не попасть под машину! А??»
Всё равно не поняли. Недоумение и тут. Пышноголовая трясёт рукой:
…Значит — вы сами такие же эгоисты!! —
Одна женщина решается, хотя очень стыдно:
— А — как надо было?..
= Учительница разъясняет неколебанно:
— Надо было сказать: для того изучали правила, чтоб не подвести шофёра под уголовщину!
Шторка.
Стук по металлу.
= Пашка выстукивает и выстукивает, ровняя очерк багажника. Уже намного он приблизился к своей нормальной форме.
А Эльвина — рядом. Она оживлённо рассказывает (иногда прихлопывая на себе комаров):
— Про всё что угодно можно говорить «старина», что было три года назад в десятом классе — то уже старина, но твист «эгейн» никогда не стареет, он — классический!
Показывает, напевая. Опустив инструмент, Пашка смотрит, полуразиня рот.
…Вот. А шейк — он, в основном, руками и плечами, в основном — верхней частью. Он гораздо быстрей, его сразу видно.
Показывает и поёт:
…Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е…
Пашка подымает с земли пивную бутылку, сосёт из неё. А смотрит на
Элю. Она — в рассказе и показе. и есть же чудаки, не знающие таких простых вещей!
…Потом есть хали-гали… Потом есть джинг-белл…
Кончилась у Пашки бутылка, он наклоняется за следующей, сбивает пробку о багажник.
…Ну, конечно, многое берём от битлов… Потом — мэдисон, танец английских носорогов… Ну, чарльстон, конечно… Он у нас всегда запрещён…
Пашка ошеломлён и удручён. Какая уж ему работа!..
— Да-а-а… А я никогда в клубы не хожу. Сам не знаю почему.
— В клу-убы? А туда и не надо ходить! Там никогда хорошей музыки не бывает. Там и танцуют на комсомольском расстоянии… Не-ет! Мы собираемся на квартирах — потанцевать и выпить, в таком плане…
= Опять взялся Пашка за работу, мелкую подгонку.
А Эля рассказывает. Жестикуляция её — необыкновенно свободна: то жест «веретено» одною рукой, то выворот рук, то — трясёт обеими ослабленными кистями.
…У нас есть очень яркие индивидуальности… Например один — лицо типа Урбанского… У него такая несчастная жизнь, это очень интригует… Он умеет так говорить, что половина — в подтексте… Проводит за три квартала, но за короткий путь столько значительных выражений… и одной скажет, и другой скажет, а подруги потом делятся… Я вам не мешаю своими рассказами?
Где уж там не мешает, когда растравила. Бросил Пашка работу, сел на обрез проёма багажника, держит как посох — длинный бампер, уже выправленный.
Да и смеркается.
— В общем, вы хорошо живёте, да?
— Ну, просто лучше не может быть. Очень хорошо!.. и нам хорошо — и никому плохого от нас нет… Неприятности — мелкие, главным образом по деканату… Так вот и жить! Делать, что тебе нравится, никому не мешать, и чтоб тебе не мешали. Это неправду говорят, что вот — борьба за существование. От человека самого зависит никогда не расстраиваться и хорошо жить…
Вздыхает Пашка. Уже он виден неясно.
— А мне — плохо жить… и почему, скажите? Работы хватает. Денег хватает…
— Просто вы не нашли хорошей компании. Можно очень хорошо жить.
— Квартира — как конура собачья, оторви да выбрось…
— А чего ж вы в хорошую не переедете?
— Да её — на деньги, что ли, купишь? Для этого ходы знать надо… Так вот и жена ушла…
— Вот редкий случай! Всегда мужья уходят.
— И сынишку забрала. Судиться думал — отговорили…
— Замужем? — я думаю, мне ещё лучше будет, чем сейчас. Я стану самостоятельней. А всё хорошее останется. Если будет муж из моего круга.
Совсем темнеет.
— Ладно. Разводи костёр. Будем при костре работать.
Шторка.
= Переменное освещение близкого костра. Всё тот же задок машины. Крышка багажника ещё не навешена, а линии так восстановлены, что не угадать недавней аварии.
Где же оба? Пашка — под машиной, привинчивает бампер.
Кряхтит, тужится, постукивает.
= А у костра сидит Эля. Она в своей двуполосой блузке опять. Она сморена, полузасыпает, но что-то ещё рассказывает — не в полный голос, не именно даже Пашке, он через стук, пожалуй, и не слышит, а — кому-то приятному, понимающему, кому она хочет нравиться. Она — как будто не здесь, а в близкой компании и выпила немножко:
— Нас с ней по телефону все путают. Потому что мы одинаково говорим: и интонации, и быстро, и слова съедаем. Это понятно, потому что русский язык очень неповоротливый. А язык жестов, язык чувств гораздо доходчивей… Всё, что в Нинке происходит, — мне всегда понятно. Но она влюбляется не в тех, в кого бы мне хотелось… В ней недостаёт лирического, поэтического…
Сзади Эли в кадр вошёл Пашка. Уже не на привязчивого заказчика, не на девчёнку, не умеющую трубу подержать, — он смотрит на неё иначе совсем, подходит по-новому…
…У неё и вкусы бывают отсталые. Она может ляпнуть, что ей Евтушенко нравится. А это уже не модно, даже неприлично, так говорить нельзя. Даже если нравится — надо скрывать. Сегодня большой, неимоверный шик — что со страшной силой любишь Цветаеву…
Пашка сзади и сверху берёт Элю за голову. Она, чуть извертясь головой в его руках:
— А вы обратили внимание, что у меня затылок — греческий?
Пашка снижается, как рухнув, охватывает её за плечи, ищет поцеловать. Эля хохочет, отмахивается:
— Да что ты! Да что ты!! Да это же старина! Так давно не делают! Это только в плохих фильмах, это вкус дурной!..
Так резко, уверенно она отсекла — Пашка и опешил, и руки опустил. Конечно, он — вахлак, сам сознаёт, но — как же надо? Как же теперь делают?
Эля слегка очнулась из опьянённо-сонного состояния:
— Ты почему ж не работаешь? Много ещё осталось?
— Теперь — шпаклевать…
— Это что? — шпаклевать?..
— Все места помятые, где краску будем ложить, — мастикой, лопаточкой.
— А — есть тут?
— Что?
— Мастика, лопаточка.
— Есть.
— Так чего ж не работаешь? Давай.
Она встала, потянулась.
…Время-то — второй час ночи, давай!
Сильные руки, сильные плечи Пашки. Его клонит — кинуться на неё, — но она так уверенно держится! она все порядки знает, нельзя переступить, нельзя себя деревней выставить…
И он идёт, голову спустя,
к чемодану. Достаёт лопатки, мастику
и начинает шпаклевать.
= А Эля, вытянув руки к звёздам, прошлась немного. Посмотрела вверх.
Идёт к машине.
= Вынимает ключ из зажигания,
= запирает шофёрскую дверцу извне.
Тем же ленивым покойным (ко сну) шагом обходит нос машины,
влезает через правую дверцу,
= внутри разбирается, отваливает спинки сидений, что-то перекладывает, мостит. Ей видно
= изнутри, через заднее стекло,
как Пашка трудится над багажником, видно только голову его и плечи, но отражаются на них рабочие движения.
Посмотрел на неё сюда —
смотрит!
смотрит!! — и кинулся
оббежать машину, к задней дверце!
= Крупно дверца изнутри. Она отперта! Но прежде, чем Пашка коснулся снаружи, Эля успевает — хлоп! — заперла!
Пашка метнулся к передней! —
но и тут — хлоп! — успела Эля нажать!
= Он — бегом, назад, вокруг и к левой задней!
= Крупно дверца изнутри.
Но тут время есть, и Эля спокойно успевает запереть.
Пашка — к шофёрской дверце! Жмёт, жмёт —
не берёт.
Теперь вместе с ним снаружи
= мы видим через стекло, как
Эля всё так же, в неудобной случайной позе, на коленях,
достаёт ключик зажигания и побалтывает им, показывает.
Мы внутри.
= Пашка десятью пальцами ломится в стекло:
— Открой!!
Мы с ним снаружи.
= Эля крутит ручку, опускает стекло на малую щёлку:
— Паша, это нечестно! А кто будет шпаклевать? Кто обещал машину к утру?
Теперь изнутри
= через стекло. Сердце и долг борются в Пашке.
— Шпаклевать мне — десять минут… четь часа… А что потом?
Извне.
= Эля — на часы:
— Да спать, пожалуй… Переживаний сколько, столкнулась… Утром — ехать…
Если спереди смотреть,
= их видно обоих, её — через ветровое.
Пашка:
— Тебе — спать, а мне? На траве на мокрой?
Эля в сомнении:
— Тоже, конечно, непорядочно. А сена нигде нет, ты смотрел?
— Какое сено в июне, ты подумала? Ещё не косили!
Вот огорчение… А у Пашки мысль:
…Поедем ко мне домой. Я всё равно шкурку забыл, мне шкуркой чистить.
— Ты ж говорил — у тебя конура собачья…
Пашка качает головой, сам понимает, что не то:
— Да, вообще-то, у меня грязно… и посуда за месяц… Я ведь там и не живу: днём — на работе, вечером — по левой… Сплю там только. Но — спать можно…
Извне.
= Эля опускает стекло больше. У неё тоже мысль:
— Я лучше вот что предлагаю. Ты пока поработай. Честно! и — не думай обо мне. Думай о разных неприятностях… о начальстве… и как тебя без наряда заставляют. и как тебя, может быть, будут судить за тунеядство. Вот как подумаешь — тогда приходи.
= Пашка жмётся, мнётся. Но порядочность побеждает. Да, кажется, он уже и о начальстве задумался.
Побрёл работать.
= Внутри машины. Эля устало, блаженно укладывается спать, и приобнимает дружка Базилио, слонёнка.
= А Пашка сзади шпаклюет. Его лицо в мелькании кострового огня серьёзно, невесело.
= Костёр догорает без новой подброски.
Шторка.
= Пашка наклонился, вглядывается через стекло дверцы. Легонько одним пальцем
стучит.
Отзыва нет. Мнётся около машины.
Не прыжком, но мягко взлезает на капот
и прикорнул там, головой в ветровое стекло. Однако
внутри машины
= Эля проснулась, видит
= тушу на капоте.
= Не проснулась, лишь прервалась на минутку. Открутила стекло. Сонно:
— Ну, остыл?
Не шевелится Пашка, молчит.
…Ну иди ложись. Только не разбуркивай.
Открывает ему дверцу. Пашка сползает, лезет внутрь, захлопывается.
…А мне приснилось — у меня права отобрали, в милицию тащили… Только не разбуркивай. Уже ночи не осталось…
Пашка и разговаривать не хочет, ложится спиною к ней.
А голова его западает, низко.
Эля ещё смотрит на него полусонно:
…На вот! На под голову!
Медвежонка ему суёт вместо подушки. Ничего, пришёлся.
= И Эля тоже отворачивается
к своему «дружку Базилио».
Так они и засыпают.
Шторка.
= Большие электрические часы. Пять часов. и перескоки стрелки дальше — нервные, безпокойные.
Отступаем.
= Это — в школьном зале, убранном под голосование.
= Идёт суета раскладки списков, бюллетеней, расстановки букв на длинном столе. Очень важно, очень стараются, очень ответственный момент.
= В полувоенном, а с выправкой гарцующей, расхаживает стройный Бригадир Керенский. В руках у него тоже список, и он отмечает приходящих агитаторов.
А звука — нет, всю сцену мы не слышим речи, может быть, только музыку.
Он их упрекает, он им на часы показывает. Опоздавшие что-то там бормочут неубедительное.
Лицо Бригадира — светло и вдохновенно. Он — огненно провидит. Мелкие земные трудности не могут его смутить.
Он расхаживает походкой не то укротителя, не то полководца.
Что-то там беззвучно у него спрашивают —
он показывает длинной рукой, у него спрашивают — он посылает дланью, как за анчаром. и вдруг бросается почти бегом
к запасному входу. Несчастная! — маленькая, запыханная, виноватая, в двери — Лира Михайловна, наша знакомая.
Он ещё спросить не успел, он только навис над нею, — она оправдывается, она оправдывается, мелкими частыми движениями бровей, губ, пальцев она объясняет эту сложную, мучительную, безвыходную, роковую ситуацию, но
нет прощенья на лице Бригадира. Он на неё даже не смотрит, он отвёл лицо куда-то вбок и вверх
мы следим, мы скользим
через его плечо, по его поднятому надлокотью,
всё вверх и вверх
через локоть, предлокотье, кисть — о, как длинна, безконечна его рука! — по пальцу,
а там уже ракетным прыжком
к часам: двадцать минут шестого! Правда, минутная стрелка пунктиром, туманцем силится подняться назад, вернуться в верхнее положение, — но тут же грузно падает в положение двадцати минут.
Дрожа от усилий, отряхиваясь, вопреки всем законам физики материального мира — дух стрелки, призрак стрелки поднимается, пятится, взбирается в верхнее положение, —
но падает секирою в «двадцать минут» — и ещё дорубливающей конвульсией в «двадцать одну» — в «двадцать две».
= Лицо Бригадира. Разве есть прощенье? Разве может быть прощенье?..
= Лицо Лиры. Нет, конечно. Прощенья ей нет. Она убита. Но она будет стараться! Она постарается загладить.
= По всему залу всё круче и заворотистей общая суета. Никто не остаётся вне движения. Оббегают стол и бегут через зал, и потом назад, убегают во многие двери и возвращаются. Несут живые цветы и устраивают их около большой урны. Ведут пионеров и отрабатывают, как они по обе стороны урны будут стоять и отдавать салют. Распечатывают пачки бюллетеней и раскладывают их в стопки перед буквами. и — иначе распределяют. и — ещё иначе. и считают. Весь зал охвачен и пересечен движением, кроме
трёх сиротливых, с распахнутыми занавесками, кабин для голосования,
в стороне, не по пути от стола к урне и никому не по пути.
= А Бригадир упруго ходит важнейшим и главным здесь, как будто и не каждого направляя, но в нужную минуту указывая долгой рукой, удлинённым пальцем. Он — на подъёме всех чувств, он праздничен.
= Однако вот появляется из запасной двери наш незаметный скромный Гурий Акинфович, —
Бригадир, выявляя, что он — не главный здесь, оказывается, — спешит со всех ног приветствовать Гурия Акинфовича, доложить ему о состоянии боевых дел, об успехах и тревогах.
И уже Гурий Акинфович малыми поворотиками малой головы выносит окончательные суждения.
= Но вот прорыв: из кабины для тайного голосования, нисколько не разводя занавесок, ибо они прибиты так, чтоб ничего не заслонять, одна женщина показывает пустую чернильницу, переворачивает её:
чернил-то нет!
От одного к другому передаётся суета: чернильницы пусты! нет чернил!
Гамлетовские думы проходят по лицу Бригадира: как быть?
= На часах — без четверти шесть.
= Гамлетовские думы. Порыв — броситься? добиться? найти?
Но Гурий Акинфович спокойно отпускает тревогу: ну, вздор же, вздор.
Теперь и Бригадиру понятно: зачем, в самом деле? всё разрешилось.
И понятно женщинам: из-за чего тревога? Пустые чернильницы разносят опять по кабинам.
= У длинного стола. Пышноголовая с широкой челюстью волнуется:
— Нас обсчитали! Нам бюллетеней недодали. и тех и других! Больше ста! Что делать? Пошлём в окружную?
= Но Гурий Акинфович своим аккуратным голоском:
— А вы — недодавайте.
— Как недодавать?
Начальнику даже странно, что нужно объяснять подробней:
— Присматривайтесь. Кто не понимает, старушка какая, — вместо двух бюллетеней суньте ей один. Что ей, не всё равно?
На лицах комиссии: верно! а ведь верно! Опять же просто!
= А Бригадир перед кучкой своих агитаторов — последние росплески красноречия с убедительным трепыханием рук. Что за самоотверженный человек! и сколько энергии! Уже, впрочем,
нарастает музыка!
рассеянная улыбка близкого торжества пробивается на его лице.
Наплывом
= то прекрасное видение — та обложка «Огонька», открытие двери.
= А над дверью — как раз шесть часов. Очень похожее расположение.
Музыка громче! Музыка громче!
= Общий вид зала, как бы сверху. Всё на месте! Всё застыло. Избирательная комиссия сидит за длинным столом. Пионеры стали на почётную вахту у урны.
= Бригадир и одна женщина из избирательной комиссии идут к главной большой двери (всё очень похоже на «Огонёк»),
величественная музыка
одновременно раскрывают половинки двери,
а там, за дверью, тоже на верхних ступеньках,
= несколько деловых старушек с хозяйственными сумками. Они спешат, отталкивают и обходят друг друга с одной заботой
во все их голоса:
— Где буфет?.. Где буфет?.. А чайная колбаса есть?..
= Бригадир отшатнулся. Ему на миг нехорошо.
Шторка.
Музыка.
= По пустой, ещё утренней улице
спешат, спешат, подбегают на ходу знакомые нам агитаторы-женщины,
они стучат в окна низких домиков,
входят в калитки, в двери, в парадные,
стучат, звонят.
= И на той же улице во встречном направлении появляются люди,
= всё больше.
= Они — другим шагом идут, праздничным, законно попирающим землю: мы в своей стране, на свои выборы идём! Они идут
парами,
и целыми семьями, это — торжественный момент.
Что-то и в петличках, груди выставлены.
Это очень торжественный момент!
= И всё гуще.
= Да просто валят, улицу запрудили!
= Они сходятся с разных улиц —
к площади со сквером, с моделью Спутника в середине,
к школе, убранной флагами и лозунгами.
И — вливаются туда. Сгущенье в распахнутых широких дверях. Так входят на выборы, как выходят обычно из кино.
Шторка.
= Против солнца — блеск и плеск воды. Плавают
шумят, смеются
две головы.
— Ну, хватит, я устала.
Из воды на мосток взлезает и садится отдыхать
Эля. Вода с неё стекает, а она сидит блаженно.
Медленно шапочку сняла, поправляет волосы.
= Какое хорошее утро. Как красиво.
И — никого…
— Слушай, Паш, а ваш город что? — купаться не любит?
Пашка из воды:
— За уши не оторвёшь.
— А почему ж нет никого?
Пашка тоже рядом вылезает, садится.
— Прямо диво. Воскресенье, солнышко такое — и нет никого. и даж’ ларьки закрыты. Хоть бы рыбак какой прорвался. Может, милиция задерживает?
— За что же?
— Да мало ли. Карантин какой…
— А может, пляж на другое место перенесли?
— Не знаю. Никто не говорил. Вчера-то купались… Чего-то в городе случилось.
Сидят, жмурятся.
…Скажи, а кто тебе «дружка Базилио» подарил?
— Ты мне, дружок, ремонт затягиваешь, вот что.
— Да теперь-то что? Ночь всё равно прошла. Покупаемся, к вечеру сделаем.
— Ты что, к вечеру! Я телеграмму дала — «до утра».
— Да батька ж твой — на Космосе?
— Вот именно по субботам домой приезжает. Да если машины нет в гараже — это он уже ночь не спал. и завтракать не будет.
— А — что тебя нет?
— А что я? Я — свободная личность.
С новым порывом, руку ему на плечо.
…Паш! Но ты ж мне сделаешь — как новенькую? Чтоб, ну, совсем ничего не заметно? Иначе он меня за руль больше не…
К Пашке возвращается его значение.
— Совсем как новенькую — надо в мастерской делать. А не в кустах тут с тобой… барахтаться… Без станка, без подсобника.
Её раскованная жестикуляция, эти вывороты кистей. Запросто тормошит собеседника за волосы:
— Дружок, ну постарайся! Мне ж иначе никак нельзя!..
Мастер соображает дело, ласками-трёпками его не собьёшь:
— Я ж говорю — генерал два года ездил, ничего не заметил. У нас по пьяному направлению ка-кие машины долбали!.. Сейчас всё от покраски зависит, точно ли краска подойдёт. Там щёлка если под крышкой будет — мы поролоном проложим. У меня дома со шкуркой и поролон не забыть. А вот — где в воскресенье красить?..
Пашка озабочен.
…Во вторую больницу поедем. Там я главврачу чинил, меня знают. и компрессор у их всегда на ходу.
С просветлением:
…Я на весь город работаю, девка, — но и мене весь город не откажет!
Шторка.
Выстрел! Выстрел! Выстрел!
= Это — в «козла» заколачивают (распустёхами сидят, своё отголосовавши) четверо, а рядом на лавочке пятый наблюдает, с младенцем на руках.
Это тот квадратный врытый столик
во дворе, где мы уже были.
На косой двери приземистого флигелька по-прежнему приколота бумажка
крупно
«…мне надо иметь уверенность, что вы знаете…»
Забивают в «козла» оглушительно, но верещит, не уступая, и женский голос:
— Разве можно ребёнка в магазин послать?! Дала ему точно два двадцать три, а с него рубь двадцать три, знаю, что на мелочи обдувают… —
= жалуется соседкам —
…Так она ему не рубь дала, стерва, а всё равно мелочи насовала — девяносто три копейки! Обронил, говори?
Заплаканный мальчишка отчаянно мотает головой.
…Тогда — пошли! пошли! Я ей врежу!
Уволакивает его за руку, тащит и бидон и батон назад в магазин.
В калитке проталкивает, не пускает раньше себя встречную.
Та входит потом. Это
Лира Михайловна. Она торопится, спотыкается. Посмотрела на
= записку — на месте, как и была!
= Озирается Лира. Ни к кому, безпомощно:
— Товарищи!.. Ну где же Алесеенков Павел?..
Бах! — в домино.
…Ну что ж он?.. так и не ночевал?..
Бах! — в домино.
Она к небу поднимает просительную голову,
= нет, к открытой веранде второго этажа. А там — наша старуха крупноносая:
— Стало быть, не ночевал, куды-то запсотился. Уж я б то не пропустила. Я в доме ничего не пропущу!
Бахают в домино.
— Но где ж мне его искать, посоветуйте…
Старухе и сочувственно и смешно:
— Да ведь парень, можно сказать, холостой. Сама догадайся, девушка, где его искать на воскресенье в ночь?.. Ещё, небось, глаз не продрал, нежится. Да чего ты безпокоишься? Придё-от, день большой!
= Лира, как она видна сверху старухе:
— Вы понимаете, нельзя ждать, с нас требуют, чтоб с утра голосовали. Мне необходимо срочно его искать!.. Теперь этот… Мурзаков Никифор, он-то где?
= Старуха на веранде:
— А Мурзакова — с Юльки спросим. Юлькя! Юль-кя-а!
Из другой двери на той же веранде выскакивает простоволосая, растрёпанная, ходовая, боевая, со жгутом мокрого белья:
— Кто меня, ну?
Такую затронь — не рад будешь. Но и старуха крута:
— Где твой Мурзаков? Подавай Мурзакова!
— А что я — к ему приставлена? Я за ним не хожу!
Старуха — грозней:
— Ты — и не крякай! Берёшь деньги как за мужа — и отвечай как за мужа! За это строго, учти! Бумажку напишут — и тебя тоже сгрундят, это у нас мигом. Пока приглашают, как господов, — надо идти искать!
Юльку пробрало. Она вниз уже с извинением:
— Ну, понимаете, две недели его не было, сама безпокоюсь. Вот как паспорт приносил тогда, вы велели для проверки, — с тех пор и за паспортом не зашёл.
= Вот так и идёт разговор: эта — наверху, Лира — внизу:
— Но вы должны были раньше побезпокоиться, вчера! Если бы вчера — я б могла его своей волей вычеркнуть. А сегодня — никак…
Юлька отнюдь не хочет скандала:
— За это вы правы… Да ведь с ног сбившись…
= Впрочем, у Лиры мысль:
— Я вас очень попрошу — возьмите его паспорт и спуститесь ко мне на минутку.
= Некогда Юльке, но — не ссориться. Метнулась в дверь, метнулась оттуда. Вниз по лестнице
с гулким стуком.
= А старуха свесилась, следит, у себя во дворе ей нельзя пропустить.
= Подошла Юля к агитаторше. В распаренных руках держит паспорт. Лира Михайловна отманивает её дальше к воротам:
— Мне бы хотелось… конфиденциально…
Отходят. Смотрят паспорт. Секретничают:
…Вы знаете, чтоб ни вам неприятностей, ни мне, возможен такой выход…
= Старуха наверху извелась — не слышно, как бы через перила не грохнулась.
= А там — совсем тихо:
…Попросите кого-нибудь из родственников или кому из соседей доверяете — пусть он с этим паспортом сходит и проголосует. Я обещаю: всё обойдётся гладко.
Юльке понравилось. Она чуть оглянулась — и сразу решительно зовёт:
— Сём! А, Сём! —
того пятого наблюдателя при домино, с младенцем увёрнутым. Семён голову поворачивает —
да какой же он вялый, квёлый:
— Чего?
— Ходь сюда, дело есть.
Поднимается, доходной, у него и голова полулысая, золотушный, что ли,
и как-то набок, и с глазом одним не в порядке.
Подошёл. Юлька уверенно:
— Сём! Сходи за Мурзакова проголосуй. Вот тебе паспорт.
Не из тех он. Не из тех он, кто сразу отвечает. Он и слышит-то не сразу. По лицу его видно, как медленно вникает в него мысль, вошедшая в уши.
А потом в его голове, с боков приплюснутой, прорабатывается.
И готовится какой-то ответ.
И поступает внутренними каналами к языку:
— А меня — не подвесят?
= Лира Михайловна — очень оживлённо, убеждённо:
— Никогда! Ни за что! Я вам гарантирую! Это же не первый случай, так делают! Потому что выхода нет! Если домоуправление не может дать справку о выбытии…
Их головы — в одном кадре (и ребёнка верхушка). Она могла бы так и не частить, она только затрудняет всему циклу пройти в голове Семёна.
Идёт процесс, идёт.
— А — не соответствующее фото истине?
Юля заколебалась:
— Конечно, Никифор — чёрный и кудряш, тут видно в паспорте. А этот — гологоловый.
Но Лира — ещё оживлённей (ведь такой простой выход! целый день она может на этом проиграть или выиграть):
— Я вас уверяю, что всё будет в порядке! На фотографии никто и не смотрит. Да я сама там буду рядом, я вас выручу!
Юлька:
— Да чего, правда, боишься? Паспорт — Мурзакова, не твой. Отымут — и оставь им, шагай себе.
Весь цикл заново. Наконец вымалвливается:
— Но герой подлога являюсь не он, а я.
Толкает его Юлька в плечо и в спину:
— Иди, или, не мудруй! Сделай людям одолжение!
= Все они вместе у ворот. Ещё не совсем поддался бедняга:
— А — ребёнка? Тогда ребёнка возьми…
Отрекается Юлька:
— Ещё чего! А стирать за меня — ты будешь?
= Старуха наверху. Всё поняла! и одобряет:
— Она тебе там подёржит! Агитаторша подёржит! Ступай с Богом! Помоги людям!
= По улице прогулочным неспешным шагом выступает золотушный парень с младенцем. и рядом, сдерживаясь, Лира Михайловна с паспортом.
Шторка.
= Большой зал голосования. За длинным столом половины обслуживающих уже нет, таблички букв сдвинуты по несколько вместе.
Пышноголовая:
— Как раз сошлись бюллетени. Точно хватило!
Не к ней, а к тихонькой женщине при букве «М» подходит поспешно радостно Лира Михайловна, выкладывает паспорт:
— Вот, привела, Мурзакова Никифора, пожалуйста!
Принимает ребёнка от золотушного. Женщина ищет по списку:
— Мурзаков Никифор, а по отчеству?
= Золотушный — голову набок, глазами — на Лиру. Цикл соображения начинается.
= Лира ему губами немыми выговаривает, выговаривает.
= Куда там! Не слышит Семён.
Завопил ребёнок
= в руках у Лиры. Она качает его неумело, торопит регистраторшу:
— Да один у нас такой Мурзаков, один!
Пышноголовая с широкой челюстью:
— Не скажите. Прямо вылитый такой же у меня сегодня был. Может, близнецы?
= Выдали золотушному бюллетени. Он взял их, рассматривает.
Ребёнок надрывается. Лира:
— Скорей, скорей, Мурзаков!
Подталкивает его к урне, несёт ребёнка сзади.
= Пионеры у урны отдают салют.
= Отдала Лира младенца,
идёт весёлая назад.
= У конца длинного стола сидит Гурий Акинфович. Раздобрен, как купец у самовара после десятой чашки.
Перед ним приплясывает от бездействия, в жажде разминки, инициативы, Бригадир.
Заметив Лиру — чётко, строго, слова, как выстрелы:
— Так! Сколько у вас осталось? Кто остался?
— Только Алесеенков. Один.
— Доставайте! —
командует Бригадир. Но зацепил ухом Гурий Акинфович:
— Это какой Алесеенков? Не автомобильный мастер?
Лира вспоминает:
— Кажется… да. Да!
С приятной улыбкой:
…А вы его знаете?
= Но на лице Гурия Акинфовича воспоминания не приятные:
— А ну-ка, Бригадир! Давай его сюда! Сам давай! А ну, мы его сейчас прижучим!
= Он — пружина, Бригадир! Да и радость-то какая! Ему этот зал был тесен — тут расхаживать да указывать. Он весь готов к поручению дальнему!
Экстатический блеск опять в его глазах! Чем опаснее поручение — тем ответственней! тем важней! тем нужней!
Срывается с места:
— Где там дежурная машина??
Шторка.
= Элина легковая всё ещё с раскрытым зевом багажника
выруливает на знакомую улицу,
к воротам того дома. Пашка выскочил, полны руки инструмента:
— Сейчас я, не глуши.
Мотор работает.
…А может зайдёшь?.. Да только… неловко… показывать нечего…
= Но Эля командует с шофёрского места:
— Шкурку! и поролон!
= И Пашке уже в калитку бы входить — руками не откроешь — как видит
= автомашину грузовую с крытым кузовом, как она сворачивает из-за угла сюда, на нашу улицу.
= Насторожился Пашка, сильно насторожился!
= Ещё машина далека, ещё неопытному глазу её и не опознать,
= однако Пашка в тревоге спешит назад, в Элину машину:
— Э, э, от этой тикать нам надо! Скорей! Открывай, ну!
У него руки заняты, а она замешкалась с дверцей.
…Да скорей же, тюха-пантюха!
Открыла Эля. Он ввалил весь инструмент внутрь, сам вскочил:
…Разворачивайся! Быстро!
= Да не очень проворно у неё это получается.
…С тормоза сними!
= Стала разворачиваться — не хватило ей ширины улицы, тут и ямка, тут и дерево, теперь надо задний ход.
= А та машина катит и катит сюда! Уже близко!
= Эля старается изо всех сил, лицо напряжено, как будто она машину ртом поворачивает.
А Пашка крутит головой: и как та машина подходит, и как здесь разворот идёт:
— Это — машина техпомощи, со станции… У нас с ними расчёты не в балансе… Я у них кой-что на складе перехватил… Мне с ними никак встречаться нельзя… Да не томи же, ну!..
= Наконец-то! Развернулась кое-как, поехала, поехала…
— Когда спешишь — никогда не получается!.. —
= досадует, и оправдывается, и сочувствует Эля. Нет, она деловая, понимает: удирать так удирать!
= А та машина — к воротам подходит. Действительно, «Техпомощь» написано на боку. Впереди, над кабиной, малое обрешеченное окошко в крытом кузове.
= Поравнялась с воротами, остановилась — и выскочил из неё
Бригадир агитаторов. Легко несётся к калитке, будто по воздуху,
= а у калитки Юлька стоит, семячки лускает.
— Скажите, товарищ Алесеенков, автомобильный мастер, здесь живёт?
— Да вон поехал.
— Где?
— Да вон, на легковичке.
= Изумлён, ушами крылат Бригадир:
— У него что — своя машина?
— Зачем своя? Его весь город катает.
— Та-а-ак! —
= уже несётся Бригадир прыжками на своё место —
…Шофёр! Догонять! Вон ту машину — догонять!
= А Элин «москвичок», всеми лапами и всем брюхом переваливаясь на неровных булыжниках и ямках этой покатой улицы,
уже внизу далеко
и за угол заворачивает. и — потерян…
— За ним! За ним!! —
= восклицает и простирает руку вперёд, да стекло мешает, наш Бригадир. Если б он мог ушами как крыльями — он уже бы настиг! Он ничего не умеет делать равнодушно, несамоотверженно. Он знает, что нет черновых, второстепенных дел, которых стыдились бы большевики.
Однако его воодушевление нисколько не передаётся шофёру. Это — тот худой флегматик, которого мы видели на станции техпомощи. Он рулит себе, как рулит,
= чтоб свою машину на этих ямках не разгрохать.
А машина его чем-то сходна с «воронком»: тёмный кузов, заднее окошко, тоже обрешечено, боковых почему-то нет. Только что надпись: «Техпомощь».:
= В кабине. Кипятится Бригадир:
— Позор! Для такого дня не могли дать участку легковую! Конечно, мы их так упустим! Ты — побыстрей можешь? Побыстрей!
Нет, не увлечёшь эту жердь! На флегматичном лице шофёра — малыми чертами недоумение: ехать-то куда?
Они завернули туда же — а тут две улицы и даже три. Избирательные лозунги. Портреты кандидатов. А «москвича» с распахнутым задом — не видно.
Остановились.
Бригадир открутил стекло, высунулся, зовёт, машет:
— Эй! Эй! Кто там! Народ! Подойдите сюда!
= Но народ, как будто к нему не относится, — всяк своей дорогой…
Оглянутся — и мимо.
= Нет почтения к грузовику! Не поленился Бригадир, выскочил,
одного, другого спросил, те — о подробностях, он объясняет, они вспоминают, оглядываются, руками показывают.
Есть разнобой в показаниях, но кажется — вот сюда!
Бригадир — бегом к машине, как молодой, сил много, да и длинноногий.
= Едем. Перед нами развёртывается улица. Быстро едем.
Светофор. Верхний, значит — красный.
Остановились. и что за досада: пустой перекресток, и милиционера нет — отчего б и не проскочить?
— Езжай! Мы — избирательная! —
= за рукав тянет Бригадир. Но шофёр как дремлет. Потом, не торопясь:
— Красный светофор тоже полезен: он даёт время подумать.
= Средний, значит жёлтый.
— Ну, при жёлтом-то можно?
— Ни в коем.
= А теперь поехали. и сразу с ходу быстро. Он дело знает, шофёр.
Пронеслись квартал.
Опять светофор. Жёлтый.
— Ну, с ходу, с ходу!
= Не уломаешь. Остановился.
= Красный.
А по улице, почти свободной от машин, вдали,
суженной трубкой, как биноклем обёрнутым,
виден желанный «москвич» с раззявленной задней пастью. Он, кажется, остановился.
— А-а-а! —
= стонет и вертится Бригадир.
= Рванули!
по прямой!
— Давай! Давай!
— У нас в городе — сорок километров, больше нельзя.
= Чтоб два таких разных настроения у одного руля: на крыльях бы понёсся! — и камень лежачий.
= А Элин «москвич» действительно остановился. Шофёрская дверца не захлопнута, Эля в тревожно-заботливой позе стоит сбоку, наклонясь,
а Пашка под машиной лежит сзади. Оттуда:
— Нет, едритская сила! не течёт! Не течёт, точно!
Оттуда выползает задом. Поднялся,
перемазанный, рубашка в пятнах пыли, прямо на асфальте лежал:
— Сколько у тебя бензина было до аварии? Не помнишь?
— Не помню…
— Кто вас недоруких за руль сажает! Надо ж на приборы смотреть!.. Тут заправка есть — но там на талоны строго. Есть талоны?
Очень Эля огорчена, что такая она ненадёжная оказалась:
— Нет…
Размахивает Пашка руками:
— А талоны — …н-на том конце, в керосиновой лавке. Да в воскресенье закрыта наверно. Понапутают людей, чтоб жизни не было!.. Э-э, слушай! Едут! Уследили. Уходить надо! Гони куда-нибудь, гони! Петля!
Разом бегут в машину, садятся,
тронули,
а впереди — красный свет.
Голос Пашки:
— Гони при красном, я отвечаю! Гони, никого нет!
И правда, проскочили.
= Внутри оба, спереди. За плечами их на заднем сиденьи видна крышка багажника и голова слона Базилио.
— И гони, пока бензин… Будем гнать, что остаётся!
Пашка переклоняется, смотрит стрелку:
— На ноле, сучка! На ноле, и не дрожит! Не на далеко нам хватит… и как же ты канистры с собой не возишь?.. Эх, девка, хозяйки из тебя не будет, нельзя тебе замуж…
А она-то старается! — и лицом работает, и лбом работает, некогда волосы со лба…
— Ты мне хоть волосы поправь!
Он поправляет. Не держатся. Поправляет.
— Тоже безрукий! Чему вас в армии учат!.. Там заколки в сумке, найди, приколи!
Пашка ищет в сумке, возится в её волосах. Да забот много: и назад оглянуться, и вперёд дорогу сообразить…
— Теперь шоссе пойдёт, и ты давай километров девяносто-сто! Давай — сто! Где ты видела, чтоб грузовик легковушу поймал?
— Что ты — сто! Я не могу сто. У меня при девяносто руль из рук вырывается…
Но она старается.
= Несутся мимо последние городские дома, деревья…
ГОЛОСУЙТЕ ТОЛЬКО ЗА КАНДИДАТОВ…
= А он с её волосами ещё хуже напутал — у неё и так всё спереди, теперь совсем валятся.
— Ну и волосы у тебя…
— А — какие?
— Да век бы рук не вытягивал…
— Садись — ты, хочешь?
— Да я не умею…
— Как — не умеешь??
— Вот так. Всю жизнь с машинами, спину не разогну, а учиться некогда было. Кому починишь, тот сразу уезжает…
Вертится Пашка безпокойно:
— Давай сто, я тебя прошу! Нам только с виду у них оторваться, мы в сторонку свернём, перехоронимся. Ведь бензин кончится!..
Эля честно старается. Но — страшно:
— Нельзя больше восьмидесяти! Больше восьмидесяти, слышишь, у нас всё стучит. Развалимся на дороге, и всё. Там под ногами у тебя — фляжка, дай напиться, горло пересохло.
Пашка наклоняется, фляжку достаёт, поит Элю без отрыва от руля. Она на дорогу смотрит, он назад оглядывается
= через заднее стекло «москвича» —
вот он, вот он, Техпомощь-воронок, высокий, твёрдый, быстро идёт.
Эля мычит, стонет —
= это он переклонил, воду на грудь ей пролил,
уж теперь ей вытирает как может, а сам — на приборы:
— На ноле, сучка, не шелохнется!..
Вертится Пашка — ну, какая защита на шоссе?
Наклонился фляжку класть — и — что там под ногами?
Поднялся оживлённый, весь соображение. Глянул вперёд, глянул назад:
— Стой! Быстро стой!!
Эля ничего не поняла. Тогда он сам нажал,
визг тормозов! и заглох мотор,
кинуло обоих вперёд, Пашка лбом в ветровое,
но уже выскакивает, кричит:
— Заводи скорей! Заводи!
и бежит
к столбу со знаком «стоянка запрещена». и навешивает сверху такой же точно круг (крючки на нём проволочные), но ограничение по скорости: «30». и — в машину бегом!
= Взгляд по дороге назад: за изгибом дороги преследователей пока не видно.
— Жми скорей, Елена! Жми! Теперь оторвёмся!
Хлоп дверцы.
= Поехали.
= Они проезжают какой-то населённый пункт: длинный забор, два-три дома за деревьями.
ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА…
— Ох, не на далеко, —
= бормочет Пашка и из-под ног выбирает себе новые знаки:
ограничение «20», ограничение «10».
= Эля:
— А знаешь, я вспомнила: я вчера днём точно заправлялась. Если он не потёк — куда ж он делся?..
= Мы — в кабине Техпомощи. Изгиб дороги —
на тебе: ограничение «30».
Флегматик резко снижает скорость.
= На спидометре стрелка становится точно «30».
= Бригадир изводится:
— Что такое? Не обращай внимания, мы — избирательная!! Мы — важное задание выполняем!
— До конца населённого пункта, —
монотонно вещает Флегматик, как робот. Его не пробить, не пошевелить.
На лице Керенского — страдание.
= Смотрим на дорогу. «Москвича» нет. Но населённый пункт кончается. Ускорение!
ощущаем его,
ускорение!
и — знак: ограничение «20».
Резкое замедление.
= Спидометр: «20».
= Снаружи: как ползёт Техпомощь по сравнению со столбами.
= Флегматик непробиваем. Ни удивления. Ни сожаления. Ни надежды.
Бригадир кипятится.
— А теперь? Населённый пункт кончился! Почему может быть двадцать? Это ошибка!!
Отповедует Флегматик:
— У ГАИ не бывает ошибок. Ошибаются только шофера.
— Так до каких же пор?
— До перекрестка.
— Какой же в поле перекресток?!
— Поедем — увидим.
— Да ты смотри — вон же они! Жмут, уходят, почему им не двадцать?
— Значит, после перекрестка.
Нет, его не убедишь! Хоть выскакивай и беги ногами!
= Вдали, по открытой дороге уходит, уходит «москвич» с раззявленной пастью, как смеётся…
= А Пашка у следующего столбика навешивает «запрет обгона».
= И тут же их раззявленная задняя пасть с подскакивающим внутри колесом обгоняет большой семитонный холодильник.
За Холодильником их и не видно, совсем исчезли.
Вот так. Открытое шоссе — но один Холодильник, их нет.
= Бригадир очень забезпокоился:
— Слушай, они куда-то свернули! Их нет, они свернули. Давай остановимся, посмотрим!
Флегматик. Это — пожалуйста, это требование законное.
= Техпомощь взяла вправо, остановилась. Бригадир выскочил, бегает, как нанюхивает. Оглянулся, покрутился, глянул и вперёд —
= теперь хорошо видно: убегает «москвичок» по шоссе, всё больше отрываясь от Холодильника.
= Даже руками всплеснул Бригадир, сломя голову — на место:
— Нагоняй, нагоняй подлецов!
= Мы рвём вперёд, но
знак «запрет обгона».
= И, в спину Холодильника упершись, медленно плетётся Техпомощь.
= Бригадир велит, приказывает обгонять:
— Да не бойся ты, бревно! Кому эти знаки дурацкие? Кто на них в поле смотрит!
= Флегматик на него и не обижается: человек же не понимает.
— Кому надо — тот смотрит. Они, может, на мотоцикле где за кустом притаились. Ещё и с хронометром… Знаю… Попадал…
Мы издали и отчасти сверху.
= Хорошо видно, как тянется Техпомощь вослед за медленным Холодильником, — а далеко впереди уходит, уходит, уходит проворный «москвич».
— Ха-га-га! Ха-га-га! Ха-га-а!!
= Пашка назад смотрит, рогочет, по груди себя кулаками колотит. Бьёт и Элю по плечу:
…Оторвались, Елена! Оторвались! Ты у меня — герой! Вот девка так девка! Теперь сворот ищи, будем поворачивать!..
Он всё назад смотрит — и вдруг
тормозит их машина, тормозит… Шатнуло Пашку:
…Бензин?? Кончился?
= Страшное Элино лицо. Она видит:
= чёрная кошка бежит через шоссе.
Да близко!
= Остановились. Кошка спокойно побежала дальше.
= Элины глаза расширены:
— Дальше я не поеду…
Пашка ещё не понял, насколько это серьёзно:
— Да что ты, Елена, кто ж в это верит?
Эля не в полный голос, шепчет почти:
— Ты не представляешь, какие могут быть страшные последствия.
Но пока увидел Пашка
= знак поворота дороги.
= Он бежит и навешивает «скользкая дорога».
= А те себе две плетутся: Холодильник и Техпомощь.
= Зад Холодильника, как он вплотную виден
= изведенному Бригадиру…
неизводимому Флегматику… Всё идёт нормально.
= Задняя стена Холодильника. Белая, ровная, безнадёжная.
= Никого на шоссе, никого перед Холодильником. Плетутся две машины…
Вдруг — правый сигнал на Холодильнике.
Сворачивает!
= Воспрял Бригадир! Спокоен Флегматик.
= Рванули! Чистая дорога!
= Пашка стоит на дороге с шофёрской стороны и через окошко уговаривает Элю:
— Ты мне — говори окончательно! Я тогда полем побегу. Не поедешь?
У Эли у самой чуть не слёзы:
— Нельзя, Паша, никак нельзя… и талисманы не помогут…
— Да что нельзя, объясни?
Всеми живыми пальцами показывает Эля:
— Вон ту линию я не могу первая пересечь.
— Какую?
— Где кошка перебежала.
— А кто должен?
— Другая машина.
Пашка в отчаянии озирается.
= Нет другой машины!..
То есть — есть вдали сзади, но это — Техпомощь. Она гонит!
— А ещё кто может?
— Да хоть собака, хоть лошадь…
— А я — могу?
— Можешь, конечно, но я тебе не советую… Тебе хуже будет…
Побежал Пашка вперёд! Оглядывается: пересек? и всеми жестами уговаривает Элю скорее ехать к нему.
= Поехала.
Посадила.
= В машине. Пашка:
— Елена! Я пока бегал — додул: есть у нас бензин! Хватит! Тебя когда стукнули, бак помяли — и датчик нарушили, вот он на ноль и стал! Я тебе потом исправлю! Только б уйти!
Очень весёлый стал Пашка. Но Эля серьёзна:
— Паша, ты видишь сам: я товарищ хороший, солдатская верность, но, в конце концов, я должна знать, что тебе грозит? Руби прямо, я не дрогну, — тебя арестовать должны?..
Во весь экран
= знак «скользкая дорога».
= Флегматик шевелит губами, выражает осторожность.
Разъярённый, распалённый Бригадир, ноздри раздуваются:
— Гони, гони, они — вот тут, за поворотом!
Но Флегматик никак не согласен:
— Своя голова дороже. Бережёного Бог бережёт.
Бригадир круто поворачивается к своему шофёру. Он сдерживает гнев. Ведь он сам виноват: с этим шофёром он не провёл никакой воспитательной работы:
— Товарищ! Товарищ! Я взываю к вашей сознательности, к вашей самоотверженности! Мы должны жить интересами общественными, а не труситься за свою шкуру! Если все будут такие, как вы, мы никогда коммунизма не построим!..
= Пашка на коленях знаки выбирает
(и мы вместе с ним). Хороших-то знаков не осталось: запрет сигнала, запрет остановки, потом…
во весь экран
странный какой-то знак: похож на запрет стоянки, только перечёркнута посередине не буква «Р», а — стройная чёрная бутылочка.
= Пашка моргает. Пашка глаза протирает: он не сошёл ли с ума?
= Опять этот знак, как наваждение…
= Элю тоже разбирают сомнения:
— Ведь ты ж моего отца убиваешь, ты понимаешь? Ведь я к тебе приехала машину — что? чинить! а ты мне её гробишь…
= По просёлочной дороге катит бричка. Лошадей стегают, пьяные, песни поют, руками машут, шапками. Праздник! Великий праздник. Отголосовали, теперь домой едут.
= Хлещут лошадей! круто вверх и
выезжают на шоссе — как раз перед Техпомощью!
Техпомощь резко тормозит. Так и едут — бричка посреди дороги, шапками машут, приветствуют задних, кто-то и бутылкой трясёт пригласительно, — и в нескольких шагах позади Техпомощь.
= Даже смотреть обидно: для таких ли скоростей строят автомобили!
= В кабине. Бригадир смотрит на Флегматика с подозрением:
— Да вы саботажник? Вы с ними заодно? Я буду ставить вопрос! Мы выясним. Что вы, брички обогнать не можете?
Первый раз Флегматик снимает руку с руля и пальцем показывает:
— Чего ж обгонять?
Трубкой вперёд.
= Там, за бричкой вскоре, стоит знак: ограничение скорости «10»!
= Взревел Бригадир:
— Надо ехать! Я отвечаю! и ГАИ просветим, что там за люди работают!
Но Флегматик вполне разумно:
— Зачем я буду иметь неприятности? Я третий год водки не пью, чтоб только не иметь неприятностей.
= Но весёлую бричку попьяну занесло, бричка не так поехала, на ходу
боком о столбик — шарах!
Все целы, дальше поехали,
а знак «10» свалился, а под ним — «запрет тракторам».
= Прозрение, сияние на лице Бригадира: он прав был! ГАИ надо проверить!
= Сразу Техпомощь бричку обогнала — быстрей! — быстрей!
Но проносится щит на обочине:
БЕРЕГИТЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ.
= И на лице Флегматика сомнение:
— Надо бы вернуться… Знак поднять… В ГАИ сдать.
Бригадир не слышит такого вздора. Он подскакивает на сиденьи как на коне, он — жокей, он — всадник, он — охотник!
Музыка погони! Музыка настигания!
= Только столбы мелькают, так несётся наконец Техпомощь. Щит большой:
ДЛЯ БЛИЗКОГО КОММУНИЗМА СТОИТ ПОРАБОТАТЬ!..
ПО МОЛОКУ… ПО МЯСУ…
= Пашка стоит босиком на крыше «москвича» и, опасно покачиваясь,
навешивает над головой
знак «проезд запрещён» («кирпич») на проволоку,
висящую над дорогой,
над отвилком полупросёлочным круто в гору от главного шоссе. Кричит:
— Есть! —
и соскакивает ловко.
= И вверх туда, вбок, под «кирпич», они и поехали.
Им — несколько сот метров, завалят за гребень, там и лесок, там они скроются.
Это уже видно через ветровое стекло преследователей.
= Бригадир руки потирает, Бригадир кинуться готов:
— Ну! ну! ну! Ещё сто метров!
Но Флегматик усмехается философски.
= И перед развилком, сдавшись на бровку, останавливает свою Техпомощь.
= Бригадир оглядывается на него дико,
но Флегматик пальцем вверх и вперёд, как на рок, показывает на
= «кирпич».
— А почему ж они поехали?!? Остановить!! Нагнать! Оштрафовать! Езжай, я приказываю!
= Флегматик слушает как лепет ребёнка:
— А детей моих — вы кормить будете? Зачем мне хлеба лишаться? Меня уже за знаки четыре раза…
Он не поедет! Он — не поедет. Это — твёрдо. Это — камень. Его взор упёрт
= в «кирпич».
А так близко! Так близко! Рукой подать! Своими ногами добежать!
Внезапно подлетает к нам как мана
= заклятый «москвич» с распахнутым задом. Совсем же близко!
И отдаляется на своё место.
Но дорога неважная, в крупных камнях, он медленно что-то взбирается.
= Бригадир выскочил из кабины.
Порыв! — в гору бежать! и бежит! Нет, всё равно не нагонит, запыхается. Остановился. Обернулся.
Уговорить этого долдона! — нет, не выйдет.
Опять туда повернулся — бежать! — поздно…
Срывается ответственное поручение! Такие искренние, самоотверженные усилия — и втуне гибнут!..
Вот и воспитывай людей!.. Первый раз, сколько мы видим его, отчаялся Бригадир. Потерял энергию, отупела воля, плечи повисли,
сел у дороги.
Смотрит, на что он сел: длинная тесина лежит.
Мысль!
Взгляд наверх! Надежда!
Взвился, схватил тесину, поднял, тащит её — нет таких черновых дел…
Сбить «кирпич»! Нет, не сбить, но проверить: может их там опять два, навешен?.. Бьёт тесиной по «кирпичу».
= Флегматик стоит около своей машины и качает головой:
— Ох, и нагреют вас!.. Не посмотрят… Не советую…
= Не сбивается «кирпич». Во всяком случае, он там — один.
= Усталый Бригадир кидает тесину, прощально-безнадёжно смотрит
= туда, вверх. А там что-то запнулось! «Москвич» стоит, не идёт!
= В «москвиче».
Мотор не работает.
Не кричит Пашка на Элю, не ругает, но с болью, руку на руку на руль положив:
— Ну, как ты заглохла? Что, совсем править не умеешь?
Эля чуть не плачет:
— Да камни крупные проклятые, камней навалили, что за дорога!
— Ну заводи, заводи!
— Да чем заводить?
— Стартёром!
— Но-гой какой?
— Правой!
— Я на тормозе держу!
— Отпусти!
— Катимся!
Вблизи:
= верно, катятся назад!
Издали снизу:
= катятся назад!!
= Внутри. Пашка, сколь силы, вытягивает ручной тормоз.
— Так, отпусти ногу.
— Катимся!!
— Да ты назад смотришь, куда едем? Сейчас под откос.
Руль одной рукой перехватил, смотрит назад.
Издали снизу:
= пошёл боком «москвич», сейчас в обрыв!.. Нет, выровнялся.
= Элино лицо, страх:
— Катимся!
Впрочем, она не истерична. В конце концов, она готова и к гибели.
— Да жми тормозную! Сколь силы жми! Во-от…
Передохнули.
— Знаешь, Паша, беги, пока не поздно! В лес, а там скроешься.
— А — починку кончать?
— Место назначь, в городе встретимся.
— А как же тебя на горе брошу? Ты свалишься…
Пауза. Не просила она его волосы поправлять, а он поправляет. Гладит. Пауза…
— Ну, давай бороться!
— Так… Значит, ног не хватает? Тогда так: ты — заводи, а я акселератор буду жать. Ну!
Бешеный рёв мотора! — как самолёт бы снизился,
= а ни с места!
Рёв — сейчас машина разорвётся!
а ни с места!
= На педалях — их три ноги. Пашка, перекрикивая рёв:
— Да зачем же ты тормоз жмёшь?!
— Я не жму!
— Как не жмёшь?
= Мужскую ногу сняли с акселератора.
= Дёрнулась машина.
Тишина. Заглох мотор.
— Ты зачем же — на тормоз?
Элин голос — и горе и потеха:
— Ой, это ж я — правой ногой!.. думала…
= Сняла ногу с тормоза.
…Катимся!!..
— Дави, дави!
Опять поставила.
= Их лица. Опасность — но не сердятся.
— Я же привыкла: раз не идёт — значит, сильней правой ногой! А я не на газе — на тормозе… Как же нам быть? Ноги не хватает… Беги, Паша!
— Ноги не хватает — куда побегу?.. Ещё раз пробуем. Значит, первую передачу поставишь — и тормоз отпускай, отпускай. А газ — моя забота.
— А кто зажигание?
— Ты. А хочешь — я.
— Нет, я. А кто ручной тормоз?
— Я.
— Не спутаемся?
— Не должны.
— А что это воняет?
— Ох, здорово. Сцепление подожгли. Ну, ещё раз!
Рёв мотора! Рёв!
= На педалях — две женских ноги, одна мужская. Всё, как надо: сброшен ручной, отпускается ножной, —
Элин голос:
— Катимся! Всё равно катимся!!
Пашкин:
— Не берёт! Сцепление сожгли, вот что!
Издали снизу:
= необъяснимо — неотвратимо — неуклонимо — катится, катится «москвич» с горы задом, да ещё виляет, да ещё виляет, — если с откоса не свалится —
= будет здесь! будет здесь! Лицо Бригадира! От закона не уйдёшь! От воспитания не уйдёшь! Руки потирает. Мог бы навстречу кинуться, но
= сами скатятся!
= Внутри. Видим Элю и Пашку спереди. Они совсем запутались. Пашка:
— Лево руля, лево!.. Да лево же, а не право!..
Он совсем уже руль перехватил, смотрит назад, правит:
— А ты тормози, тормози!
— Не держит, Паш!
— Да не тормоз же сгорел! Сильней дави!
— Нога устала! Ой, катимся, Паш!..
— Передачу ставь!
— Какую передачу?
— Да какую угодно!
— Скорость, что ли?
— Ну, скорость!..
А в общем — поздно. Всё пропало. Но — не отчаяние на лице Пашки, —
= нежность… Под откос — так под откос, чёрт с ним…
Целует Элю.
И — ещё целует…
Она не сопротивляется… Даже…
в пропасть так в пропасть…
= Все четыре руки их на руле перепутались, куда рулят — сами не знают…
Снизу:
= виляя, вихляя, то к правому откосу, то к левому, чуть не на опрокиде — съезжает заклятый «москвич» МОЯ 22–22!
С последним поворотом — затормозил резко — и остановился
как раз под «кирпичом».
= На лице Флегматика (он — рядом с Техпомощью) — полное удовлетворение: вот так, наука! Нельзя нарушать знаки.
= Пашка выскочил из «москвича» — бежать? — но: неумолимый властный голос:
— Товарищ Алесеенков?
И — куда вся удаль Пашки? — обмяк, переминается:
— Я буду…
А Эля с другой стороны из машины вышла, там горка, её голову видно через крышу «москвича». Стала, и — пальцы держит под глазом, вытирает слезу.
= Великая минута воспитания! Бригадир сам перед собою стоит смирно: он — не он, важно то, что он произносит:
— Какой позор, товарищ Алесеенков! и ещё смеетe — бежать? Где же ваша гражданская сознательность? Где же ваша рабочая совесть?!..
= Да, попался Пашка. Потупился. Чего ж теперь оправдываться зря…
Голос Бригадира как бы с горних высот:
— Предъявите ваш паспорт!
Глухо, виновато отвечает Пашка:
— Он — не при мне… Он — дома…
— Так тем хуже! Значит, абсолютная, наглая безпечность! Вы даже и не думали к нам являться!
Честно говоря, не думал Пашка, нет, не думал…
— И в такой день вы ещё «по левой» машину чинили?!
Пашка слабо возражает:
— Да не… не чинил… Это — подружка моя… купаться ездили.
— Купаться?!? В такой день?!
Крыть нечем, молчит Пашка. Сощурился к небушку, опять голову опустил.
— А кто знаки менял?
= Это — дело уголовное! Тут — не отступать! Оживился Пашка:
— Ничего не знаю! Какие знаки?
= Вся группа, по двое у своих машин. Бригадир — вольными раскатами:
— А — ваш Долг? Ваш долг!!
Эля держит сползающий палец под глазом.
Пашка показывает на Флегматика:
— Я им ничего не должен, товарищ начальник, я у их ничего не брал! Это — ошибка!
живей, всё живей:
…А если насчёт ветрового стекла для «Волги», — так это с каждым может случиться, товарищ начальник, и с вами тоже! Вот будет на дороге маленький камешек лежать, передняя машина скатом зацепит — и вам в лоб! и всё! А достать его законно — негде!! Его просто никогда нигде не продают! А людям ездить надо?..
Но уверенность его вдруг падает, потому что он видит,
как Флегматик качает головой: «не, не за это…»
= А — за что же?..
= Бригадир наступает:
— Вы не пытайтесь нас запутать! Вы — почему отказываетесь голосовать?
Вот уж в чём Пашка не виновен! Вот уж чего не ожидал:
— Я — отказываюсь?..
Хочет понять, не понимает, на всякий случай руку поднимает:
…Пожалуйста. Пожалуйста.
— А — вы? —
через машину спрашивает Бригадир у Эли.
= Но Эля уже всё поняла, она вспомнила! и — страхи миновали, и со столичной самоуверенностью, с лёгкими свободными жестами:
— Я — в Москве должна голосовать! А из-за вас опаздываю! Там мои агитаторы с ума сходят! А вы тут товарища задерживаете!
= Только теперь на Пашкином лице — понимание — облегчение — счастье!
— Га-а!.. га-а!.. га-а!.. —
только и может он от радости. Никто его не потянет, ничего не открылось!
= Но — развернулась Техпомощь,
распахнута задняя дверца кузова, и
Бригадир показывает Пашке строго:
— Садитесь.
= Пашка взошёл по ступенькам,
Флегматик закрыл за ним дверь на задвижку.
Пошли садиться.
Шум мотора.
Уже на отходе, через заднюю решётку, Пашка кистями показывает и кричит весело:
— Сейчас — потянет! Сцепление остыло — теперь должно тянуть. Заводи, заводи!
= И поехала Техпомощь со смутным Пашкиным лицом в заднем окне.
А вслед за ней по шоссе потянулся и «москвичок».
Обратный порядок…
Шторка.
= Ресторан.
С его ступенек сходят: Иногородний (средних лет, высокий, в хорошем костюме, шляпе, держит пыльник через локоть) и его Собутыльник (низенький затруханный старичок с редкими усами, одет кое-как).
Второй заметно пьяноват, Иногородний держится безукоризненно.
Сошли и тут же, на тротуаре, в сторонке стали. Иногородний тепло:
— Ну, спасибо. Хорошо поговорили.
Старичок даже с кряком, как после рюмки:
— Ах, хорошо!..
— Просто — из души в душу. Умный ты человек оказался.
— Ты — умный человек.
Смотрят с любовью друг на друга. Иногородний:
— Я — сердечно рад был познакомиться.
— Я — исключительно рад!
— А теперь так: я тебя не знаю, ты меня не знаешь, понял?
— Конечно понял.
— Фамилий не знаем, адресов не знаем, выпили — забыли, так?
— Конечно так.
— И — ты в ту сторону, я — сюда, так?
— У-гм.
Сердечно трясут друг другу руки и расходятся.
Достойно, прилично идёт Иногородний. По скверу. Кто может быть этот человек? Морской офицер, надевший гражданскую одежду? Или спортивный тренер? Или цирковой гимнаст на пенсии? Очень строен. А плечи! А держится!
Впрочем, и иностранных шпионов такими изображают.
Идёт себе, видит:
= макет Спутника на постаменте среди сквера.
Дальше аллейка —
и прямо к школе. А там крупно:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №… ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
= Подумал Иногородний…
Шторка.
= Наш зал голосования. Никаких пионеров около урны уже нет. За столом — пышноголовая и ещё одна. Все таблички букв уже сдвинуты воедино.
= Над входной дверью — первый час. Входит
Иногородний. Снимает шляпу, торжественно несёт её. Как он строг! Он действительно вошёл во храм.
Крупными медленными шагами цапли он идёт
к столу. Пышноголовая с уважением смотрит на него, готова даже приподняться.
= Он вытянут, плечи развёрнуты. Нисколько не теряя торжественного выражения, лишь едва поведя глазами, Иногородний спрашивает:
— У вас — уже уборочка началась?
Смотрит на ручные часы. Пышноголовая поднимается:
— У нас уже практически сто процентов! Наши все проголо…
= Незнакомец явно удивлён:
— А — что же вы будете делать до двенадцати ночи? А — зачем же отводится для голосования восемнадцать часов?
= Даже челюсть стала мешать пышноголовой, она ею — вправо, влево:
— Так ведь… было указание… мы считали…
Незнакомец грустно-грустно кивает головой. Зная род человеческий, он не удивляется, но там, на Олимпе, они иначе это понимают… И, приподняв палец, он смотрит на него,
и она смотрит
= на его палец.
Объясняет незнакомец:
— Надо не указания слушать. Надо ощущать дух. Дух этого великого дня.
Он волнуется, хотя очень сдержан:
…Перед человеком стоит выбор. Ответственный выбор. Может быть, тяжёлый выбор. Избиратель должен придти сюда не в шаркающей толпе, не толкаясь с соседями. Он должен придти сюда… чтобы здесь, в кабине…
= На лице Незнакомца — трагическое раздумье.
…Посидеть… как бы в одиноч… в одиночестве… Оглядеть весь жизненный путь… страны… и свой… и наедине со своею совестью… сделать правильный выбор.
= Женщины из комиссии стоят перед ним, напуганные.
Незнакомец мягко возвращается к бытовому состоянию души.
— Кстати, а где у вас кабины?
— Вон! —
отрывисто показывает широкая челюсть. Незнакомец сильно должен повернуться, чтобы увидеть.
= Сиротливые, распахнутые, далеко в стороне.
= На лице Незнакомца — боль.
— Но туда, надеюсь, все заходят? Вы не разрешаете проходить мимо?
= У пышноголовой, видать, слюну перебило:
— Вы знаете, н-н-не все… Н-нельзя сказать, чтобы все…
— Очень жаль. Очень жаль. Мне придётся… о вашем участке… кое-где… да… придётся… Ну, хорошо. Вот по этому открепительному талону… пожалуйста.
Протянул им талон. Читают. Вторая в смущении, держа в руках
два бюллетеня:
— Вы знаете… у нас так получилось… у нас сегодня…
но вырывают у неё бюллетени сильные руки
пышноголовой:
— Пожалуйста! Пожалуйста!
Иногородний взял бюллетени. С прежней чинностью, уже углубляясь в себя перед великим мигом (нельзя и представить его на ступеньках ресторана), — идёт в сторону кабин.
Издали хорошо видно, как он вошёл, сел там. И, подперев голову, задумался, даже вверх куда-то смотрит.
= А тут, прыгая через ступеньку, в главные двери врывается радостный Пашка. Он всё в той же испачканной, растрёпанной, без части пуговиц рубашке. Прыжками к столу. и — хлоп перед женщинами
= раскрытый паспорт:
— Алесеенков Павел!
Вторая женщина:
— Вас последнего ждём! Где же вы… Из-за вас…
— Скорей! Скорей! —
просит Пашка. и Широкая Челюсть сообразила: пока никого нет:
— Вот и хорошо. Вот и в порядке. Идите! Быстро проходите!
Пашка держит расставленные пальцы, на урну кивает:
— А-а… ничего не надо?
Улыбается ему Широкая Челюсть:
— Нет-нет, ничего не надо. Быстренько! Идите!
А Пашке — тем более ничего не надо! Прыжками, прыжками — и на выход!
И — как раз вовремя! Потому что через главный вход — Бригадир.
Быстро идёт:
— Где Алесеенков? Был Алесеенков?
= Широкая Челюсть:
— Только что проголосовал.
Бригадир:
— Как проголосовал? Задержать! Он должен был… А где Гурий Акинфович?..
— Гурий Акинфович вышли… А вот у нас…
Бригадир бы ещё Пашку догнал, но Широкая Челюсть удержала его, шепчет, шепчет и показывает на
ту роковую кабину, где сидит Иногородний. Так и сидит в глубоком раздумьи, задом к нам, лишь мелкие движения.
= Бригадир выслушал, очень посерьёзнел. И
пошёл к той кабине, стал вблизи настороже.
= Лицо Иногороднего. Стараясь головой почти не шевелить, он пытается перекосом глаз охватить, следят за ним или не следят.
И руками он шевелит — до локтей, чтобы по спине не заметно было, —
он тыкает ручкой в чернильницу —
суха! полгода в ней чернила не ночевали… да и перо
сломанное.
= На лице Иногороднего — напряжение, упорство, будто он на мачту лезет. Глаза крутятся, голова почти не шевелится.
Даже без локтя, одною кистью он лезет во внутренний карман…
нет, в другой…
нет, в третий, —
за карандашом. И, прямо перед собою, на столике, такими же мелкими движениями, а смотреть стараясь не вниз, а вверх, —
вычёркивает, вычёркивает, вычёркивает, даже на строчку не попадая.
= Лицо — ожесточённое, страдальческое.
Карандаш аккуратно спрятал,
бюллетени свернул,
= опять принял вид глубокомысленный, торжественный, сидит так.
= А Бригадир-то — наблюдает, а Бригадир старается подсмотреть!..
= но — большая спина у Иногороднего, не видно за ней. Подпер голову, сидит, размышляет.
Встал! и выходит с просветлённым лицом.
= Бригадир и чует что-то — и не решается подступить…
= И проходит Иногородний — статный, прямой, исполнивший гражданский долг, никого вокруг как бы не замечая,
ещё над урной постоял —
опустил…
Шторка.
Пьяная песня — слов не поймёшь, а — тоска!
= Макет Спутника на постаменте
среди сквера,
а сквер — перед школой.
= Со спины — двое пьяных в обнимку, идут по скверу.
Это они и поют.
= Они же — с лица. Ох, и горькая же доля — песню тянуть. Ох, и работа же — вытягивать.
Идут на нас. и — ногам тяжело, и обнявшись они — чтоб не упасть. Смотришь, один другого и поддержит.
Дружно враз и остановились —
перед пустой садовой скамейкой.
Посмотрели-посмотрели на неё.
Друг на друга.
И — согласны. Согласно поняли.
Ты, проклятая! Это ты, проклятая, всю дорогу нам загородила.
А ну-ка, мы её… Эх!..
Обнялись крепче, крайними ногами стоят, а средними
в спинку её! Раз толканули!
Два толканули!
Три — нет нам пути другого!
Шатается, но ещё…
ещё разик! ещё разик!
Опрокинули. и — сами за ней шатнулись, едва не упав,
= на нас шатнулись. На нас нависли.
Два лица.
Горым-горьких.
Шторка.
= Наклонясь у задка «москвича», Пашка шкуркою чистит, чистит.
Крышка багажника уже навешена, формы все восстановлены.
Да и зачищать Пашка кончил. Разогнулся. Оглянулся —
= Эли нет. Он стоит на улочке перед
Телефонной Переговорной станцией.
Пошёл туда, как был, и со шкуркой в руке.
= Три переговорных кабины. Лампочки внутри не горят, и поэтому мы лишь смутно различаем в них фигуры говорящих.
Эля сама не видна, но подвижная её рука выставлена к стеклу, и мы хорошо видим,
как она при разговоре водит по стеклу,
разрисовывает неопределённые, но ласковые виньетки;
потом тревожный постук: остановись! не так! не то! ты не понял!
и опять рука успокаивается, снова поглаживает, поглаживает…
= Посмотрел на всё это Пашка, посмотрел, шкуркой по голове провёл
и пошёл себе.
Шторка.
Гул компрессора.
= А вот он уже и красит, распыляет краску по багажнику…
докрашивает, докрашивает…
Это — перед распахнутыми дверьми какого-то гаража
во дворе. Рядом — санитарная машина стоит.
= Тут же и Эля, весёлая, наблюдает. Ей нравится, как сделано.
Пошёл Пашка в гараж,
выключил компрессор,
вернулся.
— Хорошо краска подошла. Сейчас пятнадцать минут посохнет — сама не заметишь, где крашено, где нет.
= Оба они. Она — чистенькая и в поездку, он — в грязной рубахе с закатанными рукавами, да и волосы так ни разу и не были у него причёсаны толком.
Вот и минута прощанья, уже им не ехать вместе и не работать… Улыбается Пашка:
— Ну, когда ещё в жизни разобьётесь… Приезжайте… Пашку теперь знаете… Для вас всегда…
= Пробрало и Элю. Вот уж не думала, не гадала. Машет рукой:
— Знаешь… сейчас!
Бросается в машину
и оттуда несёт медвежонка:
— Вот! Это — будет тебе! Рассматривай как талисман. Даже от чёрной кошки…
Пашка и берёт и не берёт… Растерялся. Конечно, дорого — талисман, но:
— Поменьше бы что… Куда с ним? Засмеют ребята…
= Не обиделась Эля, поняла! Опять в машину метнулась и оттуда
несёт маленькую обезьянку на шнурке:
— Вот! Эту — хоть на грудь вешай!
Сама ж ему и навесила, сверх рубашки.
= Смотрят друг на друга. Хотел бы Пашка что-то сказать, да слов нет. Там, на горке, проще было…
— Сейчас! —
говорит и он, и тоже идёт подарок искать.
= Под стенкой гаража лежит его связка знаков. Перебирает:
запрет сигнала,
запрет бутылки… всё не то. А вот! — вытаскивает,
несёт ей:
— Вот! Самый лучший знак! Правда, редкий, очень редкий. Возьми на память, как ехали с тобой… «Конец ограничений»! Отмена всех запретов!
И протягивает ей этот знак.
Жмётся и Эля:
— А — что ж я с ним? Куда же?..
— Ну, что, что! В Москву будешь въезжать — повесь на входе…
Передавая знак, оба они в улыбках.
О невозможном.
= И сам этот знак — на весь экран.
Ноябрь 1968
Рязань
В круге первом. Сценарий телевизионного фильма
СЕРИЯ ПЕРВАЯ
МИД. Небольшой кабинет с высокими окнами.
Замирающий декабрьский день. Электрический свет не зажжён. На бронзовых часах — пять минут пятого. Государственный советник 2-го ранга (дипломатический мундир) ИННОКЕНТИЙ ВОЛОДИН, прислонясь к ребру оконного уступа, искоса смотрит в окно вниз, раздумчиво. Безсмысленно перелистывает журнал. Швырнул его. Нервно ходит по комнате. Вдруг сгребает всё со стола в несгораемый шкаф, запирает его, и кабинет, быстро по коридору, отдал ключ дежурному — вниз по лестнице, в гардеробную.
В сумрачном вечере видит наискось перед собой задний фасад Большой Лубянки. Это — серо-чёрная девятиэтажная туша — как линкор, и 18 пилястров — как 18 орудийных башен.
Взял такси, погнал вниз, к Охотному Ряду. Уже огни на улицах.
Роется в кошельке, ищет нужные монеты. Нашёл две — как раз проезжали по Моховой мимо американского посольства. Многие окна его темны. Показал — повернуть, подниматься к Арбату. Сунул бумажки таксисту, пошёл по Арбатской площади мерно. Несколько телефонных кабин — пустые, но наружные, заметные.
Вошёл в метро. Здесь — глухие кабины, углубленные в стену. Одна освободилась, вошёл. Левой рукой притянул, придерживал дверь. Опустил монету, набрал номер.
ВОЛОДИН (стараясь изменять голос): Это секретариат? Прошу срочно соединить меня с послом… Но Рождество только завтра!.. Тогда — поверенного в делах! Или военного атташе! Прошу не медлить!
А сзади уже кто-то стал в очередь к кабине Володина. В телефоне пауза.
ВОЛОДИН: Господин военный атташе?.. Господин авиационный атташе! (Экраня рукою в трубку, сниженным голосом.) Прошу вас, запишите и срочно передайте послу… Я не могу ждать! и я не буду разговаривать с советскими людьми! Не бросайте трубку!.. речь идёт о судьбе вашей страны! и не только! Слушайте: на этих днях в Нью-Йорке советский агент Георгий Коваль получит в магазине радиодеталей по адресу… Да не буду я в канадское! Слушайте! Слушайте! На днях советский агент Коваль получит важные технологические детали производства атомной бомбы в радиомагазине… А вы понимаете, чем я рискую?!
Сзади уже стучат в стекло.
А в трубке щёлкнуло и наступило ватное молчание. Линию разорвали.
МГБ. Комната контрольного телефонного поста.
Одна стена вся занята щитами, сигнальным стендом. Телефонно-акустическая аппаратура, чернеет пластмасса, белеет алюминий, горят малые лампочки. На другой стене висит: «Инструкция посту А-1». В комнате два молодых лейтенанта.
ПЕРВЫЙ: Слушай, завтра, в воскресенье, мы с шурином крепко заложим, а в понедельник с опохмелу эта мура в голову не полезет. А вечером к политучёбе у меня ещё конспекта нет. Уж ты пока дежурь, я попишу.
И при настольной лампе выписывает из книги себе в тетрадь.
А ВТОРОЙ, с надетыми наушниками, — у стенда. Но снял тугие наушники, пересел удобней к своей лампе, закатал левую брючину и стал осматривать на ноге больное место, осторожно ощупывая края большого струпа.
И не сразу заметил, что катушки магнитофона, включённые автоматически, стали безшумно кружиться. До наушников далеко, нажал громкость.
— …Я вас плёхо понимал. Звоните в посольство оф Кэнеда, там хорошо понимают рюсски.
— Да не буду я в канадское! Слушайте! Слушайте! На днях советский агент Коваль получит важные технологические детали производства атомной бомбы в радиомагазине…
— Как? Какой авеню? А откуда я знаю, что ви говорить правду?
— А вы понимаете, чем я рискую?!
— А кто такой ви? Назовите ваш фамилия…
Лейтенант поспешно, не обдумав, разорвал линию.
Преступник очень торопился. Звонил, конечно, не из частной квартиры. Да и вряд ли с работы. В посольства стараются из автоматов.
Распахнул список автоматов, листает.
ВТОРОЙ: Генка, Генка! Аврал! звони в оперативку! Входная лестница метро «Сокольники», может ещё захватят!
Шарашка. Широкий, просторный коридор с грубым, старым деревянным полом.
Окон нет, верхние сильные лампы. Толпятся, приходят, проходят десятка два заключённых. Большинство — все в одинаковых плотных синих комбинизонах с приоткрытыми углами на груди. Несколько — в разной случайной одежде.
— Новички!
— Новичков привезли!
— Откуда, товарищи?
— Приятели, откуда?
— А что это у вас на груди, на шапке — пятна какие-то?
— Тут наши номера были. Вот на спине ещё, на колене. Когда из лагеря отправляли — спороли.
— То есть как — номера?!
— Господа, позвольте, в каком веке мы живём? На людях — номера? Лев Григорьич, позвольте узнать, это что — прогрессивно?
— Валентуля, не генерируйте, идите ужинать.
— Да не могу я ужинать, если где-то люди ходят с номерами на лбу!
— Друзья! Дают «Беломор» по девять пачек за вторую половину декабря. Имеете шанс! На цырлах!
— А что за комбинезоны на вас? Почему вы все здесь как парашютисты?
— Форму ввели. Раньше шерстяные костюмы выдавали, пальто драповые, теперь зажимают, гады.
— Смотри, новички!
— Новичков привезли.
— Э! орлы! Что вы, живых зэков не видели? Весь коридор загородили!
— А ободранные, а небритые! Из какого лагеря, друзья?
— Из разных. Из Речлага…
— …из Дубровлага…
— Что-то я, девятый год сижу, — таких не слышал.
— А это новые, Особлаги. Их учредили только с сорок восьмого.
— Подожди, Митёк, давай новичков послушаем…
— Гулять, гулять! На свежий воздух! Новичков опросит Лев, не безпокойся.
— Вторая смена! На ужин!
— Озёрлаг, Луглаг, Степлаг, Камышлаг…
— Можно подумать, в МВД сидит непризнанный поэт. На поэму не разгонится, на стихотворение не соберётся, так даёт поэтические названия лагерям.
— Ха-ха-ха! Смешно, господа, смешно! В каком веке мы живём?
— Ну, тихо, Валентуля!
— Простите, как вас зовут?
— Лев Григорьич.
— Вы сами тоже инженер?
— Нет, я филолог.
— Филолог? Здесь держат даже филологов?
— Вы спросите, кого здесь не держат? Здесь математики, физики, химики, инженеры-радисты, инженеры по телефонии, конструкторы, художники, переводчики, переплётчики, даже одного геолога по ошибке завезли.
— и что ж он делает?
— Ничего, в фотолаборатории пристроился. Даже архитектор есть. Да какой! — самого Сталина домашний архитектор. Все дачи ему строил. Теперь с нами сидит.
— Лев! Ты выдаёшь себя за материалиста, а пичкаешь людей духовной пищей. Внимание, друзья! Когда вас поведут в столовую — там на последнем столе у окна мы для вас составили тарелок десятка три. Рубайте от пуза, только не лопните!
— Большое вам спасибо, но зачем вы отрываете от себя?
— Ничего не стоит. Кто ж нынче ест селёдку мезенского засола и пшённую кашу! Пошло.
— Как вы сказали? Пшённая каша — пошло? Да я пять лет пшённой каши не видел!
— А как сейчас на пересылках кормят?
— На челябинской пересылке…
— Что там, по-прежнему ватерклозеты на этажах экономят, а зэки оправляются в параши и носят с третьего этажа?
— По-прежнему.
— Вы сказали — шарашка. Что значит — шарашка?
— А по сколько хлеба здесь дают?
— Кто ещё не ужинал? Вторая смена!
— Хлеба белого по четыреста грамм, а чёрный — на столах.
— Простите, как — на столах?
— Ну так, на столах, нарезан, хочешь — бери, хочешь — не бери.
— Простите, здесь что — Европа, что ли?
— Почему Европа? В Европе на столах белый, а не чёрный.
— Да, но за это маслице и за этот «Беломор» мы горбим по двенадцать и по четырнадцать часов в сутки.
— Гор-бите? Если за письменным столом сидите, то уже не горбите! Горбит тот, кто киркой машет.
— Масло сливочное профессорам по сорок грамм, инженерам по двадцать. От каждого по способности, каждому по возможности.
— Так вы работали на Днепрострое?
— Да, я у Винтера работал. Я за этот Днепрогэс и сижу.
— То есть как?
— А я, видите ли, продал его немцам.
— Днепрогэс? Его же взорвали!
— Ну и что ж, что взорвали? А я взорванный им же и продал.
— Честное слово, как будто вольный ветер подул! Пересылки! этапы! лагеря! движение! Эх, сейчас бы до Совгавани прокатиться!
— и назад, Валентуля, и — назад!
— Да! и скорей назад, конечно!
— Вы знаете, Лев Григорьич, от этого наплыва впечатлений, от этой смены обстановки у меня кружится голова. Я прожил пятьдесят два года, я выздоравливал от смертельной болезни, я дважды женился на хорошеньких женщинах, у меня рождались сыновья, я печатался на семи языках, я получал академические премии, — никогда я не был так блаженно счастлив, как сегодня! Куда я попал? Завтра меня не погонят в ледяную воду! Сорок грамм сливочного масла!! Чёрный хлеб — на столах! Не запрещают книг! Можно самому бриться! Надзиратели не бьют зэков! Что за великий день? Что за сияющая вершина? Может быть, я умер? Может быть, мне это снится? Мне чудится, я — в раю!!
— Нет, уважаемый, вы по-прежнему в аду, но поднялись в его лучший, высший круг — в первый. Вы спрашиваете, что такое шарашка? Шарашку придумал, если хотите, Данте. Он разрывался — куда ему поместить античных мудрецов? Долг христианина повелевал кинуть этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла примириться, чтобы светлоумных мужей смешать с прочими грешниками и обречь телесным пыткам. и Данте придумал для них в аду особое место. Позвольте… это звучит примерно так:
Там были люди с важностью чела, С неторопливым и спокойным взглядом… Их облик был ни весел, ни суров… Я видеть мог, что некий многочестный И высший сонм уединился там…— Э-э, Лев Григорьевич, я гораздо доступнее объясню герру профессору, что такое шарашка. Надо читать передовицы «Правды»: «Доказано, что высокие настриги шерсти с овец зависят от питания и от ухода».
Шарашка. Акустическая лаборатория.
Большая просторная комната с четырьмя-пятью окнами по одной стороне (за окнами — ночь). В углу, у единственной входной двери, — высокий шкаф-сейф. По диагонали, в другом углу — самоделковая деревянная акустическая будка, высотой в полтора человеческих роста, плотно закрывная, без смотровых окошек. По всей комнате, и по середине её — две-три монтажные стойки со многими проводами и радиолампами, всё в рабочем безпорядке. По комнате — больше дюжины столов — есть монтажные, на которых собирают, паяют, есть письменные, небольшие, но удобные, западного образца, два-три — пустых, с погашенными лампами, на остальных — светятся настольные лампы. Всего в лаборатории — человек 7–8 заключённых, все до одного в одинаковых этих синих комбинезонах — и одна вольная девушка — СИМОЧКА, маленького роста, на плечи накинут пуховой платок; она сидит за своим столом как раз спиной к акустической будке, вплотную — так что ей видно сразу всё, что происходит в комнате. Стол к столу, напротив неё, сидит НЕРЖИН, со светлыми раскидистыми волосами, перед ним раскинуто много бумаг, иностранные журналы, он — пишет. А дальше вдоль оконного ряда, за его спиной и спиной же к Нержину — РУБИН за своим столом. Ещё у одной из стен замечаем медлительного, размеренного долгосидчика АБРАМСОНА в роговых очках. Руководя монтажниками и с включённым паяльником в руке — молодой, тонкий блондин ПРЯНЧИКОВ, даже комбинезон носит щегольски, переходит, стоит, рассматривает схемы, и всё напевает:
— Хьюги-буги, Хьюги-буги, Самба! Самба!АБРАМСОН: Это вы — первую десятку всё поёте. Вторую — не будете.
В лаборатории слышны и ещё два-три самодельных, кой-как сляпанных радиоприёмника, открытые схемы, — и все передают разное, негромко.
РУБИН (проходя): Валентуля! Вы не могли бы чуть подобрать вашу заднюю ножку?
ПРЯНЧИКОВ: Лев Григорьич! Рвите когти! Зачем вы ходите по вечерам? На кой нам чёрт ещё тут ваша филология?
РУБИН: А вы что — хороший инженер? Где ваша характеристика из бельгийской фирмы?
ПРЯНЧИКОВ: Какие ещё характеристики? Ну, подумайте: ведь я безумно люблю женщин! (Строгая Симочка не удерживается от улыбки.) А чтобы любить женщин, и всё время разных — надо иметь много денег. и значит — владеть своей специальностью!
НЕРЖИН: Вот, Лёвка, когда я поймал Валентулин голос: колокольчатый у него. Так и запишу. Такой голос по любому телефону можно узнать.
РУБИН (наклоняясь к большой таблице на столе Нержина): А порядочно мы продвинулись, Глебка. Скоро мы с тобой поймём, от чего же зависит голос по телефону.
Из приёмника Нержина на подоконнике льётся 17-я соната Бетховена.
СИМОЧКА: Валентин Мартыныч! Это правда невозможно — слушать сразу три приёмника. Выключите свой, вас же просят.
ПРЯНЧИКОВ: Серафима Витальевна! Это чудовищно! Нормальному здоровому человеку как может не нравиться энергичный бодрящий джаз?
РУБИН: Тут нужно власть употребить! (И за спиной Прянчикова выключил джаз.)
ПРЯНЧИКОВ (ужаленно повернувшись): Лев Григорьич! Кто дал вам право?..
РУБИН (лицо его мягко): Инженер Прянчиков, вы таки привезли из Европы Атлантическую хартию?
ПРЯНЧИКОВ (серьёзно): Слушайте, что за чёрт? Неужели и в тюрьме нет человеку свободы? Где ж тогда она есть?
Рубин уселся на свой стул, к Нержину спиной.
НЕРЖИН: А где ты был?
РУБИН: С немцами. Рождество встречали.
НЕРЖИН: Мне нравится твоё отношение к ним. Без всякой ненависти.
РУБИН: Слушай, Глебка. Ведь я — еврей не больше, чем русский. и не больше русский, чем гражданин мира?
Диктор с подоконника пообещал через полминуты «Дневник социалистического соревнования». Глеб жёстко повернул выключатель, не дав диктору хрипнуть дальше.
ПРЯНЧИКОВ (с паяльником и над схемой беззаботно напевает):
Хьюги-буги, Хьюги-буги, Самба! самба!РУБИН (Нержину, назад через плечо): Что-то у меня сегодня абсолютно нет рабочего настроения.
НЕРЖИН: Поразительно. Кажется, ты воевал только четыре года, не сидишь ещё и пяти полных. и уже устал? Добивайся путёвки в Крым.
РУБИН: Ты — своим занят?
НЕРЖИН: У — гм.
РУБИН: А кто ж будет заниматься голосами?
НЕРЖИН: Я, признаться, рассчитывал на тебя. Да и не пошло ли работать в субботу вечером, если знаешь, что в воскресенье выходной будет только вольнякам?
На стене близ Рубина висит вырезанная из газеты карта Китая. Рубин долго рассматривает её — и ещё подкрашивает красным карандашом какую-то провинцию.
РУБИН: Всё-таки наши продвигаются.
НЕРЖИН (так же через плечо): А вот хочешь, прочту, что я вывел? «Для математика в истории 17-го года нет ничего неожиданного. Ведь тангенс при девяноста градусах, взмыв к безконечности, тут же и рушится в пропасть минус безконечности. Так и Россия, впервые взлетев к невиданной свободе, тут же и оборвалась в худшую из тираний».
Симочка, через два стола, внимательно следит за обоими и старается вслушиваться. В комнате жужжит и моторчик электрослесаря. Слышатся команды: «Включи! Выключи!» — «А у кого есть лампа 6-К-7?» Когда нужно кому что из сейфа — Симочка с ключами ходит, отпирает, запирает. Контуры у неё скорей, как у девочки.
НЕРЖИН: Чья там лысина сзади трётся?
РУБИН: Дитя моё, у меня всё-таки лирическое настроение. Я тебе не рассказывал про Милку? Она была студентка ИнЯза, послали её переводчицей в наш отдел по разложению противника. Ты на Северо-Западном помнишь вот здесь за Ловатью, если от Рахлиц на Ново-Свинухово — лес?
— Там много лесов. По какой бок Редьи?
— По этот.
— Ну, знаю.
— Так вот в этом лесу мы целый день бродили. Был март, и этот, знаешь, запах… Добродились до вечера. Весь день она меня томила, а тут нашли пустой блиндажик.
— Конечно надземный. Там же земля мокрая, не вкопаться.
— Внутри — хвои набросано, запах от брёвен смолистый и дымоватый от прежних костров. Глебка, жизнь, а?
— Ишь, какой вечер вспомнил. Нашёл хорошую войну! У нас в Бутырках, в 73-й камере…
— …на втором этаже, в узком коридоре…
— …точно! — молодой московский профессор истории, только что посаженный и никогда не бывавший на фронте, доказывал умно, горячо, соображениями социальными, историческими и этическими, что в войне есть и хорошее. А в камере было человек десять фронтовиков — наших и власовцев, все ребята отчаюги, где только не воевали, и в Норвегии, и в Ливии — так они чуть не загрызли этого профессора. Нет в войне ни хрёнышка хорошего. Да, от такого денька, когда «юнкерсы» пикирующие чуть не на части меня рвали под Орлом — никак не могу воссоздать в себе удовольствия. Нет, хороша война за горами. А то ведь и лагеря когда-нибудь хорошо вспомним. Вообще-то, понятие счастья — это условность.
— Мудрая этимология в самом слове запечатлела переходящность понятия. «Счастье» происходит от «се — часье», то есть: этот час, это мгновение. Остановись, мгновенье, ты прекрасно!
— Нет, магистр, простите! Читайте Владимира Даля. «Счастье» происходит от «со-частье», то есть кому какая часть, доля досталась, кто какой пай урвал у жизни.
— Да, пожалуй, и Гёте посмеялся над человеческим счастьем. Долгожданную фразу о счастьи Фауст произносит в одном шаге от могилы, обманутый.
— Ах, Лёвочка, вот таким, как сейчас, я тебя и люблю, а не когда ты лепишь ругательные политические ярлыки. Когда раньше, на воле, я читал, как мудрецы думали о смысле жизни и что такое счастье, — я отдавал им должное, мудрецам и по штату положено думать. Но мы живём — и в этом смысл. Когда очень и очень хорошо — вот это и есть счастье, общеизвестно. Но — благословение тюрьме! — она дала мне задуматься. Чтобы понять природу счастья — разреши мы сперва разберём природу сытости. Вспомни Лубянку или контрразведку — реденькую, полуводяную, без звёздочки жира кашицу — разве её ешь? разве её кушаешь? — ею причащаешься, к ней со священным трепетом приобщаешься. Ешь её с кончика деревянной ложки, весь уходя в процесс еды, — и содрогаешься от сладости, которая тебе открывается. И, питаясь, по сути, ничем — ты живёшь шесть месяцев и двенадцать! Разве с этим сравнится пожирание отбивных котлет? Так и счастье, так и счастье, Лёвушка, оно вовсе не зависит от объёма внешних благ, которые мы урвали у жизни. Ещё в даосской этике сказано: «кто умеет довольствоваться, тот всегда будет доволен». В лагере если выдаётся такое чудо — тихое нерабочее воскресенье, да за день отойдёт душа или случится разговор по душам, — и я невесом, невзвешен, нематериален! Лежу у себя на верхних нарах, смотрю в близкий потолок, он худо оштукатурен, — и вздрагиваю от полнейшего счастья бытия.
— А что говорят по этому поводу великие книги Вед?
— Книги Санкхья говорят: «Счастье человеческое причисляется к страданию теми, кто умеет различать». Счастье непрерывных побед, счастье полного насыщения — это душевная гибель. Не философы Веданты, а я лично, арестант пятого года упряжки, придерживаюсь той точки зрения, что люди сами не знают, к чему стремиться. Они умирают, не узнав своего собственного душевного богатства.
— Внемли, дитя! Свой личный опыт ты предпочитаешь коллективному опыту человечества. Из-за того, что мы лично потерпели крушение — как может мужчина хоть сколько-нибудь повернуться в своих убеждениях?
— Каменный лоб! В торжество вашего чёртова коммунизма ты насилуешь себя верить, а не веруешь.
— Да не вера — научное знание, обалдон! Неизбежно обусловленная закономерность! Исторический материализм не мог перестать быть истиной из-за того только, что мы с тобой в тюрьме.
— Лев, пойми! Это учение было звон и пафос моей юности. Но с тех пор, как меня в тюремных спорах били и били… Скептицизм у меня — сарай при дороге, пересидеть непогоду.
— Да разве из тебя выйдет порядочный скептик? Скептику положена душевная невозмутимость — а ты по каждому поводу кипятишься!
— Да, ты прав! Я воспитываю в себе только парящую мысль, а сам негодую.
— А мне в глотку готов вцепиться, что в джезказганском лагере не хватает питьевой воды…
— Тебя бы туда загнать! Изо всех нас ты один считаешь, что методы МГБ необходимы…
Симочка уже ясно слышит их спор, смотрит со строгим неодобрением.
РУБИН: …я знаю, что гнило только по видимости, а корень — здоровый и надо спасать, а не рубить!
На пустующем столе начальника лаборатории зазвонил телефон. Симочка подошла.
РУБИН: Выбор — неизбежный: за какую ты из двух мировых сил?
НЕРЖИН: Это — Пахану так выгодно рассуждать.
РУБИН: Слушай, слушай! Это — величайший человек. Это вместе — и Робеспьер и Наполеон нашей революции. Он видит так далеко, как не захватывают наши взгляды!
СИМОЧКА: Глеб Викентьич!.. Глеб Викентьич!
НЕРЖИН: А??
СИМОЧКА: Вы не слышали? По телефону звонили. Антон Николаевич вызывает вас к себе в кабинет.
НЕРЖИН: Да-а?.. Хорошо, спасибо… Слышь, Лёвка, — Антон. С чего б это? В десять вечера?
РУБИН (полностью смягчённый): Не люблю, когда нами интересуется высокое начальство.
НЕРЖИН: С чего бы? Уж такая у нас второстепенная работёнка, какие-то голоса… На всякий случай, если не вернусь — сожжёшь там у меня, знаешь где…
Защёлкивает шторку стола, ключ перекладывает в ладонь Рубину. и уходит неторопливой походкой арестанта, который от будущего может ждать только худшего.
…Мраморная лестница. Никого. Медные бра на стене. Высокий лепной потолок. По красной ковровой дорожке Нержин поднимается на 3-й этаж. Мимо стола дежурного при телефонах, стучит в дверь.
Шарашка. В кабинете инженер-полковника Яконова.
Кабинет глубок, устлан коврами, обставлен фигурными креслами.
ЯКОНОВ (дороден, в золотом пенсне, с серебряно-голубыми погонами, голос его рокочет): Садитесь, Глеб Викентьич! Полчаса назад пришлось мне к слову вспомнить о вас, и я подумал: а каким, собственно, ветром вас занесло в Акустическую? Я очень ценю ваши заслуги в ней… впрочем, к результатам Седьмой лаборатории вы могли бы отнестись и с большим сочувствием, если к покойнику, то дорогому… Однако я хотел бы иметь от вашей деятельности несколько больший профит. Какого чёрта вам заниматься этой попугайщиной, как пробьётся через помехи «стыр», «смыр»? Вы — математик, универсант. Оглядитесь.
Следуя кивку, Нержин оглянулся и привстал: в кабинете оказался и третий человек — скромный, в гражданском, чёрном; он молча поднялся с дивана. Тоже зэк? Узнавая, узнавая его — не смеет назвать, опасаясь повредить.
ЯКОНОВ (успокоительно рокочет): Воистину, в секте математиков завидный ритуал сдержанности. Математики мне всю жизнь казались какими-то розенкрейцерами, я всегда жалел, что не пришлось приобщиться к их таинствам. Не стесняйтесь. Пожмите друг другу руки. Я вас оставлю на полчаса: для дорогих воспоминаний и для информации профессором Веренёвым о задачах, выдвигаемых перед нами Шестым Управлением. (Плавно ушёл.)
НЕРЖИН (с большим волнением): Пётр Трофимович! С тех пор… с тех пор, как я писал у вас курсовую работу… девять лет… вся полоса фронтов… Белоруссия, Польша, Восточная Пруссия… а потом тюрьмы… пересылки… лагеря в морозах… А вы?..
ВЕРЕНЁВ (как бы застенчиво): …Эвакуация… вернулся… защитил докторскую…
НЕРЖИН: А как попали в это Ведомство?
— Направили… Да отказаться можно было, но… тут ставки двойные и больше… Четверо детей…
— А из нашего выпуска… кого убили… кого ранили, потом кандидатскую защитил. А профессора? А Дмитрий Дмитрич?
— Его в бомбёжку контузило, полуживого увезли в Киргизию… А сын его, доцент, помните, красавец, Степан… ушёл с немцами… Такое предательство… А за что — вас..?
— За образ мыслей. В Японии есть такой закон, что человека можно судить за образ его невысказанных мыслей.
— В Японии! Но ведь у нас такого закона нет?
— У нас-то он как раз и есть. и называется Пятьдесят восемь — десять.
Пауза. Они сели друг против друга, через маленький лакированный столик. Начинается деловой разговор. Мы его не слышим, только видим. Нержин пристально слушает, постепенно всё более поникает.
ВЕРЕНЁВ (слышим обрывками): Гарантировать стопроцентную нерасшифровку телефонных разговоров… Углубить и систематизировать криптографическую работу здесь… Перетряхнуть кое-какие формулы и методы… Нужно много математиков — и я рад увидеть здесь своего бывшего студента…
НЕРЖИН (тяжело поднимая голову): Пётр Трофимович… А вы… сапоги умеете шить?
— Как вы скзали??.
— Я говорю: сапоги — вы меня шить не научите?..
— Я, простите, не понимаю…
— Пётр Трофимович! В скорлупе вы живёте! Мне ведь, окончу срок, — ехать в глухую тайгу, на вечную ссылку. Работать я руками ничего не умею — как проживу? Там — медведи бурые. Там Леонарда Эйлера функции ещё три мезозойские эры никому не вознадобятся.
— Что вы говорите, Нержин? В случае успеха работы вас как криптографа досрочно освободят, снимут судимость, дадут квартиру в Москве…
— Эх, Пётр Трофимович, скажу вам поговорку доброго хлопца, моего лагерного друга: «одна дьяка, что за рыбу, что за рака». Дьяка — это по-украински благодарность. Так вот не жду я от них прощения, и рыбки им ловить не буду.
Входит осанистый Яконов.
НЕРЖИН: Воля ваша, Антон Николаич, но я считаю свою задачу в Акустической незаконченной.
ЯКОНОВ (уже стоя за своим столом, оперев кулаки в стол): Математика! — и артикуляция. Вы променяли пищу богов — на чечевичную похлёбку. Идите.
Акустическая.
Хмурый Нержин подошёл к своему столу. Не садится. Рубина рядом нет. Симочка через стол смотрит с большой тревогой.
СИМОЧКА: Глеб Викентьич! Может быть, вам сейчас некстати. Я бы хотела прочесть для пробы следующую таблицу, вы не можете послушать, проверить?
НЕРЖИН: Да, конечно, пойдёмте.
Входят в акустическую будку, закрываются там.
В будке.
Стены обиты мягким материалом. На столике — два микрофона, еле помещаются два стула.
СИМОЧКА (обеими руками за плечи Нержина): Что было? Что?!
НЕРЖИН: Да, перепёлочка… Кажется, меня скоро отправят.
СИМОЧКА (повернулась в его руках, роняя платок с плеч): За что-о же??
НЕРЖИН: Можно было остаться. Отдаться в лапы осьминогу криптографии. Четырнадцать часов в день теория вероятностей и теория ошибок. Мёртвый мозг. Сухая душа. Что ж останется на размышления? Жить — чтобы только сохранить благополучие? и всё равно мы с тобой уже не были бы вместе,
СИМОЧКА (виснет на его шее): А скажи: что? О чём ты думаешь всё время? Что ты пишешь и прячешь?
НЕРЖИН (глаза в глаза): Скажу. Пишу — историю русской революции. Как именно и что происходило. Этого у нас никто не знает. Эти листики — моя первая зрелость. Но с этим — не выпустят. Теперь всё равно сжигать.
СИМОЧКА: Так оставь мне! Я — увезу отсюда! сохраню! спрячу!
Сливаются в крепком объятии.
Гудит индукторный полевой телефон. Симочка, раскраснелая, в растрёпанной кофточке, берёт трубку, нажимает разговорный клапан, но, держа вдали, безстрастным мерным голосом.
СИМОЧКА: …дьер…вскоп…штоп… Да, я слушаю, что, Валентин Мартыныч? Двойной диод-триод? Кажется, есть шесть-гэ-два… Сейчас, кончу таблицу… гвен… жан…
Отпустила клапан, трубку. Жарко целуются.
СИМОЧКА: Не сейчас… В понедельник я опять буду дежурить. Приходи в ужинный перерыв, когда в лаборатории никого…
СЕРИЯ ВТОРАЯ
Шарашка. Семёрка (лаборатория № 7).
По величине, по расположению окон, двери и высокого сейфа — такая же, как Акустическая (этажом над ней), но без акустической будки в углу. Такая же разнообразная мебель, западные вертящиеся стулья, письменные и монтажные столы, отдельные монтажные алюминиевые стойки, на них — незаконченный монтаж, радиолампы, конденсаторы, висящие провода, крупные электроизмерительные приборы. Ярчайший верхний свет, заметно больше движения, чем в Акустической, заключённых человек десять, все работают, кто на столах над листами схем. Таков сидит за отдельным столом — БОБЫНИН, крупный, широкоплечный, с каменным лицом, демонстративно остриженный наголо, хотя на шарашке разрешены любые причёски. — У панелей и приборов занят монтажом, стоя, смышлёный, очень внимательный инженер БУЛАТОВ. Ему помогает ДЫРСИН, с углоскулым, впалым, печальным лицом. — Три-четыре шкафа в ряд отгораживают от остальной комнаты ещё полосу вдоль глухой стены, и там, как в отдельной комнате, ещё стоят два стола с приборами, за одним сидит инженер ПОТАПОВ, за 50, утомлённое, сильно озабоченное лицо, в дешёвеньких очёчках; за другим, чуть поодаль, — тоже немолодой, с энергичным лицом — инженер ХОРОБРОВ. — В лаборатории среди помощников, выделяются быстротой движения, услужливостью молодые — СИРОМАХА и ЛЮБИМИЧЕВ. Дежурных вольных — двое, они в обычных костюмах. Гул разговоров.
ПОТАПОВ (новичку, ещё без комбинезона, только что приведенному из нового этапа): Лаборатория наша занимается клиппированной речью — то есть, это с английского, как бы подстриженной. Синусоидальный игольчатый график упрощён в систему узких прямоугольников, а они — в кубики. Теперь все эти кубики, для шифрации, мы перемешиваем и посылаем по телефонным проводам, скажем, из Москвы в Нью-Йорк. Эту секретную телефонию по дороге подслушать невозможно. А на другом конце провода такой же наш аппарат должен восстановить порядок прямоугольников, затем восстановить истинную синусоидальную кривую — так, чтобы сам Хозяин мог разговаривать секретно с тем же Молотовым в Нью-Йорке — и чёткая была бы речь, и узнавались бы голоса. Ну, как если бы крымский воздух втиснуть в миллиард спичечных коробок, перепутать, перевезти самолётом в Норильск, а в Заполярьи распутать коробочки — и из них воссоздать субтропики, южный воздух, шум прибоя.
В лабораторию входит, вплывает в своём полковничьем мундире — ЯКОНОВ. К нему стремглав бросается энергичнейший МАРКУШЕВ — с лицом, готовым умереть по воле начальства.
МАРКУШЕВ: Антон Николаич! Перестроили на каждый шестнадцатый импульс — и гораздо лучше стало. Вот — послушайте, я вам почитаю.
ЯКОНОВ (вельможным голосом): Охотно послушаю.
У стойки с развороченными панелями надевает наушники, стоя. Маркушев уходит в дальний угол комнаты, со сложенной газетой в руке отворачивается к стене, берёт трубку и начинает читать — негромко, но нарочито чётко. Из статьи
…о наглости югославских пограничников …о распоясанности кровавого палача Иосипа Броз Тито, превратившего свободолюбивую коммунистическую страну в пыточный застенок …подавившего живую деятельность югославского народа…
Яконов, напрягая лицо, слушает. Тревожно берётся обеими руками за наушники, как бы вдавливает их в уши — и тут мы слышим, что же в них: сквозь постоянный шумовой фон звуки разрываются то тресками, то скрежетом, то визжанием. и на них налагается искажённейшее подобие человеческого голоса, но смысл читаемого только угадывается местами с трудом. Лицо Яконова мучительно напряжено. Он угадывает недослышанное — и понимает, что это угадка, — и забывает, что угадка, — и может быть, правда от предыдущей пробы слышимость стала лучше?
Маркушев перестал читать.
ЯКОНОВ (неуверенно): Да… Пожалуй… пожалуй…
Он пытливо смотрит на Бобынина. Но тот, не изволив повернуть головы, тщательно мерит измерителем осциллограмму. и Яконов не решался отвлечь Бобынина, как ему этого ни хотелось!
ГОЛОС ЗА КАДРОМ:
Можно построить надменнейший небоскрёб. Вышколить прусскую армию. Взнести иерархию тоталитарного государства выше престола Всевышнего. Но нельзя преодолеть какого-то странного духовного превосходства иных людей.
Бывают солдаты, которых стесняются их командиры рот. Чернорабочие, перед которыми робеют прорабы. Подследственные, вызывающие трепет у следователей.
Бобынин знал всё это и нарочно так ставил себя с начальством.
ЯКОНОВ: Надо послать и за Рубиным. У него хорошее ухо на голоса.
Сиромаха стремительно убегает.
И почти сразу входит Рубин, ему передают наушники. Маркушев снова читает то же самое. Рубин солидно кивает, кивает.
РУБИН (авторитетно): Да, пожалуй. Важно, что ваш голос с основным тоном 160 герц и должен проходить хуже. А ну, теперь читайте сперва громче, потом тише: «Жирные сазаны ушли под палубу»… Так… так… теперь: «Вспомнил, спрыгнул, победил»… так… так. (Сняв наушники.) Тенденция к улучшению, несомненно, есть. Гласные звуки проходят хорошо. Несколько хуже с глухими зубными. и вовсе не идёт столь характерное для славянских языков сочетание «всп», над чем и надо работать.
Хор обрадованных голосов: лучше! стало лучше!
БОБЫНИН (от осциллограммы, густым басом, насмешливо): Глупости. Лапоть вправо, лапоть влево. Не наугад щупать надо, а менять метод.
Яконов — в неуверенности, даже робости.
БУЛАТОВ (громко): Надо согласовать с шифровальщиками и перестроить на 32 импульса!
Чёрная стрелка больших электрических часов на стене перепрыгнула на половину одиннадцатого.
За шкафами, не на виду у начальства, Хоробров подошёл к Потапову. Приклонился к его столу и тихо:
— Андреич. Смываться пора. Суббота.
Потапов, отпустив новичка, чем-то не делом занят: клеит красный портсигар из пластмассы. Примеряет к нему розовую защёлку:
— Как, Терентьич, подходит? по цвету?
Поверх очков в простой металлической оправе, как смотрят бабушки:
— Зачем раздражать дракона? Читайте передовицы «Правды»: время работает на наш передовой строй. Вот Антон уйдёт — и мы тот-час — же испаримся.
Хоробров положил свою секретную папку Потапову на стол и, из-за шкафа, медленно направился к выходу. Вольный дежурный заметил, окликнул:
— Илья Терентьич! А почему не послушаете вы? Вообще — куда вы направились?
ХОРОБРОВ (обернувшись, искажённо улыбаясь): Я хотел бы избежать говорить об этом вслух. Но если вы настаиваете — извольте. В данный момент я иду в уборную, то бишь в сортир. Если там обойдётся всё благополучно — проследую в камеру и лягу спать.
В наступившей трусливой тишине Бобынин гулко расхохотался.
ДЕЖУРНЫЙ (Хороброву): То есть, как это — спать? Все люди работают — а вы спать?
ХОРОБРОВ (твёрдые морщины у губ): Да, так просто — спать! Я по конституции свои двенадцать часов отработал — и хватит.
Распахнулась дверь. Дежурный по институту:
— Антон Николаич! Вас — срочно к городскому телефону!
Яконов — плавно, но и поспешно, вышел, перед Хоробровом.
В кабинете Яконова.
С трубкой, стоя у стола:
ЯКОНОВ: В министерство, к вам? Как? к самому министру? Тотчас выезжаю.
На столе, не садясь, успевает написать на листе цветным карандашом, крупным почерком:
«Списать: Нержина. и Хороброва».
Шарашка. Полукруглая комната-камера.
Радиально стоят двухэтажные, наваренные, железные койки. Освещена ночной синей лампочкой над широкой арочной входной дверью. Перекличка голосов в полутьме.
— Я в эту синюю лампочку когда-нибудь сапогом запузырю, чтоб не раздражала. Всю ночь на глаза давит.
— Синий свет?
— А что? У него длина волны короткая, а кванты большие. Кванты по глазам бьют.
— Светит он мягко, и мне лично напоминает синюю лампадку, которую в детстве зажигала на ночь мама.
— Мама! — в голубых погонах! Вот вам, пожалуйста, разве можно людям дать подлинную демократию? Я заметил: в любой камере по любому мельчайшему вопросу — о мытье мисок, о подметании пола — вспыхивают оттенки всех противоположных мнений. Свобода погубила бы людей. Только дубина, увы, может указать им истину.
— А что, лампадке здесь было бы под стать. Ведь это — бывший алтарь.
— Не алтарь, а купол алтаря. Тут перекрытие междуэтажное добавили.
— Дмитрий Александрыч! Что вы делаете? В декабре окно открываете! Пора это кончать.
— Господа! Кислород как раз и делает зэка безсмертным. В комнате двадцать четыре человека, на дворе — ни мороза, ни ветра. Я открываю на Эренбурга.
— и даже на полтора! На верхних койках духотища!
— Эренбурга вы как считаете — по ширине?
— Нет, господа, по длине, очень хорошо упирается в раму.
— С ума сойти, где мой лагерный бушлат?
— Всех этих кислородников я послал бы на Оймякон, на общие. При шестидесяти градусах ниже нуля они бы отработали двенадцать часиков — в козлятник бы приползли, только бы тепло!
— В принципе я не против кислорода, но почему кислород всегда холодный? Я — за подогретый кислород.
— …Что за чёрт? Почему в комнате темно? Почему так рано гасят белый свет?
— Валентуля, вы фраер! Вы бродили б ещё до часу! Какой вам свет в двенадцать?
— Опять накурили? Фу, гадость… Э-э, и чайник холодный.
— Да-а… Стелет она мне на полу, а себе тут же, на кровати. Ну, сочная баба, ну такая сочная…
— Друзья, я вас прошу — о чём-нибудь другом, только не про баб. На шарашке с нашей мясной пищей — это социально опасный разговор.
— Вообще, орлы, кончайте! Отбой был.
— Не то что отбой — по-моему, уже гимн слышно откуда-то.
— Спать захочешь — уснёшь небось.
— Никакого чувства юмора: пять минут сплошь дуют гимн. Все кишки вылезают: когда он кончится? Неужели нельзя было ограничиться одной строфой?
— В Африке я служил. У Роммеля. Там что плохо? — жарко очень и воды нет…
— В Ледовитом океане есть остров такой — Махоткина. А сам Махоткин — лётчик полярный, сидит за антисоветскую агитацию.
— Михал Кузьмич, что вы там всё ворочаетесь?
— Ну, повернуться с боку на бок я могу?
— Можете, но помните, что всякий ваш даже небольшой поворот внизу — отдаётся здесь, наверху, громадной амплитудой.
— Вы, Иван Иваныч, ещё лагерь миновали. Там — вагонка четверная, один повернётся — троих качает. А внизу ещё кто-нибудь цветным тряпьём завесится, бабу приведёт — и наворачивает. Двенадцать баллов качка! Ничего, спят люди.
— Григорий Борисыч, а когда вы на шарашку первый раз попали?
— После енисейской ссылки. Все эти шарашки повелись с девятьсот тридцатого года, как стали инженеров косяками гнать. Первая была на Фуркасовском, проект Беломора составляли. Потом — рамзинская. Опыт понравился. На воле невозможно собрать в одной конструкторской группе двух больших инженеров или двух больших учёных: начинают бороться за имя, за славу, за сталинскую премию, обязательно один другого выживет. Поэтому все конструкторские бюро на воле — это бледный кружок вокруг одной яркой головы. А на шарашке? Ни слава, ни деньги никому не грозят. Николаю Николаичу полстакана сметаны и Петру Петровичу полстакана сметаны. Дюжина медведей мирно живёт в одной берлоге, потому что деться некуда. Поиграют в шахматишки, покурят — скучно. Может, изобретём что-нибудь? Давайте! Так создано многое в нашей науке! и в этом — основная идея шарашек.
— …Друзья! Новость!! Бобынина куда-то повезли!
— Валька, не скули, подушкой наверну!
— Куда, Валентуля?
— Как повезли?
— Младшина пришёл, сказал — надеть пальто, шапку.
— и с вещами?
— Без вещей.
— Наверно, к начальству большому.
— К Фоме?
— Фома бы сам приехал, хватай выше!
— Чай остыл, какая пошлость!..
— Валентуля, вот вы ложечкой об стакан всегда стучите после отбоя, как это мне надоело!
— Спокойно, а как же мешать сахар?
— Беззвучно.
— Беззвучно происходят только космические катастрофы, потому что в мировом пространстве звук не распространяется. Если бы за нашими плечами разорвалась Новая Звезда — мы бы даже не услышали. Руська, у тебя одеяло упадёт, что ты свесил? Ты не спишь? Тебе известно, что наше Солнце — Новая Звезда, и Земля обречена на гибель в самое ближайшее время?
— Я не хочу в это верить. Я молодой и хочу жить!
— Ха-ха! Примитивно!.. Какой чай холодный… С’э лё мо! Он хочет жить!
— Валька! Куда повезли Бобынина?
— Откуда я знаю? Может — к Сталину.
— А что бы вы сделали, Валентуля, если бы к Сталину позвали вас?
— Меня? Хо-го! Парниша! Я б ему объявил протест по всем пунктам!
— Ну, по каким, например?
— Ну, по всем, по всем, по всем. Пар экзампль — почему живём без женщин? Это сковывает наши творческие возможности.
— Прянчик! Заткнись! Все спят давно — чего разорался?
— Но если я не хочу спать?
— Друзья, кто курит — прячьте огоньки, идёт младшина.
— Что это он, падло?.. Не споткнитесь, гражданин младший лейтенант, — долго ли нос расшибить?
— Прянчиков!
— А?
— Где вы? Ещё не спите?
— Уже сплю.
— Оденьтесь быстро.
— Куда? Я спать хочу.
— Оденьтесь-оденьтесь, пальто, шапку.
— С вещами?
— Без вещей. Машина ждёт, быстро.
— Это что — я вместе с Бобыниным поеду?
— Уж он уехал, за вами другая.
— А какая машина, младший лейтенант, — воронок?
— Быстрей, быстрей. «Победа».
— Да кто вызывает?
— Ну, Прянчиков, ну что я вам буду всё объяснять? Сам не знаю, быстрей.
— Валька! Сказани там!
— Про свидания скажи! Что, гады, Пятьдесят Восьмой статье свидание раз в год?
— Про прогулки скажи!
— Про письма!..
— Про обмундирование!
— Рот фронт, ребята! Ха-ха! Адьё!
— …Товарищ младший лейтенант! Где, наконец, Прянчиков?
— Даю, даю, товарищ майор! Вот он!
— Про всё, Валька, кроши, не стесняйся!..
— Во псы разбегались среди ночи!
— Что случилось?
— Никогда такого не было…
— Может, война началась? Расстреливать возят?..
— Тю на тебя, дурак! Кто б это стал нас — по одному возить? Когда война начнётся — нас скопом перебьют или чумой заразят через кашу, как немцы в концлагерях, в сорок пятом…
— Ну ладно, спать, браты! Завтра узнаем.
— Это вот так, бывало, в тридцать девятом — в сороковом Бориса Сергеевича Стечкина с шарашки вызовет Берия, — уж он с пустыми руками не вернётся: или начальника тюрьмы переменят, или прогулки увеличат… Стечкин терпеть не мог этой системы подкупа, этих категорий питания, когда академикам дают сметану и яйца, профессорам — сорок грамм сливочного масла, а простым лошадкам по двадцать… Хорош человек был Борис Сергеевич, царство ему небесное…
— Умер?
— Нет, освободился… Лауреатом стал.
Разговоры постепенно смолкли. При неярком синем свете — лицо Нержина, лежащего на спине на верхней койке у центрального окна. На койке вплотную — сосед спит. Нержин не спит, лицо его напряжено заботами. и просто глубоко думает.
А по другую сторону, тоже сверху, через проходец — совсем молодой парень, Руська Доронин, то и дело резко меняет положение, то ничком, по плечи в подушку, то перепластываясь, то сбрасывая одеяло.
НЕРЖИН (шёпотом): Что не спишь?.. Хочется назад, в университет? доучиваться?
ДОРОНИН: Нет! История — до того повторяется, что не хочется её и знать. Кто кого схапает, тот того и лопает. Нет ни истины, ни заблуждения, ни развития…
В безжизненном освещении растравно подёргивается неверие на его губах.
НЕРЖИН: Хочу тебя предупредить, Ростислав, в чём я сам убеждаюсь, после ошибок. Как бы ни были остроумны и безпощадны системы скептицизма или там агностицизма, пессимизма — они по самой сути своей обречены на безволие. Ведь люди не могут остановиться, отказаться от систем, что-то утверждающих, куда-то призывающих…
ДОРОНИН: Хотя бы в болото? лишь бы переться? Ну, кончил бы я университет или даже аспирантуру, кусок идиота. Ну, стал бы учёным, допустим даже непродажным. Ну, написал бы пухлый том — и кто это будет читать? Сам же ты мне приводил: «То, что с трудом великим измыслили знатоки, раскрывается другими, ещё большими знатоками, как призрачное». А?
НЕРЖИН: Да, сомневаться можно и нужно. Но нужно что-нибудь и полюбить.
ДОРОНИН (хриплым шёпотом): Да, да, любить! Но не теорию, а де — вуш — ку! (Хватает Нержина за локоть.) А чего лишили нас, скажи! Права ходить на политучёбу? Подписываться на заём? Единственное, в чём Пахан мог нам навредить, — это лишить нас женщин! и он это сделал. Меня — на двадцать пять лет.
НЕРЖИН (пытаясь оборонить мысль, но самого схватила своя горячая волна): Выбрось эту мысль! переключайся в другие сферы.
ДОРОНИН: Нет, девушку каждому надо! и чтоб она в руках у тебя…
НЕРЖИН (в таком же томлении): Да, конечно!.. А — ты…? А — у тебя?
ДОРОНИН (обнимая, сжимая подушку): Да! Есть!.. Почти! Будет!
— Да кто же?
— Тс — с — с… Клара…
— Клара? Дочь прокурора?!
Невысокая маленькая комната на даче Сталина в Кунцево.
Две-три минуты без единого звука. Уже старый и пригорбленный Сталин, в домашней одежде, едва бредёт вдоль книжных полок с изданиями советского времени, воткнутыми и брошюрами. То коснётся чего рукой, то отдёрнет, даже с ненавистью. Не выбрал себе книгу.
МГБ. Кабинет министра Абакумова.
Велик — и с пустой просторной серединой. Высокий лепной потолок. Большой мраморный камин, обширное пристенное зеркало. Высокие неоткрываемые окна. На стене — пятиметровой высоты портрет Сталина в полный рост от сапог до маршальского картуза, в блеске множества орденов, советских и иностранных. и ещё — квадратный портрет Берии. Сам генеральный комиссар АБАКУМОВ победно попирает локтями свой крупный письменный стол и грозно смотрит на входящих в дальнюю от него дверь — робкой цепочкой, в спину друг другу — худощавого старика, заместителя министра СЕЛИВАНОВСКОГО. За ним — тяжёлого, мордатого ОСКОЛУПОВА, начальника Отдела Специальной Техники. За ним — ЯКОНОВА. Так и идут — не сходя со средней полоски ковра, гуськом. Так — дошли. и Селивановский, здесь часто допущенный, — сел в кресло, по кивку министра. Теперь впереди оказался Осколупов. Одубелое лицо, шея распирает воротник кителя, подбородок отвисает, лицо послушного исполнителя. Прищурясь поверх его плеча на Яконова,
АБАКУМОВ: Ты — кто?
ОСКОЛУПОВ (удручённый, что его не узнали): Я?
ЯКОНОВ: Я?
Он выдвинулся чуть вбок; сколько мог, подтянул свой вызывающе мягкий живот — и гасил, не давал выразиться никакой собственной мысли в больших синих глазах.
АБАКУМОВ (подтвердительно просопел): Ты, ты, объект Марфино — твой, значит? Ладно, садитесь… В общем, так… Вы мне с секретной телефонией — голову морочите сколько? Два года? А по плану вам было пятнадцать месяцев? Когда будут готовы два аппарата?.. Не врать! Вранья не люблю!
ОСКОЛУПОВ (восторженно, в глаза министра): Товарищ министр! Товарищ генерал-полковник! Разрешите вас заверить, что личный состав Отдела не пожалеет усилий…
АБАКУМОВ: Что мы? на собрании, что ли? Я говорю — к числу какому?
ЯКОНОВ (негромким голосом и тоном подчёркивая, что говорит не как администратор, а как специалист): Товарищ министр! При полосе частот до двух тысяч четырёхсот герц, при среднем уровне передачи ноль целых девять десятых непера…
АБАКУМОВ: Херц, херц, ноль целых, херц десятых… На хрена мне твои ноль целых? Ты мне — аппарата дай — два! целых! Когда? А?
СЕЛИВАНОВСКИЙ: Разрешите узнать, что вы имеете в виду, Виктор Семёнович. Двусторонние переговоры — ещё без абсолютной шифрации?..
АБАКУМОВ: Ты что из меня дурочку строишь? Как это без шифрации?
Он поднял над столом сжатый кулак, с булыгу, — но растворяется высокая дверь и без стука входит генерал РЮМИН — низенький, кругленький херувимчик. Идёт беззвучно. Невинно окидывает глазами сидящих, здоровается за руку с Селивановским (тот привстал) и, склонив головку, промурлыкивает:
— Вот что, Виктор Семёныч, по моему, это — задача Селивановского. Мы отдел спецтехники не даром же хлебом кормим. Неужели они не могут по магнитной ленте узнать голоса? Разогнать их тогда.
И ласково оглядывает всех трёх представителей отдела.
АБАКУМОВ: Я их и без этого разгоню, Михаил Дмитрич, поверь. Так разгоню — костей не соберут! Но что хочешь ты — я тоже не понимаю. Как же можно узнать по телефону, по голосу?
РЮМИН: Так я им ленту дам, разговор записан. Пусть крутят, сравнивают.
— Да с кем сравнивать?
— Да я им полминистерства иностранных дел сейчас на магнитофон запишу, пожалуйста. Но это лишнее. Там выбирать из человек пяти-четырёх, кто мог знать, в министерстве.
— Так арестуй их всех, собак, чего голову морочить. У нас страна большая, не обедняем!
— Нельзя, Виктор Семёныч. Это министерство — не Пищепром, так мы все нити потеряем, да ещё из посольств кто-нибудь в невозвращенцы лупанёт. Тут именно надо найти — кто? и как можно скорей.
АБАКУМОВ: Гм — м… Да. Когда-то же надо эту технику осваивать. Селивановский, сможете?
СЕЛИВАНОВСКИЙ: Я, Виктор Семёнович, ещё не понимаю, о чём речь.
АБАКУМОВ: Какая-то сволочь, гадюга, наверно что дипломат, иначе неоткуда было ему узнать, сегодня вечером позвонил в американское посольство из автомата и завалил наших разведчиков там. Насчёт атомной бомбы. Вот угадай — молодчик будешь.
Селивановский посмотрел на Яконова. Тот, бровями, тонко выразил сомнение. Но вдруг рванулся, с полной готовностью
ОСКОЛУПОВ: Товарищ министр! Так это — мы можем!
СЕЛИВАНОВСКИЙ (неодобрительно): На каком объекте? Какая лаборатория?
— Да на телефонном же, в Марфине.
— Но Марфино выполняет более важную задачу.
— Ничего-о, найдём людей! Там триста человек — что ж, не найдём?
АБАКУМОВ: Молодец! Так и надо рассуждать. Интересы государства — а потом остальное.
РЮМИН (Селивановскому): Так я утром плёнку пришлю. (Ушёл.)
АБАКУМОВ (поковырялся в зубах): Ну так — когда же? Вы меня — манили, к октябрьским, к Новому году, — ну?
Яконов томится. Он тут один и знает все неисчислимые трудности. Знает и показные уловки, как можно тянуть неготовое, рапортуя о готовности. Но петля на шее сжималась. И, под давящим взглядом Абакумова, пытаясь высвободить шею, просительно:
— Месяц ещё! Ещё один месяц разрешите! До первого февраля!
— Это как — месяц? Или опять брешете?
ОСКОЛУПОВ (счастливо обрадованный): Это — точно! Это — точно!
Абакумов крупной ручкой записывает в настольном календаре:
— Вот, к ленинской годовщине, 21 января. и все получите сталинскую премию. Осколупов, будет? Голову оторву!
ОСКОЛУПОВ: Будет, будет, товарищ генерал-полковник!
ЯКОНОВ (ещё удерживая мужество): К первому февраля.
АБАКУМОВ: Взвесь, полковник, врёшь?
ЯКОНОВ (в отчаянии на Селивановского и убитый печалью): Будет, товарищ министр…
АБАКУМОВ: Ну, смотрите, я за язык не тянул. Всё прощу — обмана не прощу! Идите.
Также цепочкой, след в след, потупясь перед пятиметровым Сталиным, ушли.
В комнате сталинской дачи.
Полное безмолвие. Сталин, всё в том же домашнем, неподвижно стоит перед окном, упёршись в его непроглядную черноту.
Кабинет Абакумова.
ОФИЦЕР (от дверей): Инженер Прянчиков!
Пропускает. Прянчиков, в том же комбинезоне. и всегда возбуждённый, сейчас он переполнен своим вольным проездом по вечерней светящейся Москве, пьян от распирающих впечатлений, недоуменно озирается. Первое, что замечает, — огромное зеркало. Идёт к нему, поправляя галстук. Ближе. Анфас. В три четверти. Отходит, полутанцующим движением. Продолжает осматривать помещение, походкой гуляющего франта. В конце обнаруживает большой письменный стол, за ним какого-то крупного генерала. Абакумов немо, удивлённо следит за ним.
АБАКУМОВ (заглядывая в бумажку): Вы — ведущий инженер… группы… аппарата искусственной речи?
ПРЯНЧИКОВ (совершенно непринуждённо): Ка-кого аппарата искусственной речи! Что за чушь. Его никто так у нас не называет. Это переименовали в борьбе с низкопоклонством. Во-ко-дер. Voice coder.
— Но вы — ведущий инженер?
— Вообще, да. А что такое? — насторожился Прянчиков.
— Садитесь.
Прянчиков охотно сел, заправски придерживая разглаженные ножные трубки комбинезона.
— Прошу вас говорить совершенно откровенно, не боясь никаких репрессий со стороны вашего непосредственного начальства. Вокодер — когда будет готов? Откровенно! Через месяц будет? Или, может быть, нужно два месяца? Скажите, не бойтесь.
— Вокодер? Готов?? Ха-ха-ха-ха! — звонким юношеским смехом расхохотался Прянчиков, откинулся на мягкие кожаные спинки и всплеснул руками. — Да вы что??! Что вы?! Вы, значит, просто не понимаете, что такое вокодер. Я вам сейчас объясню!
Он упруго вскочил из пружинящего кресла и бросился к столу Абакумова.
— У вас клочок бумажки найдётся? Да вот! — Он вырвал лист из чистого блокнота на столе министра, схватил его ручку цвета красного мяса и стал торопливо коряво рисовать сложение синусоид.
Абакумов не испугался — столько детской искренности и непосредственности было в голосе и во всех движениях странного инженера, что он стерпел этот натиск и с любопытством смотрит на Прянчикова, не слушая.
— Надо вам сказать, что голос человека составляется из многих гармоник, — почти захлёбывается Прянчиков от напирающего желания всё скорей высказать. — и вот идея вокодера состоит в искусственном воспроизведении человеческого голоса… Чёрт! Как вы пишете таким гадким пером?.. воспроизведении путём суммирования если не всех, то хотя бы основных гармоник, каждая из которых может быть послана отдельным датчиком импульсов. Ну, с системой декартовых прямоугольных координат вы, конечно, знакомы, это каждый школьник, а ряды Фурье вы знаете?
— Подождите, — опомнился Абакумов. — Вы мне только скажите одно: когда будет готово? Готово — когда?
— Готово? Хм-м… Я над этим не задумывался. Тут вот что интересно: задача облегчается, если мы идём на огрубление тембра голоса. Тогда число слагаемых…
— Ну, к какому числу? К какому? К первому марта? К первому апреля?
— Ой, что вы! Апреля?.. Без криптографов мы будем готовы месяца… ну, через четыре, через пять, не раньше. А что покажут шифрация и потом дешифрация импульсов? Ведь там качество ещё огрубится! Да не станем загадывать! — уговаривал он Абакумова, тяня его за рукав. — Я вам сейчас всё объясню. Вы сами поймёте и согласитесь, что в интересах дела не надо торопиться!..
Но Абакумов, заторможенным взглядом уперевшись в безсмысленные кривые линии чертежа, уже надавил кнопку в столе.
Появился тот же лощёный подполковник и пригласил Прянчикова к выходу.
Прянчиков повиновался с растерянным выражением, с полуоткрытым ртом. Ему досаднее всего было, что он не досказал мысль. Потом, уже на ходу, он напрягся, соображая, с кем это он сейчас разговаривал. Почти уже подойдя к двери, он вспомнил, круто обернулся и направился назад:
— Да!! Слушайте! Я же совсем забыл вам…
Но подполковник преградил дорогу и теснил его к двери, начальник за столом не слушал, — и в этот короткий неловкий момент Прянчиков вспомнил и прокричал в дверях:
— Например, насчёт кипятка! С работы поздно вечером придёшь — кипятка нет! чаю нельзя напиться!..
— Насчёт кипятка? — переспросил тот начальник, вроде генерала. — Ладно. Сделаем.
Дача Сталина.
Сидит за столом, пишет, обдумывая. Полное безмолвие. Несколько минут.
Кабинет Абакумова.
В таком же синем комбинезоне, но крупный, ражий, с остриженной каторжанской головой вошёл Бобынин.
Он проявил столько интереса к обстановке кабинета, как если бы здесь бывал по сту раз на дню, прошёл, не задерживаясь, и сел, не поздоровавшись. Сел он в одно из удобных кресел неподалеку от стола министра и обстоятельно высморкался в не очень белый платок.
Абакумов, несколько сбитый с толку Прянчиковым, был доволен теперь, что Бобынин выглядел внушительно. и он не крикнул ему: «Встать!» — а, полагая, что тот не разбирается в погонах и не догадался по анфиладе преддверий, куда попал, спросил почти миролюбиво:
— А почему вы без разрешения садитесь?
Бобынин, едва скосясь на министра, ещё кончая прочищать нос при помощи платка, ответил запросто:
— А, видите, есть такая китайская поговорка: стоять — лучше, чем ходить, сидеть — лучше, чем стоять, а ещё лучше — лежать.
— Но вы представляете — кем я могу быть?
Удобно облокотясь в избранном кресле, Бобынин теперь осмотрел Абакумова и высказал ленивое предположение:
— Ну — кем? Ну, кто-нибудь вроде маршала Геринга?
— Вроде кого???..
— Маршала Геринга. Он однажды посетил авиазавод близ Галле, где мне пришлось в конструкторском бюро работать. Так тамошние генералы на цыпочках ходили, а я даже к нему не повернулся. Он посмотрел-посмотрел и в другую комнату пошёл.
По лицу Абакумова прошло движение, отдалённо похожее на улыбку, но тотчас же глаза его нахмурились на неслыханно дерзкого арестанта. Он мигнул от напряжения и спросил:
— Так вы что? Не видите между нами разницы?
— Между вами? Или между нами? — голос Бобынина гудел, как растревоженный чугун. — Между нами отлично вижу: я вам нужен, а вы мне — нет!
— Слушайте, заключённый. Если я с вами мягко, так вы не забывайтесь…
— А если бы вы со мной грубо — я б с вами и разговаривать не стал, гражданин министр. Кричите на своих полковников да генералов, у них слишком много в жизни есть, им слишком жалко этого всего.
— Сколько нужно — и вас заставим.
— Ошибаетесь, гражданин министр! — и сильные глаза Бобынина сверкнули открытой ненавистью. — У меня ничего нет, вы понимаете — нет ничего! Жену мою и ребёнка вы уже не достанете — их взяла бомба. Родители мои — уже умерли. Имущества у меня всего на земле — носовой платок, а комбинезон и вот бельё под ним без пуговиц, — он обнажил грудь и показал, — казённое. Свободу вы у меня давно отняли, а вернуть её не в ваших силах, ибо её нет у вас самих. Лет мне от роду сорок два, сроку вы мне отсыпали двадцать пять, на каторге я уже был, в номерах ходил, и в наручниках, и с собаками, и в бригаде усиленного режима, — чем ещё можете вы мне угрозить? чего ещё лишить? Инженерной работы? Вы от этого потеряете больше. Я закурю.
Абакумов раскрыл коробку «Тройки» кремлёвского выпуска и пододвинул Бобынину:
— Вот, возьмите этих.
— Спасибо. Не меняю марки. Кашель. — и достал «беломорину» из самодельного портсигара. — Вообще, поймите и передайте там, кому надо выше, что вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у людей не всё. Но человек, у которого вы отобрали всё, — уже неподвластен вам, он снова свободен.
Бобынин смолк и углубился в курение. Ему нравилось дразнить министра и нравилось полулежать в таком удобном кресле.
Министр сверился с бумажкой.
— Инженер Бобынин! Вы — ведущий инженер установки «клиппированная речь»?
— Да.
— Я вас прошу сказать совершенно точно: когда она будет готова к эксплуатации?
Бобынин вскинул густые тёмные брови:
— Что за новости? Не нашлось никого старше меня, чтобы вам на это ответить?
— Я хочу знать именно от вас. К февралю она будет готова?
— К февралю? Вы что — смеётесь? Если для отчёта, на скорую руку да на долгую муку, — ну, что-нибудь… через полгодика. А абсолютная шифрация? Понятия не имею. Может быть — год.
Абакумов оглушён. Обеими руками подпёр голову и сдавленно:
— Бобынин! Я прошу вас — взвесьте ваши слова. Если можно быстрей, скажите: что нужно сделать?
— Быстрей? Не выйдет.
— Но причины? Но какие причины? Кто виноват? Скажите, не бойтесь! Назовите виновников, какие бы погоны они ни носили! Я сорву с них погоны!
Бобынин откинул голову и глядел в потолок, где резвились нимфы страхового общества «Россия».
— Ведь это получается два с половиной — три года! — возмущался министр. — А вам срок был дан — год!
И Бобынина взорвало:
— Что значит — дан срок? Как вы представляете себе науку: Сивка-Бурка, вещая каурка? Воздвигни мне к утру дворец — и к утру дворец? А если проблема неверно поставлена? А если обнаруживаются новые явления? Дан срок! А вы не думаете, что кроме приказа ещё должны быть спокойные, сытые, свободные люди? Да без этой атмосферы подозрения. Вон мы маленький токарный станочек с одного места на другое перетаскивали — и не то у нас, не то после нас станина хрупнула. Чёрт её знает, почему она хрупнула! Но её заварить — час работы сварщику. Да и станок — говно, ему полтораста лет, без мотора, шкив под открытый ременной привод! — так из-за этой трещины оперуполномоченный майор Шикин две недели всех тягает, допрашивает, ищет, кому второй срок за вредительство намотать. Это на работе — опер, дармоед, да в тюрьме ещё один опер, дармоед, только нервы дёргает, протоколы, закорючки — да на чёрта вам это оперное творчество?! Вот все говорят — секретную телефонию для Сталина делаем. Лично Сталин наседает — и даже на таком участке вы не можете обезпечить технического снабжения: то конденсаторов нужных нет, то радиолампы не того сорта, то электронных осциллографов не хватает. Нищета! Позор! «Кто виноват»! А о людях вы подумали? Работают вам все по двенадцать, иные по шестнадцать часов в день, а вы мясом только ведущих инженеров кормите, а остальных — костями?.. Свиданий с родственниками почему Пятьдесят Восьмой не даёте? Положено раз в месяц, а вы даёте раз в год. От этого что — настроение подымается? Может, воронков не хватает, в чём арестантов возить? Или надзирателям — зарплаты за выходные дни? Ре-жим!! Режим вам голову мутит, с ума скоро сойдёте от режима. По воскресеньям раньше можно было весь день гулять, теперь запретили. Это зачем? Чтобы больше работали? На говне сметану собираете? Оттого, что без воздуха задыхаются, — скорее не будет. Да чего говорить! Вот меня зачем ночью вызвали? Дня не хватает? А ведь мне работать завтра. Мне спать нужно.
Бобынин выпрямился, гневный, большой.
Абакумов тяжело сопел, придавленный к кромке стола.
Если этот инженер прав — как теперь изворачиваться?
Сталин — не прощает…
Но тут, отпуская Бобынина, он вспомнил эту тройку лгунов из отдела специальной техники. Позвонил:
— Вот этих троих, из спецтехники, — вернуть! сейчас же!!
Дача Сталина.
Сталин, прикрытый пледом, лежит, поджав ноги, на низкой отоманке с цветастыми подушками. Безмолвие.
Кабинет Абакумова.
Вся тройка лгунов, перепуганно выпрямясь. Абакумов мечется зверем. Наступает на них, разгоняет, догоняет, плюёт, едва мимо них. Селивановскому:
— Разжалую в лейтенанта! Поедешь на заполярный лагпункт!.. (Осколупову.) Рядовым надзирателем в Бутырки, откуда и начинал!
Яконова — тычком кулака, в крупный мягкий нос, пошла кровь.
АБАКУМОВ: А ты? — уже и сидел за вредительство? Теперь — повторно?? Немедленно арестую! и — самого пошлю в Марфино, налаживать аппарат!..
(Яконов промокает носовым платком.)
Дача Сталина.
Небольшая приёмная. На стенных часах — четвёртый час ночи. Сидит АБАКУМОВ с портфелем на коленях и отдельно — большим чистым блокнотом. Дверь медленно открывается, наполовину. В раскрытую часть входит тихо, почти на цыпочках, ПОСКРЁБЫШЕВ. Забирает у Абакумова портфель и беззвучно показывает на дверь. Абакумов с блокнотом, тушей своей старается протиснуться, не раскрывая дверь шире.
АБАКУМОВ (хрипло, негромко): Добрый вечер, товарищ Сталин! Разрешите?
Сталин в кителе с золочёными пуговицами, рядами орденских колодок, но без погонов, пишет за столом. Только потом поднимает голову, совино зловеще смотрит на вошедшего. и — ничего не говорит. Абакумов, руки вдоль бёдер, перегибается вперёд, с почтительно-приветственной улыбкой. Сталин сурово посмотрел на Абакумова и тычком трубки в воздухе указал, куда ему сесть. Абакумов осторожно сел, лишь на переднюю часть сиденья.
Настольная лампа. Плотно зашторенное окно у стола. Сталин ещё смотрит, перебирая бумаги.
— Ну?
АБАКУМОВ (с поспешной готовностью): Разрешите доложить? На Тито всё подготовлено. Когда он — на остров Бриони… будет бомба на яхте…
СТАЛИН (поднял голову): А Ранкович?
— Да-да! Подгадаем так: и Ранкович, и Кардель, и Моше Пьяде… Вся клика на воздух, вместе!
Сталин, сопя погасшей трубкой, думает. Смотрит испытующе. Испытующе.
АБАКУМОВ (не дождавшись вопроса): В Академии Фрунзе прощупываем группировку. Всех — возьмём.
Сталин смотрит испытующе. Всё так же молчит.
АБАКУМОВ: и в Духовной академии обнаружился кое-кто…
Смотрит с тревожным ожиданием на Сталина: а вот спросит о секретной телефонии? Что отвечать?
И Сталин явно ищет что-то вспомнить. В тяжёлых складках его лоб, напряглись хрящи носа. Упорно — в лицо Абакумова. Нет, не вспоминается. Набил трубку, закурил. В первом дымке:
— Да! Гомулка — арестован?
АБАКУМОВ (очень облегчённо): Арестован, арестован! (Да Хозяину уже докладывали об этом…)
Сталин включил верхний свет, несколько ламп. Поднялся и, дымя трубкой, стал мягко ходить по кабинету, до радиолы и назад, к двери. Абакумов раскрыл на коленях большой блокнот, достал авторучку, приготовился записывать распоряжения Вождя. Сталин остановился посреди комнаты и, скривя шею на бок, смотрит зловеще:
— А шьто ты прид-принимайшь па линии безопасности партийных кадров?
— Товарищ Сталин! — дрогнул от обиды голос Абакумова. Он от души бы сердечно выговорил «Иосиф Виссарионович», но так не полагалось обращаться, это претендовало бы на приближение к Вождю, как бы почти один разряд с ним. — Для чего и существуем мы, Органы, всё наше министерство, чтобы вы, товарищ Сталин, могли спокойно трудиться, думать, вести страну!..
(Сталин говорил «безопасность партийных кадров», но ответа ждал только о себе, Абакумов знал!)
— Да дня не проходит, чтоб я не проверял, чтоб я не арестовывал, чтоб я не вникал в дела!..
Всё так же в позе ворона со свёрнутой шеей Сталин смотрел внимательно.
— Слюшай, — спросил он в раздумьи, — а шьто? Дэла по террору — идут? Нэ прекращаются?
Абакумов горько вздохнул.
— Я бы рад был вам сказать, товарищ Сталин, что дел по террору нет. Но они есть. Мы обезвреживаем их даже… ну, в самых неожиданных местах.
Сталин прикрыл один глаз, а в другом видно было удовлетворение.
— Это — харашё! — кивнул он. — Значит — работаете.
— Причём, товарищ Сталин! — Абакумову всё-таки невыносимо было сидеть перед стоящим Вождём, и он привстал, не распрямляя колен полностью. — Всем этим делам мы не даём созреть до прямой подготовки. Мы их прихватываем на замысле! на намерении! через девятнадцатый пункт!
— Харашё, харашё, — Сталин успокоительным жестом усадил Абакумова. — Значит, ты считайшь — нэдовольные ещё есть в народе?
Абакумов опять вздохнул.
— Да, товарищ Сталин. Ещё некоторый процент…
(Хорош бы он был, сказав, что — нет! Зачем тогда его и фирма?..)
— Верно ты говоришь, — задушевно сказал Сталин. В голосе его перевес хрипов и шорохов над звонкими звуками. — Значит, ты — можишь работать в госбезопасности. А вот мне говорят — нэт больше нэдовольных, все, кто голосуют на выборах за, — всэ довольны. А? — Сталин усмехнулся. — Палитическая слепота! Враг притаился, голосует за, а он — нэ доволен! Процентов пять, а? Или, может, — восемь?..
— Да, товарищ Сталин, — убеждённо подтвердил Абакумов. — Именно так, процентов пять. Или семь.
Сталин продолжил свой путь по кабинету, обошёл вокруг письменного стола.
— Это уж мой недостаток, товарищ Сталин, — расхрабрился Абакумов, уши которого охладились вполне. — Не могу я самоуспокаиваться.
Сталин слегка постучал трубкой по пепельнице:
— А — настроение молодёжи?
Вопрос за вопросом шли, как ножи, и порезаться достаточно было на одном. Скажи «хорошее» — политическая слепота. Скажи «плохое» — не веришь в наше будущее.
Абакумов развёл пальцами, а от слов пока удержался.
Сталин, не ожидая ответа, внушительно сказал, пристукивая трубкой:
— Нада больши заботиться а молодёжи. К порокам среди молодёжи надо быть а-собенно нетерпимым!
Абакумов спохватился и начал писать.
Мысль увлекла Сталина, глаза его разгорелись тигриным блеском. Он набил трубку заново, зажёг и снова зашагал по комнате бодрей гораздо:
— Нада усилить наблюдение за настроениями студентов! Нада выкорчёвывать нэ по адиночке — а целыми группами! и надо переходить на полную меру, которую даёт вам закон, — двадцать пять лет, а не десять! Десять — это шькола, а не тюрьма! Это шькольникам можнё по десять. А у кого усы пробиваются — двадцать пять! Маладые! Да-живут!
Абакумов строчил.
— и надо прэкратить санаторные условия в палитических тюрьмах! Я слышал от Берии: в палитических тюрьмах до-сих-пор-есть прадуктовые передачи?
— Уберём! Запретим! — с болью в голосе вскликнул Абакумов, продолжая писать. — Это была наша ошибка, товарищ Сталин, простите!!
Сталин расставил ноги против Абакумова:
— Да сколько жи раз вам объяснять?! Нада жи вам понять наконец…
Он говорил без злобы. В его помягчевших глазах выражалось доверие к Абакумову, что тот усвоит, поймёт. Абакумов не помнил, когда ещё Сталин говорил с ним так просто и доброжелательно. Ощущение боязни совсем покинуло его. С оживившимся лицом
АБАКУМОВ: Мы понимаем, товарищ Сталин! классовая борьба будет обостряться! Так тем более тогда, товарищ Сталин, войдите в положение — как нас связывает в работе эта отмена смертной казни! Ведь как мы колотимся уже два с половиной года: проводить расстреливаемых по бумагам нельзя. Значит, приговоры надо писать в двух редакциях. Потом — зарплату исполнителям по бухгалтерии тоже прямо проводить нельзя, путается учёт. Потом — и в лагерях припугнуть нечем. Как нам смертная казнь нужна! Товарищ Сталин, верните нам смертную казнь!!
От души, ласково просил Абакумов, приложив пятерню к груди и с надеждой глядя на темноликого Вождя. и Сталин — чуть-чуть как бы улыбнулся. Его жёсткие усы дрогнули, но мягко. Тихо, понимающе сказал:
— Знаю. Думал. На-днях верну вам смэртную казнь. Эт-та будыт харёшая воспитательная мера.
С нижним прищуром век спросил:
— А ты — нэ боишься, что мы тебя жи первого и расстреляем?
Это «расстреляем» он почти не договорил, он сказал его на спаде голоса, уже шорохом, как мягкое окончание, как нечто само собой угадываемое.
Не смея встать и не смея сидеть, Абакумов чуть приподнялся на напряжённых ногах, и от напряжения они задрожали в коленях:
— Товарищ Сталин!.. Так если я заслуживаю… Если нужно…
Сталин смотрел мудро, проницательно.
— Правильно! — с улыбкой расположения, как бы хваля за сообразительность, сказал Сталин. — Когда заслужишь — тогда расстреляем.
Он провёл в воздухе рукой, показывая Абакумову сесть, сесть. Абакумов опять уселся.
Сталин задумался и заговорил так тепло, как министру Госбезопасности ещё не приходилось слышать:
— Скоро будыт много-вам-работы, Абакумов. Будым йищё один раз такое мероприятие проводить, как в тридцать седьмом. Весь мир — против нас. Война давно неизбежна. С сорок четвёртого года неизбежна. А перед баль-шой войной баль-шая нужна и чистка.
— Но, товарищ Сталин! — осмелился возразить Абакумов. — Разве мы сейчас не сажаем?
— Эт-та разве сажаем!.. — отмахнулся Сталин с добродушной усмешкой. — Вот начнём сажать — увидишь!.. А во время войны пойдём вперёд — там Йи-вропу начнём сажать! Крепи Органы. Крепи Органы! Шьтаты, зарплата — я тыбе ныкогда нэ откажу.
И отпустил мирно:
— Ну, иды-пока.
Фасад Большой Лубянки.
И бок её — с улицы Дзержинского. Инженер-полковник Яконов в зимней шинели вышел из зеркальных дверей. Неуверенно выбрал направление. Побрёл шатким шагом. Обогнул здание на Фуркасовский. Ночь туманная. Туман жмётся к земле. Чёрная фонарная ночь.
Бредёт вдоль стоящих легковых машин. Заглянул в одну «победу» — не та. В другую — и тут никого, не ждут. Из третьей выскочил шофёр:
— Товарищ полковник, я здесь. Прикажете домой?
Яконов вынул карманные часы, безсмысленно держит на ладони, не понимая, что они показывают.
— Домой? — повторяет шофёр.
ЯКОНОВ (дико посмотрел на него): А? Нет.
— В Марфино??
ЯКОНОВ (держась рукой повыше сердца): Н-нет.
И всё держит на ладони часы, не понимая. Но в распахнутую дверцу — сел. Сел и шофёр. В недоумении. Несколько раз оглядывается на полковника. Завёл мотор. А команды ехать не было. Шофёр медленно поехал, наудачу.
Сделал кольцо по близким пустым улицам. Потом — к Москва-реке: полковник жил на Большой Серпуховке.
— Так может, домой, товарищ полковник?
Яконов ещё помолчал. Потом неожиданно:
— Ты, братец, езжай-ка спи, я сам дойду. (А тон такой, как будто навсегда прощался.)
Застегнул шинель, вышел. И, в полковничьей папахе, сбитой чуть набекрень, оскользаясь, пошёл вдоль набережной. А людей — никого нигде. Шофёр подождал — полковник удалялся. Слегка подъехал за ним, постоял. Ещё подъехал, ещё постоял. А набережная сужалась, безконечный деревянный забор строительства слева. А над рекой шевелится одеяло тумана.
Это так дико: совершенно одному брести по безлюдному, ночному, зимнему городу. Туловища зданий — не узнаются, смутны, ещё и от тумана. Совсем редкие уличные фонари. Под ногами — подтаявший снег подбирало хрупким ледком. Похрустывает.
Справа впереди стал проступать высокий мощный мост — через реку.
Тут — похаживал дежурный милиционер.
Смотрел подозрительно на странного пьяного в полковничьих погонах и папахе.
Но не окликнул его.
А дальше перед Яконовым проступил невысокий короткий мост, тоже через речку.
А, вот что: похоже на устье Яузы.
Перебрёл и Яузу.
Стал у парапета большой набережной. Туман — слегал, и во льду проступило чёрное пятно разводья.
ГОЛОС ЗА КАДРОМ:
Чёрная бездна прошлого — тюрьма — опять разверзалась перед ним и опять звала его вернуться.
Шесть лет, проведенных там, Яконов считал гнилым провалом, чумой, позором, величайшей неудачей своей жизни.
Он сел в тридцать втором году, молодым инженером-радистом, уже дважды побывавшим в заграничных командировках (из-за этих командировок он и сел). и тогда попал в число первых зэков, из которых сформировали одну из первых шарашек.
Как он хотел забыть тюремное прошлое — сам! и чтоб забыли другие люди! и чтоб забыла судьба! Как он сторонился тех, кто напоминал ему злосчастное время, кто знал его заключённым!
Но установку клиппера нельзя было спасти так быстро. Он все последние годы спешил, всегда к срокам — а теперь, кажется, и не надо спешить. Уже безполезно.
Да, затеяна была угарная игра, и подходил её конец. Яконов не раз вокруг себя и на себе испытывал ту безумную непосильную гонку, в которой захлестнулась вся страна — её наркомы и обкомы, учёные, инженеры, директоры и прорабы, начальники цехов, бригадиры, рабочие и простые колхозные бабы. Кто бы и за какое бы дело ни брался, очень скоро оказывался в захвате, в защеме придуманных, невозможных, калечащих сроков: больше! быстрее! ещё!! ещё!!! норму! сверх нормы!! три нормы!!! почётную вахту! встречное обязательство! досрочно!! ещё досрочнее!!! Не стояли дома, не держали мосты, лопались конструкции, сгнивал урожай или не всходил вовсе, — а человеку, попавшему в эту круговерть, то есть каждому отдельному человеку, не оставалось, кажется, иного выхода, как заболеть, пораниться между этими шестерёнками, сойти с ума, попасть в аварию — и только тогда отлежаться в больнице, дать забыть о себе, вдохнуть лесного воздуха — и опять, и опять вползать постепенно в тот же хомут.
А теперь — утопиться?..
Нет, с порывом отошёл от парапета, взял левей — и вдоль какого-то опять строительного забора пошёл дальше. Дальше слева пошла протоптанная тропа куда-то налево и вверх, вверх. Побрёл и туда.
И поднялся на какой-то пустырь. Но одышка от подъёма остановила его. А присесть негде. Обломки кирпича, битое стекло, шебень, вроде тёсовый сарайчик. и — несколько отчётливых каменных ступеней вели куда-то вверх, налево. и обрывались пересыпью шлака.
Из интереса пошёл дальше — и опять появились ступени — и всё выше шли.
А туман-то весь опал, начисто. и выше, на холме, стало различаться здание странной формы — то ли разрушенное, то ли уцелевшее. Пошёл туда. Ступени перешли в плоскую каменную площадку — и опять в ступени, выше, всё к тому зданию. А здание, вот оно — за последней площадкой было закрыто широкими железными дверьми. Похоже на церковь.
Какое-то глухое воспоминание… Яконов обернулся с высоты — и хорошо теперь видел знакомую излучину реки — под мост — и дальше — в сторону Кремля?
Да, да, это было здесь!
Но колокольня? Её нет. Или эти груды крупных камней — от колокольни?
Тихо сел на каменные обломки, завалившие бывшую паперть.
Горячо в глазах. Зажмурился.
Да, да, на этом самом месте, двадцать два года назад…
…………………………………………………………….
Светлеет, светлеет. и здание — как будто обновляется.
Нарастает купол над ним. Крест на куполе.
Яркий свет — летний свет! Целёхонькая церковь стоит, распахнулись и железные двери. и обломки исчезли — они все сложились в шатровую колоколенку, тут, рядом.
Мерно бьёт колокол, к службе.
И заходящее солнце бьёт на паперть. и идут в церковь — богомольцы, поднимаются снизу, со ступеней — с длинной белокаменной лестницы без перил, от самой набережной.
И молодой Яконов, двадцати шести лет, — поднимается с двадцатилетней Агнией — тоненькой, стройной.
На той церковной лестнице, летом.
Агния утомляется от подъёма, и они останавливаются на каждой площадке. Прозрачная жёлтая шаль на её плечах повисла на локтях, как тонкие золотые крылья.
АГНИЯ: Это — церковь Никиты Мученика.
АНТОН: Какого же она века?
АГНИЯ: Тебе обязательно век? А без века? Как же умели древние русские люди выбирать место для церквей! Архитекторы были богомольны, каменщики — праведники.
Её брови и ноздри так трепещут, словно она собирается ими улететь.
АНТОН (захваченно): Да, это Москва!
АГНИЯ: Но она — уходит, Антон. Москва — уходит. Эту церковь — снесут.
— Откуда ты знаешь? Это художественный памятник, его оставят.
— Снесут… Церковь — гонят.
— Да в чём ты видишь, что гонят? В колокола звонят, просфоры пекут.
— Алтарное имущество отняли, священников ссылают.
— Где ты видела, что ссылают?
— Этого на улицах не увидишь.
Сели на нагретую каменную скамью.
— Ты несправедлива к большевикам. К мировой культуре у них самое бережное… А главное — они за всеобщее равенство. Разве оно не стоит жертв? Остерегись, Агния. Новое надо уметь вовремя и различить, а кто не различит — отстанет безнадёжно.
— А ты не боишься, что тебя увидят около церкви? кто-нибудь из сослуживцев?.. Наверно, тебя ждёт слава, удача, стойкое благополучие. Но будешь ли ты счастлив, Антон? Остерегись и ты. Заинтересовавшись процессом жизни, мы теряем, теряем… ну, как тебе передать? Вот колокол отзвонил, звуки певучие улетели, — и уж их не вернуть, а в них — вся музыка.
Вошли в церковь. Толстые своды, оконца, прорезанные в древнерусском стиле. Через оконки купола закатное солнце разошлось золотой игрой по верху иконостаса.
Читают канон Деве Марии, неисчерпаемо красноречивый, поэтический экстаз хваления.
…………………………………………………………….
И снова зима, но рассвет. Яконов очнулся на каменных обломках. Тяжело поднялся, припал локтями к церковной стене, у мёртвого оконца. В примороженном очищенном воздухе выпал обильный мохнатый иней — на узорном оконце, на стене, на камнях.
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Шарашка. Двор.
Полукруглый фасад тёмнокирпичного здания шарашки — двухэтажного, впереди — купол, а выше, сзади — ещё и надстройка над ним: малая шестиугольная башенка, как это осталось от бывшей семинарской церкви. Все окна до единого — в решётках. Объектив обходит здание с правого бока. Тут — хозяйственный двор, а близко к дому, перед нами, — ограда тюремной зоны: два ряда колючей проволоки. Щедрый царственный иней опушил столбы зоны и столбики предзонника, в двадцать ниток переплетенную, в сотни звёздочек загнутую колючую проволоку. На дворе — груда брёвен, близ неё — козлы для пилки дров. Близ них стоит СОЛОГДИН, в чёрной телогрейке поверх синего комбинезона. Неподвижен. Смотрит на природное чудо. Сняв шапку-ушанку, одно время стоит с непокрытой головой, наслаждается воздухом и видом: за проволокой — пустырь, с бурьяном, кустарником, тоже в инее.
Из-за заднего угла здания показался дворник СПИРИДОН в ушастом малахае и тоже телогрейке. У него седорыжие усы и брови. Несёт двуручную пилу.
СОЛОГДИН: Ну, Спиридон! Направил?
СПИРИДОН: Не знаю, что вы жалитесь: пила как пила. А ну, черкнём разок! — (Стали пилить бревно.) — Вы в рукех-то её больно крепко дёржите. Вы ручку тремя пальчиками обоймите и водите плавненько… К себе-то когда волочёте — не дёргайте.
Пройдя и половину кряжа, пила не затирается, выфыркивает опилки на их комбинезонные брюки.
— Да ты чудесник, Спиридон! Ты пилу вчера наточил и развёл?
На лице круглоголового рыжего Спиридона не отличить почтения от насмешки.
— Ничуть я не точил. Сами зуб смотрите, какой вчера зуб, такой и сегодня.
— Ну, давай ещё чурбачок.
— Не-е, я заморился. Что деды, что продеды не доработали — всё на меня лягло. Это вам — в охотку. Да вон ваш дружок идёт.
Вполне уже рассвело. Торжественное инеистое утро. и водосточные трубы в инее — и липы на прогулочном дворике — глубже, за зданием, где виден и одноэтажный «тюремный штаб». Оттуда идёт НЕРЖИН. Телогрейка у него только накинута, на шее висит короткое тюремное полотенце.
НЕРЖИН: С добрым утром, друзья!
Сбрасывает вовсе телогрейку, расстёгивает комбинезон до пояса, снимает нижнюю сорочку.
СОЛОГДИН: Глебчик, ты обезумел, где ты видишь снег?
Нержин шагнул на крышу погреба. Там — слой редкопушистого инея? или снега? Собирает горстями и рьяно трёт себе грудь, спину, бока.
СПИРИДОН: Эк тебя распарило! (Уходит.)
СОЛОГДИН: Э, Спиридон! Колун — есть, а где топор?
СПИРИДОН: Дежурняк принесёт, у него хранится.
НЕРЖИН (обтирая грудь, спину вафельным полотенечком): Не угодил я Антону с артикуляцией, цифра низкая. Вчера предложил мне переходить в криптографическую группу, а я отказался.
— Ты ведёшь себя не как исчислитель, а как пиит.
— Да, на меня это не похоже. Но вдруг так всё опротивело, что ничего не хочется. В Сибирь так в Сибирь… Я с сожалением замечаю, что Лёвка прав, скептик из меня не получился. Очевидно, скептицизм — это не только система взглядов, но прежде всего — характер. А мне хочется вмешиваться в события. Может быть, даже кому-нибудь… в морду дать.
Сологдин удобнее прислонился к козлам.
— Это глубоко радует меня, друг мой. Твоё усугублённое неверие было неизбежным на пути к свету истины. Ты должен душевно определиться, понять соотношение добра и зла в человеческой жизни. и должен — выбирать.
Сологдин смотрел на Нержина со значительностью, но тот не выразил намерения тут же вникнуть и выбрать между добром и злом. Надев малую ему сорочку и продевая руки в комбинезон, Глеб отговорился:
— А почему в таком важном заявлении ты не напоминаешь, что разум твой — слаб и ты — «источник ошибок»? — И, как впервые, вскинулся и посмотрел на друга: — Слушай, а в тебе всё-таки… «Свет истины» — и «проституция есть нравственное благо»?
Сологдин обнажил в довольной улыбке неполный ряд округло-продолговатых зубов:
— Но кажется, я это положение успешно защитил?
— Ну да, но чтоб в одной черепной коробке, в одной груди…
— Такова жизнь, приучайся. Откроюсь тебе, что я — как составное деревянное яйцо. Во мне — девять сфер.
— Сфера — «птичье слово»!
— Виноват. Видишь, как я неизобретателен. Во мне — девять… ошарий. и редко кому я даю увидеть внутренние. Не забывай, что мы живём под закрытым забралом. Всю жизнь — под закрытым забралом! Нас вынудили. А люди и вообще, и без этого, — сложней, чем нам рисуют в романах. Писатели стараются объяснять нам людей до конца — а в жизни мы никогда до конца не узнаём. Вот за что люблю Достоевского: Ставрогин! Свидригайлов! Кириллов! — что за люди? Чем ближе с ними знакомишься, тем меньше понимаешь.
Куцее полотенце Нержин повесил себе на шею вроде кашне, а на голову нахлобучил старую фронтовую офицерскую шапку, уже расходящуюся по швам, надел и телогрейку.
— Я с тобой не согласен. Разве когда новичок переступает порог камеры, а ты на него свесился с нар, прорезаешь глазами, — разве тут же, в первое мгновение, ты не даёшь ему оценки в главном — враг он или друг? и всегда безошибочно, вот удивительно! А ты говоришь — так трудно понять человека? Да вот — как мы с тобой встретились? Мне показалось — иконный лик! Позже-то я доглядел, что ты — нисколько не святой, не стану тебе льстить…
Сологдин рассмеялся.
— …У тебя лицо совсем не мягкое, но оно — необыкновенное… и сразу же я почувствовал к тебе доверие и уже через пять минут рассказывал тебе…
— Я был поражён твоей опрометчивостью.
— Но человек с такими глазами — не может быть стукачом!
— Очень дурно, если меня легко прочесть. В лагере надо казаться заурядным.
— и в тот же день, наслушавшись твоих евангельских откровений, я закинул тебе вопросик…
— …Карамазовский.
— Да, ты помнишь! — что делать с урками? и ты сказал? — перестрелять! А?
Нержин и сейчас смотрел, как бы проверяя: может, Сологдин откажется?
Но невзмучаема была голубизна глаз Дмитрия Сологдина. Картинно скрестив руки на груди — ему очень шло это положение, — он произнёс приподнято:
— Друг мой! Только те, кто хотят погубить христианство, только те понуждают его стать верованием кастратов. Но христианство — это вера сильных духом. Мы должны иметь мужество видеть зло мира и искоренить его. Погоди, придёшь к Богу и ты. Твоё ни-во-что-не-верие — это не почва для мыслящего человека, это — бедность души.
Нержин вздохнул.
— Ты знаешь, я не против того, чтобы признать Творца Мира, некий Высший Разум Вселенной. Да я даже ощущаю его, если хочешь. Но неужели, если б я узнал, что Бога нет, — я был бы менее морален?
— Без-условно!!
— Не думаю. и почему обязательно ты хочешь, вы всегда хотите, чтоб непременно признать не только Бога вообще, но обязательно конкретного христианского… А в чём пошатнётся мой философский деизм, если я узнаю, что из евангельских чудес ни одного вовсе не было? Да ни в чём!
Сологдин строго поднял руку с вытянутым пальцем:
— Нет другого пути! Если ты усумнишься хоть в одном догмате веры, хоть в одном слове Писания, — всё разрушено!! ты — безбожник!
Он так секанул рукою по воздуху, будто в ней была сабля.
— Вот так вы и отталкиваете людей! Всё — или ничего! Никаких компромиссов, никакой поблажки. А если я в целом принять не могу? что мне выдвинуть? чем загородиться? Я и говорю: я только то и знаю, что ничего не знаю.
Взял пилу, подмастерье Сократа, и другой ручкой протянул Сологдину.
— Ладно, об этом — не на дровах, — согласился тот.
Они уже обстывали и весело взялись за пиление. Они пилили с тем особенным рвением и наслаждением, какое даёт неподневольный и не вызванный нуждою труд. Мерная работа вносила покой и перестраивала мысли.
Горка чурбаков напиленных растёт.
— А не хватит? Небось не переколем.
— Отдохнём.
Отставили пилу. Оба стянули с голов шапки. От густых волос Нержина и редеющих волос Сологдина пошёл пар. Они дышат глубоко.
СОЛОГДИН: Но если тебя сейчас отправят в лагерь, — как же будет с твоей работой по Новому Смутному Времени?
— Да как? Ведь я не избалован и здесь. Хранение единой строки одинаково грозит мне казематом что там, что здесь. Допуска в публичную библиотеку у меня нет и тут. К архивам меня и до смерти, наверно, не подпустят. Если говорить о чистой бумаге, то уж бересту или сосновую кору найду я и в тайге. А преимущества моего никакими шмонами не отнять: горе, которое я испытал и вижу на других, может мне немало подсказать догадок об истории нашей революции, а? Как ты думаешь?
— Ве-ли-ко-лепно!! — густым выдохом отдал Сологдин. — Значит, ты кое-что уже понял. Значит, ты уже отказался сперва пятнадцать лет читать все книги по заданному вопросу?
— Отчасти — да, отчасти — где ж я их возьму?
— Без «отчасти»! — предупредительно воскликнул Сологдин. — Ты пойми: мысль!! — Он вскинул голову и руку. — Первоначальная сильная мысль определяет успех всякого дела! и мысль должна быть — своя! Мысль, как живое древо, даёт плоды, только если развивается естественно. А книги и чужие мнения — это ножницы, они перерезают жизнь твоей мысли! Сперва надо все мысли найти самому — и только потом сверять с книгами.
Сологдин испытующе посмотрел на друга:
— А тридцать красных томиков ты по-прежнему собираешься читать от корки до корки?
— Да! Понять Ленина — это понять половину революции. А где он лучше сказался, чем в своих книгах? и я найду их везде, в любой избе-читальне.
Сологдин потемнел, надел шапку и неудобно присел на козлы.
— Ты — безумец. Ты себе всю голову затарабаришь. Ты ничего не совершишь! Мой долг — предостеречь тебя. Охвати жизнь Ленина одним оком, увидь в ней главнейшие перерывы постепенности, крутые смены направлений — и прочти только то, что относится к ним. Как он вёл себя в эти мгновения? Тут — весь человек. А остальное тебе совершенно незачем.
Сологдин озабоченно накинул телогрейку, пересел на козлах иначе, но всё так же неудобно.
— Ты взволновал меня, Глебчик. Теперь твой отъезд может наступить внезапно. Мы расстанемся. Один из нас погибнет. Или оба. Доживём ли мы, когда люди будут открыто встречаться и разговаривать? Мне хотелось бы успеть поделиться с тобой хоть… Хоть некоторыми выводами о путях создания — единства цели, исполнителя и его работы. Они могут оказаться тебе полезными. Разумеется, мне очень помешает моё косноязычие, я как-нибудь неуклюже это изложу…
— Ну да, твоя слабая память, — убыстрял и помогал Нержин. — и то, что ты — «сосуд ошибок»…
— Да, да, именно, — Сологдин подтвердил минующей улыбкой. — Так вот, зная своё несовершенство, я много лет в тюрьме вырабатывал для себя эти правила, которые железным обручем собирают волю.
А свет дня всё прибывает. Солнце колебалось: показаться или нет. Вдалеке, перед штабом спецтюрьмы, под купою волшебно-обелённых лип мелькала утренняя арестантская прогулка. Видно было и как Рубин пытался теперь прорваться «на дрова», но надзиратель уже его не пускал: поздно.
— Смотри, вон Лёвка с растрёпанной бородой. Проспал.
— Так вот хочешь, я буду каждое утро сообщать тебе оттуда какие-нибудь положения?
— Давай. Попробуем.
— Ну, например: как относиться к трудностям?
— Не унывать?
— Этого мало.
Мимо Нержина Сологдин смотрел за зону, где на зарослях проступала неуверенная розоватость. Лицо Сологдина, собранное, худощавое, со светлой курчавящейся бородкой и короткими светлыми усами, чем-то напоминало лик Александра Невского.
— Как относиться к трудностям? — вещал он. — В области неведомого надо рассматривать трудности как скрытый клад! Обычно: чем труднее, тем полезнее. Не так ценно, если трудности возникают от твоей борьбы с самим собой. Но когда трудности исходят от увеличившегося сопротивления предмета — это прекрасно!! — Словно розовая заря промелькнула по разрумяненному лицу Александра Невского, неся в себе отблеск прекрасных, как солнце, трудностей. — Самый благодарный путь исследования: наибольшее внешнее сопротивление при наименьшем внутреннем. Неудачи следует рассматривать как необходимость дальнейшего приложения усилий и сгущения воли. А если усилия уже были приложены значительные — тем радостней неудачи! Это значит, что наш лом ударил в железный ящик клада!! и преодоление увеличенных трудностей тем более ценно, что в неудачах происходит рост исполнителя, соразмерный встреченной трудности!
— Здорово! Сильно! — отозвался Нержин с чурбаков.
— Это не значит, что никогда нельзя отказаться от дальнейших усилий. Наш лом мог ударить и в камень. Убедясь в том, или при недостаточных средствах, или при резко враждебной среде можно отказаться даже от самой цели. Но важно строжайше обосновать отказ!
— А с этим я бы… не согласился, — протянул Нержин. — Какая среда враждебней тюрьмы? Где недостаточней наши средства? А мы же своё ведём. Отказаться сейчас — может быть и навеки отказаться.
Оттенки зари перешли по кустарнику и были уже погашены сплошными серыми облаками.
Словно отводя глаза от читаемых им скрижалей, Сологдин рассеянно посмотрел вниз на Нержина. и опять стал как бы читать, слегка нараспев:
— Теперь послушай: правило последних вершков! Область последних вершков! — на Языке Предельной Ясности сразу понятно, что это такое. Работа уже почти окончена, цель уже почти достигнута, всё как будто совершено и преодолено, но качество вещи — не совсем то! Нужны ещё доделки, может быть, ещё исследования. В этот миг усталости и довольства собой особенно соблазнительно покинуть работу, так и не достигнув вершины качества. Работа в области последних вершков очень, очень сложна, но и особенно ценна, ибо выполняется самыми совершенными средствами! Правило последних вершков в том и состоит, чтобы не отказываться от этой работы! и не откладывать её, ибо строй мысли исполнителя уйдёт из области последних вершков! и не жалеть времени на неё, зная, что цель всегда — не в скорейшем окончании, а в достижении совершенства!!
— Хор-рошо! — прошептал Нержин.
Голосом совсем другим, грубовато-насмешливым, Сологдин сказал:
— Что же вы, младший лейтенант? Я вас не узнаю. Почему вы задержали топор? Уже нам не осталось времени и колоть.
Луноподобный младший лейтенант НАДЕЛАШИН, приспев семенящими шажками и смешно отдуваясь, подал топор, виновато улыбнулся и живо ответил:
— Нет, я очень, очень прошу вас, Сологдин, наколите дров! На кухне нет нисколько, не на чем обед готовить. Вы не представляете, сколько у меня и без вас работы!
— Че-го? — фыркнул Нержин. — Работы? Младший лейтенант! Да разве вы — работаете?
Своим лунообразным лицом дежурный офицер обернулся к Нержину. Нахмурив лоб, сказал по памяти:
— «Работа есть преодоление сопротивления». Я при быстрой ходьбе преодолеваю сопротивление воздуха, значит, я тоже работаю. — и хотел остаться невозмутимым, но улыбка осветила его лицо, когда Сологдин и Нержин дружно захохотали в легко-морозном воздухе. — Так наколите, я прошу вас!
И, повернувшись, засеменил к штабу спецтюрьмы, где как раз в этот момент промелькнула в длинной шинели подтянутая фигура её начальника.
— Глебчик, — удивился Сологдин, — мне изменяют глаза? Подполковник? Зачем он в воскресенье?
— Ты разве не знаешь? Шесть человек на свидание едут.
— Едут? Да-а… — с той же горечью позавидовал и Сологдин. А мне мою Ниночку не увидеть теперь никогда… — и вдруг заговорил быстро:
— Глеб! А ведь твоя жена знает мою. Если поедешь на свидание, постарайся попросить Надю, чтоб она разыскала Ниночку, — ведь она из страха прекратила переписку, — и обо мне передала б ей только три слова (он взглянул на небо): любит! преклоняется! боготворит!
— Да отказали мне в свидании, что с тобой? — раздосадовался Нержин, приловчаясь располовинить чурбак.
— А посмотри!
Нержин оглянулся. Наделашин спешил к ним сюда и издали манил пальцем. Уронив колун, с коротким звоном свалив прислоненную пилу на землю, Глеб побежал, как мальчик.
Сологдин проследил, как Наделашин завёл Нержина в штаб, потом поправил чурбак на попа и с таким ожесточением размахнулся, что не только развалил его на две плахи, но ещё вогнал колун в землю.
Шарашка. Полукруглая камера.
Очень светлая: пять высоких больших окон по полуокружности. Зэки в движении, входят, выходят. Кто — только сейчас идёт умываться. Кровати у кого застелены, кто только застилает. ПРЯНЧИКОВ ещё в нижнем белье, сидит на койке и, размахивая руками и хохоча, расказывает, уже не в первый раз, как его принимал министр. В шутку кричат:
— Наказать его ремнями! Как он мог не сказать — про свидания!
— Про письма! про прогулки!
— Да господа! да и вы бы растерялись! кто угодно! Везут — по самому центру Москвы, по вечерним улицам! Гуляющая толпа — шляпки, вуалетки, чернобурки! Кажется, прямо через стёкла машины — ощущаю женские духи! Изящная жизнь! феерия! и я — прямо среди них! Никакой тюрьмы нет!
— Нет, немедленно высечь! ремнями!
Даже пытаются его схватить в несколько рук. Хохот.
На нижней койке лучевого прохода к центральному окну ПОТАПОВ за тумбочкой пьёт чай, наблюдает за общей забавой и вытирает слёзы смеха под очками. Его кровать застелена как жёсткий параллелепипед.
ГОЛОС ЗА КАДРОМ:
Никому, кто знал Потапова в юности, а тем более ему самому, не могло бы пригрезиться, что, когда ему стукнет сорок лет, его посадят в тюрьму по политической статье. Друзья Потапова справедливо называли его роботом. Жизнь Потапова была — только работа; даже трёхдневные праздники томили его, а отпуск он взял за всю жизнь один раз — когда женился. В остальные годы не находилось кем его заменить, и он охотно от отпуска отказывался. Становилось ли худо с хлебом, с овощами или с сахаром — он мало замечал эти внешние события: он сверлил в поясе ещё одну дырочку, затягивался потуже и продолжал бодро заниматься единственным, что было интересного в мире, — высоковольтными передачами. Он, кроме шуток, очень смутно представлял себе других, остальных людей, которые занимались не высоковольтными передачами. Тех же, кто вообще руками ничего не создавал, а только кричал на собраниях или писал в газетах, Потапов и за людей не считал. Он заведовал всеми электроизмерительными работами на Днепрострое, и на Днепрострое женился, и жизнь жены, как и свою жизнь, отдал в ненасытный костёр пятилеток.
В сорок первом году они уже строили другую станцию. У Потапова была броня от армии. Но, узнав, что Днепрогэс, творение их молодости, взорван, он сказал жене:
— Катя! А ведь надо идти.
И она ответила:
— Да, Андрюша, иди!
И Потапов пошёл — в очках минус три диоптрии, с перекрученным поясом, в складчато-сморщенной гимнастёрке и с кобурой пустой, хотя носил один кубик в петлице, — на втором году хорошо подготовленной войны ещё не хватало оружия для офицеров. Под Касторной, в дыму от горящей ржи и в июльском зное, он попал в плен. Из плена бежал, но, не добравшись до своих, второй раз попал. и убежал во второй раз, но в чистом поле на него опустился парашютный десант — и так попал он в третий раз.
Потом он прошёл каннибальские немецкие лагеря Новоград-Волынского и Ченстоховы, где ели кору с деревьев, траву и умерших товарищей. Из такого лагеря немцы вдруг взяли его и привезли в Берлин и там предложили ему работать по инженерной специальности — но он отказался и снова канул в лагерь военнопленных. и за всё это советский трибунал гуманно присудил Потапову всего лишь десять лет.
Вбегает НЕРЖИН. Сбросив ботинки, лезет на верхнюю, как раз над Потаповым, койку.
НЕРЖИН: Андреич! Представляете? Мне — свидание объявили, прям’ щас, неожиданно!
ПОТАПОВ (голос глухой, с потрескиванием, очень доброжелательный): Да ну! Со старухой? и как раз в день рождения.
НЕРЖИН: Да неужели вы помните?
ПОТАПОВ: Ку-ку. А какие ж ещё даты остались в нашей жизни? Посмотрите у себя под подушкой.
Нержин поднимает подушку — там лежит портсигар из красной прозрачной пластмассы. Внутри — записочка.
НЕРЖИН (читает вслух): «Вот как убил он десять лет, утратя жизни лучший цвет». (Свесился вниз головой.) Андреич, спасибо! Но мне неловко. Ведь я вам ничего подобного подарить не могу, у меня рук таких нет.
ПОТАПОВ (лукаво-добрая морщинистость на его лице): Когда я сидел на Лубянке с герцогом Эстергази вдвоём в камере, вынося, вы ж понимаете, парашу по чётным числам, а он по нечётным, — я подарил ему в день рождения три пуговицы из хлеба, у него было всё начисто обрезано — и он клялся, что даже ни от кого из Габсбургов не получал подарка более своевременного.
НЕРЖИН: Первый раз я услышал ваше «ку-ку!», когда в Бутырках пополз под нары ложиться и спросил: «Кто последний?» В полутьме слышу: «Ку-ку, за мной будете».
ПОТАПОВ: Теперь идите подбирать прокатный костюм.
В широкие двери, под аркой, поспешно втискиваются несколько зэков. Кто-то кричит:
— Поверка!
Входят два дежурных офицера: луноликий НАДЕЛАШИН и старший лейтенант ШУСТЕРМАН — высокий, черноволосый, хмуро-строгий.
Молчание. Тишина. Все зэки неподвижны, кто стоит, кто сидит. Шустерман зорко оглядывает, пересчитывает. Кончил. Кивнул Наделашину: все на месте.
НАДЕЛАШИН: Едущим на свидание — явиться в штаб к десяти утра.
ГОЛОС: А кино сегодня будет?
НАДЕЛАШИН (извинительно): Нет, не будет…
Лёгкий гул недовольства. С койки в углу
ХОРОБРОВ: и совсем не возите, чем такое говно, как «Кубанские казаки»!
Шустерман резко обернулся, засекая говорящего.
ГОЛОС (в тишине, негромко): Всё, в личное дело записано.
ХОРОБРОВ: Да драть их в перегрёб, пусть пишут! На меня там уже столько написано, что в папку не помещается.
С верхней койки свесив длинные ноги, ещё в белье и лохматый
ДВОЕТЁСОВ: Младший лейтенант! А что с ёлкой? Разрешили ёлку?
НАДЕЛАШИН (с приятностью): Да, подполковник только что поручил мне объявить: разрешает ёлку! Вот здесь, в полукруглой и поставим.
ДОРОНИН (весело): Так можно игрушки делать?
Уже полностью одет, он у себя на верхней койке, поставив зеркальце на подушку, завязывает галстук.
НАДЕЛАШИН: Об этом спросим, указаний нет.
— Какие ж вам указания?
— Какая ж ёлка без игрушек? Ха-ха-ха!
— Друзья! Делаем игрушки!
— Спокойно, парниша! А как насчёт кипятка?
Зэки загудели, весело обсуждая ёлку. Офицеры уже повернулись уходить, как вослед им
ХОРОБРОВ (резким вятским говором): Причём доложите там, чтоб ёлку нам оставили до православного Рождества! Ёлка — это Рождество, а не Новый год!
Надзиратели ушли. Зэки говорят почти все сразу, кто о чём. По соседству с Хоробровом медлительный АБРАМСОН, протирая вспотевшие от чая очки:
— Илья Терентьич, забываешь вторую арестантскую заповедь: «не залупайся».
ХОРОБРОВ: Это — старая заповедь гиблого вашего поколения. Были вы смирны, всех вас и переморили.
АБРАМСОН (пожав плечами): Будешь скандалить — ушлют. В каторжный лагерь какой-нибудь.
ХОРОБРОВ: А я, Григорий Борисыч, этого и добиваюсь! В каторжный так в каторжный, драть его вперегрёб, по крайней мере в весёлую компанию попаду. Может, хоть там свобода слова, стукачей нет.
РУБИН со взъерошенной бородой подошёл к койке Потапова — Нержина и наверх, Нержину:
— С днём рожденья тебя, мой юный Монтень, мой несмышлёныш пирронид… и желаю тебе, чтобы скептико-эклектические твои мозги осиял свет истины.
НЕРЖИН: Ах, какая ещё истина, старик! Разве кто-нибудь знает, что есть истина?
На соседней верхней койке, над Прянчиковым, плешивый инженер степенных лет, широко развернув, читает газету. То хмурится, то шевелит губами. Когда же из коридора доносится раскатистый электрический звонок, с досадой складывает газету как попало:
— Да что это всё, лети его мать, заладили про мировое господство да мировое господство?
Зашвырнул газету на широкий подоконник. С другой стороны комнаты верзила ДВОЕТЁСОВ, уже натянув неряшливый комбинезон и с неудобством топча и стеля под собой верхнюю постель, басом:
— Кто заладил, Земеля?
— Да все они там.
— А ты — к мировому господству не стремишься?
— Я-то? Не-ет. На хрена мне оно? Не стремлюсь.
И, кряхтя, слезает, идти на работу. Двоетёсов всею тушей гулко спрыгнул на пол. Он идёт на работу непричёсанный, неумытый, с недостёгнутым комбинезоном. Звонок ещё звенит. Большинство зэков выходит. Рубин, как всегда ничего не успевший, поспешно составляет в свою тумбочку недоеденное и недопитое и хлопочет около своей горбатой растерзанной постели, чтоб только не вызвали его потом перезаправлять. Полукруглая комната опустела, тишина. Осталась дюжина двойных коек, в одном углу не пошедшие на работу Хоробров и Абрамсон да освобождённый на воскресенье по болезни робкий лысенький конструктор. Он разложил на койке несколько рваных носков, нитки, самодельный картонный гриб и соображает, с чего начинать. Да переодевается Нержин — в маскарадный костюм, непременно выдаваемый на свидание, цветную рубашку, галстук.
Абрамсон, напротив, опять разделся до белья, удобно подвысил подушку, лёг под одеяло, протёр очки и достал из-под матраса толстенькую книжку. Приудобился читать.
ГОЛОС ЗА КАДРОМ:
Абрамсон, законно оттянувший уже одну десятку (не считая шести лет сибирской ссылки перед тем) и посаженный на вторую десятку, — не то чтобы совсем не выходил по воскресеньям, но старался не выходить. Когда-то, в комсомольское время, его за уши было не оторвать от субботников и воскресников. Но эти воскресники понимались тогда как порыв, чтобы наладить хозяйство: год-два — и всё пойдёт великолепно, и начнётся всеобщее цветение садов. Однако шли десятилетия, пылкие воскресники стали нудьгой и барщиной, а посаженные деревья всё не зацветали и даже большей частью были переломаны гусеницами тракторов. и хотя из соображений общих, соотнося с неутерянной и единственно возможной коммунистической целью человечества, все эти субботники и воскресники были несомненно нужны, — сам Абрамсон потерял силы участвовать в них. Теперь он был из немногих тут, кто уже отсидел и пересидел эти страшные полные десять лет и знал, что это не миф, не бред трибунала, не анекдот до первой всеобщей амнистии, в которую всегда верят новички, — а это полные десять, и пятнадцать изнурительных лет человеческой жизни. Он давно научился экономить на каждом движении мышцы, на каждой минуте покоя. и он знал, что самое лучшее, как надо проводить воскресенье, — это неподвижно лежать в постели раздетому до белья.
А Хоробров томится. На подоконниках лежали и газеты, да уже читанные, и два десятка книг. Он пересмотрел все названия, с негодованием отбрасывая.
ХОРОБРОВ: Ну, библиотечка у нас! Что ни возьми — мерзость, нечего читать!
ГОЛОС ЗА КАДРОМ:
Хоробров был вятич, и из самого медвежьего угла — из-под Кая, откуда сплошным тысячевёрстным царством не в одну Францию по болотам и лесам раскинулась страна ГУЛАГ. Он навиделся и понимал побольше многих, ему иногда становилось так невперетерп, что от казённой советской брехни — хоть лбом колотись о чугунный столб уличного репродуктора. Наконец в первые послевоенные выборы его задавленная жажда высказаться прорвалась, и на избирательном бюллетене подле вычеркнутого им кандидата он написал мужицкое ругательство. Это было время, когда из-за нехватки рабочих рук не восстанавливались жилища, не засевались поля. Но несколько лбов-сыщиков в течение месяца изучали почерки всех избирателей участка — и Хоробров был арестован.
А у Абрамсона книжка — явно какая-то с воли. Хоробров подошёл к Абрамсону и тихо: — Григорий Борисыч. Дай на оголовочек зирнуть.
— Ну, зирни.
Книга обёрнута, название скрыто, но Абрамсон молча раскрыл титульный лист: «Граф Монте Кристо». Хоробров только свистнул. и ласково:
— Борисыч! За тобой — никого? Я — не успею?
— А ты меня сегодня подстрижёшь?
— Подстригу.
— Ладно. Тут кусок вынимается до сто двадцать восьмой, скоро дам.
Хоробров, весело разминая папиросу, пошёл курить в коридор. А конструктор над своей штопкой что-то кроит, перекладывает. Абрамсон, щурясь с подушки, поучает его:
— Штопка только тогда эффективна, когда она добросовестна. Боже вас упаси от формального отношения. Не торопитесь, кладите к стежку стежок и каждое место проходите крест-накрест дважды. Потом распространённой ошибкой является использование гнилых петель у края рваной дыры. Не дешевитесь, не гонитесь за лишними ячейками, обрежьте дыру вокруг. Вы фамилию такую — Беркалов — слышали?
— Что? Беркалов? Нет.
— Ну ка-ак же! Беркалов — старый артиллерийский инженер, изобретатель этих, знаете, пушек БС-3, замечательные пушки, у них начальная скорость сумасшедшая. Так вот Беркалов так же в воскресенье, так же на шарашке сидел и штопал носки. А включено радио. «Беркалову, генерал-лейтенанту, сталинскую премию первой степени». А он до ареста всего генерал-майор был. Да. Ну что ж, носки заштопал, стал на электроплитке оладьи жарить. Вошёл надзиратель, накрыл, плитку незаконную отнял, на трое суток карцера составил рапорт начальнику тюрьмы. А начальник тюрьмы сам бежит как мальчик: «Беркалов! С вещами! В Кремль! Калинин вызывает!» Такие вот русские судьбы…
Шарашка. Просторная комната в тюремном штабе.
Шестеро зэков, уже в костюмах, проходят тщательный обыск у троих надзирателей, после чего переступают невидимую черту — в другую половину комнаты. Надзиратели проверяют все карманы, при распахнутом пиджаке прощупывают его, обхлопывают и рубашку под ним, брюки; у кого папиросы — просматривают мундштуки, проверяют и коробки спичек; велят расшнуровывать и снимать ботинки, прощупывают носки. Разряженные зэки охотно всё выполняют. У стены, против черты обыска, стоит и зорко наблюдает подполковник КЛИМЕНТЬЕВ, выблещенный, ровный, как кадровый перед парадом. Чёрные слитые усы.
КЛИМЕНТЬЕВ (Шустерману): А где седьмой, Нержин?
ШУСТЕРМАН (тихо): Там, в Акустической, генералы. Задерживается.
КЛИМЕНТЬЕВ: Постарайтесь вызвать.
Шустерман уходит. Обыск кончается. Надзиратели стали по «смирно».
КЛИМЕНТЬЕВ: Внимание! Порядок известен? Родственникам ничего не передавать. От родственников ничего не принимать. Все передачи — только через меня. В разговорах не касаться: работы, условий труда, условий быта, распорядка дня, расположения объекта. Не называть никаких фамилий. О себе можно только сказать, что всё хорошо и ни в чём не нуждаетесь.
— О чём же говорить? О политике?
Климентьев даже не затруднился на это ответить.
— О своей вине, — мрачно посоветовал другой из арестантов. — О раскаянии.
— О следственном деле тоже нельзя, оно — секретное, — невозмутимо отклонил Климентьев. — Расспрашивайте о семье, о детях. Дальше. Новый порядок: с сегодняшнего свидания запрещаются рукопожатия и поцелуи.
— Раз в год видимся… — хрипло выкрикнул кто-то, и Климентьев довернулся в его сторону, ожидая, что выпалит дальше. Тот почти предуслышал, как Климентьев рявкнет сейчас: «Лишаю свидания!!»
И задохнулся.
Не встретив бунта, Климентьев безстрастно и точно довесил:
— В случае поцелуя, рукопожатия или другого нарушения — свидание немедленно прекращается.
— Но жена-то не знает! Она меня поцелует!
— Родственники также будут предупреждены!
— Никогда такого порядка не было!
— А теперь — будет.
— Сколько времени свидание?
— А если мать придёт — мать не пустите?
— Свидание тридцать минут. Пускаю только того одного, на кого написан вызов.
— А дочка пяти лет?
— Дети до пятнадцати лет проходят со взрослыми.
— А шестнадцати?
— Не пропустим. Ещё вопросы?
Снаружи, перед дверью штаба.
Голубой городской автобус уменьшенных размеров. Трое надзирателей, каких-то новых, переодетых в гражданскую одежду, в мягких шляпах, держа руки в карманах (там пистолеты), вошли в автобус первыми и заняли три угла. Двое из них имеют вид не то боксёров в отставке, не то гангстеров. Очень хороши на них пальто.
Утренний иней уже изникал. Ни морозца, ни оттепели.
Семеро заключённых (уже и Нержин) поднялись в автобус через единственную переднюю дверцу и расселись.
Зашли четыре надзирателя в форме.
Шофёр захлопнул дверцу и завёл мотор.
Подполковник Климентьев сел в легковую.
В автобусе, по московским улицам.
Сперва, огибая здание шарашки с фасадной стороны, — по тюремному двору.
На мягком сиденьи, ослонясь о мягкую спинку, Нержин занял место у окна. Рядом с ним на двухместном диванчике сел ГЕРАСИМОВИЧ, физик-оптик, узкоплечий невысокий человек с тем подчёркнуто-интеллигентским лицом, да ещё в пенсне, с каким рисуют на наших плакатах шпионов.
— Вот, кажется, ко всему я привык, — негромко поделился с ним Нержин. — Могу довольно охотно садиться голой задницей на снег, и двадцать пять человек в купе, и конвой ломает чемоданы — ничто уж меня не огорчает и не выводит из себя. Но тянется от сердца на волю ещё вот эта одна живая струнка, никак не отомрёт — любовь к жене. Не могу, когда её касаются. В год увидеться на полчаса — и не поцеловать? За это свидание в душу наплюют.
ГЕРАСИМОВИЧ сдвинул тонкие брови:
— Вероятно, есть только один путь к неуязвимости: убить в себе все привязанности и отказаться от всех желаний.
Перед вахтой автобус остановился. Вахтенный сержант поднялся на ступеньки, всунулся в дверцу автобуса и дважды пересчитал глазами выезжавших арестантов. Потом полез под автобус, проверил, никто ли там не уцепился на рессорах (безплотный бес не удержался бы там минуты), ушёл на вахту — и только тогда отворились первые ворота, а затем вторые. Автобус пересек зачарованную черту и, пришёптывая весёлыми шинами, побежал по обындевевшему Владыкинскому шоссе мимо Ботанического сада.
ГОЛОС ЗА КАДРОМ:
Глубокотайности своего объекта обязаны были марфинские зэки этими поездками на свидания: приходящие родственники не должны были знать, где живут их живые мертвецы, везут ли их за сто километров или вывозят из Спасских ворот, привозят ли с аэродрома или с того света, — они могли только видеть сытых, хорошо одетых людей с белыми руками, утерявших прежнюю разговорчивость, грустно улыбающихся и уверяющих, что у них всё есть и им ничего не надо.
Эти свидания были что-то вроде древнегреческих стел — плит-барельефов, где изображался и сам мертвец, и те живые, кто ставили ему памятник. Но была на стелах всегда маленькая полоса, отделявшая мир тусторонний от этого. Живые ласково смотрели на мёртвого, а мёртвый смотрел в Аид, смотрел не весёлым и не грустным — прозрачным, слишком много узнавшим взглядом.
Автобус катит по оснеженной дороге с проложенными чёрными прокатинами от шин, мимо белого парка в инее, густо закуржавевших его ветвей. Оставив слева Останкинский дворец, а справа — озеро с разноцветными ребятишками на коньках, автобус углубился в мелкие улицы и подрагивал на булыжнике.
Здесь чередили одноэтажные и двухэтажные, давно не ремонтированные, с облезлой штукатуркою дома, наклонившиеся деревянные заборы. Верно, с самой войны так и не притрагивались к ним, на что-то другое потратив усилия, не доставшие сюда.
НЕРЖИН: Собственно, вернуться нам уже нельзя, когда и освободимся. За тюремные годы ни единой клеточки тела, может быть, не останется той, что была. Можно только прийти заново. Придёт новый незнакомый человек, носящий фамилию прежнего мужа, прежняя жена увидит, что того, её первого и единственного, которого она столько лет ожидала, замкнувшись, — того человека уже нет, он испарился — по молекулам.
Автобус выскочил на обширную многолюдную площадь Рижского вокзала. В мутноватом инеисто-облачном дне сновали трамваи, троллейбусы, автомобили, люди, — но кричащий цвет был один: яркие красно-фиолетовые мундиры милиционеров.
Нержин наклонился к уху Герасимовича:
— До того люди задурены, что стань сейчас посреди улицы, кричи «долой тирана! да здравствует свобода!» — так даже не поймут, о каком таком тиране и о какой ещё свободе речь.
Герасимович прогнал морщины по лбу снизу вверх.
— А вы уверены, что вы, например, понимаете?
— Да полагаю, — кривыми губами сказал Нержин.
— Не спешите утверждать. Какая свобода нужна разумно построенному обществу — это очень плохо представляется людьми.
— А разумно построенное общество — представляется? Разве оно возможно?
— Думаю, что — да.
— Даже приблизительно вы мне не нарисуете. Это ещё никому не удалось.
— Но когда-то же удастся, — со скромной твёрдостью настаивал Герасимович.
Испытно они посмотрели друг на друга.
— Послушать бы, — ненастойчиво выразил Нержин.
— Как-нибудь, — кивнул Герасимович маленькой узкой головой.
И — опять оба тряслись, вбирали улицу глазами и отдались перебойчатым мыслям.
…На остановках грудились безпорядочные очереди. Когда подходил троллейбус, одни стояли в хвосте, другие проталкивались локтями. У Садового кольца полупустой заманчивый голубой автобус остановился при красном светофоре, миновав общую остановку. и какой-то ошалевший москвич бросился к нему бегом, вскочил на подножку, толкал дверь и кричал:
— На Котельническую набережную идёт? На Котельническую?!..
— Нельзя! Нельзя! — махал ему рукой надзиратель.
— Идё-от! Садись, паря, подвезём! — кричал Иван-стеклодув и громко смеялся.
Засмеялись и все зэки. Москвич не мог понять, что это за автобус и почему нельзя. Но он привык, что во многих случаях жизни бывает нельзя, — и соскочил. и тогда отхлынул пяток ещё набежавших пассажиров.
Голубой автобус свернул по Садовому кольцу налево. Значит, ехали не в Бутырки, как обычно. Очевидно, в Таганку.
Нержин — опять к уху Герасимовича:
— Это в «Девяносто третьем», у Гюго. Лантенак сидит на дюне. Он видит несколько колоколен сразу, и на всех на них — смятение, все колокола гудят в набат, но ураганный ветер относит звуки, и слышит он — безмолвие. Так каким-то странным слухом ещё с отрочества я слышал этот немой набат — все живые звоны, стоны, крики, клики, вопли погибающих. А постоянный настойчивый ветер относит их от людских ушей.
ГОЛОС ЗА КАДРОМ:
Глеб вырос, не прочтя ни единой книги Майн Рида, но уже двенадцати лет он развернул громадные «Известия», которыми мог бы укрыться с головой, и подробно читал стенографический отчёт процесса инженеров-вредителей. и этому процессу мальчик сразу же не поверил. Глеб не знал — почему, он не мог охватить этого рассудком, но он явственно различал, что всё это — ложь, ложь. Он знал инженеров в знакомых семьях — и не мог представить себе этих людей, чтобы они не строили, а вредили.
Неуимчивое чувство на отгадку исторической лжи, рано зародясь, развивалось в мальчике остро. и вот самые старые большевики выходили на суд и необъяснимо каялись, многословно поносили себя самыми последними ругательствами и признавались в службе всем на свете иностранным разведкам. Это было так чрезмерно, так грубо, так через край — что в ухе визжало! Но со столба перекатывал актёрский голос диктора — и горожане на тротуаре сбивались доверчивыми овцами.
Для Глеба же всю его молодость гремел немой набат! — и неисторжимо укоренялось в нём решение: узнать и понять! откопать и напомнить!
И вечерами на бульвары родного города, где приличнее было бы вздыхать о девушках, Глеб ходил мечтать, как он когда-нибудь проникнет в самую Большую и самую Главную тюрьму страны — и там найдёт следы умерших и ключ к разгадке.
Провинциал, он ещё не знал тогда, что тюрьма эта называется Большая Лубянка.
И что если желание наше велико — оно обязательно исполнится.
…Автобус продребезжал по мосту и ещё шёл по каким-то кривым неласковым улицам.
Нержин очнулся:
— Так нас и не в Таганку? Куда такое? Ничего не понимаю.
Герасимович, отрываясь от невесёлых мыслей:
— Подъезжаем к Лефортовской.
Автобусу открыли ворота. Машина вошла в служебный дворик, остановилась перед пристройкой к высокой тюрьме. В дверях уже стоял подполковник Климентьев — молодо, без шинели и шапки.
Было, правда, маломорозно. Под густым облачным небом распростёрлась безветренная зимняя хмурь.
По знаку подполковника надзиратели вышли из автобуса, выстроились рядком — и арестанты, не имея времени оглядеть главный корпус тюрьмы, перешли вслед за подполковником.
СЕРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ
Шарашка.
У домика вахты дощаные ворота в проволочном заборе распахиваются для двух длинных автомобилей, стража взяла под козырёк. Отсюда виден полукруглый нос семинарского здания под куполом и с башенкой. Автомобили берут от здания влево, к парадному подъезду. Из автомобилей выходят СЕЛИВАНОВСКИЙ и ещё три генерала. Им распахивают двери на высокую прямую парадную лестницу с красным ковром. Но на площадке её (уже снизу заметно) — смятение дежурных офицеров. Один из них по завороту лестницы бежит на третий этаж. Другой дожидается генералов, приглашает их дальше на третий. Там своя суматоха, у телефонов. Не сразу рапорт:
— Товарищ генерал-лейтенант! К сожалению, инженер-полковник Яконов не на работе, он лежит дома в сердечном припадке. Но уже сейчас выезжает сюда!
А поспевает майор РОЙТМАН — худенький, с перехватом в талии, с неловкой портупеей:
— Товарищ генерал-лейтенант! Инженер-майор Ройтман, начальник Акустической лаборатории!
— А, тебя-то нам и надо. Пойдём.
Все генералы входят в кабинет Яконова.
Один дежурный другому:
— Как на зло и майора Шикина нет… и парторга нет… Беги срочно оповещай все лаборатории!
Акустическая лаборатория.
Уже все оповещены о важных гостях. Кто — за работой, а кто, как РУБИН, принял рабочий вид. ПРЯНЧИКОВ — у стойки вокодера, с паяльником, тише обычного мурлыкая «Бендзи-бендзи-бендзи-баар». А НЕРЖИН, уже одетый к свиданию, застрял тут. Входит СЕЛИВАНОВСКИЙ, ещё один генерал и РОЙТМАН.
РОЙТМАН (продолжая): …У нас ведь есть прибор видимой речи — ВИР, печатающий так называемые звуковиды, и есть человек, читающий эти звуковиды. Последнее время мы и заняты тем, что ищем в звуковидах индивидуальные особенности речи. и я надеюсь, что, развернув этот разговор в звуковиды… На них речь развёртывается сразу в трёх измерениях: по частоте — поперёк ленты, по времени — вдоль ленты, по амплитуде — густотою рисунка. При этом каждый звук вырисовывается таким неповторимым, оригинальным, что его легко узнать, и даже по ленте прочесть всё сказанное. Вот… — он вёл Селивановского в глубь лаборатории, — прибор ВИР, его сконструировали в нашей лаборатории, — а вот… — он осторожно развернул замминистра к окну, — кандидат филологических наук Рубин, единственный в Советском Союзе человек, читающий видимую речь.
Рубин встал и молча поклонился.
Но ещё когда в дверях было произнесено Ройтманом слово «звуковид», Рубин и Нержин встрепенулись: их работа, над которой все до сих пор большей частью смеялись, выплывала на божий свет. За те сорок пять секунд, в которые Ройтман довёл Селивановского до Рубина, Рубин и Нержин с остротой и быстротой, свойственной только зэкам, уже поняли, что сейчас будет смотр — как Рубин читает звуковиды, и что произнести фразу перед микрофоном может только один из «эталонных» дикторов — а такой присутствовал в комнате лишь Нержин. и так же они отдали себе отчёт, что хотя Рубин действительно читает звуковиды, но на экзамене можно и сплошать, а сплошать нельзя — это значило бы кувырнуться с шарашки в лагерную преисподнюю.
И обо всём этом они не сказали ни слова, а только понимающе глянули друг на друга.
И Рубин шепнул:
— Если — ты, и фраза твоя, скажи: «Звуковиды разрешают глухим говорить по телефону».
А Нержин шепнул:
— Если фраза его — угадывай по звукам. Глажу волосы — верно, поправляю галстук — неверно.
И тут-то Рубин встал и молча поклонился.
Ройтман продолжал тем извиняющимся прерывистым голосом, который, если б услышать его даже отвернувшись, можно было бы приписать только интеллигентному человеку:
— Вот нам сейчас Лев Григорьич и покажет своё умение. Кто-нибудь из дикторов… ну, скажем, Глеб Викентьич… прочтёт в акустической будке в микрофон какую-нибудь фразу, ВИР её запишет, а Лев Григорьич попробует разгадать.
Стоя в одном шаге от замминистра, Нержин уставился в него нахальным лагерным взглядом:
— Фразу — вы придумаете? — спросил он строго.
— Нет-нет, — отводя глаза, вежливо ответил Селивановский, — вы что-нибудь там сами сочините.
Нержин покорился, взял лист бумаги, на миг задумался, затем в наитии написал и в наступившей общей тишине подал Селивановскому так, что никто не мог прочесть, даже Ройтман.
«Звуковиды разрешают глухим говорить по телефону».
— и это действительно так? — удивился Селивановский.
— Да.
— Читайте, пожалуйста.
Загудел ВИР. Нержин ушёл в будку (ах, как позорно выглядела сейчас обтягивающая её мешковина!.. вечная эта нехватка материалов на складе!), непроницаемо заперся там. Зашумел механизм, и двухметровая мокрая лента, испещрённая множеством чернильных полосок и мазаных пятен, была подана на стол Рубину.
Вся лаборатория прекратила работу и напряжённо следила. Ройтман заметно волновался. Нержин вышел из будки и издали безразлично наблюдал за Рубиным. Стояли вокруг, один Рубин сидел, посвечивая им своей просветляющейся лысиной. Щадя нетерпение присутствующих, он не делал секрета из своей жреческой премудрости и тут же производил разметку по мокрой ленте красно-синим карандашом, как всегда плохо очиненным.
— Вот видите, некоторые звуки не составляет ни малейшего труда отгадать, например ударные гласные или сонорные. Во втором слове отчётливо видно — два раза «р». В первом слове ударный звук «и» и перед ним смягчённый «в» — здесь твёрдого быть и не может. Ещё ранее — форманта «а», но следует помнить, что в первом предударном слоге как «а» произносится также и «о». Зато «у» сохраняет своеобразие даже и вдали от ударения, у него вот здесь характерная полоска низкой частоты. Третий звук первого слова, безусловно, «у». А за ним глухой взрывной, скорей всего «к»; итак, имеем: «укови» или «укави». А вот твёрдое «в», оно заметно отличается от мягкого, нет в нём полоски свыше двух тысяч трёхсот герц. «Вукови…» Затем новый звонкий твёрдый взрывок, на конце же — редуцированный гласный, это я могу принять за «ды». Итак, «вуковиды». Остаётся разгадать первый звук, он смазан, я мог бы принять его за «с», если бы смысл не подсказывал мне, что здесь — «з». Итак, первое слово — «звуковиды»! Пойдём дальше. Во втором слове, как я уже сказал, два «р» и, пожалуй, стандартное глагольное окончание «ает», а раз множественное число, значит, «ают». Очевидно, «разрывают», «разрешают»… сейчас уточню, сейчас… Антонина Валерьяновна, не вы ли у меня взяли лупу? Нельзя ли попросить на минутку?
Лупа была ему абсолютно не нужна, так как ВИР давал записи самые разляпистые, но делалось это, по лагерному выражению, для понта, и Нержин внутренне хохотал, рассеянно поглаживая и без того приглаженные волосы. Рубин мимолётно посмотрел на него и взял принесенную ему лупу. Общее напряжение возрастало, тем более что никто не знал, верно ли отгадывает Рубин. Селивановский поражённо шептал:
— Это удивительно… это удивительно…
Не заметили, как в комнату на цыпочках вошёл старший лейтенант Шустерман. Он не имел права сюда заходить, поэтому остановился вдалеке. Дав знак Нержину идти побыстрей, Шустерман вышел с ним.
Тем временем Рубин уже разгадал слово «глухим» и отгадывал четвёртое. Ройтман светился — не только потому, что делил триумф: он искренне радовался всякому успеху в работе.
— Последнее слово — «по телефону», это сочетание настолько часто у нас встречается, что я к нему привык, сразу вижу. Вот и всё.
— Поразительно! — повторял Селивановский. — Вас, простите, как по имени-отчеству?
— Лев Григорьич.
— Так вот, Лев Григорьич, а индивидуальные особенности голосов вы можете различать на звуковидах?
— Мы называем это — индивидуальный речевой лад. Да! Это представляет как раз теперь предмет нашего исследования.
— Очень удачно! Кажется, для вас есть ин-те-ресное задание.
Шарашка. Кабинет Яконова.
СЕЛИВАНОВСКИЙ, ещё два генерала. Лейтенант СМОЛОСИДОВ — мрачное лицо, чёрный чуб, чугунный взгляд, толстые губы. и РУБИН. Смолосидов пристраивает на маленьком столике магнитофон. Генерал БУЛЬБАНЮК — вся голова, как одна большая, непомерно разросшаяся картошка с выступами носа и ушей.
БУЛЬБАНЮК: Вы — заключённый, Рубин. Но вы были когда-то коммунистом и, может быть, когда-нибудь будете им опять.
РУБИН: Я и сейчас коммунист!
— Так вот, советское правительство и наши органы считают возможным оказать вам доверие. С этого магнитофона вы сейчас услышите государственную тайну мирового масштаба. Мы надеемся, что вы поможете нам изловить этого негодяя, который хочет, чтоб над его родиной трясли атомной бомбой. Само собой разумеется, что при малейшей попытке разгласить тайну вы будете уничтожены. Вам ясно?
— Ясно, — отсек Рубин, больше всего сейчас боясь, чтоб его не отстранили от ленты. Эта лента, ещё не прослушанная, уже лично задевала его.
Смолосидов включил на прослушивание.
И в тишине кабинета прозвучал с лёгкими примесями шорохов диалог нерасторопного американца и отчаянного русского.
Рубин впился в пёструю драпировку, закрывающую динамик, будто ища разглядеть там лицо своего врага. Когда Рубин так устремлённо смотрел, его лицо стягивалось и становилось жестоким. Нельзя было вымолить пощады у человека с таким лицом.
После слов: «А кто такой ви? Назовите ваш фамилия» — Рубин откинулся к спинке кресла уже новым человеком. Он забыл о чинах, здесь присутствующих, и что на нём самом давно не горят майорские звёзды. Он поджёг погасшую папиросу и коротко приказал:
— Так. Ещё раз.
Смолосидов включил обратный перемот.
Все молчали. Все чувствовали на себе касание огненного колеса.
Рубин курил, жуя и сдавливая мундштук папиросы. Его переполняло, разрывало. Разжалованный, обезчещенный — вот понадобился и он! Вот и ему сейчас доведётся посильно поработать на старуху Историю. Он снова — в строю! Он снова — на защите Мировой Революции!
Угрюмым псом сидел над магнитофоном ненавистливый Смолосидов. Чванливый Бульбанюк за просторным столом Антона с важностью подпёр свою картошистую голову, и много лишней кожи его воловьей шеи выдавилось поверх ладоней.
Они были отвратительны Рубину, смотреть на них не хотелось. Но так сложилось, что объективно на данном перекрестке истории они представляют собою её положительные силы, олицетворяют диктатуру пролетариата и его отечество.
И надо стать выше своих чувств! и им — помочь!
И надо стать выше своей несчастной судьбы! Спасать — идею. Спасать — знамя. Служить передовому строю.
Лента кончилась.
Рубин скрутил голову окурку, утопил его в пепельнице и, стараясь смотреть на Селивановского, который выглядел вполне прилично, сказал:
— Хорошо. Попробуем. Но, если у вас нет никого в подозрении, как же искать? Не записывать же голоса всех москвичей. С кем сравнивать?
Бульбанюк успокоил:
— Из Министерства иностранных дел могли знать вот эти пять. Я не беру, конечно, Громыко и ещё кое-кого. Этих пять я записал тут коротенько, без званий, и не указываю занимаемых постов, чтобы вы не боялись обвинить кого.
Он протянул ему листик из записной книжки. Там было написано:
1. Петров.
2. Сяговитый.
3. Володин.
4. Щевронок.
5. Заварзин.
Рубин прочёл и хотел взять список себе.
— Нет-нет! — живо предупредил Селивановский. — Список будет у Смолосидова.
Рубин отдал. Его не обидела эта предосторожность, но рассмешила. Как будто эти пять фамилий уже не горели у него в памяти: Петров! — Сяговитый! — Володин! — Щевронок! — Заварзин!
— Попрошу, — сухо сказал он, — от всех пятерых записать ещё телефонные разговоры.
— Завтра вы их получите.
— Ещё: проставьте около каждого возраст. — Рубин подумал. — и — какими языками владеет, перечислите.
— Да, — поддержал Селивановский, — я тоже подумал: почему он не перешёл ни на какой иностранный язык? Что ж он за дипломат? Или уж такой хитрый?
— Он мог поручить какому-нибудь простачку! — шлёпнул Бульбанюк по столу рыхлой рукой.
— Такое — кому доверишь?..
— Вот это нам и надо поскорей узнать, — толковал Бульбанюк, — преступник среди этих пяти или нет? Если нет — мы ещё пять возьмём, ещё двадцать пять!
Рубин выслушал и кивнул на магнитофон:
— Эта лента мне будет нужна непрерывно, и уже сегодня.
— Она будет у лейтенанта Смолосидова. Вам с ним отведут отдельную комнату в совсекретном секторе.
— Её уже освобождают, — сказал Смолосидов.
РУБИН: С кем ещё я могу говорить об этой работе?
СЕЛИВАНОВСКИЙ (переглянулся с Бульбанюком): Ещё только с майором Ройтманом. С Фомой Гурьяновичем. и с самим министром.
БУЛЬБАНЮК: Вы моё предупреждение всё помните? Повторить?
Рубин без разрешения встал и смеженными глазами посмотрел на генерала как на что-то мелкое.
— Я должен идти думать, — сказал он, не обращаясь ни к кому. Это — новая наука: найти преступника по отпечатку его голоса. А дактилоскопия, поиск по пальцам, складывалась столетиями.
Никто не возразил.
Рубин с затенённым лицом вышел из кабинета, прошёл мимо дежурного по институту и, никого не замечая, стал спускаться по лестнице красными дорожками.
Азарт исследователя загорался в нём.
Идёт и шепчет:
— Петров. Сяговитый. Володин. Щевронок. Заварзин.
Шарашка. Малая комната в совсекретном отделе.
Один письменный стол, один шкаф, диван. Всего два окна: на прогулочный дворик арестантов и рощицу столетних лип. За столом — профессор ЧЕЛНОВ, единственный зэк на шарашке, кому разрешено не быть в комбинезоне.
Но своей свободой выбирать одежду профессор Челнов не воспользовался, как обычные тщеславные люди: костюм он надел недорогой, и даже пиджак и брюки не совпадали по цвету; ноги он держал в валенках; на голову, где сохранились седые, очень редкие волосы, натягивал какую-то вязаную шерстяную шапочку, то ли лыжную, то ли девичью; особенно же отличал его дважды захлёстнутый вкруг плеч и спины чудаковатый шерстяной плед, тоже отчасти похожий на тёплый женский платок.
Однако этот плед и эту шапочку Челнов умел носить так, что они делали его фигуру не смешной, а величественной. Долгий овал его лица, острый профиль, властная манера разговаривать с тюремной администрацией и ещё тот едва голубоватый свет выцветших глаз, который даётся только абстрактным умам, — всё это странно делало Челнова похожим не то на Декарта, не то на Архимеда.
Ещё в комнате — СОЛОГДИН. Не следуя приглашению сесть, гибкий, чувствуя под собой твёрдые молодые ноги, он прислонился плечом к оконному косяку и впился глазами в свой рулон, лежащий на столе Челнова.
Челнов попросил открыть форточку. Сел в жёсткое кресло с прямой высокой спинкой; поправил плед на плече; открыл тезисы, написанные на листке из блокнота; взял в руки длинный отточенный карандаш, подобный копью; строго посмотрел на Сологдина.
И — как будто большие крылья всплеснули и ударили в маленькой комнате. Челнов говорил не более двух минут, но так сжато, что между его мыслями некогда было вздохнуть.
Смысл был тот, что Челнов сделал больше, чем Сологдин просил:
— Да, я провёл теоретико-вероятностную и теоретико-числовую прикидку возможностей конструкции шифратора, предлагаемой вами. Конструкция обещает результат, не очень далёкий от требуемого, по крайней мере до тех пор, пока не удастся перейти к чисто электронным устройствам. Однако необходимо: продумать, как сделать её нечувствительной к импульсам неполной энергии; уточнить значения наибольших инерционных сил в механизме, чтобы убедиться в достаточности маховых моментов. и потом… — Челнов облучил Сологдина мерцанием своего взгляда, — потом не забывайте: ваша шифровка строится по хаотическому принципу, это хорошо. Но хаос, однажды выбранный, хаос застывший, — есть уже система. Сильнее было бы усовершенствовать решение так, чтобы хаос ещё хаотически менялся.
Здесь профессор задумался, перегнул листок пополам и смолк. А Сологдин сомкнул веки, как от яркого света, и так стоял, невидящий.
Ещё при первых словах профессора он ощутил ополоснувшую его горячую волну. А сейчас плечом и боком налегал на оконный косяк, чтобы, кажется, не взмыть к потолку от ликования. Его жизнь выходила, может быть, на свою зенитную дугу.
Кому? Кому?? — неужели ему этот Декарт в девичьей шапочке говорит такие лестные слова?!..
Челнов свернул листок тезисов вчетверо, потом ввосьмеро:
— Как видите, работы ещё тут немало. Но эта конструкция будет оптимальная из пока предложенных. Она даст вам свободу, снятие судимости. А если начальство не перехватит — так и кусок сталинской премии.
Челнов улыбнулся. Улыбка у него острая и тонкая, как вся форма лица.
Улыбка его относилась к самому себе. Ему самому, сделавшему на разных шарашках в разное время много больше, чем собирался Сологдин, не угрожала ни премия, ни снятие судимости, ни свобода. Да и судимости у него не было вовсе: когда-то он выразился о Мудром Отце как о безжалостном злодее — и вот восемнадцатый год сидел без приговора, без надежды.
Сологдин открыл сверкающие голубые глаза, молодо выпрямился, сказал несколько театрально:
— Владимир Эрастович! Вы дали мне опору и уверенность! Я не нахожу слов отблагодарить вас за внимание. Я — ваш должник!
Но рассеянная улыбка уже играла на его губах.
Возвращая Сологдину рулон, профессор ещё вспомнил:
— Однако я виноват перед вами. Вы просили, чтобы Антон Николаевич не видел этого чертежа. Но вчера случилось так, что он вошёл в комнату в моё отсутствие, развернул по своему обычаю — и, конечно, сразу понял, о чём речь. Пришлось нарушить ваше инкогнито…
Улыбка сошла с губ Сологдина, он нахмурился.
— Это так существенно для вас? Но почему? Днём раньше, днём позже…
Сологдин озадачен был и сам. Разве не наступало время теперь нести лист Антону?
— Как вам сказать, Владимир Эрастович… Вы не находите, что здесь есть некоторая моральная неясность?.. Ведь это — не мост, не кран, не станок. Это заказ — не промышленный, а тех самых, кто нас посадил. Я это делал пока только… для проверки своих сил. Для себя.
Для себя.
Эту форму работы Челнов хорошо знал. Вообще, это была высшая форма исследования.
— Но в данных обстоятельствах… это не слишком большая роскошь для вас?
Челнов смотрел бледными спокойными глазами.
— Простите меня, — подобрался и исправился Сологдин. — Это я только так, вслух подумал. Не упрекайте себя ни в чём. Я вам благодарен и благодарен!
Он почтительно подержался за слабую нежную кисть Челнова и с рулоном под мышкой ушёл.
В эту комнату он только что вошёл ещё свободным претендентом.
И вот выходил из неё — уже обременённым победителем. Уже больше не был он хозяин своему времени, намерениям и труду.
А Челнов, не прислоняясь к спинке кресла, прикрыл глаза и долго просидел так, выпрямленный, тонколицый, в шерстяном остроконечном колпачке.
СЕРИЯ ПЯТАЯ
Лефортовская тюрьма. Подсобная комната, ожидальня.
Голая комната. Две простых скамьи вдоль стен. Посредине — голый стол, на нём местами лежат скромные передачи — в авоськах, в пакетах. На длинной скамье сидят, в верхних одеждах, четыре женщины разного возраста, одна молодая с трёхлетним ребёнком. На короткой — НАТАЛЬЯ ГЕРАСИМОВИЧ — лет под сорок, в очень не новой шубе, в сером головном платке, с которого ворс истёрся. Она заложила ногу за ногу, руки свела кольцом, напряжённо смотрит в пол перед собой. Входит НАДЯ НЕРЖИНА, в новой шубке, со лжекаракулевым воротником, кладёт свой кулёк, здоровается, знакомых нет. Подходит к жене Герасимовича.
— Вы разрешите с вами?
Та подняла голову, как бы без понимания, потом кивнула. Надя села и тоже замерла.
А на длинной скамье — тихий, вялый разговор.
— Да как хлопотать? Адвокаты больших денег требуют.
— Говорят: они берут не только себе. Мол, через много рук проходит.
Разговор слышит вошедшая, с пышным меховым воротником, а лет под пятьдесят. Громко поддерживает:
— Да! Надо писать! Надо всем писать! Мужья наши страдают. Свобода не придёт сама. Надо писать!
НАДЯ (почти про себя): Да. Всё ли мы сделали? Чиста ли наша совесть?..
Соседка резко повернула голову, как будто Надя её оскорбила. Отчётливо, если не враждебно:
— А — что можно сделать? Ведь это всё бред! Пятьдесят Восьмая — это хранить вечно! Пятьдесят Восьмая — это не преступник, а враг! Пятьдесят Восьмую не выкупишь и за миллион!
Лицо её в морщинах. В голосе звенит отстоявшееся, очищенное страдание.
Сердце Нади раскрылось навстречу этой старшей женщине. Тоном, извинительным за возвышенность своих слов, она возразила:
— Я хотела сказать, что мы не отдаём себя до конца… Ведь жёны декабристов ничего не жалели, бросали, шли… Если не освобождение — может быть, можно выхлопотать ссылку? Я б согласилась, чтоб его сослали в какую угодно тайгу, за полярный круг, — я бы поехала за ним, всё бросила…
Женщина со строгим лицом монахини, в облезшем сером платке, с удивлением и уважением посмотрела на Надю:
— У вас есть ещё силы ехать в тайгу?? Какая вы счастливая! У меня уже ни на что не осталось сил. Кажется, любой благополучный старик согласись меня взять замуж — и я бы пошла.
— и вы могли бы бросить?.. За решёткой?..
Женщина взяла Надю за рукав:
— Милая! Легко было любить в девятнадцатом веке! Жёны декабристов — разве совершили какой-нибудь подвиг? Отделы кадров — вызывали их заполнять анкеты? Им разве надо было скрывать своё замужество, как заразу? — чтобы не выгнали с работы, чтобы не отняли эти единственные пятьсот рублей в месяц? В коммунальной квартире — их бойкотировали? Во дворе у колонки с водой — шипели на них, что они враги народа? Родные матери и сёстры — толкали их к трезвому рассудку и к разводу? О, напротив! Их сопровождал ропот восхищения лучшего общества! Снисходительно дарили они поэтам легенды о своих подвигах. Уезжая в Сибирь в собственных дорогих каретах, они не теряли вместе с московской пропиской несчастные девять квадратных метров своего последнего угла и не задумывались о таких мелочах впереди, как замаранная трудовая книжка, чуланчик, и нет кастрюли, и чёрного хлеба нет!.. Это красиво сказать — в тайгу! Вы, наверно, ещё очень недолго ждёте!
Её голос готов надорваться. Слёзы наполнили Надины глаза от страстных сравнений соседки.
— Скоро пять лет, как муж в тюрьме, — оправдывается Надя. — Да на фронте…
— Эт-то не считайте! — живо возразила женщина. — На фронте — это не то! Тогда ждать легко! Тогда ждут — все. Тогда можно открыто говорить, читать письма! Но если ждать да ещё скрывать, а??
И остановилась. Она увидела, что Наде этого разъяснять не надо.
Вошёл, наконец, подполковник Климентьев и с ним толстый недоброжелательный старшина. Старшина стал принимать передачи, вскрывая фабричные пачки печенья и ломая пополам каждый домашний пирожок. Надин хворост он тоже ломал, ища запеченную записку, или деньги, или яд. Климентьев же отобрал у всех повестки, записал пришедших в большую книгу, затем по-военному выпрямился и объявил отчётливо:
— Внимание! Порядок известен? Свидание — тридцать минут. Заключённым ничего в руки не передавать. От заключённых ничего не принимать. Запрещается расспрашивать заключённых о работе, о жизни, о распорядке дня. Нарушение этих правил карается уголовным кодексом. Кроме того, с сегодняшнего свидания запрещаются рукопожатия и поцелуи. При нарушении — свидание немедленно прекращается.
Присмиревшие женщины молчали.
— Герасимович Наталья Павловна! — вызвал Климентьев первой.
Соседка Нади встала и, твёрдо стуча по полу фетровыми ботами довоенного выпуска, вышла в коридор.
Лефортово. Следственный кабинет, используемый под свидание.
Узкая комната. В глубине, у обрешеченного окна, — стол следователя, за ним — кресло. Ближе к двери — маленький столик подследственного. Предназначенную ему табуретку перенесли по тот бок столика, а со стороны входа поставили стул для жены. НЕРЖИН встаёт с табуретки и улыбается навстречу жене. Надзиратель — тот отставной гангстер с бычьей шеей — становится сбок столика, перегородил узкую комнату, не даёт им встретиться.
ГЛЕБ: Да дайте, я хоть за руку!
НАДЗИРАТЕЛЬ: Не положено.
Надя с растерянной улыбкой делает знак мужу — не спорить. Старается казаться оживлённой.
НАДЯ: Ну, так поздравляю тебя!
ГЛЕБ: Да, такое совпадение, именно сегодня. Как это внезапно получилось — не понимаю, обычно объявляют заранее.
НАДЯ: Ох, это чудо! Вчера еду в метро — и вдруг вижу, узнаю в лицо вашего подполковника. и решилась подойти. Ведь свидания уже полгода нам не давали…
— …А потому что отказываются посылать вызов по «до востребованию», дайте адрес!
— …Ну да… и я решилась. и он был так любезен… Прямо в метро и назначил на сегодня.
НАДЗИРАТЕЛЬ (обрывая): Об этом не положено!
Надя делает усилие, чтоб не чувствовать над собой давящего присутствия и взгляда надзирателя.
— …Я там принесла тебе погрызть немного, хвороста, знаешь, как мама делает? Прости, что ничего больше.
— Глупенькая, и этого не нужно. Всё у нас есть.
— Ну, хворосту-то нет.
Надя расстегнула и распахнула воротник — ей хотелось показать мужу кроме новой, только в этом году сшитой шубки, о которой он почему-то молчал, ещё и новую блузку, и чтоб оранжевый цвет блузки оживил её лицо, наверно землистое в здешнем тусклом освещении.
Одним непрерывным переходящим взглядом Глеб охватил жену — лицо, и горло, и распах на груди. Надя шевельнулась под этим взглядом — самым важным в свидании — и как бы выдвинулась навстречу ему.
— На тебе кофточка новая. Покажи больше.
— А шубка? — состроила она огорчённую гримаску.
— Что шубка?
— Шубка — новая.
— Да, в самом деле, — понял наконец Глеб. — Шуба-то новая!
Она полусбросила шубку теперь. Он увидел её шею, по-прежнему девически-точёную, неширокие слабые плечи и, под сборками блузки, — грудь, уныло опавшую за эти годы.
И короткая укорная мысль, что у неё своей чередой идут новые наряды, новые знакомства, — при виде этой уныло опавшей груди сменилась жалостью, что скаты серого тюремного воронка раздавили и её жизнь.
— Ты — худенькая, — с состраданием сказал он. — Питайся лучше. Не можешь лучше?
«Я — некрасивая?» — спросили её глаза.
«Ты — всё та же чудная!» — ответили глаза мужа.
(Хотя эти слова не были запрещены подполковником, но и их нельзя было выговорить при чужом…)
— Я питаюсь, — солгала она. — Просто жизнь безпокойная, дёрганая.
— В чём же, расскажи.
— Нет, ты сперва.
— Да я — что? — улыбнулся Глеб. — Я — ничего.
— Ну, видишь… — начала она со стеснением.
Надзиратель стоял в полуметре от столика и, плотный, бульдоговидный, сверху вниз смотрел на свидающихся с тем вниманием и презрением, с каким у подъездов изваяния каменных львов смотрят на прохожих.
— А костюм — твой? — перепрыгнула она.
Нержин комично потряс головой.
— Где мой? Потёмкинской функции. На три часа. Сфинкс пусть тебя не смущает.
— Не могу, — по-детски жалобно, кокетливо вытянула она губы, убедясь, что продолжает нравиться мужу.
— Мы привыкли воспринимать это в юмористическом аспекте.
— А мы — нет.
«Ты — моя? Моя?» — спрашивал его взгляд.
«Я — та, которую ты любил. Я не стала хуже, поверь!» — лучились её серые глаза.
— А на работе с препонами — как? Ну, рассказывай же. Значит, ты уже в аспирантах не числишься?
— Нет.
— Так защитила диссертацию?
— Тоже нет.
— Как же это может быть?
— Вот так… — и она стала говорить быстро-быстро, испугавшись, что много времени уже ушло. — Диссертацию никто в три года не защищает. Продляют, дают дополнительный срок. …У меня диссертация готова и отпечатана, но очень задерживают переделки разные… (Борьба с низкопоклонством — но разве тут объяснишь?..) …и потом светокопии, фотографии… Ещё как с переплётом будет — не знаю. Очень много хлопот…
— Но стипендию тебе платят?
— Нет.
— На что ж ты живёшь?!
— На зарплату.
— Так ты работаешь? Где?
— Там же, в университете.
— Кем?
— Внештатная, призрачная должность, понимаешь? Вообще, всюду птичьи права… У меня и в общежитии птичьи права. Я, собственно…
Она покосилась на надзирателя. Она собиралась сказать, что в милиции её давно должны были выписать со Стромынки и совершенно по ошибке продлили прописку ещё на полгода. Это могло обнаружиться в любой день! Но тем более нельзя было этого сказать при сержанте МГБ…
— Я хочу спросить — препон, связанных со мной, — нет?
— и очень жёсткие, милый… Мне дают… хотят дать спецтему… Я пытаюсь не взять.
— Это как — спецтему?
Она вздохнула и покосилась на надзирателя. Его лицо, настороженное, как если б он собирался внезапно гавкнуть или откусить ей голову, нависало меньше чем в метре от их лиц.
Надя развела руками. Надо было объяснить, что даже в университете почти уже не осталось незасекреченных разработок. Засекречивалась вся наука сверху донизу. Засекречивание же значило: новая, ещё более подробная анкета о муже, о родственниках мужа и о родственниках этих родственников. Если написать там: «муж осуждён по пятьдесят восьмой статье», то не только работать в университете, но и защитить диссертацию не дадут. Если солгать — «муж пропал без вести», всё равно надо будет написать его фамилию, — и стоит только проверить по картотеке МВД — и за ложные сведения её будут судить. и Надя выбрала третью возможность, но, убегая сейчас от неё под внимательным взором Глеба, стала оживлённо рассказывать:
— Ты знаешь, я — в университетской самодеятельности. Вообще, девчёнки меня ругают за то, что я музыкой увлекаюсь. А я говорю: лучше увлекаться чем-нибудь, чем кем-нибудь…
Это — не между прочим было, это звонко она сказала, это — был удачно сформулированный её новый принцип! — и она выставила голову, ожидая похвалы.
Нержин смотрел на жену благодарно и безпокойно. Но этой похвалы, этого подбодрения тут не нашёлся сказать.
— Подожди, так насчёт спецтемы…
Надя сразу потупилась, обвисла головой.
— Я хотела тебе сказать… Только ты не принимай этого к сердцу — nicht wahr! — ты когда-то настаивал, чтобы мы… развелись… — совсем тихо закончила она.
(Это и была та третья возможность, — одна, дающая путь в жизни!.. — чтобы в анкете стояло не «разведена», потому что анкета всё равно требовала фамилию бывшего мужа, и нынешний адрес бывшего мужа, и родителей бывшего мужа, и даже их годы рождения, занятия и адрес, — а чтоб стояло «не замужем». А для этого — провести развод, и тоже таясь, в другом городе.)
Да, когда-то он настаивал… А сейчас дрогнул. и только тут заметил, что обручального кольца, с которым она никогда не расставалась, на её пальце нет.
— Да, конечно, — очень решительно подтвердил он.
Этой самой рукою, без кольца, Надя втирала ладонь в стол, как бы раскатывала в лепёшку чёрствое тесто.
— Так вот… ты не будешь против… если… придётся… это сделать?.. — Она подняла голову. Её глаза расширились. Серая игольчатая радуга её глаз светилась просьбой о прощении и понимании. — Это — псевдо, — одним дыханием, без голоса добавила она.
— Молодец. Давно пора! — убеждённо твёрдо соглашался Глеб, внутри себя не испытывая ни убеждённости, ни твёрдости — отталкивая на после свидания всё осмысление происшедшего.
— Может быть и не придётся! — умоляюще говорила она, надвигая снова шубку на плечи, и в эту минуту выглядела усталой, замученной. — Я — на всякий случай, чтобы договориться. Может быть, не придётся.
— Нет, почему же, ты права, молодец, — затверженно повторял Глеб, а мыслями переключался уже на то главное, что готовил и что теперь было впору опрокинуть на неё. — Важно, родная, чтобы ты отдавала себе ясный отчёт. Не связывай слишком больших надежд с окончанием моего срока!
Но на лице Нади появилось боязливое выражение.
— Срок — это условность, — объяснял Глеб жёстко и быстро, делая ударения на словах невпопад, чтобы надзиратель не успевал схватывать. — Он может быть повторён по спирали. История богата примерами. А если даже и чудом он кончится — не надо думать, что мы вернёмся с тобой в наш город к нашей прежней жизни. Вообще пойми, уясни, затверди: в страну прошлого билеты не продаются. Я вот, например, больше всего жалею, что я — не сапожник. Как это необходимо в каком-нибудь таёжном посёлке, в красноярской тайге, в верховьях Ангары! К этой жизни одной только и надо готовиться.
Цель была достигнута: отставной гангстер не шелохался, успевая только моргать вслед проносящимся фразам.
По мере слов Глеба боязнь на лице Нади перешла в пепельный страх.
— Нет, нет! — скороговоркой воскликнула она. — Не говори мне этого, милый! Не отнимай у меня надежды! Я не хочу этому верить! Я не могу этому верить! Да это просто не может быть!.. Или ты подумал, что я действительно тебя брошу?!
Её верхняя губа дрогнула, лицо исказилось, глаза выражали только преданность, одну преданность.
— Я верю, я верю, Надюшенька! — переменился в голосе Глеб. — Я так и понял.
Она смолкла и осела после напряжения.
В раскрытых дверях комнаты стал молодцеватый чёрный подполковник, зорко осмотрел три головы, сдвинувшиеся вместе, и тихо подозвал надзирателя.
Гангстер с шеей пикадора нехотя, словно его отрывали от киселя, отодвинулся и направился к подполковнику. Там, в четырёх шагах от Надиной спины, они обменялись фразой-двумя, но Глеб за это время, приглуша голос, успел спросить:
— Сологдину, жену, — знаешь?
Натренированная в таких оборотах, Надя успела перенестись:
— Да.
— и где живёт?
— Да.
— Ему свиданий не дают, скажи ей: он…
Гангстер вернулся.
— …любит! — преклоняется! — боготворит! — очень раздельно уже при нём сказал Глеб. Почему-то именно при гангстере слова Сологдина не показались слишком приподнятыми.
— Любит — преклоняется — боготворит, — с печальным вздохом повторила Надя. и пристально посмотрела на мужа. Когда-то наблюдённого с женским тщанием, ещё по молодости неполным, когда-то как будто известного — она увидела его совсем новым, совсем незнакомым.
— Тебе — идёт, — грустно кивнула она.
— Что — идёт?
— Вообще. Здесь. Всё это. Быть здесь, — говорила она, маскируя разными оттенками голоса, чтоб не уловил надзиратель: этому человеку идёт быть в тюрьме.
Но такой ореол не приближал его к ней. Отчуждал.
Он улыбался! Он всегда был полон, никогда не нуждался ни в чьём сочувствии. На голой маленькой табуретке ему даже, кажется, и сиделось удобно, он как будто с удовольствием поглядывал вокруг, собирая и тут материалы для истории. Он выглядел здоровым, глаза его искрились насмешкой над тюремщиками. Нужна ли была ему вообще преданность женщины?
— Пора кончать! — сказал в дверях Климентьев.
— Уже? — изумилась Надя.
Глеб собрал лоб, силясь припомнить, что же ещё было самого важного.
— Да! Не удивляйся, если меня отсюда увезут, далеко, если прервутся письма совсем.
— А могут? Куда?? — вскричала Надя.
— Бог знает, — пожав плечами, как-то значительно произнёс он.
— Да ты уж не стал ли верить в бога??!
(Они ни о чём не поговорили!!)
Глеб улыбнулся:
— А почему бы и нет? Паскаль, Ньютон…
— Кому было сказано — фамилий не называть! — гаркнул надзиратель. — Кончаем, кончаем!
Муж и жена поднялись разом, и теперь, уже не рискуя, что свидание отнимут, Глеб через маленький столик охватил Надю за тонкую шею и в шею поцеловал и впился в мягкие губы, которые совсем забыл. Он не надеялся быть в Москве ещё через год, чтоб их ещё раз поцеловать. Голос его дрогнул нежностью:
— Делай во всём, как тебе лучше. А я…
Не договорил.
Они смотрелись глаза в глаза.
— Ну что это? что это? Лишаю свидания! — мычал надзиратель и оттягивал Нержина за плечо.
Нержин оторвался.
— Да лишай, будь ты неладен, — еле слышно пробормотал он.
Надя отступала спиной до двери и одними только пальцами поднятой руки без кольца помахивала на прощанье мужу.
И так скрылась за дверным косяком.
Лефортово. Другой такой же следственный кабинет.
Муж и жена Герасимовичи поцеловались.
Муж был маленького роста, но рядом с женой оказался вровень.
Надзиратель им попался смирный простой парень. Ему совсем не жалко было, чтоб они поцеловались. Его даже стесняло, что он должен был мешать им видеться. Он бы отвернулся к стене и так бы простоял полчаса, да не тут-то было: подполковник Климентьев велел все семь дверей из следственных комнат в коридор оставить открытыми, чтобы самому из коридора надзирать за надзирателями.
Муж и жена Герасимовичи ещё раз, и ещё раз поцеловались.
Но поцелуи эти не были из тех, которые сотрясали их в молодости. Поцелуй, украденный у начальства и у судьбы, был поцелуй без цвета, без вкуса, без запаха — бледный поцелуй, каким может наградить умерший, привидевшийся нам во сне.
И сели, разделённые столиком подследственного с покоробленной фанерной столешницей.
Герасимович смотрел на жену.
Первая мысль была — какая она стала непривлекательная: глаза подведены впалыми ободками, у глаз и губ — морщины, кожа лица — дряблая, Наташа совсем уже не следила за ней. Шубка была ещё довоенная, давно просилась хоть в перелицовку, мех воротника проредился, полёг, а платок…
Но подлую мысль, что жена некрасива, исподнюю мысль существа, Герасимович подавил. Перед ним была женщина, с кем сплеталось всё, что носила его память. Какая миловидная свежая девушка, но с чужой непонятной душой, со своими короткими воспоминаниями, поверхностным опытом — могла бы заслонить жену?
ГЕРАСИМОВИЧ: Через шесть дней будет двадцать лет, как мы познакомились… При встрече Девятьсот Тридцатого… На Средней Подъяческой, у Львиного мостика… Всякий Новый год видишь в розовой маске, не представляешь, что свяжет народная память со звучаньем его числа. А меня в тот год и арестовали… и ты приехала ко мне на Амур… и вот этот платок — мы, кажется, и купили по ордеру в том Комсомольске…
Наталья Павловна сейчас тоже всматривалась в мужа. На её глазах когда-то менялось это мягкое лицо, твердели эти губы, излучались через пенсне охолодевшие вспышки. Илларион перестал раскланиваться и перестал частить «извините».
НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА: …И Манечку мы потеряли там… А Игорька уже в Кузбассе…
Наталья Павловна рассматривала сейчас мужа — но, странно, не видела на нём следов тяжёлых лет. С обычной умной сдержанностью смотрели его глаза сквозь поблескивающее пенсне. Щёки были не впалые, морщин — никаких, костюм — дорогой, галстук — тщательно повязан.
Можно было подумать, что не он, а она сидела в тюрьме.
И первая её недобрая мысль была, что ему в спецтюрьме прекрасно живётся, конечно, он не знает гонений, занимается своей наукой, совсем он не думает о страданиях жены.
Но она подавила в себе эту злую мысль.
И слабым голосом спросила:
— Ну, как там у тебя?
Как будто надо было двенадцать месяцев ждать этого свидания, триста шестьдесят ночей вспоминать мужа на индевеющем ложе вдовы, чтобы спросить: «Ну, как там у тебя?»
И Герасимович, обнимая своей узкой тесной грудью целую жизнь, никогда не давшую силам его ума распрямиться и расцвести, целый мир арестантского бытия в тайге и в пустыне, в следственных одиночках, а теперь в благополучии закрытого учреждения, ответил:
— Ничего…
Им отмерено было полчаса. Песчинки секунд неудержимой струей просыпались в стеклянное горло Времени. Теснились первыми проскочить десятки вопросов, желаний, жалоб, — а Наталья Павловна спросила:
— Ты о свидании — когда узнал?
— Позавчера. А ты?
— Во вторник… Меня сейчас подполковник спросил, не сестра ли я тебе.
— По отчеству?
— Да.
— Когда мы были женихом и невестой, и на Амуре тоже, — нас все принимали за брата и сестру.
Наталья Павловна улыбнулась:
— Мы были сходны больше, чем муж и жена…
Илларион Павлович спросил:
— Как на работе?
— Почему ты спрашиваешь? — встрепенулась она. — Ты знаешь?
— А что?
Он кое-что знал, но не знал, то ли он знал, что знала она.
Он знал, что вообще на воле арестантских жён притесняют.
Но откуда было ему знать, что в минувшую среду жену уволили с работы из-за родства с ним? Эти три дня, уже извещённая о свидании, она не искала новой работы — ждала встречи, будто могло совершиться чудо и свидание светом бы озарило её жизнь, указав, как поступать.
Но как он мог дать ей дельный совет — он, столько лет просидевший в тюрьме и совсем не приученный к гражданским порядкам?
И решать-то надо было: отрекаться или не отрекаться…
В этом сереньком, плохо натопленном кабинете с тусклым светом из обрешеченного окна — свидание проходило, и надежда на чудо погасала.
И Наталья Павловна поняла, что в скудные полчаса ей не передать мужу своего одиночества и страдания, что катится он по каким-то своим рельсам, своей заведенной жизнью — и всё равно ничего не поймёт, и лучше даже его не расстраивать.
А надзиратель отошёл в сторону и рассматривал штукатурку на стене.
— Расскажи, расскажи о себе, — говорил Илларион Павлович, держа жену через стол за руки, и в глазах его теплилась та сердечность, которая зажигалась для неё и в самые ожесточённые месяцы жизни.
— Ларик! у тебя… зачётов… не предвидится?
Она имела в виду зачёты, как в приамурском лагере, — проработанный день считался за два отбытых, и срок кончался прежде назначенного.
Илларион покачал головой:
— Откуда зачёты! Здесь их от веку не было, ты же знаешь. Здесь надо изобрести что-нибудь крупное — ну, тогда освободят досрочно. Но дело в том, что изобретения здешние… — он покосился на полуотвернувшегося надзирателя, — свойства… весьма нежелательного…
Не мог он высказаться ясней!
Он взял руки жены и щеками слегка тёрся о них.
— Грустно тебе одной? Очень грустно, да?
Грустно?.. Уже сейчас она обмирала, что свидание ускользает, скоро оборвётся, она выйдет ничем не обогащённая на Лефортовский вал, на безрадостные улицы — одна, одна, одна… Отупляющая безцельность каждого дела и каждого дня. Ни сладкого, ни острого, ни горького, — жизнь как серая вата.
— Наталочка! — гладил он её руки. — Если посчитать, сколько прошло за два моих срока, так ведь мало осталось теперь. Три года только. Только три…
— Только три?! — с негодованием перебила она и почувствовала, как голос её задрожал, и она уже не владела им. — Только три?! Для тебя — только! Для тебя прямое освобождение — «свойства нежелательного»! Ты живёшь среди друзей! Ты занимаешься своей любимой работой! Тебя не водят в комнаты за чёрной кожей! А я — уволена! Мне не на что больше жить! Меня никуда не примут! Я не могу! Я больше не в силах! Я больше не проживу одного месяца! месяца! Мне лучше — умереть! Соседи меня притесняют как хотят, мой сундук выбросили, мою полку со стены сорвали — они знают, что я слова не смею… что меня можно выселить из Москвы! Я перестала ходить к сёстрам, к тёте Жене, все они надо мной издеваются, говорят, что таких дур больше нет на свете. Они все меня толкают с тобой развестись и выйти замуж. Когда это кончится? Посмотри, во что я превратилась! Мне тридцать семь лет! Через три года я буду уже старуха! Я прихожу домой — я не обедаю, я не убираю комнату, она мне опротивела, я падаю на диван и лежу так без сил. Ларик, родной мой, ну сделай как-нибудь, чтоб освободиться раньше! У тебя же гениальная голова! Ну, изобрети им что-нибудь, чтоб они отвязались! Да у тебя есть что-нибудь и сейчас! Спаси меня! Спа-си ме-ня!!..
Она совсем не хотела этого говорить, сокрушённое сердце!.. Трясясь от рыданий и целуя маленькую руку мужа, она поникла к покоробленному шероховатому столику, видавшему много этих слёз.
— Ну успокойтесь, гражданочка, — виновато сказал надзиратель, косясь на открытую дверь.
Лицо Герасимовича перекошенно застыло, и слишком заблистало пенсне.
Рыдания неприлично разнеслись по коридору. Подполковник грозно стал в дверях, уничтожающе посмотрел в спину женщине и сам закрыл дверь.
По прямому тексту инструкции слёзы не запрещались, но в высшем смысле её — не могли иметь места.
Шарашка. Вакуумная лаборатория.
Большая комната. Один за другим стоят три большие, громоздкие вытягивающие аппараты, вакуумные насосы. Обеденный перерыв. Никого нет, кроме вольной дежурной КЛАРЫ, с чистым, прямым, но слишком мужественным лицом, оттого некрасивая, и РУСЬКИ ДОРОНИНА. Он подсел к ней рядом.
РУСЬКА: Да тут ничего хитрого: хлорную известь разведёшь — и кисточкой по паспорту чик, чик… Только знать надо, сколько минут держать, — и смывай.
— Ну, а потом?
— А высохнет — ни следа не остаётся, чистенький, новенький, садись и тушью опять корябай — Сидоров или там Петюшин, уроженец села Криуши.
— и ни разу не попадались?
— На этом деле? Клара Петровна… Или может быть… вы разрешите?.. …звать вас, пока никто не слышит, просто Кларой?
— …Зовите…
— Так вот, Клара, первый раз меня взяли потому, что я был беззащитный и невинный мальчишка. Но второй раз — хо-го! и держался я под всесоюзным розыском не какие-нибудь простые годы, а с конца сорок пятого по конец сорок седьмого, — это значит, я должен был подделывать не только паспорт и не только прописку, но справку с места работы, справку на продуктовые карточки, прикрепление к магазину! и ещё я лишние хлебные карточки по поддельным справкам получал — и продавал их, и на то жил.
— Но это же… очень нехорошо!
— Кто говорит, что хорошо? Меня заставили, не я это выдумал.
— Но вы могли просто работать.
— «Просто» много не наработаешь. От трудов праведных — палат каменных, знаете? и кем бы я работал? Специальности получить мне не дали… Попадаться не попадался, но ошибки бывали. В Крыму в паспортном отделе одна девушка… только вы не подумайте, что я с ней что-нибудь… просто сочувствующая попалась и открыла мне секрет, что в самой серии моего паспорта, — знаете, эти ЖЩ, ЛХ — скрыто указывается, что я был под оккупацией.
— Но вы же не были!
— Да не быть-то не был, но паспорт-то чужой! и пришлось из-за этого новый покупать.
— Где??
— Клара! Вы же жили в Ташкенте?
— Да, в эвакуации. и десятилетку там кончила, и один курс института…
— и не разу не были на Тезиковом базаре?
— Ой, была один раз! Это ужас! За два квартала уже толпится народ. и особенно много калек, этой войны! На костылях, с обрубками рук, ползают безногие на дощечках. Одного, и без рук и без ног, жена несёт в корзине за спиной, и ему туда бросают деньги…
— Ну так вы навидались жизни?
— За войну чего не навидаешься. Я в институте один раз не доела бутерброд, выбросила в урну — вдруг вижу: студент-однокурсник тайком вынул его из урны и в карман…
— Вот-вот. Тезиков базар был главная толкучка Средней Азии, если не всего Советского Союза. А какие пьяные там, не видели? и вслух поносят всякую власть?.. Так вот на Тезиковом базаре я и купил себе другой паспорт. Я ещё и орден Красного Знамени хотел купить, двух тысяч не хватило, у меня на руках восемнадцать было, а он упёрся — двадцать и двадцать.
— А зачем вам орден?
— А зачем всем ордена? Так просто, дурак, пофорсить хотел. Если б у меня была такая холодная голова, как у вас…
— Откуда вы взяли, что у меня холодная?
— Холодная, трезвая, и взгляд такой… умный.
— Ну вот!..
— Правда. Я всю жизнь мечтал встретить девушку с холодной головой.
— За-чем?
— Потому что я сам сумасбродный, так чтоб она не давала мне делать глупостей.
— Ну, рассказывайте, прошу вас.
— Так на чём я?.. Да! Когда я вышел с Лубянки — меня просто кружило от счастья. Но где-то внутри остался, сидит маленький сторож и спрашивает: что за чудо? Как же так? Ведь никогда никого не выпускают, это мне в камере объяснили: виноват не виноват — десять в зубы, пять по рогам — и в лагерь.
— Что значит — по рогам?
— Ну, намордник пять лет.
— А что значит — намордник?
— Боже мой, какая вы необразованная. А ещё дочь прокурора. Как же вы не поинтересуетесь, чем занимается ваш папа? «Намордник» значит — кусаться нельзя. Лишение гражданских прав. Нельзя избирать и быть избранным. Так вот я сразу понял тогда, что выпустили меня для слежки — с кем из ребят буду встречаться, да вообще жизни не будет, посадят всё равно. и я их — надул! Попрощался с мамой, ночью из дому ушёл — и поехал к одному дядьке. Он-то меня и втравил во все эти подделки. и два года за Ростиславом Дорониным гнали всесоюзный розыск! А я под чужими именами — в Среднюю Азию, в Крым, в Молдавию, в Армению. Не знаю, можно ли вам всё…
— Можно!
— Как это вы уверенно говорите… Вообще-то, нельзя. Вы — совсем из другого общества, не поймёте. Да раз вы здесь — так вы сотрудница МГБ. Как вы сюда попали?..
— Да как? Кончила институт связи — и направили. А здесь… Скажу вам честно, майор Шикин сперва напугал нас страшно. Что тут — крупнейшие агенты мирового империализма и американской разведки. Что мы должны за вами следить, от вас писем не брать, ни о чём откровенно не разговаривать. Но теперь-то я вижу, какие вы…
— Да, вчера и сегодня вы так хорошо на меня смотрите… Правда хочется вам всё рассказать… В общем, я удрапать хотел. Совсем из этой лавочки.
— Какой лавочки?..
— Ну, из этого, как его, социализма! Уже у меня изжога от него, не могу!
— От социализма?!..
— Да раз справедливости нет — на кой мне этот социализм?
— Ну это с вами так получилось, обидно очень. и как же вы опять попали?
— Как сел? Опять учиться захотел!
— Вот видите, значит — вас тянуло к честной жизни! Учиться — это благородно.
— Боюсь, Клара, что не всегда благородно. Уж потом в тюрьмах, в лагерях я обдумал. Чему эти профессора могут научить, если они за зарплату держатся и ждут последней газеты? На гуманитарном-то факультете? Не учат, а мозги затемняют. Вы ведь на техническом учились. Да, так вот надо было мне потерпеть, аттестат за десятилетку поискать, нетрудно его и купить, но — безпечность, вот что нас губит! Думаю: какой дурак там меня ищет, пацана, забыли уж, наверно, давно. Взял старый на своё имя аттестат — и подал в университет, только уже в ленинградский. Ну и что ж? Только походил на лекции с неделю, меня — хоп! — и опять на Лубянку! и теперь — двадцать пять лет! и — в тундру, я ещё не был, — практику проходить!
— и вы об этом рассказываете — смеясь?
— А чего ж плакать? Обо всём, Клара, плакать — слёз не хватит. Я — не один. Послали на Воркуту — а там уж таких молодчиков! уголь долбят! Вся Воркута на зэках стоит! Весь Север! Да вся страна одним боком на них опирается. Ведь это, знаете, сбывшаяся мечта Томаса Мора.
— Чья?.. Мне стыдно бывает, я многого не знаю.
— Томаса Мора, дедушки, который «Утопию» написал. Он имел совесть признать, что при социализме неизбежно останутся разные унизительные и особо тяжёлые работы. Никто не захочет их выполнять! Кому ж их поручить? Подумал Мор и догадался: да ведь и при социализме будут нарушители порядка. Вот им, мол, и поручим! Таким образом, современный ГУЛАГ придуман Томасом Мором, очень старая идея!..
— Я никак не одумаюсь. В наше время — и так жить: подделывать паспорта, менять города, носиться, как парус… Людей, подобных вам, я нигде в жизни не видела.
— Клара, я тоже не такой! Обстоятельства могут сделать из нас чёрта! Вы же знаете — бытие определяет сознание! Я и был тихий мальчик, слушался маму, читал Добролюбова «Луч света в тёмном царстве». Если милиционер манил меня пальцем — во мне падало сердце. Во всё это врастаешь незаметно. А что мне оставалось? Ждать, как кролику, — пока меня второй раз возьмут?
— Не знаю, что оставалось, но и так жить?!.. Я представляю, как это тягостно: вы — постоянно вне общества! вы — какой-то лишний, гонимый человек…
— Ну, иногда тягостно. А иногда, знаете, даже и не тягостно. Нахальство — второе счастье.
— Ростислав Вадимыч…
— Какой я, к чертям, Вадимыч? Просто — Руся.
— Мне трудно вас так называть…
— Я для всех — Руся, а для вас… особенно… Не хочу иначе.
— Ну, хорошо… Руся… Я тоже не совсем глупенькая. Я много думала. Но в нашем обществе много справедливого. Вы берёте через край! Вы много видели, много пережили, но «нахальство второе счастье» — это же не жизненная философия! Так нельзя!
— Клара! Вот я говорю вам взвешенно, торжественно: я всей душой был бы рад жить совсем иначе! Но если бы у меня был друг… с холодной головой… подруга… Если бы мы могли с ней вместе обдумать. Правильно построить жизнь. В общем, я — это ведь только внешне, что я — как будто арестант и на двадцать пять лет. Я… О, если б вам рассказать, на каком я лезвии сейчас балансирую!.. Какую я авантюру тут веду, на шарашке, и пришлось кой-кому открыть… Любой нормальный человек умер бы от разрыва сердца… А я — просто из спорта. Но это потом… Клара! Я хочу сказать: во мне — вулканические запасы энергии! Двадцать пять лет — ерунда, я могу шутя когти оторвать…
— Ка-ак?
— Ну, это… умахнуть.
— Какой вы поразительный человек.
— Я искал её в Ленинградском университете. Но не думал, где найду.
— Кого?..
— Кларочка! Из меня ещё кого угодно можно вылепить женскими руками. Кем назначите, тем и стану. Мне только — вы нужны! Мне нужна только ваша голова, которую вы так медленно поворачиваете, когда в лабораторию входите…
Они едва успевали высказываться. Перебивая её в нетерпеньи, он уже касался её рук — и она не видела в этом плохого. Прямо перед собой Клара видела вомлевшие в неё ярко-голубые глаза. Таким взглядом ещё никогда в жизни ни один молодой человек на Клару не смотрел.
Срывающимся голосом Ростислав говорил:
— Клара! Кто знает — когда ещё мы будем так сидеть? Для меня это — чудо! Я поклоняюсь вам! — (Он уже сжимал и ласкал её руки.) — Клара! Мне, может быть, всю жизнь погибать по тюрьмам. Сделайте меня счастливым, чтоб я в любой одиночке мог согреваться этой минутой! Дайте мне поцеловать вас!!
Клара ощущала себя богиней, сходящей в подземелье к узнику. Ростислав притянул её и отпечатлел на её губах поцелуй разрушительной силы, поцелуй измученного воздержанием арестанта. и она отвечала ему…
Наконец она оторвалась, отклонилась, с кружащейся головой, потрясённая…
— Уйдите… — попросила она.
Тут раздался звонок — с перерыва.
Ростислав встал и стоял перед нею, пошатываясь.
— Сейчас пока — уйдите! — требовала Клара.
Он заколебался. Потом подчинился. С порога он жалко, моляще обернулся на Клару — и его как укачнуло туда, за дверь.
Вскоре все вернулись с перерыва — Двоетёсов, Земеля — к своим насосам.
Клара не смела поднять глаз ни на Руську, ни на кого другого. В ней разгоралось — но не стыд совсем, а если радость — то не покойная.
Она сегодня слышала разговор, что арестантам разрешена ёлка.
Она недвижно сидела, шевеля только пальцами: плела из разноцветных хлорвиниловых проводков — корзиночку, подарок на ёлку.
СЕРИЯ ШЕСТАЯ
Лестница добротного жилого дома.
По ней поднимаются КЛАРА и ИННОКЕНТИЙ.
Клара — впереди. Вдруг — прижимается к перилам, как бы обходя середину ступенек. Иннокентий, ниже того, задержался с недоумением:
— Что это ты?
— Да я… Как тебе сказать… Тут на этом месте, когда мы с папой-мамой приехали первый раз смотреть квартиру…
Лицо её тревожно или даже испуганно…
Наплывом
…………………………………………….
Солнечный осенний день. Из легкового автомобиля высаживается прокурор МАКАРЫГИН в генеральской шинели, дебёлый, такая же дебёлая его СУПРУГА — и КЛАРА. Несколько шагов по тротуару. У дверей парадного их ждёт ПРОРАБ. Дальше стоит часовой с винтовкой, сразу за тем тротуар и мостовая перегорожены строительным забором. Выше видно, что и здание это дальше в строительных лесах, а сюда выгородили только готовый угол его.
Та самая внутренняя лестница. Все четверо поднимаются вереницей. А ступеньки лестницы как раз моет — женщина в рабочей рваной одежде.
ПРОРАБ: Э! Алё!
Женщина перестала мыть, посторонилась, не распрямляясь и не поднимая головы от ведра с тряпкой.
Прошёл прокурор.
Прошёл прораб.
Шелестя многоскладчатой юбкой, почти обдавая ею лицо поломойки, прошла жена прокурора.
И женщина, оставаясь низко склонённой, подняла забрызганное — интеллигентное — лицо: много ли их ещё?
И её жгучий, презирающий взгляд…
…поразил Клару стыдом и страхом. Она открыла сумочку — что-то достать, подать — и не посмела.
ЖЕНЩИНА (зло): Ну, проходите же!
И Клара, притиснувшись к перилам, пробежала наверх.
…………………………………………….
КЛАРА: и с тех пор, проходя это место, я каждый раз… Как из суеверия… Тогда спросила у прораба — а кто здесь всё это строит? Ответил отец: «Заключённые, кто!»… Возвращались — не было уже ни той женщины, ни часового внизу…
Иннокентий, где стоял, молча выслушал. и — снял шляпу.
Вагон пригородного поезда. Августовский день.
Публика — больше деревенская. На двухместной скамье — ИННОКЕНТИЙ и КЛАРА. Полуспортивной изящной одеждой — они сильно отличаются.
ИННОКЕНТИЙ: Вот и увидим с тобой какой-то кусочек России… Я ведь совсем, совсем не вижу никогда.
КЛАРА: Да и я не вижу. То Москва, то Крым… А вы с Дотти для нас — родственники заморские. Я надеюсь, она не будет ревновать к родной сестре, что мы поехали?
ИННОКЕНТИЙ: Обалдеешь и от Лазурных берегов, и от музеев, от выставок… По России простенькой походить. Найдём? Где сойдём?
КЛАРА: А наудачу.
Ехали, дребезжал вагон. За окнами — подмосковный пейзаж, много леса. Останавливались. Публика в вагоне постепенно редеет. Вот несколько баб с городскими продуктами в корзинах и сумках собираются сходить.
— А тут не сойдём?
— Ну, рискнём.
Соскочили на перрон.
Как только поезд убрал хвост, бабы дружной кучкой все вместе уверенно подались через рельсы. и Клара с Иннокентием тоже пошли за ними.
Травы и цветы сразу за линией стоят по плечо. Потом тропка ныряет сквозь несколько рядов берёзовой посадки. Там дальше — выкошено, стожок, а на подросте травы паслась и не паслась задумчивая коза, привязанная длинной верёвкой к колышку. Теперь налево распахивался лес, но бабы бойко сыпали правей, прямо на солнце, где ещё за рядами кустов открывался обширный сияющий простор.
— Вот в этот простор — и пошли?..
Путь им пересекает полевая дорога — плотная, травяная. От неё ближе к линии золотится хлебное поле — тяжёлые колосья на коротких крепких стеблях. По другую же сторону дороги, чуть не на весь простор, сколько видеть можно, стояла голая, запаханная, а потом от дождей оплывшая земля, одни места сырей, другие суше, — и на таком большом пространстве ничего не росло. Простор — такой объёмный, что никак его нельзя в два глаза убрать, не повернув несколько раз головы. и далеко вокруг, и тут за линией сразу — всё обмыкалось лесом сплошным с мелко зазубристым издали верхом.
Вот, кажется, этого они и хотели, не зная, не задавшись! Они побрели так медленно, как спотыкались ноги при головах, запрокинутых к небу. и останавливались, и головами вертели. Линия тоже была не видна, закрытая посадкой. и только впереди, за долготой простора, куда шли они, выдвигалась по пояс из западающей местности тёмно-кирпичная церковь с колокольней. и ещё бабы удалялись впереди, а больше на всём просторе не было ни человека, ни хутора, ни тракторного вагончика, никого, ничего, — тёплое гульбище ветра и солнца да пространство рыскающих птиц.
— Так это — Россия? Вот это и есть — Россия? — счастливо спрашивает Иннокентий и жмурится, разглядывая простор. Останавливался, смотрел на Клару. — Слушай, я ведь представляю Россию, но я ведь её не пред-став-ляю! — каламбурил он. — Я никогда по ней вот так просто не ходил, только самолёты, поезда, столицы…
Он взял её вытянутой рукой, пальцы за пальцы, как берутся дети или очень близкие люди. и так они побрели, меньше всего глядя под ноги. В свободных руках помахивались у него шляпа, у неё сумочка.
— Слушай, сестра! Как хорошо, что мы пошли сюда, а не в лес. Вот именно этого мне в жизни не хватает: чтоб во все стороны было видно. и чтоб дышалось легко!
— А тебе — неужели не видно? — Его жалоба так тронула её — свои бы глаза она предложила, если б это могло помочь.
— Нет, — качал он, — нет. Было когда-то видно, а сейчас всё запуталось.
Что запуталось? Если уж так запуталось, то это не в убеждениях только, это обязательно и в семье. и если б он ещё немножко добавил, Клара посмела бы тогда вмешаться и открыла бы, как она за него в конфликте с Дотти, и как он прав, и не надо отчаиваться!
— Так надо бывает поговорить! — отзывалась она.
Но он на том и кончил. Уже смолк.
Жарчело. Сняли плащи.
Никто больше не появлялся во всём окоёме, не встречался, не обгонял. Позади, за посадкой, изредка протягивались поезда, прошумливали, а будто беззвучно, только дымок в движеньи.
Удалявшиеся бабы давно свернули и теперь уже были в центре простора, плохо видны против солнца. Дошли до того поворота и Иннокентий с Кларой: по мягкому полю шла утоптанная (на солнце светлей) тропочка, чуть ныряя на тракторных бороздах. Вкось больших плановых полей протаптывали людишки свои мелюзговые потребности.
Тропа шла к той деревне с церковью, но ещё раньше, в середине простора, она подходила к удивительно тесной, особной кучке деревьев. Куща стояла посреди полей, далеко отступя от всякого леса, и от деревни изрядно, — странная бодрая, свежая куща крутых высоких деревьев. Она узкая была, но украшала собой весь простор, она была его центр. Что ж это могло быть? Отчего и зачем среди полей?
Свернули туда и они.
Руки их разъединились. Тропа была на одного. Теперь он шёл позади Клары.
Теперь, чтобы говорить, Кларе надо было останавливаться и оглядываться:
— А как ты будешь меня звать? Не зови Клярэт.
— Не буду. Вообще, на Западе так сокращают, чтоб два-три звука, не больше.
— Я буду тебя звать Инк, ладно?
— Ладно. Очень хорошо.
Нет, простор был не совсем ровный, он незаметно спадал налево, куда они шли. Местность полого разваливалась, а к той куще деревьев поднималась опять.
Теперь уже видно было, что тут — берёзы, и старые, большие, посаженные обводным прямоугольником ровно, а в середине ещё. Как удивительно стояла эта куща, ни к чему не относясь, сама по себе.
— А у тебя когда это всё началось? — спрашивала Клара.
Что — это? Тут много вкладывалось.
Но он не затруднился:
— Наверно, знаешь когда? Когда я стал разбирать мамины шкафы. Нет, может быть и раньше, может и за целый год раньше, а всё-таки — когда я стал разбирать шкафы.
— Это уже после смерти?
— Намного после смерти, намного. Да не так давно. Я ведь… Вот и этого никому не расскажешь, Дотти этого не принимает или не понимает… Я ведь очень плохой был сын, Кларонька. Я ведь при жизни маму по-настоящему никогда не любил. Я ведь во время войны из Сирии даже на её похороны… Слушай, а это не кладбище?
Остановились. и вздрогнули, хотя было жарко. Сразу поняли: да, кладбище! и как же они раньше…? Ничем другим и быть не могла эта отдельная среди рабочих полей неприкосновенная сень.
Хотя ещё не было видно крестов, ни могил. Они ещё переходили дно разлога, перескакивали через мокредь (Иннокентий прыгнул хуже Клары, угодил одним ботинком в грязное, но она не подавала ему руки на перепрыг, чтобы не обидеть). Ещё поднимались, и неожиданно круто.
Ни оградой, ни заборными столбами, ни канавой, ни валом — ничем не было кладбище обведено, только стояли по ровну эти старые берёзы, соединясь в верхах, а земля поля ровно и открыто, как воздух в воздух, переходила в густую славную мураву, без сорняков и почему-то невысокую, хотя не топтанную и не стриженную. Мурава росла такая, какая нужна и приятна на кладбище.
Как здесь было тенисто, тихо! Это было самое чистое и живое убежище во всём охвате распланированной местности!
Вокруг иных могилок были ограды. А то — просто безымянные пирамидальные травяные холмики. и даже свежие.
— Как просторно! — удивлялся Иннокентий. — Тут сто могил, не больше, и можно ещё пятьдесят разместить свободно. и наверно, приходи, копай, никого не спрашивай. А в Москве, где мама лежит, там разрешение хлопотали в Моссовете, и директору кладбища что-то совали, и между двух могил негде ногу поставить, и ещё перекапывают старые под новые.
Вот эти старые берёзы и отстояли кладбищенское раздолье от тракторов.
Сами плащи на землю сбросились, само как-то селось — лицом к Простору. Отсюда, из тени и за солнцем, он хорошо смотрелся. Чуть белела, уже далёкая, будка полустанка. и поверх линейной посадки переползал дымок.
Смотрели, дышали, молчали. Очень хорошо сиделось. На восставленные столбиками колени Инк положил голову, сидел так. и Кларе открылся его затылок: как у мальчика, слабый затылок, но обработанный терпеливым умелым парикмахером.
— Какое чистое кладбище! — удивлялась Клара. — Скотом не загажено, мазута не налито.
— Да, — с наслаждением выдохнул Иннокентий. — Вот бы где похорониться! Ведь потом не удастся, пропустишь. Будут гроб свинцовый в самолёт совать, потом в автобусе куда-нибудь…
— Рано об этом думать, Инк!
— Когда, Кларонька, всё ложь, слышишь невыносимые суждения, — очень утомляешься рано. Очень рано, вдвое быстрей. — Он и говорил слабым усталым голосом.
Это могло быть о его работе. А может — обо всей жизни. А может — только о жене.
Доспрашивать Клара не могла.
— и что же — в шкафу?
— В шкафу? — сосредоточил Иннокентий свой всегда не безпечный, всегда озабоченный взгляд. — В шкафу вот что… Мамины старые письма… Дневники… А почерк — как раненая птичка мечется по листу бумаги… и впечатления от писем к ней… Это всё до революции, в Десятые годы… От друзей, знакомых, артистов… и узнал я впервые, что мама всю жизнь любила другого человека, но не могла с ним соединиться. и проняло меня: как же я никогда не задумывался, что у мамы был не только я и моё детство, но и своя какая же жизнь… и дышал я этим маминым мирком, куда потом отец мой, опоясанный гранатами, вошёл по ордеру ЧК на обыск… Они любили лакомиться барышнями из хороших домов. и сколько я узнал из маминых книжных выписок. и понял, что был обокраден до сих пор. После этого — я и за границей стал эмигрантскую литературу читать. и жизнь свою, которую до этого считал удачным жребием, ощутил как… нечто гадкое… и от мамы я усвоил такой закон: что не только жизнь даётся нам один только раз, но и совесть. и как жизни отданной не вернуть, так и испорченной совести… В двадцать восемь лет, ничем не больной, я ощутил в себе и во всём окружающем — какую-то безвыходность…
…Куда ж было им теперь идти? Во все стороны до леса далеко, да и дорог нет, за одним краем кладбища — подсолнухи, за другим — свёкла. Только и оставалась им тропка — та самая, за бабами, к деревне. А там где-нибудь и лес будет. Пошли так.
Иннокентий снял и куртку, остался в лёгкой белой рубашке. Островато выпирали лопатки из его некруглой спины. А шляпу снова надел от солнца.
— Ты знаешь, на кого похож? — смеялась Клара. — Есенин, воротясь в родную деревню после Европы.
Иннокентий усмехнулся, стал вспоминать:
— Ах, родина, и что ж я тут нашёл?.. Какой я стал чужой… Косить разучился, пахать разучился…
Они входили в безлюдную улицу. Между порядками домов было всего метров десять, но дорога так непоправимо, так до конца веков изрыта, искромсана гусеницами и скатами, местами засохла кочками по колено, местами налита жидкой свинцовой грязью, на высыхание которой не могло хватить никакого лета, — что двум сторонам улицы сноситься было как через реку. Торные тропинки шли только у домов, и надо было сразу выбирать сторону.
По их стороне показалась и быстро шла навстречу девочка с плетёной кошёлкой.
— Дево… — начал Иннокентий, тут разглядел, что она постарше, — девушка! — Но она быстро приближалась и оказалась женщиной лет под сорок, странно маленького роста и с бельмами на обоих глазах. Получилась насмешка, но уже не знал Иннокентий, как лучше обратиться. — Эта деревня — как называется?
— Рождество, — мелькнула она на них нездоровыми глазами и так же спешно шла.
— Рождество? — удивились между собой молодые люди. — Необычное какое название. — Вдогонку крикнули: — А почему?
— Назвали. Откуда я знаю? — отозвалась та через плечо. и спешила дальше.
И куда растеклись все те проворные бабы с поезда? Не было жизни ни на улице, ни во дворах. и покосившиеся хилые двери, как в курятниках, а не домах, и безоткрывные, без форточек, навеки вставленные двойные рамы маленьких оконок тоже по видимости не могли скрывать за собой человеческой жизни. Ни классических свиней не было видно или слышно, ни домашней птицы. Лишь убогие тряпки да одеяла, развешанные в одном дворе на верёвках, доказывали, что кто-то здесь утром был.
Солнце полно наливало собой тишину.
В глубине одного двора они заметили движение. Загребая посуху калошами, шла крупная старуха и разглядывала у себя в руке.
— Мамаша!
Не слышала.
— Мамаша!
Подняла голову.
— Слышу плохо, — высохшим плоским голосом предупредила она. Глаза её совсем как будто ничему не удивились в разряженных прохожих.
— Нельзя ли молока у вас купить? — спросила Клара.
Молоко им не нужно было, а — лучший способ разговориться.
— Коров — нету, — с достоинством ответила старуха.
В руке у неё был покойный жёлто-белый цыплёночек, он не выбивался и не дёргался.
— Мамаша, эта церковь как называлась? — спросил Иннокентий.
— Что это — называлась? — посмотрела она на него, как через плёнку. В обвисшем лице её была самистая важность.
— Ну, у каждой церкви… название же есть?
— Только что звание, — сказала старуха. — А закрыли уж не за памятью, двадцать годов. Автобусом час ехать, ближе церкви нету. А летняя рядом была — пленные разобрали.
— Какие пленные?
— Немцы.
— А зачем?
— Кирпичи отправляли. Вот цыплята у меня дохнут. Четвёртый уже. Отчего это?
Клара и Иннокентий сочувственно пожали плечами.
— Или приминает она их? — размышляла старуха, шаркая в избу, к низкой двери.
И так до конца улицы ни движенья и ни души они не видели больше, не показалась и не залаяла собака. Только две-три курицы копались тихо. Потом охотничьим шагом вышла из чертополоха — кошка, как будто уже и не домашний зверь, на людей и головы не повела, понюхала землю во все стороны и пошла вперёд, на главную улицу, такую же мёртвую, куда упиралась эта.
На их пересечении и расширении как раз и стояла та церковь: приземистый прочный храм фигурной кладки с накладными крестами из кирпичей и выше его — колокольня с двумя этажами колоколенных сплошных прорезов. Там заросло мхами и травой, и множество ласточек или ещё даже меньших птичек в непрерывном беззвучном кружении суетились на высоте прорезов, влетая, вылетая и обращаясь. Труднодоступный купол колокольни был цел, а на храме ободран от жести, оставлены только рёбра каркаса. Пережили два десятилетия и оба креста, стояли на местах. Нараспашку была нижняя дверь колокольни, там во тьме горела керосиновая лампа, стояли молочные бидоны, и не было никого. Открыта была и дверь в подвал храма, там мешки стояли на ступеньках, — и тоже не было никого.
Ни ограды, ни двора вокруг церкви не сохранилось — а с той стороны и с этой, и вокруг, и между храмом и колокольней всё было изрыто тракторами и машинами в их тряске-жажде не застрять, как-нибудь в этот раз, в этот последний бы раз выбраться, дойти и уйти от склада — и израненная, изувеченная, больная земля вся была в серых чудовищных струпьях комков и свинцовых загноинах жидкой грязи.
Церковь была — вот она, но молодые люди долго искали, где ж бы им посуху перебраться через улицу. Далеко вбок пришлось отойти и там ещё повилять и попрыгать.
В дорогу были вмешаны большие колотые куски плит, облипшие грязью. А у стен храма лежали чистые мелкие куски и крошки — белого, розового и жёлтого мрамора.
Иннокентий разогрелся от солнца, но не разрумянился, а чуть побледнел. Под краем шляпы у него взмокли волосы.
Подошли к церкви. Тяжёлой вонью разило откуда-то в неподвижном жарком воздухе — от застойной ли воды, или от скотьих трупов, или от нечистот? Они уж сами не рады были, что сюда зашли, и не до осмотра храма было им, да и нечего тут осматривать. Дальше, за церковью, был спуск, а внизу — много шаровых огромных ив, целое царство ивяное, и туда, в зелень, был их единственный уход, убег.
Но их окликнули:
— Закурить не будет, граждане?
Небольшой мужичок с головой, сильно втянутой в плечи, как бы от постоянного озноба или страха, а между тем разбитной, появился откуда-то и ширял по ним глазами.
Иннокентий с сожалением похлопал по карманам, будто всё же имел надежду найти там пачку:
— Не курю, товарищ.
— Жа-аль, — огорчился втянутоголовый, но не уходил, а быстрыми глазами рассматривал диковинных приезжих. Он не видел, на какой они машине подъехали, но понимал в них особый сорт начальства.
— Эта церковь — как называлась?
— Рождества, — уже без почтения ответил мужичок, разгадав их по одному слову, и так же быстро ушёл за угол, как и появился.
Но там, куда идти им, ниже, они заметили ещё и одноногого, с открытой деревяшкой. В синей ситцевой рубахе с белыми бязевыми латками он отдыхал на камне под липой.
— Откуда мрамор? — спросил Иннокентий.
— Чего? — отозвался латаный мужик.
— Ну вон, камень цветной.
— А-а-а… Алтарь разбили. — Думал. — Иконостас.
— А зачем?
Думал.
— Дорогу гатить.
— Отчего это у вас так… пахнет? — спросила Клара.
— Чего? — удивился одноногий. Думал. — А-а, это вам, наверно, от скотного. Скотный вон у нас, рядом.
Он показал рукой, но они уже не смотрели, они спешили вырваться — туда, к ивам, вниз.
— А что там? — спросили они.
— Там? Ничего нет. — Думал. — А, речка.
Спускалась битая тропка туда. Клара хотела сбегать, но с тревогой глянула на бледность Иннокентия и пошла с ним медленно.
— После такой деревни действительно на то кладбище потянет, — крутила она головой. — А ты — хромаешь?
— Да что-то трёт.
В раскидистой тени огромной первой ивы они остановились и оглянулись. Теперь, когда не воняло, а зелёная влажная свежесть достигла их, когда церковь оказалась на холме, не видно было страшной изувеченности земли, только птичьи точки метались и плавали вокруг колокольни, — смотреть отсюда было приятно.
— Ты очень устал! — тревожилась Клара. — Тебе надо отдохнуть. и ногу посмотреть.
Он бросил плащи и сел на землю, прислонился к наклонному стволу. Закрыл глаза. Откинутый, смотрел вверх, на церковь.
— Вот тебе, Кларочка, два Рождества…
— Почему — два?
— Наше и западное. Наше ты сейчас видела. А западное — всё небо в рекламах, все улицы — в заторе машин, душатся в магазинах, подарки — каждый каждому. и на какой-нибудь захудалой затёртой витринке — ясли и Иосиф с ослом.
Тут они различили на обрыве у церкви, там, где сохранился рядок лип, — пропущенную ими могилу с обелиском.
— Жалко, не посмотрели.
— Давай я сбегаю! — взялась Клара и наискосок, без дороги, побежала. Она бежала как весёлая, но совсем не весело было ей.
Постояла, прочла и так же легко спустилась, сильными ногами тормозя на ямках.
— Ну, кто ты думаешь?
— Священник?
— «Вечная слава воинам Четвёртой дивизии народного ополчения, павшим смертью храбрых за честь, независимость и так далее… от министерства финансов».
— Финансов? — поразился он, и шевельнулись его удлинённые уши в изломчатых крупных хрящах. — Даже и финансов! Бедные клерки… Сколько ж их тут легло?.. и на сколько человек была одна винтовка? Четвёртая дивизия ополчения?
— Да.
— Дивизия безоружных! — и четвёртая… Вот дикость этой войны — народное ополчение…
— А почему — дикость? — онедоумела Клара.
Иннокентий вздохнул и свесил голову.
— Тебе плохо?.. Инк, может вернёмся? Не надо дальше?
Он ещё вздохнул.
— Да нет, ничего. Жару я плохо переношу. и обулся неудачно, не сообразил.
— Я тоже разношенных зря не надела. А где тебе трёт? Давай газеты под пятку подложим, будет свободней.
Мастерили.
А на небе там и здесь появились перекатные облака. Иногда они прикрывали и смягчали солнце.
— Ну что ж, Инк, пойдём дальше или нет? Надо было в лес, да? Хочешь, пойдём вдоль реки, там тоже тень будет.
Он уже отошёл и улыбался:
— Вот дохлый, да? Всю жизнь в автомобилях… А ты молодец. Пойдём, пойдём.
Опять какое-то правильное насаждение было тут на медленном привольном подъёме от реки. Кроме водолюбивых ив, которые сами выбрали речку, ещё были посажены берёзы рядком и ели. и заглохший пруд был здесь с лягушками и палыми листьями — наверно, вырытый, такой правильный. Что это было всё? Заброшенное ли именье? Не у кого спросить.
Отсюда, между шарами ив, ещё красивее казалась церковь, почти на горе, — и туда-то хаживали под колокольный звон из другой, соседней деревни, начинавшейся неподалеку.
Шли вдоль реки. Тут очень приятно идти, своя тенистая влажная замкнутая жизнь. На мелких местах слышное журчание и видимая рябь, на глубоких — редкие необъяснимые вздрагивания неподвижной будто бы воды, и всюду — беготня водопеших стрекоз, а наверно, есть и рыба, и раки. А по берегу мешала им то непроходимая крапива, то ольховый прутняк. Очень скоро не стало пути близ воды. и пришлось им покинуть тень и подняться от реки единственной возможной дорогой. Иннокентий всё явнее хромал.
И вышли они — на разбросанный бригадный двор с одним домиком и одним малым сараем. Домик был, наверно, контора: на верхушке его чуть шевелился бледно-розовый флаг с оборванным краем. А сарай имел лишь такую ширину, что в одну строчку умещался лозунг: «Вперёд, к победе коммунизма!», всё же множество кирпично-ржавых, облезло-голубых и облупленно-зелёных машин неизвестного назначения с хоботами, жерлами, зацепами, и цистерны, и полевая кухня, и прицепы с подпёртыми или опущенными дышлами — всё было разбросано и покинуто на большой площади такой же изувеченной, изрытой земли, где и ногой почти пройти было нельзя. и только один человек в чумазой робе всё бродил от машины к машине, наклонялся, поднимался, что-то смотрел. Больше не было никого.
Да на холме работал один трактор.
И другого пути не было. Кое-как по колдобинам пересекли они бригадный двор. Иннокентий хромал. Снова было жарко. Они спустились к реке опять.
А она текла под бетонный мост. Уравнивал скучный прочный мост оба берега. Кажется, это было шоссе.
— Подловим попутную? — сказал Иннокентий. — Не возвращаться ж на станцию опять.
День был в середине, а прогулка при конце.
Под мостом они обнаружили родничок. Сели, стали пить.
Но тут послышался сильный гул наверху. Они вышли и из-под откоса стали смотреть на дорогу.
По шоссе катилась вереница одинаковых новеньких грузовиков под новеньким брезентом. До горы не было видно им конца, и на другую гору ушла голова колонны. Были машины с антеннами, техобслуживания, с бочками «огнеопасно» или с прицепными кухнями. Расстояния между машинами точно выдерживались метров по двадцать — и не менялись, так аккуратно они шли, не давая бетонному мосту умолкнуть. В каждой кабине с военным шофёром ещё сидел сержант или офицер. и под брезентами сидели многие военные: в откидные окошки и сзади виднелись их лица, равнодушные к покинутому месту, и к мимобежному, и к тому, куда гнали их, застылые в сроке службы.
От того, как Клара с Иннокентием поднялись, они насчитали полсотни машин, пока стихло.
И опять под мостом шуршала вода у торчащих надпиленных опор прежнего деревянного.
Иннокентий опустился на камень у родничка и сказал потерянно:
— Жизнь — распалась.
— Но в чём? но в чём распалась, Инк? — с отчаянием вырвалось у Клары. — Но ты же всё обещал мне объяснить — и ничего не объясняешь!
Он посмотрел на неё больными глазами. Взял обломанную палочку как карандаш. и на сырой земле начертил круг.
— Вот видишь — круг? Это — отечество. Это — первый круг. А вот — второй. — Он захватил шире. — Это — человечество. и кажется, что первый входит во второй? Нич-чего подобного! Тут заборы предрассудков. Тут даже — колючая проволока с пулемётами. Тут ни телом, ни сердцем почти нельзя прорваться. и выходит, что никакого человечества — нет. А только отечества, отечества, и разные у всех…
Шарашка. Прогулочный дворик.
Его крайняя, отдельная тропка, у снежного сугроба, упирается в ствол большой липы. Спиной к стволу отлёг СОЛОГДИН. Лицо его — застывшее блаженство. Он — даже неприлично хорош собой. К нему лицом стоит НЕРЖИН, уже в комбинезоне и старой, потёртой фронтовой шинели.
НЕРЖИН: Всё успел сказать. Подтвердила, что адрес помнит, всё передаст!
СОЛОГДИН (весь в задумчивой улыбке): Спасибо, Глебчик.
НЕРЖИН: А Надюша моя… вынуждена будет разводиться…
Падают редкие, некрупные снежинки. Нержин подставил ладонь. Упала одна, другая, и на шинельный рукав. Отчётливо шестигранные, не сразу и тают.
НЕРЖИН (медленно, с перерывами): Не хочется ни говорить, ни слушать… Теперь медленно протягивать через себя… Но и на шарашке, как в лагере, — где побудешь один?
СОЛОГДИН (переменённым голосом): Осторожно, не брякни чего, Руська идёт.
Из-за спины Нержина подходит РУСЬКА — с непритворённым взглядом, лицо его дышит чистотой. Но он заметил заминку.
РУСЬКА: Друзья! Мне очень обидно, что я — с открытой душой, рассказал вам про мою двойную игру, а на меня косятся мои же доверенные. Я подошёл к вам — предложить: хотите, завтра в обеденный перерыв я вот здесь, на дворе, продам вам всех христопродавцев в тот самый момент, когда они будут получать свои тридцать серебреников?
СОЛОГДИН (изумлённо): Да как же ты это сделаешь?
РУСЬКА (очень весело): А это преимущество моей разведслужбы у Шикина. Завтра каждый Иуда будет получать свои серебреники за третий квартал этого года.
НЕРЖИН: Резинщики! Уже и четвёртый отработали — а они только за третий? Почему такая задержка?
РУСЬКА: Очень во многих местах надо подписывать служебную ведомость. В том числе буду получать и я.
— и как же платят? У нас наличных не бывает.
— Да, проводится по бухгалтерии на лицевой счёт. и вот тут самое остроумное. Осведомителю выписывают сто пятьдесят рублей за квартал. Но для приличия надо переслать по почте, а неумолимая почта берёт два процента почтовых сборов. Все кумовья настолько жадные, что своих денег добавить не хотят, и настолько ленивые, что не поднимут вопроса о повышении ставки сексотам на три рубля. Поэтому переводы будут все, как один, на сто сорок семь рублей. Поскольку нормальный человек никогда таких переводов не шлёт, — эти недостающие тридцать гривенников и есть Иудина печать. Завтра в обед надо столпиться около штаба и у всех выходящих смотреть бланк перевода. Родина должна знать своих стукачей, как вы находите, господа?
СЕРИЯ СЕДЬМАЯ
Общежитие МГУ на Стромынке.
Комната аспиранток, продолговатая, к одному окну. По две кровати вдоль стен, а пятая поперёк, под окном. Ещё — шаткие этажерки, перегруженные книгами. По среднему проходу — два стола. Глубже — «диссертационный», заваленный папками, бумагами, стопками машинописи; ближе — общий. За ним ОЛЕНЬКА бережно гладит свой выходной костюм (утюг включён в патрон-«жулик» над столом); за его ж углом — полная МУЗА, грубоватые черты, в больших очках, пишет письмо. На кровати Люды сверху разложено уже выглаженное голубое платье, сама же ЛЮДА сидит и рассказывает о своём ухажёре. Две кровати — застелены, пусты.
ЛЮДА: Я говорю: вы, испанцы, вы так высоко ставите честь человека, но если вы меня поцеловали, то ведь я обезчещена! — (Громко смеётся)
Оленька снисходительно посмеивается, Муза страдательно затыкает пальцами оба уха, пока перечитывает. В дверь — условный стук («утюг не прячьте, свои!»). Муза, прихромнув, пошла откинула крючок. Вошла ДАША — и тотчас за собой дверь на крючок.
ДАША (с хохотом): Девчёнки! девчёнки! Еле от кавалера отвязалась! От кого догадайтесь!
ЛЮДА: У тебя так жирно с кавалерами?
ДАША: От Буфетчика!
Стянула шапку-ушанку, повесила на колок. Медлит снять дешёвенькое пальтецо с цыгеечным воротником.
ЛЮДА: Ах того?!
— В трамвае еду — он заходит: «Вам до какой остановки?» Ну, куда денешься, сошли вместе. Куда, говорит, идёте? Кто у вас тут в студенческом городке? Я говорю: вахтёрша знакомая, рукавички вяжет.
ОЛЕНЬКА: А откуда он взялся, Буфетчик?
ДАША: Да меня Людка научила, это ещё осенью, — мол, девушкам всё портит, что они по двое ходят, иди гулять в Сокольники, только одна. Каждый добывает себе счастье как может. Я и пошла. Вот и нашла… Спросил: а где вы работаете? Ну, не признаться, что аспирантка, учёная баба — пугало для мужчин. Сказала, что кассиршей в бане. Так стал приставать: в какой бане да в какую смену…
Она сняла пальто. В тугом свитере, в простой юбке, гибкая, ладная, отвернула цветистое покрывало, осторожно присела на край своей кровати, убранной почти молитвенно — со взбитостью подушки и подушечки, с кружевной накидкой, вышитыми салфеточками на стене.
ДАША: Остались только ямки чёрные в тех местах, где должны были двигаться и улыбаться наши сверстники. Простая бабья радость — ребёнка родить, и не от кого. — (Ревниво досмотрела.): Люда, а ты — ноги помой, советую.
Села что-то ушивать. Теперь, в тишине, Муза может спокойно кончить письмо родителям. Но Даша не унимается:
— А где Надюшка? Как вы думаете, девчата, сколько можно? Ну, пропал без вести. Ну, пошёл пятый год после войны. Ну, кажется, можно бы и отсечь?
МУЗА (всплеснув руками над головой): Ах, что ты говоришь! Что ты говоришь! Только так и любят! Истинная любовь перешагивает гробовую доску!
ОЛЕНЬКА: Это, Муза, что-то трансцендентное. У Нади просто тяжёлая черта: любит упиваться своим горем. и только своим.
ДАША (ведя иголочкой по рубчику): Всё это она нас морочит, врёт. Ни на какой возврат из безвести она не надеется. Слушать надо уметь, девки. Она старается о нём говорить без «был» и без «есть».
— Но что ж тогда с ним?
— Да неужели не ясно? Он жив — но бросил её! и ей стыдно в этом признаться. Вот и придумала «без вести».
ЛЮДА (хлюпая за занавеской): А вот в это поверю! в это поверю!
МУЗА: Значит, она жертвует собой для его счастья! Значит, почему-то нужно, чтоб она молчала!
ЛЮДА (выскочила без халата, голоногая): Заело её, потому и придумала, что святоша, верна мёртвому. Ни черта она не жертвует, дрожит, чтоб её кто приласкал.
— А к ней Щагов ходит…
— Ходит — это ничего не значит! Надо, чтобы клюнул.
В дверь тот же условный стук: «свои». Скинули крючок — вошла НАДЯ — волочащимся шагом, как бы желая подтвердить худшие насмешки. Повесила шубу молча. Брезгливо прошла мимо неубранной кровати Люды. и тяжело опустилась на свою, у окна. Но Оленьку, укреплявшую розовые пуговицы на своей кремовой блузке, раздражил этот вид застывшего страдания.
ОЛЕНЬКА: Что с тобой, Надюша? Ты утром ушла весёлая.
Слова были сочувственные, но Надя услышала раздражение в тоне:
— Я тебе мешаю? Я порчу тебе настроение?
Они смотрят друг на друга через диссертационный заваленный стол.
— Видишь ли, Надя. Я не хотела бы тебя обидеть. Но, как сказал наш общий друг Аристотель, человек есть животное общественное. и вокруг себя мы можем раздавать веселье, а мрак — не имеем права.
Надя сидит пригорбившись, уже очень немолода эта посадка. и выговорила убито:
— А ты не можешь понять, как бывает тяжко на душе?
— Как раз я — очень могу понять. На отца и брата мы с мамой получили похоронные в одну неделю. А мама долго, тяжело болела — и тоже умерла. Тебе тяжело — но нельзя так любить себя. Нельзя себя настраивать, что ты — одна страдалица в целом мире.
Надя уступила, солгала, кивнула на диссертацию:
— Простите, девочки, измучилась я. Нет больше сил переделывать, сколько можно?
И Оленька сразу примирительно:
— Ах «низкопоклонство»? Иностранцев повыбрасывать? Так это ж не тебе одной.
В отворот жакета она вколола рубиновый цветочек брошки и душится. Она рдеет, она вся — нарастающее счастье.
И Люда уже забралась в небесно-голубое платье, тем лишив свою неубранную постель веероподобного прикрытия. Перед зеркалом освежает подкраску бровей, ресниц. и уже надела боты, потянулась за шубкой. Тут Надя резко кивнула на её постель и сказала с отвращением:
— Ты опять оставляешь нам убирать за тобой эту гадость?
— Да пожалуйста, не убирай! — вспыхнула Люда и сверкнула выразительными глазами. — и не смей больше притрагиваться к моей постели! — Её голос взлетает до крика: — и не читай мне морали!
Сорвалась теперь и Надя, и всё невысказываемое прорвалось в крик и у неё:
— Ты должна понимать! Ты оскорбляешь нас! Может у нас быть что-нибудь другое на душе, чем твои вечерние удовольствия?
— Завидуешь? У тебя не клюёт? Если ты заблудилась вместо монастыря в аспирантуру — так сиди в углу и не будь свекровью! Надоело! Старая дева!
— Людка, не смей! — кричит и Даша.
Очнулась Муза и, угрожающе в сторону Люды, размахивая читаемой книгой:
— Мещанство живёт! и торжествует!
Все пятеро стали кричать своё, не слушая других и не соглашаясь с ними. Надя, как была, в том лучшем, что надевала на свидание, бросилась плашмя на кровать и накрыла голову подушкой.
Люда снова перепудрилась, расправила над беличьей шубкой вьющиеся белые локоны, спустила чуть ниже глаз вуалетку и, не убрав-таки постели, но в уступку накинув одеяло, ушла.
И Оленька, подведя кудри под шляпку, юркнула в меховушку с жёлтым воротником и пошла к двери.
Так их комната отправила в мир один за другим два прелестных и прелестно одетых соблазна.
Снег за окном усиливается, там уже темнеет. Зажгли свет — а он оказался багрово-тусклый, в полнакала. и комната стала совсем унылой.
ДАША (отчаянии): Опять фаза выпала! Повесишься тут. Музочка, пойдём в кино!
МУЗА: А что идёт?
— «Индийская гробница».
— Но ведь это — коммерческая чушь.
— Да ведь в корпусе рядом…
Вышли. и тут же Даша через дверь:
— Надюша! Щагов пришёл. Встанешь?..
Надя сорвала с головы подушку — и, уже на ногах, поправляет перекрученную юбку, гребнем приглаживает волосы.
ЩАГОВ — в шерстяной гимнастёрке с планочками орденов, в диагоналевых брюках. Армейская выправка: такой может нагнуться, но не сгорбиться.
ЩАГОВ: Простите, Надя… Я — не вовремя?..
НАДЯ (поспешно): Нет-нет, что вы!
(Какое облегчение: в жёлто-багровом полумраке не были видны её опухшие от слёз глаза.)
— Я сегодня и днём к вам приходил, но вас целый день не было.
— Да…
— Хотел пригласить вас погулять. А сейчас можно у вас посидеть?
У него низкий твёрдый голос, неторопливо говорит, от него — спокойствие.
— Да, конечно, конечно!
Оглядывает, какой бы стул ему подать, — но Щагов сам выбрал, перенёс к диссертационному столу и сел — так получилось, что совсем близко от Надиной кровати.
ЩАГОВ: При таком свете мы и в шахматы поиграть не сможем.
— Да, пожалуй…
— и на «Индийскую гробницу» никак не хочется. Когда прошлый раз вы позвали меня в кино — было удачней.
— Вы находите? А это не слишком было своевольно?
— Никак! Я очень оценил каждый знак вашего внимания ко мне.
— Простите, не могу вас ничем угостить.
— А я — никак не за этим.
Странная мысль: сбоку не наклонялся к ним надзиратель, и можно говорить о чём угодно. Однако они почему-то оба молчат. Но так близко они сидят — он взял её за кисти, руки в руки. и сказал, разделяя слова паузами:
— Как… мне… вас… понять?..
НАДЯ (невнятно, не сразу): В чём?.. понять?..
Он перебрал её руки к локтям. Она не сопротивлялась. Он перебрал — к плечам.
ЩАГОВ: Вы… знаете… как… горит… сухое… сено?
НАДЯ (упавшим голосом, почти шёпотом): Наверно, так… Огонь до небес… А потом кучка пепла…
ЩАГОВ (твёрдо): До небес!!
НАДЯ (совсем слабо): и — кучка пепла?..
— Так зачем же вы швыряете — швыряете — швыряете огнём в сухое сено??
— Разве я?.. Вы могли так истолковать?
— А как иначе?.. и уже не раз.
Пересел на кровать рядом с ней — и всю забрал в объятие.
И — целует.
Она уронила голову к нему на грудь. Молчание.
Так, держа её всю обнявши, Щагов чуть раскачивается вместе с ней, как баюкает.
ЩАГОВ: Вы — не здешняя. Вам здесь плохо… Да и я — не здешний. Эти улицы — неохотно принимают солдат. Я так и остался — из местности блиндажной… За все четыре года войны у меня редко выдавался день, чтоб я с утра был уверен, что доживу до вечера. Я — сапёр, не состоял в штабах, а в тыл отлучался только в госпиталь. У меня не осталось родных, а домишко, где мы жили, смело бомбой. На фронте нам казалось: зато — когда воротимся с войны-ы!.. Мы вернулись, очищенные близостью смерти… и тем разительней было нам увидеть, как тут за войну все ожесточились. и какая тут пропасть между устроенными и неустроенными. Нас, вернувшихся, не ждут. Что привёз чемодан трофеев из Германии — всё загнал на базаре. Хожу — в чём демобилизовался.
Целует, целует её. и Надя — его. Но — тяжело запрокинув голову, с трудным выдохом:
— Да, вы мне очень нравитесь. Но… Но… У меня есть муж.
— Знаю. Без вести пропавший?
НАДЯ (слабым шёпотом): Нет, не пропавший…
— Вы надеетесь — он жив?
— Я его видела… сегодня.
Щагов удивлён, отклонился. Но продолжает держать её за плечи.
НАДЯ: Непоправима всякая смерть, но она случается всё-таки однократно. А потом — незаметными сдвигами, всё-таки отодвигается в прошлое. и постепенно освобождаешься от горя. Но если с фронта… берут человека в тюрьму — то, смерть не смерть, так и остаётся в настоящем и будущем. Но, если и десять лет — не конец, а за ним — ссылка… и вечная… в верховья Ангары… А надо заполнять страшную анкету… на восьми страницах… и — что писать?..
Щагов постепенно высвободил Надю. Тихо встал. Отодвинул стул, прошёл —
ушёл…
Оглушённая Надя тоже встала. Прислонилась к оконному переплёту, раскинула руки по стёклам. За окном — падает редкий снег.
Была в жизни маленькая тёплая точка — и не стало.
Пусть — убежал. Но она — права, что всё сказала.
Фонари за окнами уводили в чёрную темноту будущего.
А Щагов — внезапно опять вошёл.
В руках несёт начатую бутылку и два маленьких стаканчика.
ЩАГОВ (грубо, бодро): Ну, жена солдата! Не унывай, держи стакан. Была б голова — а счастье будет. Выпьем — за воскресение мёртвых!
Шарашка. Здание — снаружи, во тьме.
Светящиеся обрешеченные окна двух этажей полукруга. Мреющие струйки света — вовне. А шире и вокруг — фонари зоны, вдоль колючей проволоки. Торжественно падает редкий снег.
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: По воскресным вечерам арестантам шарашки давали отдых, вынужденный тем, что вольняшки отказывались дежурить в лабораториях. Отдых был в том, что весь внешний мир, Вселенная с её звёздами, планета с её материками, столица с её блистанием — всё это проваливалось в чёрный океан, почти неразличимый сквозь обрешеченные окна.
Залитый изнутри никогда не гаснущим электричеством МГБ, двухэтажный ковчег бывшей семинарской церкви, с бортами, сложенными в четыре кирпича, беззаботно и безцельно плыл сквозь этот чёрный океан человеческих судеб и заблуждений.
Те, кто плыли в ковчеге, были невесомы сами и обладали невесомыми мыслями. Они не обладали счастьем и потому не испытывали тревоги его потерять. Плечи их не были обременены заботами о жилище, топливе, хлебе и одежде для детишек. Мужчины, выдающиеся по уму, образованию и опыту жизни, — здесь принадлежали только друзьям. Дух мужской дружбы и философии парил под парусным сводом потолка.
Может быть, это и было то блаженство, которое тщетно пытались определить и указать все философы древности?
Шарашка. Полукруглая комната.
Высокий сводчатый потолок. Вся комната ярко освещена, только от верхних коек кое-где тень на нижние, под ними. Два десятка зэков. Кто в комбинезоне, кто в нижнем белье. Кто на койках сидит, лежит, читает, кто идёт курить в широкий светлый коридор — в него нараспашку широкие двустворчатые двери под аркой. РУБИН лежит ничком на нижней койке, к окну головой, одну книгу читает, а три-четыре у него под плечом и под боком, и торчат из-под матраса. РУСЬКА на верхней — играет с корзиночкой к ёлке, сплетённой Кларой, даже целует её. ПОТАПОВ хлопочет составить три тумбочки в ряд в проходе между койками — своей и смежной, приготовление к «именинному столу». НЕРЖИН помогает ему, откуда-то что приносит. Угощение они складывают на широком подоконнике. Тут — печенье просто и печенье с намазанным кремом; в пластмассовой миске — витой «хворост» от Нади; в двух консервных банках — сливочная тянучка; нарезанный белый хлеб, и — в простой литровой банке (неполной) различается таинственная темноватая жидкость. На тумбочках — стаканы стеклянные и пластмассовые. Собираются, усаживаются и гости: СОЛОГДИН, РУБИН, АБРАМСОН и КОНДРАШЁВ — пожилой высокий художник, с ещё энергичным лицом и в больших роговых очках. Расселись на обеих койках, Нержин — на подоконнике; образовалось как купе, отъединённое от остальной комнаты.
СОЛОГДИН (блаженно-мечтательно): А что, господа? Давайте вспомним, кто из нас и когда сидел за пиршественным столом. Его признаки — бледноцветная скатерть, вино в хрустале и нарядные женщины, конечно…
ПОТАПОВ (в ворчливой манере): Подождите вспоминать, хлопцы. Пока гроза полуночных дозоров не накрыл нас с этим зельем, надо переходить к официальной части. Викентьич — разливайте.
Нержин начинает разливать из банки, тщательно соблюдая равенство объёмов. Все торжественно молчат. Кондрашёв, выпрямляясь, хотя и без того сидит прямо, говорит громче, чем нужно:
— За виновника нашего сборища! Да будет…
Нержин, привстав, у него есть чуть простора у окна, и, волнуясь, тихо:
— Друзья мои, простите, я нарушу традицию… Я… Будем справедливы! Не всё так черно в нашей жизни! Вот именно этого вида счастья — мужского вольного лицейского стола, обмена свободными мыслями без боязни, без укрыва — этого счастья ведь не было у нас на воле?..
АБРАМСОН: Да собственно, самой-то воли чаще не бывало. Если не считать детства… Но, например, на Ангаре, в Богучанах, куда ссыльные, под вид Нового года, собирались обсуждать международное и внутреннее положение страны, — нет, такой обмен был. Двадцать лет назад…
НЕРЖИН: Клянусь, никогда не забуду того истинного величия человека, которое узнал в тюрьме! Я горжусь, что тут собралось такое отобранное общество. Не будем тяготиться возвышенным тоном. Поднимем тост за дружбу, расцветающую в тюремных склепах.
Чокаются. Медленно отпивают.
РУБИН: А градус есть! Браво, Андреич! Как вам это удалось?
ПОТАПОВ: Вы ж понимаете… Взаимодействие между лабораториями… А для цвета добавили кофе.
КОНДРАШЁВ (глядя в окно, мимо Нержина): А снег-то какой!
Все обернулись. За стёклами, за решёткой мелькают, опускаются как бы чёрные хлопья: это тени от снежинок, отбрасываемые на тюрьму фонарями и прожекторами зоны.
КОНДРАШЁВ: Даже снег нам суждено видеть не белым, а чёрным!
ПОТАПОВ: Ну, как идут ваши картины, Ипполит Михалыч? Начальство разбирает себе, на украшение хоромов? и по-прежнему, чтоб каждый месяц — готовая картина?
КОНДРАШЁВ: Да как? Если натюрморт с разрезанным красным арбузом, виноград — очень берут. А пейзажи — если весёлые. А если стылый ручей в ноябре, перед снегом — отворачиваются.
НЕРЖИН: Да уж, в ваших пейзажах весёлости не увидишь. У вас если дуб — то не раскидистый для пикника, а — на самом краю высокой скалы — и искалеченный, все ураганы, какие за двести лет дули, — все через него прошли, когтями рвали его из скалы.
РУБИН: А Оттело, Яго — никто не берёт?
КОНДРАШЁВ: Сразу отворачиваются.
РУБИН: Но вы же и шекспирист до крайности. У вас если злодейство — то самое непомерное. Такое устарело и стилистически, и не надо этих больших букв над Добром и Злом.
КОНДРАШЁВ (возмутился): Это — слышать невозможно! Что — устарело? Злодейство устарело? Да только в нашем веке оно и проявилось по-настоящему, при Шекспире были телячьи забавы. Сколько, сколько невинных жертв?
АБРАМСОН (не настаивая, больше внутренне): Не все — покорные жертвы. В давние годы я знал и других…
КОНДРАШЁВ: Над Добром и Злом — буквы надо пятиэтажные ставить, чтоб мигало, как маяки!
ПОТАПОВ: А в лагере, знаете, и остатки совести — за двести грамм черняшки…
КОНДРАШЁВ — ещё воздвигся спиной, смотрит вперёд и вверх, как Эгмонт, ведомый на казнь:
— Никогда никакой лагерь не должен сломить душевной силы человека!
ПОТАПОВ: Вы ещё не были в лагерях, не спешите судить. Не знаете, как там хрустят наши косточки.
АБРАМСОН (очень устало): Верти не верти, а бытие определяет сознание.
КОНДРАШЁВ (вытягивая руки, готовый схватиться с целым миром): Нет! Нет! Нет! Это было бы унизительно! Для чего тогда и жить? Ещё неизвестно, кто кого формирует: жизнь — человека или сильный, благородный человек — жизнь! В человека от рождения вложена некая Сущность, это — как бы ядро человека. и каждый носит в себе образ Совершенства, хотя он, может быть, и совсем затемнён.
СОЛОГДИН: Кто не видел — сходите, господа, в ателье Ипполит Михалыча на задней лестнице, посмотрите картину «Замок Грааля». Вот это и есть образ Совершенства.
РУБИН (кивая на литровую банку): А Карфаген — должен быть уничтожен?..
ПОТАПОВ: и чем быстрей — тем лучше. Кому охота в карцере сидеть? Викентьич, разливайте!
Нержин мерно разливает до опрокида банки.
АБРАМСОН: Ну, на этот-то раз вы разрешите выпить за именинника?
НЕРЖИН: Нет, братцы. Право именинника я использую, только чтоб нарушить традицию. Я… видел сегодня жену. и увидел в ней… всех наших жён, измученных, запуганных — анкетами, спецотделами, соседями… Мы терпим потому, что нам деться некуда, — а они? У них — как будто есть выбор. У них такое может быть горькое предвидение: не изменяла — а муж подумает: никому не была нужна?.. Выпьем — за них.
КОНДРАШЁВ: Да, какой святой подвиг!
Выпили. и немного помолчали.
ПОТАПОВ: Немецкий плен пережили — слышим, читаем: «Возвращайтесь! Родина всем простила! Родина зовёт!» Вот — и вернулись… К жёнам…
НЕРЖИН: и сколькие поверили! Я со сколькими пленниками в камерах сидел в Сорок Пятом… Народ — поверил, так валом и повалил. Все ждали и верили, что страна оздоровится!
РУБИН: Я тебе сколько раз говорил: не злоупотребляй словом «народ». Оно — неопределённое до безсмыслицы.
АБРАМСОН: К сожалению — да.
СОЛОГДИН: Да, тут надо сильно подумать. Тупая масса, как правило, не понимает своих избранцев. Простонародье — это совсем не народ.
НЕРЖИН: Я — много об этом думал, друзья. и сказал бы так. (Не без труда подыскивая слова.) Народ — это не все, говорящие на нашем языке… Но и не избранцы, отмеченные огненным знаком… Не по рождению… и не по труду своих рук… и не по крылам своей образованности отбираются люди в народ. А по душе. А душу — выковывает себе каждый сам, год от году. и надо стараться отгранить в себе такую душу, чтобы стать человеком. и через то — крупицей своего народа… Конечно, с такой душой человек обычно не преуспевает в жизни. Ни в должностях. Ни в богатстве. и вот почему народ преимущественно располагается не на верхах общества.
Квартира прокурора Макарыгина.
Квартира обширная (сдвоенная), очень богато обставленная. Трофейная мебель из Германии. Бронза. Крупная радиола как часть мебели. Ковры, зеркала. В ходе эпизода видим то одну комнату, то другую. Есть и гостиная, но начинается действие в столовой. За столом — человек до пятнадцати. Во главе — прокурор МАКАРЫГИН, генерал-майор, в кителе с орденами, золотые погоны, у него тупой окат головы и оттопыренные уши. По правую руку от него — генерал-лейтенант СЛОВУТА, тоже крупный, утробистый, выпирающий из мундира, шея переливается через стоячий воротник кителя. Ещё: дородная ЖЕНА МАКАРЫГИНА, дальше — дочери: ДИНЭРА, чернявая, очень живая и свободная в жестах, ДОТНАРА (Дотти) — белокурая, самодовлеющая красавица, зятья — писатель ГАЛАХОВ, с наградами на штатском костюме, солидно держится, ИННОКЕНТИЙ в дипломатическом мундире, КЛАРА, молодой РЕФЕРЕНТ Верховного Совета, с колодочкой ордена Ленина, очень приглаженный. ЭРИК, журналист. и другие. На столе серебро, много хрусталя — да цветного, не из Главпосуды, и фужеры позолоченные. Все вина уже питы. Ужин подходит к концу, подают сладкое. Две девушки, почти девочки, напряжённо, старательно обслуживают.
МАКАРЫГИН (Иннокентию): Эх, не потешил ты мою старость внучатами. (Словуте.) Ведь они что с женой? Подобралась парочка, баран да ярочка — живут для себя, и никаких забот. и всё время по заграницам, устроились. Прожигатели жизни. Вы его спросите, ведь он, сукин сын, эпикуреец. А? Иннокентий, признайся — Эпикура исповедуешь?
ИННОКЕНТИЙ: Эпикура? Исповедую, не отрекаюсь.
СЛОВУТА: А это — марксистом быть не мешает?..
МАКАРЫГИН: Да нет.
ИННОКЕНТИЙ: Я, вероятно, удивлю, если скажу, что «эпикуреец» принадлежит к числу слов, не понятых во всеобщем употреблении. Когда хотят сказать, что человек непомерно жаден к жизни, сластолюбив, похотлив и даже попросту свинья, говорят: он — эпикуреец. А Эпикур как раз обратен нашему дружному представлению о нём. В числе трёх основных зол, мешающих человеческому счастью, Эпикур называет ненасытные желания. Он говорит: на самом деле человеку надо мало— именно поэтому счастье его не зависит от судьбы. Так он освобождает человека от страха перед ударами судьбы — и поэтому он великий оптимист, Эпикур!
ГАЛАХОВ: Да что ты??
Вынул дорогую записную книжечку в кожаном переплёте с белым костяным карандашиком, записывает. Лицо у него — несколько располневшее, смугловатое, как от загара.
СЛОВУТА (Макарыгину): Налей, налей ему ещё! А то он нас заговорит.
Макарыгин наливает. Иннокентий показывает, что уже нельзя, и время упущено.
МАКАРЫГИН: Тебе в наказание: опоздал, и за мой новый орден не выпил. Пей теперь!
Иннокентий — с улыбкой колебания, нехотя — но отпивает. Впрочем, уже разрешено от стола вставать, расходятся по разным комнатам. На радиоле поставили импортную пластинку, пока негромко. Можно встать и Иннокентию. Дотти — по другую сторону стола, а Клара рядом, и кивает, отзывает его…
…дальше, через гостиную, дальше, в свою комнату. и — закрыла дверь. Очень простой между ними тон.
КЛАРА: Ты так опоздал. и приехал такой подавленный. Тебе — нехорошо?
ИННОКЕНТИЙ: Да, Кларонька… Очень не хотелось ехать, веселиться… А Дотти звонит домой: никак нельзя не приехать, отмечаем орден Трудового Красного Знамени, и Пётр Афанасьевич требует, чтобы не в штатском, а непременно в мундире, для Словуты. Так что-то не хотелось! Даже трубку телефонную держать в руках противно.
КЛАРА (вся внимательна, горько): Нет, не понимает она тебя! и не хочет понять.
ИННОКЕНТИЙ: Да уж… Если всё рассказывать… Но представь себе: ехал — через полное не могу, а тут — почему-то легче стало. Даже вот сейчас совсем легко.
КЛАРА: Я видела, ты светлеешь. Держись! А мне мама — жениха пригласила, вот того референта. Ну его к чёрту… Пустой вечер. Ну, пойдём ко всем.
Идут в гостиную. Музыка уже громче. Танцует молодёжь, две-три пары. Есть и телевизор, металлически бубнит. Референт пригласил Динэру. Она вся в импортном чёрном шёлке «лакэ», только ниже локтя алебастровые руки вырываются из лакированной блестящей как бы кожи. Словута прощается с Макарыгиным в передней.
СЛОВУТА: Хорошо живёшь, Макарыгин. Старший зять — лауреат трижды?
МАКАРЫГИН (с гордостью): Трижды.
СЛОВУТА: Ну и младший боек. До первого ранга дослужит. Ну, спасибо, прощевай. — (И с хозяйкой.)
Прислуга сменяет посуду к чаю. Галахов ловит Иннокентия под локоть. Ведёт его в диванную, показывает прислуге поднести туда питья. Садятся через столик. Отсюда — незадёрнутый хороший вид в окно на площадь Калужской заставы с вечерними огоньками светофоров, автомобилей, идёт снег.
ГАЛАХОВ: Пользуюсь встречей, Инк. Разреши тебя кое о чём расспросить.
ИННОКЕНТИЙ (он даже веселеет): Привилегия писателей — допрашивать. Вроде следователей. Всё вопросы о преступлениях.
ГАЛАХОВ: Мы ищем в человеке не преступления, а его достоинства, светлые черты.
— Тогда ваша работа противоположна работе совести. Да ты не хочешь ли писать книгу о дипломатах?
— Хочешь — не хочешь, творчески так легко не решается. Но — запастись заранее материалами… Не всякого дипломата расспросишь. Спасибо, что ты — родственник.
— и твой выбор доказывает твою проницательность. Посторонний дипломат, во-первых, наврёт тебе с три короба. Ведь у нас есть что скрывать.
— Я понимаю… Но этой стороны вашей деятельности… отражать не придётся, так что она меня…
— Ага. Значит, тебя интересует главным образом — быт посольств, наш рабочий день, ну там, как проходят приёмы, вручение грамот…
— Нет, глубже! и — как преломляются в душе советского дипломата…
— А-а, как преломляются… Ну, уже всё! Я понял. и до конца вечера буду тебе рассказывать. Да ты и сам можешь хорошо представить. Высокая идейность. Высокая принципиальность. Беззаветная преданность нашему делу. Личная глубокая преданность товарищу Сталину. Неукоснительное следование инструкциям из Москвы. У некоторых — сильное, у других — слабоватое знание иностранных языков. Ну и ещё — большая привязанность к телесным удовольствиям. Потому что, как говорят, жизнь даётся нам — один только раз… Но объясни и ты мне сперва: военную тему ты что же бросил? Неужели исчерпал?
— Исчерпать? — её невозможно.
— Да, вообще с этой войной вам подвезло. Коллизии, трагедии — иначе откуда б вы их брали? В советском обществе их нет.
— Военная тема — врезана в сердце моё… и мёртвым слава. А живым — жизнь. Знаешь, Инк, на фронте метко говорят: что смерть? Той единственной пули, которая тебя убьёт, — ты не услышишь. А которая свистит — та уже не убьёт. и выходит, что смерть — как бы тебя и не касается: ты есть — её нет, она придёт — тебя не будет.
В диванную почти вбегает Динэра. За ней сразу — Эрик.
ДИНЭРА: Коля! А захотелось нам тряхнуть стариной. Споём «фронтовую корреспондентскую»!
ЭРИК: Николай Аркадьич! Не откажите! С кем же нам ещё?
Галахов сбился с разговора:
— Да, война, война… Мы попадаем на неё робкими горожанами, а возвращаемся с бронзовыми сердцами. Что, без сопровождения?..
А радиолу уже выключили. Сели втроём на большой диван. и запели, недостаток музыкальности возмещая искренностью:
От Москвы до Бреста Нет на фронте места…Стягивались слушать их.
От ветров и водки Хрипли наши глотки. Но мы скажем тем, кто упрекнёт…Молодёжь с любопытством глядит на знаменитость, кого не каждый день увидишь.
…Там, где мы бывали, Нам танков не давали, Репортёр погибнет — не беда, И на «эмке» драной С кобурой нагана — Первыми вступали в города!Квартира Володиных в престижном высотном доме.
ДОТТИ уже скинула шубку, осталась, как была на вечере: платье без рукавов, зато полунакидка, отороченная мехом, её рукава у локтей разрезаны, у кистей стянуты туго. Она ступает по полу и властно, но и как бы плывя по воздуху.
А Иннокентий, без шапки, как стал в пальто у вешалки — так и стоит. Рассеянно.
Дотти подошла к нему беззвучно — и стала бережно снимать с него пальто.
Он смотрит на неё — как не видит.
Или как в первый раз увидел.
Эти губы, никогда не насытные. Волосы. Плечи. и — собрано сразу в одну. А всего и ни у кого не бывает сразу вместе.
Он — отдыхает. От невместимого напряжения этих суток.
И — положил одну руку на её плечо.
И Дотти тотчас вобрала его взгляд. и верхняя губа её мило вздрогнула, по-оленьи.
Разве — может она что-то понять? Как ей самой узнать, что в ней не хватает — понимания?
Но тут ещё длится тёплая безопасность многолюдного вечера. и Дотти — соучастница этой безопасности. Как и всех прежних радостей их.
Дотти наклонила пред ним голову — так что он видит особенный, знакомый узор её волос на затылке. и вдруг сказала с покаянной внятностью:
— Побей меня. Как мужик бабу бьёт. Побей хорошенько.
И посмотрела в полные глаза. Она не шутит нисколько. и даже есть признак плача — её особенный: лишь единожды смачиваются глаза — и тут же высыхают до тёмной пустоты.
Он положил и вторую руку ей на плечо:
— Зачем ты бываешь такой грубой? Такой непонятливой?
— Я бываю грубой, когда мне очень больно… ты последний раз не взял меня, в Рим… А я… Побей меня.
Так и стоят, безпомощно.
— А вчера и сегодня мне так тяжело, так тяжело… — пожаловался Иннокентий.
— Знаю, — уже поднимаясь от раскаяния к праву, прошептала сочными, сочными губами. — и я тебя сейчас успокою.
— Время ли, — жалко усмехнулся он. — Это не в твоей власти.
— Всё в моей, — глубокозвучно внушает она. — На что ж бы моя любовь годилась, если б я не могла тебя успокоить?
И уже Иннокентий погрузился в её губы, возвращаясь в любимое прежнее.
И они пошли по комнатам, не разъединяясь.
СЕРИЯ ВОСЬМАЯ
Шарашка. Коридор перед полукруглой комнатой.
Просторный коридор ярко освещён. Дверь, под аркой, в комнату — закрыта. Часть коридора, при двери, возвышена, потом — три широкие ступеньки снижают её. Ночь. Изредка из двери выходит один-другой зэк, в одном белье, сонно проходит, по своей нужде, мимо горячо спорящих, никого, ничего не замечающих РУБИНА (он курит) и СОЛОГДИНА (не курит). Они уселись на верхней ступеньке, как на скамье. (Весь спор вести в очень быстром темпе.)
РУБИН: Ну, знаешь, спор становится безпредметным. Если марксизм — не наука, что ж тогда наука? Откровения Иоанна Богослова? Или Хомяков о свойствах славянской души?
СОЛОГДИН: Да не нюхали вы настоящей науки! Предметы всех ваших рассуждений — призраки. В истинной науке все положения с предельной строгостью выводятся из исходного!
— Золотко? Ком-иль-фончик! Так так у нас и есть: всё экономическое учение выводится из товарной клетки. Вся философия — из трёх законов диалектики.
— Но знание подтверждается умением применять выводы на деле!
— Детка! Что я слышу? Критерий практики в гносеологии? Так ты стихийный, — Рубин вытянул крупные губы трубочкой и нарочно сюсюкал, — материалист! Хотя немного примитивный.
— Вот ты всегда ускользаешь от честного мужского спора! Ты опять предпочитаешь забрасывать собеседника птичьими словами!
— А ты опять не говоришь, а заклинаешь! Пифия! Почему ты думаешь, что я горю желанием с тобой спорить?
— Тебе не хочется со мной спорить потому, что ты не умеешь спорить! Вы все не умеете спорить, потому что избегаете инакомыслящих — а чтоб не нарушить стройности мировоззрения! Вы собираетесь все свои и выкобениваетесь друг перед другом в толковании отцов учения. Вы набираетесь мыслей друг от друга, они совпадают и раскачиваются до размеров… Да на воле… — (глухо) при наличии ЧеКа, кто с вами осмелится спорить? Когда же вы попадаете в тюрьму, вот сюда, — (звонко) здесь вы встречаетесь с настоящими спорщиками! — и тут-то вы оказываетесь как рыба на песке! и вам остаётся только лаяться и ругаться.
Тянуло к спору одного Сологдина: у него сегодня был день побед, они бурлили в нём, не улегались. Для Рубина же спор сегодня был тягостен, нелеп. Не завершённая только что работа была у него, а напротив — навалилась новая сверхтрудная задача, создание целой науки, за которую в одиночку приходилось приниматься завтра с утра, а для этого уже с вечера беречь бы силы. Но тюремные законы спора хватко держали его. и вот, как связанный, он вынужденно сидел с Сологдиным.
Тише и мягче Сологдин увещевал:
— Настоящий спор, говорю тебе из лагерного опыта, производится как поединок. По согласию выбираем посредника — хоть Глеба сейчас позовём. Берём лист бумаги, делим его отвесной чертой пополам. Наверху, через весь лист, пишем содержание спора. Затем, каждый на своей половине, предельно ясно и кратко, выражаем свою точку зрения на поставленный вопрос. Чтобы не было случайной ошибки в подборе слова — время на эту запись не ограничивается.
— Ты из меня дурака делаешь, — полусонно возразил Рубин, опуская сморщенные веки. Лицо его над бородой выражало глубочайшую усталость. — Что ж мы, до утра будем спорить?
— Напротив! — весело воскликнул Сологдин, блестя глазами. — В этом-то и замечательность подлинного мужского спора! Пустые словопрения и сотрясения воздуха могут тянуться неделями. А спор на бумаге иногда кончается в десять минут: сразу же становится очевидно, что противники или говорят о совершенно разных вещах или ни в чём не расходятся. Когда же выявляется смысл продолжать спор — начинают поочерёдно записывать доводы на своих половинках листа. Как в поединке: удар! — ответ! — выстрел! — выстрел! и вот: невозможность увиливать, отказываться от употреблённых выражений, подменять слова словами — приводит к тому, что в две-три записи явно проступает победа одного и поражение другого.
— и время — не ограничивается?
— Для одержания истины — нет!
— А ещё на эспадронах мы драться не будем?
Воспламенённое лицо Сологдина омрачилось:
— Вот так я и знал. Ты первый наскакиваешь на меня…
— По-моему, ты первый!..
— …даёшь мне всякие клички, у тебя их в сумке много: мракобес! прислужник поповщины! У вас набралось бранных слов больше, чем научных определений. Когда же я беру тебя за жабры и предлагаю честно спорить — у тебя нет времени, нет охоты, ты устал! Однако у вас нашлось время и охота перепотрошить целую страну!
— Уже полмира! — вежливо поправил Рубин. — Для дела у нас всегда есть время и силы. А — болтать языком? О чём нам с тобой? Уже между нами всё сказано.
— О чём? Предоставляю выбор тебе! — галантным широким жестом (род оружия! место дуэли!) ответил Сологдин.
— Так я выбираю: ни о чём!
— Это не по правилам!
Рубин затеребил отструек чёрной бороды:
— По каким таким правилам? Что за инквизиция? Пойми ты: чтобы плодотворно спорить, надо же иметь хоть какую-то общую основу, в каких-то основных чертах всё же иметь согласие…
— Вот, вот! я ж и говорю: чтоб оба признавали прибавочную стоимость и владычество рабочих! — (Так на Языке Предельной Ясности обозначалась «диктатура пролетариата».) — и спорили бы только о том, написал ли закорючку Маркс натощак или Энгельс после обеда.
Рубин вскипел:
— Да пойми ты, пойми ты, что — глупо! Ты и я — о чём мы можем говорить? Ведь куда ни копни, за что ни возьмись — мы с тобой с разных планет. Ведь для тебя, например, дуэли и сейчас ещё лучший способ решения обид!
— А попробуй доказать обратное! — откинулся Сологдин, сияя. — Если бы были дуэли — кто бы решился клеветать?
— Ах, какие вы лыцари!.. Для тебя вообще мрак Средних веков, тупое надменное рыцарство, крестовые походы — это зенит истории!
— Это — вершина человеческого Духа! — выпрямляясь, подтвердил Сологдин и помахал над головою пальцем. — Это великолепное торжество духа над плотью! Это с мечом в руках неудержимое стремление к святыням!
— и вьюки награбленного добра? Ты — докучный гидальго!
— А ты — библейский фанатик!.. то есть одержимец! — парировал Сологдин.
— Ведь для тебя Белинский ли, Чернышевский, все наши лучшие просветители — недоучившиеся поповичи?!
— Долгополые семинаристы! — ликуя, добавил Сологдин.
— Ведь для тебя не говорю уже — наша, но даже Французская революция, через сто пятьдесят лет после неё, — наваждение дьявольских инстинктов, истребление нации — не так ли?
— Разумеется!! и попробуй доказать обратное! Всё величие Франции кончается Восемнадцатым веком! А что было после бунта? Чехарда правительств на потеху всему миру! Безсилие! безволие! ничтожество!! прах!!!
Сологдин демонически захохотал.
— Дикарь! пещерный житель! — возмущался Рубин.
— и никогда уже Франция не поднимется! Разве только с помощью римской церкви!
— и вот ещё: для тебя Реформация — не естественное освобождение человеческого разума от церковных вериг, а…
— Безумное ослепление! Лютеранское сатанинство! Подрыв Европы! Самоуничтожение европейцев! Хуже двух мировых войн!
— Ну вот… ну вот!.. — вставлял Рубин. — Ты же — ископаемое! ихтиозавр! О чём нам с тобой спорить? Ты видишь сам, что запутался. Не лучше ли нам разойтись мирно?
Сологдин заметил движение Рубина встать и уйти. Этого никак нельзя было допустить! — забава уходила, забава ещё не состоялась. Сологдин тут же обуздался и неузнаваемо помягчел:
— Прости, Лёвушка, я погорячился. Конечно, час поздний, и я не настаиваю, чтоб мы брали из главных вопросов. Но давай проверим самый приём спора-поединка на каком-нибудь лёгком изящном предмете. Я дам тебе на выбор несколько титлов (это значило — тем). Хочешь спорить из словесности? Это — область твоя, не моя.
— Да ну тебя…
Как раз было время сейчас уйти, не подвергаясь безславию. Рубин приподнялся, но Сологдин предупредительно шевельнулся:
— Хорошо! Титл нравственный: о значении гордости в жизни человека!
Рубин скучающе пожевал:
— Неужели мы гимназистки?
И — поднялся со ступеньки.
— Хорошо, такой титл… — схватил его за руку Сологдин.
— Да пошёл ты… — отмахнулся Рубин, смеясь. — У тебя же всё в голове перевёрнуто! На всей Земле ты один остался, кто ещё не признаёт трёх законов диалектики. А из них вытекает — всё!
— Почему не признаю? Признаю.
— Ка-ак? Ты — признал диалектику? — Рубин засюсюкал трубочкой: — Цыпочка! Дай я тебя поцелую! Признал?
— Я не только её признал — я над ней думал! Я два месяца думал над ней по утрам! А ты — не думал!
— Даже думал? Ты умнеешь с каждым днём! Но тогда о чём же нам спорить?
— Как?! — возмутился Сологдин. — Опять не о чем? Нет общей основы — не о чем спорить, есть общая основа — не о чем спорить! Нет уж, теперь изволь спорить!
— Да что за насилие? О чём спорить?
Сологдин вслед за Рубиным тоже встал и размахивал руками:
— Изволь! Я принимаю бой на самых невыгодных для меня условиях. Я буду бить вас оружием, вырванным из ваших же грязных лап! О том будем спорить, что вы сами трёх ваших законов не понимаете! Пляшете, как людоеды вокруг костра, а что такое огонь — не понимаете. Могу тебя на этих законах ловить и ловить!
— Ну, поймай! — не мог не выкрикнуть Рубин, злясь на себя, но опять погрязая.
— Пожалуйста. — Сологдин сел. — Присаживайся.
Рубин остался на ногах.
— Ну, с чего б нам полегче? — смаковал Сологдин. — Законы эти — указывают нам направление развития? Или нет?
— Направление?
— Да! Куда будет развиваться… э-э… — он поперхнулся, — процесс?
— Конечно.
— и в чём ты это видишь? Где именно? — холодно допрашивал Сологдин.
— Ну, в самих законах. Они отражают нам движение.
Рубин тоже сел. Они стали говорить тихо, по-деловому.
— Какой же именно закон даёт направление?
— Ну, не первый, конечно… Второй. Пожалуй, третий.
— У-гм. Третий — даёт? и как же его определить?
— Что?
— Направление, что!
Рубин нахмурился:
— Слушай, а зачем вообще эта схоластика?
— Это — схоластика? Ты незнаком с точными науками. Если закон не даёт нам числовых соотношений, да мы ещё не знаем и направления развития, — так мы вообще ни черта не знаем. Хорошо. Давай с другой стороны. Ты легко и часто повторяешь: «отрицание отрицания». Но что ты понимаешь под этими словами? Например, можешь ты ответить: отрицание отрицания — всегда бывает в ходе развития или не всегда?
Рубин на мгновение задумался. Вопрос был неожидан, он не ставился так обычно. Но, как принято в спорах, не давая внешне понять заминки, поспешил ответить:
— В основном — да… Большей частью.
— Во-от!! — удовлетворённо взревел Сологдин. — У вас целый жаргон — «в основном», «большей частью»! Вы разработали тысячи таких словечек, чтоб не говорить прямо. Вам скажи «отрицание отрицания» — и в голове у вас отпечатано: зерно — из него стебель — из него десять зёрен. Оскомина! Надоело! Отвечай прямо: когда «отрицание отрицания» бывает, а когда — не бывает? Когда его нужно ожидать, а когда оно невозможно?
У Рубина следа не осталось его вялости, он подсобрался сам и собирал свои уже разбредшиеся мысли на этот никому не нужный, но всё равно важный спор.
— Ну, какое это имеет практическое значение — «когда бывает», «когда не бывает»?!
— Нич-чего себе! Какое деловое значение имеет один из трёх основных законов, из которых вы всё выводите! Ну как с вами разговаривать?!
— Ты ставишь телегу впереди лошади! — возмутился Рубин.
— Опять жаргон! То есть феня…
— Телегу впереди лошади! — настаивал Рубин. — А мы, марксисты, считали бы позором выводить конкретный анализ явлений из готовых законов диалектики. и поэтому нам совсем не надо знать, «когда бывает», «когда не бывает»…
— А я вот тебе сейчас отвечу! Но ты сразу скажешь, что ты это знал, что это понятно, само собой разумеется… Так слушай: если получение прежнего качества вещи возможно движением в обратном направлении, то отрицания отрицания не бывает! Например, если гайка туго завёрнута и надо её отвернуть — отворачивай. Тут обратный процесс, переход количества в качество, и никакого отрицания отрицания! Если же, двигаясь в обратном направлении, воспроизвести прежнее качество невозможно, то развитие может пройти через отрицание, но и то: если в нём допустимы повторения. То есть: необратимые изменения будут отрицаниями лишь там, где возможно отрицание самих отрицаний!
— Иван — человек, не Иван — не человек, — пробормотал Рубин, — ты как на параллельных брусьях…
— С гайкой. Если, заворачивая её, ты сорвал резьбу, то, отворачивая, уже не вернёшь ей прежнего качества — целой резьбы. Воспроизвести это качество теперь можно только так: бросить гайку в переплав, потом прокатать шестигранный пруток, потом проточить и наконец нарезать новую гайку.
— Слушай, Митяй, — миролюбиво остановил его Рубин, — ну нельзя же серьёзно излагать диалектику на гайке.
— Почему нельзя? Чем гайка хуже вашего зерна? Без гайки ни одна машина не держится. Так вот, каждое из перечисленных состояний необратимо, оно отрицает предыдущее, а новая гайка по отношению к старой, испорченной, явится отрицанием отрицания. Просто? — и он вскинул подстриженную французскую бородку.
— Постой! — усмотрел Рубин. — В чём же ты меня опроверг? У тебя же самого и получилось, что третий закон даёт направление развития.
С рукой у груди Сологдин поклонился:
— Если бы тебе, Лёвчик, не была свойственна быстрота соображения, я бы вряд ли имел честь с тобой беседовать! Да, даёт! Но то, что закон даёт, — надо научиться брать! Вы — умеете? Не молиться закону — а работать с ним? Вот ты вывел, что он направление даёт. Но ответим: всегда ли? В неживой природе? в живой? в обществе? А?
— Ну что ж, — раздумчиво сказал Рубин. — Может быть, во всём этом и есть какое-то рациональное зерно. Но вообще-то — словоблудие-с, милостивый государь.
— Словоблуды — вы! — с новой запальчивостью отсек дланью Сологдин. — Три закона! Три ваших закона! — он как мечом размахивал в толпе сарацин. — А вы ни одного не понимаете, хотя всё из них выводите!..
— Да говорят тебе: не выводим!
— Из законов — не выводите? — изумился Сологдин, остановился в рубке.
— Нет!
— Так что они у вас — пришей кобыле хвост? А откуда вы тогда взяли — в какую сторону будет развиваться общество?
— Слу-шай! — Рубин стал вдалбливать нараспев. — Ты — дуба кусок или человек? Все вопросы решаются нами из конкретного анализа ма-те-ри-ала, разумеешь? Любой общественный вопрос — из анализа классовой обстановки.
— Так что они вам, — разорялся Сологдин, не сообразуясь с ночной тишиной, — три закона? — вообще не нужны?!
— Почему, очень нужны, — оговорил Рубин.
— А зачем?! Если из них ничего не выводится? Если даже и направления развития из них получать не надо, это словоблудие? Если требуется только, как попугаю, повторять «отрицание отрицания» — так на чёрта они нужны?.. Или ваш первый закон — единство противоположностей? — Так если противоположности нет, так и единства нет?!
— Ну?
— Что — «ну»? Своей тени боитесь! Верно или неверно?
— Конечно верно.
Сологдин просиял. Вдохновение от увиденной слабой точки нагнуло вперёд его плечи, заострило лицо:
— Значит: в чём нет противоположностей — то не существует? Зачем же вы обещали безклассовое общество? Вы знали, что общество без противоположностей невозможно, — и нагло обещали? Вы… распинались отменить притеснение, а навязали нам притеснителей худших и горших! и для этого надо было убивать столько миллионов людей?
— Ты ослеп от печёнки! Ты и в безклассовое общество войдёшь, так не узнаешь его от ненависти!
— Но сейчас, сейчас — безклассовое? Один раз договори! Один раз — не увёртывайся! Класс новый, класс правящий — есть или нет?
Ах, как трудно было Рубину ответить именно на этот вопрос! Потому что Рубин и сам видел этот класс. Потому что укоренение этого класса лишило бы революцию всякого и единственного смысла.
Но ни тени слабости, ни промелька колебания не пробежало по высоколобому лицу правоверного.
— А социально — он отграничен? — кричал Рубин. — Разве можно чётко указать, кто правит, а кто подчиняется?
— Мо-ожно! — полным голосом отдавал и Сологдин. — Фома, Антон, Шишкин-Мышкин правят, а мы…
— Да надо же иметь хоть чуть ума, чтобы понять, что группа эта — служебная, временная, что с отмиранием государства…
— Отмирать? — взвопил Сологдин. — Сами? Не захотят! Добровольно? Не уйдут, пока их — по шее! и если б вы остались на Земле одни — вы б своё государство ещё и ещё укрепляли бы! Да разве у вас была — революция? У вас — одно злодейство, кровь с топора! Кто бы взялся составить только список убитых и расстрелянных? Мир бы ужаснулся! Так воспитывали и комсомол.
— Не смей! Я сам — старый комсомолец! Комсомол был — наше знамя! наша совесть! романтика, безкорыстие наше — вот был комсомол!
— Бы-ыл! Был да сплыл!
— Наконец, кому я говорю? Ведь в тех же годах комсомольцем был и ты!
— и я за это довольно поплатился! Я наказан за это! Мефистофельское начало! — всякого, кто коснётся его… Маргарита! — потеря чести! смерть брата! смерть ребёнка! безумие! гибель!
— Нет, подожди! нет, не Маргарита! Не может быть, чтоб у тебя от тех комсомольских времён ничего не осталось в душе!
— Вы, кажется, заговорили о душе? Как изменилась ваша речь за двадцать лет! У вас и «совесть», и «душа», и «поруганные святыни»… А ну-ка бы ты эти словечки произнёс в твоём святом комсомоле в двадцать седьмом году! А?.. Вы растлили всё молодое поколение России…
— Судя по тебе — да!
Они истязали друг друга до измождения. Никак не мог бы сейчас представить Иннокентий Володин, что имеет влияние на его судьбу нудный изматывающий ночной спор двух арестантов в одиноком запертом здании на окраине Москвы.
Оба хотели быть палачами, но были жертвами в этом споре, где спорили, собственно, уже не они, потерявшие ведущие нити, — а два истребительных разноимённых потенциала.
— Нет, ты скажи мне: если ты всегда так думал — как ты мог вступить в комсомол? — почти рвал на себе волосы Рубин. Он вскочил на ноги.
Вскочил и Сологдин:
— А как мне было не вступить? Разве вы оставляли возможность не вступить? Не был бы я комсомольцем — как ушей бы мне не видать института! Глину копать!
— Так ты притворялся? Ты подло извивался!
— Нет! Я просто шёл на вас под закрытым забралом! А как ты с маузером раскулачивал украинских крестьян, отбирал последнее зерно, даже не давал воды набрать из колодца — так это лучше?
Говорить дальше, или даже душить, или даже бить друг друга кулаками — всё было слишком слабо. После сказанного надо было хватать автоматы и строчить, ибо только такой язык мог понять второй из них.
Но автоматов не было.
И они разошлись, задыхаясь, — Сологдин со вскинутой головой, Рубин с опущенной. и отошёл в дальний угол, сжал в ладонях стучащую волнами боли голову. и шепчет про себя: «Петров! — Сяговитый! — Володин! — Щевронок! — Заварзин!»
………………………………………
Все давно спят, только Рубин — мерно ходит по опустевшему коридору. и курит трубку.
…Да, с маузером… Да, это было…
Три версты босиком убегая и отстреливаясь от взбешенных мужиков, что тогда видел в этом? «Вот и я захватил гражданскую войну». Только.
Разумелось само собой! — разрывать ямы с закопанным зерном, не давать хозяевам молоть муки и печь хлеба, не давать им набрать воды из колодца. и если дитё хозяйское умирало — подыхайте вы, злыдни, и со своим дитём, а хлеба испечь — не дать. и не исторгала жалости, а привычна стала, как в городе трамвай, эта одинокая телега с понурой лошадью, на рассвете идущая затаённым мёртвым селом.
…Улица украинского села. Белые мазанки под соломой. При какой палисадник огорожен прутняком, другая гола. Лошадь еле тянет телегу, бредёт. Не бодрей её и возчик. Поравнялся с хатой. Остановился. Кнутом — в ставенку и голосом уже не сильным:
— Покойники е?.. Выносьтэ…
Ждёт.
Две бабы выносят мёртвого старика. и — кладут в телегу. (Там уже лежат.)
Ни возчик замученный ничего не говорит, ни те бабы.
Тронул дальше.
И в следующую ставенку:
— Покойники е? Выносьтэ.
Ждёт.
Понурённая баба, сама шатаясь, выносит трупик ребёнка. Приникает к нему головой. Но и слёз уже нет. Кладёт в телегу бережно.
Возчик трогает к следующей хате:
— Покойники е? Выносьтэ.
Ждёт.
Никто не выходит. Ещё стучит:
— Покойники е? Выносьтэ.
Никто не выходит. и ставня не распахнётся.
— Э! Чи тут е живы?
Нет ответа.
Тронул лошадь дальше.
………………………………………
Глубокая ночь. РУБИН, уже раздетый, но накинув шинель поверх белья, проходит весь коридор до внешней двери, стучит. Отодвигается заслонка, в окошко виден надзиратель.
РУБИН: Сержант! Мне плохо! Отведите меня к фельдшеру. Мне с утра делать работу для самого министра, а я заснуть не могу.
Сержант, не сразу, отпирает, открывает дверь. Там — ещё один надзиратель. Он ведёт Рубина вниз по лестнице — в подвальный коридор — дальше по нему — и подъём трапом на прогулочный двор.
Идёт пушистый снег. Рубин, оглянувшись на ночные липы, озарённые снизу отсветом пятисотваттных ламп зоны, глубоко-глубоко вдохнул, наклонился, полной жменёю несколько раз захватил звездчатого пушничка и им, невесомым, безтелесным, льдистым, отёр лицо, шею, набил рот.
И душа его приобщилась к свежести мира.
СЕРИЯ ДЕВЯТАЯ
Шарашка. Прогулочный двор.
Ещё совсем темно, освещение от сильных ламп на столбах зоны. Но в ходе эпизода проступает и рассвет. Сверху уже не сыпет. По одному краю дворика — длинное одноэтажное здание штаба тюрьмы, сейчас светится окна два да дежурная лампочка над входной дверью.
Дворник СПИРИДОН в чёрном бушлате, в шапке-малахае, — чистит круговую дорожку по дворику, шириной на три лопаты. Уже много прошёл, и по откинутому видно, что снега выпало много. На порог штаба вышел дежурный ЛЕЙТЕНАНТ.
ЛЕЙТЕНАНТ: Давай, Егоров, побыстрей давай! и главное — от парадного к вахте.
СПИРИДОН (бурчит): Всем давать — мужу не останется.
ЛЕЙТЕНАНТ (грозно): Что? Что ты сказал?
СПИРИДОН (громче): Говорю — яволь, начальник, яволь! там, на кухне, скажи, чтоб картошки мне подкинули.
— Ладно, чисть!
А уже начинается утренняя прогулка. По трапу поднимаются первые — ПОТАПОВ в простой шинели и ХОРОБРОВ в истёртом гражданском пальто. Вся дорожка готова, Спиридон уходит с лопатой.
ХОРОБРОВ: Ты что ж, Данилыч, и спать не ложился?
СПИРИДОН (беззлобно): Да разве ж дадут спать, змеи? Давно подняли.
Потапов прихрамывает на ходу, неловко выбрасывает повреждённую ногу. Пошёл рядом с Хоробровом.
ХОРОБРОВ: А откуда у вас, Андреич, красноармейская шинель?
ПОТАПОВ: А когда я из пленного лагеря вернулся — меня сперва посадили сверху танка — и повезли брать Берлин. А потом в ней и арестовали, так и осталась.
Гуляющих прибавляется. Идут по кругу — по одному, по два, не обгоняя друг друга, не торопясь. Высокий прямой КОНДРАШЁВ в фетровой шляпе. Не достающий ему до плеча щуплый ГЕРАСИМОВИЧ вышел сильно удручённый, зябнущий, запахнувшись доплотна. Хотел вернуться в тюрьму, но столкнувшись с Кондрашёвым, пошёл сделать с ним круг — и дальше, дальше.
КОНДРАШЁВ: Ка-ак?! Вы ничего не знаете о Павле Дмитриевиче Корине? — О-о-о! У него, говорят, есть, только не видел никто, удивительная картина «Русь уходящая»! Одни говорят — шесть метров длиной, другие — двенадцать. Его теснят, нигде не выставляют, эту картину он пишет тайно, и после смерти, может быть, её тут же и опечатают.
— Что же на ней?
— С чужих слов, не ручаюсь. Говорят — простой среднерусский большак, всхолмлено, перелески. и по большаку с задумчивыми лицами идёт поток людей. Каждое отдельное лицо проработано. Лица, которые ещё можно встретить на старых семейных фотографиях, но которых уже нет вокруг нас. Это — светящиеся старорусские лица мужиков, пахарей, мастеровых — крутые лбы, окладистые бороды, до восьмого десятка свежесть кожи, взора и мыслей. Это — те лица девушек, у которых уши завешены незримым золотом от бранных слов; девушки, которых нельзя себе вообразить в скотской толкучке у танцплощадки. и степенные старухи. Серебряноволосые священники в ризах, так и идут. Монахи. Профессора. Перезревшие студенты в тужурках. Гимназисты, ищущие мировых истин. Надменно-прекрасные дамы в городских одеждах начала века. и кто-то очень похожий на Короленко. и опять мужики, мужики… Самое страшное, что эти люди никак не сгруппированы. Распалась связь времён! Они не разговаривают. Они не смотрят друг на друга, может быть и не видят. У них нет дорожного бремени за спиной. Они — идут; и не по этому конкретному большаку, а вообще. Они уходят… Последний раз мы их видим…
Герасимович резко остановился:
— Простите, я должен побыть один!
Он круто повернулся и, оставив художника с поднятою рукою, пошёл в обратную сторону.
Он горел. Он не только увидел картину резко, как сам написал, но он подумал, что…
Обутрело.
Тюремный коридор, затем полукруглая комната.
Громкий длительный звонок на утреннюю поверку. Зэки расходятся по своим комнатам. Идут два лейтенанта. и один из них, широмордый, непроницаемый ЖВАКУН, с выглядом палача, в комнате громко читает с бумаги:
«Всем заключённым в течение трёх дней сдать майору Мышину перечень своих прямых родственников по форме: номер по порядку, фамилия, имя, отчество родственника, степень родства, место работы и домашний адрес.
Прямыми родственниками считаются: мать, отец, жена зарегистрированная, сын и дочь от зарегистрированного брака. Все остальные — братья, сёстры, тётки, племянницы, внуки и бабушки — считаются родственниками непрямыми.
С 1 января переписка и свидания будут дозволяться только с прямыми родственниками, которых укажет в перечне заключённый.
Кроме того, с 1 января размер ежемесячного письма устанавливается — не больше одного развёрнутого тетрадного листа».
Это было так худо и так неумолимо, что разум неспособен был охватить объявленное. и поэтому не было ни отчаяния, ни возмущения, а только злобно-насмешливые выкрики:
— С Новым годом!
— С новым счастьем!
— Ку-ку!
— Пишите доносы на родственников!
— А сыщики сами найти не могут?
— А размер букв почему не указан? Какой размер буквы?
Жвакун, пересчитывая наличие голов, одновременно старался запомнить, кто что кричал, чтобы потом доложить майору.
По звонку на работу — удручённые расходятся зэки, стоят, не спешат, курят.
Вот гады… Ведь наши многие только тем и работу имеют, что скрывают… А теперь нам самим на них полицейский донос писать?
— Только прямым! А если сестра, бабушка — непрямые, нельзя!
— Да неужели ж у них у самих картотеки нет?
— А что вы думаете? Госбезопасность — такой же безтолковый механизм, как вся наша государственная машина.
Так разговаривали, брели зэки, и охота работать у всех пропала.
Но командованию институтскому совершенно было неизвестно разрушительное объявление командования тюремного, у него свои напряжённые планы…
Акустическая лаборатория.
Она как бы осиротела: нет стойки вокодера посередине, унесли, с нею нет и Прянчикова. Нет Рубина, переведенного в спецкомнату. Нет и Симочки, дежурной в этот вечер. Пересели ближе несколько вольных, несколько зэков. А по расположению стола — НЕРЖИН сидит впереди других, лицом к лицу с начальником лаборатории майором РОЙТМАНОМ, тот — стоит лицом ко всем сидящим. У него — продолговатое умное лицо. На его близоруких глазах — усиленные очки, на худой груди поверх широковатой гимнастёрки — никчемушняя ему портупея. Всячески подбодряя подчинённых, он, с развёрнутыми бумагами, говорит, говорит, голосом не начальническим, а с оттенком усталости и мольбы:
— …наше производственное совещание должно сегодня принять наш годовой план… и ещё квартальный план января — марта… ещё план первой декады января… и ещё надо принять персональные соцобязательства…
Его голос доносится до нас всё глуше — и совсем исчезает. Да и видим уже не его, а хмурое, напряжённое, ожесточённое лицо Нержина, как он сидит за своим столом. Губы его подрагивают. и мы, глухим призвуком, фоном начинаем слышать его мысли:
— …Только вчера было свидание. Кажется, всё срочное сказано надолго вперёд. А теперь — когда это скажешь, напишешь: не могу сообщить о тебе сведений, и переписку надо оборвать?.. адрес на конверте и будет донос…
В его мысленном голосе нарастает гнев:
— …Пройдут годы — и все, кто слышал сегодняшнее объявление, — одни лягут в могилы, другие отсыреют, всё забудут, затопчут своё тюремное прошлое, третьи скажут, что это было разумно, а не безжалостно… Это поразительное свойство людей — забывать… и о чём нам клялись в Семнадцатом, и что обещали в Двадцать Восьмом… только бы забиться в ямку, в трещинку — и как-нибудь пересидеть… Но я — никогда не остыну, и никогда не забуду… и — за всё, за всё, за все пыточные следствия, за умирающих лагерных доходяг — четыре гвоздя их вранью, в ладони и в голени, и пусть оно висит и смердит, пока солнце погаснет…
РОЙТМАН (полный звук): А что скажете вы, Глеб Викентьевич?
Четыре гвоздя!! — что мог сказать им Нержин?.. Он встал с готовностью, изображая на лице простодушный интерес:
— План за сорок девятый год артикуляционной группой по всем показателям полностью выполнен досрочно. Сейчас я занят математической разработкой теоретико-вероятностных основ фразово-вопросной артикуляции, которую и планирую закончить к марту. Кроме того, в первом квартале, даже в случае отсутствия Льва Григорьича, я разверну приборно-объективную и описательно-субъективную классификацию человеческих голосов.
— Да-да-да, голосов! Это очень важно! — перебил Ройтман, отвечая своим замыслам голосонаблюдения.
Строгая бледность лица Нержина под распавшимися волосами говорила о жизни мученика науки, науки артикуляции.
— и соревнование надо оживить, верно, это поможет, — убеждённо заключил он. — Социалистические обязательства мы тоже дадим, к первому января.
Конструкторское бюро.
Просторная комната, много света от потолочных ламп. С десяток наклонных столов-кульманов, за ними — и вольные, и зэки. У кульманов — и свои лампы. Отгороженный от комнаты своим кульманом, в углу сидит и СОЛОГДИН, лицо у него очень напряжено и решительно. Откалывает от кульмана покрывающий грязный лист. Под ним открылся тщательный другой чертёж. Сологдин впивается в него — любуясь, или для памяти. Два года жизни, два года строгого распорядка ума. Впитывает своё творение!
Подходит вольная сотрудница:
— У вас на сожжение, по акту, что-нибудь есть?
Сологдин уже берётся за кнопки, откалывает свой лист. Но с метучим взглядом передумывает:
— Только вот, пожалуйста.
И подаёт ей черновой лист. Она взяла, пошла дальше. А он — большими ножницами вырезает из оставшегося чертежа главный узел шифратора, разрезает его на несколко частей. Закладывает себе за пазуху под комбинезон. Выходит из комнаты…
…В уборную. Там — четыре отгороженные кабины. Одна дверка прикрыта (Сологдин проверил и рукой: заперта, кто-то есть), три распахнуты. Вошёл в другую, крайнюю, заперся. Достал из-за пазухи часть листов, приготовил спички, слушает. Звук промывки унитаза. Хлопок дверки… вода из крана… уходящие шаги…
Поджигает листы снизу, огонь пошёл вверх; держит в руке, пока можно; опускает листы в унитаз, догорать. Чёрный пепел поплыл по воде корабликом.
И со второй порцией — так же.
Небольшой коридор перед кабинетом Яконова.
Сидит ДЕЖУРНЫЙ офицер у телефонов. С лестницы сюда поднимается оперуполномоченный института майор ШИКИН, с неторопливой важностью — низкорослый, но с увеличенной головой, с короткостриженным седеющим ёжиком, ничтожным лицом и большим портфелем. Его кабинет — тут рядом, через тёмный тамбур. Но дежурный успевает предупредить:
— Товарищ майор! Вчера, хотя воскресенье, приезжал замминистра и генералы с ним…
Шикин потрясён: какой удар! А он — не был на месте! И, теряя достоинство, тревожно:
— и что же? Что было?
— Кто это может знать!.. Новую группу создали.
— Где??
— В 21-й комнате.
Нырнув в свой тамбур, оттуда уже без портфеля — оперуполномоченный должен всё знать! — спеша медленно, делая ножками в мальчиковых ботинках осторожные шажки, крупноголовый Шикин направился к комнате 21.
Дверь № 21 — сплошная, без стеклянных шибок. Майор толкнул, она оказалась запертой. Он постучал. Не было слышно шагов, но дверь вдруг приоткрылась. В её растворе стоял Смолосидов с недобрым чёрным чубом. Видя Шикина, он не пошевельнулся и не раскрыл дверь шире.
— Здравствуйте, — неопределённо сказал Шикин, не привыкший к такому приёму. Смолосидов был ещё более оперчекист, чем сам Шикин.
Чёрный Смолосидов с чуть отведенными кривыми руками стоял пригнувшись, как боксёр. и молчал.
— Я… Мне… — растерялся Шикин. — Пустите, мне нужно познакомиться с вашей группой.
Смолосидов отступил на полшага и, продолжая загораживать собою комнату, поманил Шикина. Шикин втиснулся в узкий раствор двери и оглянулся вслед пальцу Смолосидова. На верхней половинке двери изнутри была приколота бумажка:
«Список лиц, допущенных в комнату 21.
1. Зам. министра МГБ — Селивановский
2. Нач. Отдела — генерал-майор Бульбанюк
3. Нач. Отдела — генерал-майор Осколупов
4. Нач. группы — инженер-майор Ройтман
5. Лейтенант Смолосидов
6. Заключённый Рубин
Утвердил
министр Госбезопасности
Абакумов»
Шикин в благоговейном трепете отступил в коридор.
— Мне бы… Рубина вызвать… — шёпотом сказал он.
— Нельзя! — так же шёпотом отклонил Смолосидов.
И запер дверь.
Кабинет Яконова.
ЯКОНОВ — за своим столом в полуторном кресле. ШИКИН — сбоку в кресле, но с важностью равного. Яконов, после вчерашнего сердечного приступа — измученный, с синими подглазными мешками, но сохраняет своё обычное достоинство вида.
ШИКИН (очень озабоченно): Как же так? Секретная группа — и я в неё не допускаюсь?.. Тут какая-то ошибка. и так понять, Антон Михалыч, что — и вы в неё не допущены? В своём институте?..
Яконов cохраняет владение лицом и голосом, но можно услышать и нотку омерзения к собеседнику:
— Товарищ майор… Надо уметь понимать: не все соображения могут быть сообщены даже вам…
Весь вид его: не хочу с вами и разговаривать. С самым обиженным и недоуменным видом, потеряв свою важность, Шикин тихо уходит карликовыми ногами.
Яконов, оставшись один, даёт волю своему отчаянию, сокрушённо. Что ему эта секретная группа? За всеми ходами Мировых Шахмат — не уследишь. Интересно — но пусть текут, как текут. Ему дали единственный месяц. Через месяц может рухнуть вся его карьера и вся его жизнь. Где выход?.. Стынет в горьком раздумьи. и вдруг — вспомнил! Светлое облачко поднялось к его лбу. Взял трубку:
— Из конструкторского — вызовите заключённого Сологдина.
Под настольным стеклом проверяет по списку имя-отчество — и одобрительно смотрит на вошедшего струнного СОЛОГДИНА с его малой русой бородкой. Встречает с радушием хлебосольного барина:
— Садитесь, Дмитрий Александрович, очень рад вас видеть.
Держа руки прикованными к телу, Сологдин подошёл ближе, молча поклонился и остался стоять неподвижно-прямой.
— Так вы, значит, тайком приготовили нам сюрприз? — рокочет Яконов. — На днях, да чуть ли не в субботу, я у Владимира Эрастовича видел ваш чертёж главного узла абсолютного шифратора… Да что же вы не садитесь?.. Просмотрел его бегло, горю желанием поговорить подробнее.
Не опуская глаз перед взглядом Яконова, полным симпатии, стоя вполоборота, недвижно, как на дуэли, когда ждут выстрела в себя, Сологдин ответил раздельно:
— Вы ошибаетесь, Антон Николаевич. Я действительно, сколько умел, работал над шифратором. Но то, что мне удалось и что вы видели, есть создание уродливо несовершенное, в меру моих весьма посредственных способностей.
Яконов откинулся в кресле и доброжелательно запротестовал:
— Ну-у нет, батенька, уж, пожалуйста, без ложной скромности! Я хоть смотрел вашу разработку мельком, но составил о ней весьма уважительное представление. А Владимир Эрастович, который обоим нам с вами высший судия, высказался с определённой похвалой. Сейчас я велю никого не принимать, несите ваш лист, ваши соображения, — будем думать. Хотите, позовём Владимира Эрастовича?
Яконов не был тупым начальником, которого интересует только результат и выход продукции. Он был — инженер, когда-то даже азартный, и сейчас предощущал то тонкое удовольствие, которое нам может доставить долго выношенная человеческая мысль. То единственное удовольствие, которое ещё оставляла ему работа.
Инженером был и Сологдин, уже лет четырнадцать. А арестантом — двенадцать.
Ощущая на себе приятный холод закрытого забрала, он выговорил чётко:
— и тем не менее, Антон Николаевич, вы ошиблись. Это был набросок, недостойный вашего внимания.
Яконов нахмурился и, уже немного сердясь, сказал:
— Ну хорошо, посмотрим, посмотрим, несите лист.
— Наброска этого больше нет, — дрогнул голос Сологдина. — Найдя в нём глубокие, непоправимые ошибки, я его… сжёг.
(Он вонзил шпагу и дважды её повернул.)
Полковник побледнел. В зловещей тишине послышалось его затруднённое дыхание. Сологдин старался дышать беззвучно.
— То есть… Как?.. Своими руками?
— Нет, зачем же. Отдал на сожжение. Законным порядком. У нас сегодня сжигали черновое. — Он говорил глухо, неясно. Ни следа не было его обычной звонкой уверенности.
— Сегодня? Так может, он ещё цел? — с живой надеждой подвинулся Яконов.
— Сожжён в бочке. Я наблюдал в окно.
Одной рукой вцепившись в поручень кресла, другой — ухватясь за мраморное пресс-папье, словно собираясь размозжить им голову Сологдина, полковник трудно поднял своё большое тело и переклонился над столом вперёд.
Чуть-чуть запрокинув голову назад, Сологдин стоял синей статуей.
Между двумя инженерами не нужно было больше ни вопросов, ни разъяснений. Меж их сцепленными взглядами метались разряды безумной частоты.
«Я уничтожу тебя!» — налились глаза полковника.
«Хомутай третий срок!» — кричали глаза арестанта.
Должно было что-то с грохотом разорваться.
Но Яконов, взявшись рукою за лоб и глаза, будто их резало светом, отвернулся и отошёл к окну.
Крепко держась за спинку ближнего стула, Сологдин измученно опустил глаза.
«Месяц. Один месяц. Неужели я погиб?» — до мелкой чёрточки прояснилось полковнику.
«Третий срок. Нет, я его не переживу», — обмирал Сологдин.
И снова Яконов обернулся на Сологдина.
«Инженер-инженер! Как ты мог?!» — пытал его взгляд.
Но и глаза Сологдина слепили блеском:
«Арестант-арестант! Ты всё забыл!»
Взглядом ненавистным и зачарованным, взглядом, видящим себя самого, каким не стал, они смотрели друг на друга и не могли расцепиться.
Но Яконов вынул белый платок и вытер им глаза.
И ясно посмотрел на Сологдина.
Сологдин старался выстоять ровно ещё эти минуты.
Одной рукою инженер-полковник опёрся о подоконник, а другой тихо поманил к себе заключённого.
В три твёрдых шага Сологдин подошёл к нему близко.
Немного горбясь по-старчески, Яконов спросил:
— Сологдин, вы — москвич?
— Да.
— Вон, посмотрите, — сказал ему Яконов. — Вы видите на шоссе автобусную остановку?
Её хорошо было видно из этого окна.
Сологдин смотрел туда.
— Отсюда полчаса езды до центра Москвы, — тихо рассказывал Яконов. — На этот автобус вы могли бы садиться в июне — в июле этого года. А вы не захотели. Я допускаю, что в августе вы получили бы уже первый отпуск — и поехали бы к Чёрному морю. Купаться! Сколько лет вы не входили в воду, Сологдин? Ведь заключённых не пускают никогда!
— Почему? На лесосплаве, — возразил Сологдин.
— Хорошенькое купанье! Но вы попадёте на такой север, где реки никогда не вскрываются…
Ведь тут как? Жертвуешь будущим, жертвуешь именем — мало. Отдай им хлеб, покинь кров, кожу сними, спускайся в каторжный лагерь…
— Сологди-ин! — нараспев и с мучением выстонал Яконов, и две руки, как падая, положил на плечи арестанта. — Вы, наверно, можете всё восстановить! Слушайте, я не могу поверить, чтобы жил на свете человек, не желающий блага самому себе. Зачем вам погибать? Объясните мне: зачем вы сожгли чертёж??
Была всё так же невзмучаема, неподкупна, непорочна голубизна глаз Дмитрия Сологдина.
— А как вы думаете? — вопросом ответил Сологдин. Его розовые губы между усами и бородкой чуть-чуть изогнулись, как будто даже в насмешке.
— Не понимаю, — Яконов снял руки и пошёл прочь. — Самоубийц — не понимаю.
И услышал из-за спины звонкое, уверенное:
— Гражданин полковник! Я слишком ничтожен, никому не известен. Я не хотел отдать свою свободу ни за так.
Яконов резко повернулся.
— …Если бы я не сжёг чертежа, а положил его перед вами готовым — наш подполковник в бюро, вы, Фома Гурьянович, — кто угодно, могли бы завтра же толкнуть меня на этап, а под чертежом поставить любое имя. Такие примеры были. А с пересылок, я вам скажу, очень неудобно жаловаться: карандаши отнимают, бумаги не дают, заявления доходят не туда… Арестант, отосланный на этап, не может оказаться прав ни в чём.
Яконов дослушивал Сологдина почти с восхищением. (Этот человек сразу понравился ему, как он вошёл!)
— Так вы… берётесь восстановить чертёж?! — Это не инженер-полковник спросил, а отчаявшийся, измученный, безвластный человек.
— То, что было на моём листе, — в три дня! — сверкнул глазами Сологдин. — А за пять недель я сделаю вам полный эскизный проект с расчётами в объёме технического. Вас устроит?
— Месяц! Месяц!! Нам месяц и нужен!! — не ногами по полу, а руками по столу возвращался Яконов навстречу этому чёртову инженеру.
— Хорошо, получите в месяц, — холодно подтвердил Сологдин.
Но тут Яконова отбросило в подозрение.
— Погодите, — остановил он. — Вы только что сказали, что это был недостойный набросок, что вы нашли в нём глубокие, непоправимые ошибки…
— О-о! — открыто засмеялся Сологдин. — Со мной иногда играет шутки нехватка фосфора, кислорода и жизненных впечатлений, находит какая-то полоса мрака. А сейчас я присоединяюсь к профессору Челнову: там всё верно!
Яконов тоже улыбнулся, от облегчения зевнул и сел в кресло. Он любовался, как Сологдин владеет собой, как он провёл этот разговор.
— Рискованно же вы сыграли, сударь. Ведь это могло кончиться иначе.
Сологдин слегка развёл пальцами.
— Вряд ли, Антон Николаич. Я, кажется, ясно оценил положение института и… ваше. Вы, конечно, владеете французским? Le hasard est roi! Его величество Случай! Он очень редко мелькает нам в жизни — и надо прыгнуть на него вовремя, и точно на середину спины!
Сологдин так просто говорил и держался, будто это было с Нержиным на дровах.
Теперь он тоже сел, продолжая смотреть на Яконова весело.
— Так что будем делать? — дружелюбно спросил инженер-полковник.
Сологдин отвечал как по-печатному, как о решённом давно:
— Фому Гурьяновича я бы хотел на первом же шаге миновать. Это как раз та личность, которая любит быть соавтором. С вашей стороны я не предполагаю такого приёмчика. Я ведь не ошибаюсь?
Яконов радостно покачал головой. О, как он был облегчён и без этого!
— К тому ж напоминаю, что и лист пока сожжён. Теперь, если вы дорожите моим проектом, — найдите способ доложить обо мне прямо министру. В крайнем случае — замминистру. и пусть приказ о моём назначении ведущим конструктором подпишет именно он. Это будет для меня гарантия — и я принимаюсь за работу. и мы формируем специальную группу.
Дела Яконова, столь безнадёжные ещё вчера, круто поправлялись.
СЕРИЯ ДЕСЯТАЯ
Прогулочный двор. Тюремный штаб.
По обеденному звонку некоторые зэки выбегают из подвала во двор неодетые и без шапок — не на прогулку, а к двери тюремного штаба. На пороге — старший лейтенант ЖВАКУН:
— Ну, пять человек — заходи!
Отсчитывает — и впускает внутрь, первым — РУСЬКУ, вторым — заморенного ДЫРСИНА, третьим — инженера ИСТОМИНА, крепкого мужчину лет сорока. Остальные — стоят очередью к штабу, снаружи. Сегодня — не морозно, оттепель. (Дальше там, в штабе, тюремный опер майор Мышин, выдаёт пришедшие письма от родных, уже распечатанные.)
А круговая прогулка по двору идёт, как обычно. Нельзя придумать такой несносной погоды, чтобы вянущие без воздуха арестанты отказались бы от прогулки. Небо — серое, без сгущений и без просветов, ни высоты, ни куполообразности. С утра липы почти обезснежели. Снег по бокам дорожки осел, под ногами гуляющих сбивается в буроватые скользкие бугорки. Среди гуляющих выделяются — высокий, как со вставленной жердью, КОНДРАШЁВ и профессор ЧЕЛНОВ в неизменной вязаной шапочке и пледе, обёрнутом вокруг плеч, у него отрешённый, сосредоточенный вид. А у дверей штаба сбилась и кучка добровольных охотников на стукачей. Тут видим и мрачного верзилу ДВОЕТЁСОВА, и ХОРОБРОВА, и юркого ПРЯНЧИКОВА, и громкоголосого БУЛАТОВА, он уговаривает — ждать, не расходиться:
— Страна должна знать своих стукачей!
ХОРОБРОВ: Да мы их и так в основном знаем.
Руська выходит из штаба весёлый, компания стыкается к нему головами.
Да, перевод — Ростиславу Доронину от мифической Клавдии Кудрявцевой на 147 рублей!
Руська отходит от группы охотников прочь.
К хвосту очереди подошёл и СИРОМАХА. Оглядел группу, но не придал ей значения.
Тем временем из штаба вышел Дырсин, с пустыми руками. Небритое унылое лицо его ещё вытянулось.
БУЛАТОВ (к нему): Ну что?
ДЫРСИН: Не знаю. Говорит — письмо есть, но зайдите после перерыва, будем разговаривать.
— …яди они! — уверенно заключил Булатов, и через роговые очки его вспыхнуло. — Я тебе давно говорю — зажимают письма. Откажись работать!
— Второй срок припаяют, — вздохнул Дырсин. Всегда он был пригорблен и голову втягивал в плечи, как будто стукнули его хорошо один раз сзади чем-то большим.
Вздохнул и Булатов. Он потому был такой воинственный, что ему ещё было сидеть и сидеть. Но решительность зэка тем более падает, чем меньше ему остаётся до освобождения. Дырсин же разменял последний год.
Один, другой зэк выходит из штаба с письмами, уже развёрнутыми, и в нетерпении, тут же, сбившись в сторону, — стоят и читают.
Лёгкой походкой вышел из штаба крупноплечий, спортивный ЛЮБИМИЧЕВ, с открытыми простодушными глазами, белозубой подкупающей улыбкой. В руке он держит листик, сильно похожий на почтовый денежный перевод. Ничего не подозревая, сам подошёл к группе:
— Братцы! Кто уже пообедал? Что там на второе? Стоит идти?
ХОРОБРОВ (кивая на бланк): Что, так много денег получил? Уже в обеде не нуждаешься?
ЛЮБИМИЧЕВ (отмахнулся): Да где много!
И хочет спрятать бланк в карман, он не удосужился раньше, потому что все боялись его силы, никто не посмел бы затрагивать. Но Булатов, словно в шутку, искособочился и прочёл:
— Фу-у-у! Тысяча четыреста семьдесят рублей! Наплевать тебе теперь на тюремный харч!
Любого другого Любимичев шутливо двинул бы в лоб и бланка бы не показал. Но в Семёрке он был подсобник Булатова, и надо оправдаться:
— Да где тысяча, смотри!
И сдвинутые головы все увидели: 147 р. 00 коп.
БУЛАТОВ: Во чудно! Не могли полтораста прислать. Тогда — иди, на второе шницель.
Но Любимичев не успел тронуться, не успел замолкнуть голос Булатова — как затрясся Хоробров. Он забыл, что надо сдерживаться, улыбаться и ловить дальше, что главное — это стукачей узнать, уничтожить же их невозможно. По возрасту — сын Хороброву, юноша, годный для лепки статуй, и оказался…
ХОРОБРОВ: Сволочь ты! На нашей крови досрочки ищешь? Чего тебе не хватало?
Любимичев отвёл руку для короткого боксёрского удара:
— Ух ты, падаль вятская…
Ещё раньше Булатов кинулся отвести Хороброва:
— Что ты, Терентьич.
А громадный Двоетёсов одной рукой перехватил отведенную руку Любимичева. С пренебрежительной усмешкой, с той почти ласковой тихостью, которая даётся напряжением всего тела:
— Мальчик, мальчик! Что, как партиец с партийцем поговорим?
И Любимичев не отвёл второй руки для удара. Двоетёсов повторяет залаженно:
— Мальчик, мальчик, на второе шницель. Пойди покушай шницель.
Любимичев вырвался, гордо запрокинув голову, пошёл к трапу.
Тем временем рядом поймали маленького чернявого аккумуляторщика, но он с невозмутимостью доказывает Прянчикову:
— Да мои родные каждый раз посылают, сколько могут собрать. В семье каждый рубль на учёте…
Охотники продолжают трясти ещё одного. Вся эта сцена прошла на мелких движениях, её не заметили ни гуляющие зэки, ни два надзирателя по краям площадки — но зоркий Сиромаха, из конца очереди получателей писем, — с порога штаба всё сметил, и видел ликование Руськи издали, — всё понял! Спохватился, крикнул в очередь:
— Ох, забыл! У меня ж схема под током осталась! Бегу, выключу!
И побежал к трапу — и вниз, в подвал…
Среди получивших письма — у Истомина спрашивают:
— От кого?
ИСТОМИН (очень волнуясь): От дочери… Уходил на фронт — ей было шесть лет… Потом мать долго не говорила ей, что я в тюрьме… А вот теперь…
Едва сошёл с порожка штаба и остановился без шапки, под ветром, дрожащими руками достал из конверта, читает. (Его приглушенным голосом слышим:)
«Здравствуй, дорогой папа!
Я не отвечала потому, что не знала, с чего начать и что писать. Это простительно мне, так как я тебя очень давно не видела и привыкла к тому, что отец мой погиб. Мне даже странно, что у меня и вдруг папа.
Ты спрашиваешь, как я живу. Живу как все. Можешь поздравить — поступила в Комсомол. Ты просишь написать тебе, в чём я нуждаюсь. Хочется мне, конечно, очень много. Сейчас коплю деньги на боты и на пошивку демисезонного пальто. Папа! Ты просишь, чтоб я к тебе приехала на свидание. Но разве это такая срочность? Ехать где-то так далеко тебя разыскивать — согласись сам, не очень приятно. Когда сможешь — приедешь сам. Желаю тебе успехов в работе. Пока до свиданья.
Целую.
Ариадна.
Папа, ты видел картину «Первая перчатка»? Вот замечательная! Я не пропускаю ни одной картины».
Кабинетик Шикина.
Небольшой, как ловушка (в него и ход через скрытый тамбур). Половина его занята большим столом оперуполномоченного, вдоль стены — стеллаж с папками, папками, нависающими над головой Шикина. Перед столом — малое место для одиночного посетителя, малый простор и до низкой двери. Одно окно.
Перед самым обедом ШИКИН вызвал к себе рыжеволосого дворника СПИРИДОНА ЕГОРОВА — и тот пришёл, как был, со двора в бушлате, перепоясанном драным брезентовым поясом, снял свою большеухую шапку и виновато мял её в руках, подобно классическому мужику, пришедшему просить у барина землицы. При этом он не сходил с резинового коврика, чтоб не наследить на полу. Неодобрительно покосясь на его непросохшие ботинки и строго поглядя на него самого, Шикин так и оставил его стоять, а сам сидел в кресле и молча просматривал разные бумаги. Время от времени, словно по прочтённому поражённый преступностью Егорова, он вскидывал на него изумлённый взгляд, как на кровожадного зверя, наконец-то попавшего в клетку (всё это полагалось по их науке, чтобы разрушительно подействовать на психику арестанта). Так прошло в запертом кабинете в ненарушимом молчании полчаса, явственно прозвенел и обеденный звонок, — но Шикин даже и слыхом не слыхал того звонка: он молча всё перекладывал толстые папки, что-то доставал из одних ящиков, клал в другие, хмуро перечитывал разные бумаги и опять с изумлением коротко взглядывал на угнетённого, поникшего, виноватого Спиридона.
Последняя вода с ботинок Спиридона наконец сошла на коврик, ботинки обсохли, и Шикин сказал:
— А ну, подойди ближе! — (Спиридон подошёл.) — Стой. Вот этого — знаешь, нет? — и он протянул ему из своих рук фотографию какого-то парня в немецком мундире без шапки.
Спиридон изогнулся, сощурился, приглядываясь, и извинился:
— Я, вишь, гражданин майор, слеповат маненько. Дай я её облазю.
Шикин разрешил. Всё так же в одной руке держа свою мохнатую шапку, Спиридон другой рукой обхватил карточку кругом всеми пятью пальцами за рёбра и, по-разному наклоняя её к свету окна, стал водить мимо левого глаза, рассматривая как бы по частям.
— Не, — облегчённо вздохнул он. — Не видал.
Шикин принял фотокарточку назад.
— Очень плохо, Егоров, — сокрушённо сказал он. — От запирательства будет только хуже для вас. Ну что ж, садитесь, — он указал на стул подальше. — Разговор у нас долгий, на ногах не простоишь.
И опять смолк, углубясь в бумаги.
Спиридон, пятясь, отошёл к стулу, сел. Шапку сперва положил на соседний стул, но покосился на чистоту этого мягкого, обтянутого кожей стула и переложил шапку на колени. Круглую голову свою он вобрал в плечи, наклонил вперёд и всем видом своим выражал раскаяние и покорность.
Спиридону игра Шикина была яснее стёклышка. Однако он знал, что надо притворяться, будто веришь.
— В общем, пришли на вас новые материалы, — тяжело вздохнул Шикин. — В Германии-то вы, оказывается, штучки отка-а-лывали!..
— Может, то ещё не я! — успокоил его Спиридон. — Нас-то, Егоровых, поверите, гражданин майор, в Германии было как мух. Даже, говорят, генерал один был Егоров!
— Ну как не вы! как не вы! Спиридон Данилович, пожалуйста, — ткнул Шикин пальцем в папку. — и год рождения, всё.
— и год рождения? Тогда не я! — убеждённо говорил Спиридон. — Я-то ведь себе у немцев для спокоя три года прибрёхивал.
— Да! — вспомнил Шикин, и лицо его просветлело, и с голоса спала обременительная необходимость вести следствие, и он отодвинул все бумаги. — Пока не забыл. Ты, Егоров, дней десять назад, помнишь, токарный станок перетаскивал? С лестницы в подвал.
— Ну-ну, — сказал Спиридон.
— Так вот, трахнули вы его где? — ещё на лестнице или уже в коридоре?
— Кого? — удивился Спиридон. — Мы не дрались.
— Станок! — кого!
— Да бог с вами, гражданин майор, — зачем же станок бить? Что он, кому досадил или что?
— Вот я и сам удивляюсь — зачем разбили? Может — обронили?
— Что вы, обронили! Прямо за лапки, с осторожкою, как ребёнка малого.
— Да ты-то сам — где держал?
— Я? Отсюдова, значит.
— Откуда?
— Ну, с моей стороны.
— Ну, ты брал — под заднюю бабку или под шпиндель?
— Гражданин майор, я этих бабков не понимаю, я вам так покажу! — Он хлопнул шапку на соседний стул, встал и повернулся, как будто втаскивая станок через дверь в кабинет. — Я, значит, спустёвшись, так? Задом. А их, значит, двое в двери застряли — ну?
— Кто — двое?
— Да шут их знает, я с ними детей не крестил. У меня аж дух загорелся. Стой! — кричу, — дай перехвачу! А тюлька-то во!
— Какая тюлька?
— Ну, что не понимаешь? — через плечо, уже сердясь, спросил Спиридон. — Ну, несли которую.
— Станок, что ли?
— Ну станок! Я — враз и перехвати! Вот так. — Он показал и напрягся, приседая. — Тут один протискался сбочь, другой пропихнулся, а втрою — чего не удержать? фу-у! — Он распрямился. — Да у нас по колхозной поре не такую тяжель таскают. Шесть баб на твой станок — золотое дело, версту пронесут. Где той станок? — пойдём, сейчас за потеху подымем!
— Значит, не уроняли? — угрожающе спросил майор.
— Не ж, говорю!
— Так кто разбил?
— Всё ж таки ухайдакали? — поразился и Спиридон. — Да-а-а… — Перестав показывать, как несли, он снова сел на свой стул и был весь внимание.
— С места-то его взяли — целый был?
— Вот чего не видал — не скажу, могёт и поломанный.
— Ну, а когда ставили — какой был?
— Вот тут уж — целый!
— Да трещина в станине была?
— Никакой трещины не было, — убеждённо ответил Спиридон.
— Да как же ты разглядел, чёрт слепой? Ты же — слепой?
— Я, гражданин майор, по бумажному делу слепой, верно, — а по хозяйству всё вижу. Вы вот, и другие граждане офицеры, через двор проходя, окурочки-то разбрасываете, а я всё чисто согребаю, хоть со снега белого — а всё согребаю. У коменданта — спросите.
— Так что вы? Станок поставили и специально осматривали?
— А как же? После работы перекур у нас был, не без этого. Похлопали станочек.
— Похлопали? Чем?
— Ну, ладошкой так вот, по боку, как коня горячего. Один инженер ещё сказал: «Хорош станочек! Мой дед токарем был — на таком работал».
Шикин вздохнул и взял чистый лист бумаги.
— Очень плохо, что ты и тут не сознаёшься, Егоров. Будем писать протокол. Ясно, что станок разбил ты. Если бы не ты — ты бы указал виновника.
Он сказал это голосом уверенным, но внутреннюю уверенность потерял. Хотя господин положения был он, и допрос вёл он, а дворник отвечал со всей готовностью и с большими подробностями, но зря пропали первые следовательские часы, и долгое молчание, и фотографии, и игра голоса, и оживлённый разговор о станке, — этот рыжий арестант, с лица которого не сходила услужливая улыбка, а плечи так и оставались пригнутыми, — если сразу не поддался, то теперь — тем более.
Шикин протягивает Спиридону бланк:
— Вот, распишитесь… По статье 95-й об ответственности за дачу ложных показаний…
Спиридон неловко берёт ручку, что-то царапает.
В дверь — отчётливый тройной энергичный стук. Шикин, теряя важность, поспешно встаёт к двери, чуть приоткрывает, глянул в щель, тут же закрывает.
— Ладно, Егоров. Иди и думай. Раскаивайся. Ещё тебя вызову не раз.
Спиридон нахлобучивает шапку и с виноватым видом уходит.
Прошла минута — без стука, мягкими быстрыми шагами вошёл СИРОМАХА. Плотно закрыл дверь и драматически выставил руку:
— Товарищ майор! Доронин ходит — показывает перевод на 147 рублей! Уже завалил Любимичева, Кагана, ещё человек трёх. Доронин — ваш?
Шикин схватился за воротник, высвобождая шею. Его всегда самодовольное лицо выражает безумие. Хватает телефонную трубку. Сиромаха не шагами, а как бы мягким прыжком — опережает, не даёт снять трубку:
— Товарищ майор! Не прямо, не дайте ему приготовиться! Пусть вызывает — дежурный, к инженер-полковнику, а вы — тут схватите!
Шикин пьёт воду:
— Девять грамм ему гаду!!
Сиромаха плавно отступает к двери:
— Я — пойду, товарищ майор? Что узнаю — ещё к вечеру…
…………………………………………..
Тот же кабинетик Шикина.
Авантюрно тренированный, РУСЬКА входит с мальчишеской ясностью, беззаботной готовностью:
— Разрешите, гражданин майор? Это — вы меня вызывали?
Шикин странно сидит, грудью привалясь к столу сбоку и помахивая свешенной рукой, как плетью. и ею, снизу вверх, ударяет Руську по лицу. и ещё замахнулся — но Руська отбегает к двери, стал в оборону. Изо рта его сочится кровь, клок белых волос свалился к глазу. Не дотягиваясь теперь до его лица, коротенький оскаленный Шикин:
— Ах ты, сволочь! Продаёшь? Прощайся с жизнью, Иуда! Расстреляем как собаку!
Руська выглядит дико, лохмато, кровь стекает с пухнущей губы. Но выпрямился:
— Насчёт расстрелять — это надо подумать, гражданин майор. Посажу я и вас! Три месяца над вами все куры смеются — а вы зарплату получаете? Снимут погончики! Насчёт расстрелять — это подумать надо…
Снова — прогулочный двор.
Бобынин в одиночку крупно шагает по круговой дорожке. К нему сбоку подходит невысокий узкоплечий
ГЕРАСИМОВИЧ: Простите, Александр Евдокимович, что помешаю… Но у меня…
БОБЫНИН останавливается (нехотя): Слушаю вас.
ГЕРАСИМОВИЧ: У меня к вам… если разрешите… научно-исследовательский вопрос…
БОБЫНИН: Слушаю.
Пошли рядом, умеренным ходом. Однако Герасимович ещё сколько-то молчит. Ищет, как сказать:
— Вам… не бывает стыдно?
Бобынин от удивления крутанул чугунцом головы, посмотрел на спутника (но они продолжают идти). Потом — вперёд по ходу, на липы, на сарай, на людей, на главное здание.
Добрых полкруга он продумал и ответил:
— и даже как!
Четверть круга.
ГЕРАСИМОВИЧ: А — зачем тогда?
Четверть круга.
БОБЫНИН: Чёрт, всё-таки жить хочется…
Четвертушка.
— …Сам недоумеваю.
Ещё четверть.
— …Разные бывают минуты… Вчера я сказал министру, что у меня ничего не осталось. Но я хвастанул: а — здоровье? а — надежда? Вполне реальный первый кандидат… Выйти на волю не слишком старым и встретить именно ту женщину, которая… и дети… Да и потом это проклятое интересно, вот сейчас интересно… Я, конечно, презираю себя за это чувство… Разные минуты… Министр хотел на меня навалиться — я его отпёр. А так, само по себе, втягиваешься… Стыдно, конечно…
Помолчали.
ГЕРАСИМОВИЧ: Так не корите, что система плоха. Мы сами виноваты.
Ещё полкруга. Бобынин размышляет:
— Наша способность к подвигу, то есть к поступку, чрезвычайному для сил единичного человека, отчасти создаётся нашею волей, отчасти же, видимо, уже при рождении заложена или не заложена в нас. Тяжелей всего даётся нам подвиг, если он добыт неподготовленным усилием нашей воли. Легче — если был последствием усилия многолетнего, равномерно направленного. и наверно, с благословенной лёгкостью, если подвиг был нам прирождён: тогда он происходит просто, как вдох и выдох.
Ещё незамкнутый круг, подкова.
ГЕРАСИМОВИЧ: Я особо — в применении к России. Мне сегодня рассказали о такой картине — «Русь уходящая». Вы ничего не слышали?
— Нет.
— Ну, да она ещё не написана. и может быть совсем не так. Тут — название, идея. На Руси были консерваторы, реформаторы, государственные деятели — их нет. На Руси были священники, проповедники, самозваные домашние богословы, раскольники — их нет. На Руси были писатели, философы, историки, социологи — их нет. Наконец, были революционеры, конспираторы, бомбометатели, бунтари — нет и их. Были мастеровые с ремешками в волосах, сеятели с бородой по пояс, крестьяне на тройках, лихие казаки, вольные бродяги — никого, никого их нет! Мохнатая чёрная лапа сгребла их всех за первую дюжину лет. Но один родник просочился черезо всю чуму — это мы, техно-элита. Инженеров и учёных, нас арестовывали и расстреливали всё-таки меньше других. Потому что идеологию им накропают любые проходимцы, а физика подчиняется только голосу своего хозяина. Мы занимались природой, наши братья — обществом. и вот мы остались, а братьев наших нет. Кому ж наследовать неисполненный жребий гуманитарной элиты — не нам ли? Если мы не вмешаемся, то кто?.. и неужели не справимся? Не держа в руках, мы взвесили Сириус-Б и измерили перескоки электронов — неужели заплутаемся в обществе? Но что мы делаем? Мы на этих шарашках преподносим им реактивные двигатели! ракеты «Фау»! секретную телефонию! и может быть атомную бомбу? — лишь бы только было нам хорошо? и интересно? Какая ж мы элита, если нас так легко купить?
— Это очень серьёзно, — кузнечным мехом дохнул Бобынин. — Продолжим завтра, ладно?
Уже был звонок на работу.
Кабинет майора Мышина в тюремном штабе.
Майор МЫШИН сидит, сложив на столе руки. Свободен от бумаг перед ним стол, закрыта чернильница, и никакого выражения на его налитом искрасна-лиловом лице. Лоб его такой налитой, что ни морщина старости, ни морщина размышления не могли пробиться в его коже. и щёки налитые. Лицо Мышина как у обожжённого глиняного идола с добавлением в глину розовой и фиолетовой красок. А глаза его профессионально невыразительны, лишены жизни, пусты той особенной надменной пустотой, которая сохраняется у этого разряда при переходе на пенсию.
Никогда такого не случалось! Мышин предложил ДЫРСИНУ сесть. (Дырсин уже стал перебирать, какую беду он мог нажить и о чём будет протокол.) Затем майор помолчал (по инструкции) и наконец сказал:
— Вот вы всё жалуетесь. Ходите и жалуетесь. Писем вам нет два месяца.
— Больше трёх, гражданин начальник! — робко напомнил Дырсин.
— Ну три, какая разница? А подумали вы о том, что за человек ваша жена?
Мышин говорил неторопливо, ясно выговаривая слова и делая приличные остановки между фразами.
— Что за человек ваша жена. А?
— Я… не понимаю… — пролепетал Дырсин.
— Ну, чего не понимать? Политическое лицо её — какое?
Дырсин побледнел. Не ко всему ещё, оказывается, он притерпелся и приготовился. Что-то написала жена в письме, и теперь её, накануне его освобождения…
Он про себя тайно помолился за жену. (Он научился молиться в лагере.)
МЫШИН: Ведь вы сами за что сели? Во время войны держали запрещённый радиоприёмник?
ДЫРСИН: Да нет, гражданин майор, — только две старые радиолампы у меня нашли. Но так как я радиоинженер — значит, мог быть у меня и радиоприёмник…
МЫШИН: Жена ваша — нытик, а нытики нам не нужны, — твёрдо разъяснял майор. — и какая-то странная у неё слепота: она не замечает хорошего в нашей жизни, а выпячивает одно плохое.
— Ради Бога! Что с ней случилось?! — болтая головой, воскликнул умоляюще Дырсин.
— С ней? — ещё с большими паузами говорил Мышин. — С ней? Ничего. — (Дырсин выдохнул.) — Пока.
Очень не торопясь, он вынул из ящика письмо и подал его Дырсину.
— Благодарю вас! — задыхаясь, сказал Дырсин. — Можно идти?
— Нет. Прочтите здесь. Потому что такого письма я вам дать в общежитие не могу. Что будут думать заключённые о воле по таким письмам? Читайте.
И застыл лиловым истуканом, готовый на все тяготы своей службы.
Дырсин вынул лист из конверта. Он был из бумаги корявой, почти обёрточной, и ни одна строка с края до края листа не проходила ровно, но все строки прогибались и безвольно падали направо вниз, вниз.
Дырсин читает про себя, но мы слышим:
«18 сентября.
Дорогой Ваня! Села писать, а сама спать хочу, не могу. Прихожу с работы и сразу на огород, копаем с Манюшкой картошку. Уродила мелкая. В отпуск я никуда не ездила, не в чем было, вся оборвалась. Хотела денег скопить да к тебе поехать — ничего не выходит. Ника тогда к тебе ездила, ей сказали — такого здесь нету, а мать и отец её ругали — зачем поехала, теперь, мол, и тебя на заметку взяли, будут следить. Вообще мы с ними в отношениях натянутых, а с Л. В. они совсем даже не разговаривают.
Живём мы плохо. Бабушка ведь третий год лежит, не встаёт, вся высохла, умирать не умирает и не выздоравливает, всех нас замучила. Манюшка совсем разошлась с мужем, здоровье её плохое, дети её не слушаются, как приходим с работы, то ужас, висят одни проклятья, куда убежать, когда это кончится?
Ну, целую тебя крепко. Будь здоров».
И даже не было подписи или слова «твоя».
Терпеливо дождавшись, пока Дырсин прочтёт это письмо, майор Мышин пошевелил белыми бровями и фиолетовыми губами и сказал:
— Я не отдал вам этого письма, когда оно пришло. Я понимал, что это минутное настроение, а вам надо работать бодро. Я ждал, что она пришлёт хорошее письмо. Но вот какое она прислала в прошлом месяце.
Дырсин безмолвно вскинулся на майора — но даже упрёка не выражало, а только боль, его нескладное лицо. Он принял и вздрагивающими пальцами развернул второй распечатанный конверт и достал письмо с такими же перешибленными, заблудившимися строчками, в этот раз на листе из тетради. Читает про себя:
«30 октября.
Дорогой Ваня! Ты обижаешься, что я редко пишу, а я с работы прихожу поздно и почти каждый день иду за палками в лес, а там вечер, я так устаю, что прямо валюсь, ночь сплю плохо, не даёт бабушка. Встаю рано, в пять утра, а к восьми должна быть на работе. Ещё, слава Богу, осень тёплая, а вот зима нагрянет! Угля на складе не добьёшься, только начальству или по блату. Недавно вязанка свалилась со спины, тащу её прямо по земле за собой, уж нет сил поднять, и думаю: “старушка, везущая хворосту воз”! Я в паху нажила грыжу от тяжести. Ника приезжала на каникулы, она стала интересная, к нам даже не зашла. Я не могу без боли вспомнить про тебя. Мне не на кого надеяться. Пока силы есть, буду работать, а только боюсь, не слечь бы и мне, как бабушка. У бабушки совсем отнялись ноги, она распухла, не может ни лечь сама, ни встать. А в больницу таких тяжёлых не берут, им невыгодно. Приходится мне и Л. В. её каждый раз поднимать, она под себя ходит, у нас вонь ужасная, это не жизнь, а каторга. Конечно, она не виновата, но нет сил больше терпеть. Несмотря на твои советы не ругаться, мы ругаемся каждый день, от Л. В. только и слышишь. А Манюшка на своих детей. Неужели б и наши такие выросли? Знаешь, я часто рада, что их уже нет. Валерик в этом году поступил в школу, ему всего нужно много, а денег нет. Правда, с Павла алименты Манюшке платят, по суду. Ну, пока писать нечего. Будь здоров.
Целую тебя.
Хоть на праздниках бы отоспалась — так на демонстрацию переться…»
Над этим письмом Дырсин замер. Он приложил ладони к лицу, как будто умываться хотел и не умывался.
— Ну? Вы прочли, или что? Вроде не читаете. Вот вы человек взрослый. Грамотный. В тюрьме посидели, понимаете, что это за письмо. За такие письма во время войны срока давали. Демонстрация всем — радость, а ей — «переться»? Уголь! Уголь — не начальству, а всем гражданам, но в порядке очереди, конечно. В общем, я и этого письма вам не знал давать ли, нет — но пришло третье, опять такое же. Я подумал-подумал — надо это дело кончать. Вы сами должны это прекратить. Напишите ей такое, знаете, в оптимистическом тоне, бодрое, поддержите женщину. Разъясните, что не надо жаловаться, что всё наладится. Вон, там разбогатели, наследство получили. Читайте.
Дырсин читает:
«Дорогой Ваня! Сообщаю тебе горестную новость: 26 ноября 1949 года в 12 часов пять минут дня умерла бабушка. Умерла, а у нас ни копейки, спасибо Миша дал 200 руб., всё обошлось дёшево, но, конечно, похороны бедные, ни попа, ни музыки, просто на телеге гроб отвезли на кладбище и свалили в яму. Теперь в доме стало немного потише, но пустота какая-то. Я сама болею, ночью пот страшный, даже подушка и простыня мокрые. Мне предсказывала цыганка, что я умру зимой, и я рада избавиться от такой жизни. У Л. В., наверно, туберкулёз, она кашляет, и даже горлом идёт кровь, как придёт с работы — так в ругань, злая как ведьма. Она и Манюшка меня изводят. Я какая-то несчастливая — вот ещё зуба четыре испортилось, а два выпало, нужно бы вставить, но тоже денег нет, да и в очереди сидеть.
Твоя зарплата за три месяца триста рублей пришла очень вовремя, уж мы замерзали, очередь на складе подошла (была 4576-я) — а дают одну пыль, ну зачем её брать? К твоим триста Манюшка своих двести добавила, заплатили от себя шофёру, уж он привёз крупного угля. А картошки до весны не хватит — с двух огородов, представь, и ничего не нарыли, дождей не было, неурожай.
С детьми постоянные скандалы. Валерий получает двойки и колы, после школы шляется неизвестно где. Манюшку директор вызывал, что же, мол, вы за мать, что не можете справиться с детьми. А Женьке, тому шесть лет, а оба уже ругаются матом, одним словом — шпана. Я все деньги отдаю на них, а Валерий недавно меня обругал сукой, и это приходится выслушивать от какой-то дряни мальчишки, что же вырастут? Нам в мае месяце придётся вводиться в наследство, говорят, это будет стоить две тысячи, а где их брать? Елена с Мишей затевают суд, хотят отнять у Л. В. комнату. Бабушка при жизни, сколько раз ей говорили, не хотела распределить, кому что.
А я тебе осенью писала, да, по-моему, даже два раза, неужели ты не получаешь? Где ж они пропадают?
Ну, что там слышно, освободят тебя или нет?
Очень красивая посуда продаётся в магазине, алюминиевая, кастрюльки, миски.
Крепко тебя целую. Будь здоров».
Мокрое пятнышко расплылось на бумаге, распуская в себе чернила.
— Так вот, — спросил Мышин, — вам ясно?
Дырсин не шелохнулся.
— Напишите ответ. Бодрый ответ. Разрешаю — свыше четырёх страниц. Вы как-то писали ей, чтоб она в Бога верила. Да уж лучше пусть в Бога, что ли… А то что ж это?.. Куда это?.. Успокойте её, что скоро вернётесь. Что будете зарплату большую получать.
— Но разве меня отпустят домой? Не сошлют?
— Это там как начальству нужно будет. А жену поддержать — ваша обязанность. Всё-таки ваш друг жизни. — Майор помолчал. — Или, может, вам теперь молоденькую хочется? — сочувственно предположил он.
Кабинет Володина в МИДе, тот же.
При пасмурном окне — верхнего света нет, горит только настольная лампа. ИННОКЕНТИЙ лежит навзничь на кожаном диване.
ЗВУК МЫСЛЕЙ (его приглушённым голосом): Не ждал, что так буду бояться… Что так меня раскачает… Вчера на вечере у тестя как-то успокоился. Люди, разговоры, движенье… Не войдут же прямо схватить… А вернулись домой, отпираем дверь — ударило: а что если уже сидят внутри квартиры в засаде?.. Так быстро они не могли, конечно… Из автомата — лови концы. По голосу? Вряд ли возможно… Только расчётом по сотрудникам. Но ещё докажи. Щевронок и Заварзин — те прямо связаны с подробностями… Вообще звонок был полное безрассудство, самоубийство… Я звонил в какой-то одержимости… Да никому же пользы: звоните в канадское… «А кто такой ви?» Идиоты зазнавшиеся!..
Мучительно собирая силы, Иннокентий поднимается. Сперва сидит. Потом встаёт, пошатываясь. Со стола берёт дверной ключ — для обмана его не было в запертой двери — отпирает дверь. Идёт по коридору, уже твёрже. Охотно раскланивается со встречными. и они ему так же приветливо, перемены нет. Заходит в секретарскую:
— Инна Сергевна! Шеф — у себя? Он меня принять не может?
— Никак! Очень занят.
— А что с моей командировкой? Ведь надо оформлять. Вы — не слышали, не знаете?
— Точно не знаю, но мельком слышала, что замминистра пока отложил её.
— Да?.. и надолго?
— Не знаю.
Иннокентий возвращается к себе в кабинет. Тот же приём: дверь запер, а ключ вынул. и в полном сокрушении сел на диван. Ему — знобко, холодно. Его снова вдавило в диван, он ищет в нём поддержку? успокоение? Изнеможение духа. Страх разоряет, выжигает его.
ЗВУК МЫСЛЕЙ: Что это может значить? На командировку уже была виза Вышинского. Во вторник-среду должен был улетать… Но это ещё не свидетельство, что — разгадан. Надо было мне дождаться отъезда? Но тогда бы опоздало предупреждение… Оно и так опоздало… Не надо, не надо было звонить! В тридцать лет — и кончать жизнь? Может быть в пытках?.. Какое гадкое внутреннее безсилие… Так и ждать в бездействии?.. Или выпрыгнуть из окна? — (Шатаясь, встаёт. Подходит к окну.) — С третьего этажа, минута полёта — и всё разорвалось?.. Покончить с собой — простая мера благоразумия… но если знать точно, что арестуют… Или скорей бы всё это кончилось, чтобы брали, что ли…
Однако дверь — надо же когда-то и отпереть. Отпирает. Садится за письменный стол.
И как раз — ко времени, вносят чай с бутербродами и печеньем.
Пьёт крепкий чай жадно. Даже что-то и перекусывает. и теперь за столом — сидит в неподвижности. То зажмурясь. Не открывает папки с бумагами.
ЗВУК МЫСЛЕЙ: А может, и правильно, что звонил. В тот момент совсем не было страшно. Как будто кто-то вёл… Как это сказал Герцен: «Где границы патриотизма? Почему любовь к родине надо распространять и на всякое правительство?..» Ты не дал украсть атомной бомбы Преобразователю Мира? А зачем она — селу Рождество? Той подслеповатой карлице? Той старухе с задушенным цыплёнком? Тому заплатанному одноногому мужику? Кто в той деревне осудит меня за этот телефонный звонок? Разве что сгонят на общее собрание, проголосовать?
Иннокентий запрокинул голову, как птица запрокидывает, чтобы вода прошла через напряжённое горло в грудь.
Телефон на столе звонит. Вздрогнул. Со страхом и отвращением взял трубку. и — расслаб, обрадованно:
— Ах, Дотти, милая!.. Сходить сегодня в театр? Это — замечательная идея. Ну, возьми на что-нибудь весёленькое… О’кей, о’кэй… А потом закатимся в ресторан. Целую.
Подбодренный, прошёл по кабинету. В театре же не арестуют! Гарантирован спокойный вечер. Перестать из-за этого жить? Или, наоборот, наслаждаться ожесточённо?
(Полным голосом): и почему так перепугался? Так остроумно вчера вечером защищал Эпикура.
Достаёт блокнотик с выписками. Читает вслух:
— «Следует знать, что безсмертия нет. и поэтому смерть для нас — не зло, она просто нас не касается: пока существуем мы — смерти нет, а когда смерть наступит — нет нас». А это здорово! Кто это, совсем недавно, говорил то же самое? А, вчера, фронтовая мудрость о пуле. — (Читает из записей ещё.) — Для мудрого достаточно одной человеческой жизни, а глупый не будет знать, что ему делать и с вечностью… Не должно бояться и телесных страданий. Кто знает предел страдания, тот предохранён от страха: продолжительное страдание — всегда незначительно, сильное — непродолжительно. Мудрый не утратит душевного покоя даже во время пытки: память вернёт ему прежние чувственные удовольствия — и вопреки телесному страданию восстановит равновесие души…» — (Думает.) — А мы с Дотти — столько навидались, столько наслаждались — наше счастье вошло среди знакомых в поговорку… Ладно, будь что будет!
СЕРИЯ ОДИННАДЦАТАЯ
Шарашка.
В сумерках чёрный долгий ЗИМ, проехав распахнутые для него ворота вахты, ещё наддал на асфальтовых извивах марфинского двора, очищенных широкой лопатой Спиридона и оттаявших дочерна, обогнул стоящую у дома яконовскую «победу» и с разлёту, как вкопанный, остановился у парадных каменных всходов.
Адъютант генерал-майора выпрыгнул из передней дверцы и живо отворил заднюю. Тучный Фома Осколупов в сизой, тугой для него шинели и каракулевой генеральской папахе вышел, распрямился и — адъютант распахнул перед ним одну и вторую дверь в здание — озабоченно направился вверх. На первой же площадке за старинными светильниками отгорожена гардеробная. Служительница выбежала оттуда, готовая принять от генерала шинель (и зная, что он её не сдаст). Он шинели не сдал, папахи не снял, а продолжает подниматься по одному из маршей раздвоенной лестницы. Несколько зэков и мелких вольняшек, проходивших в это время по разным местам лестницы, поспешили исчезнуть. Генерал в каракулевой папахе величественно, но с усилием идти быстрей, как того требовали обстоятельства, поднимается. Адъютант, раздевшийся в гардеробной, нагнал его.
— Пойди найди Ройтмана, — сказал ему через плечо Осколупов, — предупреди: через полчаса приду в новую группу за результатами.
С площадки третьего этажа он не свернул к кабинету Яконова, а пошёл в противоположную сторону — к Семёрке. Увидевший его в спину дежурный по объекту «сел» на телефон — искать и предупредить Яконова.
В Семёрке стоял развал. Не надо было быть специалистом (Осколупов им и не был), чтобы понять, что на ходу нет ничего, все системы, после долгих месяцев наладки, теперь распаяны, разорваны и разломаны. Абакумов дал — всего лишь месяц! и — последний! Для срочного спасения секретной телефонии исполнялась новая идея: соединение двух соперничающих проектов — клиппера и вокодера. Началось с того, что уже собранные аппараты разнимали по панелям, по блокам. Там и сям возносился дым от канифоли, от папирос, слышалось гудение ручной дрели, деловое переругивание.
Но и в этом дыму и гуле двое сразу заметили входившего генерал-майора: Любимичев и Сиромаха. Они были не два отдельных человека, а одна неутомимая жертвенная упряжка, постоянная преданность, быстрота, готовность работать двадцать четыре часа в сутки и выслушивать все соображения начальства.
Заметив Осколупова, Любимичев с простодушием подхватил полумягкое кресло и на цырлах понёс его навстречу генералу, ловя указание, куда поставить. У другого человека это могло бы выглядеть подхалимством, но у Любимичева — рослого, широкоплечего, с привлекательным открытым лицом — это было благородной услугой молодости пожилому уважаемому человеку. Ставя кресло и закрывая его собою ото всех, кроме Осколупова, Любимичев незаметно для всех, но заметно для генерал-майора, ещё приказчичьим движением руки смахнул с сиденья невидимую пыль, отскочил в сторону, и — вместе с Сиромахой — они замерли в радостном ожидании вопросов и указаний.
Фома Гурьянович сел, не снимая папахи, лишь чуть расстегнув шинель.
В лаборатории всё смолкло, не сверлила больше дрель, папиросы погасли, голоса стихли, и только Бобынин, не выходя из своего закутка, басом давал указания электромонтажникам, да Прянчиков невменяемо бродил с горячим паяльником вокруг разорённой стойки своего вокодера. Остальные смотрели и слушали, что скажет начальство.
Фома Гурьянович умел руководить, не овладевая познаниями по руководимому им делу. Он давно усвоил, что для этого надо лишь сталкивать мнения знающих подчинённых — и через то руководить. Так и теперь. Он посмотрел насупленно и спросил:
— Ну, так что? Как дела?
И тем самым вынудил подчинённых высказываться.
Началась никому не нужная беседа, только отрывавшая от работы.
— Надо! — настаивал неистовый Маркушев. Маленький, прыщеватый, он горячечно дённо и нощно изобретал, как ему прославиться и освободиться по досрочке.
БУЛАТОВ (зычно): Всё наоборот! Венчание клиппера и вокодера — абсолютная глупость! Мы только разваливаем оба проекта — и ничего не получим!
Бобынин — не снизошёл до этого спора, так и сидит спиной к Осколупову.
На лицах Любимичева и Сиромахи написаны страдание и вера.
Дырсин сидел убитый, подперев голову обеими руками.
Хоробров едва прятал в глазах злорадный блеск. Ему доставляло крупную радость быть свидетелем похорон двухлетних усилий Министерства госбезопасности. Он больше всех возражал Маркушеву и выпирал трудности.
Тут пришёл Яконов и из вежливости стал поддерживать беседу, безсмысленную в присутствии Осколупова. Затем он подозвал Маркушева, и с ним вдвоём на клочке бумаги, на коленях, они стали набрасывать вариант схемы.
Почувствовал ли Фома Гурьянович, что его беседа не идёт на пользу дела, или захотел дохнуть иным воздухом, пока не кончился льготный роковой месячный срок, — но посреди разговора, не дослушав Булатова, встал и мрачно пошёл к выходу, оставив полный состав Семёрки терзаться, до чего их нерадивость довела Начальника Отдела Спецтехники.
Верный порядку, Яконов вынужден был тоже встать и понести своё огрузлое большое тело вослед папахе, доходившей ему до плеча.
Молча, но уже рядом, они прошли по коридору. Яконов был выше на голову, причём на свою продолговатую крупную голову.
В кабинете Яконова.
Придя в кабинет, Яконов, чего никогда не стал бы при посторонних, помог Осколупову стянуть с себя шинель.
— У тебя Герасимович — что делает? — спросил Фома Гурьянович и сел в кресло хозяина, так и не сняв папахи.
Яконов опустился в стороне на стул.
— Герасимович?.. Да, собственно, он со Спиридоновки когда? В октябре, наверно. Ну, и с тех пор телевизор для товарища Сталина делал.
Тот самый, с бронзовой накладкой «Великому Сталину — от чекистов», к семидесятилетию Вождя.
— Вызови-ка его.
Яконов позвонил.
В дверь заглянул дежурный:
— Заключённый Герасимович.
— Пусть войдёт, — кивнул Яконов. Он сидел особняком от своего стола, на маленьком стуле, расслабнув и почти вываливаясь вправо и влево.
Герасимович вошёл, поправляя на носу пенсне, и споткнулся о ковёр. По сравнению с этими двумя толстыми чинами он казался очень уж узок в плечах и мал.
— По вашему вызову, — сухо сказал он, приблизясь и глядя в стенку между Осколуповым и Яконовым.
— У-гм, — ответил Осколупов. — Садитесь.
Герасимович сел. Он занимал половину сиденья.
— Вы… это… — вспоминал Фома Гурьянович. — Вы… — оптик, Герасимович? В общем, не по уху, а по глазу, так, что ли?
— Да.
— и вас это… — Фома поворочал языком, как бы протирая зубы. — Вас хвалят. Да.
Он помолчал. Сожмурив один глаз, он стал смотреть на Герасимовича другим.
— Вам сколько сидеть осталось?
— Три года.
— До-олго! — удивился Осколупов, будто у него все сидели с месячными сроками. — Ой до-олго! — (Подбодряя недавно одного новичка, он говорил: «Десять лет? Ерунда! Люди по двадцать пять сидят!») — Вам тоже б дocpoчку неплохо заработать, а?
Как это странно совпадало со вчерашней мольбой Наташи!..
Пересилив себя (ибо никакой улыбки и снисхождения он не разрешал себе в разговорах с начальством), Герасимович криво усмехнулся:
— Где ж её возьмёшь? В коридоре не валяется.
Фома Гурьянович колыхнулся:
— Хм! На телевизорах, конечно, досрочки не получите! А вот я вас на Спиридоновку на днях переведу и назначу руководителем проекта. Месяцев за шесть сделаете — и к осени будете дома.
— Какая ж работа, разрешите узнать?
— Да там много работ намечено, только хватай. Две работы, и та важная, и та печёт, прямо по вашей специальности, — ведь так, Антон Николаич? — (Яконов поддакнул головой.) — Одно — это ночной фотоаппарат на этих… как их… ультракрасных лучах. Чтоб, значит, ночью вот на улице сфотографировать человека, с кем он идёт, а он бы и до смерти не знал. За границей уже намётки есть, тут надо только… творчески перенять. Ну, и чтоб в обращении аппарат был попроще. Наши агенты не такие умные, как вы. А второе вот что. Второе вам, наверно, раз плюнуть, а нам — позарез нужно. Простой фотоаппаратик, только такой манёхонький, чтоб его в дверные косяки вделывать. и он бы автоматически, как только дверь открывается, фотографировал бы, кто через дверь проходит. Хотя бы днём, ну, и при электричестве. В темноте уж не надо, ладно. Такой бы аппаратик нам тоже в серийное производство запустить. Ну как? Возьмётесь?
Суженным худощавым лицом Герасимович был обёрнут к окнам и не смотрел на генерал-майора.
В словаре Фомы Гурьяновича не было слова «скорбный». Поэтому он не мог бы назвать, что за выражение установилось на лице Герасимовича.
Да он и не собирался называть. Он ждал ответа.
Это было исполнение молитвы Наташи!..
Её иссушенное лицо со стеклянно-застылыми слезами стояло перед Илларионом.
Впервые за много лет возврат домой своей доступностью, близостью, теплотой обнял сердце.
А сделать надо было только: вместо себя посадить за решётку сотню-две доверчивых лопоухих вольняшек.
Затруднённо, с препинанием Герасимович спросил:
— А на телевидении… нельзя бы остаться?
— Вы отказываетесь?! — изумился и нахмурился Осколупов. Его лицо особенно легко переходило к выражению сердитости. — По какой же причине?
А Наташа была подруга всей жизни. Наташа ждала его второй срок. Безпомощный комочек, она была на пороге угасания, а с ней угаснет и жизнь Иллариона.
— Зачем — причины? Не могу. Не справлюсь, — очень тихо, очень слабо ответил Герасимович.
Яконов, до этого рассеянный, с любопытством и вниманием взглянул на Герасимовича. Это, кажется, был ещё один случай, претендующий на иррациональность.
— Вы просто отвыкли от серьёзных заданий, оттого и робеете, — убеждал Осколупов. — Кто ж, как не вы? Хорошо, я вам дам подумать.
Герасимович небольшою рукой подпёр лоб и молчал.
Конечно, это не была атомная бомба. Это была, по мировой жизни, — крохотность незамечаемая.
— Но о чём вам думать? Это прямо по вашей специальности!
Ах, можно было смолчать! Можно было темнить. Как заведено у зэков, можно было принять задание, а потом тянуть резину, не делать. Но Герасимович встал и презрительно посмотрел на брюхастого, вислощёкого, тупорылого выродка в генеральской папахе, какие, на беду, не ушли по среднерусскому большаку.
— Нет! Это не по моей специальности! — звеняще пискнул он. — Сажать людей в тюрьму — не по моей специальности! Я — не ловец человеков! Довольно, что нас посадили…
В совсекретной группе.
В совсекретной тихой комнате, с тяжёлыми занавесями по бокам окна и двери, с диваном — мягкое глушило звуки, но звуков почти и не было, потому что магнитные ленты Рубин слушал на наушники, а Смолосидов весь день молчал, грубо прорытым лицом насупясь на Рубина, как на врага, а не товарища по работе. В свою очередь и Рубин не замечал Смолосидова иначе как автомат для перестановки катушек с лентами.
Надевая наушники, Рубин слушал и слушал роковой разговор с посольством, а потом — представленные ему ещё пять лент с пяти разговоров подозреваемых лиц. То он верил ушам, то отчаивался им верить и переходил к фиолетовым извивам звуковидов, напечатанных по всем разговорам. Длинные многометровые бумажные ленты, не помещаясь даже на большом столе, ниспадали белыми скрутками на пол слева и справа.
Порывисто брался Рубин за свой альбом с образцами звуковидов, цветным красно-синим карандашом размечал особо поразившие его места на лентах.
Рубин был захвачен. Его тёмно-карие глаза казались огненными. Большая нечёсаная чёрная борода была сваляна клочьями, и седой пепел непрерывно куримых трубок и папирос пересыпал бороду, рукава засаленного комбинезона с оторванной пуговицей на обшлаге, стол, ленты, кресло, альбом с образцами.
Рубин переживал сейчас загадочный душевный подъём, находился в состоянии того духовного реянья, когда острое зрение выхватывает гравинки из песка, когда память готовно отдаёт всё, что отлагалось в ней годами.
Он ни разу не спросил, который час. Он один только раз, по приходе, хотел открыть форточку, чтобы возместить себе недостаток свежего воздуха, но Смолосидов хмуро сказал: «Нельзя! У меня насморк», и Рубин подчинился. Ни разу потом во весь день он не встал, не подошёл к окну. Он не слышал, как стучался Шикин и как Смолосидов не пустил его. Будто в тумане видел он приходившего и уходившего Ройтмана, не оборачиваясь, что-то цедил ему сквозь зубы. В его сознание не вступило, что звонили на обеденный перерыв, потом снова на работу. Инстинкт зэка, свято чтущего ритуал еды, был едва пробуждён в нём встряхиванием за плечи всё тем же Ройтманом, показавшим ему на отдельном столике яичницу, вареники со сметаной и компот. Ноздри Рубина вздрогнули. Удивление вытянуло его лицо, но сознание и тут не отразилось на нём. Недоуменно оглядя эту пищу богов, точно пытаясь понять её назначение, он пересел и стал торопливо есть, не ощущая вкуса, стремясь скорей вернуться к работе.
Теперь Ройтман сидел напротив и смотрел на Рубина, но не как работодатель, ждущий плодов работы раба, а с ласковой усмешкой, как на большого ребёнка, восхищаясь, завидуя порыву, ловя момент, как бы вникнуть в смысл его полудневной работы и включиться в неё тоже.
А Рубин всё съел, и на его помягчевшее лицо вернулась осмысленность. В первый раз с утра он улыбнулся:
— Зря вы меня накормили, Адам Вениаминович. Satur venter non studet libenter. Сытое брюхо к учению глухо. Главную часть пути путник проходит до обеденного привала.
— Да вы на часы посмотрите, Лев Григорьич! Ведь четверть четвёртого!
— Что-о? Я думал — двенадцати нет.
— Лев Григорьич! Я сгораю от любопытства — что вы выяснили?
Это не только не было начальническим требованием, но сказано просительно, как если б Ройтман боялся, что Рубин откажется поделиться.
— Только начало! Только первые выводы, Адам Вениаминович!
— и — какие же?
— О некоторых можно спорить, но один несомненен: в науке фоноскопии, родившейся сегодня, есть-таки рациональное зерно!! Наблюдение по голосам!
— А вы — не увлекаетесь, Лев Григорьич? — предостерёг Ройтман. Ему не меньше хотелось, чтобы слова Рубина были верны, но, воспитанник точных наук, он знал, что у гуманитариста Рубина энтузиазм может перевесить научную добросовестность.
— А когда вы видели, чтоб я увлекался? — чуть не обиделся Рубин и разгладил склоченную бороду. — Наша почти двухлетняя собирательная работа, все эти звуковые и слоговые анализы русской речи, изучение звуковидов, классификация голосов, учение о национальном, групповом и индивидуальном речевом ладе — всё, что Антон Николаич считал пустым времяпровождением, — да греха ли таить? иногда и в вас закрадывалось сомнение! — всё это даёт теперь свои концентрированные результаты.
— Но пока мы должны доказать свою жизнеспособность и выполнить первое задание.
— Первое задание! Первое задание — это половина всей науки! Не так-то скоро.
— Но… то есть… Лев Григорьич? Неужели вы не понимаете, насколько срочно всё это надо?
Из окна уже падало мало дневного света. Они зажгли верхний, присели к рабочему столу, рассматривали выделенные на лентах звуковидов синим и красным карандашом образцы, характерные звуки, стыки согласных, интонационные линии. Всё это делали они вдвоём, не обращая внимания на Смолосидова, — он же сидел у магнитной ленты, сторожа её, как хмурый чёрный пёс, и смотрел им в затылки, и этот его неотступный тяжёлый взгляд давил им на череп и на мозг. Смолосидов лишал их самого маленького, но главного элемента — непринуждённости: он был свидетелем их колебаний, и он же будет свидетелем их бодрого доклада начальству…
РОЙТМАН: Нелегко охватить пятерых! Сравнить пять голосов на слух. Сравнить пять звуковидных лент.
РУБИН: А посмотрите, как много даёт нам звуковидный анализ! Вы слышите, что в начале преступник говорит не тем голосом, он пытается его менять. Но что изменилось на звуковиде? Только сдвинулась интенсивность по частотам — индивидуальный же речевой лад ничуть не изменился! Вот наше главное открытие — речевой лад! Даже если преступник до конца говорил изменённым голосом — он бы не скрыл своей характерности!
— Но мы ещё плохо знаем с вами пределы изменяемости голосов, — упирался Ройтман. — Может быть, в микроинтонациях эти пределы широки.
РУБИН: В общем, из пяти подозреваемых Заварзина и Сяговитого можно отвести совершенно уверенно. Если будущая наука разрешит делать выводы по единичному разговору. С колебаниями можно отвести и Петрова. Напротив, голоса Володина и Щевронка подходят к голосу преступника по частоте основного тона, имеют с ним одинаковые фонемы: о, р, л, ш и сходны по индивидуальному речевому ладу. Вот на этих-то сходных голосах и следовало бы теперь развивать науку фоноскопию и отработать её приёмы. Только на тонких этих различиях и может выработаться её будущий чуткий аппарат.
С торжеством создателей откинулись к спинкам стульев Рубин и Ройтман. Их мысленный взгляд прозревал ту, подобную дактилоскопической, организацию, которая когда-нибудь будет принята: единая общесоюзная фонотека, где записаны звуковиды с голосов всех, однажды заподозренных. Любой преступный разговор записывается, сличается, и злоумышленник без колебаний изловлен, как вор, оставивший отпечатки пальцев на дверце сейфа.
РОЙТМАН: Я считаю, что достигнутого — уже много. Зная, что начальство не любит гипотез, а любит определённость, так и будем считать голос Петрова вне подозрений и твёрдо доложим генерал-майору, что на подозрении остались только Щевронок и Володин, на которых в ближайшую пару дней надо провести дополнительное исследование. Одно смущает: они оба знают иностранные языки, и маловероятно, чтобы в такую важную минуту, когда разговор сводился к нулю из-за непонимания, у человека не вырвалось бы ни восклицания на знакомом ему языке. Вообще, Лев Григорьич, мы не должны с вами пренебрегать и психологией. Надо всё-таки представить себе — что должен быть за человек, решившийся на такой телефонный звонок, что могло им двигать. А затем сравнить с конкретными образами подозреваемых.
— Я, Адам Вениаминович, психологические соображения, конечно, уже перебирал, и они бы склонили чашу весов в сторону Володина: в разговоре с женой, когда она его звала на воскресный вечер у тестя, он как-то особенно вял, подавлен, даже в апатии, это очень свойственно преступнику, опасающемуся преследования, и ничего подобного нет в весёлом воскресном щебете Щевронка, я согласен. Но хороши мы будем, если с первых же шагов станем опираться не на объективные данные нашей науки, а на посторонние соображения.
— Нет, мы так не станем делать, Лев Григорьич. Давайте поработаем измерителем, давайте переведём на язык цифр — тогда и будем говорить.
— Но ведь это сколько уйдёт времени?! Ведь надо же срочно!
— Но если истина требует?
За этим занятием и застал их генерал-майор Осколупов, вошедший медленными властными шагами коротких ног. Все они хорошо его знали и уже по надвинутой папахе и по искривлённой верхней губе видели, что он пришёл резко недовольным.
Они вскочили, а он сел в угол дивана, руки засунул в карманы и приказно буркнул:
— Ну!
Рубин корректно молчал, предоставляя докладывать Ройтману.
При докладе Ройтмана вислощёкое лицо Осколупова осенило глубокомыслие, веки сонно приспустились, и он даже не встал посмотреть предложенные ему образцы лент. Ройтман закончил:
— Итак, подозреваются Щевронок и Володин, однако для окончательного суждения нужны ещё новые записи их разговоров.
После этого он посмотрел на Рубина и сказал:
— Но, кажется, Лев Григорьич хочет что-то добавить или поправить?
Фома Осколупов для Рубина был пень, давно решённый пень. Но сейчас он был также и — государственное око, представитель советской власти и невольный представитель всех тех прогрессивных сил, которым Рубин отдавал себя. и поэтому Рубин заговорил волнуясь, потрясая лентами и альбомами звуковидов:
— Я прошу вас понять, что хотя вывод дан пока и двойственный, но самой науке фоноскопии такая двойственность отнюдь не присуща. Просто слишком краток был срок для вынесения окончательного суждения. Нужны ещё магнитные записи. Но если говорить о личной догадке, то…
Хозяин слушал уже не сонно, а сморщась брезгливо. И, не дождавшись конца объяснений, перебил:
— Ворожи-ила бабка на бобах! На что мне ваша «наука»? Мне — преступника надо поймать. Докладайте ответственно: преступник здесь, на столе, у вас лежит, это точно? На свободе он не гуляет? Кроме этих пяти?
И смотрел исподлобья. А они стояли перед ним, ни обо что не опершись. Бумажные ленты из опущенных рук Рубина волочились по полу. Чёрным драконом Смолосидов припал у магнитофона за их спинами.
Рубин смялся. Он ожидал бы говорить вообще не в этом аспекте.
Ройтман, более привыкший к манере начальства, сказал, по возможности, отважно:
— Да, Фома Гурьянович. Я, собственно… Мы, собственно… Мы уверены, что — из этих двух.
(А что он мог ещё сказать?..)
Фома теснее прищурил глаз.
— Вы — отвечаете за свои слова?
— Да, мы… Да… отвечаем…
Осколупов тяжело поднялся с дивана.
— Смотрите, я за язык не тянул. Сейчас поеду министру доложу. Обоих сукиных сынов арестуем!
(Он так сказал это, враждебно глядя, что можно было понять — именно их-то двоих и арестуют.)
— Подождите, — возразил Рубин. — Ну, ещё хоть сутки! Дайте нам возможность обосновать полное доказательство!
— А вот следствие начнётся — пожалуйста, на стол к следователю микрофон — и записывайте их хоть по три часа.
— Но один из них будет невиновен! — воскликнул Рубин.
— Как это — невиновен? — удивился Осколупов и полностью раскрыл зелёные глаза. — Совсем уж ни в чём и не виновен?.. Органы най-дут, разберутся.
И вышел, слова доброго не сказав адептам новой науки.
А всё-таки было обидно.
Они сели на те самые стулья, на которых незадолго мечтали о великом будущем зарождающейся науки. и смолкли.
Как будто растоптали всё, что они так ажурно и хрупко построили. Как будто фоноскопия была вовсе и не нужна.
— Если вместо одного можно арестовать двух — то почему и не всех пятерых для верности?
Нет, они не высказали всего подуманного, а просто сидели и молчали.
И Смолосидов молчал за их затылками.
Акустическая.
На вечернее дежурство Симочка пришла в новом платьи, сшитом к Новому году, что могло показаться странным в этом мире подозрительности.
На больших электрических часах на стене лаборатории было без двух минут восемь, когда, с колотящимся сердцем, Симочка вошла в Акустическую. Заключённые уже сдавали в стальной шкаф секретные материалы. Через середину комнаты, обнажённую после относки вокодера в Семёрку, она увидела стол Нержина.
Его уже не было. (Не мог он подождать?..) Его настольная лампа была погашена, ребристые шторки стола — защёлкнуты, секретные материалы — сданы. Но была одна необычность: центр стола не весь был очищен, а лежал большой раскрытый американский журнал и раскрытый же словарь. Это могло быть тайным сигналом ей: «скоро приду!»
Заместитель Ройтмана вручил Симочке ключи от секретного шкафа, от комнаты и печатку (лаборатории опечатывались каждую ночь). и Ройтман был тут же, уже в шинели, шапке. и он был невесел.
— Ну что ж, Серафима Витальевна, командуйте. Всего хорошего.
По коридорам и комнатам института разнёсся долгий электрический звонок. Заключённые дружно уходили на ужин. Наблюдая за последними уходящими, Симочка прошлась по лаборатории.
Она осталась одна.
Теперь он мог прийти!
Она ходила по лаборатории и ломала пальцы.
Надо же было случиться такой неудаче! — шёлковые занавески, всегда висевшие на окнах, сегодня сняли в стирку. Три окна остались теперь беззащитно оголённые, и из черноты двора можно подглядывать. А невдалеке — забор, и прямо против их с Глебом окна — вышка с часовым. Оттуда видно — напролёт.
Симочка прошла в акустическую будку, куда взгляд не проникал. На пороге этой тесной каморки она прислонилась к толстой полой двери и закрыла глаза. Ей не хотелось сюда даже войти без него. Ей хотелось, чтоб он её сюда втянул, внёс.
Она слышала от подруг, как всё происходит, но представляла смутно, и волнение её ещё увеличивалось, и щёки горели сильней.
Она подошла сзади к вертящемуся гнуткому жёлтому стулу Глеба и обняла спинку, как живого человека.
Покосилась в окно. В близкой черноте угадывалась вышка, а на ней — чёрный сгусток всего враждебного любви — часовой с винтовкой.
В коридоре послышались шаги Глеба. Симочка порхнула к своему столу, села, придвинула трёхкаскадный усилитель, положенный на стол боком, с обнажёнными лампами, и стала его рассматривать, держа маленькую отвёрточку в руке.
Нержин прикрыл дверь негромко. Через опустевший без вокодерских стоек простор он увидел Симочку ещё издали, притаившуюся за своим столом, как перепёлочка за большой кочкой.
Он её так прозвал.
Симочка вскинула навстречу Глебу светящийся взгляд — и обмерла: лицо его было смущено, даже сумрачно.
До его входа она уверена была: первое, что он сделает, — подойдёт поцеловать, а она его остановит — ведь окна открыты, часовой смотрит.
Но он не кинулся вокруг столов. Он около своего остановился и первый же объяснил:
— Окна открыты, я не подойду, Симочка. Здравствуй! — Опущенными руками он опёрся о стол и, стоя, сверху вниз смотрел на неё. — Если нам не помешают, нам надо сейчас… переговорить.
Пе-ре-го-во-рить?..
Он отпер свой стол. Одна за другой, звонко стукнув, шторки упали. Не глядя на Симочку, деловыми движениями Нержин доставал и развёртывал разные книги, журналы, папки — так хорошо известную ей маскировку.
Симочка замерла с отвёрткой в руке и неотрывно смотрела на его безглазое лицо. Её мысль была, что субботний вызов Глеба к Яконову давал теперь злые плоды, его теснят или должны услать скоро. Но почему ж он прежде не подойдёт? не поцелует?..
— Случилось? Что случилось? — с переломом голоса спросила она и трудно глотнула.
Он сел. Попирая локтями раскрытые журналы, обхватил растягом пальцев справа и слева голову и прямым взглядом посмотрел на девушку. Но прямоты не было в том взгляде.
Стояла глухая тишина. Ни звука не доносилось. Их разделяло два стола — два стола, озарённые четырьмя верхними, двумя настольными лампами и простреливаемые взглядом часового с вышки.
И этот взгляд часового был как завеса колючей проволоки, медленно опускавшаяся между ними.
Глеб сказал:
— Симочка! Я считал бы себя негодяем, если бы сегодня… если бы… не исповедался тебе… Я как-то… легко с тобой поступал, не задумывался… А вчера… я виделся с женой… Свидание у нас было.
Симочка осела, стала ещё меньше. Крыльца её воротникового банта безсильно опали на алюминиевую панель прибора. и звякнула отвёртка о стол.
— Отчего ж ты… в субботу… не сказал? — подсеченным голосом едва протащила она.
— Да что ты, Симочка! — ужаснулся Глеб. — Неужели б я скрыл от тебя? Я узнал вчера утром. Это неожиданно получилось… Мы целый год не виделись, ты знаешь… и вот увиделись, и…
Его голос изнывал. Он понимал, каково ей слушать, но и говорить было тоже… Тут столько оттенков, которые ей не нужны, и не передашь. Да они самому себе непонятны. Как мечталось об этом вечере, об этом часе! Он в субботу сгорал, вертясь в постели! и вот пришёл тот час, и препятствий нет! — занавески ничто, комната — их, оба — здесь, всё есть! — всё, кроме…
Душа вынута. Осталась на свидании. Душа — как воздушный змей: вырвалась, полощется где-то, а ниточка — у жены.
Но кажется — душа тут совсем не нужна?!
Странно: нужна.
Всё это не надо было говорить Симочке, но что-то же надо? и по обязанности что-то говорить Глеб говорил, подыскивал околичные приличные объяснения:
— Ты знаешь… она ведь меня ждёт в разлуке — пять лет тюрьмы да сколько? — войну. Другие не ждут. и потом она в лагере меня поддерживала… подкармливала… Ты хотела ждать меня, но это не… не… Я не вынес бы… причинить ей…
Той! — а этой? Глеб мог бы остановиться!.. Тихий выстрел хрипловатым голосом сразу же попал в цель. Перепёлочка уже была убита. Она вся обмякла и ткнулась головой в густой строй радиоламп и конденсаторов трёхкаскадного усилителя.
Всхлипывания были тихие, как дыхание.
— Симочка, не плачь! Не плачь, не надо! — спохватился Глеб.
Но — через два стола, не переходя к ней ближе.
А она — почти беззвучно плакала, открыв ему прямой пробор разделённых волос.
Именно от её беззащитности простёгивало Глеба раскаяние.
— Перепёлочка! — бормотал он, переклоняясь вперёд. — Ну не плачь. Я прошу тебя… Я виноват…
И так, не вскакивая и не обегая столов, он со своего места повторял жалкие просьбы — не плакать.
А она плакала.
— Перепёлочка, перестань!.. Ну ещё, может быть, как-нибудь… Ну, дай времени немножко пройти…
Она подняла голову и в перерыве слёз странно окинула его.
Да было бы дико, при чём тут свидание?.. При чём все женщины, ходящие по воле, если здесь — тюрьма? Сегодня — нельзя, но пройдёт сколько-то дней, душа опустится на своё место, и, наверно, всё станет — можно.
Но сегодня — невозможно…
От глаз Симочки шли по щекам блестящие мокрые дорожки, которых она не вытирала. Лученьем глаз, и освещением, и изменчивостью женских лиц она именно сейчас стала привлекательной.
Может быть, всё-таки…?
Симочка упорно смотрела на Глеба.
Но не говорила ни слова.
Неловко. Он сказал:
— Она и сейчас, по сути, мне жизнь отдаёт. Кто б это мог? Ты уверена, что ты бы сумела?
Слёзы так и стояли невысохшими на её нечувствующих щеках.
— Она с вами не разводилась? — тихо раздельно спросила Симочка.
Как почувствовала главное! В самую точку. Но признаваться ей во вчерашней новости не хотелось. Ведь это сложней гораздо.
— Нет… Пока нет…
Слишком точный вопрос.
— Она — красивая?
— Да. Для меня — да.
Симочка шумно вздохнула. Кивнула сама себе, зеркальным точкам на зеркальных поверхностях радиоламп.
— Так не будет она вас ждать.
Никаких преимуществ законной жены Симочка не могла признать за этой незримой женщиной. Когда-то жила она немного с Глебом, но это было восемь лет назад. С тех пор Глеб воевал, сидел в тюрьме, а она, если правда красива, и молода, и без ребёнка, — неужели монашествовала? и ведь ни на этом свидании, ни через год, ни через два он не мог принадлежать ей, а Симочке — мог. Симочка уже сегодня могла стать его женой!.. Эта женщина, оказавшаяся не призрак, не имя пустое, — зачем она добивалась тюремного свидания? Из какой ненасытной жадности она протягивала руку к человеку, который никогда не будет ей принадлежать?!
— Не будет она вас ждать! — как заводная, повторяла Симочка.
Но чем упорней и чем точней она попадала, тем обидней.
— Она уже прождала, с войной, восемь! — возразил Глеб. Анализирующий ум тут же, впрочем, исправил: — Конечно, к концу будет трудней.
— Не будет она вас ждать! — ещё повторила Симочка, шёпотом.
И кистью руки сняла высыхающие слёзы.
Нержин пожал плечами:
— Что ж, пусть — не дождётся. Пусть только не она меня упрекнёт.
— А я бы — ждала! — из последнего дыхания выговорила Симочка. — Эти оставшиеся пять лет… и ещё, может быть…
Как выговорить надежду: с ребёнком?..
Симочка, сгорбленная, сидела над усилителем, для чего-то вынимая пошатыванием лампы из панельных гнёзд и вставляя их опять.
Она и прежде ничего в этом усилителе не понимала. и окончательно не понимала теперь. Опустилась на усилитель, руки ободком, и снова заплакала, заплакала.
— Прости меня! — забрало Глеба. — Прости меня! Прости меня!!
Тёплым толчком его кинуло — он обошёл столы и, уже пренебрегая часовым, взял её за голову, стал целовать.
Симочка плакала обильно, освобождённо.
СЕРИЯ ДВЕНАДЦАТАЯ
Квартира Володиных.
Они одеваются к театру. Но телефон (крупным планом) — звонит. Иннокентий смотрит на него съёженно.
— Дотти, возьми трубку, меня нет, и не знаешь, когда буду.
Дотти ещё похорошела со вчерашнего дня.
Придерживая полы халата, она мягкой походкой подошла к телефону и властно-ласково сняла трубку.
— Да… Его нет дома… Кто-кто?.. — и вдруг преобразилась приветливо и повела плечами, был у неё такой жест угоды. — Здравствуйте, товарищ генерал!.. Да, теперь узнаю… — Быстро прикрыла микрофон рукой и прошептала: — Шеф! Очень любезен.
Иннокентий заколебался. Любезный шеф, звонящий вечером сам… Жена заметила его колебание:
— Одну минуточку, я слышу, дверь открылась, как бы не он. Так и есть! Ини! Не раздевайся, быстро сюда, генерал у телефона!
Иннокентий взял трубку:
— Слушаю, товарищ генерал… В среду?.. За вторник сдам дела, конечно… Кое-какие детали?.. Уже и машина?.. Готов ехать, спасибо товарищ генерал!..
Иннокентий разогнулся от телефона другим человеком. Он вдохнул с такой счастливой глубиной, что воздух как будто имел время распространиться по всему его телу. Он выдохнул с медленностью — и вместе с воздухом вытолкнул сомнения и страхи.
— Представь, Дотик, в среду лечу! А сейчас…
Но Дотик, прислонявшая ухо к трубке, уже слышала всё и сама.
— Как ты думаешь, — она поднадула губы, — «кое-какие детали» — это, может быть, всё-таки и я?
— Да… м-м-может быть…
— А пока одевайся не торопясь. На первый акт мы не попадём… А на второй… Да я тебе ещё из министерства звякну…
Он едва успел надеть мундир, как в квартиру позвонил шофёр. Это не был обычно возивший его, а — какой-то подвижный, с приятным интеллигентным лицом. Он весело вертел на шнурочке ключ зажигания.
— Что-то я вас не помню, — сказал Иннокентий, застёгивая на ходу пальто.
— А я даже лестницу вашу помню, два раза за вами приезжал. — (Улыбается.)
В автомобиле.
Иннокентий сзади. Шофёр через плечо раза два пытается пошутить. Потом резко вывернул к тротуару и впритирку к нему остановился. Какой-то молодой человек в мягкой шляпе и в пальто, подогнанном по талии, стоит у края тротуара, подняв палец.
— Механик наш, из гаража, — пояснил симпатичный шофёр и стал открывать ему правую переднюю дверцу. Но дверца никак не поддавалась, замок заел.
Шофёр выругался в границах городского приличия и попросил:
— Товарищ советник! Нельзя ли ему рядом с вами доехать? Начальник он мой, неудобно.
— Да пожалуйста, — охотно согласился Иннокентий, подвигаясь. Он в опьянении, в азарте.
Механик, закусив сбоку рта длинную дымящую папиросу, пригнулся, вступил в машину, сдержанно-развязно спросил:
— Вы… не возражаете? — и плюхнулся рядом с Иннокентием.
Автомобиль рванул дальше.
Иннокентий на миг скривился от презрения («хам!»), но ушёл опять в свои мысли, мало замечая дорогу.
Пыхтя папиросой, механик задымил уже половину машины.
— Вы бы стекло открыли! — поставил его на место Иннокентий, поднимая одну лишь правую бровь.
Но механик не понял иронии и не открыл стекла, а, развалясь на сиденьи, из внутреннего кармана вынул листок, развернул его и протянул Иннокентию:
— Товарищ начальник! Вы не прочтёте мне, а? Я вам посвечу.
Автомобиль свернул в какую-то темноватую крутую улицу, вроде как будто Пушечную. Механик зажёг карманный фонарик и лучиком его осветил малиновый листок. Пожав плечами, Иннокентий брезгливо взял листок и начал читать небрежно, почти про себя:
«Санкционирую. Зам. Генерального Прокурора СССР…»
Он по-прежнему был в кругу своих мыслей и не мог спуститься, понять — что механик? неграмотный, что ли, или не разбирается в смысле бумаги, или пьян и хочет пооткровенничать.
«Ордер на арест… —
читал он, всё ещё не вникая в читаемое, —
Володина Иннокентия Артемьевича, 1919-го…» —
и только тут как одной большой иглой прокололо всё его тело по длине и разлился вар внезапный по телу — Иннокентий раскрыл рот — но ещё не издал ни звука, и ещё не упала на колени его рука с малиновым листком, как «механик» впился в его плечо и угрожающе загудел:
— Ну, спокойно, спокойно, не шевелись, придушу здесь!
Фонариком он слепил Володина и бил в его лицо дымом папиросы.
А листок отобрал.
И хотя Иннокентий прочёл, что он арестован, и это означало провал и конец его жизни, — в короткое мгновение ему были невыносимы только эта наглость, впившиеся пальцы, дым и свет в лицо.
— Пустите, — вскрикнул он, пытаясь своими слабыми пальцами освободиться. До его сознания теперь уже дошло, что это действительно ордер, действительно на его арест, но представлялось несчастным стечением обстоятельств, что он попал в эту машину и пустил «механика» подъехать, — представлялось так, что надо вырваться к шефу в министерство и арест отменят.
Он стал судорожно дёргать ручку левой дверцы, но и та не поддавалась, заело и её.
— Шофёр! Вы ответите! Что за провокация?! — гневно вскрикнул Иннокентий.
— Служу Советскому Союзу, советник! — с озорью отчеканил шофёр через плечо.
Повинуясь правилам уличного движения, автомобиль обогнул всю сверкающую Лубянскую площадь, словно делая прощальный круг и давая Иннокентию возможность увидеть в последний раз этот мир и пятиэтажную высоту слившихся зданий Старой и Новой Лубянок, где предстояло ему окончить жизнь. Красный флажок, освещённый из глубины крыши прожектором, трепетал в прорезе колончатой башенки над зданием Старой Большой Лубянки. Он был — как гаршиновский красный цветок, вобравший в себя зло мира. Две безчувственные каменные наяды, полулёжа, с презрением смотрели вниз на маленьких семенящих граждан.
В главном здании Большой Лубянки.
Из какого-то тёмного дворика — две ступеньки — и чистенькая парадная дверь. Сопровождающие ввели Иннокентия, держащего руки за спиной. Очень опрятный коридор, залитый электрическим светом, похожий на приёмную известного доктора. «Шофёр» стал странно щёлкать языком, будто призывая собаку. Но никакой собаки не было.
Дальше коридор перегорожен остеклённой дверью с занавесками изнутри. Дверь укреплена обрешёткой из косых прутьев. На двери вместо докторской таблички висит надпись:
«Приёмная арестованных».
Позвонили. Из-за занавески подглядел, а потом отворил дверь безстрастный надзиратель с небесно-голубыми погонами и белыми сержантскими лычками поперёк них. «Механик» показал надзирателю малиновый бланк. Тот пробежал его скучающе, как разбуженный сонный аптекарь читает рецепт, — и махнул вводить арестованного. и повёл его, выделывая языком то же призывное собачье щёлканье.
Но собаки и тут не было.
Коридор так же ярко освещён и так же по-больничному чист.
В стене — двери, выкрашенные в оливковый цвет. Сержант отпахнул одну из них и сказал:
— Зайдите.
Иннокентий вошёл. Он почти не успел рассмотреть, что это была пустая комната с большим грубым столом, парой табуреток и без окна, как «шофёр» откуда-то сбоку, а «механик» сзади накинулись на него, в четыре руки обхватили, сорвали пальто и проворно обшарили все карманы.
— Да что за бандитизм? — слабо закричал Иннокентий. — Кто дал вам право? — Он отбивался немного, но внутреннее сознание, что это совсем не бандитизм и что люди просто выполняют служебную работу, лишало движения его — энергии, а голос — уверенности.
Они сняли с него наручные часы, вытащили две записные книжки, авторучку, носовой платок. Он увидел в их руках ещё узкие серебряные погоны и поразился совпадению, что они тоже дипломатические и что число звёздочек на них — такое же, как и у него. Грубые объятия разомкнулись. «Механик» протянул ему носовой платок:
— Возьмите.
— После ваших грязных рук? — визгливо вскрикнул и передёрнулся Иннокентий.
Платок упал на пол.
— На ценности получите квитанцию, — сказал «шофёр», и оба ушли поспешно.
— Да они что? погоны с меня сорвали? — только тут догадался и Иннокентий.
— Руки назад! — равнодушно сказал сержант. — Пройдите!
И защёлкал языком.
Но собаки не было.
После излома коридора они оказались ещё в одном коридоре, где по обеим сторонам шли тесно друг ко другу небольшие оливковые двери с оваликами зеркальных номеров на них. Между дверьми ходила пожилая истёртая женщина в военной юбке и гимнастёрке с такими же небесно-голубыми погонами. Женщина эта, когда они показались из-за поворота, подглядывала в отверстие одной из дверей. При подходе их она спокойно опустила висячий щиток, закрывающий отверстие, и посмотрела на Иннокентия так, будто он уже сотни раз сегодня тут проходил и ничего удивительного нет, что идёт ещё раз. Черты её были мрачные. Она вставила длинный ключ в стальную навесную коробку замка на одной двери, с грохотом отперла дверь и кивнула ему:
— Зайдите.
Иннокентий переступил порог, и, прежде чем успел обернуться, спросить объяснения, — дверь позади него затворилась, громкий замок заперся.
Нельзя было назвать это помещение комнатой, ни даже камерой, — потому что, как приучила нас литература, в камере должно быть хоть маленькое, да окошко и пространство для хождения. А здесь не только ходить, не только лечь, но даже нельзя было сесть свободно. Стояла тумбочка и табуретка, занимая собой почти всю площадь пола. Севши на табуретку, уже нельзя было вольно вытянуть ноги. Каморка ослепительно освещалась из-под потолка большой лампочкой ватт на двести, заключённой в проволочную сетку. Каждую минуту отклонялся маленький щиток и через остеклённый глазок за Иннокентием наблюдал одинокий пытливый глаз.
Глубоко жалила мысль: какая ошибка! — даже не прочесть до конца ордер. Он так послушно покорился аресту, что убедились в его виновности! Почему не протестовал? Получилось явно, что он ждал ареста, был приготовлен к нему!
Он был прострелен этой роковой ошибкой! Первая мысль была — вскочить, бить руками, ногами, кричать во всё горло, что невиновен, что пусть откроют.
А может быть, шеф его всё-таки ждёт? Хоть под конвоем, но как прорваться к нему? Как выяснить?
Он стал бить кулаками в дверь, зовя живого человека.
Вот зачем глазок был сделан конусом — никак кулак не доставал разбить стекло!
Исступлённый немигающий глаз с другой стороны прильнул к стеклу и злорадно смотрел на Иннокентия.
О, это зрелище! — вырванный глаз, глаз без лица, глаз, всё выражение стянувший в себе одном! — и когда он смотрит на твою гибель!..
Вдруг совершенно безшумно (хотя запиралась с грохотом) дверь растворилась. Надзиратель вступил в неширокий раствор двери и уже здесь, в каморке, а не из коридора, угрожающе негромко спросил:
— Вы почему стучите? Запомните! Стучать ни в коем случае нельзя, иначе вас накажут.
— Но если мне плохо? если надо позвать?
— и не разговаривать громко! Если вам нужно позвать, — с тем же равномерным хмурым безстрастием разъяснял надзиратель, — ждите, когда откроется глазок, — и молча поднимите палец.
— Но мне плохо, мне лечь нужно!
— В боксе не положено.
— Где? Где не положено? — (Ему хотелось поговорить хоть с этим чурбаном!)
Но надзиратель уже отступил за дверь и притворял её.
— Слушайте, позовите начальника! За что меня арестовали? — опомнился Иннокентий.
Дверь заперлась.
Он сказал — в боксе? «Box» — значит по-английски ящик. Они цинично называют такую каморку ящиком? Что ж, это, пожалуй, точно.
Вновь загремел замок. Отворилась дверь. В дверь вступил лейтенант с бумагой в руке. За плечом его виднелось постное лицо сержанта.
В своём дипломатическом серо-сизом мундире, вышитом золотыми пальмами, Иннокентий развязно поднялся ему навстречу:
— Послушайте, лейтенант, в чём дело? что за недоразумение? Дайте мне ордер, я его не прочёл.
— Фамилия? — невыразительно спросил лейтенант, стеклянно глядя на Иннокентия.
— Володин, — уступая, ответил Иннокентий с готовностью выяснить положение.
— Имя, отчество?
— Иннокентий Артемьевич.
— Год рождения? — лейтенант сверялся всё время с бумагой.
— Тысяча девятьсот девятнадцатый.
— Место рождения?
— Ленинград.
И тут-то, когда впору было разобраться и советник второго ранга ждал объяснений, лейтенант отступил, и дверь заперлась, едва не прищемив советника.
Иннокентий сел и закрыл глаза. Он начинал чувствовать силу этих механических клещей.
Сделать в боксе один полный шаг было негде.
Отодвинулся щиток глазка. Иннокентий поднял палец. Дверь открыла та женщина в небесных погонах с тупым и тяжёлым лицом.
— Мне нужно… это… — выразительно сказал он.
— Руки назад! Пройдите! — повелительно бросила женщина, и, повинуясь кивку её головы, Иннокентий вышел в коридор.
Проведя его несколько, женщина кивнула на дверь:
— Сюда!
Иннокентий вошёл. Дверь за ним заперли.
Кроме отверстия в полу и двух железных бугорчатых выступов для ног, остальная ничтожная площадь пола и площадь стен маленькой каморки были выложены плиткой. В углублении освежительно переплескивалась вода.
Довольный, что хоть здесь отдохнёт от непрерывного наблюдения, Иннокентий присел на корточки.
Но что-то шаркнуло по двери с той стороны. Он поднял голову и увидел, что и здесь такой же глазок с коническим раструбом и что неотступный внимательный глаз следит за ним уже не с перерывами, а непрерывно.
Неприятно смущённый, Иннокентий выпрямился. Он ещё не успел поднять пальца о готовности, как дверь растворилась.
— Руки назад. Пройдите! — невозмутимо сказала женщина.
В боксе Иннокентия потянуло узнать, который час. Он бездумно отодвинул обшлаг рукава, но времени больше не было.
Ему не дали углубиться в мысли. Дверь отперлась. Ещё какой-то новый крупнолицый широкоплечий человек в сером халате поверх гимнастёрки спросил:
— Фамилия?
— Я уже отвечал! — возмутился Иннокентий.
— Фамилия? — без выражения, как радист, вызывающий станцию, повторил пришедший.
— Ну Володин.
— Возьмите вещи. Пройдите, — безстрастно сказал серый халат.
Иннокентий взял пальто и шапку с тумбочки и пошёл. Ему показано было в ту самую первую комнату, где с него сорвали погоны, отняли часы и записные книжки.
— Слушайте, у меня вещи отняли! — пожаловался Иннокентий.
— Разденьтесь! — ответил надзиратель в сером халате.
— Зачем? — поразился Иннокентий.
Надзиратель посмотрел в его глаза простым твёрдым взглядом.
— Вы — русский?
— Да.
— Разденьтесь!
— А что?.. не русским — не надо? — уныло сострил он.
Надзиратель каменно молчал, ожидая.
Изобразив презрительную усмешку и пожав плечами, Иннокентий сел на табуретку, разулся, снял мундир и протянул его надзирателю. Даже не придавая мундиру никакого ритуального значения, Иннокентий всё-таки уважал свою шитую золотом одежду.
— Бросьте! — сказал серый халат, показывая на пол.
Иннокентий не решался. Надзиратель вырвал у него мышиный мундир из рук, швырнул на пол и отрывисто добавил:
— Догола!
— То есть как догола?
— Догола!
— Но это совершенно невозможно, товарищ! Ведь здесь же холодно, поймите!
— Вас разденут силой, — предупредил надзиратель.
Иннокентий подумал. Уже на него кидались — и похоже было, что кинутся ещё. Поёживаясь от холода и от омерзения, он снял с себя шёлковое бельё и сам послушно бросил в ту же кучу.
— Носки снимите!
Сняв носки, Иннокентий стоял теперь на деревянном полу босыми безволосыми ногами, нежно белыми, как всё его податливое тело.
— Откройте рот. Шире. Скажите «а». Ещё раз, длиннее: «а-а-а!» Теперь язык поднимите.
Как покупаемой лошади, оттянув Иннокентию нечистыми руками одну щеку, потом другую, одно подглазье, потом другое — и убедившись, что нигде под языком, за щеками и в глазах ничего не спрятано, надзиратель твёрдым движением запрокинул Иннокентию голову так, что в ноздри ему попадал свет, затем проверил оба уха, оттягивая за раковины, велел распялить пальцы и убедился, что нет ничего между пальцами, ещё — помахать руками, и убедился, что под мышками также нет ничего. Тогда тем же машинно-неопровержимым голосом он скомандовал (Иннокентия, выполняющего команды, не видим):
— Станьте ко мне спиной. Расставьте ноги. Шире. Наклонитесь вперёд до пола. Ноги — шире. Ягодицы — разведите руками. Так. Хорошо. Теперь присядьте на корточки. Быстро! Ещё раз!
Снося все унижения, голый Иннокентий подавленно молчал.
Обыскивающий указал ему сесть на табуретку. А сам у груды его одежды начал перетряхивать, перещупывать и смотреть на свет. В кальсонах он только тщательно промял, ущип за ущипом, все швы и рубчики и бросил их под ноги Иннокентию. Носки он отстегнул от резиновых держалок, вывернул наизнанку и бросил Иннокентию. Прощупав рубчики и складки нижней сорочки, он бросил на пол и её, так что Иннокентий мог одеться, всё более возвращая телу блаженную теплоту.
Затем обыскивающий достал большой складной нож, раскрыл его и принялся за ботинки. С сосредоточенным лицом многократно перегибал подошвы, ища внутри чего-то твёрдого. Взрезал ножом стельку, затем достал шило и проколол им наискось один каблук, другой.
Иннокентий неподвижным взглядом следил за его работой. Лицо обыскивающего имело чёрствое неприязненное выражение.
Теперь он стал спарывать с мундира всё золотое шитьё, форменные пуговицы, петлицы. Затем вспарывал подкладку и шарил под ней. Не меньше времени он возился со складками и швами брюк. Ещё больше доставило ему хлопот зимнее пальто — там, в глуби ваты, надзирателю слышался, наверно, какой-то не ватный шелест (зашитая записка? адреса? ампула с ядом?) — и, вскрыв подкладку, он долго искал в вате, сохраняя выражение столь сосредоточенное и озабоченное, как если б делал операцию на человеческом сердце.
Наконец обыскивающий стал собирать трофеи: подтяжки, резиновые держалки для носков, галстук, брошь от галстука, запонки, золотое шитьё, все форменные отличия и множество пуговиц. Только тут Иннокентий допонял и оценил разрушительную работу: отсутствие почти всех пуговиц именно в то время, когда его лишали и подтяжек, из всех издевательств этого вечера почему-то особенно поразило Иннокентия.
— Зачем вы срезали пуговицы? — воскликнул он.
— Не положены, — буркнул надзиратель.
— То есть как? А в чём же я буду ходить?
— Верёвочками завяжете, — хмуро ответил тот, уже в двери.
— Что за чушь? Какие верёвочки? Откуда я их возьму?..
Но дверь захлопнулась и заперлась.
Иннокентий не стал стучать и настаивать: он сообразил, что на пальто и ещё кое-где пуговицы оставили, и уже этому надо радоваться.
Он быстро воспитывался здесь.
Не успел он, поддерживая падающую одежду, походить по своему новому помещению, разминая ноги, как опять загремел ключ в двери и вошёл новый надзиратель в халате белом, хоть и не первой чистоты. Он посмотрел на Иннокентия, как на давно знакомую вещь, всегда находившуюся в этой комнате, и отрывисто приказал:
— Разденьтесь догола!
Из перехваченного обидой горла вырвался неубедительный протест каким-то цыплячьим голосом:
— Но ведь я только что раздевался! Неужели не могли предупредить?
Нововошедший невыразительным скучающим взглядом следил, скоро ли будет выполнено приказание.
Входя уже в ритм безпрекословного безвольного подчинения, Иннокентий разделся и разулся.
— Сядьте! — показал надзиратель на ту самую табуретку.
Голый арестант сел покорно, не задумываясь — зачем. Надзиратель жёстко обхватил его голову пальцами за затылок. Холодная режущая плоскость машинки с силой придавилась к его темени.
— Что вы делаете? — вздрогнул Иннокентий, со слабым усилием пытаясь высвободить голову из захвативших пальцев. — Кто вам дал право? Я ещё не арестован! — (Он хотел сказать — обвинение ещё не доказано.)
Но парикмахер, всё так же крепко держа его голову, молча продолжал стричь. и вспышка сопротивления, возникшая было в Иннокентии, погасла. Этот гордый молодой дипломат, с таким независимо-небрежным видом сходивший по трапам трансконтинентальных самолётов, — был сейчас голый квёлый мужчина с головой, остриженной наполовину.
Мягкие светло-каштановые волосы Иннокентия падали грустными беззвучными хлопьями, как падает снег. Он поймал рукой один клок и нежно перетёр его в пальцах.
Он ещё помнил своё решение сопротивляться, возражать, спорить, требовать прокурора, — но вопреки разуму его волю сковывало сладкое безразличие замерзающего на снегу.
Кончив стричь голову, парикмахер велел встать, по очереди поднять руки и выстриг под мышками. Потом сам присел на корточки и тою же машинкой стал стричь Иннокентию лобок. Это было необычно, очень щекотно. Иннокентий невольно поёжился, парикмахер цыкнул.
— Одеваться можно? — спросил Иннокентий, когда процедура окончилась.
Но парикмахер не сказал ни слова и запер дверь.
Хитрость подсказывала Иннокентию не спешить одеваться на этот раз. В остриженных нежных местах он испытывал неприятное покалывание. Проводя по непривычной голове (с детства не помнил себя наголо остриженным), он нащупывал странную короткую щетинку и неровности черепа, о которых не знал.
Всё же он надел бельё, а когда стал влезать в брюки — загремел замок, вошёл ещё новый надзиратель с мясистым фиолетовым носом. В руках он держал большую картонную карточку.
— Фамилия?
— Володин, — уже не сопротивляясь, ответил арестант, хотя ему становилось дурно от этих безсмысленных повторений.
— Имя-отчество?.. Год рождения?.. Разденьтесь догола.
Плохо соображая, что происходит, он доразделся.
Надзиратель с фиолетовым носом стал придирчиво осматривать Иннокентия с разных сторон и всё время записывал свои наблюдения в карточке. По большому вниманию к родинкам, к подробностям лица — Иннокентий понял, что записывают его приметы.
Ушёл и этот.
Иннокентий безучастно сидел на табуретке, не одеваясь.
Опять загремела дверь. Вошла полная черноволосая дама в снежно-белом халате. У неё было надменное грубое лицо и интеллигентные манеры.
Иннокентий очнулся, бросился за кальсонами, чтобы прикрыть наготу. Но женщина окинула его презрительным, совсем не женским взглядом и, выпячивая и без того оттопыренную нижнюю губу, спросила:
— Скажите, у вас — вшей нет?
— Я — дипломат, — обиделся Иннокентий, твёрдо глядя в её чёрные глаза и по-прежнему держа перед собой кальсоны.
— Ну так что из этого? Какие у вас жалобы?
— За что меня арестовали? Дайте прочесть ордер! Дайте прокурора! — оживясь, зачастил Иннокентий.
— Вас не об этом спрашивают, — устало нахмурилась женщина. — Вензаболевания отрицаете?
— Что?
— Гонореей, сифилисом, мягким шанкром не болели? Проказой? Туберкулёзом? Других жалоб нет?
И ушла, не дожидаясь ответа.
Вошёл самый первый надзиратель.
— Почему не одеваетесь? Оденьтесь быстро.
Не так это было легко! Оставшись запертым, Иннокентий бился, как заставить брюки держаться без помочей и без многих пуговиц. Догадался, откуда ему достать «верёвочки»: брюки в поясе и в ширинке надо было связать шнурками от ботинок.
Полы мундира он уже не связывал.
Сержант, убедясь в глазок, что арестованный одет, отпер дверь:
— Руки назад! Пройдите!
И снова Иннокентий был заперт в своём боксе.
Процедуры укачали его, они лишили его здравого разума и воли к сопротивлению. Его единственным мучительным желанием было сейчас — спать. Решив, что его пока оставили в покое, не видя, как устроиться иначе, он поставил табуретку поверх тумбочки, на пол бросил своё пальто из тонкого драпа с каракулевым воротником и лёг на него по диагонали бокса. При этом спина его лежала на полу, голова круто поднималась одним углом бокса, а ноги, согнутые в коленях, корчились в другом углу. Но первое мгновение члены ещё не затекли — и он ощущал наслаждение.
Однако он не успел отойти в обволакивающий сон, как дверь распахнулась с особенным нарочитым грохотом.
— Встаньте! — прошипела женщина.
Иннокентий едва пошевельнул веками.
— Встаньте! Встаньте!! — раздавались над ним заклинания.
— Но если я хочу спать?
— Встаньте!!! — властно и уже громко окрикнула наклонившаяся над ним, как Медуза в сновидении, женщина.
Из своего переломленного положения Иннокентий с трудом поднялся на ноги.
— Так отведите меня, где можно лечь поспать, — вяло сказал он.
— Не положено! — отрубила Медуза в небесных погонах и хлопнула дверью.
Иннокентий прислонился к стене, выждал, пока она долго изучала его в глазок, и ещё, и ещё раз.
И опять опустился на пальто, воспользовавшись отлучкой Медузы.
И уже сознание его прерывалось, как вновь загрохотала дверь.
Новый высокий сильный мужчина, который был бы удалым молотобойцем или камнеломом, в белом халате стоял на пороге.
— Фамилия?
— Володин.
— С вещами!
Иннокентий сгрёб пальто и шапку и с тусклыми глазами, пошатываясь, пошёл за надзирателем. Он был до крайней степени измучен и готов был бы тут же лечь посреди коридора. Его перевели в другой коридор, погрязней, откуда открыли дверь в предбанник, и выдали кусок бельевого мыла величиной меньше спичечной коробки:
— Мыться!
Иннокентий не решался: ему пришлось отвратительно грязно. Он едва выбрал достаточно сухое место на скамье. Он с удовольствием бы не раздевался и не мылся вовсе, но дверь предбанника отперлась, и молотобоец в белом халате скомандовал:
— Идти под душ!
Делать нечего, разделся.
Выданное ему отвратительное вонючее мыло гадливо выбросил ещё в предбаннике. Теперь за пару минут кое-как отплескался — и с ощущением, что он не помылся здесь, а набрался грязи, вернулся одеваться.
Но зря. Лавки предбанника были пусты, вся его великолепная, хотя и обкорнанная одежда унесена, и только ботинки уткнулись носами под лавки. Наружная дверь была заперта. Иннокентию не оставалось ничего другого, как сесть на лавку обнажённо скульптурным.
Затем ему выдали грубое застиранное тюремное бельё с чёрными штампами «Внутренняя Тюрьма» на спине и на животе. Кургузые кальсоны оказались Иннокентию коротки, тесны. Рубаха, наоборот, попалась очень просторна, рукава спускались на пальцы.
— А верхняя одежда?
— В прожарке.
Слово это было новое для Иннокентия. В полученном нескладном белье он ещё долго сидел в предбаннике. Исполегающая слабость владела им. Хотелось лечь на что-нибудь сухое и нехолодное — и так лежать без движения. Однако голыми рёбрами на угловатые рейки скамьи — не решался.
Наконец принесли одежду. Пальто вернулось холодное и в сохранности, китель же с брюками и верхняя сорочка — измятые, поблекшие и ещё горячие.
— Неужели и мундир не могли сберечь, как пальто? — возмутился Иннокентий.
— Шуба мех имеет. Понимать надо! — наставительно ответил молотобоец.
И опять Иннокентий отведен был в свой бокс.
Оставшись опять запертым, сложил руки на тумбочке, положил на них голову и сделал попытку заснуть сидя.
— Нельзя! — сказал, отперев дверь, новый надзиратель.
— Что нельзя?
— Голову класть нельзя!
И снова пришли — мужчина в синем халате поверх дорогого костюма.
Каждый раз, принося квитанцию, спрашивали его фамилию. и теперь спросили всё снова: «Фамилия? Имя, отчество? Год рождения? Место рождения?» — после чего пришедший приказал:
— Слегка!
— Что слегка? — оторопел Иннокентий.
— Ну, слегка, без вещей! Руки назад! — в коридоре все команды подавались вполголоса, чтоб не слышали другие боксы.
Щёлкая языком всё для той же невидимой собаки, синий халат провёл Иннокентия ещё каким-то коридором в большую комнату уже не тюремного типа — со шторами, задёрнутыми на окнах, с мягкой мебелью, письменными столами. Посреди комнаты Иннокентия посадили на стул. Он понял, что его сейчас будут допрашивать.
Отрицать! Всё начисто отрицать! Изо всех сил отрицать!
Но вместо этого из-за портьеры выкатили полированный коричневый ящик фотокамеры, с двух сторон включили на Иннокентия яркий свет, сфотографировали его один раз в лоб, другой раз в профиль.
Приведший Иннокентия начальник, беря поочерёдно каждый палец его правой руки, вываливал его мякотью о липкий чёрный валик, как бы обмазанный штемпельною краской, отчего все пять пальцев стали чёрными на концах. Затем, равномерно раздвинув пальцы Иннокентия, мужчина в синем халате с силой прижал их к бланку и оторвал резко. Пять чёрных отпечатков с белыми извилинами остались на бланке.
Ещё так же измазали и отпечатали пальцы левой руки.
Выше отпечатков на бланке было написано:
Володин Иннокентий Артемьевич, 1919, г. Ленинград,
а ещё выше — жирными чёрными типографскими знаками:
ХРАНИТЬ ВЕЧНО!
Шарашка. Полукруглая комната.
Перед утренней поверкой — безпорядок, как обычно. Одни уже позавтракали и пришли с прогулки, постели устелены, пьют чай. Другие ещё не оделись, кто уходит завтракать.
— А Руська так и не приходил ночевать?
— Нет, наверное, в карцере заперли.
ДВОЕТЁСОВ: Да его вчера из Вакуумной увели, при мне.
— Доигрался парень.
— И молодчик, что осмелился! Другое скажи: человек десять у нас знало о его двойничестве — и никто ж не продал!
РУБИН, головой под прикрытое окно, до сих пор лежал кулём. Теперь вылез из-под одеяла в меховой шапке и в телогрейке, под общий хохот. Сидит в постели со всклокоченной бородой, просит чаю на тумбочку.
Звонок на поверку. Входит НАДЕЛАШИН (он считает головы, принимает смену) и ШУСТЕРМАН с объявлением:
— Внимание! Заключённым объявляется, что после ужина никто не будет допускаться на кухню за кипятком. и по этому вопросу не вызывать дежурного.
— Это чьё распоряжение?? — бешено вопит Прянчиков, выскакивая из коечного прохода.
ШУСТЕРМАН: Начальника тюрьмы.
— Когда оно сделано??
— Вчера.
Прянчиков потрясает над головой кулаками на тонких худых руках:
— Этого не может быть! В субботу мне сам министр Абакумов обещал, что по ночам кипяток будет! Ведь мы работаем до двенадцати ночи!
Хохот. Двоетёсов басит:
— А ты не работай до двенадцати!
Но у Шустермана в руках — ешё бумага. и он объявляет гнетущим голосом:
— Внимание! Сейчас на работу не выходят и собираются на этап… Из вашей комнаты: Хоробров! Михайлов! Нержин! Сёмушкин!
И надзиратели вышли.
В комнате — вихрь смятения. Заговорили все разом. Бросились друг ко другу, к отъезжающим. Кто встал во весь рост на верхней койке и оттуда размахивает, кричит. Разноречивый разворох в несколько этажей. Рубин встал из кровати в телогрейке и в кальсонах и, широко раскинув руки, зычно кричит:
— Исторический день шарашки! Утро стрелецкой казни!..
Акустическая.
Ещё перед ней, в коридоре, — СИРОМАХА, группе зэков:
— А за что Руську Доронина? Какой же гад его заложил?
НЕРЖИН проходит мимо них — и в Акустическую. А едва открыв дверь — видит растворенные дверцы стального шкафа, а между ними СИМОЧКУ в полосатеньком платьице с пуховым платком на плечах. Она вздрогнула — и замерла, как бы раздумывая, что ей взять из шкафа.
Нержин, не успев и подумать, вступил в раствор дверец и шёпотом:
— Серафима Витальевна! После вчерашнего — безжалостно обращаться к вам. Но труд мой — гибнет. Мне его сжечь? Вы не возьмёте?
Она подняла печальные, неспавшие глаза:
— Дайте.
Кто-то входил. Нержин метнулся дальше, прошёл к своему столу. Там встретил майора РОЙТМАНА. На его лице боль:
— Поверьте, Глеб Викентьич, ведь меня не предупредили, я не знал. А сегодня уже ничего поправить нельзя…
Он говорит это вслух, при всей лаборатории, не стесняясь. Капли пота выступили на его лбу.
НЕРЖИН: Понимаю, Адам Вениаминыч! Не расстраивайтесь, я сам так выбрал… Материалы по артикуляции я сдам Серафиме Витальевне?..
И стал разгружать свой стол. Достал из глубины и три заветных блокнота, вложил их в одну из папок.
И, кладя всё перед Симочкой, как бы объясняя, что в папках, прошептал:
— Прости!..
Из Семёрки пришёл Прянчиков и разоряется:
— Да как это можно? Мы одеревенели! Мы даже не возмущаемся!
И другие зэки из лаборатории не работают, в вольных позах окружили Нержина. Кто сел не на стул, а на стол, как бы подчёркивая приподнятость момента. Этап заставляет каждого, даже не тронутого им зэка меланхолически подумать:
— Да, бренность нашей судьбы. Все там будем.
А Нержин спешит догребать всё из ящиков, сортировать, отдельно — стопки библиотечного. Кому из ребят подарил свой крутящийся стул, кому — рулон цветной немецкой бумаги. А ему несут — пачки папирос, каких ему уже дальше не видать.
Из совсекретной группы пришёл Рубин. Его глаза грустны, нижние веки обвисли.
Нездоровое возбуждение Нержина, быстрота сборов проходят. Сел и он на стол. Протянул:
— и вот, друже, трёх лет мы не пожили вместе, жили всё время в спорах, издевались над убеждениями друг друга, а сейчас, когда я теряю тебя, должно быть, навсегда…
И Рубин теплится застенчивостью:
— Так всё сошлось… Давай поцелуемся, зверь.
И принял Нержина в свою пиратскую чёрную бороду.
— Помоги вот мне книги, журналы снести в библиотеку.
Нагрузились, пошли с двумя стопами.
Библиотечная комната.
В глубине — стеллажи с книгами, ближе — приёмная стойка, за ней — библиотекарша, сильно накрашенная, тоже лейтенант МГБ, сверяет принесенное с формуляром Нержина.
Поспешно входит СОЛОГДИН, слишком хлопнув остеклённой дверью, отчего она задребезжала, библиотекарша оглянулась недовольно.
СОЛОГДИН: Так, Глебчик, так! Свершилось! Ты уезжаешь.
Нисколько не замечая рядом «библейского фанатика», смотрит только на Нержина. Равно и РУБИН отвёл глаза от «докучного гидальго».
Библиотекарша ушла за полки. Сологдин малозвучно:
— Всё-таки ты свой скептицизм бросай. Это просто удобный приём, чтобы не бороться. Но слушай, время — деньги. Ещё не поздно. Дай согласие работать расчётчиком — и я, может быть, успею тебя оставить тут, в новую группу. — (Рубин удивлённо метнул взглядом по Сологдину.) — Но придётся вкалывать, предупреждаю честно.
НЕРЖИН (вздохнув): Спасибо, Митяй, такая возможность у меня и была. Но если вкалывать — то когда же развиваться? Говорит пословица: не море топит, а лужа. Хочу попробовать пуститься в море. Теперь — другое дыхание: на рассвете спокойно выходить на развод в измазанной телогрейке. Не бояться общих работ. Подзакалюсь.
Так они стоят трое и ждут библиотекаршу. В полной тишине Нержин тихо:
— Друзья! Надо помириться!
Ни Сологдин, ни Рубин не повели головами.
— Митя! — настаивает Глеб.
Сологдин поднял холодное голубое пламя взгляда:
— Почему ты обращаешься — ко мне?
— Лёва! — настаивает Глеб.
Рубин смотрит скучающе:
— Ты знаешь, почему лошади долго живут? Потому что они никогда не выясняют отношений.
Коридор возле Семёрки.
ПОТАПОВ, сильно озабоченный, спешит с приборным ящичком под мышкой. Несмотря на прихрамывание, идёт быстро, шею держит напряжённо выгнутой и смотрит не под ноги, а как бы вдаль и прищурясь. Ему навстречу НЕРЖИН, с ворохом надаренных папиросных пачек в руках:
— Вот и всё, Андреич. Покойник был весел и улыбался.
Человеческий смысл включился в глаза Потапова, за очками. Свободной от ящичка рукой он дотянулся до затылка, как если б хотел почесать его.
— Ку-ку-у… и мы там будем.
— Где теперь встретимся? На котласской пересылке? На индигирских приисках? Не верится, чтобы, самостоятельно передвигая ногами, мы могли бы сойтись на городском тротуаре. А?..
С прищуром Потапов проскандировал:
— Для при-зра-ков закрыл я вежды. Лишь отдалённые надежды Тревожат сердце и-но-гда.Из двери Семёрки высунулась голова Маркушева. Раздражённо:
— Ну, Андреич! Где же фильтры? Работа стоит!
Нержин и Потапов обнялись неловко. Пачки «Беломора» посыпались на пол.
ПОТАПОВ: Вы ж понимаете — икру мечем, всё некогда. — (И лукаво.) — Пишите!
Ничего естественней не сказать при прощании. Но между островами ГУЛАГа переписки нет. и Потапов устремился в Семёрку.
В тюремном штабе шарашки.
Запасная пустая комната. Происходит переодевание этапируемых. В одном углу сбрасывают комбинезоны, казённые пальто, одеваются в драньё из принесенных мешков. Но прежде чем получить своё — проходят обыск у надзирателей, в присутствии туго налитого, фиолетового опера майора МЫШИНА. Тщательно доглядываются бумаги, книги. Ни клочка писаного, рисованного не должно выйти с секретного объекта Марфино. Глядя по запасу, у кого отнимают и казённое бельё и полуботинки вольного образца. Из мешков зэки достают тяжёлые лагерные ботинки, а счастливчики — и валенки. У ГЕРАСИМОВИЧА не оказалось ничего своего — и каптёр дал ему длиннорукавный бушлат, «бывший в употреблении», и тупоносые кирзовые ботинки. Выходящие со шмона арестанты не без труда узнают друг друга. Садятся у другой стены, кто на скамью, кто на свой самодельный деревянный чемодан, кто на пол. Молчат. Думают.
Надзиратели уносят отнятое обмундирование. Вошёл НАДЕЛАШИН. Вскочил на ноги Нержин:
— Младший лейтенант! Мы видим в окно, что уже полчаса, как кончился обеденный перерыв. Почему не несут нам обеда?
Наделашин, неловко отаптываясь, сочувственно:
— Вы сегодня… со снабжения сняты…
— То есть как это сняты? Доложите начальнику тюрьмы, что мы без обеда никуда не поедем. и силой посадить себя — не дадимся!
Гул голосов: — Правильно!.. Тяни их!.. За три года службы один обед пожалели…
НАДЕЛАШИН: Хорошо, постараюсь…
Из окна видна дорожка, соединяющая штаб с кухней. Видно, как младшина просеменил на кухню. Вскоре вывел оттуда двух поварих с бидоном и уполовником. Сам Наделашин несёт стопку глубоких тарелок.
В комнате возникло оживление победы.
Обед появился в дверях. Стали разливать суп. Зэки берут тарелки, несут в свои углы, на стол, на подоконники.
В молчании едят. Уже заскребают ложками.
— Да-а… Заговляйся, братцы…
— Когда теперь дождёмся такого похлебать?
Хоробров стукнул ложкой по выеденной тарелке и с нарастающим протестом:
— Нет, друзья! Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой!
Ему не ответили.
Нержин стал стучать и требовать второго блюда. Тотчас появился Наделашин. С приветливой улыбкой:
— Покушали? А второго, простите, не осталось. Уже и котёл моют. Извините.
Кто-то басом:
— А что на второе было?
— Рагу, — застенчиво улыбнулся Наделашин.
За стеной послышалось фырканье автомобильного мотора. Наделашина кликнули — и вызволили этим. Слышен строгий голос подполковника Климентьева. Стали выводить по одному.
Снаружи перед штабом.
Прогулочный двор уже пуст, перерыв кончился. Задок воронка подогнали к самому порогу штаба. При посадке обычная торопливость конвоя — и при роковом шаге с земли на высокую подножку воронка — зэки не успевают даже голову поднять, попрощаться с высокими стройными липами. Но Хоробров успел-таки заглянуть сбоку и увидел: по оранжево-голубой раскраске кузова — идёт ступеньками:
Мясо
Viande
Fleisch
Meat.
Внутри воронка.
Братская мышеловка. Кто на скамьях вдоль стен, кто на полу — на мешках, на чемоданах. Мреющий свет через отдушину-решётку в задней двери. и там промелькнула тень.
ГОЛОС РУСЬКИ: Братцы! Еду на следствие. Кто тут? Кого увозят?
Гул голосов. Всё перемешалось.
— Кто тебя продал, Руська?
— Сиромаха!
— Га-а-ад!
РУСЬКА: А сколько вас? Кто да кто?
Но уже затолкали его в задний бокс и заперли.
— Не робей, Руська! — кричат ему. — Встретимся в лагере!
Но вот захлопнули и внешнюю дверь воронка — и доходит лишь последний неверный поток через две решётки. Затарахтел мотор, машина тронулась — и теперь, при раскачке, только мерцающие отсветы иногда пробегают по лицам зэков.
При повороте очень тесно сплотило плечи Герасимовича и Нержина.
НЕРЖИН: (для слышимости — прямо в ухо ему): А что должна делать элита в лагере?
ГЕРАСИМОВИЧ: Что и всегда, но с двойным усилием!
В темноте и скученности, чуть приокивая, Хоробров:
— Ничего я, ребята, не жалею, что уехал. Разве это жизнь — на шарашке? По коридору идёшь — на Сиромаху наступишь. Каждый пятый — стукач, не успеешь в уборной звук издать — сейчас куму известно. Воскресений уже два года нет, сволочи. Двенадцать часов рабочий день! За двадцать грамм маслица все мозги отдай. Переписку с домом запретили, драть их вперегрёб. и — работай? Да это ад какой-то!
Хоробров смолк, переполненный негодованием.
В наступившей тишине, при моторе, ровно работающем по асфальту, раздался ответ Нержина:
— Нет, Илья Терентьич, это не ад. Это — не ад! В ад мы едем. В ад мы возвращаемся. А шарашка — высший, лучший, первый круг ада. Это — почти рай.
Он не стал далее говорить, почувствовав, что — не нужно. Все ведь знали, что ожидало их несравненно худшее, чем шарашка. Все знали, что из лагеря шарашка припомнится золотым сном. Но сейчас для бодрости и сознания правоты надо было ругать шарашку, чтоб ни у кого не оставалось сожаления, чтоб никто не упрекал себя в опрометчивом шаге.
Герасимович нашёл аргумент, не досказанный Хоробровым:
— Когда начнётся война, шарашечных зэков, слишком много знающих, перетравят через хлеб, как делали гитлеровцы.
— Я ж и говорю, — откликнулся Хоробров, — лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой!
Прислушиваясь к ходу машины, зэки смолкли.
Да, их ожидала тайга и тундра, полюс холода Оймякон и медные копи Джезказгана. Их ожидала опять кирка и тачка, голодная пайка сырого хлеба, больница, смерть. Их ожидало только худшее.
Но в душах их был мир с самими собой.
Ими владело безстрашие людей, утерявших всё до конца, — безстрашие, достающееся трудно, но прочно.
2003
Москва
Краткие пояснения
ПИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ. — Автор сложил пьесу в течение 1951 года, целиком в уме, будучи каменщиком на общих работах в Экибастузском лагере (Казахстан). Некоторые отрывки он составлял только в уме (в переходной колонне, на проверках, во время работы), и они никогда не были на бумаге. Другие записывал малыми частями и после доработки и заучивания клочки бумаги сжигал. Весь сочиненный текст автор повторял ежемесячно, чтобы сохранить в памяти. Впервые пьеса записана в 1953-м, уже в ссылке в Кок-Тереке, там перележала в земле месяцы, пока автор лечился в онкологической клинике в Ташкенте. С тех пор хранилась конспиративно до 1965 года, когда один экземпляр попал в руки КГБ. Этот текст ЦК КПСС издал закрытым тиражом и распространял среди номенклатуры.
В пьесе Солженицын использовал личный опыт командира батареи звуковой разведки и отдельные воспоминания о своём разведдивизионе, смежных частях и о январских днях в Пруссии. Датировка — в соответствии с замыканием прусского котла (25 января 1945 г.). Описание взорванного памятника немецкой победе 1914 года над армией Самсонова — по личному впечатлению автора. Капитан Александр Сергеевич Доброхотов-Майков выведен под собственным именем. (Убит той же последней военной зимой.)
В Самиздате пьеса не ходила.
Первая публикация: Александр Солженицын. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 8. Пьесы и киносценарии. Вермонт; Париж: ИМКА-пресс, 1981.
В январе 1995-го в Малом театре в Москве состоялась премьера «Пира победителей» (режиссер-постановщик — Б. А. Морозов, художник — И. Г. Сумбаташвили, композитор — Г. Я. Гоберник).
ПЛЕННИКИ. — Пьеса начата в Экибастузском лагере в 1952 году, при работе в литейном цеху: малыми кусочками, сжигавшимися вослед, всё на память, — сперва только стихотворные сцены, затем — и прозаические. Так, в памяти, и вывезена автором из лагеря. Весной 1953 года в ссылке, в Кок-Тереке, пьеса была закончена (первоначальное название — «Декабристы без декабря»), к осени записана и скрыта в земле. Конспиративное хранение продолжалось и все последующие годы. Эта пьеса никогда не попала в руки КГБ.
В пьесе использованы впечатления автора от контрразведки СМЕРШ в польском городе Бродницы (февраль 1945 г.) и многочисленные другие тюремные биографии и воспоминания. Под собственным именем выведен Е. И. Дивнич, другие зэки — под вымышленными. Форма и стиль судебно-следственных документов того времени воспроизведены в точности.
Пьеса никогда не ходила в Самиздате. Впервые напечатана в «вермонтском» собрании сочинений (Т. 8. Пьесы и киносценарии, 1981).
ОЛЕНЬ И ШАЛАШОВКА. — Написана в Кок-Тереке весной 1954 года (первоначальное название — «Республика труда»). Долгие годы хранилась конспиративно. В декабре 1962-го после напечатания «Ивана Денисовича» автор «облегчил» пьесу для постановки московским театром «Современник». Однако цензура воспретила появление пьесы на сцене. Она пошла в Самиздат, ушла на Запад, — и в этом сокращенном варианте напечатана на русском («Грани» № 73, 1969) и иностранных языках. Впоследствии уже нелегко было восстановить исходный текст — и в театральных постановках разных стран пьеса шла в том же «суженном» варианте. В пьесе использован лагерный опыт автора 1945 года (лагерный пункт «Калужская застава» в Москве) с добавлением опыта литейки из Экибастузского лагеря, 1952.
Полный текст впервые напечатан в «вермонтском» собрании сочинений («Республика труда». Т. 8. Пьесы и киносценарии, 1981).
Пьеса была переведена на английский и немецкий и многократно ставилась на сцене за рубежом.
В мае 1991-го, через 28 лет после запрета, Олег Ефремов поставил пьесу на сцене МХАТа им. Чехова.
СВЕТ, КОТОРЫЙ В ТЕБЕ (СВЕЧА НА ВЕТРУ). — Задумана и написана в 1960 году — как попытка сказать о пороках современного цивилизованного мира, отвлекшись от частных особенностей Запада или Востока. Для этого, в частности, состав действующих лиц денационализирован — и оттого, по мнению самого автора, утеряны выразительные свойства русского языка и диалога. Это было первое произведение Солженицына, не требующее конспиративного хранения. Предполагалось, что откроется возможность печатания или постановки пьесы в СССР. Но это оказалось также невозможным: её не мог напечатать «Новый мир» (1964), не могли поставить Московский театр Ленинского Комсомола (1965), Ленинградский театр Комедии (1966) и Вахтанговский театр (1967). Пьеса ходила в Самиздате, ушла на Запад, была напечатана по-русски («Грани» № 71, 1969) и на иностранных языках. Шла в театрах разных стран. Была экранизирована французским телевидением.
В пьесе использованы реальные обстоятельства некоторых семей в СССР и некоторые личные обстоятельства автора. Советский лагерный опыт видоизменен и представлен как ложное обвинение в убийстве.
ЗНАЮТ ИСТИНУ ТАНКИ. — Сценарий написан осенью 1959 года в Рязани. Он сгущённо изображает ход лагерных волнений сперва в Экибастузе с 1951-го на 1952 год (до штурма БУРа), затем в Кегире, в июне 1954-го (эпизоды восстания и подавления). Первые написаны по личным впечатлениям автора, вторые — по рассказам знакомых зэков. Не рассчитывая, что когда-либо при его жизни фильм будет поставлен, автор применил повышенную наглядность и детальность указаний — с тем, чтобы сценарий непосредственно мог «смотреться» в чтении.
При обысках в КГБ не попал.
Впервые напечатан в «вермонтском» собрании сочинений (Т. 8. Пьесы и киносценарии, 1981).
Никогда не экранизировался. В 1980–1981 гг. Анджей Вайда, работая в Европе, имел намерение снять фильм по этому сценарию, но не решился из опасения, что ему преградят путь на родину — в Польшу.
ТУНЕЯДЕЦ. — Написан в декабре 1968 года по заказу студии «Мосфильм» и выполнялся как заказ, хотя ясно было, что поставлен не будет. Использован эпизод автомобильной аварии самого автора и починки в Рязани «по левой». Мастер Паша списан с натуры. Эпизоды рязанской жизни. Эпизоды избирательного дня — из рассказов знакомых «агитаторов». «Иногородний» — Георгий Тэнно (один из свидетелей и героев «Архипелага», друг автора) незадолго до смерти (1967), истинный эпизод.
Едва сценарий был сдан на «Мосфильм» в конце 1968-го — тотчас же остановлен «сверху».
Впервые напечатан в «вермонтском» собрании сочинений (Т. 8. Пьесы и киносценарии, 1981).
Никогда не экранизировался.
В КРУГЕ ПЕРВОМ. СЦЕНАРИЙ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ФИЛЬМА. — Литературный сценарий для телевизионного сериала по роману «В круге первом» написан автором в 2003 году. Режиссер Глеб Панфилов прочитал роман в Самиздате в 1974 году, и тогда же у него возникла мысль о фильме, впрочем, он полагал, что это станет возможно «лет через триста». Но осуществилось через тридцать. Телесериал был заказан Всероссийской государственной телерадиокомпанией (Россия-1). Режиссер собрал замечательных актеров: Евгений Миронов (Глеб Нержин), Дмитрий Певцов (Иннокентий Володин), Роман Мадянов (Абакумов), Андрей Смирнов (Бобынин), Инна Чурикова (жена Герасимовича), Альберт Филозов (дядюшка Авенир), Михаил Кононов (Спиридон) и др. Закадровый текст читал сам автор.
В окончательной версии — десять серий по 44 минуты. Первый телеэфир — 29 января 2006 года.
Экранизация «В круге первом» получила премию «Ника» (2005), ТЭФИ-2006 (как «телесобытие года», за лучший сценарий, за лучшую работу художника-постановщика, за лучшего оператора), а также главный приз в номинации «Лучший сериал» Международного фестиваля аудиовизуальных программ в Биаррице (2007).
Публикуется впервые.
______________
В настоящем издании все тексты печатаются в последней авторской редакции 2004 года.
Борис Любимов. Кино-театр Александра Солженицына
«Драматический театр я страстно полюбил. Так проступила новая напорная струя моей жизни: к театру, к драматургии»[4].
I
Среди тем изучения творчества Александра Солженицына одна из самых интересных — роль драматургии в его творчестве и жизни. Тема эта является составной частью более общих проблем, таких как эстетика Солженицына, Солженицын и искусство и др. Но если отношения Солженицына с живописью или музыкой носят хотя и существенный, но локальный характер (в романе «В круге первом» картина и образ художника чрезвычайно важны, однако Солженицын сам картин не писал, а музыку хотя чрезвычайно любил, но говорил: «У меня с музыкой любовь без взаимности: я её люблю безумно, а она меня нет»[5]), то театр и, в меньшей степени, кино имеют прямое отношение и к биографии Солженицына, и к его поэтике. А пьесы и сценарии, хотя и не являются самой важной и известной частью его творчества, тем не менее оставили след в истории литературы, театра, кино и телевидения и в исследовательской литературе[6]. Стоит отметить, что в настоящем издании читатель сможет ознакомиться с публикуемым впервые сценарием «В круге первом», написанным Солженицыным специально для телефильма Глеба Панфилова (2006). Он интересен и как одна из последних работ писателя, и как свидетельство того, что автор считал существенным в романе, и для понимания его представлений о кино и телевидении.
Начнём с биографии. В неопубликованных воспоминаниях Солженицын пишет: «В детстве моём в Ростове-на-Дону не бывало для меня культурных событий крупней, чем посещение местного драматического театра. (Билеты — со школьной скидкой, а когда приезжал МХАТ-2-й, и ещё кто-то, — на то денег не было, такого и масштаба я не получил.) и развилась у меня к театру страсть — в старших классах даже большая, чем к литературе. Вся обстановка спектаклей, декорации, сырой, свежий запах со сцены, волны актёрской игры, перекатывающие в сердце, программка в руках и в антрактах обсуждение с приятелями всего происходящего — властно затягивали. А к тому же в школе мы много читали по ролям, тоже ставили пьесы, я… выдвинулся на роли героев — то Чацкого, то Жадова из “Доходного места”, то Паратова в “Бесприданнице”, то Фердинанда из “Коварства и любви”, а уж это было под влиянием ростовского драматического театра… (А половина спектаклей-то была — грозно эпохальные: “Враги” Лавренёва, “Командные высоты” (не помню чьи), “Разбег” Ставского, ростовского, — и этот политический драматизм отзывно воспринимался мной.) Драматический театр я страстно полюбил (а опереттой совсем не заинтересовался, пошло). Так проступила новая, напорная струя моей жизни: к театру, к драматургии. <…> Ставили мы и школьные спектакли: и красно-детективные о Гражданской войне, и водевили Чехова, и репетировали “Романтиков” Ростана, а уж “Сирано де Бержерака” читали по ролям, собираясь малой группой, сами!.. Вся эта самодеятельность толкала дальше — на “конкурсы юных талантов”, какие оживились в тот год, я имел успех как чтец, выдвигался на районный конкурс, потом на городской, значит, выступал уже в городских клубах, и так утверждалась во мне новая и ложная мысль: стать актёром. Гневное лермонтовское “На смерть поэта” и монологи Чацкого наиболее выражали мой темперамент — уже тогдашний и ещё на много лет вперёд. А вольная строфика Грибоедова казалась мне самым близким образцом стихосложения. (Под её влиянием я и “Пир победителей” сочинял в лагере.)»[7]
Впечатление от ростовского театра и собственного участия в школьных «чтениях по ролям» отразились в одном из поздних сочинений Солженицына — рассказе «Настенька»: «И худенький отличник с распадающимися неулёжными волосами читал несвоим, запредельным в трагичности голосом, повторяя любимого актёра: “Луиза, любила ли ты маршала? Эта свеча не успеет догореть — ты будешь мертва…”»[8]
О соблазне актёрства и возможных вариантах судьбы Солженицын вспоминает так: «Ведь нависает надо мной другой соблазн: уже больше года, как в Ростов из Москвы сослан театр Завадского. Он занял место прежней ростовской труппы, уже поразил нас и “Днями нашей жизни” Леонида Андреева, и “Укрощением строптивой” Шекспира с Мордвиновым и Марецкой. и вот — он объявляет набор в своё театральное училище! и все их звёзды будут там преподавать!
Тут у нас с мамой длительный конфликт. Я — хочу быть драматическим артистом (а с писательством это как совместится? Я сам не понимаю), мама — долго умоляет меня отказаться, говорит, что актёр — не профессия для мужчины, актёром допустимо быть только великим, а я таким не стану, так не надо. Правда, уверенности в том, что я буду “великим” актёром, у меня нет, хотя, кажется, успехи всё время несомненны. Но приходим к такому компромиссу: аттестат 10-летки я отдаю на физмат, но в театральное училище требуется аттестат всего за 7-летку, и такой есть у меня, и тоже с отличием, — попробую? <…> Надо читать монолог по собственному выбору (я читаю “А судьи кто” Чацкого), басню Крылова (у меня “Кот и повар”), затем по заданию изобразить немую сцену (мне: “перенести” воображаемый тяжёлый бак с краской). За столом — понимающая комиссия, во главе с седовласо-моложавым Завадским. Пошептались и добавляют мне такое задание: вон, за окном далеко, вы увидели — идёт ваш друг, позовите его, изо всех сил. Я кричу в сторону ту: “Ки-ри-и-ил!” (без задумки подвернулось имя, и правда ближе его тогда не было) — и сам с удивлением слышу, как мой голос сел, не хватило его. и Завадский отвечает, что испытание я прошёл, но должен принести справку от врача, что в порядке моё горло. Странно, всегда было в порядке, и сколько я выступал, никто никогда не замечал. Спешу к горловику. и узнаю: хронический катар горла. Если буду актёром — могу полностью лишиться голоса.
Не могу поверить. и какое разочарование! (А маме какое облегчение!)
А — рука судьбы. Ведь меня б, упрямца, не отговорить, вляпался бы я в это актёрство. А — что оно в советских условиях, когда две трети — советских пьес? Быть рупором лжи, опустошающе». <…>
Но хотя личное моё актёрство не состоялось — безбрежная моя любовь к театру осталась во мне — и я пронёс её через фронт, лагерь, ссылку, где театров в помине не было, и в рязанские годы, при поездках в столицы всё улучал хоть когда попасть на спектакль то московского театра, то ленинградского — да всё “академических”, за новыми течениями я не поспевал»[9].
Таким образом, возможность стать актёром для Солженицына отпала, но не пропала его любовь к чтению вслух, запечатлённая впоследствии на многих пластинках. Несомненно, что дар актёра, неразвившийся профессионально, оставался в нём и в годы зрелости, достаточно посмотреть, как выразительны его руки, как богато интонирует он во время диалогов с интервьюерами, как разнообразно использует мимику и выражение глаз.
Любовь к театру сочеталась в Солженицыне с любовью к драматургии. Среди писателей, которых он упоминал в числе оказавших на него воздействие, были не только Диккенс и Бальзак, но и Шекспир, и Шиллер. На раннем этапе своей литературной деятельности Солженицын написал работу о Грибоедове, опубликованную значительно позднее[10], а в конце жизни в «Литературную коллекцию» вошли статьи «Алексей Константинович Толстой — Драматическая трилогия и другое»[11]; «Мой Булгаков»[12] «Из пьес А. Н. Островского»[13].
Но любовь к театру и драматургии и жизненные обстоятельства привели Солженицына к собственным драматургическим опытам, предваряющим написание его рассказов, романов и повестей.
Исследователь творчества Солженицына и внимательный читатель его произведений не может не обратить внимания на пусть не основную, но существенную роль темы театра в его творчестве. Достаточно вспомнить описание постановки лермонтовского «Маскарада» в Александринском театре в «Марте Семнадцатого» (гл. 633) или тему театра в романе «В круге первом», вплоть до введения образа писателя-драматурга и театрального критика. Читая первый том «Архипелага…» глазами работника театра, я обратил внимание на то, что при описании судебных процессов Александр Исаевич создаёт образ спектакля, используя театральные термины, «театральный метаязык», как определили бы литературоведы 1960–70-х. «Роль», «текст», «спектакль», «пьеса», «лубянские суфлеры», «главный Режиссёр», «живо, как во МХАТе», «отступил… от системы Станиславского» и т. д. — это рассеяно по десяткам страниц[14]. и если Керенского в «Марте Семнадцатого» Солженицын описывает как провинциального актёра, и это не представляется чем-то неожиданным, то возникающий в «Архипелаге ГУЛАГе» образ Усатого Режиссёра и описание поставленных им судебных процессов неожиданны и впечатляющи. Но и мимо опыта кинематографа 20-го века Солженицын не проходит, экран в «Августе Четырнадцатого» тому яркий пример.
II
Драматургия не стала центром писательской деятельности Солженицына. Но если бы в начале 50-х годов его бы задавило бревном на лесоповале, или воля его и Божья не позволила бы вырваться из ракового корпуса, а «захоронки» всё же чудом дошли бы до читателя, мы знали бы Солженицына только как драматурга, автора драматической трилогии «1945 год», в которую входит стихотворная комедия «Пир победителей», трагедия «Пленники» и драма «Республика труда» («Олень и шалашовка). Авторские пометки в конце каждой пьесы обозначают время, место и условия написания: «1951 Экибастуз, на общих работах, устно; 1952 Экибастуз, на общих, устно, 1953 Кок-Терек; 1954 Кок-Терек».
Едва ли припоминаются в истории драматургии, от Софокла до Брехта, пьесы, сочинённые не только про лагерь, но и в лагере, да ещё и не записанные, а выученные наизусть, будто эпос. Пьесы большие, со множеством сцен, эпизодов, сюжетных поворотов. и густонаселённые — 18 персонажей в первой пьесе, не считая массовки, 48 — во второй плюс массовка, 60 — в третьей, опять же не считая массовки. В этом многолюдии — многообразие. Солженицын дотошно указывает возраст каждого из героев; национальность — в основном русские, но есть и татары, евреи, немец, поляк, итальянец, румын, украинец; должности и звания. В «Пленниках» в казематах СМЕРШа ждут своей очереди сержант Красной Армии, ротмистр русской императорской, капитан королевской югославской армии, оберлейтенант вермахта, подпоручик Войска Польского, капрал итальянской армии, не говоря уже обо всех чинах и званиях СМЕРШа, охраны, бригадирах, нарядчиках, комендантах и «неформальных званиях» вроде «придурков» и «работяг». Для тех, кто не знает этой терминологии, Солженицын прилагает «Краткий словарь лагерного языка» (приложение к театральной программке). Некоторые из этих выражений тогда же вышли за ворота лагерей и звучали даже в школьных коридорах. В 1954 году, то есть в то время, когда Солженицын писал «Республику труда», я учился в первом классе. Помню восторженный вопль: «Уроков не будет» и разочарованное: «Параша-а-а-а..»: параша [одно из значений] — непроверенный лагерный слух. А в 1972 году, в стройбате, где в нашей роте из сорока москвичей было тридцать восемь ранее судимых, я услышал: «Ему бацилла не положена» (Солженицын поясняет: бацилла [блатн.] — жир). Некоторые из этих слов вошли в наш язык благодаря «Ивану Денисовичу» — кондей, кум, на цырлах, шмон… А иные, перекатываясь из «зоны» в «зону», застревая и закрепляясь в отдельных социальных слоях, дожили и до нашего времени и вошли в общерусский современный язык (как, например, «вкалывать»). Если учесть, что достаточно большая часть персонажей пьес Солженицына — интеллигенты, инженеры, физики, философы, то можно бы сказать и не прибегая к составлению частотного словаря, что язык пьес Солженицына — самый богатый в ту пору. А то, что первая пьеса трилогии целиком, а вторая наполовину написаны вольным рифмованным стихом, ещё усиливает впечатление разнообразия, непредсказуемости, языковой мощи писателя.
Солженицын писал пьесы для театра, причем конкретного. Как он сам вспоминал, его театральный опыт в ту пору был довольно ограничен, театральные впечатления отложились, «увы: в форме, в какой они ещё сохранялись в 30-е годы в провинции, не соответствуя современному мировому уровню, — и когда через 15 лет в лагере я начну сочинять пьесы, то изо всех воспоминаний и образцов у меня только почти что и будет: ростовский театр 30-х годов. Ах, как важно для большой страны, чтоб её культура не стягивалась бы в одной столице, чтобы жили наравне сорок равноправных культурных центров.»[15] Ремарки описывают воображаемый спектакль, так, например, в «Республике труда»: «В антракте, не тотчас, — смена часовых на вышках у сценического портала. Сменив одного часового, развод военным шагом спускается, проходит перед первым рядом партера (если там толпятся зрители, разводящий грубо кричит: “Ат-тайди от зоны! Р-разойдись!”) и сменяет часового другой вышки».
«1945 год» — год Победы, но это и год горя для тех, кто, подобно Солженицыну, в конце войны прошёл муки ареста, допросов и лагеря. И, как ни мучительно это само по себе, тому, кто четыре года претерпевал страсти войны или плена, получить «десятку» за неосторожное слово или по ложному доносу мучительно втройне, это, может быть, самое горькое горе. Амнистия всем, кроме пленных, — как это пережить?
Но трилогия не только о предательстве и несправедливости, она — о судьбах России. Которые не закончились в 17-м году. Капитан Майков поднимает в «Пире победителей» тост:
…Ещё горжусь, что предок мой служилый Стрелял из пушки пеплом Первого Лжедмитрия! … Что Майков, прадед мой, похоронён под Балаклавой, Дед Плевну брал, отец был ранен под Мукденом…Для Солженицына Россия несводима не только к границам времени, но и пространства. и по ту сторону границы есть умные, талантливые, благородные люди, и по эту живут доносчики, палачи, нелюди. С честным врагом можно вести спор, с соотечественником-палачом говорить не о чем. Война на многое открыла глаза — тем, кто хотел быть зрячим. Некоторые и в 49-м году оставались бы интеллектуальной опорой режима, сталинистами-гуманистами, кабы до самих дело не дошло. Были и честные догматики-утописты, вроде героя не только «Пленников», но и романа «В круге первом» Льва Рубина, признающего сложившуюся систему за исключением «отдельных недостатков». Рубин в камере кричит: «Зато у нас метро — лучшее в мире!» А ему на это: «Вы в колхозе отродясь не были, показуха… Да советские люди — нищие! В Европу приедут — готовы с прилавка стащить… Что получает на трудодень колхозник?.. Вы мне землю дайте, я без вашей организации!.. У вас разруха!.. Себестоимость безумная! Магазины пустые!.. В двадцатом веке вернулись к рабскому труду…»
Тем, кто выжил, война и лагерь открыли глаза, воспитали в них бесстрашие, закалили волю, обогатили интеллектуально, духовно (разумеется, не всех; но к духовным пленникам Солженицын относится с презрительной жалостью). Об этом — в сценарии Солженицына «Знают истину танки», написанном в Рязани в 1959 году. Сюжетным материалом и даже отдельными персонажами он примыкает к драматической трилогии «1945 год», близок к магистральным темам, идеям и общей поэтике солженицынского творчества.
Сценарий «Знают истину танки» тоже густо заселен. Солженицын подчёркивает единство объединённых лагерем судеб лётчика, студента, хирурга, ботаника, скрипача, людей разных национальностей — русских, литовца, ингуша, грузина, «главу мусульман» Магомета и «главу бандеровцев» Богдана.
Начало фильма не обещает лагерной темы — южный ресторан, кипарисы, курортники, море, голос официанта: «Антрекот — два, фрикасе из лопатки — раз… Суфле лимонное — четыре…», две пары непринуждённо беседующих людей: «…Поразительное и удивительное не что Виктор там был, а что он оттуда вернулся! <…> — Страдалец! Чего он там натерпелся! и ничего не хочет рассказать! <…> — К сожалению, я ничего не помню. Я — всё забыл…» Но когда маленький оркестр начинает бесшабашный мотивчик, слышится голос Мантрова: «Будто в насмешку вот такой же оркестрик по воскресеньям играл и там…» Там — это в Особлаге, где из мисок вылизывают остатки еды, где людей охраняют собаки, где четверо заключённых пытаются бежать на угнанном грузовике, а догнавшие автоматчики тяжко и умело их бьют, где старший барака, заключённый С–731, «закладывая» своих соседей по бараку, жалуется: «Я в ГПУ был, по нынешнему счёту, — полковник. Меня Менжинский знал, меня Петерс любил… Сюда меня Ягода за собой потащил. и вот гноят шестнадцать лет… Не верит мне Лаврентий Павлович… Не верит!..», где доведённые до отчаяния зэки готовят бунт.
На чердаке собираются представители разных лагерных группировок.
«=Богдан:
— Шо ж, паньство, можливо буты спочинать? От мусульманского центра — е, от литовского — е, у русских ниякого центра нэма, Петька будэ тут за усю Московию. А у нас, щирых украинцев, руки завсе на ножах, тильки свистни!
Плотничий стук — отдалённым фоном.
Крупным планом, иногда перемещаясь, объектив показывает нам
то двух, то трёх из пяти. Эпическое лицо кавказского горца Магомета, доступное крайностям вражды и понимания (он уже не молод). Смуглого, стройного литовца Антонаса — какими бывают они, будто сошедши с классического барельефа. Румяного, самодовольного Богдана. Климова. Страстно говорящего Гая:
— Друзья! Вы видите — до какого мы края… Нас доводят голодом, калечат в карцерах, травят медью. и собаками травят. и топчут в пыли. Срока наши не кончатся никогда! Милосердия от них…? — никогда! Мы тут новые, но десять поколений арестантов сложили кости в этой пустыне и в этих рудниках. и мы — тоже сложим! Если не поднимемся с колен! <…> Мы потому брюхом на земле, что сами на себя каждый день и каждый час доносим начальству. Так какой же выход? Чтоб мы могли собираться! Чтоб мы могли говорить! Чтоб мы жить могли! Выход один:
Лицо Гая. Он страшен.
…Нож в сердце стукача!!
Магомет. Литовец. Климов. Бандеровец.
Да это трибунал!
…Пусть скажет нам Бог христианский, Бог мусульманский, Бог нашей совести — какой нам оставили выход другой?!»
Борьба со стукачами переходит в вооружённое восстание, обречённое на поражение, подавление танками, под мощный хор мужских голосов: «Вставай, страна огромная!».
В финале строка за строкой проступает на экране посвящение фильма:
«Памяти первых
Восставших от рабства, —
Воркуте
Экибастузу
Кенгиру…»
Перед сценарием есть авторская оговорка: «Я мало верил, что этот фильм когда-нибудь увидит экран, и поэтому писал его так, чтобы будущие читатели могли стать зрителями и без экрана. Пусть же не посетует на меня режиссёр, оператор, композитор и актёры. Они, разумеется, свободны от моих разметок».
Еще один сценарий Солженицын напишет в ноябре 1968 года, перед самым своим пятидесятилетием, когда уже прогремело его письмо съезду писателей, уже «Раковый корпус» и «В круге первом» появились на Западе, вот-вот состоится исключение из Союза писателей. Солженицын вспоминает: «Тут много б ещё смешного можно рассказать: как, выполняя договор, благородно навязанный мне “Мосфильмом”… я тужился подать им сценарий кинокомедии “Тунеядец” (о наших “выборах”), и как наверх, к Дёмичеву, он подавался тотчас и получал абсолютно-запретную визу. Как Твардовский с редакторским сладострастием выпрашивал у меня тот сценарий в тайной надежде: а вдруг можно печатать? — и возвращал с добродушной улыбкой: “Нет, сажать вас надо, и как можно быстрей!”»[16]
Представьте себе, что вы пришли на премьеру кинокомедии. Называется «Тунеядец». Первые кадры:
«Во весь экран — ВСЕ НА ВЫБОРЫ!!
И проползанием по экрану —
ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА…
Это на длинном полотнище, натянутом
над узким пригородном шоссе».
А по дороге катит «москвич». Девушка сидит за рулём, хорошенькая, пытается кого-то обогнать, в неё сзади врезается «Волга» с военным. Машина помята рублей на сто, местные объясняют, что не поможет никакая техстанция — «тебе только Пашка поможет». На техстанции законным путём и впрямь ничего не добьёшься. Надо — к Пашке. Девушка Эля знакомится с Пашкой, а он работать не хочет — «На что мне ваши деньги?.. Меня весь город просит». и впрямь появляются конкуренты, да ещё и к начальству Пашку тянут — поступила жалоба, что Пашка «левой» работой занимается, тунеядцем его называют.
Обычная житейская история, довольно забавно рассказанная, с погоней конечно, раз началось с автомобиля, с поцелуями и символическим финалом: на прощанье Пашка дарит Эле дорожный знак. «…Вот! Самый лучший знак! Правда, редкий, очень редкий. Возьми на память… “Конец ограничений”. Отмена всех запретов!»
Пьесу «Свет, который в тебе» (другое название — «Свеча на ветру») Солженицын тоже написал в Рязани, в 1960 году. Действие её происходит в некой фантастической стране, с приметами западной цивилизации, которые могли таковыми казаться человеку, никогда не выезжавшему из России. Действующие лица — математик, биокибернетик, биолог, социолог, генерал. Есть, правда, и профессор-музыковед, но в целом — кибернетический набор 60-х годов. Имена стилизованы — Маврикий Крэйг, Алекс Кориэл, Филипп Радагайс, Тилия, Альда, Тербольм. В этом вымышленном мире персонажи в первую очередь — носители определённых точек зрения. Идеи эти находятся на периферии магистральных тем Солженицына и, однако, небезразличны для понимания его творчества в целом. Основная тема пьесы — современная наука и человек. Подчёркиваю, современная пьесе наука. В 50-е годы в СССР выходят переводы книг Н. Винера и У. Р. Эшби по кибернетике. Нобелевские премии присуждены физикам Н. Н. Семёнову, И. Е. Тамму, И. М. Франку, Ленинская премия — А. М. Прохорову и Н. Г. Басову за создание лазера (1959). В 1957 году — первый полёт спутника, создание атомной электростанции. Колмогоровский семинар по применению математических методов в стиховедении, первые опыты машинного перевода — вот оптимистический фон развития отечественной науки конца 50-х годов. Ещё год — и взлетит в космос Гагарин. Стихотворение Бориса Слуцкого «Физики и лирики» констатировало: «…и величие степенно отступает в логарифмы».
Отличительной чертой писательского дара Солженицына является неуступчивость, толстовская способность к несогласию с разделяемыми большинством модными убеждениями. и в частности, к наукомании, к позитивизму, плоскому эволюционизму, к возможности исчислить человека, рассчитать его, смоделировать. Лаборатория Филиппа Радагайса может поставить опыт на человеке и из застенчивой, закомплексованной, как стали говорить у нас позже, дочери музыковеда Альды сделать нормальную «стабилизированную» женщину, но что-то человеческое, её личное, оказывается безвозвратно утерянным. А поставить на ноги жену-калеку со всей своей наукой Филипп не может и без колебаний сдаёт её в больницу. Научный пафос, с каким вступал в действие Алекс, сменяется протестом — не против науки, а против её использования: «Она доказала, что неплохо умеет служить тирании»; «Мы взяли чудо природы! — и превратили его в камень! А по коридорам уже топают сапоги генералов! Разрешите мне быть свободным!!» Но Солженицын не был бы Солженицыным, с его математическим складом ума, инженерным мышлением, если бы одной науке не противопоставил бы другую. «Алекс. Я понял так: биокибернетика — это вмешательство в самое совершенное, что есть на земле — в человека! Зачем??!.. Напротив, социальная кибернетика дерзает внести разум туда, где вечно был хаос и несправедливость, вмешаться в самое несовершенное из земных устройств — в человеческое общество.
Филипп. Так что это будет? Кибернетический социализм? <…>
Алекс. <…> Нет, ты не понял. <…> Я пойду к ним для того, чтоб не дать и им [государству] когда-нибудь со временем стать Левиафаном, только электронным».
В пьесе можно обнаружить солженицынский комплекс идей, тем и мотивов, вернее, часть этого комплекса: тюрьма, пережитая главным героем, мотив хрупкости, почти полной безнадёжности любви в этом мире, сомнение в идее социализма, неверие в научно-технический прогресс как панацею от всех зол, бесстрашие человека, которому нечего терять. Лишь душа и совесть — единственное достояние, принадлежащее человеку лично.
Пьеса могла показаться чуждой как учёным — А. Сахаров и И. Шафаревич ещё не занимались тогда «социальной кибернетикой», так и тем более «неучёным», нетерпеливо ждавшим итогов научного прогресса (дескать, вы нам дайте удобно сделанную жизнь, а с душой, если таковая есть, мы и без вас разберёмся). Во всяком случае, советские спектакли об учёных начала 60-х годов — «Современная трагедия», «Фауст и смерть», «Летом небо высокое» и даже «Иду на грозу» — далеки от солженицынских тревог, как и фильм «Девять дней одного года» или «космическая» часть аксёновского «Звёздного билета».
«Благословение тебе, тюрьма» — реплика Алекса из пьесы «Свет, который в тебе» — это отнюдь не призыв к системе лагерей и тюрем, это христианский опыт необходимости и неизбежности крестности жизненного пути. Замысел «идеально-регулируемого» общества, кем бы оно не конструировалось — полуграмотными монстрами или прогрессивными учёными, — не выполним, а если выполним — то страшен.
Пафос пьесы в том, что ценность человеческой жизни раскрывается перед лицом смерти. Смерть — единственная сила во Вселенной, с которой неспособна справиться наука. Недаром Алекс говорит: «…мы вынуждены философию свою строить так, чтоб она была годна и к смерти! Чтоб мы были готовы к ней!» Но готова к ней лишь дальняя родственница Маврикия со значащим именем Христина. Когда в доме появляется смерть, она находит нужные слова. Крестит умершего. Зажигает свечу. и читает Евангелие. Книгу о человеческом бессмертии.
III
«Свечу на ветру» на российской сцене так и не поставили, одно время она лежала в литчасти Ленкома, но спектакль не случился. Театральная судьба драматургии Солженицына в России пока не богата. Есть удачные инсценировки его романов, но, несмотря на многие попытки, по пьесам поставлено только два спектакля: в 1991 году во МХАТе Олег Ефремов всё же осуществил давнюю свою мечту и сделал спектакль по третьей пьесе из трилогии «1945 год» «Олень и шалашовка» («Республика труда»), а в 1995-м Борис Морозов в Малом театре поставил первую — «Пир победителей». К этой постановке я имел прямое отношение, работая в те годы завлитом Малого театра.
Хотя косвенно был свидетелем и самой первой попытки поставить «Оленя и шалашовку». Осенью 1963 года я пошёл учиться в школу рабочей молодежи и устроился осветителем в театр «Современник». Тогда «Современник» второй сезон «жил Солженицыным». Его любили, ценили, постоянно говорили о нём, особенно о его пьесе «Олень и шалашовка». Пьеса лежала в литчасти, но текст получить было невозможно — понятно, по каким причинам. Пьесу хорошо знал весь театр — не только актёры, но даже мои коллеги по электроцеху, рабочие. Они мне объяснили, что такое «олень», что такое «шалашовка», рассказывали о замысле спектакля, по которому мы, осветители, должны были в какой-то момент из зрительских лож софитами «слепить» зрительный зал — как прожекторами на зоне. Мне врезался в память этот образ, очень театральный: осветители, направляющие свет софитов на созданную художником «зону»…
Спектакль так и не был поставлен, как известно, запрещено было даже начинать репетиции, и роман театра с Солженицыным остался незавершённым. Олег Ефремов поставил пьесу только в 1991 году, совсем в другое время, и сейчас даже представить трудно, как бы приняли спектакль, осуществись он в 1963-м. Об Александре Исаевиче говорили тогда «сверху донизу». Хорошо помню, как после какого-то спектакля на выходе из театра сантехник лет тридцати обсуждал с кем-то только что опубликованный рассказ Солженицына «Для пользы дела». Я зацепился, разговорились, потом пошли к нему в подсобку и проговорили до утра — сперва о рассказе, а потом уже обо всём, что к тому времени было напечатано Солженицыным.
В 1988 году в СССР снова начинается борьба за Солженицына. Уже понятно, что вот-вот будет что-то напечатано. Летом этого года Е. Ц. Чуковская в «Книжном обозрении» пишет о необходимости публикации его текстов[17].
Работая в Малом театре, я предложил режиссеру Борису Морозову обратить внимание на пьесы Солженицына. Он ответил, что именно «Пир победителей» больше всего его и привлек, так как там есть образ зеркала: «Я представляю, как это может быть сценично, зрелищно». и речь пошла о включении «Пира победителей» в репертуар Малого театра. Но нам позвонили из Министерства культуры СССР и «разъяснили», что ставить пьесу Солженицына сейчас не время. Конечно, звонок был по указке ЦК. Запрет касался всего, что вышло из-под пера Солженицына, в первую очередь — «Архипелага ГУЛАГа».
В 1994 году идея спектакля «Пир победителей» возникла снова. Но появилась другая сложность. Когда мы думали о постановке в 1988–1989 годах, не было речи о приезде Солженицына. А в 94-м его возвращение уже ожидалось, и у театра появилась совершенно иная мера ответственности — не перед ЦК КПСС, а перед Александром Исаевичем, который спектакль увидит. К тому же приближалось 50-летие Победы и спектакль планировалось выпустить к юбилейной дате. Какова будет реакция ветеранов? Решили подготовить спектакль как можно быстрее и показать его в декабре 1994 года. Если всё хорошо — покажем и в праздничные дни. А если спектакль получится неудачным — к весне 1995-го можно не включать его в праздничную афишу.
Мы написали письмо Александру Исаевичу о возможности предоставления права на постановку, и он ответил осторожным, но сочувственным согласием. Приступать к репетициям можно было с октября. За два месяца в академическом театре сделать спектакль, тем более такой непростой, даже технически трудно. Всем было понятно, что нужно сделать рывок, выложиться, для этого нужна крепкая команда. Настроения, разговоры в театре были разные. Помню, пожилая актриса в буфете сказала: «Ну что, “власовскую” пьесу ставите?» А текст она и не читала. Не каждый мог принять эту пьесу во всей её глубине и сложности. Тогда, в 1994-м, те, кто с гордостью носил партбилет в течение десятилетий, само упоминание этой темы воспринимали как абсолютный подрыв устоев Малого театра. Так что некоторую политическую, а отчасти и эстетическую косность надо было преодолевать и внутри театра, а отнюдь не только в зрительном зале. и тут мы узнаём, что приезжает Александр Исаевич. Значит, премьера состоится при нём, времени на раскачку нет. Это стало некой встряской для команды, осознавшей, что надо подняться над внутренними конфликтами, от которых, конечно, никуда не денешься в театре.
Репетиции должны были начаться в середине октября, а во второй половине сентября у меня в квартире раздался звонок. В трубке мужской голос — и знакомый, и незнакомый: «Борис Николаевич, это говорит Солженицын». Ощущение дыхания истории возникло у меня от звуков этого голоса. Он спросил, правда ли, что театр собирается включить в план «Пир победителей», я ответил, что да, уже есть распределение ролей, вот-вот должны начаться первые репетиции. Мы договорились, что, когда начнется работа, у актёров накопятся вопросы, Александр Исаевич приедет в театр.
Встреча состоялась 10 ноября 1994 года. Я впервые его увидел (как, впрочем, и все в театре). Когда актёры задавали ему вопросы — важные или не очень, может быть даже пустяковые, но конкретные, которые касались пьесы, движения сюжета или какой-нибудь реалии, — у него были живые глаза, и он мог отвечать столько, сколько надо. Как только начинался пустой актёрский трёп — глаза гасли, ему сразу становилось неинтересно. (И в дальнейшем, если я по телефону задавал ему конкретный вопрос, он всегда отвечал очень обстоятельно, с мельчайшими подробностями, если что-то не помнил — тут же уточнял, перепроверял и давал максимально подробную, точную информацию.)
Вопросов тогда оказалось много, встреча была очень важна для театра. Стало ясно, что всё это — не миф. До того дня было ощущение, что из затеи ничего не выйдет — либо он не разрешит, либо высшее начальство скажет «нет». Это ощущение работало и на атмосферу пьесы, мы ощущали себя действующими лицами…
В процессе работы всплывали самого разного рода сложности. Например, отвычка актёров играть хотя бы относительно современную пьесу — до того лет десять-пятнадцать ставили только классику. Вдруг выяснилось, что, научившись носить костюмы времён Грибоедова, Шиллера, как это ни странно, совсем забыли, как выглядит человек в советской гимнастёрке. Стихи, которые давно не звучали со сцены, и переплетение самых разнообразных тем… Я уже не говорю о том, что в этом спектакле нельзя было играть так, как играли в пьесах о войне в 50—60-е и даже 70—80-е годы… Эта пьеса не сопоставима ни с чем. Один из актёров спросил у Александра Исаевича: «Не кажется ли вам, что эти офицеры — совсем не такие, какими все привыкли их видеть? Как будто это булгаковские герои из “Дней Турбиных”, дожившие до 1940-х годов, “наследники” Турбиных?» и Александр Исаевич согласился.
Многие — и из тех, кто приходил в зрительный зал, и внутри театра — ожидали «антисоветчины», пропаганды с обратным знаком. Но в том-то всё и дело, что в основе пьесы — не банальное переворачивание советского в антисоветское, а свободный, независимый взгляд автора на события. Удивительно передано ощущение абсолютной победы, победительности жизни у нормальных, здоровых, крепких духом людей — практически большинства персонажей. В пьесе, в сущности, почти нет отрицательных героев, кроме смершевца. Лишь к Бербенчуку автор относится с иронией, насмешкой — но всё же как к «своему». Несколько сомнительнее человеческие качества его жены Глафиры, которая всё-таки в конце «стучит», а это не должно прощаться. Но все остальные — хорошие люди! Они заслужили Победу, они заслужили праздновать её так, как они празднуют, они выстрадали право дойти до Берлина. В 1951 году автор вместе с ними заново переживает то, что было в январе 1945-го. Ощущается гордость автора за этих людей. При встрече с Александром Исаевичем актёры это прочувствовали. Но как мог сохранить, не расплескать такое ощущение января 1945-го Александр Исаевич — в тех условиях, в каких он находился с февраля 1945-го до 1951 года, когда создавал пьесу, — просто не укладывается в голове! Как можно было сочинить в лагере пьесу, излучающую веселье, свет, радость, чувство победы? Одна из загадок солженицынского абсолютного сопротивления тем условиям, в которые его ставит жизнь…
Еще одна встреча была у нас в конце ноября 1994-го, когда мы с режиссёром спектакля пришли к Александру Исаевичу с предложением небольших сокращений. Пьеса длинная, она создавалась в определённый исторический период, а театр ставил её во времена хоть и «доинтернетские», почти «доклиповые», но всё-таки «телевизионные». Больше часа непрерывного действия современному зрителю выдержать достаточно трудно… Режиссёр шёл в Козицкий переулок с белым лицом, потому что до нас доходила информация о «страшном характере», «отстаивании каждой фразы», «невозможности переспорить» и т. п. и опять меня Александр Исаевич поразил. Практически все наши предложения были приняты, может быть кроме одного-двух, касающихся каких-то реалий, важных для понимания ситуации 30-х годов (например, в монологе политрука). Выйдя с этой встречи, мы с режиссёром переглянулись. Он ожидал если не катастрофы, то долгих споров и убеждений, а беседа вышла достаточно краткой, очень конкретной, динамичной, и в результате мы получили свободу играть текст в предложенной нами редакции.
Как будто какие-то силы работают на спектакль, какие-то — против. Играть надо было или в конце декабря 1994-го (потом уже детские каникулы — сцена занята), но театр не успевал, или уже в 20-х числах января 1995-го. Мы придумали приурочить премьеру к 50-летию событий в пьесе — ведь действие её происходит 25 января 1945-го! Мы понимали, что до премьеры надо показать спектакль Александру Исаевичу. Первый прогон был 17-го или 18 января 1995-го. Ничего страшнее я в жизни не видел. Всё, что было накоплено, сыграно, собрано, артисты за две безрепетиционные недели забыли: у кого ёлки, у кого съёмки, кто-то отдыхал… Ощущение такое, что не было репетиций в декабре, и даже хуже того — тогда актёры еще были в поиске, а тут как будто нашли, но на полтора метра ниже, чем должны были бы сыграть. Впору отказываться от спектакля либо переносить премьеру на февраль, март, апрель… На следующий день собрались в кабинете художественного руководителя, Ю. М. Соломина, и режиссёр получил абсолютно справедливые замечания, что в таком виде спектакль играть нельзя. Надо ещё репетировать…
21 января — показ спектакля Александру Исаевичу. Состояние у всех, кто болел за постановку, было буквально предынфарктное. Ждали разноса… До последнего у меня совершенно не было уверенности в том, что он этот спектакль примет… и вот спектакль закончился. Ощущение того, что он состоялся, у меня было. Но — что скажет Александр Исаевич?.. Я помню почти стенографически точно его слова: «Сегодня один из самых счастливых дней моей жизни — я увидел “Пир победителей” на сцене».
Я как будто кожей ощутил: в условиях, когда проблема просто выжить, зэк сочиняет пьесу, потом проходит через «раковый корпус» и всё то, через что прошёл Александр Исаевич, — и наконец видит эту пьесу на сцене! Вспомнился булгаковский образ коробочки, сценического пространства, в котором фигурки оживают, начинают двигаться…
Потом был подробный разбор, очень сочувственный. Премьера состоялась 25 января[18], и я с гордостью и любовью смотрел, как Александр Исаевич поднимается под овации на сцену Малого театра…
Из критики хотелось бы выделить статью М. Зайонц и А. Немзера в газете «Сегодня» — на мой взгляд, наиболее адекватную тому, о чём думал Александр Исаевич, когда сочинял пьесу, и о чём думал театр, когда ее ставил[19]. «Пир победителей» — единственный, может быть, в драматургическом наследии Солженицына, да и вообще, редчайший пример комедии о недавней войне. К примеру, «Гусарская баллада» — сочинение о событиях более чем столетней давности. А «Пир…» создавался в опалённое войной время, которое выжгло стольких участников этих событий… Да надо ещё не забывать, где находился автор!
Природа солженицынского юмора, мне кажется, ещё не очень раскрыта, а это очень важная тема. Недаром Александр Исаевич так любил Диккенса, у которого столько смешного даже в самых грустных и печальных его вещах. Здесь есть о чём подумать. Вероятно, это внутреннее сопротивление всему тому, что вокруг него происходило, когда он сочинял… В пьесе очень много смешного — при том, что поднимается ряд тем, которые станут столь важными и для «Архипелага ГУЛАГа», и вообще для всего солженицынского творчества.
IV
Последнее, с чем расстаётся читатель пьес и сценариев Солженицына, это надежда писателя (и скольких его читателей!) на «конец ограничений» и «отмену всех запретов».
Спустя полвека мы уже знаем всю относительность этих «знаков».
Правила уличного движения должны быть составлены разумно, а главное — должны соблюдаться. и правила жизни частной и государственной — тоже. Ограничения должны быть. Всех запретов не снимешь. На смену одним приходят другие — это наш опыт последних лет. А опыт Солженицына и христианский опыт в целом говорят о главном: о самоограничении, без которого человек остаётся рабом страстей, зависти, честолюбия, комплексов, как собственных, так и классовых, национальных, религиозных.
Возвращаясь памятью в 1968 год и вспоминая начало сценария «Тунеядца» с титром: «Во весь экран — ВСЕ НА ВЫБОРЫ!!!», разделяешь солженицынские иронию и сарказм по адресу тех выборов. Но опыт последних десятилетий по-другому ставит эту проблему. Лишний раз убеждаешься в правоте о. С. Булгакова, писавшего при выборах в 3-ю Государственную думу об избирательной технике, соединявшей «прямолинейность цинизма и бесстыдства. А к этому ещё не приучена русская жизнь, как приучена уже теперь (как и во всём мире, где выборы делаются)».
Если самой театральной пьесой Солженицына представляется «Пир победителей», то наиболее глубокой его пьесой, вобравшей в себя не только огромный опыт победы сталинизма над нарождавшимся в середине сороковых годов общественным подъёмом, но и наметившей ряд ключевых образов и постоянных мотивов творчества Солженицына, является вторая часть трилогии — «Пленники». Трещина, существовавшая между Россией и Западом и расширившаяся после 1917—18 годов (вспомним Николку Турбина, написавшего на печке: «Союзники — сволочи», или Мышлаевского, называвшего немцев «мерзавцами» — не за то, что они делали в 14-м, будучи врагами, а за то, что они делали в 18-м, будучи союзниками гетмана), для тех, кто пережил массовую выдачу англичанами и американцами освобождённых из немецких лагерей «пленников» в сталинские лагеря, превращалась в почти непреодолимую пропасть. Этот шрам даёт о себе знать и в сознании второго поколения эмиграции, и в публицистике самого Солженицына. Надо ли говорить о том, что ниточки протягиваются и в позднюю публицистику Солженицына, и в нашу сегодняшнюю жизнь, и в наше будущее…
Нет в русской литературе из того, что писалось в начале 50-х годов, что сохранило бы не только относительно исторический, но и перспективно-продуктивный смысл. За исключением того, что сочинялось в Экибастузе и Кок-Тереке…
Над книгой работали
Редактор Наталья Рагозина
Художественный редактор Валерий Калныньш
Верстка Оксана Куракина
Корректор Елена Пленкина
Издательство «Время»
[битая ссылка]
[битая ссылка] letter@books.vremya.ru
Электронная версия книги подготовлена компанией [битая ссылка] Webkniga.ru, 2017
Примечания
1
Отдых после труда (лат.).
(обратно)2
Отдых востанавливает силы (лат.).
(обратно)3
«7–8 миллиардов пудов» — настрявший вдолбленный лозунг сталинских 30-х годов о советском обильном урожае.
(обратно)4
Личный архив А. И. Солженицына (Троице-Лыково). Приношу благодарность Н. Д. Солженицыной за любезно предоставленную возможность ознакомиться с архивными материалами и процитировать фрагменты из них.
(обратно)5
Письмо А. И. Солженицына к М. В. Скороглядовой-Крамер от 14 августа 1953. Кок-Терек, Казахстан // Солженицынские тетради. Материалы и исследования. Вып. 4. М.: Русский путь, 2015. С. 43.
(обратно)6
См., например, исследование Ильи Кукулина («Машины зашумевшего времени», М.: Новое литературное обозрение, 2015), в котором восьмая глава целиком посвящена киносценариям и монтажному мышлению Солженицына.
(обратно)7
Личный архив А. И. Солженицына (Троице-Лыково).
(обратно)8
Солженицын А. И. Настенька // Собр соч.: В 30 т. М.: Время 2006. Т. 1: Рассказы и крохотки. С. 369–370.
(обратно)9
Личный архив А. И. Солженицына (Троице-Лыково).
(обратно)10
А. Солженицын. Протеревши глаза. Первая публикация — в одноименном сборнике (М.: L’Age d’Homme, 1999. C. 344–365.
(обратно)11
Новый мир. 2004, № 9.
(обратно)12
Солженицынские тетради: Материалы и исследования. М.: Русский путь, 2013. Вып. 2.
(обратно)13
Солженицынские тетради: Материалы и исследования. М.: Русский путь, 2015. Вып. 4.
(обратно)14
Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ: 1918–1956: Опыт художественного исследования // Собр. соч.: В 30 т. М.: Время, 2010. Т. 4. С. 353, 375 и др.
(обратно)15
Личный архив А. И. Солженицына (Троице-Лыково).
(обратно)16
А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. М., 1996. С. 216 (гл. «Прорвало!»).
(обратно)17
См.: Чуковская Е. Ц. Вернуть Солженицыну гражданство СССР // Книжное обозрение. 1988. 5 авг.
(обратно)18
Режиссёр-постановщик Б. А. Морозов, художник И. Г. Сумбаташвили, композитор Г. Я. Гоберник.
(обратно)19
Зайонц М., Немзер А. В зале старинного замка // Сегодня. 1995. 28 янв. С. 12.
(обратно)


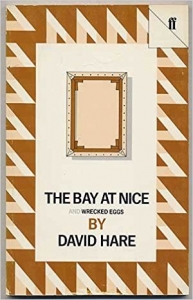
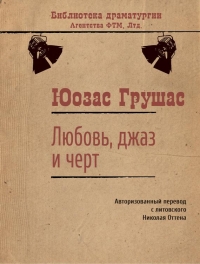
Комментарии к книге «Пьесы и сценарии», Александр Исаевич Солженицын
Всего 0 комментариев