Молчание Махараджа Рассказы Мария Корелли
Переводчик А. В. Боронина
© Мария Корелли, 2017
© А. В. Боронина, перевод, 2017
ISBN 978-5-4483-8042-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Божественный Свет над горами Аллегория
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет».
Одно за другим поднялись облака, и плотные, нависающие завесы тумана медленно раздвинулись. Показались огромные горы, ясно обозначившись на фоне бледной голубизны небес. Вечные снега лежали на них, и их ледяные высокие пики казались очень далёкими. Но одна широкая полоса горящего золота освещала склоны с востока; и в её тёплой и нежной мгле растаял жёсткий снег, и расцвели пурпурные фиалки.
Два тёмных мужских силуэта двигались к свету. Они взбирались долгими часами. Они увидели сияние издали, и теперь восходили к нему вместе. Они были братьями по духу и вере, но как только они ступили на полосу золотого Света, брови их нахмурились от взаимного недоверия и гнева.
– Что ты здесь делаешь? – сказал один. – Это мой Свет!
– Нет, глупец! – отвечал второй. – Ты лжец! Этот Свет мой!
И злоба исказила их лица, и позабыли они о своём братстве и схватились; они дрались в слепой ярости за каждый дюйм этого чудесного Света, который был не их; дрались, пока фиалки на земле не потонули и не погибли в потоках пролившейся крови.
Но вдруг меж ними пала Тень. И имя Тени было Смерть. Тогда эта противоборствующая пара в страхе распалась и, спрятав глаза, стремительно сбежала, а Тень ушла с ними. И кровь их впиталась в холодную коричневую землю, и фиалки вновь расцвели. И Свет Божий продолжал освещать горы.
Две женщины пришли к свету. Они были великими королевами, все в золоте и тяжёлых драгоценностях. С собою они притащили хилое и слабое создание, похожее на ребёнка с крыльями; и, почти умирая, это существо рыдало, выло и тряслось на ходу. Добравшись до Света, женщины остановились и повернулись друг к другу.
– Отпусти Любовь! – сказала одна. – Ибо вот мы достигли цели и, во имя чуда моей красоты, и Свет и Любовь теперь принадлежат мне!
– О предательница! – вскричала вторая. – Что значит твоя красота там, где есть я? Я повелительница мира; Любовь – моя слуга. Свет – моё наследие. Оставим споры, ибо Любовь и Свет принадлежат мне!
И снова явилась Тень. Тогда две королевы-соперницы побледнели, похудели и канули, как бестелесные призраки, во тьму. Но крылатое дитя осталось в одиночестве, рыдая. И Свет Божий мягко освещал горы.
Одинокий путник пришёл к свету. С непокрытой головой и поднятым взглядом он остановился, смотрел и улыбался. Ноги его очень устали, руки были натруженные; и хотя его лицо и было бледным и измученным, но оно было прекрасным. Губы его разомкнулись от вздоха восхищения.
– Вот он Свет! – сказал он. – Мой Бог, я благодарю Тебя!
И крылатая Любовь, рыдавшая в одиночестве, подошла к нему и поцеловала его ноги.
– О, кто ты? – спросила она, всхлипывая. – Кто ты, забредший в такую даль, чтобы отыскать Свет и не имеющий ни единого завистливого слова, а лишь покой и благодарность?
И чужестранец, улыбаясь, отвечал:
– Я известен как Презренный и Одинокий: во всём мире я ничего не имею, даже благословения. В одиночестве я искал Свет и нашёл его; посему я восславляю Дарителя Света, который не позволил мне сгинуть. Ибо я ношу имя самое ненавистное среди людей, имя моё Истина!
И снова явилась Тень. Только это была уже не Тень, но Сияние, само сиявшее Светом. И уставшая Истина растворилась в золотом Свете и окрепла. Любовь осушила свои детские слёзы, а издали донёсся нежный звук как будто поющих ангелов. И Свет Божий осветил все горы.
Ребёнок в платке
Стояла тёмная, безлюдная декабрьская ночь – ночь, накрывшая огромный город чёрным саваном, ночь, в которой тяжёлые, низко нависшие испарения то и дело превращались в медленный, неохотный дождь, холодный, словно ледяная капель в каменной пещере. Люди появлялись и исчезали на улицах, как призраки в дурном сне; мерцающий свет газовых ламп выхватывал их на секунду из тумана, а затем они исчезали из виду, словно внезапно поглощённые чёрным морем испарений. С глухими, злобными криками городские поезда освобождали свои вагоны от кашляющих путешественников на разных станциях, где сонные служащие, раздражённые погодой, вырывали билеты из их рук с нервной поспешностью и грубостью. Водители омнибусов стали злыми и неучтивыми без всякой причины; владельцы магазинов выказывали пренебрежение, неуважение и беспечность по отношению к покупателям; извозчики кричали насмешливым или осуждающим тоном вслед своим быстро убегающим пассажирам; короче, все были недовольны, почти злы, за исключением тех немногих нарочито весёлых человек, кто имел привычку всегда видеть во всём только хорошее, даже в дурной погоде. Вниз по длинной, широкой Кромвель Роад в Кенсингтоне туман поглотил всё на своём пути; он медленно стелился, как плотный дым от огромного пожара, забивая горла и ослепляя глаза пешеходов, прокрадываясь в щели домов и холодя кровь даже тех привилегированных жителей, которые, сидя в своих изысканных гостиных перед горящими каминами, с лёгкостью забывали о существовании таких горьких вещей, как холод и бедность в том внешнем мире, от которого они отгорожены их окнами. У одного дома, в частности, у дома с пёстрыми стеклянными дверями и несколько попорченными жёлтыми шёлковыми занавесками на окнах, доме, который ясно говорил о себе: «Выстроен напоказ!» всем, кому есть дело до изучения его наружности, – стояла закрытая карета, запряжённая гарцующей парой толстых лошадей. Кучер выдающейся наружности сидел на козлах; лакей безупречной формы стоял в ожидании на тротуаре, элегантно положив руку в жёлтой перчатке на натёртое серебро ручки кареты. Оба джентльмена имели решительное и непреклонное выражение лиц; они выглядели так, будто решились на некое великое дело, которое заставило бы мир дико рукоплескать им; однако, по правде сказать, они только что покончили с великолепным чаепитием и, прежде чем они погрузились в столь серьёзное молчание, они обсуждали вопрос целесообразности приготовления жареного стейка с луком на ужин. Кучер склонялся к простой бараньей отбивной, что было легче для пищеварения; лакей искренне отстаивал свою веру в высшую степень сочности и сладости стейка с луком, и в конце концов он победил. Разрешив нелёгкий вопрос, они постепенно погрузились в размышления о прошлых, настоящих и будущих радостях питания за чужой счёт, и в этом лёгком и приятном состоянии задумчивости они всё ещё и пребывали. Лошади в нетерпении мели рыхлую землю своими длинными гривами и хвостами, и пар от их глянцевых попон смешивался с непроницаемо плотным туманом. На белых каменных ступенях дома, перед которым они ждали, лежал почти незаметный тряпичный ком, совершенно бесформенный и неподвижный. Ни один из благородных пажей его не замечал; он лежал слишком далеко в глубине затуманенного угла, слишком неприметный для случайной остановки их возвышенных взглядов. Вдруг стеклянная дверь перед ними распахнулась с шумом, от чего тепло и свет из прихожей устремились на туманную улицу, и в тот же миг лакей, всё с тем же серьёзным, непроницаемым лицом, открыл дверь кареты. Престарелая дама, богато одетая, с искрящимися бриллиантами в седых волосах, прошуршала вниз по ступеням, принеся с собою слабые ароматы пачули и фиалковой пудры. За ней следовала девушка кукольной красоты, курносая и с маленьким капризным ротиком, которая поддерживал свои сатиновые с кружевами юбки с неким привередливым презрением, как будто она не желала ступать на землю, не застеленную лучшими бархатными коврами. Когда они подошли к карете, неподвижный тёмный узел, скорчившийся в углу, подал признак жизни: им оказалась женщина с растрёпанными волосами и диким взглядом, чьи бледные губы дрожали от подавляемых рыданий, когда её молящий голос прорвался внезапным криком:
– О леди! – вскричала она. – Во имя любви Божьей, подайте! О леди, леди!
Но «леди» с презрительным видом тряхнула своими ароматными одеждами и прошла мимо неё, прежде чем та смогла продолжить свои мольбы, и тогда женщина обернулась с тенью слабой надежды в сторону девушки с более мягким лицом.
– О дорогая, сжальтесь! Всего лишь мелочь – и Господь вас благословит! Вы богаты и счастливы, а я страдаю! Всего лишь пенни! Ради ребёнка, маленького бедного ребёнка! – И она попыталась раскрыть свой дырявый платок, чтобы показать некое сокровище, сокрытое в нём, но сжалась от холодного, беспощадного взгляда, который устремился на неё из глубины её глаз без всякой нежности.
– Нечего тебе делать у наших дверей, – резко проговорила девушка. – Убирайся прочь, или я прикажу слугам позвать полицейского.
Затем, когда она поднялась в карету вслед за своей матерью, девушка злобно обратилась к великолепному лакею, преподав ему урок демонстрации выраженной носовой интонации:
– Говард, почему ты позволяешь всяким грязным попрошайкам приближаться к карете? За что тебе платят, хотела бы я знать? Это просто позор для нашего дома!
– Весьма сожалею, мисс! – серьёзно отвечал лакей. – Я её не видел раньше – эту женщину. – Затем, закрыв дверь кареты, он повернулся с возмущённым видом к несчастной, которая всё ещё была рядом, и с властным взмахом руки в золотой перчатке повелительно проговорил:
– Слышала? Прочь!
Потом, исполнив таким образом свой долг, он запрыгнул на козлы рядом со своим другом кучером, и экипаж быстро укатил прочь, и его горящие огни вскоре затерялись в дымных испарениях, которые спускались вниз, как похоронные портьеры, с невидимых небес на едва различимую землю.
Оставшись в одиночестве, женщина, напрасно искавшая милосердия у тех, в ком его не было, в отчаянии подняла взгляд, словно безумная, и показалось, будто она сейчас издаст какое-нибудь яростное восклицание, когда из недр складок её платка раздался жалобный крик. Она тут же успокоилась и пошла вперёд скорым шагом, едва различая путь, пока не оказалась у католической церкви, известной как «Оратория». Её недостроенный фасад мрачно просвечивал сквозь туман; в нём не было ничего прекрасного или призывного, и всё же люди осторожно входили внутрь и выходили наружу, и при каждом размашистом покачивании красных обитых сукном дверей изнутри вырывался какой-то успокаивающий тёплый свет. Женщина остановилась, помедлила, а затем, очевидно, приняв решение, поднялась по широким ступеням, заглянула внутрь и наконец вошла. Место показалось ей странным; она ничего не знала о его религиозном назначении, и его холодный, незавершённый интерьер давил на неё. Внутри собралось всего около полудюжины человек, словно чёрные блики на фоне просторного белого интерьера, и тяжелый туман стоял под сводчатым куполом и в тёмных маленьких часовнях. Лишь один угол горел светом и цветом – это был алтарь Мадонны. К нему и направилась усталая нищенка и, достигнув его, опустилась на ближайший стул словно бы в измождении. Она не смотрела на мраморное великолепие святыни, на шедевры старой школы итальянского искусства; к этому месту её привлёк только свет горящих ламп и свечей, не возбудив любопытства по поводу причины их существования, хотя она и ощутила некий покой в мягком сиянии вокруг. Женщина выглядела ещё молодой; лицо её выражало усталость после долгих и тяжких лишений, выказывая следы былой красоты, и её глаза, исполненные горячего беспокойства, были огромны, темны и всё ещё ярки. Лишь один её рот – этот чувственный предатель доброты и порока – выдавал, что не всё шло гладко у неё в жизни; его черты были жёсткими и злыми, и упрямый изгиб верхней губы говорил о глупой гордости, не без примеси безрассудной чувственности. Она немного посидела неподвижно; затем с чрезвычайной заботливостью и нежностью она начала осторожно разворачивать тонкий, порванный платок, с беспокойством глядя вниз, на предмет, сберегавшийся внутри. Там лежал всего лишь ребёнок – и к тому же ребёнок такой хрупкий и нежный, что, казалось, мог бы растаять, как снежинка от малейшего прикосновения. Когда складки были развязаны, открылась пара огромных серьёзных голубых глаз, которые смотрели в лицо женщины со странной, жалобной тоской. Ребёнок лежал спокойно, не плакал – стиснутая, бледная миниатюра страданий человечества – ребёнок с отметиной скорби, болезненно запечатлённой на его осунувшемся, маленьком личике. И тогда он протянул хилую ручку и вяло погладил свою защитницу, и всё это тоже с самой слабенькой улыбкой на губах. Женщина ответила на это проявление ласки каким-то неистовым восторгом: она крепко прижала ручку к груди и покрыла поцелуями, покачиваясь из стороны в сторону с обрывочными словами нежности.
– Моя дорогая малышка! – шептала она нежно. – Моя девочка! Да, да, знаю! Ты так устала, так замёрзла и проголодалась! Ничего, милая, ничего! Мы немного отдохнём здесь; потом мы споём песенку и добудем немного денег, чтобы добраться домой. Поспи ещё немного, дорогая! Вот так! Теперь нам снова тепло и уютно!
Говоря так, она снова завязала платок ещё более плотным и тугим узлом, чтобы вернее защитить ребёнка. Пока она была этим занята, одна дама в глубокой задумчивости прошла мимо неё и, подойдя к самым ступеням алтаря, упала на колени, закрыв лицо ладонями. Это привлекло внимание усталой нищенки; она смотрела с каким-то печальным удивлением на молящуюся фигуру, одетую в дорогой шёлк и креп, и постепенно взгляд её поднимался всё выше, пока не остановился на серьёзной, нежной и безмятежной улыбке мраморного изображения Мадонны с Ребёнком. Она смотрела и смотрела – удивлённая, недоверчивая; когда вдруг поднялась на ноги и направилась к перилам алтаря. Там она остановилась, смутно глядя на корзину с цветами, белыми и ароматными, которую принёс туда какой-то набожный верующий. Она с сомнением оглядывала размашистые серебряные светильники, мерцающие свечи; она улавливала также тонким чутьём странный аромат в воздухе, как будто только что мимо пронесли корзину, наполненную весенними фиалками и нарциссами; затем, когда её блуждающий взгляд упал на спину одинокой женщины в чёрном, которая до сих пор стояла на коленях неподвижно рядом с ней, какое-то сильное чувство сдавило ей горло и жгучие слёзы обожгли глаза. Она попыталась подавить это чувство тихим презрительным смешком.
– Боже, Боже! – едва выдохнула она. – Что же это за место, где они молятся женщине с ребёнком?
В этот момент женщина в чёрном поднялась; она была молода и имела гордое, честное, но усталое лицо. Глаза её остановились на её грязной и нищей сестре, и во взгляде отразилось сочувствие. Бродяжка попыталась воспользоваться этой возможность и торопливым шёпотом взмолилась о подаянии. Дама вытащила кошелёк, помедлила, задумчиво глядя на узелок из платка.
– У тебя там ребёнок? – спросила она мягким тоном. – Могу я его увидеть?
– Да, мадам, – и она развернула платок настолько, чтобы приоткрылось крошечное бледное личико, теперь ещё более трогательное, чем обычно бывало во сне.
– Я потеряла своего малыша неделю назад, – просто сказала дама, глядя на неё. – Он был всем для меня. – Голос её задрожал, она раскрыла кошелёк и положила полкроны на ладонь потрясённой нищенки. – Ты счастливее меня; быть может, ты за меня помолишься. Я очень одинока!
Затем, накинув креповую вуаль так, что та полностью скрыла её лицо, она опустила голову и медленно двинулась прочь. Женщина смотрела ей вслед, пока её изящная фигура не пропала в сумраке огромного храма, а затем медленно повернулась к алтарю.
«Помолиться за неё! – подумала она. – Я! Будто я умею молиться!»
И она горестно улыбнулась. И снова поглядела она на статую святой; для неё она ничего не значила. Она никогда не слыхала о Христианстве, не считая одной брошюрки на улице с мало утешающей надписью: «Стой! Ты движешься в Ад!». Над любой религией насмехались люди, принадлежавшие к её кругу, имя Христа употреблялось только в качестве удобной клятвы, и потому эта таинственная, улыбчивая, добрая мраморная фигура оставалась тайной для её понимания.
– Как будто я умею молиться! – повторила она с какой-то издёвкой. Затем она взглянула на крупную серебряную монету в своей руке и на спящего ребёнка на руках. В неожиданном порыве она бросилась на колени.
– Кем бы ты ни была, – забормотала она, обращаясь к статуе над собой, – я вижу, что у тебя тоже был ребёнок, быть может, ты поможешь мне позаботиться об этом дите. Она не моя; хотела бы я, чтобы это было так! Всё равно я люблю её больше, чем родная мать. Я думаю, ты не станешь слушать такую, как я, но если есть Бог где-то, то я бы хотела попросить Его благословить эту добрую душу, которая потеряла своего ребёнка. Я благословляю её от всего сердца, но моё благословение не многого стоит. Ах! – и она снова посмотрела на безмятежный бледный лик Мадонны, – ты смотришь так, будто понимаешь меня, но я не верю, что это так. Неважно, я уже всё сказала.
Её странное обращение, или скорее беседа, кончилась, она встала и пошла прочь. Огромные двери храма тяжело захлопнулись на нею, когда она шагнула наружу и снова оказалась на грязной улице. Шёл непрестанный дождь – настоящий, холодный, пронизывающий дождь. Но монета в её руке была оберегом от внешних неудобств, и она продолжала идти вперёд, пока не оказалась в чистенькой молочной, где за пару пенсов она могла наполнить детскую давно опустевшую бутылочку; но она для себя она ничего не купила. Она ничего не ела весь день и теперь слишком ослабела, чтобы есть. Вскоре она поднялась в омнибус и он увёз её на Чаринг Крос и, высадившись на большой станции, горящей электрическими огнями, она ходила туда и обратно, выпрашивая милостыню у малочисленных прохожих и взывая к их жалости. Один человек подал ей пенни, другой, молодой и красивый, с горящим нетерпением лицом и мальчишеским взглядом, сунул руку в карман и вытащил оттуда все медяки, в сумме составившие около трёх пенни и фартинг, и, высыпав всё это на протянутую ладонь, сказал весело и отважно:
– С такими глазами, как у тебя, ты заслуживаешь большего!
Она отпрянула назад и содрогнулась; он разразился смехом и пошёл своей дорогой. Стоя на том же месте, она на секунду потерялась в невесёлых размышлениях; капризный детский плач вернул её на землю и, мягко утешая ребёнка, она забормотала:
– Да-да, дорогая, слишком холодно и сыро для тебя, лучше нам уйти.
И, действуя по наитию, она вскочила в новый омнибус, на этот раз направлявшийся в Тоттенхем Корт Роад, и после недолгой муторной тряски пересела на окончательный маршрут – до грязной улицы в худшем районе Севен Дайалс. Там её встретили криками издевательского смеха, исходившего от грубых мужчин и женщин, которые сгрудились вокруг дешёвой лавки разливного джина на углу.
– Это Лиз! – заорал один. – Это Лиз и паршивый ребёнок!
– Давай, старушка, раскошеливайся! Сколько там у тебя, Лиз? Угости нас всех по капельке!
Лиз спокойно прошла мимо них, резкая складка над её верхней губой ярко проступила, и глаза её разгорелись презрением, но она ничего не ответила. Её молчание разозлило девчонку с кошачьим лицом и спутанными волосами лет примерно семнадцати, которая уже наполовину пьяная сидела на земле, сжав колени обеими руками и лениво покачиваясь из стороны в сторону.
– Мать! Мать! – заорала она. – Мать Мокс! К тебе пришли! Здесь Лиз вернулась с твоим ребёнком!
Словно её слова были могущественным заклинанием, вызывавшим злого духа, дверь одного из убогих домишек распахнулась и тучная баба, почти голая до пояса, с опухшей, расплывшейся и самой отвратительной рожей яростно вывалилась наружу и, рванувшись к Лиз, грубо дёрнула её за руку.
– Где мой шиллинг? – завыла она. – Где мой джин? Выкладывай! Выкладывай мой четырёхпенсовый! Ты зарабатываешь на моём ребёнке! А такого хилого и больного тебе больше нигде не найти; за него хорошо подают всякие богатенькие леди и джентльмены! А тебе он дёшево достался, скажу я, так что если не заплатишь, то я найду других, более благодарных попрошаек!
Она задохнулась, и Лиз спокойно проговорила:
– Всё в порядке, мать Мокс, – сказала она, пытаясь выдавить улыбку, – вот ваш шиллинг, вот четыре пенса на джин! Теперь я вам за ребёнка ничего не должна. – Она замолчала и замешкалась, с нежностью глядя на хрупкое создание на руках; затем она добавила почти молящим тоном: – Она спит. Могу я взять её на ночь к себе?
Мать Мокс, которая проверяла монеты на свой огромный жёлтый зуб, разразилась громким смехом.
– Забрать! Скажу тебе вот что, если бы ты мне заплатила полкроны, то могла бы забрать её!
– Вы же знаете, что я не могу дать вам столько! – проговорила она медленно. – У меня за весь день не было во рту ни крошки, ни капли. Я должна как-то жить, хотя, кажется, что жить мне незачем. Ребёнок заснул от голода, он будет плакать и беспокоиться всю ночь, а я могла бы обогреть и утешить его, если бы вы позволили.
Мать Мокс была, очевидно, дамой непреклонной. Простая просьба вывела её из себя. Она повысила голос до крика, схватившись грязными руками за ещё более грязные волосы и заорала:
– Позволю я?! Я не отдам тебе ребёнка ни на час, пока ты мне не заплатишь! Давай сюда ребёнка!
И она грубо рванула драный платок Лиз, отчего малышка заплакала.
– О, не делайте ей больно! – взмолилась Лиз, дрожа. – Такая малышка, не пораньте её!
Но мать Мокс, не слушая никаких уговоров, грубо швырнула ребёнка, как мяч, через открытую дверь в дом, и там он упал на груду грязной одежды, оставшись лежать неподвижно; плач прекратился.
– О, ты убила её! Точно! Ты жестокая, жестокая! О малышка, малышка!
И Лиз разразилась бурными рыданиями. Прохожие поглядывали на всё это в молчании. Мать Мокс запахнула плотнее свою драную одежду с презрительным видом и вздёрнула нос, будто говоря: «А если кто будет спорить со мной, то получит ещё!» Настала краткая пауза; вдруг из лавки разливного джина вывалился мужик, вытирая тыльной стороной ладони рот на ходу, – крепко сложенный, уродливый, с копной нечёсаных рыжих волос и глазками хорька. Он тупо уставился на рыдавшую Лиз, потом на мать Мокс, наконец на стоявших бездельников вокруг.
– Что за сборище? – быстро спросил он. – В чём дело?
– Это из-за твоего ребёнка, Джо! – закричала, подпрыгнув с мостовой, прежняя девчонка. – Лиз чокнулась! Она хочет уложить твоего ребёнка спать у себя!
Потрясённый Джо смутно мигнул и затянулся трубкой с явным смаком. Затем, словно бы погрузившись в глубокие размышления по этому поводу, он вытащил трубку изо рта и сказал:
– Почему нет? Хочет уложить спать? Ладно! Пусть уложит, почему нет?..
При этих словах Лиз с надеждой посмотрела на него сквозь слёзы, но мать Мокс выступила вперёд в гневном возмущении.
– Ах ты, пьяный дурак! – заорала она. – Не стыдно? Отдать нашего ребёнка на всю ночь просто так! Счастье, что я ещё не лишилась мозгов, и я говорю, что Лиз её не получит!
Мужик поглядел на неё, и упрямая решимость отразилась на его пунцовом лице. Он поднял свой огромный кулак, сжал его и резко ударил, поставив своей жене огромный синяк под глаз, который мгновенно вздулся.
– А я говорю – получит! Теперь ясно тебе?
Ответ матери Мокс, должно быть, означал, что «ей всё ясно», поскольку она возвратила мужу удар с удвоенной силой, и через пару секунд счастливая семейная пара увлеклась дракой к вящему восхищению и радости соседей по грязной улице. Посмотреть на драку собрались все, а также послушать выкрики проклятий, которыми она сопровождалась.
В разгар драки один сухонький, сгорбленный старик, который сидел у порога своей двери, раскладывая тряпки в корзине и, видимо, не прислушиваясь к шуму вокруг, подал знак Лиз.
– Забери сейчас ребёнка, – прошептал он. – Никто не заметит. Я прослежу, чтобы они потом не ругали тебя.
Лиз молча поблагодарила его взглядом и, рванувшись в дом, где ребёнок лежал всё там же, явно оглушённый, на полу среди грязных тряпок, она страстно подхватила его и поспешила прочь в своё убогое жилище в полуразвалившемся здании в самом конце переулка. Малышку оглушило падение, но благодаря искренней заботе, успокоенная тёплыми, нежными объятиями, она вскоре оправилась, хотя открывшиеся голубые глаза были исполнены удивительной боли, какую можно было бы увидеть в глазах подстреленной птицы.
– Моя малышка! Моя маленькая! – повторяла Лиз снова и снова, целуя её белое личико и мягкие ручки. – Хотела бы я быть твоей мамой, Бог знает – хотела бы! Сейчас ты всё, что у меня есть. И ты любишь меня, правда? Немножечко, совсем чуть-чуть! – И когда она снова нежно обнимала девочку, маленькое печальное создание проворковало в ответ тихое детское восхищение – звук, более приятный для её слуха, чем самая изысканная музыка, и который вызвал улыбку на губах и осветил гордостью тёмные глаза, сделав её лицо на миг почти прекрасным. Плотно прижав ребёнка к груди, она обеспокоенно взглянула в узкое окно и увидела, что семейная драка закончилась. По выкрикам смеха и аплодисментам, долетавшим до её слуха, она поняла, что Джо Мокс одержал явную победу на этот раз, а его жена исчезла с поля боя. Она видела, как расходилась толпа, большинство людей из которой направились в пивную лавку, и очень скоро улица опустела и стихла. Вскоре она услышала, как кто-то выкрикивал её имя: «Лиз! Лиз!»
Она выглянула вниз и заметила старика, который обещал ей протекцию в случае преследования матерью Мокс.
– Это ты, Джим? Поднимайся, поговорим лучше внутри!
Он послушался и предстал перед нею в убогой комнате, с любопытством поглядывая на неё с ребёнком. Жилистый, с волчьим лицом мужчина был Джимом Дадсом, как его обычно называли, хотя настоящее его имя являлось аристократическим и исключительно ему не шло: Джеймс Дуглас. Он скорее походил на зверя, чем на человека, с этими его беспорядочными седыми волосами, кустистой бородой и острыми зубами, торчавшими, как клыки, из-под верхней губы. Он принадлежал к профессии воров и считал её вполне уважаемым ремеслом.
– Мать Мокс на сей раз получила, – сказал он с усмешкой, похожей скорее на оскал. – Джо разгорячился и превратил её почти в студень. Она теперь от тебя отстанет; пока ты регулярно платишь, Джо будет на твоей стороне. Но если настанет чёрный день, то лучше бы тебе вообще не появляться дома.
– Знаю, – сказала Лиз, – но она ведь постоянно получает деньги за ребёнка, и, конечно, не так уж многого я хотела, прося её позволения на то, чтобы обогреть ребёнка в такую холодную ночь.
Джим Дадс, казалось, задумался.
– Почему ты так заботишься об этом ребёнке? – спросил он. – Он же не твой.
Лиз вздохнула.
– Нет, – сказала она печально. – Но он даёт мне хоть какую-то опору. Знаешь, какова была моя жизнь! – Она замолчала, и волна румянца залила её бледное лицо. – С самого детства – ничего, кроме улиц, длинных, жестоких улиц! И я всего лишь кусок грязи на тротуаре – не больше; меня пинают туда, пинают сюда и наконец выбрасывают в водосток. Сплошная тьма, всё бесполезно! – Она усмехнулась. – Представь себе, Джим! Я никогда не видела пригорода!
– Я тоже, – сказал Джим, по привычке покусывая соломинку. – Там, должно быть, очень красиво, множество зелёных деревьев и цветов. Там нет такого дыма от печей, как мне говорили.
Лиз продолжала, едва слушая:
– Ребёнок мне представляется таким же, как пригороды: безобидным, нежным и тихим; когда я держу её вот так, моё сердце немного успокаивается, не знаю почему.
И снова Джим показался задумчивым. Он выразительно помахал обкусанной соломинкой.
– Тебе не повезло, Лиз. Ты ещё не встречала мужчины, который смог бы о тебе позаботиться?
Она задрожала, и глаза её стали дикими.
– Мужчину! – вскричала она с горькой усмешкой. – Ни одного мужчины не появлялось на моём пути – одни грубияны!
Джим вздрогнул, но промолчал; у него не нашлось подходящего ответа. И тогда Лиз снова заговорила, уже более мягким тоном:
– Джим, знаешь, я была сегодня в большой церкви!
– Напрасно! – нравоучительно проговорил Джим. – Церковь бесполезна, насколько я вижу.
– Там была статуя, Джим, одной женщины, державшей на руках ребёнка, и люди преклоняли колени перед ней. Как думаешь, что это значит?
– Не могу сказать, – ответил озадаченный Джим. – Ты уверена, что это была церковь? Скорее уж музей.
– Нет-нет! – сказала Лиз. – Это точно была церковь, люди там молились.
– Ах вот оно что, – хрипло проворчал Джим, – много же им от этого пользы! Я, знаешь ли, не из молящихся. Женщина с ребёнком, говоришь? Не забивай себе голову такими глупостями, Лиз! Женщины с детьми – обычное дело, а что касается молитв им… – вместо окончания фразы крайнее презрение и недоверие отразилось на лице Джима, и он повернулся, пожелав ей доброй ночи.
– Доброй ночи! – сказала Лиз мягко; и долго ещё она продолжала сидеть в тишине, размышляя с сонным ребёнком на руках, слушая, как капает дождь: всё капает и капает, будто комья земли падают на крышку гроба. Она не была доброй женщиной – совсем нет. Истинный мотив её покровительства над ребёнком очень долгое время был совершенно непростительным; это была простая жажда заработать на ложном притворстве, вызывая больше жалости у людей, чем в одиночестве, без ребёнка на руках. Поначалу она заботилась о девочке лишь ради дела, но тепло этого маленького, беспомощного тельца у её груди день за днём размягчало её сердце, вызывая в нём невинную и сочувственную слабость, и наконец она переросла в страстную и удивительную любовь, настолько сильную, что она охотно пожертвовала бы своей жизнью ради ребёнка. Лиз знала, что родные родители нисколько о ней не заботились, разве только деньгах, которые она приносила им; и часто дикие планы рождались в её усталом уме – планы побега вместе с нею прочь из этого шумного, ненавистного города в какую-нибудь милую, спокойную деревню, чтобы найти там работу и посвятить себя счастью этого маленького существа. Бедная Лиз! Бедная, растерянная, отчаявшаяся Лиз! Невежественная лондонская язычница, и лишь один ароматный цветок украшал пустыню её бедного и тщетного существования – цветок чистой и простодушной любви к «одному из малых сих», о ком было сказано вселюбящим Божеством, неведомым ей: «Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие».
Пугающие зимние дни стремительно приближались, и, когда время подходило к Рождеству, жители на улицах, уходящих от Стрэнда, привыкли по ночам слышать печальный женский голос, поющий в исключительно трогательной манере разные старые песни и баллады, знакомые и дорогие сердцу каждого англичанина. Окна распахивались, и монеты душем сыпались в руки уличной певицы, которая всегда носила с собою слабенькую девочку, о которой заботилась с необыкновенным вниманием и нежностью. Порой, безрадостным днём её могли увидеть бродящей по топкой грязи, спокойно напевавшей песню; и другие матери, выходившие из красивых лавок и магазинчиков, где они покупали рождественские игрушки собственным детям, нередко останавливались, чтобы взглянуть на бледное личико её малышки и сказать, подавая пенни: «Бедная малышка! Она не больна?» А Лиз с замирающим сердцем от внезапного ужаса поспешно отвечала: «О нет-нет! Она всегда бледненькая; это просто небольшая простуда, и всё!» И добрые прохожие, тронутые величайшим отчаянием в её чёрных глазах, отходили, ничего не добавив. И настало Рождество – день рождения младенца Христа – священный праздник, которого Лиз не понимала; она лишь воспринимала его как некое огромное и весьма печальное событие, когда весь Лондон отправляется в церковь и поедает жареные стейки и тыквенный пудинг. Она ничего не понимала в этом, но даже её грустное лицо стало светлее обычного в канун Рождества, и она почти ощутила веселье, поскольку ей удалось благодаря дополнительной экономии на себе приобрести чудесную золотисто-красную камвольную птицу на эластичных нитях, птицу, которая покачивалась вверх-вниз самым натуральным образом. И её «девочка в платке» теперь смеялась этой неуклюжей игрушке, смеялась эльфийским странным смехом, чего прежде никогда не случалось! Смеялась и Лиз над простой радостью детского счастья, и эта птица стала своеобразным грубым инструментом, который вызывал их веселье.
Но после того как Рождество закончилось и меланхоличные дни, последние удары ослабевающего пульса старого года, медленно и с трудом отошли в прошлое, девочка вдруг странным образом переменилась: торжественное выражение усталости и страдания появилось на её лице. Взгляд её голубых глаз стал ещё более печальным, отстранённым и мечтательным, и спустя ещё немного времени она, казалось, утратила всякий интерес к красивым вещицам этого мира и к простым человеческим желаниям. Она лежала теперь очень спокойно у Лиз на руках; никогда не плакала и больше не капризничала, и казалось, будто она слушает с каким-то спокойным одобрением звуки грязных улиц, по которым бродила день ото дня. Постепенно игрушечная птица тоже перестала её интересовать; напрасно она прыгала и блестела; ребёнок смотрел на неё равнодушным мудрым взглядом, как если бы он вдруг узнал о существовании настоящих птиц, и теперь его нельзя было обмануть столь жалкой имитацией природы. Лиз начинала беспокоиться, но некому было утешить её страхи. Она аккуратно платила матери Мокс, и эта злобная женщина, которую держал в узде бульдогоподобный муж, в последнее время была очень довольна, что ребёнок не причинял ей беспокойства. Лиз прекрасно понимала, что никому на её убогой улице не было дела до здоровья девочки. Они бы ей сказали: «Чем больнее, тем лучше для твоей работы». Кроме того, она ревновала; она не выносила мысли о том, что кто-либо другой будет ласкать или прикасаться к ребёнку. Дети нередко хворают, думала она, и если доктора не вмешиваются, то они сами выздоравливают ещё быстрее, чем заболевают. Таким образом успокаивая свои внутренние страхи, она с ещё большим рвением заботилась о своей слабой подопечной, ущемляя себя, чтобы прокормить её, хотя девочка, казалось, всё меньше и меньше испытывала земные потребности и соглашалась поесть лишь после терпеливых и долгих уговоров.
И так песок в стеклянных часах Времени медленно и неуклонно убегал, и настал канун Нового года. Лиз бродила по улицам весь день, исполняя свой небольшой репертуар баллад на ледяном, принизывающем ветру, столь жестоком, что люди, обычно настроенные милосердно, позакрывали все окна и двери и даже не слышали её голоса. Так последний день старого года выдался самым неприбыльным и страшным; она заработала не больше шести пенсов; как могла она вернуться со столь ничтожной суммой и предстать перед матерью Мокс с её яростной бранью? У неё болело горло, она очень устала и, когда ночь накрыла бледное, беззвёздное небо, она механически брела от Стренда к набережной и, пройдя ещё немного, опустилась на углу рядом с «Иглой Клеопатры» – этого насмешливого обелиска, что бесстрастно взирал на падение империи и, казалось, говорил: «Проходите, тщедушные поколения! Я, простой кусок камня, переживу вас всех!» Впервые в жизни ребёнок на руках показался ей тяжкой ношей. Она постелила платок рядом с собой и с нежностью смотрела на него; девочка быстро заснула, маленькая, безмятежная улыбка показалась на её спокойном лице. Очень уставшая Лиз откинула голову на сырой камень за спиною и, плотно прижав ребёнка к груди, тоже заснула тяжёлым сном без сновидений от крайней усталости и физического истощения. Наступила мрачная ночь – ночь чёрного тумана; торжественный уход старого года не освещала ни единая звезда. Никто из торопливых пешеходов не замечал уставшей женщины, спавшей в тёмном углу, и долгое время сон её никто не тревожил. Вдруг яркий свет ослепил её глаза, она вскочила на ноги, полусонная, но всё ещё инстинктивно сжимая ребёнка в тесных объятиях. Тёмная фигура, застёгнутая на пуговицы до горла и державшая горящий глаз фонаря, стоял перед ней.
– Вставай, – сказал человек, – так не годится! Уходи отсюда!
Лиз слабо улыбнулась с извиняющимся видом.
– Всё в порядке! – ответила она, стараясь говорить весело и вглядываясь в добродушное лицо полисмена. – Я не хотела здесь спать. Не знаю, как я сюда забрела. Я пойду домой, конечно же.
– Конечно, – сказал полицейский, несколько смягчившись от её несчастного вида и тронутый её взглядом. Затем, полностью направив свет на неё, он продолжил: – У тебя там ребёнок?
– Да, – сказала Лиз гордо и с нежностью. – Бедняжка! Она захворала, но, думаю, что теперь ей уже лучше.
И, ободрённая его дружественным тоном, она раскрыла платок, чтобы показать ему своё сокровище. Глаз фонаря, как добрый защитник мира, устремился вперёд, на маленький свёрток. Едва он взглянул, как резко отпрянул назад и вскричал:
– Бог мой! Он умер!
– Умер! – закричала Лиз. – О нет, нет! Только не это! Не говорите так! О малышка, малышка! Ты не умерла, мой ангелочек, нет!
И, задыхаясь, обезумев от страха, она ощупывала крошечные ручки и личико, целовала его дико и называла сотней нежных имён – но всё напрасно! Её маленькое тельце уже закоченело; она была трупом уже больше двух часов.
Полисмен закашлялся и провёл рукою в перчатке по глазам. Он был эмиссаром закона, но и у него имелось сердце. Он подумал о своей ясноглазой жене дома и о розовощёком маленьком создании в колыбельке, которое цеплялось за её грудь и ворковало от восторга, когда он приходил.
– Послушай, – сказал он очень нежно, положив руку на плечо женщины, когда та дрожала, прислонясь к стене, и с отчаянием глядела на неподвижное восковое тельце на руках. – Бесполезно рыдать. – Он замолчал; в горле стоял ком, и он снова кашлянул, чтобы его прогнать: – Бедная малышка ушла – ничего не поделаешь. Другой мир – лучшее место, чем наш, знаешь ли! Вот так, не переживай так сильно об этом!
Лиз содрогалась и вздыхала, вздыхала с таким совершенным отчаянием, что оно задевало его за самую душу и показывало, насколько бесполезными были все его попытки утешения. Но он должен был исполнить свой долг и продолжал таким же твёрдым тоном:
– А теперь, как нормальная женщина, отправляйся прямо домой. Если я тебя оставлю одну ненадолго, ты обещаешь мне пойти прямо домой? Я ведь не увижу тебя здесь снова, когда вернусь, правда? – Лиз кивнула. – Вот и правильно! Даю тебе десять минут, иди прямо домой.
И, пожелав доброй ночи успокаивающим тоном, он повернулся и зашагал прочь, его размеренные шаги отдавались эхом в тишине вначале громко, затем всё тише и тише, пока совсем не пропали, когда его грузная фигура исчезла в дали. Оставшись одна, Лиз встала, покачивая мёртвого ребёнка на руках, и улыбнулась.
– Иди прямо домой! – пробормотала она тихим голосом. – Дом, милый дом! Да, малышка; да, моя дорогая, мы пойдём домой вместе!
И, осторожно пробираясь в тени, она дошла до пролёта широкой каменной лестницы, ведущей вниз к реке. Она спустилась по ступеням; чёрная вода тяжело накатывала на них; был полный прилив. Она помедлила; звучный, глубокий металлический голос зазвенел в воздухе вибрирующей, торжественной мелодией. Это был огромный колокол собора святого Павла, отбивший полночь – смерть старого года.
– Прямо домой! – повторила она с прекрасным, выжидательным взглядом в диких, усталых глазах. – Моя дорогая малышка! Да, мы обе устали; мы пойдём домой! Мы идём!
Поцеловав холодное личико трупа ребёнка на руках, она шагнула вперёд; последовал мрачный, громкий всплеск, лёгкая рябь – и всё кончилось! Вода тяжело накатилась на ступени, тяжело, как и прежде; полисмен прошёл ещё раз и к своему удовольствию отметил, что берег был пуст; сквозь мрачную завесу небес проглянула одна звезда и мигнула на секунду, а затем снова пропала. Звон колоколов разорвал спящую ночь, повсюду стали распахиваться окна, и люди появлялись на балконах, чтобы послушать. Колокола провозглашали Новый год – праздник надежды, день рождения мира! Но что такое был Новый год для неё – для той, с белым, повёрнутым кверху лицом и руками, которые держали ребёнка в цепких объятиях смерти, медленно тонувшей, погружавшейся торжественно на дно чёрной реки, невидимой, не оплакиваемой никем из тех, кто выходил навстречу новой надежде и устремлениям в это первое утро новой жизни! Лиз ушла; ушла, чтобы найти покой у Бога, быть может, с помощью своей девочки «в платке» – маленькой безгрешной души, о которой она так искренне заботилась; ушла в тот самый милый дом, о котором мы мечтаем и молимся, где потерянные и удивлённые странники с этой земли найдут истинный приют и отдохновение от горя и изгнания; ушла в тот прекрасный, далёкий мир радости, где царит божественный Хозяин и чьи слова всё ещё звучат над сутолокой веков: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного».
Женщина в искусстве
– Я, – сказал м-р Хоскинс, – прихожу к выводу, что моя «Дафна» станет картиной года, это именно то, что нужно туристам Рима. Я не выставляюсь ни во Французском салоне, ни в Английской академии. Я нахожу, – и м-р Хоскинс провёл рукой по волосам и самодовольно улыбнулся, – что Рима с меня будет достаточно. Моим картинам не подходит никакой иной фон, кроме Рима. Памятники Цезарям станут прекрасными декорациями! Рим и Неемия Хоскинс – давние друзья. Верно?
Это «верно» было одним из любимых выражений м-ра Хоскинса. Оно завершало все его фразы с вопросительной интонацией. Оно тонко намекало, что человек, к которому он обращался, должен был что-то сказать в ответ, и вежливо выражало личное мнение м-ра Хоскинса о том, что никто в мире не мог продемонстрировать большей грубости, чем выслушать его самохвальные речи без немедленного их одобрения и прибавления собственных похвал. Так что, когда в данном случае м-р Хоскинс произнёс своё «Верно?», было очевидно, что он ожидал от меня ответа и непременного согласия. К сожалению, у меня не оказалось заготовленной лести; лесть вообще мне тяжело даётся, зато я смог улыбнуться. На самом деле, я как раз счёл улыбку весьма подобающей случаю: дружественное соседство двух слов – «Рим» и «Хоскинс» – подтолкнуло меня к этому удовольствию. Тогда, не говоря ни слова, я занял удобное положение в студии и посмотрел на «Дафну».
Не было никаких сомнений в том, что картина великолепна. Исполнение, замысел, цвета – всё отвечало высокому совершенству человеческого разума и творчества. Сцена изображала легендарное преследование Дафны Аполлоном. Вечерний пейзаж; молодая луна горела в небе, и в воздухе над целым полем склонившихся лилий явился бог любви с развивающимися волосами, сдуваемыми ветром назад; его румяное, вдохновенное лицо горело нетерпением и обидой за отверженную страсть. Бледная Дафна, в страхе обернувшись, воздела руки в отчаянной мольбе и уже почти превратилась в лавровое дерево; половина из её струящихся золотистых прядей обернулась густой листвой, и из её изогнутых и стройных ног кривые ветви дерева Славы стремительно вырастали вверх. Картина была огромна и по совершенству задумки, смелости исполнения и гармоничности композиции могла бы быть объявлена выдающимся произведением искусства даже самыми строгими судьями (только без предрассудков). Однако главное её чудо заключалось для меня в том, что написал её Неемия П. Хоскинс. «Дафна» была шедевром, а Хоскинс выглядел посредственностью, и контраст этот представлялся исключительным. Хоскинс, с его намасленными и надушенными волосами, бархатной курточкой, голубым галстуком и агрессивными, самовлюблёнными, современными американскими манерами поведения художника совершенно не соответствовал своей работе.
– Я полагаю, – сказал он, самоуверенно накручивая ус, – что картина стоит своей цены. Верно?
– Она и в самом деле очень хороша, м-р Хоскинс! – пробормотал я. – Сколько вы за неё хотите?
– Пятнадцать тысяч долларов – моя цена, – небрежно бросил он. – И это немного. Мои друзья говорят мне, что это даже слишком дёшево. Но какая разница? Я никогда не был в плену меркантильных соображений. Я работаю ради искусства. Искусство – мой бог! Рим – мой алтарь поклонения! Я не стану опошлять себя или свою профессию вульгарной торговлей. Когда я впервые поставил эту картину на выставочный мольберт, я сказал, что пятнадцать тысяч долларов меня устроят. С тех пор мои бесчисленные поклонники не перестают упрекать меня, говоря: «Вы требуете слишком мало, Хоскинс. Вы слишком скромны и не осознаёте своего величия. Вам следует просить сотню тысяч долларов!» Но нет! Назвав цену в пятнадцать тысяч, я стою на своём. Знаю, что это дёшево, до смешного дёшево, но неважно! Ещё свежи в моей голове те идеалы, которые позволили этой картине появиться на свет. Верно?
– Действительно, надеюсь, что это так, – искренне отвечал я, стараясь преодолеть свою неприязнь к личности этого человека. – Это замечательная картина, м-р Хоскинс, и я хотел бы позволить себе купить её. Но коль скоро это невозможно, позвольте мне, по крайней мере, высказать мои горячие похвалы по поводу наличия у вас истинно великого гения.
М-р Хоскинс самодовольно кивнул.
– Слова одобрения всегда приятны, – высокопарно заметил он. – Признание, в конце концов, есть лучшая награда для вдохновенного художника. А что такое деньги? Прах! Когда друг понимает величие моей работы и подтверждает совершенство её композиции, душа моя спокойна. Деньги способны лишь удовлетворить пошлые жизненные потребности, но признание насыщает разум и вновь раздувает божественное пламя! Верно?
Я действительно не мог найти подходящих слов, годившихся для ответа на его вопросительное «Верно?», на этот раз. Мне казалось, что он сказал уже всё, что можно было сказать, и даже больше того. Я распрощался и покинул студию несколько раздражённый и недовольный. «Дафна» меня преследовала, и я чувствовал беспричинное раздражение при мысли о том, что настолько пошлый и эгоистичный человек, каковым, несомненно, был Неемия П. Хоскинс, смог написать её. Каким образом человек добился этого всемогущественного талисмана Гения? Теперь я понимал, отчего американская община в Риме развела такой ажиотаж вокруг Хоскинса; неудивительно, что они гордились им, если он сумел создать такой шедевр, как «Дафна». Всё ещё в замешательстве раздумывая над этим делом, я снова сел в карету, которая ожидала меня снаружи и должна была бы отвезти домой, если бы не произошёл один из этих непредвиденных инцидентов, которые порой дают ключ к разгадке всей тайны. Маленькая собачка неожиданно выскочила на улицу прямо перед моей каретой – передняя лапа у неё была сильно поранена и обильно кровила, но в остальном она была здорова. Водитель транспорта, который стал причиной несчастного случая, подошёл ко мне и выразил свои сожаления, думая, что собака принадлежала мне, поскольку та неслась прямо на меня, жалобно скуля, словно моля о помощи. Я подхватил маленького пострадавшего на руки и, заметив его красивый ошейник с надписью «Миту, улица Тритон, дом 8», я показал своему кучеру этот адрес, решив возвратить бедное домашнее животное хозяину. Это была миленькая собачка, белая и пушистая, как клубок шерсти, с добрыми коричневыми глазами и с до смешного маленьким чёрным носиком. Она была очень чистая и ухоженная, так что её внешний вид ясно свидетельствовал о большой любви со стороны её хозяина или хозяйки. Собака воспринимала меня добродушно и лежала очень спокойно у меня на коленях, позволив перевязать раненую лапу своим носовым платком и то и дело с благодарностью облизывая мне руку.
– Миту, – сказал я, – если, конечно, это твоё имя. Ты больше перепугался, чем пострадал, как мне кажется. Кто-то тебя портит, Миту, и ты поддаёшься! Твоя драгоценная лапка и вполовину не столь плоха, как ты изображаешь!
Миту вздохнул и взмахнул хвостиком; он явно привык к тому, что с ним разговаривают, и ему это нравилось. Когда мы подъехали к улице Тритон, он оживился, навострил ушки и начал оглядываться вокруг, явно радуясь и узнавая окрестности; и когда мы остановились у дома номер восемь, его возбуждение стало настолько сильным, что он, несомненно, спрыгнул бы с моих коленей, полностью позабыв о раненой лапе, если бы я его не удержал. Дверь нам открыла дородная, добродушного вида леди, одетая в утренний туалет в поистине итальянском стиле, которая, несмотря на чрезмерную тучность и медлительность, обладала настолько солнечной улыбкой, что она сгладила бы и худшие недостатки.
– О Миту! Миту! – запричитала она, протягивая руки навстречу маленькой собачке. – Какой ты негодник! Неудивительно, что ты заслужил такое несчастье! Сбежать и бросить твою милую хозяйку!
Миту выглядел искренне пристыжённым и пытался спрятать свою смущённую мордочку в моём плаще. Заинтересовавшись необычным описанием синьоры, я попросил разрешения лично возвратить питомца хозяйке.
– Конечно! – отвечала улыбчивая матрона сладкозвучным голосом, исполненным тоном чисто римской почтительности. – Если вы потрудитесь подняться по лестнице на самый-самый верхний этаж этого дома, то попадёте как раз в студию синьоры! Её имя, Джульетта Марчини, написано на двери. Удачи! Ещё минуту назад она была там, вся в слезах по сбежавшему Миту!
Миту явно понял это замечание, поскольку слегка заскулил, выражая свои смятённые чувства. И, чтобы избавить его от этих угрызений совести и вновь осчастливить, я прямиком начал «утруждать себя подъёмом» во владения хозяйки. Преодолев немало крутых ступеней, я наконец, задыхаясь, добрался до верхнего этажа высокого дома и осторожно постучал в дверь, которая предстала прямо перед мои лицом и на которой аккуратными чёрными буквами было выведено имя Джульетты Марчини. Миту уже весь дрожал от нетерпения и, как только дверь распахнулась и красивая женщина выглянула наружу, воскликнув радостным голосом: «О Миту! Дорогой Миту!», он больше уже не мог сдерживаться. Рванувшись из моих рук, он соскочил на пол и зашёлся криком от смешанной боли и восторга, пока я кратко поведал его хозяйке о его злосчастии. Она выслушала с добродушным выражением заинтересованности в тёмных глазах, и улыбка осветила одно из самых вдохновенных лиц, какое мне когда-либо встречалось.
– Вы были очень добры, – сказала она, – и я даже не знаю, как вас отблагодарить. Миту – такой дорогой маленький друг для меня, что я была бы очень несчастна, если бы потеряла его. Но у него такой взбалмошный нрав, что боюсь, он вечно попадает в неприятности. Зайдите в мою студию и отдохните немного, подъём по этим ступеням так утомителен.
Я с радостью принял приглашение, но едва я перешагнул порог, как невольно отпрянул назад, воскликнув от удивления. Оттуда, со стены, на меня смотрел чёрно-белый набросок «Дафны», такой же, как был выставлен у Неемии П. Хоскинса.
– Что это? – вскричал я. – Это же эскиз картины, которую я только что видел.
Джульетта Марчини улыбнулась и с интересом поглядела на меня.
– Ах, вы побывали на американской выставке? – спросила она.
– Не совсем. Сегодня утром я видел только работу м-ра Хоскинса.
– А! – снова сказала она и замолчала.
Я порывисто взглянул на неё. Она занималась раненой лапкой Миту: усадила его на подушку и осторожно перевязывала ему лапу с почти хирургической ловкостью. Я отметил, насколько изящную форму имели её руки с тонкими узкими пальцами, что часто свидетельствует о натуре художника. Затем я стал рассматривать саму женщину. Молодая и стройная, как тростинка, с густыми прекрасными волосами, частично собранными наверху в толстые локоны, которые ниспадали на широкий умный лоб, в ней не было ничего общего с тем типом, который принято называть «обычной женщиной». Она явно представляла собой нечто незаурядное. Постепенно я начал замечать некую схожесть между нею и удивительной «Дафной» Хоскинса и, считая, что сделал открытие, я сказал:
– Несомненно, это вы позировали м-ру Хоскинсу для образа Дафны?
Улыбнувшись, она отрицательно покачала головой.
Я почувствовал себя слегка смущённым. Я принял её за модель, в то время как она могла, вероятно, и сама оказаться одарённой художницей. Я пробормотал нечто вроде извинения, а она рассмеялась ясным, звонким смехом, выражавшим чистосердечное добродушие.
– О, вам не за что извиняться, – сказала она. – Знаю, вам, должно быть, показалось удивительным обнаружить здесь первый эскиз «Дафны», а законченную картину – на студии м-ра Хоскинса. И это и впрямь столь странное совпадение, что по вине Миту вы оказались у меня немедленно после посещения м-ра Хоскинса, что я чувствую, что должна дать некоторое объяснение этого дела. Но сначала, могу я просить вас осмотреться в моей студии? Вы обнаружите и ещё кое-что, помимо наброска «Дафны».
Я огляделся вокруг со всё возрастающим удивлением и восхищением. Здесь было «ещё кое-что», как она сказала, – кое-что столь удивительно прекрасное и гениальное, что нечасто встречалось на студиях современных художников. С каким-то недоверием и удивлением я порывисто спросил:
– Это всё ваши работы? Вы всё это сделали сами?
Её прямые брови слегка изогнулись, затем она улыбнулась.
– Будь я мужчиной, я могла бы ожидать подобного вопроса. Но, коль скоро я женщина, я удивлена вашей проницательности! Да, я делаю всё это сама, каждый элемент! Я люблю своё дело! И я весьма ревнива, пока мои работы остаются со мной. У меня нет учителя – я всему научилась сама, и всё, что вы видите здесь, создано моими руками! Я же не м-р Хоскинс!
И она вдруг разразилась смехом.
– Вы написали «Дафну»! – вскричал я.
Она прямо поглядела на меня с долей печали в глубине ясных глаз.
– Да, я написала «Дафну».
– Так почему же… – начал было я в недоумении.
– Почему я позволила м-ру Хоскинсу поставить на ней своё имя? – спросила она. – Ну, он платит мне две тысячи франков за такое позволение, а две тысячи франков – это маленькое счастье для меня и моей матери.
– Но вы же сами могли бы продавать свои картины! – вскричал я. – Вы могли бы заработать кучу денег и заслужить славу!
– Вы так думаете? – и она печально улыбнулась. – Что ж, я раньше тоже так считала, когда-то. Но эта мечта в прошлом. Мне хватает и малых денег, и вся моя натура восстаёт против славы. Ибо женщина в наши дни добивается лишь ложных обвинений и зависти! Я расскажу вам свою историю.
И стремительным движением руки она сорвала завесу, которая скрывала ещё одну картину огромных размеров и великолепно выполненную, на которой изображалась группа диких коней, неистово скачущих вперёд вместе, без всяких сёдел и узды, под названием «Барбери».
– Я написала её, – сказала она, пока я стоял, растерявшись от восхищения, перед смелым и мощным выражением столь сложных объектов, – когда мне было восемнадцать. Сейчас мне двадцать семь. В восемнадцать я верила в идеалы; и, конечно же, в любовь, как часть их. Меня предал один австриец, который изучал искусство здесь, в Риме. Он видел, как я рисовала эту картину, он наблюдал, как я прописывала каждую черту и накладывала каждый мазок. Короче говоря, он её скопировал. Он принёс свои эскизы сюда, на эту студию, и работал вместе со мной – как он сказал, от большой любви, – ибо он желал заполучить точную копию этой работы, которая, как он говорил, меня прославит. Я поверила ему, потому что полюбила! А когда он уже почти закончил свою копию, то забрал её с собой и через пару дней пришёл попрощаться. Он должен был ехать в Вену, как он говорил, но собирался вернуться в Рим через один месяц. Мы расстались как любящие – исполненные взаимной нежности, а когда он уехал, я села за работу, чтобы наложить последние штрихи на свою картину. И когда я всё завершила, то написала одному знаменитому торговцу в этом городе и просила его прийти и вынести суждение по поводу стоимости моей работы. Войдя в комнату, он отпрянул и с упрёком поглядел на меня:
– Я не имею дел с копиями, – сказал он, – я только что приобрёл оригинал этой картины у Макса Виланда.
Я вскричал от возмущения и негодования.
– Да, – продолжала Джульетта Марчини, – Макс Виланд был моим возлюбленным. Он украл мой сюжет и всю мою славу. Не могу описать, что сталось со мною, когда я об этом узнала. Думаю, я на время полностью утратила разум; моя мама говорит, что я несколько месяцев проболела. Но сама я ничего не помню, кроме бесконечного отчаяния и безнадёжности. Конечно, я никогда больше не видела Макса. Я писала ему, а он не отвечал. Я рассказала торговцу свою историю, но он в неё не поверил. «Замысел картины, – говорил он, – явно принадлежит мужчине. Если Макс Виланд ваш жених, то вы оказываете ему весьма дурную услугу, пытаясь выдать свою точную копию за его оригинал. Это не пройдёт, моя маленькая обманщица, не пройдёт! Я слишком стар и опытен, чтобы судить об этом. Ни одна девчонка вашего возраста никогда не создаст подобной работы – взгляните, как прорисованы тела, на цветовую гамму! Это рука мужчины – здесь нет ничего женского». – И тогда, – продолжала Джульетта, – всю эту историю повернули так, будто это я пыталась украсть картину Макса Виланда, а он оказался брошенным женихом с разбитым сердцем. Моя мать, уже старая и больная, чуть не сошла с ума от ярости, ибо она видела, как он копировал мою работу, но и ей никто не поверил. Все лишь говорили, что это вполне естественно, когда мать пытается защитить свою дочь. Тогда мы были бедны и не имели возможности подать в суд. Ни один покупатель не желал брать картин с моим именем – как художницу меня похоронили.
Тут собачка Миту, почувствовав печаль в голосе хозяйки, запрыгала вокруг неё на трёх лапах, поджимая раненую. Она улыбнулась и взяла его на руки.
– Да, с нами всё было кончено, Миту! – сказала она, положив свой прелестный круглый подбородок на шелковистую голову собачки. – Кончено, пока этот мир держится за свои предрассудки. Но невозможно убить идеи – они будут расти, как цветы, пока есть земля, хранящая их корни. И хоть я и знала, что не продам своих картин, я продолжала рисовать для собственного удовольствия; и чтобы содержать мою мать и себя, я давала уроки живописи детям. Но мы были бедны – невыносимо, нищенски бедны, – пока однажды не появился м-р Хоскинс.
– И тогда? – спросил я с чувством.
– Тогда, что ж! – и прекрасная Марчини слегка усмехнулась. – Он сделал мне любопытное предложение. Он назвался американским художником, который желал заявить о себе в Риме. Он умел писать только ландшафты, как он говорил, но знал, что его могли попросить написать и образы. И он сказал, что будет мне хорошо платить за создание таких вот образных картин, если я продам их ему вместе с правами, дам позволение поставить на них своё имя и больше ничего о них не стану спрашивать. Вначале я колебалась, но моя мать была очень больна в то время, а у меня не было денег. Я очень нуждалась и наконец согласилась. И м-р Хоскинс сдержал своё слово по поводу оплаты – он очень щедр – теперь мы с матерью живём очень хорошо.
– Но он требует пятнадцать тысяч долларов за «Дафну»! – вскричал я. – А вам платит только две тысячи франков! И вы называете это щедростью?
Джульетта Марчини, казалось, задумалась.
– Ну, я не знаю! – сказала она мягко, слегка приподняв брови. – Видите ли, ему дорого обходится проживание в Риме; он встречается с массой людей и обязан держать карету. А мы сейчас живём очень скромно, и у нас вообще нет друзей. Две тысячи франков для меня значительно бо́льшая сумма, чем для него – пятнадцать тысяч долларов.
– И что же, вы больше не сделаете попытки возвратить себе славу, кою вы заслуживаете? – спросил я с удивлением.
Она пожала плечами.
– Думаю, что нет! Какая от неё польза для женщины? Слава для моего пола, как я уже говорила, означает лишь зависть! Мужчина может снискать славу самыми нечестными путями, он может красть чужие идеи, чтобы сделать собственную карьеру, он может подкупать критиков, он может делать всё, что в его власти – честное и бесчестное, – учитывая, что ему удастся избежать обвинений. Но если женщина легко прославится посредством своего ума и рук, то она вечно будет находится под подозрением в том, что кто-то ей «помог». Нет, я не забочусь о славе. Я написала свою картину, или точнее картину м-ра Хоскинса, находясь под сильным впечатлением от легенды. Бог спускается на землю, и женщина превращается из радостного, мечтательного создания в лавровое дерево – дерево с горькими листьями и цветами без запаха! Я счастливее как есть – неизвестная миру, в то время как Хоскинс – всеми уважаемый человек! – она замолчала и набросила покрывало на свою картину, ставшую причиной стольких печалей в её жизни.
После этого приключения я часто навещал Джульетту Марчини и пытался спорить с ней по поводу её смехотворного положения. Я указывал ей на то, что Неемия П. Хоскинс из её гения создавал себе обманным путём репутацию. Но она заверяла меня, что в Риме полно погибающих художников, которые живут подобным образом, а именно, рисуя картины для американских «художников», которые сами вообще не умеют рисовать. Я обсуждал это дело даже с её матерью, высохшей как щепка старухой с чёрными глазами, которые сверкали как бриллианты, и обнаружил, что она столь же неисправимо придерживается того же мнения, что и её дочь.
– Когда девичье сердце разбито, ничего не поделаешь, – говорила она, красноречиво жестикулируя руками и качая головой. – Во всём виноват этот австрийский дьявол Макс Виланд, будь он проклят! Джульетта любила его. Я думаю, что она и сейчас его любит, только не признаётся. Характер у неё непреклонный. Она из тех женщин, что дали бы убить себя любимому и ещё поцеловали бы ему при этом руку. У неё есть талант – о да! Гений в Италии не редкость. Он у здешних людей в крови, и мы этому не удивляемся. Лучше оставить всё как есть. Может, она и не счастлива, зато она спокойна. Любит свою работу, и мы можем как-то жить. Этого довольно, и нам всего хватает. А что касается Джульетты – женщина не заботится о славе, потеряв любовь.
И мне не удалось добиться от неё больше ничего. У неё, однако, имелось прекрасное чувство юмора, как я узнал, и она полностью сознавала мошенничество Неемии П. Хоскинса, но она не могла видеть, как это влияло на её дочь. По личной просьбе Джульетты я воздерживался от любого вмешательства в успешные дела Неемии и его растущую популярность. Он превратился в настоящего «льва искусства» в этом сезоне в Риме и развлекал всё посольство за чаем. «Дафну» приобрёл по назначенной им цене один из его богатейших сограждан (бывший землекоп, который теперь содержал целый штат секретарей и скупал исторические земли Англии), который аккуратно повесил полотно в самом надёжном месте своей картинной галереи и называл Хоскинса американским Рафаэлем.
А пока по моей просьбе Джульетта Марчини пишет картину, которую попытается показать одному из лучших оценщиков Парижа; и, судя по её задумке, думаю, что через пару лет Неемия П. Хоскинс навсегда лишится своей исключительной техники, в то время как Джульетта Марчини выплывет наружу, чтобы, несомненно, получить обычную долю обвинений и насмешек в награду за свою работу, принадлежащую руке женщины, вместо аплодисментов, что так часто срывают посредственные работы претенциозных мошенников. По правде, порой кажется, что в этом мире лучше быть мужчиной-обманщиком, чем честной женщиной. А по поводу американских художников в Риме, широко известно, как много из них пользуется мимолётной, головокружительной славой «гения», которая внезапно испаряется, потому что одарённый итальянец, игравший роль призрака за кулисами, умирал, или переезжал, или решался наконец создать себе собственное имя. Подобный стремительный и, очевидно, таинственный провал постиг и карьеру некоего Макса Виланда, о ком венецианские журналисты то и дело вспоминали с упрёком и разочарованием. Его великая картина, говорят они о «Барбери», заставила мир искусства ожидать от него работ высочайшего уровня, но, странное дело, с тех пор он не создал ничего, заслуживающего внимания критиков; Джульетте это хорошо известно, но она молчит, а внутри себя, конечно, переживает гораздо больше, чем радуется успешности того, кто заполучил причитавшуюся ей славу.
– Быть осуждённой и непонятой, – говорит она, – разве это для женщины приятно? Выделиться в качестве преступницы и заслужить ревностные подозрения и ненависть – разве оно того стоит? Сомневаюсь. Если уж лавру суждено вырасти из человеческого сердца, то я полагаю, что это не должно быть болезненным.
И даже сейчас, пока спокойно работает над своей новой картиной, она говорит мне, что вполне довольна своей жизнью и намного счастливее, чем была бы, обладая славой. Через некоторое время Неемия П. Хоскинс, «американский Рафаэль», взлетел на вершину славы, завладев не своим гением и сложив в карман деньги за работу, которой он не создавал; и никогда ещё он не был столь блистателен, столь грандиозен и убедителен, чем когда в окружении восхищённых друзей он самодовольно рассуждал на тему всеобщей ошибки – признания «женщины в искусстве»!
Дама с гвоздиками Сон или наваждение?
Впервые я увидел её в Лувре – или, точнее, её картину. Её написал Греза, как мне сказали; но имя этого художника едва ли меня заинтересовало – моё внимание было поглощено самой женщиной, которая взирала на меня с бессловесного холста с такой спокойной улыбкой на лице и с таким огненным букетом гвоздик, приколотым к груди. Я почувствовал, что знал её. Кроме того, некое странное притяжение в её взгляде зачаровывало меня. Она словно бы говорила: «Подожди, я расскажу тебе всё!» Слабый румянец окрашивал её щёки – узел прекрасных волос лежал в беспорядке на её непокрытой груди. И, несомненно, – или я задремал? – мне почудился аромат гвоздик в воздухе. Я очнулся от воспоминаний, лёгкая дрожь пробежала по телу. Я повернулся, чтобы уйти. Художник с огромным мольбертом и принадлежностями для рисования в руках подошёл ко мне как раз в тот момент и, остановившись напротив картины, начал писать с неё копию. Я недолго понаблюдал за его работой: мазки его были уверенные, глаз меткий; но я знал, даже не видя ещё законченной картины, что было нечто едва заметное в изображении, чего он со всем своим умением никогда не смог бы передать так, как это сделал Греза, – если только Греза и в самом деле был автором картины, в чём я ни тогда, ни сейчас не уверен. Я побрёл прочь.
На пороге комнаты я обернулся. Да! оно точно присутствовало там – это неуловимое, странное, молящее выражение, которое, казалось, молчаливо призывало меня; эта полудикая и всё же нежная улыбка, что безмолвно выражала целый букет чувств. Нечто вроде тревоги зародилось во мне – предчувствие зла, которого я не мог понять, – и, разозлившись на собственные глупые фантазии, я поспешно спустился вниз по широкой лестнице, ведущей прочь из картинной галереи, и направился через красивый зал с древними скульптурами, в котором стоял до дерзости прекрасный Аполлон Бельведерский и известная по всему миру Артемида.
Солнце ярко светило; многочисленные толпы людей сновали туда-сюда. Вдруг сердце моё яростно подпрыгнуло в груди, и я резко остановился, поражённый и в замешательстве. Кто это сидел на скамье рядом с Артемидой за чтением? Кто, если не эта дама с картины, одетая в белое, со слегка опущенной головой и с гвоздиками в руке? Я с тревогой приблизился к ней. Как только мои шаги прозвучали эхом, отдаваясь от мраморного пола, она подняла взгляд; её серо-зелёные глаза встретились с моими в той печальной улыбке, что выражала такую неописуемую скорбь.
Сквозь смущение разума я отметил её бледность и неземную изящность черт лица и фигуры – шляпы она не носила, и плечи и шея её оставались открытыми. Поражённый такой необычностью, я гадал, замечали ли окружающие люди её дезабилье. Я вопросительно огляделся вокруг – ни один прохожий не поворачивал головы в нашем направлении! И всё же наряд дамы определённо был достаточно странным, чтобы привлекать внимание. Холодная дрожь пробежала по моему телу – неужели лишь я один видел её сидящей здесь?
Эта мысль так потрясла меня, что я невольно вскрикнул, и в следующую секунду скамья передо мной была уже пуста – удивительная дама исчезла, и ни следа не осталось, кроме яркого нежного аромата от её гвоздик! С трепетом в сердце я поспешил прочь из Лувра и почувствовал себя довольным, лишь оказавшись на ярких улицах Парижа, заполненных нетерпеливыми, толкающимися людьми, которые все торопились по своим делам. Я взял экипаж и быстро помчался в «Гранд Отель», где остановился с компанией друзей. Я не стал рассказывать о необычном происшествии со мной, я даже не стал упоминать о картине, которая столь странным образом повлияла на меня. Наш блестящий образ жизни, постоянные перемены и активность вскоре рассеяли моё нервное напряжение; и хотя порой воспоминание об этом возвращалось ко мне, я старался не думать об этом предмете. Прошло десять или двенадцать дней, и однажды ночью все мы отправились во Французский театр – то был первый вечер в моей жизни, когда я оказался в странном положении зрителя постановки, не зная её названия и даже не понимая смысла. Я осознавал лишь одно, а именно, что дама с гвоздиками сидела в ложе напротив, пристально глядя на меня. Она была одна; наряд не изменился. Я обратился шёпотом к одному своему товарищу:
– Вы видите вон ту женщину напротив, в белом и с алыми гвоздиками на платье?
Мой друг посмотрел, покачал головой и ответил:
– Нет, где она сидит?
– Прямо напротив! – повторил я ещё более взволнованным тоном. – Вы, конечно же, можете видеть её! Она ведь одна в этой огромной ложе.
Мой друг с удивлением повернулся ко мне.
– Вы, должно быть, задремали, друг мой! Эта огромная ложа совершенно пуста.
Пуста – я отлично это знал! Но, выдавив улыбку, я сказал, что ошибся, что дама уже ушла, и таким образом сменил тему.
Но в продолжение всего вечера, хоть я и притворялся, что смотрел на сцену, глаза мои постоянно обращались к месту, где сидела она, так спокойно, не спуская с меня своего пристального печального взгляда. Теперь в её наряде появилось одно дополнение – веер, который издали казался выполненным из старинного пожелтевшего кружева, натянутого на палочки из филигранного серебра. Она беспечно им обмахивалась, медленно покачивая из стороны в сторону с каким-то мечтательным, задумчивым видом; и снова она улыбалась этой своей грустной, смиренной улыбкой, которая хоть и намекала на многое, но ни о чём конкретном не говорила. Когда мы поднялись, чтобы уходить, дама с гвоздиками тоже встала и, обернув кружевную шаль вокруг головы, испарилась. Впоследствии я заметил её скользившей через один из холлов; она казалась такой лёгкой и прозрачной, словно ребёнок, такой одинокой в толкавшейся яркой толпе, что сердце моё потянулось к ней с какой-то нереальной нежностью. «Является ли она только бестелесным призраком, – размышлял я, – или видением, вызванным во мне каким-то расстройством рассудка, я не знаю; но она кажется такой печальной, что даже если она – лишь сон, мне жаль её!»
Такие мысли крутились у меня в голове, когда я в компании друзей дошёл до входной двери театра. Прикосновение к плечу меня испугало – бледная маленькая рука, сжимавшая букет гвоздик, около мгновения была там, а затем исчезла. Я был несколько обескуражен этим случаем, но чувства мои не имели ничего общего со страхом. Я обрёл уверенность в том, что этот образ преследовал меня по какой-то причине, и я решил не поддаваться глупому страху, а спокойно ждать развития событий, которые со временем, я был уверен, всё мне объяснят.
Я прожил в Париже ещё две недели и ни разу не увидел даму с гвоздиками, не считая репродукций её картины из Лувра, одну из которых я купил, – хотя она и давала весьма смутное представление об оригинальном шедевре – и затем я уехал в Бретань. Одни мои английские друзья, мистер и миссис Фэрли, обосновались на лето в огромном древнем особняке рядом с Кемперле, на побережье мыса Финистерре, и они очень радушно просили меня погостить у них пару недель – и я принял это приглашение с радостью. Здание было выстроено на высокой скале с видом на море; окружающее побережье было диким и исключительно живописным; и в день моего приезда бушевал яростный ветер, который высоко поднимал гребни морских волн и обрушивал их на скалы с чудовищным грохотом. Миссис Фэрли, яркая, практичная женщина, чья жизнь полностью вращалась вокруг управления хозяйством, приветствовала меня с энтузиазмом – она и двое её красивых сыновей, Руперт и Фрэнк, предвкушали радость приключений во время их летнего отдыха.
– Какой пляж! – вскричал Руперт, отплясывая какой-то индийский танец войны на дорожке у меня за спиной.
– И такие весёлые прогулки и катания! – вторил ему брат.
– Да, в самом деле! – ворковала моя хозяйка своим чистым весёлым голосом. – Я рада, что мы сюда приехали! А особняк – такое приятное древнее место, в нём полно странных уголков и местечек. Деревенские жители, как вы знаете, чертовски суеверны, и они говорят, что здесь есть призраки! Но, конечно, всё это ерунда! Будь здесь призрак, мы бы отправили тебя его допросить, дорогой!
Это было сказано с добродушной насмешкой, и я рассмеялся. Миссис Фэрли была из тех в высшей степени рассудительных натур, что всерьёз говорили мне о книге «Роман двух миров», как о насаждении спиритуалистических теории, которая по этой причине заслуживает осуждения. Я сменил тему.
– Сколько вы уже здесь живёте? – спросил я.
– Три недели – и ещё не осмотрели и половины окрестностей. Мы ещё и дом-то не весь осмотрели. Когда-то, как говорят здешние жители, здесь жил величайший художник. И его студия располагалась по всей длине особняка, она и некоторые комнаты наверху заперты. Кажется, туда никогда не впускали чужаков. Но не очень-то они нам и нужны, этот дом итак слишком велик для нас.
– Как было имя этого художника? – спросил я, остановившись на подъёме вверх, чтобы полюбоваться видом на море.
– О, я позабыла! Его картины так походили на Греза, что очень немногие могли их различить, и…
– Скажите, – прервал я её со слабой улыбкой, – а здесь случайно не растут гвоздики?
– Гвоздики! Думаю, да! Здесь их полно. Их аромат разве не прекрасен?
И когда мы дошли до самой высокой точки напротив особняка, я увидел сад, наполненный этими яркими ароматными цветами всевозможных сортов, видов и оттенков – от бледно-розового до глубокого алого.
В то время их аромат уже не был порождением моей фантазии, и я сорвал несколько цветов, чтобы приколоть к костюму за ужином. Мистер Фэрли уже вышел нам навстречу, и разговор перешёл на общие темы.
Интерьер мне понравился, дом был огромен и стар. Здесь была тёмная дубовая лестница с самой затейливой резьбой и витиеватой балюстрадой, кое-какие древние гобелены всё ещё висели на стенах, так же как и выцветшие портреты чопорных дам в париках и злобно ухмылявшихся рыцарей в доспехах, которые скорее наводили скуку, чем украшали столовую. Комнаты наверху были весьма уютными – их окна выходили на море, и меблировка была довольно милая. Я отметил, однако, что следующая за моей комнатой запертая дверь вела в ту самую просторную студию. Сад, как и говорила миссис Фэрли, был наполнен гвоздиками. Никогда прежде я не встречал такого количества этих цветов в одном месте. Они, казалось, разрослись повсюду, как сорняки, даже в самых отдалённых и тенистых местах.
Я пробыл в особняке около трёх-четырёх дней, и однажды утром мне случилось прогуливаться в одиночестве среди каких-то зарослей позади дома, где я обнаружил в длинной сырой траве под ногами большой серый камень, который явно стоял прежде вертикально, а теперь упал наземь и отчасти ушёл в землю. На нём имелась какая-то надпись. Я нагнулся и, счистив траву и дёрн, различил слова: «Мэйнон, сердце предательницы!»
Несомненно, это была странная надпись! Я поведал о своём открытии семейству Фэрли, и все мы по нескольку раз рассмотрели таинственную плиту, будучи не в состоянии прийти к какому-либо удовлетворительному объяснению. Даже расспросы среди местных жителей не дали никаких результатов, не считая покачивания головой и замечаний вроде: «Ах, мадам! Если бы я знал!» или «История хранит свои тайны!»
Однажды вечером все мы собрались в особняке на целый час раньше обычного после длительной и приятной прогулки по пляжу в свете нежного сияния полной луны. Когда я отправился в свою комнату, у меня не было желания ложиться спать – я был весьма возбуждён и, более того, находился в каком-то предвкушении, ожидал, сам не зная чего.
Я распахнул окно, выглянул наружу, любуясь восхитительным видом подлунного моря и вдыхая неповторимый аромат гвоздик, долетавший до меня с ночным ветерком. Я думал о многом – о прелести жизни, необъятной щедрости природы, тайне смерти, красоте и несомненности бессмертия, и тогда, хоть я и стоял спиной к комнате, я почувствовал, что уже не один. Я заставил себя обернуться, медленно, но решительно повернулся лицом к запертой двери и едва ли удивился, когда увидел даму с гвоздиками, стоявшую чуть в стороне с самым удручённым выражением на прекрасном грустном лице. Я посмотрел на неё, приняв решение не пугаться, и тогда собрал в кулак всю свою волю, чтобы немедленно разгадать тайну странной гостьи. Когда я встретил её взгляд, не мигнув, она несколько застенчиво пошевелила руками, словно хотела о чём-то попросить.
– Зачем вы здесь? – спросил я тихим, спокойным голосом. – Отчего вы преследуете меня?
И снова она сделала это едва заметное, просительное движение. Её ответ, мягкий, как детский шёпот, проплыл через комнату:
– Вы меня пожалели!
– Вы несчастны?
– Очень! – И тут она сжала свои белые пальцы вместе в каком-то ужасе. Я начинал нервничать, но продолжил:
– Скажите тогда, чего вы хотите от меня?
Она подняла молящий взор.
– Молитесь за меня! Никто никогда не молился за меня, с тех пор как я умерла, никто не жалел обо мне сотни лет!
– Как вы умерли? – спросил я, стараясь унять сильное сердцебиение. Дама с гвоздиками печально улыбнулась и медленно открепила букет гвоздик от груди – в том месте платье её было темно от крови. Она указала на пятно и снова вернула цветы на место. Я понял.
– Убийство! – прошептал я скорее самому себе.
– Никто не знает, и никто не молится за меня! – проговорил слабый бестелесный голос. – И хоть я и мертва. Но не знаю покоя. Молитесь за меня – я так устала!
И её изящная головка в измождении опустилась, она, казалось, готова была исчезнуть. Я обуздал поднимавшийся внутри меня ужас усилием воли и проговорил:
– Скажите, вы должны сказать, – здесь она подняла голову, и её огромные задумчивые глаза со смирением встретились с моими, – кто был вашим убийцей?
– Он не хотел, – был ответ. – Он любил меня. Это случилось здесь, – и она подняла руку и показала в сторону студии, – здесь он написал мой портрет. Он не поверил мне, но я была честна. «Мэйнон, сердце предательницы!» – ох, нет, нет, нет! Я должна была стать «Мэйнон, верное сердце!»
Она замолчала и посмотрела на меня с мольбой. И снова указала в сторону студии.
– Идите и посмотрите! – вздохнула она. – Тогда вы будете молиться – и я никогда не вернусь снова. Обещайте, что будете молиться за меня – здесь он убил меня – и я умерла без молитв.
– Где вас похоронили? – спросил я охрипшим голосом.
– В море, – прошептала она, – выбросили в холодные дикие волны; и никто не узнал, никто так и не нашёл несчастную Мэйнон; одинокая и печальная на столетия, без единого слова, обращённого к Богу за её имя!
Лицо её было так выразительно, что я едва не разрыдался. Глядя на неё, я встал на колени с огромным старым молитвословом, который только и был у меня, и стал молиться по её просьбе. Медленно, медленно, медленно прекрасный свет загорелся в её глазах; она улыбнулась и помахала руками мне на прощание. Она заскользила назад, к двери, и фигура её растаяла. В последний раз она повернула ко мне своё просветлённое лицо и сказала грустным, дрожавшим голосом:
– Напишите: «Мэйнон, верное сердце!»
Я не мог вспомнить, как прошёл остаток ночи, но я знаю, что ранним утром, очнувшись ото сна, в который провалился, я поспешил к двери запертой студии. Она была приоткрыта! Я смело толкнул её и вошёл. Комната была длинной и высокой, но без какой-либо мебели, не считая потёртого, поеденного жуками мольберта, который был прислонён к облупившейся стене. Я подошёл к этому свидетелю мастерства художника и пристально его осмотрел, заметив имя «Мэйнон», грубо и глубоко вырезанное на нём. С любопытством оглянувшись вокруг, я увидел то, что едва не ускользнуло от моего взгляда, – нечто вроде подвешенного шкафчика на левой стороне огромного центрального окна. Я подёргал ручку и легко открыл его. Внутри лежали три вещи: палитра, на которой всё ещё виднелись размытые пятна от длительного использования; кинжал без ножен с почти чёрным от ржавчины лезвием; и серебряные филигранные палочки от веера, на которых ещё держались рваные куски жёлтого кружева. Веер я припомнил – дама с гвоздиками держала его в театре, и вся мозаика её истории сложилась у меня в голове. Её убил возлюбленный художник – убил в порыве внезапной яростной ревности, когда мягкие краски его картины ещё не высохли, убил в этой самой студии; и, несомненно, спрятанный кинжал стал орудием убийства. Бедная Мэйнон! Её слабое тело было сброшено со скалы, на которой стоял особняк, «в холодные дикие волны», как сказал её дух; и её жестокий любовник так далеко распространил свой гнев, что даже высек на этом вечном камне слова: «Мэйнон, сердце предательницы!» Исполненный горестных мыслей, я захлопнул шкаф и медленно вышел из студии, бесшумно закрыв за собой дверь.
В то же утро, как только улучил момент застать миссис Фэрли одну, я рассказал ей о своём приключении, начав с самой первой встречи в музее. Не стоит и говорить, что она выслушала меня с крайним недоверием.
– Я хорошо знаю вас, дорогой мой! – сказала она, качая головой. – У вас богатое воображение, и вы вечно думаете об иных мирах, как будто этот для вас не достаточно хорош. Это всё ваше воображение.
– Но, – настаивал я, – вы же знаете, что студия была заперта на ключ, а затем открылась; как же так?
– Она и сейчас заперта! – заявила миссис Фэрли. – Хоть я и очень хотела бы вам поверить!
– Идёмте и посмотрим! – страстно вскричал я. – Я привёл её наверх, хотя она и не слишком хотела идти со мной. Как я и говорил, студия оставалась открытой. Я провёл её внутрь, показал мольберт и шкафчик с его содержимым. Когда столь убедительные доказательства правдивости моей истории предстали её взору, она слегка задрожала и побледнела.
– Пойдёмте отсюда! – нервно проговорила она. – Вы меня пугаете! Я такого не выношу! Ради Бога, придержите свои истории о призраках при себе!
Я видел, что она разозлилась и перепугалась, и с готовностью вывел её наружу. Едва мы оказались за дверью, как она захлопнулась с резким щелчком. Я подёргал её – заперто! Это уже было слишком для миссис Фэрли. Она рванулась вниз по лестнице в неописуемом ужасе, и, когда я нашёл её в столовой, она заявила, что в этом доме не останется больше ни на один день. Я попытался успокоить её страхи, однако она настаивала на том, чтобы я остался с ними на тот случай, если что-нибудь ещё случится в этом, как теперь она говорит, доме с призраками, несмотря на все свои практические убеждения. Так что я остался. И когда мы уезжали из Бретани, то уезжали все вместе, ничуть не тревожимые более никакими сверхъестественными силами.
Лишь одна мелочь несколько беспокоила меня тогда – мне следовало бы стереть слова «сердце предательницы» с этого камня и написать «верное сердце» вместо них. Больше я не встречал дамы с гвоздиками, но я знал, что умершая нуждается в молитвах за неё, хоть и не мог объяснить причины этого факта. И мне было известно также, что картина в Лувре не принадлежит Грезе: хоть там и стоит его подпись, но это портрет верной женщины, в которой глубоко ошиблись; и её имя теперь здесь – высеченное так, как она и просила: «Мэйнон, верное сердце!»
Мадемуазель Зефира
Видение чистой красоты? Мечта о совершенной прелести? Да, её можно было так назвать и даже более того. Она была само воплощение летящей грации и изящества. Когда я впервые её увидел, она предстала королевой фей. В её руках был такой яркий светлый скипетр, что он казался букетом из лунных лучей; её стройную талию подчёркивала гирлянда из моховых роз, искрившаяся росой, и корона из звёзд окружала её прекрасное белое чело. Невинной и чистой, как снежинка, она казалась с этим её нежным серьёзным взглядом и ниспадающими золотистыми локонами; и при этом она была мадемуазель Зефира – простая танцовщица на сцене большого и успешного театра – актриса, чья мимика была проста и невыразительна, и поэтому совершенно очаровательна, и чья доверчивая улыбка перед огромной аудиторией, которая еженощно аплодировала ей, вызывала внезапные слёзы на глазах многих матерей и нередко заставляла сердца серьёзных отцов сжиматься от запретного сочувствия. Ибо мадемуазель Зефире было всего шесть лет! Всего шесть лет жизни довлели над великолепным золотом маленькой головки, которую теперь украшал венок из искусственных звёзд; и едва ли маленькие ножки и ручки уже осознали своё назначение, пока испытывали болезненные муки отработки танцевальных позиций, которые столь хорошо знакомы ученикам балетных школ.
– Весьма многообещающее дитя, – сказал богатый директор театра, заметив её на одной из тренировок и с удовольствием отметив грацию, с которой «мадемуазель» поднимала свои кругленькие руки над головой, и обратил внимание на её миниатюрные ножки, в то время как она улыбалась, глядя в его большое, толстое лицо со всем бесстрашным доверием шестилетнего ребёнка.
И так «многообещающее дитя» шаг за шагом осваивала свою профессию, пока о ней не возвестили публике огромные плакаты на стенах театра, как о «мадемуазель Зефире», удивительной девочке-танцовщице! И что было дороже всего для её простой детской души, это небольшая роль в «Королеве фей» – великолепной рождественской постановке этого года – роль, в которой она с радостью и удовольствием вызывала эльфов, гномов, ведьм и спрайтов одним мановением волшебной палочки. И она прекрасно с этим справлялась; никогда ещё волшебный скипетр не взмывал в воздух с таким изящным достоинством и серьёзностью; никогда ещё волшебные заклинания не звучали из уст могущественного монарха столь эффектно, как это выходило у мадемуазель Зефиры:
– Вы, негодные эльфы! Отправляйтесь в свой тёмный лес! Иначе, вы все будете наказаны! – звенел её устрашающий голосок.
Это слово «иначе», произносимое с почти трагической интонацией чистым детским голоском стало, быть может, величайшим «хитом» в небольшом репертуаре мадемуазель; хотя, думаю, что коротенькая песенка, которую она пела в третьем акте была, в конце концов, кульминацией выразительности. Сцена называлась «Лес фей под луной», и здесь мадемуазель Зефира танцевала одна вокруг огромного гриба, с искусственными лучами луны, освещавшими её длинные локоны в весьма живописной манере. Когда приходил черёд этой песни, оркестр переходил на самую тихую игру, чтобы не заглушать нежные нотки голоска маленькой исполнительницы, которые звучали прерывисто, но чётко:
Я вижу, как свет наступившего дня Сияет в вершинах холмов вдалеке И блеск речной ряби! О феи, Идите за мной! Скорее идите Обратно в дворец мой, что сзади луны, Где буду царить я во веки веков!И строчки эти всегда вызывали взрыв самых искренних аплодисментов, вознаграждавших вокальные усилия маленькой мадемуазель, которая отвечала на них воздушными поцелуями. И тогда она подходила с должной серьёзностью к самому важному моменту своей работы, порученной ей на вечер. Это был её большой танец – танец, который она репетировала и разучивала с энергичным французским балетмейстером, кто, конечно, имел все причины для гордости за свою маленькую ученицу. Мадемуазель Зефира скользила по доскам с лебединой лёгкостью – она приседала и перепрыгивала с места на место, как яркий бутон розы, раскачивающийся на ветру; она выполняла самые сложные пассажи всегда с исключительной грациозностью и усердием; и финальный выпад, когда она становилась в заключительную позу, был таким эффектным, живым и очаровательным, что положительный рёв восхищения и удивления приветствовал её, когда падал занавес. Бедная малютка! Сердце моё исполнилось жалости в театре в ту ночь, ибо одаривать ребёнка её возраста капризными аплодисментами публики вместо нежного воспитания и участливой заботы материнских рук представлялось мне одновременно жестоким и трагичным.
Прошло несколько недель, и порхающая фигурка с задумчивым личиком мадемуазель Зефиры не переставала преследовать меня, пока наконец с обычной порывистостью, характерной для мужчин, я не написал директору театра, честно раскрыв своё имя и попросив его рассказать мне немного об истории и родителях Зефиры. Ответ пришёл через несколько дней, но я получил весьма учтивое послание от хитрого директора, который уверял меня, что я был не одинок, проявляя интерес к талантливому ребёнку, но что у него есть причины бояться, что потенциал, который она демонстрирует в столь раннем возрасте, погибнет из-за чрезвычайной хрупкости её телосложения. Он добавил между прочим, что совсем уже разорился из-за капризного здоровья Зефиры; что сейчас она не выступает уже почти неделю; что, наведя справки, он узнал только, что девочка болеет и лежит в постели, не вставая, и что он волей-неволей вынужден был прекратить выплату ей заработка из-за того, что пришлось её подменять девочкой старшего возраста, но с меньшим талантом, которая доставляла ему немало беспокойства и нервов. Он заметил в поскриптуме, что настоящее имя Зефиры было Винфред М., что она была дочерью разорившегося свободного писателя и что её мать умерла, а единственная оставшаяся в живых старшая сестра пользовалась дурной славой. Он дал мне адрес Зефиры – скверная улица со скверным окружением – и окончил своё письмо заверением в том, что лучше бы мне вообще об этом деле не беспокоиться. Совет его не был лишён смысла, и всё же я почему-то не мог ему последовать. Несомненно, весьма распространённая привычка никогда не вмешиваться в судьбы твоих неудачливых попутчиков на переправе через бушующее море житейских страстей; это избавляет от неприятностей, хранит ваши личные чувства от треволнений и, вместе с тем, весьма удобная доктрина. Но нежный, жалобный голос Зефиры не умолкал в моих ушах; серьёзное детское личико в обрамлении золотистых локонов преследовало меня в ночных снах, и наконец я принял решение отправиться в компании моего друга на эту сомнительную улочку с ещё более сомнительным окружением и порасспросить о здоровье Зефиры. Немного заплутав, я отыскал грязный дом, куда меня направили, и, поднявшись по очень тёмной лестнице, постучал в дверь и попросил мисс М. Дверь внезапно распахнулась, и симпатичная девушка лет семнадцати, с копной прекрасных волос в беспорядке, голубыми огромными глазами, которые выглядели набрякшими от слёз, спросила несколько грубо:
– Ну, чего вам нужно?
Мой товарищ ответил:
– Джентльмен пришёл узнать, как себя чувствует ваша младшая сестра – та, что играет на сцене.
Тогда я выступил вперёд и добавил как можно вежливее:
– Я слышал от господина директора, что девочка больна – ей уже лучше?
Девушка пристально посмотрела на меня, не ответив. Затем вдруг, словно через силу, она сказала:
– Входите.
Мы прошли в тёмную и грязную комнату, дурно пахнувшую, непроветренную и едва обставленную мебелью; и пока я пытался различить внутри неё предметы, то услышал слабый звук пения. Не голос ли это Зефиры издалека, столь слабый и трогательный? Я прислушался, и глаза мои наполнились невольными слезами. Я узнал голос и стихи:
Идите за мной! Скорее идите Обратно в дворец мой, что сзади луны, Где буду царить я во веки веков!– Где она? – спросил я, поворачиваясь к прекрасной девушке, стоявшей прямо и глядя на меня с печалью и несколько презрительно. Она кивнула головой в сторону угла комнаты – тёмного угла, где на ужасной соломенной койке лежала несчастная малышка – «Королева фей», беспокойно ворочаясь с боку на бок, с широко распахнутыми голубыми глазами и горящими в лихорадке щеками, её прелестные шёлковые волосы спутались и поблёкли, её нежные руки сами собой механически сживались и разжимались. Но при этом она непрестанно пела, если такое жалобное стенание можно было назвать пением. Я отвернулся от этого душераздирающего зрелища и посмотрел на старшую сестру, которая, не дожидаясь ответа, резко выпалила:
– У неё воспаление мозга. Доктор говорит, что завтрашний день она не переживёт. И это произошло из-за чрезмерной работы, волнения и дурного питания. Уже ничего нельзя сделать. Я знаю, что она всегда не доедала. Я и сама нередко голодала. Отец пропивает каждый пенни, который мы зарабатываем. Это к добру! Думаю, что Винни скоро от этого избавится. Я и сама хотела бы умереть!
И тут жёсткое выражение её лица вдруг смягчилось, яростный блеск в глазах угас и, бросившись на подушку сестры, она разразилась страстными рыданиями и слезами, выкрикивая:
– Бедная Винни, бедная маленькая Винни!
Предпочитаю не вспоминать эту сцену. Достаточно будет сказать, что я сделал всё, что мог, чтобы облегчить физические страдания бедной маленькой Зефиры и её несчастной сестры; и перед тем как уйти, я упросил уже успокоившуюся сестру дать мне знать о будущем состоянии малышки. Это она мне пообещала, записав моё имя и адрес. Я поцеловал горячий лобик низвергнутой «Королевы фей» и ушёл. На следующее утро я узнал, что девочка умерла ещё ночью, и на последнем своём издыхании она пыталась спеть её любимый куплет из постановки. Так человеческое воплощение Зефиры улетело прочь со сцены и из этой жизни, где сказочная страна – лишь мечта поэтов, в неизвестную страну, в
Островную долину Авилона, Где ветры никогда не дуют крепко.Думая о ней сейчас, когда пишу, я почти вижу нежного спрайта на радужных крыльях, порхающего мимо меня; я почти слышу нежный детский голосок, наполненный силой и чистотой дыханием бессмертия, который поёт:
Идите за мной! Скорее идите Обратно в дворец мой, что сзади луны, Где буду царить я во веки веков!И кто станет утверждать, что она не царствует в каком-нибудь далёком прославленном мире, маленькая королева избранного круга ангелов, для которой этот наш мир оказался слишком трудным и скорбным?
Молчание Махараджа
В Индии, в одном английском поселении, которое принято считать общественно развитым (того особенного сорта развитости, который свойственен англо-индийской жизни), лидером самых «развитых» была красивая, энергичная женщина, по простому называемая «Лолли», а для более официального случая именовавшаяся миссис Клод Эннсли. Она была женой Колонеля Клод Эннсли, конечно же, но этот факт с трудом умещался в умах тех, кто её не слишком хорошо знал, потому что на первый взгляд она, казалось, не была похожей на чью-либо жену вообще. Она создавала впечатление «свободной женщины», радовавшейся своему одиночеству и независимости; и брачные узы будто бы слегка стесняли её свободолюбивую, порхающую душу. Её уже положительно нельзя было назвать молодой, ибо ей уже было под сорок, но она сохранила такую стройность и лёгкость фигуры, а кроме того, точно знала, какие корсеты делали её ещё более гибкой и изящной, что обычно в кругу её друзей мужского пола (однако не среди врагов женского пола) её считали не старше тридцати. Правда, она прибегала ко всевозможным современным средствам по уходу за кожей и успешно сохраняла молодость и даже естественную красоту фигуры, несмотря на индийскую жару. Она была высокой шатенкой, с тёмными глазами, в которых сквозила дьявольская искорка; у неё были белоснежные зубы и очаровательная улыбка. Муж её был моложе – поговаривали, что на четыре или пять лет, – хотя временами он казался старше лет на десять. Он был крупным, тощим, серьёзным мужчиной, склонным к философии. Он мог часами молча сидеть с сигаретой в задумчивости и выглядеть при этом очень старым; но если заходил товарищ и нарушал его одиночество каким-нибудь бессмысленным добродушным замечанием о погоде или правительстве, то он мог подскочить в радостном приветствии с горящими голубыми глазами и в миг вновь помолодеть, превратившись в восторженного мальчишку. В таких случаях люди называли его красивым и про себя шептались: «Я удивляюсь, отчего он женился на Лолли?» И до поры это всем казалось удивительным, пока однажды некто не раскрыл причину. Она была очень проста и не совсем необычна. У Лолли были деньги; у Колонеля Эннсли их не было. Лолли часто принимала гостей и давала дорогие ужины и вечеринки в саду; её муж значил здесь чуть больше, чем приглашённый на них гость. Платил за всё не он – он бы не смог заплатить; и, хотя предполагалось, что он будет приветствовать прибывающих гостей, он выполнял этот свой долг с такой застенчивостью и нерешительностью, что миссис Эннсли часто отправляла его покурить, невозмутимо говоря с добродушной усмешкой: «Поистине, Клод, у тебя нет такта!» И, конечно, ему определённо не хватало этого качества. Для тощего, престарело-моложавого Колонеля лицемерие было невозможным – это притворство, будто он был богат, в то время как сам он знал, что был беден; изображать из себя мужественного и независимого человека, в то время как его жена всецело держала бразды правления в своих руках, редко упуская случай напомнить ему об этом. Конечно, он имел свои карманные деньги, но их приходилось скрупулёзно накапливать, ущемляя себя в одежде, табаке и прочем. Большая часть этой суммы уходила на ежегодный подарок жене на день рождения. В глубине души он был неплохим парнем, и всё же как только люди узнали, что его жена владела всем состоянием, а у него не было ничего, люди начали повсеместно его поносить. Сентиментальные молодые леди восклицали друг другу: «Какой ужасный человек! Женился на деньгах!» Матери бесприданниц извергали на него потоки яростного презрения и ворчали: «Бог мой! Представьте себе, что все мужчины были бы такими, как Колонель Эннсли!» Представители же его пола относились к нему более снисходительно. Бедные офицеры судили его по себе и с сочувствием говаривали: «Нельзя винить его в стремлении ухватить свой шанс. И с Лолли ему, должно быть, непросто, невзирая на всё её состояние».
Тем не менее они вынуждены были признавать, что «Лолли» обладала некоторым шармом. Она была чрезвычайно добродушного нрава, прекрасной хозяйкой, толковой управительницей, увлекательной собеседницей и обычно повсюду появлялась в женском обществе. Так что никто ни капли не удивился, когда стало известно, что миссис Клод Эннсли приняла решение с размахом принять на три или четыре дня Махараджа, принца из соседней провинции, известного своим богатством и неимоверным количеством драгоценностей. Он был молод и получил первоклассное английское образование в колледже, по слухам, представлял собой превосходный образец урождённого монарха, будучи поэтом на свой манер в стиле восточного символизма, и отличился публикацией прекрасно написанного трактата на языке хиндустани на тему последних астрономических открытий. Вот почему миссис Эннсли вознамерилась превратить его в светского льва. Она не стала советоваться с Колонелем по этому вопросу; его мнение веса не имело. Она во многом придерживалась веры в «новую» женщину, которая провозглашает мужчину либо грубияном, либо дураком. К первому классу она своего мужа не относила, будучи для этого слишком воспитанной и всепрощающей, но, по умолчанию и не проявляя открытой неучтивости, помещала его в круг последних. Таким образом, в её намерения «сделать деньги» на приёме богатенького Махараджа он – бедный Клод, как она называла его, – не был посвящён. Он был лишь искусственным манекеном и номинальным главой мероприятия. Дом, самое большое имение во всей округе и почти дворец, принадлежал ей; деньги тоже были её. Он не имел никакого отношения к ним, а был всего лишь её мужем. По этой причине, когда он встречал людей, говоривших: «Так значит, Махарадж приезжает к вам в дом?», он отстранённо отвечал: «Надеюсь» – без всякой уверенности в этом. Он то и дело возвращался к этой мысли, покуривая свой табак, который находил исключительно вкусным, поскольку заплатил за него сам, а не купил на деньги из кошелька его жены. И он даже не питал уверенности в том, что рад был этому приезду Махараджа. Он не слишком жаловал урождённых принцев, обладая всеми предрассудками драчливого британца, «рождённого для превосходства», и не питал любви к сорту людей, известному по описаниям некоторых поэтов как «смуглый, темноглазый житель востока». Смуглым и темноглазым жителем востока он ещё мог быть, но помимо этого он нередко бывал ещё и грязным. А «бедный Клод», имея весьма подвижные взгляды на все прочие вещи, очень часто принимал ванны. Вероятно, именно этому он обязан был своей чистой, красивой кожей, под которой кровь бежала по венам с такой стремительностью, что он часто краснел. Малейшее волнение приятного свойства заливало ярким румянцем его щёки и придавало им тот самый «здоровый цвет», за который некоторые красотки выкладывают столько денег в парфюмерных магазинах. Он и теперь вспыхнул при мысли о возможном приезде немытого Махараджа в дом. «Однако, – размышлял он, – у него ведь английское образование, и у неё кстати, – под „ней“ он разумел свою жену и хозяйку, – а я люблю тихую жизнь и лучше не вмешиваться. У неё есть полное право делать всё, что ей угодно со своими деньгами».
И он как всегда отдался на волю неизбежности. Ибо не было никаких сомнений в том, что Махарадж приезжает. Он принял приглашение и пользовался славой человека слова. Его трактат по астрономии доказывал это. Он сказал, что напишет этот трактат – и никто ему не верил, даже преподаватели в колледже. «Он слишком ленив, – заметил о нём один англичанин, который в течение четырёх лет был поглощён работой над написанием чрезвычайно ничтожного романа, который затем отослал в Лондон для публикации и который ни один издатель не принял. – Он никогда ничего не напишет. Я знаю этих местных ребят!» Но, невзирая на его предсказание, он это сделал и так хорошо, что трактат стал предметом живого интереса и восхищения в мировой научной среде. И этот самый трактат по современной астрономии как раз и был одной из причин, почему миссис Эннсли хотела ввести его в общество. Но не главная причина – ни в коем случае. Эта главная причина была совершенно человеческой, в особенности, женской: миссис Клод Эннсли желала произвести впечатление на всех соседей демонстрацией своего богатства, важности, влияния и вообще положения. И она выбрала именно это время, потому что.. Что ж, это «потому что» требует особенного пояснения, которое приведено ниже. Давным-давно, задолго до того как прекрасная Лаура Эгертон, ныне миссис Клод Эннсли, вышла замуж за Колонеля Клода Эннсли, когда ещё выступала бравой красавицей на лондонских приёмах, она завела серьёзное знакомство с девушкой несколькими годами младше неё – бледной, худенькой, опрятной, золотоволосой девушкой с серыми жалобными глазами на маленьком личике, похожими на звёзды, но слишком большими для своего положения. Это эльфийского вида создание произвело особенное впечатление на энергичную «Лолли», отчасти своей неземной внешностью, за которую её порой звали «La Belle Dame sans Merci» после душещипательной поэмы Китса, отчасти из-за её наивных и фантастических суждений о мужчинах. Имя её было Идрина, и преимущество его заключалось в необычности и очаровании тягучести произношения гласного звука.
Идрина любила говорить своим нежным, дрожащим голоском, что мужчина, согласно её представлениям о том человеке, которого она могла бы «любить, почитать и слушаться», должен быть героем, как нравственно, так и физически; что она рисует его себе как храброго и нежного, благородного и честного. Великое создание, взгляд на которого порождает уважение, преданность и обожание! Потерять свою собственную личность, растворившись в страсти к такому, пожертвовать всем ради достойного повелителя и властелина – стало бы величайшим счастьем, гордостью и славой для женщины! Когда она рассуждала таким образом, то всё её существо трепетало от воодушевления. И «Лолли», тогда бывшая в окружении пёстрого общества, могла слушать, как зачарованная, с сострадательной усмешкой, совершенно поражённая, гадая в душе, что же станется с этой самообольщающейся фантазиями маленькой девушкой, когда она узнает мир: когда мода и свободомыслие набросятся, подобно пьяным клоунам, на священную чистоту её девичьих фантазий и с дьявольским смехом и пошлостью сорвут розовую вуаль с её глаз и заставят её увидеть общество без прикрас, а мужчин – какими они есть. «Лолли» обычно не страдала сентиментальностью; и единственная действительно болезненная атака такого сорта приключилась с нею во время знакомства с этой странной маленькой Идриной.
А теперь Идрина была замужем уже чуть более трёх лет за капитаном ле Марше, чей полк был расквартирован в Индии, но в весьма мрачном месте, довольно далеко от «счастливой долины», где миссис Клод Эннсли содержала свой общественный эскорт; и так случилось, что две дамы больше не встречались после их честного замужества. Но теперь они должны были встретиться. Миссис Эннсли пригласила капитана и миссис ле Марше к себе, и через несколько дней капитан получил увольнительную на месяц, и приглашение было принято. Как раз после этого миссис Эннсли задалась целью заполучить Махараджа. «Это поразит супругов ле Марше», – было её первой мыслью. – «Это порадует богатое воображение Идрины», – было второй. Вероятно, если бы возможно было проследить эти мысли до самого корня, то там обнаружилась бы простая страсть покрасоваться перед старой подругой и доказать, что её положение жены не было безупречным. Ей было известно, что La Belle Dame sans Merci сделала не самую удачную партию в финансовом плане, и слышала (лишь по дружеским сплетням, конечно), что капитан ле Марше, хоть и был человеком славным, но имел скверную привычку напиваться до смерти при случае. Но едва ли она верила в это. «Если бы так, то Идрина, с её сказочными представлениями о мужчинах, никогда бы не вышла за него», – думала она. Хотя и допускала в душе, что было весьма вероятным, что Идрина, как и прочие женщины со сказочными представлениями, могла оказаться обманутой.
По этой причине миссис Клод Эннсли испытывала сильное любопытство и волнение в ожидании супругов ле Марше в тот день, когда они прибыли. А прибыли они за несколько дней до назначенной даты приезда Махараджа, и, ввиду старых дружеских симпатий миссис Клод Эннсли, было заметно, что она уделила гораздо больше внимания приготовлениям комнат для Идрины и её мужа, чем украшению тех царских покоев, лучших в её роскошной резиденции, которые предназначались Махараджу. Она была искренне рада видеть свою маленькую подругу прошлых дней и гадала, насколько изменил её брак: рассталась ли она с теми исключительными идеями, что когда-то выделяли её из круга обычных женщин.
«Её волосы были длинны, её ноги были легки, и глаза её были дикими!» – напевала миссис Эннсли себе под нос, перемещаясь из одной комнаты в другую, расставляя цветы там, зеркала тут и придавая всему окончательный налёт женской заботы, который наделял даже бездушную мебель чувством, придавал уют и гостеприимный вид. «Что она подумает обо всех нас, гадаю я?» Понятие «все мы» включало её саму и огромное количество слуг и гостей, женатых и холостых – «мальчиков», как она их называла. Жёны других мужчин не входили в эту категорию, равно как и Колонель Эннсли не входил в число «мальчиков». Фактически, он не принадлежал ни к одной особенной общественной роли; он не был в полной мере «мальчиком»; и, поскольку в некотором роде находился в зависимости от своей жены, то не был и в полной мере мужчиной. Это говоря об общественной позиции. И хотя в своём полку он и прослыл человеком надёжным, но коль скоро эта история не имела ничего общего с его полком и ни в коей мере не касалась его военной карьеры, то не было и причин останавливаться на мыслях о его полковых заслугах. Это были устаревшие идеи, весьма грубые и затёртые, так что вовсе не занимали миссис Эннсли, как часть существования Колонеля. Они итак были весьма широко известны и вспоминались ежедневно.
– Что она подумает обо всех нас? – повторила миссис Эннсли с улыбкой, бросая взгляд на свою нарядную фигуру, проходя мимо зеркала. – Она всегда была такой донкихотской, любопытно увидеть, какого мужа она себе выбрала.
Её любопытство было удовлетворено почти немедленно, поскольку, когда она вошла в свою гостиную, завершив финальный осмотр апартаментов для гостей, капитан и миссис ле Марше с их слугами, сумками и багажом как раз прибыли и ожидали немедленного донесения о себе.
– Моя дорогая Идрина! – воскликнула миссис Эннсли, быстро подходя, чтобы обнять маленькую, худенькую фигурку женщины, которая теперь входила в дверь. – Сколько лет прошло с нашей последней встречи! – И затем снова: – Моя дорогая Идрина!
Маленькая женщина улыбнулась довольно серьёзной и неоднозначной улыбкой.
– Приятно видеть тебя снова, Лаура, – сказала она тихим голосом. Затем добавила с намёком на некое смущение: – Позволь мне представить тебе своего мужа.
Высокий, тяжеловесный мужчина, с тоненькими усами, красивыми глазами и несколько красноватым лицом поклонился.
– Очарован видеть вас! – протянул он. – Давняя подруга моей жены – великолепно! Как любезно с вашей стороны было пригласить нас сюда!
– Уверяю, я счастлива принимать вас у себя! – страстно восклицала миссис Эннсли, желая поскорее покончить с первоначальным смущением от знакомства и нервно сознавая, что капитан ле Марше ей отчего-то резко не понравился. – Ты всё такая же милая! Положительно, моя дорогая, ты выглядишь совсем ребёнком; никто бы не догадался, что ты уже замужняя дама. Присядем и выпьем чайку, прежде чем вы отправитесь в свои комнаты. Клод! Клод!
Колонель Эннсли, одной из обязанностей которого было всегда находиться в зоне досягаемости при появлении гостей, вошёл в комнату с веранды.
– Это мой муж, – сказала миссис Эннсли с неожиданным приливом необычайной гордости, заметив, что «бедный Клод» выглядел исключительным красавцем на фоне ле Марше, – Колонель Эннсли, капитан ле Марше; а это, Клод, моя маленькая подруга юности – Идрина.
Колонель Эннсли кивнул не без некоторой грации. Одним острым взглядом он составил себе впечатление об этих супругах.
«Муж – довольно грубый, с бычьей шеей, – внутренне отметил он, – а его жена – несчастное создание!»
То были лишь его немые замечания; он привык скрывать свои чувства. Он присел рядом с миссис ле Марше, завязав с ней разговор, то и дело спрашивая её мужа о подробностях их поездки и прочих мелочах, чтобы вовлечь того в диалог. Неожиданно миссис Эннсли почувствовала благодарность к «бедному Клоду». Он упрощал то, что ей далось бы нелегко. Ведь она не только невзлюбила капитана ле Марше, но ещё и поразилась тому выражению, что хранило на себе лицо миссис ле Марше. Идрина всё ещё оставалась красивой с её копной золотистых волос и маленьким нежным личиком – она оставалась всё той же совершенной La Belle Dame sans Merci, но при этом теперь она стала La Belle Dame, странным образом оскорблённой и возмущённой. Молчаливая трагедия читалась в её огромных глубоких глазах; намёк на неё сквозил в гордом изгибе верхней губы; следы её читались на паре складок вокруг рта и на лбу. Одета она была со вкусом, хоть и просто. Она внимательно слушала разговор Колонеля Эннсли и отвечала на его вопросы с той вежливостью и изяществом, которые характерны представителям высшего общества; и после окончания чаепития она отправилась в сопровождении миссис Эннсли в свою комнату, оставив мужа покурить с хозяином на веранде. Оставшись наедине, две женщины пристально присмотрелись друг к другу. Затем миссис Эннсли порывисто заговорила:
– Идрина, ты несчастна?
– Мне жаль, что моё состояние столь очевидно, – сказала Идрина с бледной улыбкой, откладывая шляпу в сторону. – Конечно, я несчастна. Но это не имеет значения.
– Не имеет значения?
– Нет, с чего бы? Людям не свойственно быть счастливыми в этом мире. – Она села и, сложив ладони, подняла серьёзный взгляд. – Мечты гибнут, иллюзии умирают – жизнь никогда не бывает такой, как думаешь. Это случается с каждым, как случилось и со мной. Я не жалуюсь.
– Но ты ведь вышла замуж по любви, Идрина?
– Конечно да, – отвечала она. – Ты точно это изложила – по любви. Я хотела любви – я жаждала её, как, говорят, святые жаждут встречи с Богом. Когда столько слышишь и читаешь о любви в юности, знаешь, тогда начинаешь верить в неё. Я верила – как глупо с моей стороны было основывать свою веру на простых слухах. Ты тоже вышла замуж по любви?
Слабый румянец окрасил прекрасно сохранившуюся кожу миссис Эннсли.
– Нет, дорогая, – честно призналась она. – Я вышла замуж… ну, потому что настало время. Я уже приближалась к тому возрасту, который зовётся увяданием. Я хотела серьёзного и важного мужа. И Колонель Эннсли как раз таков.
– Ах! – и прямые брови Идрины нахмурились. – Что ж, а капитан ле Марше – не таков.
Миссис Эннсли вздрогнула. Так значит, слухи, которые доходили до неё через знакомых, были правдивыми.
– Моя дорогая, мне жаль, – начала она утешительным тоном.
– Не сожалей, – сказала Идрина, поднимаясь и начиная приводить в порядок волосы перед зеркалом. – И давай не будем об этом. Ты знаешь, какие фантазии у меня были? Так вот они мертвы, и с ними покончено. Я похоронила их, но порой размышляю над их могилой. Но ты всегда была благоразумной, никогда не заблуждалась, а моё горе произошло по вине лишь моего собственного незнания вещей. Теперь я знаю жизнь и вполне готова прожить её без лишних причитаний над неизбежным.
Она подняла узел ярких волос и уложила на место. Миссис Эннсли с удивлением смотрела на неё, и прежнее романтическое очарование этим хрупким созданием, которое происходило от её собственного материалистического нрава, возвратилось:
– Как ты хороша, Идрина! – проговорила она с искренним восхищением. – Как мила! Хоть ты и страдала, но выглядишь прекрасно!
– Я рада, – ответила миссис ле Марше с кратким смешком, в котором прозвучала горечь. – Ни одна женщина не хочет дурнеть – сознание собственного уродства почти заставляет терять самоуважение. Но, моя дорогая Лаура, – тут голос её смягчился, – ты всегда слишком много обо мне думала. Ты была красавицей в девичестве – не то что я.
– Нет, ты никогда не была красавицей, – задумчиво проговорила миссис Эннсли, – но ты была такой же, как и сейчас, – неземной. И, знаешь, не думаю, что мужчинам легко с неземными девушками. Антоний любил Клеопатру, и она была неземной, но среди современных мужчин не встретишь Марка Антония, хотя, я верю, что немного Клеопатр среди современных женщин ещё есть. Ты нечто вроде загадки, знаешь; и ты не можешь от этого уйти – ты такою родилась, а мужчины обычно с трудом разгадывают загадки.
Идрина улыбнулась весьма печально.
– Думаю, ты во мне ошибаешься, – отвечала она мягко, – я никакая не загадка. Я всего лишь слабая, влюблённая женщина, чьи лучшие чувства были убиты, словно листья жестоким морозом. В моей природе никогда не было никакой тайны, и если тебе сейчас показалась какая-то тайна, то лишь потому, что я пытаюсь спрятать в себе секрет разочарования в жизни и свою печаль. Если сердце моё разбито, то миру не нужно об этом знать. И ты мне в этом поможешь, правда? – добавила она с каким-то трепетными нетерпением. – Ты не позволишь никому догадаться о пороке… моего мужа. Нужно всегда сохранять лицо, и нет причин для разглашения домашних неурядиц на радость жестокому обществу. Пока мы здесь, ты, как хозяйка, можешь столько для меня сделать; в твоём гостеприимстве ты не станешь, я уверена, подталкивать капитана ле Марше к его страсти.
Она замолчала, и её самообладание слегка пошатнулось. Миссис Эннсли заметила слёзы на её глазах, и ей самой неприятно защекотало горло.
– Конечно же нет, дорогая моя, – поспешно сказала она. – Но я должна сообщить Клоду. Иначе, видишь ли, он предложит ему вина или ещё чего-нибудь. Он очень радушен и думает, что каждый порядочный мужчина знает, когда ему уже достаточно… – тут она замолчала, припоминая, что «бедный Клод» и сам был одним из этих порядочных мужчин.
«Он и вправду замечательный человек, – подумала она с самым искренним и несколько необычным чувством раскаяния. – Теперь я начинаю понимать, что он поистине один из самых замечательных мужей». Вслух же она сказала:
– Ты ведь согласишься со мною, не правда ли, Идрина, в том что лучше всего предупредить Клода?
Огромные грустные глаза миссис ле Марше, казалось, затуманились мыслями о будущем.
– Да, так будет лучше всего, – ответила она наконец. – Кроме того, твой муж – прекрасный человек, и естественно, что у тебя не должно быть никаких секретов от него.
Миссис Эннсли слегка поморщилась и вспыхнула. Дела обстояли не совсем так, как Идрина полагала. Но неважно! Идрина всегда была мечтательницей. Она промолчала, и тогда миссис ле Марше снова заговорила:
– Одной вещи я тебе не сказала. У меня был ребёнок.
– У тебя был ребёнок, Идрина! – и миссис Эннсли раскрыла глаза, ощутив укол зависти в душе, поскольку в этом отношении судьба не была к ней столь же благосклонна. – Когда?
– О, примерно два года назад. – И благородное лицо La Belle Dame sans Merci побледнело и стало ещё печальнее. – Это был замечательный крошечный ребёнок, и я всегда думаю, что он любил меня, хоть и был так мал. Он умер, когда ему было три месяца.
– Моя бедная, – воскликнула миссис Эннсли, обнимая свою молодую подругу за талию. – Какое несчастье! Какое горе!
– Нет, это была радость, – спокойно сказала Идрина. – Я много раз благодарила Бога за смерть моего малыша. Если бы он жил, – тут она содрогнулась, – то мог бы вырасти похожим на своего отца!
Явный ужас в её голосе породил весьма неприятный холодок в крови её слушательницы. Это прозвучало ужасно! Идрина пугала её, разговор был чудовищным! Его следовало прекратить. Миссис Эннсли, неизменно практичная натура, внезапно перехватила инициативу:
– Моя дорогая девочка, ради бога, давай не будем углубляться в столь печальные темы, – сказала она поспешно, и общественная маска «Лолли» начала сиять в каждой черте её всё ещё красивого лица. – Ты не должна думать о проблемах, пока гостишь у меня. Ты здесь ради небольшой смены обстановки и веселья, и я постараюсь, чтобы ты насладилась этим временем. Мы управимся с капитаном ле Марше – не нужно пугать себя. Просто переоденься теперь в симпатичное платье, какое тебе понравится; несколько приятных молодых людей приедут к вечеру, и я хочу представить тебя им. А сейчас мне нужно бежать, чтобы переодеться самой. Ты долго?
– Нет, – вежливо отвечала миссис ле Марше, – я не долго.
Миссис Эннсли обернулась на пороге с радостным видом:
– Ах да, забыла сказать, что у нас будет удивительный урождённый принц Махарадж, чрезвычайно образованный. Он прекрасно говорит по-английски, и носит такие – о, дорогая моя! – такие бриллианты! Мы устраиваем роскошный приём в его честь и танцевальный бал. Уверена, тебе очень понравится.
Она кивнула и выскочила наружу, встретив капитана ле Марше по пути. Он шёл в свою комнату, чтобы переодеться к ужину, в сопровождении Колонеля Эннсли.
– Клод, – проворковала она слащавым голосом, – когда покажешь капитану ле Марше его комнату, зайдёшь ко мне? Я хочу поговорить.
Колонель возвратил ей кивок и позже вошёл в гостиную, где его ждала жена.
– Клод, – начала она нерешительно, – я должна сказать тебе нечто ужасное. Капитан ле Марше пьёт!
– Он и выглядит так же, – кратко ответил Колонель и стоял в ожидании дальнейших новостей.
– О, Клод! – невпопад воскликнула «Лолли». – Но я никогда не видела тебя пьяным!
Колонель Эннсли смотрел на неё.
– Конечно нет! Зачем мне это?
– Я не знаю. – И миссис Эннсли подняла глаза, а затем нервно опустила взгляд и наконец, собрав всю свою самую женскую благодарность, добавила: – Я просто очень рада и горжусь, Клод, что это так!
Высокий Колонель вспыхнул и показался чрезвычайно молодым. Незнакомец при виде него сказал бы, что он явно устыдился, быть может, так и было, но он ничего не ответил, а лишь неясно улыбнулся.
– Клод, – продолжила миссис Эннсли, – ты должен постараться удержать этого человека в трезвости! Представь, если он закатит сцену Идрине! Да ещё здесь и перед людьми!
– Он закатывает ей сцены? – спросил Колонель.
– Ну, она не так уж много мне рассказала, но я полагаю, что да. Так или иначе, держи вино и алкоголь подальше от него, потому что, видишь ли, он не знает меры.
– Животное! – пробормотал сквозь зубы Клод.
Его жена почти со смирением посмотрела на него.
– Да, так и есть. Бедная Идрина!
Колонель ничего не ответил на это выражение чувств. Он поигрывал маленькой пулей, что была приделана для красоты к его цепочке для часов (пуля эта имела историю), и казался совершенно безучастным.
– Ты понял, Клод, правда? – продолжала его жена. – Ты хозяин и не должен подвергать его подобным искушениям. Не позволяй ему опозориться.
Колонель, казалось, был в замешательстве.
– Я постараюсь, – сказал он кратко и повернулся на каблуках, собираясь уйти.
– Клод! – нежно позвала его жена.
Он послушно вернулся.
– У тебя для ужина нет цветка в петлице, – сказала она с маленьким смешком. – Позволь мне дать тебе его.
Она взяла небольшой ароматный расцвет из вазы и прикрепила к его груди. Под его бледной кожей кровь стремительно потемнела, и румянец залил его лицо до самых корней каштановых волос. Он внезапно покраснел и снова помолодел на глазах. Новое невероятное ощущение своей значимости и наличия сочувствия к своей персоне охватило его, но он молчал, слишком удивлённый, чтобы говорить.
– Ну вот! – сказала миссис Эннсли с кокетливым взглядом, закончив украшать мужа. – Теперь ты делаешь мне честь!
От удивления у него перехватило дыхание. Он нервно кашлянул.
– Я? – попытался он выговорить наконец. – Я… эээ… спасибо! – И вышел вон в невероятном удивлении. Она тем временем усмехнулась и поругала себя за этот позволенный своего рода флирт с собственным мужем.
– Бедный Клод! – пробормотала она, повторяя свою излюбленную фразу, ставшую уже избитой. – Но он действительно джентльмен!
Ужин этим вечером прошёл успешно. Капитан ле Марше вёл себя самым приличным образом и, так или иначе, создал о себе впечатление поистине «очаровательного» человека. Даже миссис Эннсли решила, что он не так уж плох, в конце концов, и что, вероятно, Идрина, которая вечно воображает, неосознанно преувеличила его недостаток. Колонель сидел и слушал его, как добрый хозяин с вежливым и почти искренним вниманием. Джентльмены, которые обычно добавляли изысканности и блеска их столу, были главным образом молодые младшие офицеры, открытые почитатели, дарившие цветы миссис Эннсли, которая поочерёдно льстила им, смеялась над ними, презирала, насмехалась и доводила до отчаяния, когда её настроению это соответствовало; однако в этот особенный раз «мальчики» оказались довольно неуклюжими и застенчивыми в присутствии прелестной миссис ле Марше. Идрина, одетая в белоснежное платье с её золотыми волосами, завязанными в греческий узел, и с её нежно-печальными глазами была прекрасна. Она мало говорила, а всё больше смотрела. Она была лишь маленькой женщиной, но для удивлённых офицеров она представлялась невероятной! Они нашли её, как миссис Энссли сказала, «неописуемой» и толком не знали, как с ней общаться. Сам её муж, казалось, слегка трепетал перед нею. Мнение Колонеля Эннсли о ней было не новым. Его первая мысль – «несчастное создание»! – прочно закрепилась в его сознании. Для всей компании стало облегчением заговорить о приезде Махараджа. Что он будет делать, и что они будут делать, составляло неисчерпаемую тему для разговоров. «Мальчики» молчаливо отметили, что и Колонель, и миссис Эннсли не слишком обильно выставляли вина за ужином и что выпивка подавалась в довольно скудных объёмах. Но они были снисходительными «мальчиками» и заключили, что у «Лолли» кончались припасы и она рассчитывала на свежий привоз. Так что тот вечер прошёл приятно, без всяких помех, и капитан ле Марше не выказал ни намёка на стремление продемонстрировать свою страсть.
Миновало несколько дней в приятном спокойствии. Колонель Эннсли, хоть и не спускал глаз со своего гостя, начал сам думать, что проблема была преувеличена. Не считая некоторой мрачности поведения, капитал ле Марше ничем не отличался от любого солдата. Он не был умён и в разговоре проявлял порой грубость, но в целом он демонстрировал сносное и воспитанное поведение. Это был великолепный атлет и ярый спортсмен, и эти качества создавали ему популярность в мужском кругу. Идрина стала выглядеть счастливее; часть печали покинула её взгляд, оставив свет надежды вместо себя, чему миссис Эннсли искренне порадовалась.
И вот, наконец, приехал Махарадж. Он явился в шикарном костюме и показал себя выдающимся представителем Восточного человека. В первую очередь, он был восхитительно красив; во-вторых, исключительно воспитан. Учтивость, но не заискивание выдавали его достоинство; он с немногочисленным багажом – немногочисленным, чтобы не злоупотреблять гостеприимством миссис Эннсли, – занял ту часть дома, что была подготовлена специально для него. Все особенности его касты были учтены, и он выказал благодарность за внимательное отношение к себе, показав себя, как уже окрестили его сплетни, блестящим и одарённым человеком, остроумия чьих речей нельзя было не отметить. При первом же появлении он остановил взгляд своих ярких тёмных глаз на прекрасной и одухотворённой красоте миссис ле Марше и в самое краткое время пал тайной жертвой её бессознательного огромного очарования. Для неё он старался выглядеть наилучшим образом; чтобы заинтересовать её, он говорил о своих долгих ночных дежурствах на украшенных гирляндами цветов плоских крышах своего дворца, где стоял, устремлённый к звёздам, его огромный телескоп; ей он рассказывал странные восточные легенды, мифы и сказки об Индии древних времён; чтобы глаза её заблестели и нежные губы раздвинулись от удивления, он рассказывал головокружительные истории о спасении от зубов диких животных и об удивительных приключениях в джунглях. И прочие гости тоже потрясённо внимали ему, но не только из-за привлекательности его личности, а ещё и благодаря бесценным драгоценностям, что сверкали на его груди, чистейшим бриллиантам, подобным капле росы, и опалам, сверкавшим таинственным мимолётным светом застывшей пены. Вокруг себя он создал некоторый суверенитет, который так ему шёл и который сдерживал в узде модную вульгарность торопливости. Он был элегантен, мудр, остроумен и добр и отчётливо доказал своим поведением, что нет никакой необходимости подтрунивать или употреблять жаргонные слова, чтобы считаться умным. Некоторым англичанам преподал неплохой урок воспитания этот Махарадж; и пара человек из самых дальновидных нервно размышляли над тем, что бы сталось с Индией, если бы университетское образование было доступно большинству таких вот «коренных жителей», как он. Его приезд в поселение имел несомненный успех; больше ни о чём и не говорили тогда, и миссис Клод Эннсли вновь прославилась и добавила ещё очко пользу своих многочисленных общественных успехов. Тем временем, говоря по правде, сам Махарадж испытывал страшные муки. Ему с трудом удавалось поддерживать свои прекрасные манеры, свободный разговор, непринуждённость и напускное спокойствие, прикрывавшее страсть и неистовство, подобные инстинктам тигрицы. Поскольку La Belle Dame sans Merci полностью захватила власть над ним. Странная, едва заметная истома во взгляде её огромных печальных глаз, изящная эльфийская красота быстродействующим ядом просочились в его восточную кровь и разожгли её огнём. Каким-то образом – он и сам не знал каким – она была абсолютно недоступна для него, подобно тем звёздам, которые он изучал жаркими летними ночами. Тем не менее он полюбил её со всем отчаянным неистовством, которое сводило его с ума. Приближение к ней бросало его в дрожь; блуждающие, неосознанные, полузадумчивые взгляды, которые она бросала на него, заставляли сердце его биться до того сильно, что выступали слёзы и начиналось удушье. Однажды, когда она случайно обронила цветок, что был у неё на груди, он потихоньку и незаметно поднял его и думал, что сойдёт с ума от счастья, целуя его лепестки. И всё же он молчал, сдерживая свой пыл; ни намёка на его страсть не выказал он ни двусмысленным взглядом, ни дрожью в голосе, ибо он был смел. Он получил свою смертельную пулю, как он думал про себя, но никто не должен был видеть раны. И он играл свою роль, как и любой мужественный человек должен это делать, час за часом героически переживая свою агонию, пока не настал последний день его пребывания в доме, день, на который у миссис Эннсли был назначен грандиозный бал.
Это мероприятие должно было стать кульминацией праздника и превзойти всё, что когда-либо происходило в этой местности. Для танцев был возведён роскошный павильон, украшения поражали глаз, всё было великолепно, и миссис Эннсли и сама была довольна. Она и в самом деле находилась в состоянии благодарности ко всем – она даже была благодарна своему мужу. Она инстинктивно ощущала, что это благодаря его незаметной опеке капитан ле Марше не поддавался своему пороку и всегда сохранял достоинство джентльмена и офицера, достойного служить Королеве.
Вечером, прямо перед началом бала, был устроен грандиозный ужин, на который Махарадж не явился. Через полуоткрытую дверь своих апартаментов он видел, как Идрина спустилась по ступеням, одетая к ужину и балу, и, тайком наблюдая за нею, он почувствовал, как сердце его тяжело упало в груди. Что значил закон, или кастовые обычаи, или вообще что-либо в мире в сравнении со страстным желанием обладать этой эфирной маленькой женщиной, одетой в летящие белые одежды, с золотыми волосами, уложенными на шее и странным алым цветком на груди! Он смотрел ей вслед, затем, слегка выглянув наружу, он закрыл дверь и уронил лицо на ладони, устыдившись тех слёз, что прорвались сквозь ресницы. «Расовые отличия, различия в вере, различия в законе, – бормотал он, – всё это разделяет мужчину и женщину сильнее, чем Бог или природа!»
Вечером, когда около двадцати человек собралось за ужином у миссис Клод Эннсли, естественно, ограничений в количестве подаваемого вина быть не могло. Колонель внимательно следил за капитаном ле Марше и оценивал его состояние, как умеренно пьяное, но в пределах нормы. Прежде чем был подан десерт, дамы вышли в танцевальный павильон, и миссис Эннсли настояла на том, чтобы её муж сопровождал их, чтобы помогать ей встречать приезжающих гостей. Махарадж, весь в умопомрачительных бриллиантах и золоте, вошёл в сопровождении слуг и занял место на позолоченном кресле, установленном на помосте под балдахином для удобства специального гостя.
Музыка заиграла, и начались танцы. При первых же звуках все остальные лентяи встали из-за стола и вошли в павильон, среди них был и капитан ле Марше. Колонель Эннсли, занятый помощью своей жене, бросил на него взгляд, решив, что всё в порядке, и больше на него смотрел. Капитан немного поблуждал бесцельно по залу, заговорил с парой человек и затем вышел из бального павильона, никем не замеченным. Танцы были уже в полном разгаре, и приятное, стремительное движение и веселье быстро достигало своего пика. Махарадж сидел на своём троне в стороне, и сверкающие бриллианты составляли яркий контраст с его смуглым и довольно серьёзным лицом, он был полностью сосредоточен на танцевавшей миссис ле Марше. Его яркие, томные глаза следовали за ней повсюду, пока она витала из стороны в сторону и по кругу с различными партнёрами, и плотный узел её золотых волос сиял на её голове, и алый цветок пламенел на груди.
И пока она танцевала, он спустился со своего трона и встал неподалёку, чтобы понаблюдать за ней с более близкого расстояния и также в надеже на то, что её белоснежное платье вдруг коснётся его в серебристом порыве, ведь он не мог позволить себе упустить ни единого шанса на соприкосновение с нею. И вот он заметил одного младшего офицера, который быстро приблизился к ней и что-то проговорил тихим голосом. Она сильно побледнела, затем, собравшись с силами, улыбнулась слабо, пробормотала какие-то извинения своему партнёру и поспешила прочь. Следуя некоему инстинкту и не заботясь о том, что могут подумать другие, Махарадж последовал за ней. Он обладал мягкой поступью пантеры или кота, так что его преследования никто не заметил. Она вышла из танцевального павильона и прошла длинный, украшенный гирляндами цветов коридор, который соединял его с домом, младший офицер шёл с ней, и вместе они вошли в обеденную миссис Эннсли. Там, за полуубранным обеденным столом, уставившись перед собою в каком-то оцепенении, сидел капитан ле Марше с одной пустой бутылкой бренди перед собой и со второй, уже наполовину выпитой. Махарадж замер за дверью – его так никто и не заметил.
Миссис ле Марше приблизилась к столу и положила свою маленькую ручку в белой перчатке на плечо мужа.
– Ричард! – проговорила она дрожащим голосом. – Ричард, не смотри так. Давай пойдём наверх или куда-нибудь.
Она замолчала, и младший офицер, несколько растерянный, попытался помочь. Он положил свою твёрдую, молодую руку на недостойный мешок перед собой и весело сказал: – Хелло! Капитан! Вставайте! Нельзя тут спать, будут накрывать к ужину! Вставай, дружище!
Мешок пошевелился и поднялся. Красное лицо показалось над помятой вечерней рубашкой; два налитых кровью глаза медленно распахнулись, и в этом индивидууме проглянул офицер и джентльмен, угрожающе зашевеливший руками.
– Ричард! – снова зашептала его жена. – Идём наверх! Ты не в себе, ты знаешь. Просто пойдём наверх, и ты ляжешь в постель. Ричард, идём же!
Он тупо поглядел на неё и рассмеялся. Она умоляюще коснулась его плеча:
– Ричард! Не позволяй Эннсли видеть тебя таким!
Неожиданно выругавшись, он встрепенулся всем телом, сложив огромный кулак, и ударил свою жену прямо в лицо – чудовищный удар поверг её на пол без чувств. В один миг Махарадж подскочил к нему и схватил за горло, швырнул на пол и прижал коленом, не разжимая своих смуглых гибких пальцев на бычьей шее в таком умелом захвате, что младший офицер, стоявший в ужасе и смущении, рванулся в бальную залу за Колонелем и поспешно привёл его, объяснив всё в нескольких словах. Колонель показал себя человеком действия. Бросившись к Махараджу, он оттащил его от распростёртой фигуры ле Марше.
– Вы не видите, что он пьян? – закричал он. – Нельзя драться с тем, кто не может защищаться. Вы же не трус и не убийца, оставьте его! – Затем, увидев миссис ле Марше, лежавшую без сознания, он обратился к бледному младшему офицеру. – Позовите миссис Эннсли.
Махарадж стоял молча и едва дыша, с опущенными руками и горящим взглядом. Капитан ле Марше с отчаянным кряхтением пытался подняться с земли. Колонель поглядел на прямую, гордую фигуру индийского вельможи таким взглядом, в котором военный человек распознал бы немалую долю уважения.
– Ваше величество – мой гость, – сказал он спокойно. – И я должен извиниться за то, что так грубо наложил руки на вас. Но вы не можете ссориться с пьяницей; это категорически невозможно.
– Он убил свою жену! – яростно вскричал Махарадж.
– Не думаю, но даже если это так, то это не дело вашего величества. У вас нет права защищать английскую даму от ударов даже её собственного законного мужа. Простите! Вы, как и я, подчиняетесь Королеве; эти вещи вам известны без дальнейших объяснений.
Махарадж на секунду замер в молчании и неподвижности, затем, отдав лёгкий, высокомерный поклон, он вышел из комнаты. По пути он обернулся один раз, и целый мир горящей агонии отразился в его страстном взгляде. Миссис Эннсли спешно вбежала внутрь и с сочувствием поднимала свою подругу Идрину с пола, и всё, что он успел заметить, было её бледное лицо и алый цветок.
Об этом деле вскоре пронюхали, балл в тот вечер окончился поспешно и самым ужасным образом. Идрину отнесли в её комнату без сознания; капитану ле Марше отвели комнату на другой стороне дома, где он мог ругаться, сколько душе угодно, и допивать свой бренди. Утро застало всех так или иначе встревоженными и обеспокоенными. Это был день отъезда Махараджа, чему Колонель Эннсли был в тайне рад, хоть «Лолли» и находилась в отчаянии, что его визит имел такое чудовищное завершение. Капитан ле Марше пробудился трезвым и разъярённым. На него напал «индийский зверь», как он сказал, и он собирался вытрясти из него всю «грязную душонку». Так он ещё продолжал бормотать, когда Колонель Эннсли вошёл в комнату.
– Капитан ле Марше, ваша жена очень больна.
Капитан ле Марше прорычал нечто неразбочивое.
– Вы вели себя непристойно прошлой ночью, – продолжал Колонель. – Я рад, что вы не состоите в моём полку. Как солдату мне стыдно за вас; как джентльмен я нахожу ваше общество невыносимым. Вы, английский офицер, ударили свою жену! Бог мой! Что за трусливый жест! И какое унижение для всех нас в том, что Махарадж стал свидетелем всего этого! Хорошее же впечатление вы создали о нашем обществе! Он чуть вас не убил, кстати; счастье, что я вошёл в этот момент, иначе он бы так и сделал. Сегодня утром он уезжает и попросил меня сказать вам, что желает видеть вас до отъезда.
– Я не стану потакать его желаниям, – возразил ле Марше. – К чёрту его!
– К чёрту вас, если вы не примете его! – с неожиданным пылом вскричал Колонель. – Если вы откажетесь, то все решат, что вы испугались! Ни один английский офицер больше не подаст мне руки!
Капитан ле Марше поднял глаза, затем опустил, слегка растерявшись, и потянул свой длинный ус.
– Очень хорошо! – пробурчал он в ответ. – Где он?
– В его комнатах и он один, – отвечал Колонель многозначительно. – Я также могу сказать, что он хочет извиниться.
– О! – и ле Марше рассмеялся. – Это полностью меняет дело. Весьма забавно будет посмотреть на него униженного! Я пойду немедленно.
И он вышел прогулочным шагом, беспечно насвистывая.
– Хам! – прокомментировал про себя Колонель Эннсли. – Несчастная Идрина с её идеалами! А вот у Лауры нет никаких идеалов, как она говорит, и при этом ей удалось выйти за меня.
Эта идея была его излюбленной темой для размышления, и он вышел покурить и подумать об этом. Тем временем капитан ле Марше постучал в дверь комнаты Махараджа.
Слуга его впустил и без единого слова провёл в маленькую внутреннюю спальню, где у распахнутого окна, глядя на прекрасный сад внизу, сидел сам Махарадж. Отпустив слугу жестом, он повернул голову к ле Марше в знак того, что знает о его присутствии, но никак его не приветствовал и не поднялся навстречу. И теперь, впервые со времени ночного пьяного дебоша, капитан начал испытывать стыд за себя. Обеспокоенный и смущённый, он чувствовал абсолютную неспособность сохранять достоинство или демонстрировать весёлый вид, как вначале рассчитывал. Он поискал глазами стул, чтобы сесть, но в комнате не было ни одного, не считая того, который занимал Махарадж. И спокойное королевское достоинство поведения Махараджа, ужасным образом застывший взгляд его глаз, который оценивал его с затаённой ненавистью, презрением, упрёком и удивлением уже превращались в настоящее испытание для перевозбуждённых нервов этого «офицера и джентльмена». Он неловко переступал с ноги на ногу и изучал узор на полу, находя воздух намного более жарким, чем обычно. Вероятно, минуты две прошли таким образом, в неуютном молчании, а затем Махарадж заговорил:
– Капитан ле Марше, – сказал он тихим, но очень отчётливым тоном. – Мне жаль, что я набросился на вас прошлой ночью, когда вы были не в состоянии защищаться. Люди моего положения и касты не пьют, поэтому мы обычно не способны оценить степень опьянения других. Я понимаю, что был неправ. Поэтому я извиняюсь.
Капитал ле Марше облизнул пересохшие губы и слегка кивнул. Махарадж продолжил всё тем же голосом.
– Вы потребуете дальнейшего удовлетворения или принимаете мои извинения?
Капитан поднял голову и попытался напустить на себя великодушный вид, но ему удалось лишь стать ещё глупее. Он кашлянул и потеребил один ус.
– Я принимаю, – сказал он хриплым и неуверенным голосом.
Горящий взгляд Махараджа прожёг его, как молния, и слабая, презрительная улыбка окрасила его гордый рот.
– Хочу, чтобы вы меня верно поняли, капитан ле Марше, – продолжил он. – Если бы я мог сразиться с вами сейчас, когда вы можете защищаться, врукопашную, как мужчина с мужчиной, я бы так и сделал! Я готов прямо сейчас! Это доставило бы мне огромное удовольствие! – Его смуглые руки сжались, грудь раздулась. Тут он продолжил: – Но я не могу. Дама, чью честь я стал бы защищать, чья печаль вызывает во мне бурю возмущения, ваша жена; вы можете делать с ней что вам угодно – таков ваш закон. Я, по крайне мере, не имею права защищать её!
Дрожащий вздох сорвался с его губ. Ле Марше смотрел на него с удивлением. Новое озарение вклинилось в его разум – внезапная догадка, которая тронула его грубую и легкомысленную натуру чувством злобной радости. И теперь в своём воодушевлении Махарадж поднялся, яростно сжав обеими руками спинку своего резного кресла из слоновой кости.
– Если бы я мог купить вашу жену у вас, – сказал он своим красивым голосом, дрожавшим от страсти, – и спасти её от следующего подобного надругательства, каковому я стал свидетелем прошлой ночью, я бы отдал вам половину своего имения! Если бы я мог выкрасть её у вас без позора для себя и для неё, то проявил бы в достаточную «нецивилизованность» для этого! Конечно, вы понимаете, что всё это значит, и можете презирать меня, если вам угодно. Я бессилен вас остановить. Мы побеждённая раса, и вы, англичане, презираете нас. Не стану говорить, что мы не заслуживаем вашего презрения, мы ведь сами позволяли держать себя под гнётом злых традиций и варварских предрассудков в течение бесчисленных лет, и мы никогда по-настоящему не ведали собственной интеллектуальной мощи. Быть может, однажды мы её поймём, кто знает. Вы великая нация, но люди, подобные вам, позорят её. Вы покупаете наших индийских женщин, но презираете и унижаете собственных. Этого я понять не могу. Но я напрасно трачу слова. Я принёс вам свои извинения, которые вы приняли; так что для полной ясности я попрошу вас об одном одолжении, прежде чем мы расстанемся навсегда: дайте мне слово мужчины, что вчерашняя сцена никогда не повторится; что вы будете заботиться о своей жене со всей нежностью, какой она заслуживает, и никогда не подадите ей повода для того, чтобы жалеть о её замужестве. У меня нет права просить вас, знаю, но хоть на миг забудьте о разнице в национальности и религиях и как мужчина мужчине перед лицом Всевышнего дайте мне ваше слово!
Он говорил красноречиво и со страстью и, когда закончил, протянул руки в просительном жесте. Но капитан ле Марше уже снова стал самим собой. Он полностью оценил ситуацию и ощутил себя хозяином положения. Он опустил руки и прямо поглядел на Махараджа.
– Ваша просьба самого невероятного сорта, – сказала он холодно и со злобным взглядом. – Я ничего не могу пообещать такому типу, как вы!
Махарадж сделал один шаг ему навстречу.
– Вы христианин? – спросил он.
Ле Марше утвердительно кивнул.
– Мне часто говорили, что Христианство – истинная вера, – сказал Махарадж пугающе медленно, – очень добрая вера. У меня тоже есть вера – не Христианская. Но в моей вере есть клятвы, которые связывают. А ваша вера вас ничем не связывает?
Капитан высокомерно улыбнулся и стряхнул пыль со своего пальто.
– Ничем! – ответил он.
Издав сдавленный крик возмущения, Махарадж внезапно выхватил кинжал из-за пояса. Высоко подняв его вверх, он сделал один тигриный прыжок вперёд; затем, так же быстро, отступил назад и швырнул сверкающее оружие на пол. Бледный и едва дыша, он смотрел горящим взглядом на напуганного капитана, который при виде угрожающей острой стали отпрянул, и повелительно указал на дверь:
– Убирайтесь! – сказал он.
И без единого слова и взгляда ле Марше ушёл.
Через два часа Махарадж со своим эскортом уехал, учтиво распрощавшись с Колонелем и миссис Эннсли и многократно поблагодарив за оказанное гостеприимство. Никакого особенного сообщения индийский принц не оставил для миссис ле Марше, не считая формального сожаления о том, что ей всё ещё не здоровилось. Ничего двусмысленного не было сказано, и общество, которое вращалось вокруг блистательной «Лолли», быстро разъехалось по домам, чтобы посудачить о событиях прошлого вечера в обычной своей манере, выдвигая крайне неверные предположения и приходя к совершенно ошибочным выводам. Все сплетни, однако, единогласно умолкали при виде самой «Лолли», которая была крайне молчалива и, что самое удивительное, внезапно полюбила своего мужа Колонеля.
В ту же ночь на сияющей плоской крыше его дворца, на крыше, которая походила на открытую террасу, обставленную вьющимися растениями и цветами в стиле висячих садов древнего Вавилона, Махарадж сидел в одиночестве. Над ним плотная синева неба изогнулась аркой, как купол, пробитый насквозь золотым огненным шаром индийской луны, что медленно плыла своим курсом, неспешным, размеренным шагом навевая сладострастную праздность и сонливость. Рядом с ним огромный телескоп стоял – человеческий вопросительный глазок в неизведанные миры; но он не обращался к любимому товарищу своих исследований, как обыкновенно бывало по ночам. Он беспокойно сидел на низком кресле, круглая спинка которого имела искусную резьбу и была обита бирюзой, на которой то и дело искрились лунные лучи зеленовато-белой рябью.
Его занятием было лишь спокойное размышление; глаза его мечтательно наблюдали за торжественной прелестью полуночных небес. Алмазная застёжка на его тюрбане горела в свете луны, как случайная звезда, упавшая с небес, равно как и бесценный рубин, вставленный в кольцо на его руке, тепло горел кровавым оттенком. Он пребывал в глубокой задумчивости, и мысли его были о любви, но разительно отличались от мыслей обычных людей на эту тему.
– Не буду обманывать себя, – сказал он вслух. – Это грех и это слава. Грех – любить ту, которую любить нельзя, но только если я продолжу жить дальше и брошу тень своего греховного существования на неё; но это и слава, если я умру и вместе со мной погибнут все эти запретные страсти. Он – её муж – догадался и, скорее всего, не расскажет ей о моей глупости. Я прочёл это на его жестоком лице. Она, с её добротой, будет горевать, быть может, она даже обидится, – и заслуженно – если узнает, что я посмел любить её и продолжаю жить. Своей страстью и этой лихорадкой в крови я оскорбляю её одним своим существованием. Кроме того, любовь – это жизнь; а без любви жизнь мертва. Так что мне следует покинуть этот мир; я узнаю о других мирах. Любовь – это тайна, которую может объяснить лишь Бог. В одном только я уверен: если человек полюбил однажды, то эта любовь навеки. Ни традиции, ни закон, ни религия не могут управлять этой любовью, ничто её не утешит, ничто не изменит, ничто не угасит огня, разгоревшегося вот здесь, – и он приложил одну руку к сердцу, – кроме полного обладания возлюбленной.
Он поднял взгляд на яркую луну и звёзды.
– Неизведанные миры, загадочная вселенная, тайны бытия! – пробормотал он. – Несомненно, что-то должно быть там, обещая большее. Должно быть что-то за этой вуалью, где духи встречают людей без страха! Там должна быть любовь, там должен быть мир! Боже! Помоги мне найти их в неизведанных глубинах жизни!
Сидя всё в том же положении, он медленно поднял правую руку и задумчиво поглядел на рубиновое кольцо, которое горело на ней; затем он легко положил великолепный драгоценный камень на язык, аккуратно пробуя его, словно человек, который впервые дегустирует некое редкостное и изысканное кушанье. Прошла минута, и руки его безвольно опустились. Рубиновый центр кольца был открыт, а внутри него темнела маленькая выемка, которая теперь была пуста.
Прошёл час, а Махарадж не шевелился. Очевидно, он уснул, и спокойная улыбка покоилась на его лице. Его можно было принять за бронзовую скульптуру, настолько неподвижен он был. Луна исчезла из виду, и бледный розоватый огонь рассвета начал мягко окрашивать горизонт. Великолепные ароматы распространяли тысячи цветов и кустарников, которые росли в сказочных садах вокруг дворца, и вот настало утро, личный слуга Махараджа явился, как обычно, чтобы принести хозяину завтрак и получить дневные распоряжения. Он бесшумно подошёл и с удивлением во взгляде, которое тут же превратилось в страх, посмотрел на своего господина. Он прикоснулся к его одежде – ни единого ответного движения не было заметно во всей его неподвижной фигуре, таинственной в своём величественном положении; он позвал его, сначала тихо, затем громче – ответа не было. Опустившись на колени он схватил безвольную правую руку и увидел рубиновое кольцо с открытым тайником – кольцо это, как знал он один из всего дома, содержало в себе один из самых смертоносных и быстродействующих восточных ядов. С ужасным криком он подпрыгнул и дико огляделся по сторонам, затем, поняв, что помочь уже ничем нельзя, он упал к ногам хозяина и отчаянно зарыдал, скрывая лицо ладонях.
Примерно в сотне миль отсюда «офицер и джентльмен» отпускал грубые остроты в кругу своих приятелей в адрес «жалкого местного принца», который умудрился влюбиться в его жену – «в замужнюю англичанку! какое нахальство!» Однако сам «жалкий местный принц» уже далёк был от этого неимоверного британского презрения, которое изливается на всё, не принадлежащее к нашей культуре и стране. Яркая золотая точка, как воздетое копьё, засверкала над восточными холмами – солнце вставало – слабое жужжание насекомых и щебетание птиц звучали сквозь тёплую и ароматную листву; свет быстро распространился вверх и разлился горящими волнами жара и блеска над всей крышей дворца и её переплетёнными гирляндами цветов, окутав нежным теплом застывшую фигуру, сидящую позади огромного телескопа, устремлённого в небеса; все знакомые и нежные звуки пробуждавшейся жизни, начиная новый день, заполняли воздух их обычным сладостным гомоном. Но молчание Махараджа было совершенным и теперь уже навеки нерушимым.
Мария Корелли
Популярность
При жизни Мария Корелли (Мэри Маккей, 1855—1924 гг.) была одной из самых знаменитых и высокооплачиваемых писательниц своего времени и пользовалась международной известностью. Ее самый успешный роман 1895 г. «Скорбь сатаны» был распродан тиражом более 50 000 копий в первые семь недель и заслужил звание первого бестселлера своего времени. И хотя она впала в безвестность после своей смерти, однако в Викторианскую и Эдвардианскую эпоху суммарные продажи ее романов опережают Редьярда Киплинга, Герберта Уэллса и Артура Конан Дойля, вместе взятых.
Творчество Корелли включает тридцать один роман, несколько томов рассказов, томик стихов и ряд сборников эссе.
Ходили слухи о том, что сама королева Виктория называла романы Корелли своим излюбленным чтением, а личное знакомство с принцем Уэльским до конца дней оставалось исключительной гордостью писательницы, о чём она не медлила напоминать при каждом удобном случае.
Внешность
Согласно некоторым биографическим исследованиям, М. Корелли была очень маленького роста (ок. 122 см), обладала от природы непропорционально короткими руками, крупной головой и маленьким туловищем. Большинство дошедших до наших дней фотографий не отражают её истинного обличья: прежде своего выхода в свет все они подвергались скрупулёзной ретуши и строгому рецензированию самой писательницей.
Достоверность фактов о писательнице
Биография М. Корелли как минимум наполовину была выдумана ею самой, чтобы ещё более подогреть интерес публики к своей персоне, а также скрыть тот факт, что она была незаконнорождённым ребёнком своего отца (Чарльз Маккей), который завёл вторую семью ещё при жизни первой супруги. Как видно, это сильно раздражало и задевало гордость М. Корелли в те времена, когда происхождение и положение в обществе играло первостепенную роль.
Достоверно известно, что М. Корелли долгое время находилась в любовной связи со своей подругой детства (Бертой Вивер), с которой они делили кров и были почти неразлучны. Берта пережила её на восемнадцать лет и унаследовала по завещанию всё состояние М. Корелли.
Литературный стиль
Все произведения М. Корелли насыщены соединением различных литературных жанров, в том числе готического, любовного, исторического, философского и эзотерики. Её энергичный писательский стиль, экзотические и загадочные места действий событий и религиозный эклектизм пришлись по вкусу широкому кругу читательской аудитории разного общественного уровня.
В целом её романы никак нельзя назвать традиционной классикой Викторианской эпохи. Она скорее была реформатором и литературным новатором своего времени, экспериментируя и соединяя различные литературные жанры. Впрочем, абсолютно все её романы полны так называемых «философских» отступлений и рассуждений, которые отражают личное мнение писательницы о нравственном упадке современного ей английского общества. Именно по этим вставкам и можно составить самое достоверное мнение о М. Корелли, как о личности, не прибегая к поддельной биографии и выдуманным ею самой фактам.
Критики и профессиональная оценка творчества
Профессиональные критики и рецензенты, однако, воспринимали ее работы с плохо скрываемым отвращением, характеризуя их, как напыщенные и сентиментальные, осуждая чрезмерную слащавость чувств героев и их неестественное поведение в некоторых ситуациях, общий стиль написания и нелепость сюжета. Ей вменяли даже плохое знание общественного этикета, английской грамматики и Евангельского текста. И такое восприятие критиков было практически единодушным, за исключением нескольких биографов и ученых, которые писали о ней при жизни.
Например, критик Льюис Джеймс пишет о М. Корелли:
«Корелли видела себя олицетворением исключительно духовного образа жизни, каким он должен быть в идеале, и её труды широко цитировались как модными, так и популярными проповедниками. Её успех указывает на несомненную жажду религиозной литературы обществом. Она успешно утоляет эту жажду: всё зло происходит по вине человека, и каждый читатель имеет силу для духовного роста на пути к общей благости. Она воплотила этот посыл в художественной литературе, получившейся вульгарной в полном смысле этого слова, затёртой, мелодраматической, незрелой; но при этом с творческим чутьем, театральностью и собственной убежденностью в том, что она не подвластна критике со стороны литературных традиций».
Критик Брайан Стейблфорд:
«Мария Корелли предположительно обязана своим успехом тому, что готова была выставить на весь мир ту глупую софистику, посредством которой она пыталась укрепить свою религиозную веру, заключавшуюся в нахватанном жаргоне, дополненном её нарциссическими фантазиями, которые больше подходят для компании ангелов, чем обыкновенных людей. Высмеиваемая более здравомыслящими людьми, она героически отправилась в этот крестовый поход в воображаемую „терра инкогнита“, которую никто прежде не осмеливался осваивать. Удивительный, хоть и недолгий успех её работ показывает, что высказанные ею собственные заблуждения и устремления подействовали по крайней мере успокаивающим образом на страдания миллионов её современников».
Писательница отвечала на подобные выпады взаимной неприязнью и всю свою жизнь сознательно боролась с критиками пером и личным влиянием. Эта борьба находит свое отражение на страницах её романов. Позднее книги М. Корелли заслужили более пристальное внимание критиков, но только с точки зрения изучения культурного и социального феномена своего времени. Строго говоря, никто так и не смог объяснить причин её бешеной популярности при жизни. Её собственного напыщенного объяснения этого феномена тем, что она была «непризнанным и неоцененным гением», всерьёз никто в литературном мире не воспринимал. В целом несостоятельность этого утверждения доказывает практически мгновенное забытье писательницы после её смерти. Достоверно известно, что уже через несколько лет Берта Вивер, едва сводившая концы с концами, вынуждена была распродать с молотка как всё имущество М. Корелли, так и оставшиеся ей в наследство права на издание её книг.
Религия и Мария Корелли
Один из известнейших ее романов «Ардаф» в последствие породил нечто вроде религиозной секты, чьи адепты наделяли М. Корелли поистине сверхъестественным даром, называли её чуть ли не пророчицей или медиумом, которой были открыты некие тайные знания или связь с космосом. В этом романе писательница с известным «успехом» сделала попытку смешать христианскую мораль с магией и эзотерикой. Быть может, на взгляд современного, избалованного фантастикой читателя все эти старания покажутся весьма наивными и слабыми. Читая М. Корелли, важно делать скидку на ту временную эпоху, в которую она жила и творила.
Католическую Церковь, как и любую официальную религию, писательница открыто ненавидела и презирала, не упускала случая бросить в неё камень. В своих книгах она всячески делает упор на недостатки священников и на огрехи устройства Церкви, принимая, однако, христианскую мораль и выражая бескрайнее почтение к Христу. В своём романе «Master-Christian» М. Корелли приводит множество цитат из Священного Писания, предлагая собственную их трактовку и используя их во многом не к месту, критикует Апостола Петра, называя его «лгущим апостолом». По слухам, М. Корелли своими яростными нападками и выраженным феминизмом добилась в итоге отлучения от Церкви.
Мария Корелли – «лгущий апостол» Викторианской эпохи
Прочитав с десяток романов М. Корелли, её биографию и несколько критических обзоров её романов, думаю, что могу составить собственное субъективное суждение об этой писательнице и выступить ненадолго в роли столь ненавистного ей критика.
Читая романы М. Корелли, невольно замечаешь массу противоречий и нестыковок в её собственном восприятии мира. Как сказал один критик: «Я закончил сегодня, наверное, десятый роман писательницы и наконец-то зашёл в тупик! Я ощущаю себя словно бродящим по кругу хитросплетения слов, софистических рассуждений и смутных выводов, не будучи в состоянии пристать к какому-либо конкретному берегу».
Не сложившаяся личная жизнь писательницы находит своё чёткое отражение во всех её романах и объясняет многие противоречия. Писательница осуждает людей и общество в целом именно за те недостатки, которых исполнена сама. Как, например, яростно осуждая любовь известных писателей к славе в своём романе «Ардаф», она сама ужасно гордится знакомством с королевской фамилией, «улучшает» собственную биографию и ретуширует фотографии, чтобы показаться значительнее в глазах общества. Иными словами, писательница делает всё, чтобы снискать как можно большую и лучшую славу в обществе.
Обладая дурной внешностью, писательница, очевидно, испытывала недостаток мужского внимания, откуда происходит её крайний феминизм и жестокие нападки на мужскую половину населения Земли, кого она нередко называет в своих романах «грубыми скотами», «невежественными свиньями» и пр. Книги её порой буквально дышат мужененавистничеством, но при этом она тут же бросает насмешливые опусы в адрес ярых феминисток и «мужеподобных гермафродитов девятнадцатого века», которые открыто стремятся к равенству полов и носят мужские брюки. Таким образом, писательница яростно обличает открытых феминисток (памфлет «Моя чудная жена!»), но при этом собственным пером и словом активно сражается под их же флагами.
Литературные критики настолько жестоко порой поносили романы М. Корелли, легко разоблачая все её софизмы и логические заблуждения, что она буквально готова была разорвать их на части. Написав очередной роман, она не давала позволения отправлять бесплатный печатный экземпляр рецензентам, говоря, что «если кто-то желает критиковать мою книгу, то он должен сначала заплатить за неё»! Как следствие, буквально все её романы содержат отрицательного героя-критика, которого писательница радостно убивает или же разносит в пух и прах в философском споре.
М. Корелли всю жизнь верила в некую таинственную, неземную, великую любовь, которую и воспевает непрестанно в своих романах, отрицая ценность законного и церковного брака. В этом смысле её известная фраза: «Я никогда не выйду замуж, потому что в этом нет никакой необходимости. У меня в доме живут три животных, которые вместе вполне составляют одного мужа: собака, которая рычит по утрам, попугай, который ругается целый день, и кот, который возвращается поздно вечером», в общем-то, легко объясняется тем, что очереди искренне желающих жениться мужчин у её дверей никогда и не стояло. Принимая во внимание её бешеную популярность и влияние, скорее всего, её одолевало немало альфонсов, желавших пожить за её счёт и в свете её славы, но М. Корелли предпочла им свою единственную искреннюю подругу Берту.
Должно быть, самая большая трагедия для писательницы заключалась в её горделивом неприятии Церкви и, как следствие, в полном отлучении от неё. Целый роман «Master-Christian» посвящает она яростному осуждению Церкви, открыто выплёскивая всю свою ненависть на страницах этого объёмного произведения. Главный герой – добрый и искренний католический кардинал впадает в немилость у Папы за своё снисходительное отношение к человеку, неугодному Папе, и за это претерпевает гонения, ненависть, отлучение от священства. Один безымянный критик в газете «New Zealand Herald» (1900 г.) пишет свой отзыв на этот роман: «Наконец-то я закончил чтение этой чудовищно скучной книги… Мисс Корелли, очевидно, не в курсе, что Кардинал Церкви, находясь за пределами своей Епархии, может принимать кого угодно и делать что угодно, ибо не считается должностным лицом при исполнении. Тем не менее на страницах романа мы, страница за страницей, читаем бесконечные излияния о том, как неправедный гнев Папы гонит несчастного „слугу Божьего“, попавшего в немилость в другой Епархии… Считаю, что называть Апостола Петра „лгущим Апостолом“ – это уже не просто неприлично, а следствие чисто дурного вкуса…» Таким образом, сама задумка этого романа была нелепа, но М. Корелли это не смущает. Наряду с антицерковным романом «Master-Christian» она пишет такие замечательные христианские романы, как «История детской души» и «Варавва», в которых всячески прославляет Бога Христа и называет его учение «истинным», «высшим», «необходимым». И эти книги поистине заслуживают внимания и весьма поучительны, их по сей день распространяют православные книжные магазины, а во времена гонений на Православие в СССР эти книги нередко переписывались от руки! Странно, что, провозглашая себя последовательницей Христа, М. Корелли одновременно хулит ту самую Церковь, с целью создания которой Он и приходил на Землю; Говоря о «божественной любви», писательница отрицает законный брак, игнорируя Божью заповедь «не блуди». Все эти противоречия как всегда основываются на обычной человеческой гордости, из-за которой писательница намеренно выбрасывает из Христианства неугодные ей вещи, страстно защищая те, которые ей по нраву. Ярким примером такой религиозной перекройки служит роман «Мир небесный, мир земной», а также «Ардаф». В этом отношении идеи М. Корелли стары как мир. В истории российской литературы мы также имеем великолепного писателя графа Л. Н. Толстого, который по-своему толковал Евангелие, и всем хорошо известно, в каких духовных мучениях он окончил свою жизнь. Посему не будем судить М. Корелли за её заблуждения, а предоставим это дело самому Господу, согласно Его завету: «Мне отмщение, и Аз воздам»!
М. Корелли нередко наделяла собственными личностными качествами героев своих романов. Самым ярким примером тому послужит Мэвис Клер в романе «Скорбь сатаны», даже имя которой вполне созвучно с именем писательницы. Эта героиня предстаёт нам истинным воплощением доброты, духовного совершенства и непревзойдённого гения литературы. По замыслу сюжета она противопоставлена богатому Д. Темпесту, который купил свою славу на деньги дьявола. Из этого вполне можно заключить, что М. Корелли не страдала излишней скромностью! А критики гневно возмущались по этому поводу, говоря, что до сих пор ещё ни один писатель не имел наглости выставляться в образе совершенства и чистоты, как это сделала мисс Корелли в своём романе «Скорбь сатаны»!
Говоря о писательском таланте М. Корелли, нельзя не отметить, насколько яркими и богатыми получаются у неё описания природы и природных явлений. Пространные описательные вставки порой буквально завораживают воображение, рисуя в уме цельную и яркую картину происходящего, как это получилось в романе «Вендетта». Неплохо удаются ей также мимолётные описания чувств, взглядов, движений, эмоций героев во время диалогов. Но, к сожалению, сами диалоги в большинстве случаев смело можно назвать настоящей катастрофой! Пространные, путаные рассуждения, бесконечные разговоры действующих лиц порой просто навивают тоску, ибо всё это невероятное многословие вполне можно без потери смысла выразить одной или двумя фразами! Особенно грешит этим оригинальный роман «Ардаф», вторая часть которого раздута до неимоверных размеров именно посредством неоправданно длинных речевых вставок. Строго говоря, абсолютно все её крупные романы грешат неоправданно большими объёмами, многословными диалогами и наличием излишних героев, чьё появление никак не влияет на сюжет в целом. Только небольшие рассказы, в частности, вышедшие в сборнике «Cameos» и сегодня представленные в этой книге, не грешат многословием и в этом смысле представляют собой наиболее зрелые и цельные произведения, хотя сама М. Корелли так не считала, в предисловии называя их «незрелыми и сырыми».
Таким образом, творчество М. Корелли настолько неоднозначно и противоречиво, что чтение её романов наводит на мысль, что её собственное мировоззрение шаталось из стороны в сторону, говоря её же языком, «словно хрупкая лодка на волнах бушующего моря неведомых страстей». И здесь становится очевидным тот факт, что во многом писательница нарочно стремилась угодить вкусам того самого «отвратительного современного английского общества», которое так осуждала в своих же романах. Так, она часто с благоговением ссылается на «последние научные открытия», что всегда увлекает падкого на новшества читателя, сама будучи при этом в них абсолютно невежественной, и безграмотность эта сразу бросается в глаза. Например, в романе «Сила неведомая» радиация у неё – это источник вечной молодости, здоровья и квинтэссенция жизненной энергии. Подобным образом она отказывается от традиционного Христианства на волне «всеобщего атеизма», который столь яро поносила в своих же произведениях, пытаясь слепить некую новую веру без Церкви и пастырей, основанную лишь на великой божественной любви. Вся эта нелогичность, заблуждения и притворство происходят в конечном итоге от того, что слова её расходятся с делом, а мысль со словом, а неискренность всегда бросается в глаза как предвзятому критику, так и добродушному читателю. И почти моментально забытье, в которое впала эта честолюбивая писательница после своей смерти, свидетельствует нам о том, что Истина всегда торжествует.
Тем не менее большинство её книг заслуживают прочтения, ибо содержат немало возвышенных идей и поучительных примеров, которые писательница трактует на свой лад, но читатель волен воспринимать и по-иному. Как ни странно, непоследовательность её суждений вносит некоторую непредсказуемость в сюжет и заставляет читать роман так, словно разгадываешь ребус с ошибками. Её книги дают пищу для размышлений и открывают широкий простор для воображения. Непредвзятый читатель должен сделать скидку также на давность лет и принять во внимание особенности викторианской литературы, которой вообще свойственно неспешное повествование, рассудительность и романтизм, а М. Корелли называли «королевой викторианской литературы».
2017 г., Боронина А. В.
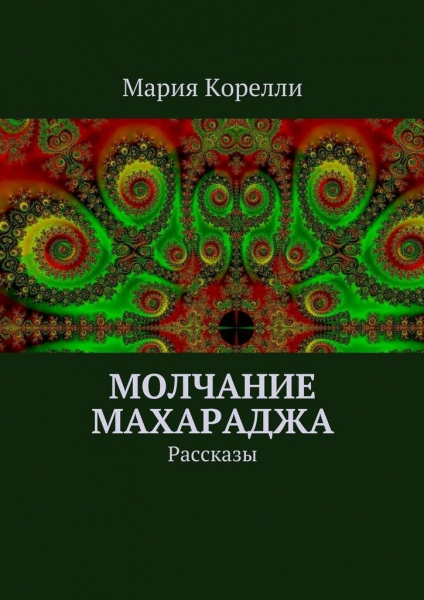

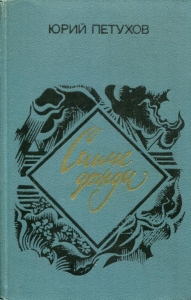


Комментарии к книге «Молчание Махараджа. Рассказы», Мария Корелли
Всего 0 комментариев