Дом на волне… Пьесы Николай Бойков
© Николай Бойков, 2016
Редактор А. Быстрова
ISBN 978-5-4474-0380-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Дом на волне… (пьеса в 2-х действиях и 16-ти картинах морской жизни)
Тексты песен и стихов Н. Бойкова
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Капитан, Александр Павлович, 45—50 лет.
Дед, старший механик, Григорий Мартемьянович, сверстник капитана.
Радист-старпом.
Веничка, Вениамин Васильевич, штурман с косичкой.
Боцман, Гена, 30—40 лет.
Кокша, Катерина Сергеевна, 35—45 лет.
Гриша, моторист.
Вахтенный матрос, молодой Иван Иванович.
Степа, механик-баянист.
Люба, героиня без паспорта.
Герои и лица в сценах второго плана:
Элизабет, кореец, хохол, моряки-рыбаки, музыканты из бара.
Женщина из писем и фантазий капитана, музыка и песни.
Действие первое
КАЮТА КАПИТАНА.
Рабочий стол, капитанское кресло, диван, шкаф и две книжные полки судовых документов и книг. Играет тихая музыка — романтические мелодии на саксофоне. Входят, продолжая разговор, капитан и старший механик.
Капитан (привычно опускаясь в свое кресло.) Присаживайся, дедуля. Расслабимся, пока есть время. (Регулирует звук и вслушивается в мелодию.) Вода? Кола? Виски не предлагаю. Чай-кофе?
Дед. Спасибо, нет. Посидим минутку. Расслабимся. Мы слышали, как дышит океан!
Капитан. Расслабимся? Ты видишь, что здесь написано моим умным предшественником? (Показывает пальцем за плечо и цитирует.) «Кресло капитанское — эшафот. Путь к нему — только вверх. Опора его — одиночество». И это — верно. Чем выше должность, тем меньше вокруг друзей и искренности. Хорошо, что у меня есть ты, дедуля?
Дед. Ты что, капитан? Какой между нами счет? Мы — кто? Люди моря — на воде стоим, по воде ходим. Нельзя нам о жизни серьезно. Моя философия — ветер!
Капитан. Конечно, нельзя. Потому читай ниже.
Дед (читает вслух.) «Слава богу, мне хватило ума прожить мою жизнь глупо. Фаина Раневская». Та самая артистка?
Капитан. Та самая.
Дед. Сильная женщина! Ты приписал?
Капитан. Я.
Дед. Учись! Время — великий клоун. Цирк, можно сказать. Только — в городе за просмотр деньги платят, а в море у нас одна монета — Время! Время собственной жизни. Полгода — рейс! Два рейса — год! Расплачиваемся. (Кивает в иллюминатор.). Тунис в иллюминаторе! Причал из прошлого века.
Капитан. Вчера мы играли в футбол на прибрежном песке, из которого торчали развалины Карфагена. Какая арена! Ей — две тысячи лет! Какие декорации! (От собственных слов капитан приосанивается и играет голосом.) Местные мальчишки несли нам в пакетах молодое вино — солнце последнего урожая, дедуля! Нам?! Актерам времен Одиссея и лунных спутников!
Дед. Я понял тебя: мы пили вино, как будто мы пили Время! Наше Время. Мечта!
Капитан. Кто может сказать — наше Время? Чье? Мы пили за причалы Бизерты — последний приют российского флота столетней давности. За русские могилы на местном кладбище.
Дед. За русскую бескозырку с надписью «севастопольский экипаж» на голове мальчишки-водоноса. Вот бестия! А может — он правнук русского матроса? Ему лет двенадцать…
Капитан. Крепости — лет шестьсот-восемьсот? Бескозырке — девяно… сто. Крикам муэдзина над крышами — африканская ночь. Нам с тобой — вечность… (Оба, на диване и в кресле, улыбаются как два ласковых змея.) О, женщины Туниса! (Театрально играет голосом.) Гордые матроны Великого Рима, выбирающие гладиаторов… Или — нас с тобой? Женщины ходят по улицам города, будто гуляют из первого тысячелетия во второе, из второго — в третье…
Дед. Как москвички в Ялте! А что им сделается?!
Капитан. И какая им разница — где они?! Страна, год, цивилизация — все им пустяк. Женщины! Это мужику надо думать и помнить: кто он? Потянет — не потянет?
Дед. Ну, и логика у тебя, капитан!
Капитан (продолжая с азартом и пафосом театральным.) Царица Востока и госпожа моего сердца! Табун диких кобылиц! Бледнолицые креолки! Темнокожие голубоглазки! Босоногие или в сандалиях! В броских одеждах европейских городов или в длинных халатах пустынь…
Дед. Уличный ветер катит по песку чью-то белую шляпку…
Капитан. Шляпку? Какая шляпка? Верблюдица блудливая с глазами навыкат! Булькающий вулкан на крутых бедрах. Какую ей шляпку? Это — Африка!
Дед. Фурия — с черной ноздрей и лихорадкой танцующих ног. Лошадь свадебная! Бездна раздвинутых мощно копыт… Готова взлететь или сесть на асфальт. Ха! Вопросительным знаком хвоста!
Капитан. Спокойнее, друг мой. Не будем так плохо. Ты — нежно скажи! Женщины Туниса… Ласково… Немое кино в душном зале… Ветер платков и стремительных юбок. Солнце и время — остановились. Взгляды — надменные или игриво потуплены. Любопытны, скромны, безразличны, крикливы — как жаркое марево миражей над раскаленным песком.
Дед. У-уох, женщины! Яркие змейки укрытых тканями рук и пальцев — в змейках украшений из африканского золота. Тень желтого солнца в оранжевой пустыне…
Капитан. И все эти женщины — я же их насквозь вижу! — подглядывают за мной… Я их чувствую. Я их — люблю даже? У-ух! Как глаза моей стервы домашней.
Дед. Домашней? Ну, ты даешь! Ты перегрелся или переволновался, капитан. Это потому, друг, что нам привезли дыни. Ты видел эти дыни на палубе? Ты слышал их запах? Тунис, солнце! И дыни! Дыни — всему виной, капитан! Когда привезли их и выгрузили на палубу — женским веером взмахнул по пароходу этот аромат. Не запах… (Отрицательно водит перед грудью указательным пальцем.) Аромат! Запах — это когда лет тридцать назад нас, курсантов, вели строем, морозным осенним утром, из казармы в училище мимо пирожковой, и кто-то из строя закричал, дурашливо зажимая пальцами нос: «Тетка! Закрой форточку! Запах пирожка по улице гуляет — кушать хочется…» А дыни — аромат. Дыни — колдовство и наваждение! Огромные. Круглые. Оранжево-желтые. Притягивающие взгляд… А разрезали первую — сочная! Липкая! Сладкая! Как — женщина! Сразу все заулыбались, расслабились, глазки заблестели. Мысли, слова, приятные ассоциации — не побежали, а потекли, подобно медовому соку, по губам, пальцам и по широкому ножу, уже вскрывающему тайны второй красавицы. Звучит шутливое: «Гюльчатай, открой личико…» …Вспомнилось есенинское, «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…».
Капитан (напевая и подыгрывая.) «В том саду, где мы с вами встретились…» И, конечно: «Если нравится флот красавице, никуда от нас не уйдет…».
Дед. Такая волна душевного смятения и беспокойства…
Капитан. Руки тянутся к биноклю (смешливо хлопает ладонями по пустому столу, будто ищет окуляры) оглядеть еще раз набережную и балконы домов на противоположной стороне бухты в надежде увидеть силуэт, гордо посаженную головку в платочке, легкую походку…
Дед. Женщины! Как вы нужны. Как желанны. Как мучительно далеки… Как легко вспоминаем вас, даже… глядя на дыни! Домой нам пора, домо-оой!
Капитан. А не нравится мне, когда по сладко расслабленному воображению моему отстучит телекс, пальчиком по височку: «…максимальной скоростью следовать Одессу (Керчь, Туапсе, Севастополь…) предъявления Регистру …частичной смене экипажа…». Не люблю я преждевременные заходы в родные порты, да еще — с частичной заменой экипажа.
Дед. Это точно.
Капитан. Ведь что получается? Только все мы притерлись в нормальном море, успокоились между вахтами, прикачались от качки, уравновесились, можно сказать. Без женщин…
Дед. Одна повариха на борту, а уже и на нее поглядывать стали.
Капитан. Повариха на борту — не женщина: кок, кокша — член экипажа.
Дед. Вот и я говорю: кок, а не женщина. А на дыни посмотрю — женщина. Капитан! Капитан, успокойся. Все. Все нормально. Устаканились. (Пауза под взглядом капитана.) А что, капитан? Что ты так смотришь на меня? Устаканились! И это — очччень морское слово!
Капитан. Ладно. Устаканились. По глоточку. (Достает и наливает в стопочки.) Меж морем и небом… За нас!
Дед (улыбаясь.) Мы тоже чего-то стоим… И огурчиком с хлебом… (нюхает воздух из иллюминатора.) Африка!
Капитан. В порту пить — это как перед гаишником подставиться. В море выйдем — там наши правила и права. За море и удачу. А сейчас — думать! Каждую минуту — до прихода домой — думать и гадать… Что кого ждет в родном порту? Как кого встретят? Дома ли. В конторе. Кого проводят в отпуск?
Дед. Кому дома выставят чемодан на лестничную площадку…
Капитан. Кого из нас спишут на берег? Кого пришлют на замену? Как долго мы будем настраиваться снова на рейс, на работу, на наше взаимное — на борту и вместе. (Тревожно смотрит сквозь стекло иллюминатора на причал.) Куда все побежали вдруг?
Дед. К ближайшему береговому телефону — звонить домой, предупреждать, радовать, успокаивать… Готовить почву, типа: «Любовника — за дверь! Окурки и чужие носки — в мусорное ведро. Детей — помыть, переодеть и отправить к бабушке. Самой — в парикмахерскую и на рынок! Встречайте оркестром, цветами и ванной!».
Капитан. Цветы можно заменить на «огурчиком малосольным», — очень люблю, а оркестр — на две рюмочки с поцелуйчиком… Где Веничка-маг? Гадает? Опять гирокомпас полюса перепутает и получится у нас как в той старой морской песне: «Мы шли на Одессу, а вышли к Херсону…»
Дед. Веничка нагадал на переход нам, до самых родных берегов, белые простыни — к чему бы это?
Капитан. Белые простыни? Мама моя говорила, что белье во сне — это хуже, чем три невесты на одной свадьбе. Где боцман?
Дед. Боцман? На месте, к отходу готовится. Минуту назад его видел (оборачивается в коридор и кричит громко.) Старпом! Радист-артист! Где боцман?
Радист-старпом (вырастая в проеме двери и выпячивая худую грудь.) Разрешите, товарищ капитан? (Поворачивается в сторону старшего механика.) Я — старший помощник! Да — бывший радист. Артист — это только капитан сказать может, или — по вдохновению, когда сам я того пожелаю (капитану.) Докладываю, капитан! Боцман убежал звонить домой. Жена у него совсем на связь не выходит. Раньше на судах были настоящие радисты — радист все знал и всех мог привести в меридиан. Если надо было — мог причину придумать и успокоить страдальца. А теперь — новые технологии, спутниковая связь. А спутниковая связь, скажу прямо, предательская. Номер набираешь и слышишь сам, как скрипит кровать дома или пыхтит малыш на горшке. А хорошо ли это? Инфарктов стало больше. Разводам нет числа. А радист был хранителем семейных тайн и вдохновителем счастья! В море — семейное счастье должно быть дозированным. Иначе — крыша (показывает на собственную голову), не выдержит. Зря нас переучивали на штурманов…
Дед. Хороших радистов в плохих штурманов — инновация!
Капитан. Не отвлекаться от темы! Радист. Артист. Вдохновитель и Купидон. Все сказал правильно. Молодец. А теперь в словах своих старайся соответствовать должности старшего помощника. Как будто ты играешь роль на сцене, ну?!
Радист-старпом(улыбается и выпячивает грудь.) Р-рад стараться, господин адмирал!
Капитан (не обращая внимания.) А через полтора часа прибудет агент с документами на отход, и мы будем сниматься на Одессу. Что я требую от старшего помощника?
Радист-старпом (грудь колесом, глаза навыкате.) От младшего помощника — исполнительность. От второго — предсказуемость и надежность в работе и отдыхе! От старшего помощника — организованность! Старпом, который сам себя организовать не может, никакую службу организовать не способен.
Капитан. Вольно! Молодец! Действуй! Мои аплодисменты.
Дед (наклоняясь через стол и говоря душевно.) А что требуется от капитана?
Капитан. От капитана? (серьезно.) Умение видеть главное и не отвлекаться на мелочи.
Дед. А что есть мелочи в море, капитан?
Капитан. Вчера — трезвый экипаж в конце рейса: взрывоопасно. Сегодня — трезвый экипаж из города: подозрительно. Завтра? Завтра, может быть, настроение повара — от этого вкус пирожков на завтрак вызывает тоску по дому. В море — мелочей не бывает. Поэтому капитаны — как акулы — спят одним глазом: одно полушарие спит, а другое бодрствует. Знаешь?
Дед. Поэтому на флоте завели адмиральский час: чтобы капитаны спали на один час больше, да?.. А машина работала на полтона тише, да? (Улыбается и кладет ладонь на грудь, вставая с дивана.) Я же от всего сердца, капитан, поспи полчасика… А я пошел к дизелям. Пора поршня раскачивать на главном.
Капитан. Шевели, дедуля, шевели. Механический ты мой! В сторону дома и собака быстрее бежит. Хорошо?
Дед. Хорошо бы хорошо. Только не слишком ли рано мы в эйфорию возвращения домой впали? Еще неделя впереди? Торопиться не надо? Механика знает усталость металла — наука целая! (Оборачиваясь.) Да? Я тебе говорил, что сказать тебе что-то должен? Ладно — потом скажу, позже. Напомни мне, если забуду. Слушай, эти дыни, как женщины под чадрой: тайные-тайные, сладкие-сладкие. Эйфорр-рия!
Капитан. Не эйфория, а фурия, говорю я тебе! Не опоздай со своей новостью, а то придется тебе менять квалификацию: из моряка-механика в базарного спеца по дыням.
Дед. Успею, капитан. Не отвлекайся от курса, и дыньку — попробуй! Раскачают они покой наш, чувствую. Ох, они…
Капитан. Кто — они?
Дед (выходит из каюты, напевая.) Красотки, красотки, красотки кабаре…
Капитан. Да, дыни… Сколько хороших мужиков море свое потеряли — из-за женщин… А как поддержать? Какими руками? Где это дерево поближе — кругом одно железо?! (стучит по голове пальцем.) Чтобы не сглазить…
Кокша. К вам можно?..
Капитан. Заходите, доктор.
Кокша. Почему это я доктор? Я — повар.
Капитан. Я фигурально выразился: от ваших пирожков и борща с пампушками, Катерина Сергеевна, наше здоровье, настроение, улыбки и работа — все от них складывается. Я заметил: с того дня как вы у нас появились — на обед и с обеда все идут улыбаясь. Так кто вы в экипаже? Доктор и правая рука капитана.
Кокша. Красиво говорите, Александр Павлович. А я пожаловаться хочу. Этот радист, который старпом, — насмешник просто. Вчера он назвал меня Крошка. Крошка, говорит. А сам на мою талию смотрит.
Капитан. Так это он комплимент вам делает!
Кокша. Комплименты наедине женщине делают.
Капитан. Нет, Катерина Сергеевна. Может, вам бы хотелось наедине. Но я, например, как капитан, всегда следую старому морскому правилу: ругаю виноватого наедине с ним, без чужих ушей-глаз, а хвалить стараюсь, комплимент делать, благодарить — это при всех, чтобы все слышали, чтобы виновнику торжества от этого «при всех и громко» еще приятнее стало. Крошка, говорите? А что — мне нравится. Очень идет вам: статная, красивая, большая женщина — королева!
Кокша. Что-то я вас не поняла, товарищ капитан. Говорили: при всех, при всех комплименты делаете. А сами — наедине? Ухаживаете, что ли?
Капитан. Извините, Катерина Сергеевна. Дыни на палубе аромат пустили — мужиков на сладкое тянет. Извините. Если у вас все — мне на мостик надо.
Кокша. Это вы меня извините. По пустякам отрываю. Только, мне кажется, посторонние у нас на борту появились.
Капитан. Какие посторонние?
Кокша. Я не знаю. Только никогда такого не было, чтобы я оставляла что-то для вахты в холодильнике, а кто-то съел.
Капитан. Когда?
Кокша. Сегодня ночью.
Капитан. Может, ребята отмечали что-нибудь и взяли загрызть.
Кокша. На закуску — это я всегда найду. Все знают. У меня — как дома. Что же я мужика не пойму, когда ему в каюте по-человечески хочется? А тут кто-то чужой, явно. Наши «от вахты» не оторвут. Моряки.
Капитан. А эти — чужие — не моряки?
Кокша. Раз воруют — не моряки.
Капитан. Вы кому-нибудь говорили?
Кокша. Разве я дура? Я же понимаю. Если кто по глупости — зачем шум поднимать? А если чужой на борту — осторожно надо. Мало ли кто: террористы, беженцы, разносчики всяких болезней…
Капитан. Бдительная вы, Катерина Сергеевна. Идите пока к себе… Что-то еще?
Кокша. Проводите меня до каюты, Александр Павлович. А то я боюсь одна.
Капитан. Вы что, кок-доктор? Правая рука моя! Чего вы так смотрите?
Кокша. Боюсь. Честно. Коридоры пустые. В столовой — никого.
Капитан. Хорошо. Пойдемте.
Кокша. Спасибо, что поняли. (Выходят из каюты.)
ТРИ ЧАСА СПУСТЯ. Каюта капитана. Продолжение…
С палубы доносятся звуки баяна и песня:
Качает наш дом на веселой воде, Летят из трубы облака Куда нас несет? Остановит нас — где? Никто не ответит пока. О встрече далекой ты просто забудь — От борта до борта качает звезду…Капитан. Это кто поет? Степан?
Дед. Степан. Хороший третий механик попался, и человек — молодец.
Капитан. Слава Богу, вышли из порта, оторвались от берега… Ишь, как хорошо покачивает. Это, дед, повезло нам. Каждый раз, когда новый человек приходит, думаю: что лучше? Хороший специалист, но человек — так себе, или специалист зеленый, а человек — золото.
Дед. С лица воду не пить, песней гайку не крутить.
Капитан. А все-таки: захочет — научится, приработается, а если гнилой человек, то всем плохо.
Дед. Ясное дело: с дерьмом свяжись — сам дерьмом станешь.
Капитан. И всегда, заметь, лучшие спецы на другие суда попадают, а нам работать и выживать приходиться с теми, кто на борту.
Дед. А вернемся домой — окажется, что эти молодые-зеленые — самые золотые и ценные.
Капитан. Потому что — наши. И море нас любит. Наше место и наши правила. Давай, по глоточку, за дорогу домой… За дом, пусть им сладко икнется…
Песня.
Качает наш дом, а под ним глубина И стаи кочующих рыб… Отсюда родная земля не видна — Родным здесь мне ветра порыв. Такой же, как в нашем вишневом саду… От борта до борта качает звезду.Капитан. Давай, дедуля! За то, чтобы мы узнавали друг друга на улице. Какие новости в экипаже? Как отдыхали ребята? Что покупали? Что пили в баре? Что там с боцманом? Мне показалось с мостика, что концы швартовые на баке тянул — как нитки рвал. Или показалось?
Дед. Радист-старпом уже все разведал — раскатал нашего боцмана на полную осознанку. Старпом из радиста еще никакой, но с народом контакт умеет наладить. Претензий нет. Пошел боцман на чистосердечное. Говорит: домой не дозвонился… С соседкой разговаривал… Жена его с каким-то мужиком живет, соседка сказала…
Капитан. Соседка сказала, это еще не факт. Мало ли что в жизни бывает?..
Дед. А он поверил.
Капитан. Ну и дурак.
Дед. Дурак не дурак, а оказаться на его месте никому не пожелаешь.
Капитан. Это верно.
Дед. Теперь все зависит от того, как он сам себя поведет. Во-первых, ему надо до нее дозвониться…
Капитан. Это не во-первых и, даже, не во-вторых. Потому что до нее можно звонить и звонить, а ее то ли дома нет, то ли еще что… Может и хорошо, что не может дозвониться. Может, она и сама не знает еще, что с ней действительно происходит и как дальше быть, и что мужу ответить. Встретятся — разберутся! Поэтому главное сейчас — ему — не потерять себя! Крыши у нас у всех, после шести месяцев рейса, как паровые клапана, на подрыве. В работу ему надо. Ни минуты перерыва. А звонить он, конечно, будет. И дай Бог…
Дед. Может ему погадать?
Капитан. Скажешь еще…
Дед. А что? И это не исключено. Если он так легко поверил, значит легко поддается внушению, а значит, если правильно все подать — он во что хочешь поверит.
Капитан. А во что надо? Ты знаешь, что там действительно произошло? К чему боцману готовиться надо? Чего ему пожелать?.. То-то. Хотя, чем черт не шутит?
Дед. Гадальщик у нас есть — Веничка с косичкой. Он ему так мозги высушит, что боцман имя свое забудет. Веничка сам не женат, правда. Это — вопрос. Ответ: считает, что женщины питаются мужской энергетикой. Сам на себя гадает ежедневно. Без этого на вахту не выйдет. А если, не дай Бог, в пятницу или понедельник в море — беда! На эти дни особый амулет есть — засушенные в целлофановом пакетике крылышки майской бабочки.
Капитан. Дожили! Кто в моряки идет…
Дед. Не скажи, капитан. В море мы все — с приветом. То, что Веничка без юмора, это, конечно, опасный сигнал. На море без юмора нельзя. Помнишь, когда радист-старпом на мостике шутил насчет необходимости «мужского размагничивания» в море — имелось в виду: как мужику без женщины выжить? Обычный морской треп про буфетчицу, секс-журнал, бордель… Веничка подошел к вопросу серьезно: сделал себе металлический браслет на руку, на ночь вывешивал в иллюминатор присоединенный к браслету медный провод. То же самое на вахте: раз в час выходил на крыло и свешивал провод на несколько минут за борт, до самой воды. Размагничивался…
Капитан. Ну, на этот счет мы все раз в год задумываемся. А Веничка, надо сказать, по натуре — добрый. Воспитанный. Маму называет маменькой, а ему за сорок.
Дед. Добрый. Воспитанный. И с боцманом они корешуют. Помнишь, на переходе из Дакара на Англию, когда пошел кочевать по судну — с вахты на вахту, из машины на мостик, с мостика на палубу — треп о степени защищенности мужского организма в смысле сохранения мужской силы? Диспут. Кино. Ток-шоу. Махабхаратта какая-то. А по сути — серьезно. Механики мои, ребята башковитые, решили определенно, что любой организм, мужской или женский, устроен как машина: главное — не останавливаться. С возрастом — особенно. Остановился — труба. Любой шофер знает, что машина работает — пока едет. Останавливаться — нельзя! Но Веничка с боцманом — аккуратисты. Для одного — навигационные приборы гонять строго по регламенту и ни минуты больше — ресурс! Для другого краску класть в два слоя и растирать — для экономии! Короче — счет вести надо и «не превышать!». Отработал свое — суши весла. Может, боцман и дома эту философию проводил — экономил ресурс? Может оттого все и случилось? Женщины, — у них другой счет.
Капитан. Какой?
Радист-старпом (стучит в открытую дверь.) Прошу добро!
Капитан. Добро, старпом. Входите. Что у вас?
Радист-старпом. У боцмана крыша поехала… Слезы текут. Головой в переборку бьется. Бред какой-то несет…
Капитан. Пьяный, что ли?
Радист-старпом. Трезвый! (восклицает и разводит руками, подчеркивая собственное непонимание.) Все о жене своей плачет… Никогда от него такой реакции не ожидал. Валерьянка не помогает.
Дед. Никто от этого не умирал еще. (Почесывая бороду и ухмыляясь.) Если к другому уходит невеста (напевает), то не известно кому повезло… (Опять чешет горло и бороду.) Придет домой. С ресурса своего тормоза снимет, и все станет на место… (Подмигивает чифу и продолжает серьезно, обращаясь к капитану.) Когда грузовые танки мыть начнем?
Капитан. Сразу после ужина. Пока погода позволяет. У нас двое суток на мойку, до Греции. А там, между островами и в проливах, опять же, дай Бог погоду, начнем краситься…
Дед. Нам вспомогач перебрать надо. И один шланг на гидравлике крана сифонит.
Радист-старпом. Надо аварийное имущество проверить на приход.
Капитан. Вспомогач, гидравлику, аварийное имущество — это все вы лучше меня знаете и сделаете. Но самое больное наше место — на сегодня — боцман! Первый закон моря: с кем ушли — с теми и вернуться. Всем и здоровыми! Поэтому — ему — ни минуты без чьей-то компании. А значит, если сможет он работать — хорошо, а не сможет — мы не одного, а двух людей в работе не досчитаемся, потому что за боцманом тогда еще и приглядывать надо будет. А что — сиганет за борт? Икнется нам тогда его любовь…
Радист-старпом. Дела… (тянет с неудовольствием.)
Дед. Дела (поддакивает, подмигивает и опять напевает.) Если к другому…
Капитан. Есть у меня родственник, очень далек от моря, в станице живет, так он, когда бы к нему ни приехал — кроликов ли он кормит, о гусях ли своих говорит, корову ли в стадо гонит или выезжает на тракторе в поле — встречает меня одним и тем же вопросом: «Ты мне объясни, что может мужик на этом вашем корабле цельные сутки делать? Ну, работу свою или как она там называется…» — «Вахта». — «Во-во, вахта. Ну, поел. Поспал. А более что? Это же с ума сойти от безделья?!.» — «Так и сходим с ума». — «От безделья?» — «Ага». — «А вам за такое лентяйство еще и деньги платят?» — «Ага». — «Так ты поделись опытом, или как это назвать — не придумаю даже. Может и я тут, на селе, этой методой заработать могу?..». Как объяснить? Что? Теперь вот шесть суток до дома одна забота — боцман и его проблемы. Ночью и днем. До самого причала. А стоять вахту, мыть танки, красить надстройку и перебирать вспомогач в машине — это, как пить и есть, само собой… Так, друзья мои, я на мостик. Не смею задерживать. (Все выходят.)
НОЧЬ. ХОДОВАЯ РУБКА.
Судно идет на авторулевом. Капитан на правом борту в кресле. В иллюминаторы хорошо видно ночное море. Луна. Одинокая туча над горизонтом. Судно мерно раскачивается. Иногда слышно как где-то впереди, под баком, стукает якорь.
(Входит радист-старпом.) Докладываю, капитан: закончили мыть танки моечными машинками, ушли мыться в душ и отдыхать до утра.
Капитан. Боцман как?
Радист-старпом. Работал. Ушел со всеми. Моторист от него ни на шаг. Вместе ушли на бак якорь в клюз подтянуть и проверить по штормовому.
Капитан. Спасибо, чиф. Подождите, когда вернутся с бака, и можете отдыхать.
Радист-старпом. До вахты четыре часа. Успею. Я пошел, Александр Павлович?
Капитан. Добро, чиф. Спокойной ночи.
Радист-старпом. Спокойной вахты. (Уходит.)
Капитан. Добро… (мысленно, говоря сам с собой). Вот и боцман с мотористом с бака возвращаются. И якорь биться перестал. А зыбь усиливается. Ночь. Низкая облачность. Звезд не видно.
Вахтенный матрос (продолжая наблюдать за морем и обстановкой.) Что вы говорите, товарищ капитан?
Капитан. Это я так. Молодость вспомнил. Чтобы ночью не уснуть на вахте, я вслух проговаривал все, что видел, например: бак обозначен белыми струями усов из пенисто взрезанных волн, длинно вытягивающихся вдоль обоих бортов. Видите? Звука нет. На экране радара две малоподвижных цели в шести милях к северу, очевидно, рыбачки. Обычно, при хорошей видимости, их кормовые огни на слипах проблескивают миль за шесть-восемь, а когда на лов выходят десятки мелких судов, то промысловые банки в заливе светятся маленькими городами. Но это не сегодня.
Клочья тумана или низких облаков выплывают из черноты ночи и снова пропадают в ней, молчаливо-лохматые. Эфир молчит. Ровно жужжит гирокомпас. И, слабо подсвеченная, бежит по кругу стрелка на штурманских часах.
Вахтенный матрос. Я понял. Это как акын поет про все, что видит.
Капитан. Акын? Да-а… В мои молодые годы так капитану не говорили, но, по сути, верно: «Капитан-акын и мелодии моря»… Это у вас первый рейс?
Вахтенный матрос. Первый рейс. В институт не захотел — не хочу я менеджером, а теперь все — менеджеры. Хоть ты зубы дергаешь — зубной менеджер. Хоть ты песни пой — пенный менеджер.
Капитан. Какой-какой?
Вахтенный матрос. Пенный. От слова петь.
Капитан. Понятно. Песенный. А в море ты кто?
Вахтенный матрос. В море я — внук деда.
Капитан. Как это?
Вахтенный матрос. Можно рассказать?
Капитан. Мы в море. Двое на вахте. Наблюдение за морем — ведем. Авторулевой на контроле. Понимаешь. Тысячи лет до нас здесь проходили другие суда и экипажи, в такую же ночь, и так же рассказывали друг другу, будто доверяли, что у кого на душе есть. Рассказывай, внук деда.
Вахтенный матрос. У нас это семейное.
Капитан. Что — семейное?
Вахтенный матрос. Гвоздь.
Капитан. Гвоздь?
Вахтенный матрос. Гвоздь.
Капитан. Что можно сказать про гвоздь?
Вахтенный матрос. Дед уже давно умер. А в потолке, в нашем старом доме, вбит рядом с люстрой большой гвоздь, я раньше думал, что это не гвоздь даже, а костыль железнодорожный, который в шпалу вбивают.
Капитан. В детстве все крупнее кажется. Дети видят мир чистыми глазами, и потому — выпукло и честно. Это — факт.
Вахтенный матрос. Я деда не помню. Бабушка рассказывала. Отец рассказывал. Как ждали деда из рейсов. Привозил он подарки. Уходил в рейс — заказывали, что надо купить: жене, детям, родственникам, соседям.
Капитан. Так ты по дедовым стопам решил: моряк-коммивояжер?
Вахтенный матрос. Нет. Совсем не так. Не то случилось. Стал дед мало возить, стали его уговаривать списаться на берег. Место нашли. И сам он, вроде как согласен был — решил попробовать без моря. Может быть?
Капитан. Может. И меня молодого наш капитан поучал: «Мальцы, не торопитесь домой, там каждое утро начинается «минусами — из вашего кармана. А на борту — совсем другое дело: на вахте ли, спишь ли, обедаешь, а каждую минуту, будто капает с неба в карман: плюс! плюс…». Но дома все-таки лучше. Пока деньги есть.
Вахтенный матрос. Вот и у нас, наверное, так было.
Капитан. И у тебя будет.
Вахтенный матрос. Проблемы?
Капитан. Проблемы типа «Папа привезет тебе из рейса вот такой паровозик», — уговаривает мама ребенка. — «А я не хочу паровоз. Я хочу, чтобы папа пошел со мною в кино. Сегодня!» — Торг. Торг затягивает детей. Дети сейчас рано понимают слово «купи!».
Вахтенный матрос. И у вас, товарищ капитан?
Капитан (вопросом на вопрос.) А у деда как получилось?
Вахтенный матрос. Он решил попытаться сойти на берег. Устроился в гастроном холодильщиком. Отработал он первый день, собрался домой, ему завотделом — сверточек, там — пара курочек: «Это вам, Гришенька, за работу…». — «Что вы, не надо…». — Не взял. На завтра — колбасу не взял. На третий день двое грузчиков отозвали в сторонку и сказали просто: «Морячок! Будешь выеживаться — лучше уходи сразу. Сам. Понял?..». С детьми тоже не складывалось. Попробовал сыну помочь мотоцикл перебирать — выпроводил: «Ты, — говорит, — батя, все равно ненадолго. Иди уж, отдыхай. Я сам разберусь»… Дочь и того проще: «Ты, пап, скоро в море?» — «Не знаю, а что?» — «Да мне косметика нужна, хотела заказать, и девочки валюту спрашивали…». Хотел ремонт на кухне затеять, но жена сказала, что уже договорилась с двумя мастеровыми, сделают как у соседей, ей нравится: «Сколько лет без тебя обходились, — добавила. — Сиди уж. В домино иди играть». — Я потому рассказываю, как по бумажке читаю, что в доме слышал об этом миллионы раз. В домино во дворе дед играть не стал.
Капитан. Верю. Потому, наверное, что не было рядом с ним какого-нибудь верного напарника типа нашего боцмана или старпома-радиста… Они бы показали!..
Вахтенный матрос. Точно! Береговая жизнь не складывалась.
Капитан. Надо было ему куда-нибудь ближе к морю устраиваться — в порт, на причалы, на судоремонт. Роднее все-таки. Хотя, многое не так тоже. Море есть море. Недаром во многих странах, если больше пятнадцати лет проплавал, то даже твои показания в суде уже не действительны, будто ты в нормальных человеческих отношениях вроде как ненормальный. Не понимаешь чего-то. А как понять? Как понять, если ты эту сухопутную жизнь только по долларовой цене и знаешь.
Вахтенный матрос. Вот и дед дома на скандал нарвался: «Ты что выделываешься?! Ты чего это нас позоришь перед людьми? Честнее других быть хочешь?! Так из честности суп не сваришь! Шел бы в свое море тогда. Толку от тебя никакого. Квартиру без тебя получали, детей без тебя рожали, мебель без тебя везли… Гвоздя в этом доме ты не забил!!!». Отец мой тогда выручил: «Дуй, батя, куда-нибудь. Пусть остынут. Им тетка из магазина сказала, что кур не берешь, настораживаешь! А чего, правда, людей пугать? Обязаловка. Все — значит все. Хоть в карман класть, хоть в тюрьме сидеть, хоть дураком притворяться. Законы страны, как законы моря, батя? Соображай! Погуляй, короче. Я прикрою. Скажу: «Дед позвал…». В смысле — прадед мой — отец деда — он в море не ходил уже, слесарил на дому. По воскресеньям приторговывал мелочевкой на рынке: сантехника, ключи, гаечки… Был крепок. Осанку имел боцманскую, носил пышные белые усы и говорил важно: «Мы — Ивановы, делая ударение на «а», — не юли чопиком1. Не цепляйся за семью, сам на ногах стой твердо, чтоб она вокруг тебя прибоем кипела. Чтобы место твое было верным. А что не по-таковски живем, так вся жизнь — исключение, исключение из правил! Умереть должны, а — живем! Еще и улыбаться хотим. Потому, не за шмотками и подарками в море ходишь — за гордостью! Вот тебе гвоздь верховой, кованый квадратным телом, смотри на него, как на мой палец, и думай!». Вернулся дед домой. И забил этот гвоздь в потолке рядом с люстрой хрустальной: «Не сметь трогать! Получали эту квартиру без меня, и мебель ставили без меня, и жили без меня, но благодаря мне и труду моему. И потому, чтобы честь мою в этом доме помнили!». И ушел опять в море. Дед мой — гвоздь был.
Капитан. Так ты, значит, внук моряка? Теперь и вахта легче пойдет. Как думаешь, Ваня? Иван Иванович? В честь деда, правильно понимаю?
Вахтенный матрос. А как вы догадались?
Капитан. Продолжай вахту деда, Иван Иванович. Все у тебя получится.
Вахтенный матрос. Я, товарищ капитан, хочу стать настоящим.
Капитан. Настоящим? Это как?
Вахтенный матрос. Чтобы на меня положиться можно было.
Капитан. Надежным, значит?
Вахтенный матрос. Надежным.
Капитан. Получится, Иван Иванович! Только — не слишком серьезно: не советую — сил не хватит. А разбавить кофейком, чтоб веселее для глаз и полезнее для вахты — не повредит. Как думаешь?
Вахтенный матрос. Я согласен. Я сейчас… (Улыбается в темноте.) Смотрите, Александр Павлович, небо какое темное. А море: здесь — черное, а там — побелело совсем. Почему?
Капитан. Шквал идет. Позвони в машину, предупреди вахту…
МОСТИК.
Продолжение.
(Входит Веничка.) Добрый вечер! Разрешите заступить на вахту? О, как море побелело. Вот это будет ливень!
Капитан. Добрый! Разрешаю… Посмотрим, какой он добрый… Проверьте второй радар, шкалу дальности меньше сделайте… Что на горизонте? Никого?
Веничка. Никого. Облачность стороной проходит. Разрешите кофейку приготовить?
Капитан. Добро, помощник. Осваивайтесь. Кофе на вахте улучшает ночное зрение… Что там боцман — слезу не пускает?
Веничка. Утомился. Затих. Смотрит в одну точку. Ребята пробуют его разговорить, но он, как в трансе. Не видит и не слышит. Может, это его психика защищается от перенапряжения и отключила восприятие? Я читал о таких случаях.
Капитан. Дай-то Бог. Но я, лично, после столь бурной первой реакции боцмана, не очень верю в прочность его психики. Боюсь, нам следует за ним присматривать. И вы, Вениамин Иванович, тоже подумайте. Ведь вы у нас кто? Маг. Кудесник. Духовная защита. Вы уж придумайте что-нибудь. Боцмана поддержите. Правда-неправда, меня не интересует. Важно, чтобы он свои силы вернул. В себя поверил.
Веничка. Я на картах ему погадать могу…
Капитан. На картах, на кольцах, на кофейной гуще — на чем угодно. Главное, повторяю, чтобы он поверил.
Веничка. Во что? Ведь, если она на самом деле к другому ушла…
Капитан. Ушла — так и Бог с ней. Жизнь на этом не кончается. Баб много. Это мужиков настоящих мало.
Веничка. А во что он должен поверить?
Капитан. Что он — настоящий. Вот такой! Моряк! (показывает вытянутую руку со сжатым кулаком.)
Веничка. Я попробую…
Капитан. Я на вас надеюсь.
Веничка. На меня?
Капитан. На всех нас, дорогой мой. Все мы сейчас — как пальцы на одной руке.
Веничка. Я понимаю.
Капитан. Вот и спасибо. Спокойной вахты. Если что — я в каюте. Да, Вениамин Васильевич…
Веничка. Что, Александр Павлович?
Капитан. Извините, деликатный вопрос у меня… (Выходят на крыло ходового мостика.) Вы не слышали разговоров о посторонних на борту?
Веничка. А что, есть посторонние? А я-то думаю: почему пасьянс сегодня не разложился? Я пасьянс разложил на удачное возвращение: экипаж известен — я на всех, кто по судовой роли…
Капитан. И что? Что не получилось?
Веничка (шепотом.) У меня людей больше получилось.
Капитан. Так. Может, пасьянс ваш предполагает встречающих? Тоже ведь с нами, можно сказать, срок отбывают?
Веничка. Как срок?
Капитан. Упаси Бог, Вениамин Васильевич! Хотя, конечно, в море мы все под дядей прокурором, а судовая роль — наш скорбный лист, если что с нами случиться.
Веничка (шепотом.) А что может случиться?
Капитан. Это, Веничка, агенты морские, во времена парусного флота, когда судно в море уходило — судовые роли по ящикам прятали. Говорили: от беды — для защиты судна и экипажа от морского сглаза. Чтоб не стал лист с именами экипажа листом поминальным и скорбным. Море. Все — под Богом. А более всего — друг от друга зависим. Какая в море главная статья безопасности, знаете? Отвечаю: не подставлять товарища. В море — спишь ли ты, кашу жуешь или о дынях задумался — кто-то за тебя отвечает. Кто? Тот, кто на вахте. Косточкой ли ты подавился, или на пороге споткнулся, или — хуже того — за борт выпал…
Веничка. Дела! Что-то ночь темная такая стала. И пасьянс не разложился. И дыни всех совсем замучили — совсем сексуальный у них вид, Александр Павлович. Каждая — как маленькая женщина перед тобой, покорная и ароматная. Оттого и посторонние.
Капитан. Какие посторонние?
Веничка. Так вы же сами спрашивали. И кокша говорила, что котлеты, которые ночной вахте оставлены были, исчезли из холодильника.
Капитан. Про котлеты я знаю. Думаю, кто-то проголодался.
Веничка. Может, боцман? Он нервничает очень, а от этого аппетит зверский — сам не заметишь, как быка за рога возьмешь и съешь.
Капитан. Быка за рога? Да, котлеты… Спокойной вахты.
Дед (входя на мостик.) Саш Палыч, я к тебе.
Капитан. Говори, дедуля.
Дед. Пойдем в каюту?..
Капитан. На крыло выйдем, не отрываясь от вахты. (Вдали сверкают молнии, высвечивая обрывки туч и волны.) Шквал идет. Что у тебя?
Минуту спустя. Продолжение.
Дед (улыбается.) Эка невидаль — шквал. Да мы их… Молчу-молчу, капитан. Есть две новости, сам понимаешь какие. Начну с хорошей. В Тунисе Веничка купил шубу, женскую. На продажу. Старпом-радист, в лучших традициях радистов флота, решил поиздеваться. Скучно. Сначала устроил демонстрацию для экипажа: вот какие шубы надо покупать женам! Целый день к Веничке в каюты ломился народ: шубу вывесили для обозрения, особо уважаемым — мне, кокше и еще двоим разрешили трогать и один раз погладить. Шерсть искрила от удовольствия.
Капитан. Ближе к теме. Пойдем в каюту ко мне. (Заходят в каюту капитана.)
Дед. Не торопись. Продолжение будет завтра. Должны пригласить на сцену тебя и в твоем присутствии разыграть трагедию. Но — завтра. Справишься с ролью?
Капитан. Постараюсь. А плохая новость?
Дед. Я к боцману заходил. Витек, моторист мой, там. Думаю, лекарствами Гене не поможешь.
Капитан. Покрепче надо?
Дед. Само собой. Ты пойми меня, Саш Палыч, с ним разговаривать надо, а какой же разговор без этого самого…
Капитан. А Гриша справится?
Дед. Обижаешь. Молодая кровь флота. Я за него, как за себя.
Капитан. Молодая кровь, говоришь? Не перехвали. (Достает из холодильника бутылку водки, протягивает деду.) Я понимаю, что сейчас не просто разговор нужен, а по душам. А главное, чтобы боцмана разговорить. Он, когда говорить начнет, все для себя и прояснит. Сам для себя. Сумеет твой Витек, такую задачу осилить, как думаешь?
Дед. Я объясню ему. Ты туда не ходи. Отдыхай. И это (почесал опять горло и бороду), не беспокойся…
Капитан. Закуску возьмите… Или это они котлеты умяли?
Дед. Боже сохрани, на своих подумать. Харча полный холодильник. Да она, наверно, ухожера завела и прикармливает, как голубочка.
Капитан. Тогда бы сама скрывала. А что — завела?
Дед. Нет, я фигурально. Кто же в своем экипаже любовь крутит? Служебный роман — сердцу обман. Безопаснее — дыни нюхать.
Капитан. А если эти дыни и на нее как соблазн действуют?
Дед. А если это любовь?
Капитан. А что — бывает…
Дед. Не-ет! Мы бы по борщу определили сразу: сол-персол, разговоров колесо, любовь — она сразу пускает сок. А женщина на виду — по ней все видно.
Капитан. Это верно. Заметили бы. Да я и не против. Если любовь — дай Бог, как говорится, на счастье. Что в кают-компании говорят?
Дед. Старпом-радист вокруг кокши прикалывается. Не любит она разговоры про мужиков и ухаживания, так он при ней и извивается, как змей-искуситель.
Капитан. Что это с ним? Заигрывает?
Дед. Нет. Это он так свою роль старшего помощника играет — отвлекает экипаж от усталости и печали. Вчера рассказывал, как захотела одна повариха женить на себе третьего механика.
Капитан. Нашего третьего — Степана?
Дед. Нет. Наш Степан сам себе пан.
Капитан. Ну, пан-не пан, а баянист завидный. Так что она придумала?
Дед. Приходит радист-артист ко мне просит: отпусти Степана в артелку, повару помочь мясо переложить. Я отпустил. А он — искуситель — с умыслом: чтобы закрыть их там, случайно как бы, типа — замок на двери защелкнулся…
Капитан. Так это у нас, все-таки?
Дед. Не-ет, капитан. Не волнуйся. Это на другом судне было. Дверь захлопнулась, а в артелке температура низкая. Замерзать механик с поварихой начали. Пока их нашли там и открыли, они по пять кило в весе сбросили…
Капитан. От холода?
Дед. Ты чего, друг, не понимаешь? От любви! Моментально у них там любовь вспыхнула, как средство выживания при низкой температуре. Потому и похудели…
Капитан. А повару нашему — Катерине Сергеевне — эта байка зачем?
Дед. А это вопрос не ко мне. Есть, значит, у нее интерес.
Капитан. А Степану, гармонисту-механику?
Дед. Вот. Правильно говоришь. В корень. Вчера в городе, третий механик наш, Степан-баянист, землячку встретил. Вот это любовь! С первого взгляда!
Капитан. Какую землячку? В Тунисе?
Дед. Ну, да, в Тунисе. Чему удивляться? Наш народ сейчас валом валит из страны: кто на заработки, кто за товаром, кто в музеи походить, а кто в баре посидеть. Как мы вчера. В баре сидели, смотрели, как корейские рыбаки с двумя нашими в рейс провожались. Половину бара к себе переманили, пивом угощали, русскую «катюшу» петь учили. Весело гуляли, скажу я тебе.
Капитан. И вы к ним?
Дед. По-морскому, как учили: бутылку взяли и поздравили хлопцев. А Степан так распелся, что с улицы народ заходил. Ты ж его знаешь — когда гармонь есть.
Дед. Да сам все знаешь: половина африканцев в Советском Союзе учились, женились, лечились, культур-мультур делали — гармонь русская в каждом кабаке теперь есть. Загрустит землячок-морячок наш по родной сторонке, а бармен уже из-под прилавка ему гармонь или балалайку показывает. Бизнес. Чуткий народ — бармены, изобретательны. Знают черти, чем нашего брата на стакан раскрутить — от музыки мы трезвеем враз и снова питье заказываем. Психология. Представляешь? Сцена в баре. Столики, барная стойка, якорь с русалкой и надписью: «Первый и последний бар!» Только для моряков и для свободных женщин! И мы — заходим…
СЦЕНА В БАРЕ.
Столики, барная стойка, якорь с русалкой и надписью: «EAST STAR. First and last Bar». Трое русских заходят с улицы.
Радист-старпом(читает надпись): «Звезда Востока. Первый и последний бар». Это как понимать?
Дед. Объясняю: идешь с причала в город — первый бар. Заходи! Возвращаешься на судно — последний! Не пропусти!
Степа. Пропустим по рюмочке, за море!
Радист-старпом. А народу-то!
Степа. И чего далеко идти? Первый — он и есть главный! Садимся.
Дед. И все наш народ — морсковатый, Степа! Вы слышали, как дышит океан?!
Женский голос. Степа! Попа! Лево! Стопа! Ай ноу раша: Лева-стопо… Сева-стополь…
Радист-старпом. Рули на голос, дед!
Дед. Не суетись. Мы медленно-медленно, как по классике сказано…
Радист-старпом. Бычара ты старый, не теряй время, его у нас просто нет, а так много успеть хочется…
Степа. Правда, дедушка, — чего время терять?
Дед. Успеем. (Садятся за столик. Огладываются.) Медленно включаемся в отдых.
Радист-старпом. Как солдат в противогаз.
Степа. Так пиво не принесли еще.
Дед. Уже несут, видишь.
К столу идут двое: официант несет пиво, чернокожая африканочка — улыбку и грудь, выглядывающую из белой блузки.
Элизабет. Вы — русски? Я знаю три русски слова: ЛЕВО! СТОПА! СЕВАСТОПОЛЬ! Губы ее смеялись над нами, дразня кончиком языка меж двумя жемчужными рядами зубов. Похоже, она просто одурманивала нас, и верить ей было нельзя. Но грудь и улыбка делали свое дело, и мы были согласны обманываться. Говорила она на смеси английского с русским:
Элизабет. Меня зовут Элизабет.
Радист-старпом. Шоколадная?
Элизабет. Чоколада, чоколада! (засмеялась.) Один русски дедушка Мурманск говорил мне: «Моя батерфляйчика-бабочка…». Лево! Стопа! Сева-стополь! (Протанцевала бедрами и грудью.)
В баре зажглись огни и яркая вывеска «Звезда Востока» с неоновыми фигурами девушек на фоне неонового фонтана и улыбающегося неонового кита. Джаз-бэнд гремел, завывая трубой, мелодией плачущей львицы, словно последний раз в жизни.
Корейско-рыбацкое застолье набирало обороты. Стали очевидны лидеры — одетый во все черное (брюки, рубашка, черная шляпа под киногероя) кореец и белокурый полноватый парень, с улыбкой и висящими усами пройдохи-хохла. Чувствовались определенные традиции компании — знать сидели не первый раз. Говорили на смеси корейского, английского, русского, не особенно заботясь о понимании. Но говорили от души, от души раскланивались и улыбались. Произнеся тост, выпивали стоя и начинали разноголосо петь либо вальс «На сопках Манчжурии», либо «Катюшу». Это было как восточный обмен любезностями. Ритуал. Первую песню — «Тихо вокруг, сопки покрыты мглой…» — пели возвышенно, осторожно переплетая слова, корейские и русские, и чьи-то «мыы-мамаа-а» без слов, мягкие и замирающие, как ночной шелест. Вторую песню, страшно уродуя произношение, старались воспроизводить на русском: «Расцветали яблони и груши…». Старались. Но хохол, видать, и в море и за столом не прощал халтуры и входил в азарт:
Хохол . Учитесь, кореезы! — Радостно кричал и обнимал рядом сидящих друзей-корейцев. — Камсамида 2 , корееза-сан! Учитесь, мореманы! Если выучите все слова правильно — я плачу за сегодняшний стол!
Второй славянин из корейского экипажа. Мы платим! Потому как моряки — эта лучшая нация!
Хохол . Это смесь всех времен и племен человеческих — вместе! — подхватывал первый.
Кореец в черной шляпе. Together! Месте! — кричал улыбаясь и показывая вверх большой палец.
Хохол . Всем запоминать слова: «Ой, ты, песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед и парнишке в море безграничном от Катюши передай привет»… Не «ясы соце сед», а «ясным солнцем вслед». Солнце — the Sun — Ке по-корейски, понимаешь? Давай, мужики, еще раз… Подпевай за мной!..
Получалось то хуже, то лучше. Кореезы улыбались и тоже радовались: Drink! To us — from ocean! To ouers best condition — together! To Catyusha! 3 «…пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет…»
— Молодцы, кореезы! — стонал вислоусый и обнимал корейца в шляпе. Шляпа сначала сдвинулась на затылок, потом упала, оголив лысину «киногероя». — Катюша — это моя родина. Россия — Корея, понимаешь? Моя мама. Девушка моя — Катюша. Понимаешь, мастер Ли?!
Мастер Ли отбросил шляпу, забыл про лысину, расчувствовался и повторял:
— Катюша-Корея… Катюша-мама… Девочка моя…
— Камсамида, мастер Ли… За Корею и Россию.
Когда компания пела, джаз-банд пытался аккомпанировать и всячески выражать симпатию. Товарищ вислоусого хохла поднялся в очередной раз, нащупал глазами джазменов и показал руками и пальцами клавиши и меха воображаемой гармони. Те поняли и притащили откуда-то настоящий баян, может проданный за стакан водки загулявшим славянином, а может, забытый в угаре моряцкой драки. Товарищ хохла присел, тронул меха, но пробежать пальцами не получилось — он сконфуженно показал три обрубленных пальца правой руки. «Простите, хлопцы! Забыл, дурак, что их нет, а они же у меня так играть просятся!? Три сыночка мои…». — И заплакал.
Степа(бережно отстраняя шоколадную Элизабет, поднялся над столом.) А ну, землячок, дай душу расправить! (и протянул руки к гармони.)
Шум в баре притих на пол тона, и все смотрели, как гармонь передавали из рук в руки, над столами и между людьми. Несколько раз при этом меха издавали всхлипы и вздохи, будто была гармонь живая и помнила, как поцелуй, три пальца-обрубка на клавишах.
Степа не стал ждать, пошел навстречу ей, получил и приладил на грудь, будто девушку прижал и обнял. И вдруг, не давая никому опомниться или усомниться, сминая секундную тишину и тарелочный звон, Степа потянул меха, побежал пальцами сверху вниз и опять вверх, и знакомая мелодия заплакала по-русски: «Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали, товарищ мы едем далеко, подальше от русской земли…» Корейцы тоже понимали смысл песни про оставленную родину и про «напрасно старушка ждет сына домой…» Вислоусый казался счастливее всех и повторял громко: «Земляки! Славяне! Давай, к нам. Что нам делить? Море? Земляки, — глядя на нашего деда и определяя его как главного среди нас, попросил: — скажи тост!»
Дед не стал томить и сказал просто: «За наших мам, — добавил, — чтобы им не плакать…». Слово стало повторяться и множится звуками и взаимным пониманием, будто все, каждый на своем языке, услышал, произнес, и понял дорогой каждому смысл. Все встали и выпили стоя. Кореец долго говорил на корейском и потом запел. Мелодией песня напоминала нашу, есенинскую: «Клен ты мой опавший, клен заледенелый…». Девочки-проститутки сидели смирно, грустили, будто жили одну жизнь вместе со всеми. Кто-то успокаивал, целуя, смотрел в глаза, пытаясь унять моряцкую боль. Этот бар был похож на заплеванное чистилище грешников и храм для молитвы смертных. Смертные молились, поднимая бокалы с разбавленным виски и роняя пепел с обгоревших сигарет, а грешницы расстегивали морякам вороты летних рубах и целовали загорелые груди и шеи, шептали слова на непонятном языке, унося в поцелуях угасающие блики сознания, печали, восторга…
«Розпрягайте, хлопцi, коней, тай лягайте спочивать», — загрустила гармонь.
Степа рубанул меха и запел громко и чисто: «…а я пiду в сад зелений…». Вдруг чистый девичий голос подхватил с улицы: «…в сад криниче-еньку копать…». Степа встрепенулся, как конь на привязи, но бежать уже не нужно было, ибо девица явно южнорусского происхождения вошла в бар и остановилась, выискивая поющего глазами. Степа встретил ее вопросительный взгляд и показал рукой напротив себя, где понятливый кореец уже подставлял ей стул и приглашающе улыбался.
Женщина, было ей лет за тридцать, полнолицая, загорелая, с живым белым цветком в черных волнах роскошных волос, смотрела на Степу с баяном, как на долгожданного родственника, ибо никого не замечала более.
Он сам налил себе и ей водочки. Подал. Пододвинул тарелку с рыбой: «Звеняй, бо нема ни огиркив, ни сала».— Поднялся над столом: «За дом, та дивчину в ём». — Улыбнулся ей, и оба выпили медленно, продолжая поедать друг друга глазами. Она хватала ртом воздух в поисках подходящей закуски, а он осмелел, протянул руки и обнял ее: «А чи не лучшая закуска — поцелуй?!», — и она только засмеялась в ответ и подставила губы. Крепко и откровенно. А когда он отпустил ее — трудно было тянуться через стол — она упала на стул и заплакала, уронив лицо в ладони.
Это была хорошая минута! Джазмены заиграли аргентинское танго, пары потянулись из-за столов…
Ночь подходила к концу. Мы давно перемешались в компании корейцев и соотечественников. Есть это понятие «облегчить душу». А чем ее облегчить? Рассказать об опустевших родных причалах, городах без света, женщинах-челночницах и таможенных кордонах на Керченской переправе? Не нужна эта правда позорная. Не поможет душе.
Но не можем без слов о политике. Сидит в нас этот ген — ответственности и боли. И мы колупаем его, как гнойную рану, пока не пойдет кровь:
— Почему Севастополь отдали?
— Да что Севастополь, когда целую страну, как семью, разрезали. Брат — в Казахстане, сестра — в Прибалтике, могилы родителей — в Крыму остались…
— Демократия! Теперь достаточно, чтобы «адвокат шустрый попался», а «честь и совесть» — теперь не в моде.
— Нет потому что такого субъекта — «родина», есть — «государство».
— Государство чиновников и политиков. Они его кроят и обрезают, подгоняют под себя, как костюмчик. Плох будет — другой найдут…
— На Кипре…
— Ты тоже не дома.
— Я дело свое знаю и делаю. И только «при деле» я нужен и семье, и стране, если об этом речь. И себя не уроню.
— Ты из дома ушел, потому что там тебе копейки платят.
— Там ничего не платят. А я — мужик. Мне семью кормить надо. И ждать, когда государство обо мне вспомнит, не буду. А если отдельно от него выгляжу, так это оно меня изжевало и выплюнуло. И меня, и тебя. Только без нас это и не государство уже, а свалка. Дурное место. Безрадостное и пустое пространство. Оно обескровило без нас. Жить перестало. Как океан, когда был бы, представь, без чаек, рыб и кораблей. Мы — кровь!
— Резон.
— Каждый живет свой вариант. Выбирает свой риск.
— Согласен.
— А риск есть у каждого. У шофера, бухгалтера, у строителя, что стоит под башенным краном… Только я выбираю — море. А что там, в этом море, со мной происходит — это мое. Не трожь!
— Согласен!
— И этот мандраж, когда весь как струна вытянут, и нервы звенят и вот-вот лопнут — это мне как чечетка души. Как второе дыхание. Как ген! Ген нации, отличающий нас во Вселенной. Как «ура!» или «авось!» Как русское «занюхать корочкой!». Да с огурчиком бочковым! Да чихнуть «на здоровье!» Да уши надрать, чтобы отрезветь в момент — народное средство и проверено народом! Чувствуешь ген в себе? Конгломерат! Не можем мы затеряться. Не имеем права. Мы — умнее! Талантливее! Мощнее!
— А в каждом из нас крупицы Менделеева, Пушкина, Разина, Теркина… Широта и размах. Ген — смеяться и выживать. Возрождаться! Мыслью и делом!
— И дай Бог — с родиной!
— Ох, любишь красиво говорить… Родину ему… Пей, давай.
— А за женщину?!
— Конечно…
— А за моряков…
— А за пароход…
— А за…
— «Мы вернулись домой в Севастополь родной…» — потянул кто-то.
Корейцы пели свое. Мы — свое.
Шоколадная Элизабет просила спеть какие-то песни про «красивых девочек» и про «птичку». Первой песней оказалась «Зачем вы, девочки, красивых любите непостоянная у них любовь». Второй оказалась «Дивлюсь я на небо…».
Ребята слабели. Оркестранты собирали инструменты. Бармен устало протирал фужеры и пялился в экран телевизора. Братья корейцы устали, и кто ушел к девочкам, а кто спал. Вислоусый земеля попросил у Степы баян и, будто отделившись ото всех, с трудом выводил на баяне обрывки мелодий.
КАЮТА КОКШИ.
Стол, диван, цветная занавеска отделяет спальный угол. Катерина Сергеевна вышивает, сидя на диване и укрыв ноги пледом. Стук в дверь и голос старпома:
Катерина Сергеевна! К вам можно? Мне очень надо поговорить… (Она поднимается и идет к двери.) Заходите…
Радист-старпом. Катерина Павловна, добрый вечер! Извините, что я так поздно. Ох, какой сейчас ливень ударит! Я каяться к вам пришел.
Кокша. В чем это, чиф? Ночь, ливень — к чему предисловие? Тебе перед вахтой поспать надо. Влюбился?
Радист-старпом. Нет. То есть — да. Только по-другому. Я ваши котлеты вчера съел. Такие котлеты вкусные, что я сам не заметил, как получилось.
Кокша. Ну. И на здоровье. Я рада. Только сказать надо было. Я весь день голову ломала: кто съел? кто съел?
Радист-старпом. Знаю. Виноват. Видно, с устатку после бара. Слышали, как мы там отметились? Степа наш — молодец оказался. На высоте, можно сказать.
Кокша. Тоже влюбился?
Радист-старпом (переходя на «ты».) Заметила? Прости, Сергеевна. Да я ради Степки на такое дело пошел… только ты помочь можешь.
Кокша. И ты на дыни насмотрелся, на сладкое потянуло. Говори прямо — что надо?
Радист-старпом. Умная ты, Катерина Сергеевна. Ничего от тебя не скроешь. Влип я в одну историю. Любовь меня подвела.
Кокша. Говори прямо. Шприц надо?
Радист-старпом. Не-ет. Как предохраняться — это я знаю. Я женщину на судно привел.
Кокша. В Тунисе? Африканку? Тайно?
Радист-старпом. Русская она. Приехала сюда на заработки и застряла. Документы и деньги у нее украли. За час до отхода из Туниса пришла к борту. Я ее и провел. Никто не видел. У них ведь не так как у нас — пограничников на причале нет.
Кокша. А зачем ты ее привел? В каюте посидеть? Котлетами накормить?
Радист-старпом. В Россию ее везу. Пропадет она здесь. Пожалел. Так получилось.
Кокша. Как получилось? Ты в своем уме? Это же — контрабанда живого товара. За это — в тюрьму. Кого? Капитана, в первую очередь. Тебя? Какой с тебя спрос? Капитан тебя на свой страх и риск старпомом взял: вахту с тобой стоит, груз за тебя считает. Учит тебя, радиста-артиста. Капитан за тебя и расплатится — добротой и свободой. Жалельщик хренов. Женщину на причале жалко стало? А капитана тебе не жалко? Куда ему теперь? Ты знаешь, что твоя «любовь причальная» — это капитану нашему — приговор. За что?
Радист-старпом. Брось учить, Катерина Павловна. Сам все понимаю. Кому я еще могу все сказать? Капитану — не могу. Степке-механику — не могу.
Кокша. А Степушка тут причем?
Радист-старпом. Так я же для него старался. Это же он Любу в баре встретил, и любовь у них разгорелась.
Кокша. Какая Люба? Какая любовь, дурак ты! Какая любовь может быть к этой девке в баре? Да я здесь, каждый день, каждую котлетку для него…
Радист-старпом. Ты чего, Катюша? Ты чего? Разве ты…
Кокша. Все! Хватит обо мне. Говори толком: что надо? Да не смотри на меня так! Я — кокша, член экипажа. Ты — старший помощник. Что надо?
Радист-старпом. Во-первых, никто на борту не знает.
Кокша. А Степан?
Радист-старпом. И не догадывается. Да и все у нас сейчас боцманом заняты. Боятся, что за борт прыгнет или вены почешет. Подумаешь — жена с кем-то спит… Первый, что ли?
Кокша. Ты не только дурак, оказывается, а еще и предатель. Предатель! Друга своего понять не можешь! По-мужски, по-человечески.
Радист-старпом. А для кого я стараюсь? Про боцмана я не мог знать — без меня случилось. А Степан с Любой — это у меня на виду было. Знаешь, как они пели? Как они радовались друг другу! Да такая любовь — она только раз в жизни встречается. Какие тут границы с паспортами могут быть? Придумаем что-нибудь. Чтобы стать капитаном, надо научиться принимать ответственные решения! А Люба — наша, русская. Оказалась в чужой стране. В трудном жизненном положении. Как я мог не пустить ее на борт? Я же не знал, что дед ночью на палубу пойдет…
Кокша. А дед причем?
Радист-старпом. Дед нас заметил, но подумал, что это я с тобой был.
Кокша. Ты? Со мной?
Радист-старпом. А что — я? Не могу с тобой рядом стоять? Плох для тебя?
Кокша. Размечтался. Ох, и дураки вы мужики. Дураки… Ну, и что же ты надумал делать? Контрабандист-любовничек…
Радист-старпом. Во-первых, ее кормить надо. Регулярно. Горячим. Ночью холодно.
Кокша. А где ты ее прячешь?
Радист-старпом. На самом видном месте, куда никто не смотрит: на пеленгаторной палубе. Там, в основании мачты помещение есть, маленькое. В нем раньше радио-ЗИП хранили.
Кокша. На палубе?! А дождь? А холодно? Страшно!
Радист-старпом. Днем — не страшно. А ночью — там звезды видно, красиво…
Кокша. Какие звезды, придурок? Покушать? Какое покушать, когда женщине в туалет надо? А Степан о чем думает? Степан-барабан, музыкант дубовый!
Радист-старпом. Степан ничего не знает! И не догадывается.
Кокша. Какие же вы, мужики, тупые. Говорите: любовь горит… Забыть не сможет… А представить на секунду, что девушка сейчас на ночной палубе морской болезнью страдает, блеска фонаря боится — этого чувствовать ты не можешь! Не о вечной любви и не о товарищах ты, артист, думал. Ты себя перед ней героем видел: смотри, Люба, какой я всесильный и смелый — тебя через море на родину перенесу! Ответственное решение принял — женщину на родину везу. Так думал? А о том, что она волны морской под собой никогда не испытывала, и сейчас там на палубе дрожит от каждого крена с борта на борт — думал?! Какой ей теперь Степа нужен? Забыла она все за одну только мокрую ночь. Сам говоришь: ливень будет! Какая любовь? Какое геройство за чужой счет? — предательство. Товарищей своих и капитана — предал?! Вот и все твое благородство. И все твое нутро — как котлетки с камбуза — вороватое. Что делать будем, товарищ радиостарпом?
Радист-старпом. Надо Степке сказать. И капитану. Надо признаваться… Капитан решит.
Кокша. Надо. Надо тебя в море макнуть. Мозги промыть. Холодом проморозить. А только — не сейчас. Сейчас беги к ней. Быстро! Приведешь ко мне в каюту. У меня и согреется, переоденется, успокоится, и слезами умоется. И душ с туалетом, и одеяло теплое, домашнее.
Радист-старпом. Я сейчас Степу найду…
Кокша. Немедленно! Веди ее прямо ко мне! Она же с ума сойти может. От страха, от темноты, от непонятности… От тебя, дурака. Понял?!
Слышно, как нарастает за бортом шум ливня и ветра. Гремит гром.
Действие второе
КАЮТА КАПИТАНА.
Дед и капитан.
Дед. Все, капитан, ухожу спать. Утро вечера мудренее. Да и сон хочу увидеть сладкий…
Капитан. Дынь нанюхался. Пойдешь океан слушать?
Дед. Ясное дело: шумит, дружище океан! (понижая голос) Средиземноморский… Слушай, кэп, а дыни эти — просто сексуальные какие-то. Даже мухи, которые над ними вьются, обалдели и все, представляешь, непотребным делом прямо на лету занимаются…
Капитан. На лету? Ночью? Видел?
Дед. Точно. Своими глазами. Там же, на корме, свет горит… Ой, домой нам надо скорей! (Подмигивает, теребя бороду и закручивая ус.) Там я вспомню про эти дыни… (Выходит.)
Капитан (один в своей каюте, раскрывает толстую тетрадь, читает вслух и говорит сам себе, записывая): Говоришь, как акын: что вижу, о том и пою? А это в традиции русского флота — делать записи морской жизни. О погоде, о волнах, о людях на берегу и в экипаже. О дынях на палубе и женщинах в сердце…
Ах, женщины! Теперь все разговоры на судне будут о вас. Теперь полетят тормоза к черту. Надо остуживать экипаж. Кончай расслабляться, мальчики! О чем размечтались!? О женах? О встречах? О домашней яичнице? Не торопитесь. Чего домой рваться? Что вас там ждет? Кто? Чего там мужику делать — дома? Ему бы работу не проморгать. Он только работой и красив, и нужен, и в себе уверен. Вся история человечества тому учит. Война ли, крестовый поход, великие географические открытия, стройки коммунизма, угольные шахты или подводные лодки — чего только мы не проходили и не осваивали ради этого самого «женский взгляд… мужское достоинство… она еще пожалеет… вернется… посмотрит…» И запоминают, бедолагу, по фотографиям, портретам, газетным вырезкам… И дети нас по фотографиям узнают, пальчиками показывают… И жена меня такого, как на фотографии, помнит и …любит?!.
Теперь-то обо всем говорят. И в части семейного интима. Чем заменить? Как? И какое при этом удовольствие получается… Я этот фото-семейный секс, можно сказать, всю жизнь осваиваю, а вот с удовольствием — не получается. Или, как моя жена говорит, с удовольствием — дороже?.. Да уж. Не о цене. Какая цена — коль о собственной жизни! О собственной… любви. Или это не любовь? Или это не жизнь?.. Потому так боюсь возвращения домой. Поймите правильно. Боюсь первых минут, первых реакций.
Женщины — непредсказуемы. Я бывало к дому подхожу — позвоню дважды: первый раз — за две трамвайные остановки (цветы покупаю), потом — за две минуты до входа в подъезд, из углового автомата. А иначе как? Звонишь в дверь, представляешь, что сейчас жена (любовь — можно сказать) двери откроет, бросится в халатике, халатик распахнется… А она — открывает дверь, в чем-то не сексуальном, на лице маска из зеленых огурцов… Голос — чужой. Это мне-то?! «Раздевайся на пороге. Марш в ванную. Целоваться потом. Свою идиотскую бороду оставишь вместе с грязным бельем и прочей дорожной дрянью на вынос…— Я хотел бороду детям показать…— Выбирай: или я — или…»
Секса нет. Поэтому я этих первых минут боюсь, как черт ладана.
Понятно, что женщина ждет. Хочет выглядеть красивой. Хочет показать себя хозяйкой. Но лучше тогда встретиться на улице, на виду у прохожих. Чтобы у нее подкосились ноги от радости, и слезы потекли, и глупые слова: я не успела в парикмахерскую… Дома картошки нет… Я хотела тебе сметанку купить, и укроп… Ты любишь… Ты так пахнешь. Самолетом. Поездом. Я так соскучилась по твоим запахам…
Это целое искусство — приготовиться к встрече. Этому учиться надо. Возьмите проституток. Не зря эти девочки тысячелетия пережили? Они на первооткрывателях и инквизиторах, на королях и коммивояжерах свое искусство шлифовали. Эти женщины не телом берут. И телом, конечно, но, главное — отношением. Отношением ни к мужчине — она тебя не знает, ни к ситуации — ситуация примитивная: плати и получай. Отношением к предназначению — дать! Счета еще нет, еще не известно, чем все закончится — банальным сексом, выпивкой, мордобоем или любовью… А почему — нет? Из проституток, между прочим, хорошие жены получались. Ведь от этой предрасположенности — дать! — женщина видит и ведет себя по-другому. Она — не умнее, не красивее. Она — осторожнее, внимательнее. Она — чужая, но чуткая. В ней что-то от жрицы и врача. Доброжелательность? Нет. Поощрительность? Да. Поощрение. Во взгляде. В голосе. В движении рук. Дескать, да! Ты все делаешь правильно… Ты делаешь это лучше всех… (Это я-то?) Она ломает наши представления о разности в возрасте, физических возможностях… Но ломает — навстречу. Ломает, как если бы она ломала лед вокруг вас, чтобы вы могли двигаться к берегу. И от этого сразу: какая женщина!..
И говорю я не о славе древнейшей профессии. Я о женщине говорю. Умной. Красивой. Красивой в смысле умения красиво выглядеть в ситуации. Достойно выглядеть.
Ведь глупо рассуждать, что, мол, мужику только «это» надо… Мужику очень важно увидеть себя со стороны. Тогда он сразу понимает — кто ему нужен рядом. Помните русское «не по Сеньке шапка», вот!.. Это жизнь нас дурачит и путает, а в принципе мы — мужики — очень сообразительные. Как мы на курорт приезжаем. Вечером — слепенькие, хроменькие, красивые, длинноносые, русые, черные, в крапинку — все по стенкам стоят, присматриваются. А утром — гляди-ка! — слепенькие к слепеньким, хроменькие к хроменьким, красивые — тоже парами. И так до последнего денечка. И такая любовь?! Почему? Потому как время ограничено и каждый со стороны, как на ладони. А мы ведь все, и мужчины и женщины, более всего и именно со стороны, боимся смешными выглядеть.
СЦЕНА В СУДОВОМ КОРИДОРЕ.
Ночь. Каютный коридор судна.
Тишину разрывает звонок тревоги: семь коротких, один непрерывный… крики с мостика и объявление по спикеру: «Тревога! Посторонние на борту!..». Трель звонка общесудовой тревоги заглушается топотом ног, шумом открываемых дверей, вопросами и перекличкой: где? кто видел?.. С пеленгаторной палубы побежали… Где-то здесь спрятались… Осматривайте каюты! Они в каюты могли забежать?.. Да кто же? Кто?! На борту только свои… Двое были: женщина и мужчина… Женщина и мужчина?! Не выдумывайте, Вениамин Васильевич, вам показалось… Мне показалось? Если это Катерина Сергеевна, то почему она побежала от меня?.. Пойдемте к каюте повара… (Стук в дверь.) Катерина Сергеевна! Откройте!..
Капитан. Катерина Сергеевна, откройте.
Кокша. Сейчас, Александр Павлович. Сейчас. (Открывает дверь и выходит в коридор.) Что случилось? Я слышала тревогу, но должна была одеться. Кого-то ищут?
Капитан. Вы — выходили из каюты ночью на палубу?
Кокша. Да, выходила.
Капитан. Вы были одна?
Кокша. Александр Павлович, что за вопросы к самостоятельной женщине?
Капитан. Простите, но мы здесь — экипаж. В вашей каюте есть посторонние?
Кокша. В моей каюте находится старший помощник. Мы выходили с ним на пеленгаторную палубу, и он мне показывал звездное небо. Кассиопею, кажется. (Из каюты выходит радист-старпом.)
Радист-старпом. Извините, Александр Павлович, что такой шум из-за меня. Хотел в темноте за Катериной Сергеевной поухаживать, а весь экипаж поднял.
Дед. Поухаживать? Дела. Дыни. Как в старой песне: если нравится флот красавице…
Капитан. Отставить. Не надо пошлить. (Обращаясь ко всем.) Тревоге отбой! Свободным от вахт — по каютам! Отдыхать… утро вечера мудренее.
КАЮТА КАПИТАНА.
Стук в дверь и голос Гриши:
Гриша. Александр Павлович!
Капитан. Кто там?
Гриша. Это я. Гриша-моторист… Извините…
Капитан. Что-то случилось?! С Геной? Живой?
Гриша. Живой. Не волнуйтесь…
Капитан. Ну, говори. Что там?
Гриша. Александр Павлович, нам это… нам водки не хватило…
Капитан. Как не хватило?.. Вы что там, всем экипажем клюете? Как воронье на чужую беду?
Гриша. Мы же, как лучше хотели… каждый по-своему…
Капитан. Что он? Успокаивается?
Гриша. Непонятно. Глаза красные, как у карася пойманного. И мозги, похоже, как у карася, будто тиной набиты… Слышит ли, понимает нас? Не знаю.
Капитан. Вы пытались его из состояния выбить: разговоры, анекдоты, житейские истории?..
Гриша. Рассказывали… что неизвестно, кому повезло… что худа без добра не бывает… что одному — еще лучше…
Капитан. А это пели: без женщин жить нельзя на свете, нет…
Гриша. Нет…
Капитан. То-то. Не охать и вздыхать вокруг него надо, а нацеливать. Понимаешь? Женщин красивых знаешь сколько? Особенно у нас. В эсэнговии. Умницы. Умелицы. Самые красивые в мире. Это я тебе абсолютно точно говорю. Национальное достояние! Африканки, вьетнамки, японки — тоже, конечно, хороши. Но у нас-то все перемешаны. От Камчатки до Польши! От Севера до Азии! Коктейль! Все — самое лучшее! Дыню видел? Сверху корка, а аромат — вьется. Только улови его. Только помоги ему наружу прорваться. Чуть-чуть помоги. Для этого ты и мужик. Понимаешь? Вот о чем ему говорить надо. И в этом вопросе пошутил нету. Некогда раскисать. Пришел на эту землю — делай свое мужское дело: расти, работай, люби. Но так делай, чтобы и тебя любить хотелось! Ведь женщина без достойного мужика, как бутон без солнышка — не расцветет. На нее смотреть надо. Вздыхать. Стихами говорить с ней. Чтобы она улыбнулась. И все человечество от этой одной улыбки будет множиться и улыбаться. Знаешь, почему мамонты вымерли? Не знаешь! Она говорит: давай, миленький, будем любить друг друга. А он отвечает: давай еще поспим. Гад такой! И вымерли. Понимаешь?! Понимаешь, какая на нас ответственность. В глобальном масштабе, а?! Бери бутылку и начинай все сначала. И выгони всех из каюты. Это не пьянка, а дело серьезное. Понял? Смелей, Гриша, вы наша смена — молодая кровь флота! Вам останавливаться нельзя… (Гриша выходит из каюты.)
Капитан. Что за ночь? Видно, не уснуть мне уже. (Берет в руки свою тетрадь, пишет и читает вслух.)
Эх, молодо-зелено. А мы без женщин не могли ни дня. В том смысле, что хоть поговорить о них, хоть вспомнить. И все мои друзья до этого дела жадные были. Потому что без женщин — беда. Куда без них? Как?! И вино не течет без них. И песня ни в радость. А водка? Кому она нужна была бы, если бы не за женщин пить надо? Надо! За любимых! «…Были когда-то и мы рысаками…»
Эх, хорошая штука — жизнь!
Но меня не проведешь. Я знаю, что женщина — это совсем другой мир. Это генетически, клеточно, от мозга до тембра голоса — другая Галактика. И другое тысячелетие. И другой способ выражать себя. Ведь, как они смеются!? Смотрят! Как пальцами касаются… Змея! Луч солнца! Кошка! И перо взлетевшей перед носом птицы… Фантастика. И яд. И мед. И колдовство. Нам, мужикам, как в темноте над пропастью идти и вдруг зажмуриться от вспыхнувшего света — так женщину увидеть! Нельзя — расслабиться, поддаться и ослепнуть! Не верь, мужик! Ищи в ней слабое звено. Противное. Чем хуже — тем спокойней. Найдешь — она твоя. И будет не опасна, как у змеи ты знаешь яд, у кошки — когти, а у солнца — жар. У женщины есть женская душа. Она — и Богу тайна.
Ты должен эту тайну раскусить. Как яблоко. Увидеть косточку. Ее никто не ест, но из нее, заметь, растет и расцветает сад. И даже червячок внутри — не портит плод. Когда ты неприятное о женщине узнал, допустим, что не любит гладить брюки, селедку чистить не умеет, или от шляпок летних без ума… Достаточно! От этих безопасных слов вся женская душа вдруг проступает, как берег сквозь туман, как только слышен стал прибоя шум или туманный буй нам место обозначил. И все уже не страшно. Коварство, тайна, красота, и поцелуй, и вздох — все можно пережить теперь. Игра уж не опасна… Меня не проведешь… Я знаю твой изъян… Он есть. Он в каждой. Он в любой. В тебе — нашел! Теперь ты можешь быть прекрасна. И чарами своими колдовать. Просить подарки, сладко ворковать, закатывать глаза, немножко врать. Теперь ты — милая! И можно целовать, расслабиться и философствовать. О, проза философии мужской!
— Женщина должна уметь варить борщ, штопать носки и знать, сколько метров ситца нужно мужу на трусы, — говорит наш старший механик.
— Мужчина должен быть худой и бегать, а женщина должна быть полной, лежать и ждать мужа, — говорят арабы.
— Ой, дурят вашего брата эти бабы. Ой, дурят! — говорит мамуля. — Они же хитрющие, а вы — дураки против них. И так вам и надо.
— Не слушай своих друзей, не читай пословицы… Слушай свою маму. Мама правильно говорит. Ты очень доверчивый. Очень нежный. Тебя легко обмануть. И я тоже хочу тебя обмануть и заманиваю в свои сети. Но я говорю тебе это откровенно. — Смеется моя тяжеловесная и продолжает меня целовать. И я не сопротивляюсь. А чего сопротивляться? Я вижу ее изъяны. Я себя предупредил. Она толстая — это раз. Это первый недостаток. Но мне, правда, это нравится. Я люблю видеть ее тело во всех зеркалах. И во всех зеркалах она мне улыбается. Как она это успевает?
— Знаю, что ты любишь за мной в зеркалах подглядывать. Я еще одно зеркало купила, ты заметил? Я у тебя, как целый гарем. А лицо одно, только для тебя, любимый…— И опять улыбается мне со всех сторон…
Как она умела это сказать: лю-би-мый… Музыка, а не слово.
И как откровенно она пытается меня завлекать. Даже не скрывает. Другие женщины молчали, ждали, вздыхали, таинственно закрывали глаза, а эта — давит напролом. Как танк. Вот. Второй недостаток. Она на меня давит. Не в буквальном смысле, конечно. Я не против тесного общения. А психологически.
— Не можешь ничего мне сказать — не говори. Мне достаточно, что ты со мной, любимый… Любимый. Мне так травится это повторять. — (А мне — слушать) — Ты мой любимый. Я знаю, что ты уйдешь, что это ненадолго. — (Я тоже знаю) — Но зато я успею тебе сказать это столько раз, сколько буду это чувствовать… Любимый…
И мне не хочется уходить…
Это третий недостаток — мне не хочется уходить. А я должен уйти. Женщина — это другой мир. Другая Галактика. Это чуждая биологически и клеточно микрофлора и фауна. И энергетически!.. Предупреждали меня: смотри, кореш! Эта баба хочет тебя охмурить. Осторожно! Эта веселая баба — ох, опасная штучка! Ей лишь бы петь, танцевать, радоваться. А чему радоваться? Впереди, как бильярдная луза — семья. И ты собственным кием, можно сказать, сам себя в эту лузу гонишь. Зачем? Тебе жить. Думай. И на мать посмотри. Ты ее послушай:
— Ой, сынок, думай сам. И любит она тебя. Вижу. Очень любит. И красивая. Но такая большая! Такая большая! Красивая девка. Ой, погубит…
А танк свое давит:
— Ты о чем это все думаешь, милый мой? Или считаешь что? Так нечего считать. Вот ты — вот я. Чего нам считать-то? Богатство наше все в том, что тебе со мной хорошо, я с тобой — просто счастлива. Ой, пережили голод — переживем и изобилие! Задавлю сейчас!!!
Надо искать недостатки. Жениться можно только тогда, когда точно и осознанно знаешь недостатки. Ну и конечно, если с этими недостатками ты сознательно готов примириться. Отец мой как говорил? «Женщины делятся ровно на две половины: которые для семьи и которые для блуда. С первыми — надежно, с другими — весело. А как определить — где какие? — тут, сын, как отец тебе говорю, никакой жизни не хватит…» Опять думать надо. Опять искать. Шарада какая-то… Врет радист-артист. Врет Катерина Павловна. Нет между ними ничего. А что есть? Утро вечера мудренее.
СЦЕНА НА МОСТИКЕ.
Утро. Море. Ходовая рубка. Разные слова и мысли под хорошее настроение, рассказывающие о морских буднях. Море за бортом чистое и яркое, будто умытое ночным ливнем. Небо, волны, чайки — все яркое и первозданное, как в день сотворения мира.
Капитан. Всем доброе утро! Старпом, чтобы все расставить по местам и забыть вчерашнее, какое-то объяснение приготовили?
Радист-старпом. Простите меня, Александр Павлович. Рано мне еще в старшие помощники. Подвел я вас.
Капитан. Вы серьезно это затеяли — ухаживать за Катериной Сергеевной?
Радист-старпом. Да она на меня и не смотрит. Смеется только. Тут все не так, как вчера показалось. Потому и побежали. Стыдно.
Капитан. Стыдно? Стыдно, что не всю правду капитану говоришь?
Радист-старпом. Мне самому подумать надо, Александр Павлович.
Капитан. Ну, иди. Отоспись после ночи. Подумай. Время есть. До прихода в родной порт еще пять суток. Да, а что там с шубой, по ходу пьесы? У вас весь сценарий расписан?
Радист-старпом (чешет затылок). Так принято на флоте — над неумехами посмеиваться. Другим — весело. Ему — наука.
Капитан. А в чем тема?
Радист-старпом. Да говорили ему: шубы покупают в Греции или в Москве. В Греции — красивые, в Москве — теплые. А в Тунисе — какие шубы? От жары, из шкуры крокодила? Пожадничал — слишком дешево хотел. А в море, как вы говорите, за все приходится платить. Теперь — до самого дома будет шубу развешивать и ладошами хлопать.
Капитан. А ладошами почему?
Радист-старпом. Так моль.
Капитан. Какая моль?
Радист-старпом. Я ладошами хлопнул и крикнул: «Моль!»
Капитан. Театр. Понял. А кому покупал?
Радист-старпом. Если б кому-то, то я бы не стал балаган устраивать, а на продажу — всем свою долю улыбки получить надо. Надо? Да он сам потом улыбаться будет, увидите!
Капитан (улыбаясь). Ну, если будет улыбаться — открывай занавес!
Радист-старпом. Я постараюсь. Спокойной вахты.
Капитан. Добро. (Входит старший механик.)
Дед. Прошу добро, капитан!
Капитан. Доброе утро! Рад тебя видеть.
Дед. Торопишься мысли разложить по полочкам?
Капитан. Не получается по полочкам. Не сходится. Не мог он за нашей Катей-королевной ухаживать. Да и она его, разве что в слуги определить могла. Так что ее на пеленгаторный мостик увлекло?
Дед. Тем более, что вторую ночь…
Капитан. Вторую ночь?
Дед. Я тебе не говорил, что в ночь по выходу из Туниса тоже видел двоих наверху. Темно было. Показалось только, что мужчина и женщина, а кто именно — не увидел. Да и вообще думал, что показалось мне. Потому и не сказал. Думал — дыни меня увлекли…
Капитан. Дыни, говоришь? Ладно, доживем до вечера. Тем более что у нас еще боцманская эпопея в самом разгаре. Всю ночь сегодня с Гришей твоим правду жизни искали. Выйдут ли на работу — философы — Гриша с боцманом?
Дед. Эти? Эти выйдут. Эти свое возьмут. И философию под водку. И работу на закуску. Эти — могут!
Капитан. Ладно. Отдохну на вахте, посмотрю на море.
Дед. Ладно. Побегу в машину. (Уходит.)
Капитан садится около иллюминатора, смотрит на горизонт, пишет в дневнике, который держит на коленях и читает:
С утра продолжали мыть грузовые танки.
Жду — выйдет ли Гена. Вышел. Молчаливый. Но, как обычно, собранный и работоспособный. Тянул за двоих. С каким-то остервенением, никому не доверяя, сам лез в горловину, проверяя качество работы. Вылезая из танка, он либо показывал большой палец, и тогда два матроса демонстративно разводили руки в стороны и улыбались, либо — кулак, и тогда они, подхватывая скребки, ведра и ветошь, вместе с боцманом исчезали под палубой.
Пароход живет своей жизнью. Бежит, покачиваясь. Охает, проваливаясь или больно ударяясь на волнах. Свистит из машины напряжением турбин и металла. Он напряжен как большой и раненый зверь, который ежеминутно прислушивается и присматривается к себе: что болит? где болит? выдержу? И осторожно продолжает двигаться, оберегая больное место.
…Я снова нащупываю дорогу к тебе. Женщина моя! В полете. На воде. Взлетая. Утопая. Проваливаюсь. В другой мир. В другое тысячелетие. В другую Галактику. К запаху твоих волос. К телу и улыбкам из тысячи зеркал. К прикосновению твоих пальцев. К …соприкосновению нашему…
Боже, как долог этот рейс…
ВЕЧЕР ТРЕТЬЕГО ДНЯ.
Мостик.
Капитан. Как пел бы акын: вечер третьего дня. Закончили мыть танки. Кажется, можно вздохнуть с облегчением. Но, недаром говорили в старые времена: когда кажется — крестись… Тепло. Проходим греческие острова. В эфире греческие слова и музыка сиртаки. Степан наигрывает на баяне, собрав народ на корме судна. За кормой — кильватерная струя и две чайки, как привязанные к небу и судну. Песня у Степана сегодня грустная, но с вызовом:
Я тебя лишь коснулся — ты сразу взлетела, Убегающим по небу облачком белым, И вдали, исчезая, спросила несмело: Как зовут тебя, мой долгожданный Ромео? Ты спросила, как звать, — и тебе я ответил. Я ответил: я — ветер, я ветер, я ветер… Ты — воздушное облако, полное света. Я — твой вечный Ромео, я — ветер, я — ветер… Нам с тобой кочевать, обгоняя планету, И ни дома нам нет, и ни отдыха нету… Никогда ты не будешь мне верной женою, Никогда не присядешь ты рядом со мною. Никогда не присядешь… Присядешь? Ответь мне. Мы бежим друг за другом, по кругу, как дети: Ты бежишь — догоняю… Я — ветер. Я — ветер! Я тебя лишь коснулся и ты улетела… Ты спросила, как звать, — и тебе я ответил. Я ответил: я — ветер, я ветер, я ветер… Ты — счастливое облако, полное света. Я — твой вечный Ромео, я — ветер, я — ветер…В КАЮТЕ КОКШИ.
Обе женщины сидят за столом, пьют чай и слушают.
Люба. Это же Степан поет. Он для меня поет. Он даже не знает, что я его слышу. Песня такая странная. Что мне делать? Как сказать ему, что я здесь, близко. Что скоро мы будем рядом.
Кокша. Рядом? Скоро? Я же тебе объясняла: у тебя нет документов. На судне о тебе никто не знает, кроме меня и старпома, который тебя провел на борт. Как удастся пройти таможенно-пограничный контроль в России и вывезти тебя с территории порта — это вопрос. Все может закончиться очень печально. Тюрьмой, даже. Для тебя. Для капитана. Для старпома-радиста. Если подключим Степана, то и для него. Чем больше людей втянуто в круг, тем больше это похоже на умышленный сговор. Так что — сиди, моя дорогая. Сиди и не высовывайся. Поняла?
Люба. За что ты меня не любишь? Я мужика у тебя не отбивала. Прячешь — спасибо. Кормишь — спасибо. Что я еще должна? Я же не напрашивалась на эту контрабанду: старпом предложил — я согласилась. А что? А какие у меня были варианты попасть на родину?
Кокша. А ты хочешь на родину? Тебя там ждут?
Люба. Теперь и не знаю. Ждут, конечно. Только я же на заработки уезжала. Меня с деньгами ждут. Паспорт новый куплю и снова уеду — у нас в городе работать негде.
Кокша. А Степа тебе зачем?
Люба. Разве? Разве — зачем? Он — спасение мое. Душа у него — близкая мне, родная. Я его не потяну за собой. Разве я не понимаю: у него работа, жизнь, семья, наверное? (Смотрит на Катерину Сергеевну. Но та молчит.) Наверное, есть семья? Разве я могу мешать его счастью?
Кокша. Ты не обижайся, я не со зла. Я и сама, можно сказать, как и ты — на заработках. Только повезло больше. Степа — чего таить — парень завидный. А только, в нашем положении, никто нас здесь не видит и не замечает. Они, представляешь, целыми днями о дынях говорят, мол, сексуальные очень и очень их соблазняют. Дыни. А я кручусь перед ними с утра до ночи — пирожки, блинчики, тортики, котлетки, отбивные и соляночка, компотик и кофе на мостик — никто. Никто! Я для них — член экипажа. Нет, вру, есть один. Капитан. Не потому, что капитан, а потому что мужик. Спросит он меня потом, когда судить его будут: ты знала, Катерина Сергеевна, чем ваше гостеприимство для меня закончится? Что отвечу? Знала. А только не могла я по-другому поступить.
Люба. А как поступают по-другому? Скажи! Ведь не я первая. Сотни и тысячи бегут из африканских портов на попутных судах. Я знаю! Все в Европу хотят. Думают — там их ждут. Карабкаются на борт, прячутся в трюмах и лодках. Их находят и выбрасывают за борт. В ночь. В волны. К рыбам с медузами. Как — по-другому?
Кокша. Недавно судили в Европе один экипаж, все — бывшие наши. Они выбросили за борт человек 15—20 марокканцев, добивали до смерти. А несколько человек выплыли, их подобрало другое судно. Они и рассказали на суде. А что — суд? Озверели люди? Почему? Собаку на улице жалеют, а человека — в мусорный бак. Почему?
Люба. Почему? В словах запутались. Я столько всяких слов слышала, а где оказалась? Из родного села бежала — никому не нужна. В Африку попала — никому не нужна. Я — русская. Я на родину возвращаюсь. Украли у меня паспорт и деньги. А как мне быть? В полицию идти боюсь — продадут куда-нибудь. Не верю. В посольство — до него добраться надо. Да и тоже не верю — зачем я нужна им? Хлопотно им. Вот и пошла к соотечественнику. По-человечески. А ему — соотечественнику — как отказать мне? Не помочь? Отвернуться? Ты же — не отвернулась!? Не нравлюсь, а рубашку и белье свое дала, не спрашивая. Почему? Объясни! Ответь!
Кокша. Потому что мы бабы. И не спрашивай больше. Договорились?
Люба. Договорились… А можно попросить?
Кокша. Проси.
Люба. Пусть Степа играет по вечерам, а? Попроси его. Намекни ему. Ты ведь можешь?..
Кокша. Могу. (Засмеялась вдруг.) Я все могу, пока на палубе дыни.
Люба. Какие дыни? Что ты на них зациклилась?
Кокша. Наши. Женского рода-племени. Ой, глупые эти мужики, Любка! Просто глупые… дыни их возбуждают, а мы — нет! Мужики — виртуальные стали, хоть плачь. (И расплакалась. Люба прижалась головой к плечу, успокаивая.)
Люба. Я что придумала, Катерина, послушай. Капитана подводить не хочу. Хоть и не знаю его. Просто, по-человечески, не хочу.
Кокша. Ему рассказать — он придумает. Они с дедом — не шаблонные.
Люба. Не шаблонные? Я, между прочим, чемпионкой по прыжкам с вышки была. В институте. Давно. Но умею еще, умею. Точно тебе говорю. Короче: прыгаю с борта. Ты — поднимаешь тревогу: «Человек за бортом! Вижу человека!» Судно останавливается, и меня берут на борт. Так я попадаю на судно второй раз. Легально. Со всеми записями в судовых документах, журналах и прочее, что там у вас есть. А? Я где-то читала, что капитан имеет право регистрировать на борту рождение и смерть. А я? Я — второй раз родилась, можно сказать?
Кокша. Роды твои еще продолжаются, если точно говорить. (Улыбнулась.) А если мы тебя не сможем подобрать? Не увидим? Не найдем — море, волны… Что тогда?
Люба. Судьба, значит. Значит, занимайтесь проблемами боцмана. Что там у него? Жена от него ушла? Или не ушла? Или у него истерика? Мужская слеза от запаха дынь? Поллюции какие-то. От долгого воздержания, наверно. А? Как тебе мой план? Или тебе на меня наплевать? Скажешь прыгать — я прыгну! Море большое, не промахнусь…
Кокша. Сиди тихо и не вмешивайся. (Набирает номер судового телефона.) Товарищ капитан! У меня срочное дело к вам. Вы можете зайти в мою каюту? Пожалуйста. Я жду.
Люба. Ну, ты даешь. Точно как в старом анекдоте про мужика-начальника.
Кокша. В каком анекдоте?
Люба. Начальник делится бедой: секретарша пригласила подождать минуту в прихожей, а потом войти в ее комнату.
Кокша. И что?
Люба. Подождал. Вошел. Сидят сотрудники отдела и поздравляют начальника с днем рождения.
Кокша. В чем суть?
Люба. Представляешь, в каком виде он вошел?
Кокша. Это не о капитане.
Люба. Что? Идет в душ, не снимая фуражку, а погоны на голых плечах руками держит? Кстати, это не он стучится?
Кокша. Он. Входите, Александр Павлович.
Капитан (входит, оглядывает обеих женщин.) Вы, я так понимаю, Люба — знакомая Степана?
Люба. Да. Только он не знает, что я здесь.
Капитан. Верю. Иначе, отчего он так грустит, с баяном-другом. А кто знает?
Кокша. Только я одна. Так получилось.
Капитан. Так получилось? Разберемся. А почему не таились до самого дома? Что надумали?
Кокша. Люба имеет план: прыгнуть за борт — она хорошо плавает. Сыграем тревогу, спасем неизвестную, поставим на довольствие и сдадим ее на берег в родном порту.
Капитан. А если не спасем? Это только дилетантам кажется: все утонут, а я спасусь, прыгну за борт — переплыву океан, шторм до неба, а я не боюсь.
Люба. А я не боюсь.
Кокша. А вы говорили, что море дураков любит. Дуракам и пьяницам везет?
Капитан. Я говорил? Мдда-а. Разберемся. За откровенность и доверие — спасибо. Полагаю, вы знаете, что другой каюты и условий для вас нет — на палубу, желательно, не выходить и за борт не прыгать. Спасение проведем условно. Так будет безопаснее и теплее. Договорились? Извините, мне на мостик. И пожалуйста, постарайтесь, чтобы экипаж из-за вас по ночам не бегал? По ночам — спать надо, ясно?! (Вышел.)
Кокша. Что я говорила?
Люба. Я думала, он хоть раз, для порядка, голос повысит? Или голоса командирского не имеет? Или он свою игру имеет и свой план? С медалью за спасение?
Кокша. Перестань! Как не стыдно.
Люба. Стыдно? За что? Что за борт не надо прыгать? Зато теперь петь можно?! «Ой мой милый вареничкiв хочет… Ой мой милый вареничкiв хочет…» А могу я с тобой завтра на камбуз пойти? Помогать буду! И на хлопцев твоих погляжу, а? Да брось серьезную играть — тебе не идет. Тебе улыбаться надо. Мы, кстати, женщины. Нам улыбаться — природой обязано!
НА МОСТИКЕ.
Судно идет в густом тумане. Звуки и голоса приглушены. Скорость снижена. Каждые две минуты раздается сигнал тифона. Капитан прилип к экрану радара.
Веничка. Туман уходит, Александр Павлович! Какое роскошное солнце!
Капитан. Греческое. Отбой тифону. Сообщите в машину: вышли из тумана, добавляем ход….
Веничка. А острова какие?! Скалы — надгробия. Высота — метров по восемьсот! Природа — ни кустика, ни деревца. Красота — девственная!
Капитан. Девственными здесь были леса еще при царе Одиссее, наверное. Потом их на строительство парусных кораблей и галер срубили.
Рулевой. Все?
Капитан. Как видишь.
Рулевой. Столько кораблей?
Веничка. А сколько тысячелетий — какой лес устоит?
Рулевой. А у нас?
Капитан. И у нас. И после нас, лет через сто, может быть, цвет травы станет белым, а цвет снега — зеленым… Может быть?
Веничка. Снег — зеленым?
Капитан. Или красным… Кстати, о наших баранах: тревогу расписали в черновике? Хочу посмотреть.
Веничка. Тревогу «Человек за бортом!», спуск шлюпки, обнаружение и спасение иностранки расписал подробно, как учили. Осталось выбрать: кто из экипажа первым увидел, кто прыгнул за борт и сопровождал пострадавшую до подхода шлюпки…
Рулевой. За это же и медаль могут дать?
Капитан. Само собой! И премию. И на берег спишут. А объяснений сколько придется писать?! Да еще и на детекторе лжи отвечать на вопросы типа: что вы увидели, прыгнув за борт?
Веничка. Прыгнул в воду, а там образ медали «За спасение утопающего» плавает. Как медуза в тропическом море, цветная.
Капитан. И теплые тапочки на меху.
(Входит старший механик.) Саш Палыч, беда. Боцман говорит, что он за борт выбросится — жить не хочет.
Капитан. Что? И этот туда же?! Где он? В каюте? Сам им займусь сейчас. (Выходит.)
Веничка. Приглашаю записываться на медаль! Кто в очередь за медалями? Записываю в очередь и организовываю награждение. Желающие прыгать за борт — в очередь… Что-то желающих-то не густо. На геройство народ не спешит. Спасение утопающих женщин — дело самих женщин…
КАЮТА БОЦМАНА.
Боцман сидит за столом и разглядывает фотографию жены. Стук в дверь и голос капитана:
Можно к вам, Гена?
Боцман. Входите, Александр Павлович. Присаживайтесь. Только не говорите ничего.
Капитан. Так не пойдет. Ты что это дурью маешься!? Заканчивай с этим! Все хорошо в меру. Можно и поскулить, можно и пожалеть. Хватит! Себя пожалей. Самому жить надо. Подумаешь, жена ушла. Пусть теперь она пожалеет: такого мужика потеряла. Дура.
Боцман. Она не дура, Палыч. Ну, что такое? Что такое? Почему все говорят мне, что она плохая. Что она — гулящая. Что она… Она — хорошая.
Капитан. Может, и хорошая. Значит, ты дурак. Не смог чего-то разглядеть в ней. Или услышать что-то. У меня вот подруга была — мечта! Сто сорок килограммов! Красавица! В кабаке танцевать выйдет: «Эх, Одесса, жемчужина у моря…». Кабак гудит, палуба и стены волнами ходят. Столики с закуской подпрыгивают, как костяшки домино. А публика — ревет, как на стадионе. Вспоминаю — плакать хочется. Она мне прямо сказала: я, когда выпью, без мужика не могу… так что — никаких морей! Обижайся — не обижайся, а ждать тебя смогу только до первого праздника, до первой рюмки… Что же мне на нее обижаться? Она ведь тоже — живой человек. Пусть будет счастлива. А ты как думал? Только так.
Боцман. И мне жена говорила, что без мужчины не может долго… Что такого?
Капитан. А зачем же ты в море подался?
Боцман. Я же за заработком. Все такое…
Капитан. За заработком!? А она тебе говорила, что не нужны ей деньги? Что она и на копейки согласна, только с тобой чтобы. Говорила?
Боцман. Говорила. Но ведь это все женщины говорят. А деньги нужны в семье.
Капитан. Правильно. Соображаешь. Но тогда и сообрази, что за все приходится платить. Зубами, волосами, нервами, семьей… Женой — тоже. Понимаешь? А всех денег не заработаешь. И это твое «за заработком» — ни от нужды, а от зависти. Что, дескать, денег у кого-то больше. Так у этого «кого-то» денег, может быть, и больше, а жены, такой, как у тебя — нет! А ей — деньги эти большие, когда ты годами в море — не нужны. Не греют ее. Ей ты нужен. Она о слабости своей говорила тебе, просила остаться? То-то. Баба бабе рознь… Я без первой жены остался — ушла — дело моряцкое, обычное, можно сказать. Намучился. Двое детей. Мать больная. Беда… Нагулялся, конечно. Меня на баб, как на мед, тянуло. Не мог без них. Но и остановиться ни на ком не мог. Не то, что не верю — не перегорел, не перебесился. А слегла мать совсем, говорит: женись, не успокоюсь, пока рядом с тобой хорошую женщину не увижу. А где ее возьмешь, хорошую? Кто за меня пойдет? Голь перекатную. Что делать? Взял двадцать конвертов. Под копирку во все концы разослал старым подругам: так, мол, и так… двое детей, мать больная… мне в море надо… за матерью и детьми смотреть будешь — приезжай. Поехали. По две и по три одновременно приезжали. Мать опять плачет: «Бессовестный, — говорит, — разве можно так с женщинами?..». А они ничего. Все понимают. Вместе сидят, обсуждают ситуацию. Каждая, вроде, согласна. Только согласна не здесь оставаться, а забрать меня с моими детьми и мамулей и уезжать. А куда же я мать из родного двора, где она с отцом почти полвека прожила. В Москву? В Прибалтику? В Новосибирск? География большая, а только матушке моей, все равно, как в могилу. Понимаешь? Куда ехать? Такая жизнь.
Боцман. Что такое? (Нелепо повторил боцман свою обычную присказку и развел руками.) И как же вы, Палыч?
Капитан. Я? А что я? Услышала моя сто сорока килограммовая любовь — приехала, разогнала всех невест, и стали жить поживать и добра наживать, как говорится.
Боцман. А море как же? А рейсы долгие? А что такое — она же говорила…
Капитан. Я тоже спросил. А она отвечает: то ведь я любовница была, а теперь — жена…
Боцман. Вот это да.
Капитан. Да. Это ведь для женщины разные ситуации. Разные силы. И разные резервы. Понимаешь. А рассчитывать силы близких — ох, какая наука. У тебя, от твоих неудач и заскоков может второе дыхание открывается, крылышки прорастают — теперь, дескать, получится! Теперь смогу! — а у них, у близких и родных, только руки опускаются. Вот. Сам теперь знаешь, как женам трудно. Твоя-то…
Боцман. А что такое? Ну, почему вы думаете, что она плохая, что она непорядочная?
Капитан. А кто говорит? Я и не думаю.
Боцман. Правда? Правда, Александр Павлович?! Палыч — вы человек! Вы глаза мне открыли. Я теперь понял: она мне последнее предупреждение делает, чтобы я все продумал и не оставлял ее больше?!
Капитан. Ну, увидишь — спросишь. Если не сопьешься за эти несколько суток до прихода.
Боцман. Я?! Мне не наливать больше, Палыч. Все! И завтра с утра — в работу! А что такое? Сколько нам идти осталось — пустяк. Я — выдержу. Только меня, пожалуйста, в первый же день по приходу — отпустите. Мне очень надо. Я успею. А что такое…
Капитан. Ладно-ладно. Давай, кофейку попьем. Удивил ты меня. Тебе сколько лет? Тебе же тридцать шесть, если не ошибаюсь. Ты что, никогда жене не изменял, что ли?
Боцман. Никогда. Она у меня единственная.
Капитан. Ты даешь. Тебе лечиться надо. От идеализации излишней. Так нельзя. Жизнь — штука жесткая. Она расслабленности не прощает.
Боцман. Как лечиться? Изменять, что ли? Так я не хочу. Мне только она нравится.
Капитан. Ты не изменяй. Но — вильни хвостом. Чтобы она заволновалась. Левак укрепляет семью. Слышал такую мудрость? Крутани разок — сразу и увидишь свою благоверную в истинном свете. Какая она есть. А тебя будто солнцем затмило. Ты и сам на мир смотреть перестал.
Боцман. Она сразу догадается, если я только посмотрю на сторону.
Капитан. И хорошо. И пусть догадается. Ты даже в наглую. А домой ночью возвращаешься — чесночину в зубы. Пусть у нее мозги набекрень съедут. Вроде ты и от женщины, но запах чеснока — какая женщина может быть? Алиби!
Боцман. Что такое? Разве можно? Разве так бывает? А вы? У вас?..
Капитан. А что у меня? И меня моя милая с моря выжать хотела, письма в местком писала. Что, мол, дома не бываю, семьей не занимаюсь… Лучше, говорит, я тебя каждый день из милиции забирать буду, чем на полгода из дома в море отпущу…
Боцман. Вы же говорили, что она изменилась?!
Капитан. Так не сразу. Сразу — это агитка только. Знаешь такое слово? Сколько мужиков хороших на этих агитках свои судьбы ломали. А жизнь долгая. Не такое бывало…
Боцман. Да ну?
Капитан. Вот тебе и «да ну». Война была. С полной стратегией и тактикой. Но, правильно говорят, бабий ум — короткий, где им против нас. Они слишком серьезно гребут, а жизнь ведь — улыбку любит… Я домой возвращаюсь. Поздновато, правда. Чесночину загрыз для исключения лишних вопросов. Звоню. Моя — будто за дверью ждала — сразу открыла. Я насторожился. Молчит. Подозрительно! Я на кухню. Борща налил. Молчит. В коридор вышла. А у меня в прихожей зеркало висит — аккурат входную дверь с моего места на кухне видно. Смотрю — дверь открывается. Без звонка! Милиционер входит. Участковый. И моя его ведет: «Сюда, — говорит, — вот он…» — На меня показывает. Только я-то не стал дожидаться, пока они из прихожей двигались. Тарелку с борщом себе на голову надел, благо — холодный, и жду реакции. Она — слов нет. С открытым ртом стоит. Участковый спрашивает: кто это тебе? — Она! — отвечаю. — Ну, — говорит, — вы тут без меня разбирайтесь… — И ушел…
Боцман. А что такое, как же после этого?
Капитан. Что как?
Боцман. Жить как?
Капитан. Я же тебе говорю: веселее смотри! Ты слишком всерьез все воспринимаешь. Так нельзя. Так никаких сил на эту жизнь не хватит. Это же по любви. Соображать надо! И левак. И борщ на голове. И ее письма в местком и в милицию. У нее же вместо коврика под кроватью весы стояли, плоские такие, видел, наверное. Многие женщины имеют. И первый шаг, каждое утро, начинался с них. И первые слова: ой, на два килограмма похудела за ночь! Трудолюбивый ты мой! Дай, я тебя поцелую… Пережили голод — переживем и изобилие… Присказка у нее такая. А ты говоришь — как?
Боцман. Вы разыгрываете меня? Вы все это придумали, да?
Капитан. Придумал? Может, что и придумал, какой же морской разговор без этого дела, а? (Треплет его пышную шевелюру.) Хорошая штука жизнь, боцман. Хоррошшая!!!
Боцман улыбается. Пока еще нерешительно. Неуверенно. Но улыбается. Будет жить.
Боцман. Александр Павлович, а Веничка мне нагадал — к удаче. А что такое?
Капитан. На кольце обручальном, что ли?
Боцман. Нет. Он на гайке специальной…
Капитан. На гайке? Это что-то новенькое. Ну, отдыхай. Утро вечера мудренее…
НА МОСТИКЕ.
Веничка на вахте. Входит капитан.
Капитан. Вениамин Иванович, вы, что это боцману нагадали, что он так сразу поверил?
Веничка. Поверил? Правда? Я — как вы сказали — к удаче…
Капитан. Молодец. А что это за новый способ гадания — на гайке?
Веничка. Я вам сейчас покажу. Специальная гайка нужна. Немагнитная. И я рассчитываю ваш меридиан. По дате рождения, знаку зодиака, фазе Луны… я еще дополнительно беру в расчет наши координаты… Я сам этот метод усовершенствовал. Надо гайку точно над ладонью держать. Удача на ладонь, называется…
Капитан. Удача на ладонь?! Ну, молодец!.. Кстати, Вениамин Васильевич, что там у вас с шубой произошло?
Веничка. Представляете — моль появилась?! Хорошо, что старпом заметил. При мне убил. Просто, как лев за ней прыгнул и поймал: хлоп! Ладонями… и убил.
Капитан. Как лев? И что теперь?
Веничка. Теперь профилактика: каждый день шубу надо вывешивать, отряхивать. Обкладывать средствами от моли.
Капитан. А такие есть?
Веничка. Есть, Александр Павлович! Чтобы я без радиста-старпома делал?! Он все знает! Можно перцем посыпать. Можно — лавровым листом. Только Катерина Сергеевна перец и лист не дала. Старпом такое придумал, такое придумал — никогда не догадаетесь?! Он придумал обкладывать старыми газетами: типографская краска — это чистый свинец, быка убить может!
Капитан. Быка? Силен, артист! А гайка на ладони не помогает?
Веничка. Представляете — гайка — бессильна. Можно попробовать перепродать шубу кому-то из экипажа… Перепродать…
Капитан. Да кто же купит? Все ведь знают про моль?
Веничка. Радист сказал, что он знает секрет рекламы. Я ему верю. Он контактен со знаками судьбы. Я проверял…
В этот момент в рубку заходит старший механик:
Дед. Ты здесь, командир? Пойдем дынькой побалуемся. Боцман на камбузе дыньку режет — аппетит у него, видите ли, проснулся. Всех приглашает. (Дедуля доволен и разглаживает бороду.) Аппетит к жизни, а? (Улыбается. Продолжает, подмигивая.) А может и на женщин?
Капитан. Дай-то Бог, дедуля. Дай Бог.
Веничка. Григорий Мартемьянович (обращается Веничка к деду), а я новый способ гадания освоил. К удаче…
Дед. К удаче? Удачу, дорогой мой, руками брать надо. Как рыбу. И держать. Чтобы она не выскользнула. Видал, как ее командир держит?! (обращаясь к капитану.) Ты что там боцману наговорил, признавайся?
Капитан. Не помню. Разве важно? Важно, что улыбается.
Дед. Не помнит он? Умный…
Капитан. А ты мне леща не кидай… (Улыбается в ответ на его улыбку. Они с дедом хорошо понимают друг друга, им не нужны эти лишние слова, но капитан продолжает, понимая, что это нужно для Венички, внимательно за нами наблюдающего.) Что касается боцмана, то каждый сказал ему свое слово и сделал свое дело. И Гриша, и ты — маг и кудесник наш, Вениамин Иванович. И я тоже. Почему нет? Как дынька нарезанная — долька к дольке, и все вместе.
Дед. Вместе и на месте, командир.
Капитан. Спасибо, друг. Согласен. А кто это поет?
Дед. Так это Степан с Любой. Любовь у них… Пойдем, капитан, в каюте у тебя посидим, послушаем.
Звучит песня:
Прости, любовь, что я люблю И не даю тебе покоя, Но и любовь, на счастье, бьют — Коль хрупко счастье под рукою… Ты приходи ко мне одна И все, чем сердце обладает, И все, чем я один страдаю — Мы оба разопьем до дна… И к черту нам гадать года — Любовь имеет жесткий росчерк — Понять себя нам будет проще, Мы поцелуемся когда… Ведь у любви — победы нет. И меры — нет. И цен — не надо. Моя любовь — лишь только мне — Несчастье, счастье и отрада… Ты приходи ко мне одна — Не бойся больно ошибиться. Любовь — слепая это птица… Но как — взлететь — торопится она!Капитан. Слушай, а моль-то откуда в шубе?
Дед. Моль? Из судовой артелки. Пищевая моль. Она в каждом мешке из-под муки или крупы есть. Это все моряки знают. Только моль эта мертвая — одни крылышки. (Напевает.) Ты приходи ко мне одна — не бойся больно ошибиться…
Капитан. А как она над шубой летала?
Дед. Не тупи, дружище! Радист — опытный морской кадр, хоть и глупый в гражданском рвении оказался. Известное дело, инициатива на флоте наказуема… Крылышки моли он в кулаке держал, когда руками размахивал и ладонями хлопал… Меня больше волнует, как мы пассажирку без паспорта спрячем?
Капитан. Мы и прятать не будем.
Дед. Что — дал радиограмму, что спасли из моря? Потеря неизвестного судна. Временная амнезия. Ведем профилактику возвращения памяти методами индийских йогов по системе Вениамина Васильевича?
Капитан. Мастера оккультных наук с международным дипломом?..
Дед (усмехаясь). Одесского образца?..
Капитан. Хватит изгаляться над ним. Нормальный морской псих. Как и мы с тобой. Когда кончается рейс, и судно летит сквозь ночь, сквозь пространство тайного и восторженного мира… Мы здесь затерялись в пространстве и времени…
Дед. И каждый — как плачущий волк в полнолуние…
Капитан. А Луна — золотая и полная!
Дед. А на палубе лежат дыни. Лежат и покачиваются.
Капитан. И видятся из космоса несколькими лежащими, спящими, необыкновенно живыми комочками, так напоминавшими нам женщин…
Дед. А мы с тобой просто два старых и мудрых змея.
Капитан. Помолчи… Искуситель.
Дед. Думаешь, молчуны умнее кажутся?
Капитан. А помнишь байку про глухонемого на смотринах? Бабки между собой женихов обсуждают: этот — хвастун, тот — баламут, а вот этот — весь вечер ни слова не сказал — ой, зверюка якый умный!
Дед. Женщину — не проведешь! Хоть песенником притворяйся, хоть молчуном.
Капитан. В конце рейса притворяться — цирк усталого клоуна… Притомился я. Слушай, я разве говорил, что дуракам и пьяницам везет?
Дед. На море? Всегда!
Капитан. Да? Дела-а… Может, и вправду — возьмем в руки дыньку?
Два голоса поют на палубе:
…Друзья мои, все вы сегодня со мной — Кто в сердце, кто в песне, кто рядом… Качает наш дом океанской волной, А мы ему — грешные — рады!По палубе катится желтая дыня, будто убегает и прячется… Как маленькая женщина.
…И все наше счастье — сейчас на борту… От борта до борта качает звезду. (Затихли.)Дед. Слышишь, капитан, тихо стало. Только волны под бортом шепчут. А помнишь, как мы — молодые и наглые — мечтали вернуться домой и громко сказать, эдак небрежно, на виду у красивой женщины: вы слышали, как дышит океан?..
Капитан. Так и не сказали.
Дед. Да, неудобно как-то, при женщине.
Капитан. Скромный ты мой. При женщине. (Тихо напевает.) Качает наш дом на веселой воде…
Дед. Дом — это там, где тепло.
Капитан. Где тепло? Тепло там, где мы. За это нас любят и ждут. Дома.
Дед. А дома мне всегда море снится. А жена моя на это сердится.
Капитан. А моя сердится, когда пойду ночью на кухню, достану сковородку и хочу поджарить себе яичницу по-морскому, как после вахты.
Дед. (Улыбается, обнимает капитана за плечи и напевает.) И все наше счастье сейчас на борту.
К О Н Е Ц
Испытание акулой (пьеса в 2—х действиях на фоне моря и береговых костров, под бой барабанов)
Тексты песен и стихов Н. Бойков
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Капитан, слепой.
Витя, поющий тралмастер, 13 рейсов в Атлантику.
Гром, механик из Мурманска.
Миша, африканский вождь своего народа, вечный студент.
Саша, лондонский москвич.
Поэт, новенький, третий помощник, поэт моря.
Шпринг, охранник, толкователь снов и потомок пиратов.
Действие первое
ДЕНЬ. ПАЛУБА БОЛЬШОГО СУДНА.
Двое мужчин разговаривают, вежливо улыбаясь друг другу. Оба одеты в белое: один, черный, одет в белый африканский халат и сандалии на босу ногу, другой, европеец, в белый летний костюм на голое тело. У африканца шнурок тонкой змеиной кожи завязан на шее бантиком. У белого — цепочка из пяти переплетенных свободно золотых нитей. Белый называет африканца Мишей, а тот его Сашей.
Саша. Ну, здравствуй, Махмуд Ибн Рашид, а по-русски сказать студент Миша! Обнять можно? (Обнимает и отстраняется, театрально разводя руки.) Здравствуй, человек-маска, чернокожий вождь, вечный студент, строитель семейного социализма и щедрый муж семи счастливых жен! Правильно помню? Ничего не изменилось?! Одобряю…
Миша. Восьми! Восемь жен уже, и все мне счастливые! (С достоинством и поднятой вверх рукой.) И тебе — здравствуй, Саша-Александр! Комсомольский брат мой, студенческий бригадир, лондонский москвич-бизнесмен, криминальный дипломат и беглец с большой родины! Не одобряю! Нет!
Саша. Сам не одобряю. Так получилось, Миша. Заигрался в деньги, проигрался с родиной. Бегаю теперь. А ты? Помнишь, как ты пришел к нам в студенческий отряд проводником поезда Москва-Воркута?
Миша. Москва-Воркута, Москва-Алма-Ата, Москва-Владивостока, мало тока. Конечно. Поезда ехать — Россия видеть. Плакать, смеяться, говорить, подметаться, чая пить, туалета открывать, песни слушать, баранка кушать, девушка улыбаться, тамбура целоваться, «из далека долго течет река Волга, течет моя Волга…», душа петь хочет.
Саша. Стой! Стой! Артист. Не изменился совсем. Неужели все помнишь?
Миша. Все помнишь. Все любишь. Все рассказать хочешь. Проводника был, сердцем жил. Поезда ездил, кровь по стране гонял. Россия понимать надо! Улыбка перроне — народа кровь, слезы вагоне — народа кровь, песня под водка — сладка закуска, поцелуй молодка — музыка поезд. Дети — вагона машут — якут удивлен, калмыка — улыбка качает, морожена ест… Народа кровь — поезде живет, Россия-весна-рельсам бежит. Русская кровь — Мишу полнит. Кровь полнит. Африка помнит. Поезд гудит, колесом стучит, как молодой слон трубит и бежать хочет. Любить хочет. Как я! Фельдшерском учился. Подводного плавания учился. ВПШ и высшем пехотном командном противогаз бегал. Вождь моего народа — я! Россия вагоном — поцелуй перроном — я! Восемь жен, только две хохлушка, одна белоруска, одна кровь с молоком, тверская курносая по траве гулять босая. Все счастливая. Моя! Семия!
Саша. Семья? Все мечтаешь семейный социализм построить?
Миша. Семейный социализм? Да! Белый человек, черный человек. Да! Кровь мешать — радость кушать. Ребенка любить — счастье быть. Мама много — бабушка много, бабушка много — ребенок смеется! Россия — семия, Африка — семия, Китая позовем — семия больше будет.
Саша. Молодец, Миша. Не изменился совсем. А народ твой как? Понимает тебя?
Миша. Народ-огород, бывает недород.
Саша. Что так?
Миша. Люди, как дети. Тому — игрушка, этому — пушка, третьему — лотерейный билетик. Жизнь превратилась — большой магазин, люди — очередь. Магазин — не храм — Бога, нет. Цена магазина один спичка есть — цену жизни забыли. Цену жизни забыли — у кого спросить? Был Миша — философ, стал — трибуна вопросов. Жить — не шить, вышивать — не выживать. Хочу поезд Москва-Африка. Опять! Петь, смеяться, молодым верить. Кем говорить? Кого помощь звать? Ти как? Зачем к нам? Бизнес? Женщины? Жена Света дает совета?
Саша. Все-то ты помнишь, философ-чертяка. Поменял я — Свету комсомолку на Европу и барахолку. Знаешь слово «барахолка»? Бара — гора, холка — шея? Бизнес у меня. Рыболовный. Восемь траулеров, с экипажами, друзья министра из комсомола приватизировали, меня бригадиром поставили. Живу в Лондоне. Три гражданства, четыре паспорта. Счет в банке. Что надо?
Миша. Узнаю бригадира: билета — карман, обмена — обман, мукомол-комсомол — деньги на стол. Чужой мне становишься. Совсем — не мой. (Поет). Мой адрес — не дом и не улица…
Саша. Не-е-т! Страны такой больше нет, Миша! Поездов твоих песенных нет. Лозунги перефразировали, власть на местах — приватизировали. Казну колупали, завод покупали, сами обросли золотыми зубами. Смотри! Кусаемся! Золотом! (Смеется и показывает полный рыжухи рот.) А люди остались. Немного. Но люди еще нужны. Пока. (Опять смеется.) Была эйфория народных денег — теперь эйфория, куда же нам деть их. Доллáров наштамповали — море! Можем город построить на дне океана, хочешь? И заселить африканцами, а? Постричь их под шарик голый, как шлем водолазный. Маски с ластами всем дать. (Делает жест пальчиками, будто стрижет и ластами машет одновременно.) Прости, друг. Через десять лет здесь будут одни рóботы. Электрические, механические, кибер-технические. Не надо плодить, не надо платить, не надо рыбу ловить и консервы делать. Чистая земля. Без людей. Загоняй бульдозеры и сдирай африканскую саванну, как шкуру с мамонта, до самого блеска руды или нефтяной грязи. Прости, друг, вожди африканские тоже не нужны будут.
Миша. А ты — своих рыбаков и траулеры куда?
Саша. Работничков моря? В море! А, может, тебе — нужны? Может, ты возьмешь, а? Покупай, вождь? Не жалко. Бывшие республики торгуют горластыми голопузиками. Это же криминал! А мой бизнес чистый — торгую специалистами. Лучшими специалистами развалившегося Союза. Великий Карузо по цене Робинзона Крузо! Выбира-ай!
Миша. Я мой народ каждый ребенок знаю, каждого мальчика женю, каждую мать бабушкой вижу и платок дарю. Потому что я был проводник поезд «Москва-Воркута». Водка пили, правда. И песни пели, смеялись, плакали, правда. А когда говорили — все — правда. До слез. Один мне сказал: если ты вождь, не мельчай, каждый ребенок перед тобой Бог. Каждый взрослый — ребенок. Рóбот хорошо — космос летать. Кормить-пить не надо, выгодно. Человек после работа песни поет. Птица поет? Поет. Лев, львица поет? Поет! Слон хобот поднял — громко поет, любовь одиночество зовет. За это люблю. Человека песни — люблю, слушаю.
Саша. Люби. А кормить как? Всех не накормишь. Пора «чики-чик» делать.
Миша. Человека убивать — своей семье людоедом станешь. Как за стол сядешь? Женой разговаривать? Детей на руках держать? Как? Мы с тобой один поезд ехали, да? «Весна-комсомол» пели, да? Теперь мы с тобой как будем?
Саша. Брось, вождь, сказки заливать. У вас до сих пор детей собственных акулам бросают, если коровам дождь нужен. Дочь у тебя болеет? Эпидемия? На поезд «Москва-Воркута» повезешь ее? Как лечить будешь? Решай! Все эпидемии генералы планирует. Где планируют, там и лечат. Или ты по-шаманьи: костры палить, в барабаны бить, белую рыбу на рассвете кормить? Будешь со мной, помогу. Генеральша знакомая есть! Понимаешь меня?
Миша (не отвечая на вопрос). Это твой траулер?
Саша. Мой.
Миша. А что это клетки на палубе?
Саша. А это я в американском фильме про Спартака видел. Понравилось. Мощно смотрится, когда крепкий вожак в клетке.
Миша. Можешь показать?.. Покажи.
Саша. Эй, земеля! Шпринг! (Подзывает охранника. Охранник, худой и сутулый, прячет глаза, будто закрывается от солнца, подбегает, слегка волоча ногу.) Представляешь, вождь, я его здесь, среди рыбаков, встретил. Одноклассник мой. В школе учились. Я его к клеткам поставил, приподнял, можно сказать… Может, увидимся еще на встрече выпускников, лет через сколько?.. Его в классе Шпрингом звали, у него глаза навстречу один другому, как швартовые веревки у корабля. Видишь? В школе на всех праздниках-маскарадах пиратом одевался. Я только здесь понял, и ты помни, что он головой тронутый, кажется ему, что предки его пиратами и китобоями были и в этих краях след оставили. Эй, косой, покажи, кто у тебя?
Шпринг (идет впереди, говорит только Мише, понизив голос.) Здравствуй, вождь.
Миша. Я тебя знаю? Мы где-то встречались?
Шпринг. Мы — нет. Наши прапрадеды — да. Ты мог видеть это во сне, как и я. Твой — с копьем и людьми за спиной, вышел к берегу океана в поисках пищи для племени. Мой — с гарпуном, стоял у туши кита, лежащей на песке. Кит убил весь экипаж вельбота, всех, кроме гарпунщика, который был связан гарпунным линем с раненым зверем морей, и вместе с ним выплыл к берегу. Но жирная туша мяса была не нужна ему. Мой прадед был рад человеку. Даже, если он черный и держит в руках копье. Помнишь?
Миша. Да. Этот сон я видел. Давно.
Шпринг кивает головой, останавливая речь Миши, и показывает хозяину в белом костюме клетки с людьми.
Шпринг. Сейчас только двое. Это — траловый мастер. Хороший мастер. Можно сказать, лучший из всех. Сейчас спит. Перегрелся. Не слышит… А это — капитан.
Саша. Настоящий капитан? Никогда капитанов не видел.
Капитан. Ты — прогибаться привык, на всякий случай. В этом твой угол зрения — пылинку на туфлях видишь, а человека нет.
Саша. Ну, ты-то и вовсе босой для меня, капитан.
Капитан. Что мне Бог дал — я все берегу. Достаточно имею. А обувь? Зачем она в Африке?
Миша. А меня узнаешь, капитан?
Капитан. Узнаю Миша. Хотя, в такой компании ты не смотришься. Мельчаешь?
Миша. Ты почему не улетел? Я же пять лет назад тебя из ямы в посольство привез. Мне сказали, что тебе документы сделали, деньги за несколько лет выплатили…
Капитан. Хозяина работа. Может — этого, может, другого. Только деньги мне фальшивые дали, а документы — поддельные. Посольские привезли — полицейские увезли. Или в тюрьму, или на промысел, куда мне было? А что беспокоился обо мне — спасибо. Не было возможности поблагодарить.
Миша. А кто с тобой рядом? Я его знаю?
Капитан. Витька — траловый мастер. Который песни поет-сочиняет. Помнишь?
Миша. Помню. Как же вы так задержались? От стаи отбились? От поезда отстали. Мало ваших осталось теперь. Как я помочь вам?
Капитан. Всем не поможешь. Каждой птице своя весна. А ты не весна. Ты — вождь только. В чужой компании. Фантастика! Может, мы уже не заметили, что в другой жизни живем? Из другой жизни — в третью — друг друга тянем? Ты, Миша, с нами живешь еще?
Миша. Немного умирал, немного — с вами. Весна — не могу. Ветер — не могу. Сердцем бы — надо.
Капитан. Сердцем? С нами? А я, Миша, снами моими живу. Сон. Знаешь, что такое — мой сон? Думаю, что я сплю, а это — клетка на мне и на палубе. Думаю, что проснулся, а это мама моя меня гладит и спрашивает: ты еще не набегался по морям? Ты еще не соскучился? А слез-то и нет. Давно их не видел. А не плачет никто, устали. Без слез стали жить, без улыбки. И мама моя — не любитель поплакать, только гладит меня. Чубчик мой пальцами трогает. Седину ищет. Хочет меня рядом оставить, мальчиком в коротких штанишках. Седой волосок найдет, а выдернуть не решается, боится больно сделать. Пригладит и радуется, будто защитила меня от всех бед. Ой, мамулечка-мама! Говорила ты мало, улыбнись мне еще. Спой про яблоньку. (Поет.)
Тоненькая яблонька. как дитятко маленько. На руках у маменьки листик нашей яблоньки… Не шумите ветры вольно. не ломайте ветви больно. На траву слезой усталой яблочко упало… Наклонилась бабушка За яблочком для сыночки. Ой, не гнется мама… мама, Бабушкина спиночка. Словно листик маленький спал сынок под яблонькой. Веточки качаются. Сынок не возвращается…Слышишь, какие сны? Не понять их тебе. А мне с ними — не умереть. То ли сон? То ли Космос? То ли яблоко летит, падает. Катится по траве в уголок маминого сада. Яблочко. Мое.
Миша. У каждого свои сны, капитан. У меня — «Москва-Воркута» поезд. Слышишь, рельсы стучат? Вагоны-перегоны… Мосты и откосы.
Шпринг (сам себе, тихо). Эх, Миша — потомок белого гарпунера, моего прародителя. Запуталась родословная твоя, куда поведешь африканское племя?
Саша. Ты, Махмуд, Рашид, Ибн, а по-русски Миша — мечтатель! Филантроп! Освободитель рыбаков от политических оков? С кем дальше жить будешь? Время свое потерял. Раньше кем жил? Не знаешь? Плохо.
Миша. А ты — очень плохо. (Показывает на Шпринга.) Он детство твое. Как брат тебе. Он твоя мама помнит. Ты его обнимать надо. (Показывает на капитана.) Я время не потерял. Я время мое — дедушки, бабушки, вождей, охотников, пастухов и предков, как много халата на себя надел и несу их жизни, как мои одежды. Ты смеешься, что помню поезд. И поезд — время. Я его не пропустил. На капитана смотри! Он же наш! «Москва-Владивосток», Саша!? Вместе столько каша ели? А ты сейчас — наш, Саша? Молодой себя — помнишь? Любишь? Не продаешь? Барахолка-комсомолка…
Саша. Пропили, проели. Был ваш, а стал лондонский. Памятью дорожишь? Покупай, не дрожи! Предложение в силе. Берешь?
Миша. Обоих.
Саша. Хорошо с умными людьми говорить — слов не тратить. Шпринг! (сторожу, тихо). Ты все слышал? Воду не трать на них больше, им и росы теперь хватит, на радостях (Мише). А с дочерью как — помочь? Военному человечку слово замолвлю?
Миша. Ты столько лет бизнес африканил, а не понял. В Африке главное не жизнь — кровь свою чувствовать. Как птице весну. Как рыбе — поток чистый. Без крови и жизнь не бьет. Эпидемия? Надо на акулу с ножом в океан прыгать? Прыгну. Европейцу — на футболе кричать, а африканцу от страха молчать. Страх — испытание жизни. От страха бывает весело, а бывает — описался. Прости. Убивают — не зубы. Убивает — не нож. Глаза заставляют дрожать и обливаться потом. Девочка моя — моей крови. Захочет жить — перед острием копья улыбаться будет. Льва встретит — льву морду хоть шерсти клок или усов горсть! Бешеный слон на пути ее встанет, она мимо пройдет королевой. Потому что на Африка жизнь, не товар со скидками, не прилавок как твой барахолка. Настоящая жизнь, обратная сторона смерть. Все на твоей груди, совсем близко. Так живу.
Саша. Ну-ну, поэт. Про восемь траулеров и экипажи думай. Тебе народ кормить надо. Это не веником в поезде. Не взыщи. Помнишь, как ты Тёркина шпарил. Переправа, переправа… Переправа, Миша, это слово такое, когда никому нельзя, а тебе, если ты со мной, можно. Переправлю, по старой дружбе. Я твоя переправа.
Миша. Один святой, говорят, смог и море перейти. Только чем расплатился — не знаю. Переправа — это когда по воде глубоко, а по людям — смертно. Нельзя, Саша, по людям идти. Помнишь, как поезда пели: «…Течет река Волга, конца и края нет…».
Уходят. Каждый — со своими словами и мыслями.
Только Шпринг шепчет им вслед свой бред:
Пришла белая акула. Криком кричит первая жена. Смерть обнимает девочку-дочь. Смерть кружит над племенем, выбирая жертву. Все повторяется. Так было уже два столетья назад. Белый моряк спас дочь вождя. Кит убил пятерых матросов. Гарпун убил ярость кита. Смерть ходит кругами. Жизнь крутит спирали. Многие хотели жить, но все умирали. Где они? Скрипит под ногами песок, от жажды. Жаждой наполнен ветер на краю океана. Дыбятся волны и ревут страшно, бросаясь на берег, оседая в песок, исчезая под кромками пены, бессильно и тихо шипя, так и не увидев никакого врага — только песок. Галечный пляж течет, как сухая река, убегая от ветра. Маленький краб убегает от ветра в сторону волн. Всем хочется жить: ветру, крабу и океану… Скрипит под ногами песок. Где эти люди? Ни-ко-го…
ПАЛУБА СУДНА.
Ночь. Видны море и Луна в небе. Над палубой грузовая стрела с растяжками такелажа. На стреле висит, раскачиваясь и поскрипывая, лампа. Она освещает пространство палубы и четыре высокие клетки, сделанные из толстых жердей. Две — пустые — раскрыты настежь. В двух других по одному человеку. Они смотрят друг на друга, сидя на палубе и протянув ноги сквозь жерди. Один монотонно мурлычет какой-то мотив, изредка перебирая слова, будто пробуя их на слух.
Витя (поет):
Мне снится старый гарнизон, Сирень закрыла горизонт, И папа с мамой обнимаются в саду… Мы рождены в СССР, Такой страны не знал Гомер, Мы были молоды в каком-то там году…Второй, то ли прислушивается, то ли разговаривает сам с собой.
Капитан. А теперь мы в Африке, на своем кораблике. Не ходите, дети, в Африку гулять.
Витя (поет):
Товарищи и родичи, Мы все теперь народище! Нам родина — и Крым, и Магадан. И нам других не надо мер — Измерил нас СССР, Улыбками любимым городам.Капитан. Сам сочинил?
Витя. Сочиняю.
Капитан. А не сочиняя, что помнишь из той жизни?
Витя. Все помню. Дочь пятилетнюю. Я ей джинсовый костюмчик из рейса привез, одели — загляденье. Я ей одежек накупил тогда, в Гибралтаре, на три года вперед. Платьица, курточки, туфельки всякие.
Капитан. А жене?
Витя. Жену я, как-то, не баловал. Дурак был.
Капитан. Дурак.
Витя. А на доченьку я надышаться не мог. Сколько лет ей теперь?
Капитан. Дочь тебя сегодня только по фотографиям помнит. А жене — сколько?
Витя. Чего сколько? Чего о ней сейчас? Жена — женщина. Не пропадет.
Капитан. Не пропадет. А слез сколько проплачет? Ночей одиноких? Праздников — взаперти от людей, потому что никому на глаза показываться не хочется? Чем это вернешь или оправдаешь? На коленях молить будешь, руки целовать?
Витя. Еще чего? Чего оправдываться? Я же не виноват. Работа такая — в море уходить. Она знала. Мужик должен зарабатывать, чтобы семью кормить и планы счастливые строить. А теперь, после стольких лет, мне — куда возвращаться? Зачем? Деньги получают от меня, и хорошо.
Капитан. Деньги? Так понимаешь? А кроме зарплаты — любовь нужна. Если была в доме любовь — помнят они тебя. Обе. И обе тебя, дурака, ждут.
Витя. В этом я себя не обнадеживаю. Чего душу травить?
Капитан. Не веришь, значит?
Витя. А я теперь никому не верю. Обманули нас. Кинули. Меня, тебя, тысячи. Никому не хочу верить. И жене моей лучше не знать, что я в клетке. Лучше бы ей кого-то другого найти и пожить счастливо, без моря и горя.
Капитан. Ты же всегда говорил, что любишь? Любил?
Витя. Улыбалась. Ромашки любила. Мы с ней на велосипедах на луга за речное раздолье поехали. А там — море ромашек. Ночевать остались. Костер развели. Всю ночь песни пели. Целовались и пели. Так хорошо было. Плохого о ней не думаю, а счастья — желаю. А какое оно — счастье — со мной? Мы с тобой уже лет пятнадцать по океанам мечемся, капитан. Или меньше? Или больше? Со счета сбились. В Индийском, на тунца и акул, с корейцами. Под Антарктидой, на криле и морском звере, с японцами и поляками. На селедке, под Канадой и под Исландией. Почему мы домой не могли возвратиться? Боялись? Боимся? Чего? (Подходит Шпринг.) Тебе чего, Шпринг?
Шпринг. Давай в шарик играть! Кто проиграет, тому на акулу прыгать.
Витя. Утром поиграем.
Шпринг. Утром я должен сказать главному, кто проиграл.
Витя. Ты и проиграешь. Тебе и прыгать.
Шпринг. Я с прошлой жизнью здесь связан. Мне прыгать нельзя. Давай играть.
Витя. Ты видишь, разговор у нас. Позже придешь. Говори, капитан.
Капитан. Сам знаешь. Паспортов у нас нет. Продали нас вместе с траулерами и сетями, а паспорта, чтобы мы не сбежали, где-то в офисах фирм и компаний лежат, в сейфах, как денежные гарантии рыболовного бизнеса.
Витя. Другие вернулись, нашли способ?!
Капитан. У нас обязательства по контракту. Условия надо соблюдать.
Витя. Дисциплинированный. А они соблюдают? Мы сейчас на кого работаем? На страну или на хозяина? Где наши контракты и где наша смена? Ты знаешь? Говоришь — Миша нас теперь выкупит и домой отправит? А кому я там нужен без работы?
Капитан. Я Мише верю.
Витя. Странный ты, капитан. Мише — веришь. Стране — веришь. Партии — веришь, само собой. А знал ты, когда из Новороссийска уходили, что кем-то так было задумано, и что будем мы сегодня сидеть в этой плавучей африканской тюрьме? Каждый в своей клетке? Ждать африканской казни, может быть. С барабаном и плясками? Видишь, костры на берегу?! Даже Шпринг на нас ставки делает, и свой выбор назначить хочет. (На фоне звездного неба и темной береговой стены — огни ярких костров.) Это тоже контрактом прописано? Да или нет?
Капитан. Кто же знал? Была империя…
Витя. Империя была? ЭССесерия, да! История африканская. А может — российская? Может, не паспорта наши в залог положили, а нас с тобой — чей-то капитал отрабатывать. Чей?
Капитан. Ты кого обвиняешь?! Страну?
Витя. Боже упаси! Прости, вырвалось. Ты — другое скажи мне. Это я мог чего-то не видеть. Но ты ведь — не рядовой моряк. Ты — капитан-директор. За всех отвечаешь. Неужели не чувствовал, что наш бронепоезд по шпалам прыгает, как телега по ямам. Чувствовал?
Капитан. А ты переменам и перестройке — радовался?
Витя. Так я думал, что все будет к лучшему — советская власть, с детскими садиками и профсоюзными санаториями, как в СССРе было, плюс — демократия американская и зарплата европейская! Очень мне тогда эти два слова нравились — американская и европейская. (Трогает раскрытой пятерней собственный лоб и ловит ртом воздух.) Ну, и пиво, ясный перец, на каждом углу в кружках баварских, а не в баночках из-под варенья, как в Новороссийске или в Архангельске, где каждый встречный мужик с баночкой, будто анализы мочи сдавать собирается. Сейчас расскажи кому — не поверят. А я за Горбача на митинги шел, как за кружкой баварского. Чтобы из кружек пить, а не из баночек! Понял?
Капитан. И я перемен ждал. Новой работы. Тревожился. Что будет? Как? Справлюсь ли я? Я работу мою любил, больше чем жену. И, поверь, что даже жена моя про успех моей работы думала. Такие мы идейные были? Нет. Но работа каждой семье уважение давала. Ребенок в садике говорил громко — мой папка — рыбак! Я не стесняюсь. Да, я — человек труда. Таким меня воспитали и сделали. Таким, если честно сказать, я себя уверенно в жизни чувствовал и сам себе нравился. А когда перестройка началась, я думал, что работать еще интереснее будет. Зарплата больше. Города современнее. Жене и детям — подарки всякие. Я и сейчас верю, что партия хотела нам блага. И жена говорила мне много раз: я, Сашенька, потерплю. Ты работай. И все у нас будет, как у людей: квартира, соседи, внуки на даче, и ты на машине повезешь нас к морю. Я — экономная, и я тебя дома не подведу. А ты работник хороший, это все знают.
Шпринг. Время идет, Гриша, давай играть. Вот три баночки, вот — косточка. Кто с косточкой останется — тому прыгать.
Витя. Что ты пристал? Я сразу скажу, кто останется — ты! Не веришь, смотри! На меня играем. Раз! Два! Три! Где косточка? Нет. На капитана. Раз! Два! Три! Нет косточки. На тебя. Раз! Два! Вот и косточка. Тебе, Шпринг, акульи зубы считать… Иди-иди. Не мешай нам. Может мы и взаправду последними здесь остались? Все вернулись, а мы потерялись? Может быть, там коммунизм уже какой-нибудь плохонький? Почти настоящий? Только без нас. Ты прости, капитан. Я готов работать и работать. Я же морской человек! Мы с тобой, можно сказать, последние труженики моря. Это железно. Но я хочу понять, почему нас страна здесь забыла? Послала сюда и забыла? Сколько нам еще смены рабочей ждать? Где этот Горби? Без меня пиво пьет?
Капитан. Ты забыл совсем — он не пьющий.
Витя. Правильно на флоте говорят: если не пьет, то або пидлюка, або хворий…
Капитан. Хворый, хворый. За это его — президента России — лучшим немцем года назвали и премию мира назначили. Театр идиотов на сцене абсурда. Он перед Европой глухарем заливался. Сам говорил и сам себя слушал. Немцы-то по-русски не понимают. Заговорщик президент, заговорщик.
Витя. Заговорил, как приговорил!
Капитан. А страна за нами вернется. Верь. Нас не забыли. Мы просто не все знаем. Многое могло измениться. Но Родина помнит своих героев…
Витя. Посмертно?
Капитан. А «Прощание славянки»? «Полонез Огинского»? «Вьется в тесной печурке огонь»? Охрана здоровья? Моральный Кодекс строителя коммунизма? Сколько лет прошло?! А если бы нас послали на Марс?
Витя. Когда я был комсомольцем, говорили: а если б ты вез патроны?
Капитан. Не актуально. Ты представь, что мы улетели в Космос и ждем на другой планете, когда за нами прилетит космолет. Можешь представить?
Витя. В этом-то моем космолете? (Трогает ладонями жерди клетки.) Легко. Улетели по путевке комсомола, да? Теперь карантин у нас, чтобы заразу на родину не привезли. А то я себя измучил: почему нас на берег не выпускают? А это профсоюз наш и медики в белом — о здоровье нашем беспокоятся… А где тогда трудовое законодательство? Где твои партийные вожди, капитан? Почему трибуны не вижу? Нас, наверное, работяг и вождей, на разные планеты послали. Мы — под солнцем, они — под кондиционером. А я-то думал, чего я так потею?
Капитан. Это временные трудности, Витя. Страна становиться на новые рельсы.
Витя. А мы с тобой — старые шпалы, да?
Капитан. Ты вспомни, как нас готовили? Лучших выбирали. В Москве утверждали. Лучшие траулеры. Лучшее оборудование. Оркестр, митинг. Хорошо? Лучшее, что в каждом из нас было — все это взяли, как праздник. Вспомни!
Витя. Все это взяли — и вывезли. Нас с тобой взяли, как товар в упаковке, и вывезли. А вместе с нами — все лучшее, что в стране было. Вывезли и продали? Ведь кто-то продал нас? Продал!? Как картошку и семечки на базаре! А может, всю страну как картошку? Мелькала такая мысль? А что там у нас сейчас происходит? Ты знаешь? Кто там остался? Почему замены нет? Продавцы разбежались?
Капитан. Может кадры морские кончились? А может, дипломы не того цвета…
Витя. А может рыбу не едят? Диета у них, да? Убедила партия народ, что рыбу есть вредно, и отказалось человечество от рыбы — перешло на одуванчики с травкой. Да? А может, работа перестала быть главным, и вся страна, как индийский йог, на голове в позе стоит, или Кришну танцует? А что — Кришна, хали-гали, Кришна?.. Что сейчас в стране главное? Ты знаешь? Конкурс собак? Диета похудения? Техника поедания? Паста зубная и бумага туалетная?..
Капитан. Работа — она и в Африке работа. Без труда не вынешь и рыбку…
Витя. Мы на работу кинулись? Нет, капитан, не юли. Мы на деньги, как рыба на прикорм. Пообещали нам пепси-колу с гамбургерами и зарплату в долларах, и рванули мы из дома и страны на четыре стороны. Остались дома от нас только фотографии старые. Детям нашим наши морды показывают. «Вот он, Вовочка, твой папочка — в галстуке… и в рамочке». Где бы мы еще все так наглядно поняли? Хорошо в клетке думается, капитан? Думали, рыбу в океане тралим, а оказалось — сами себя в нем искали. (Напевает.)
От Гвинейского залива до Сангарского пролива, море за морем бурлило, днем и ночью говорило. Ах, зачем вам, человече, сеть рыбацкая на плечи? И зачем вам горы-волны вместо полюшка и воли? Что вы тянете из моря, разрывая грудь на части? То ли собственное горе? То ли собственное счастье…(Улыбается.) Лучшие из лучших. Потому и охраняют нас как национальное достояние. Эй, Шпринг! Береги меня! Только я здесь — не весь! Я, Шпринг, как айсберг — семь восьмых под водой скрыты. Как ветер из моей души! Не помещаюсь я весь в эту клетку. Ты думаешь, деньги мне нужны были? Нужны. Только деньги я и дома заработать мог бы. А мне жизнь морская мила. Я океан люблю. Начитался про море. Грин, Мелвилл, Станюкович, Миклухо-Маклай… А у моря душа! Я сам в себя эту душу морскую вдохнул, как воздух. Море нельзя за деньги любить. И женщину за деньги — нельзя. И друзей предавать — подло. И нельзя самому не верить, что есть мой путь, только мой, как дорога в океан — у каждого бывает своя. И будут мне тогда и жизнь, и любовь, и мужская работа до самой смерти. Как гладиатору на арене: грудью на острие ножа. А меня — в клетку?! Смешно? Ты, капитан, партийный, тебя не купишь. Я — трудяга, я работать могу за кукиш. Я сам за работу платить готов. А что ты так напрягся? Продали нас, ясный перец… Почему только мы так о власти поговорить любим, спрашивается? И почему тогда, от нее, заботливой, в океан бежим? Место ищем? Убегаем? Прячемся? Где моя страна, капитан?! Где? А я тебе скажу, открою секрет. (Наклоняясь и понижая голос до шепота.) В океане. В океане моя страна. А ты?
Капитан. Ну, ты словами-то не разбрасывайся. Страна — это совесть. Она тебя вырастила, воспитала, образование и работу дала. Кто мы ей? Моряки, защитники, кормильцы…
Витя. Дураки. Только говорить об этом не хочется. Где-то мы, капитан, обманулись? На что мы «купились»? Депутаты, плакаты, политдемократы. Гипноз. Соблазн «приподняться». Приватизации, агитации, акции! Дивиденды с процентами. Всем! И голос Кашпировского из телевизора. «…Подставляйте ваши тазики, баночки, рюмочки… Ближе к телевизору! Даю установку на добро…». Добро стало похоже на свинку-копилку перед телевизором. Всем захотелось от государственного пирога по кусочку каждому. Хотелось тебе? И я думал. Грешен. Это потом вспомнил, что дом мой без меня остался, и в доме том даже мыши не живут — жрать нечего. Только мыло в конце месяца по талонам. Надула тебя твоя партия!? Без нас страну на куски разрезала. А нас — в заграницу отправила. И мы с тобой, капитан, кусочками пирога кому-то достались. Хорошо тебе, капитан, пирожком-огрызком в клетке?
Капитан. Партии верю я до сих пор. И ты меня не испытывай. Я партии верен.
Витя. Ослеп ты от этой веры. Думаешь, что не вижу я, как ты измучился. И не стало в тебе размаха. А ведь ты из моей страны, а? Водоплавающий! Помню, как ты ветру кричал и в океан бутылку с водкой бросил, отпив из горла и засмеявшись, как на краю ада. «Выпьем с тобой, океан? На равных!?». Вижу, что помнишь. Голову гладишь свою, будто ты ее уговариваешь помочь тебе. Успокоить. Придумать лекарство. Чтобы примирило оно тебя и твои сомнения. А его нет. Нет такого лекарства и слов таких — нет. Лопнула душа, как рыба из трала. Видел на промысле, когда полный трал рыбы возьмешь, начнешь тянуть по слипу на палубу, а он — трал — вдруг, возьми и порвись. И рыба из него — вся в океан опять потекла. И вся она, хоть и жабрами шевелит и хвостами ластится, а вся она уже, считай, мертвая. Не выживет. Что-то внутри у нее раздавилось и лопнуло. Так и мы — из лопнувшего Союза — не жильцы. Сила наша только в Союзе была, когда были мы вместе. И в каждом размахе была морская песня, типа «Мы вышли в открытое море, в суровый и дальний поход!». Получается — две страны у меня, и это — как две руки. Только сам себе не протянешь ладонь, не сожмешь кулак, за плечо сам себя не тронешь.
Капитан. И Союз никуда не делся. Рано ты от него отказываешься.
Витя. Так это мы от него делись. Куда? Помнишь тот экипаж, который на перелете из Дакара домой, под звон стаканов с песней «Ты морячка, я моряк, ты рыбачка — я рыбак…» стали самолет раскачивать? Самолет посадили на Мальте экстренно и весь экипаж в береговую тюрьму отправили. А там тюрьма на сто человек рассчитана, по последнему слову европейских прав человека: одноместные номера со всеми удобствами, спортзал, бассейн, стадион, ежемесячная стипендия сто долларов. Хочешь больше — есть мастерские, где можно подрабатывать до трехсот. В тюрьме этой за три года больше пяти человек одновременно никогда не набиралось — выкуп платили и «по домам». А наши сразу отказались дальше лететь и согласились отбывать наказание сроком в один год. Половина нашла способ остаться и работать на острове после отбывания. Треть улетела через год домой. А несколько человек завербовались и полетели назад, к берегу океана. Я их понимаю. Я сам такой. Есть Союз или нет — мое место на промысле. Даже если этот промысел — африканский капкан.
Капитан. Вот-вот. Потому и шутили — славу стране, деньги жене, а сам носом к волне. От всех отвернулся, значит. Эти твои размышления тебя и запутали. На месте наша страна! И партия наша — на месте. Я уверен.
Витя. Ну, да. Скажи еще — партия — наш рулевой. А я носом чувствую — не туда рулила!
Капитан. Ты нос свой с партией не путай. Рулило ты носатый. Твой нос только выгоду чувствует или бабу. И всякий прохиндей, и баба с выгодой в любой толпе тебя разглядят, выудят и на крючок возьмут.
Витя. На какой крючок?
Капитан. Так на рубли и доллары, сам говорил.
Витя. Я же для семьи. Я в семью эти доллары греб.
Капитан. Греб? Семьянин ты гребаный. Ты когда из семьи ушел в море? Про страну судишь? А ты сам дом свой на что разменял? На бумажки — красненькие и зелененькие. Деньги принес и свободен! В семье тебя нет. В стране тебя нет. Где ты, Витя? Ау-у? Ты сам себя в эту плавучую тюрьму запрятал. Сбежал, можно сказать. Продал. От забот, от хлопот, от обязанностей. От ответственности. Сам в море рвался? Так это еще древние греки говорили — есть люди живые, есть люди мертвые, и те, которые ходят в море. От семьи своей беглые. А ты — обманули, заманули… Дурень ты.
Витя. Ты чего перепутал все, отец морской? Мы о партии твоей говорили. Это она всех обманула и в космос улетела со всеми удобствами и благами, которые от тебя и меня припрятала и приватизировать успела. Мы, к примеру, кому достались? Москву перед кем расстелили? А Крым и Кавказ? А Кубань, Украина, Байкал — чьи теперь? Ну, не наши с тобой, это точно. А наше с тобой — что?
Капитан. Пирога захотелось? А зубы есть? Чем кусать собираешься, трудоголик от рыбного промысла? Мыслить надо. То партия тебе не нравится, то семья много требует, то страна о тебе забыла… За все надо платить, Гриша! За все! Зубами, волосами, нервами, семьей… Деньгами? —так это самая дешевая плата получается.
Витя. Это, когда они есть.
Капитан. На то ты и мужик! Потому и не скули. Понял? И нюх у тебя правильный должен быть.
Витя. Какой это — правильный?
Капитан. От которого дети рождаются, и в семье твоей смех женский.
Витя. Смеешься, капитан.
Капитан. А чего же мне — плакать? Как сказал один поэт-мудрец: для женщины беда — упасть, мужчине — не суметь подняться. А мы сами поднимемся и страну поднимем. Поднимем! Как плакат над демонстрантами — даешь морскую Республику!.. А, Витя? Чего улыбаешься? Или что хорошее вспомнил?
Витя. Вспомнил. Как мы серп с молотом по приказу Родины с трубы снимать начали, а ты руки растопырил: «Не позволю на куски резать!» — кричишь, и потребовал к тебе в каюту это сокровище положить, для отчета и сохранности. Дескать, придет время перед партией отчитаемся и вернем на трубу символ власти. Было?
Капитан. Ну, и что в этом смешного?
Витя. А то, что с палубы эта композиция на высокой трубе размером с ладошку выглядела, а оказалась — диаметром три метра и весом килограмм двести металла, и в двери офицерского коридора не прошла. Распорядился ты тогда этот главный инструмент социализма закрепить на палубе перед капитанским иллюминатором. Так? И закрыл ты, капитан уважаемый, этим серпо-молотом солнечный свет в своей каюте. Пришлось электрический включать. Помнишь? Не с того ли времени глаза твои стали щуриться и тускнеть, а?
Капитан. Не смешно. Перестройка. Подумаешь, свет включать!? Пережили без солнца. Много чего наломали… Кто знал, как лучше сделать?
Витя. Знал бы хоть кто-нибудь во всей стране, что строим? Может, понятно бы стало, чего эта затея стоит и стоит ли? Хорошо, что твои серп с молотом, когда погода качнула, правильно рядом с бортом легли, никого не задели. Или боцману спасибо, рукастому, рядом с бортом положил, нашел место в океане. Глубоко, для сохранности. Капкан-то наш, может быть, не африканский вовсе, а российского розлива напиток. От нашей перестройки все страны Африки зашатались и революциями покрылись, как море волнами. Слышишь, что я говорю?
Капитан не отвечал. Потом опустил голову и прошептал, затихая:
Капитан. Прости, тралмастер, засыпаю. Глаза мои что-то устали. Закрыть хочется. И все, о чем говорили, забыть. Один раз разговорились, наговорились — хватит. Пустое это теперь. Куда мы с этой подводной лодки, как говорится. Нам не эта клетка, так другая найдется. Мы от счастливой жизни глаза подпортили, а на новую смотреть — сил нет. Глаза закрыть хочется, чтобы совсем не ослепнуть.
Витя. Болят? Может, что-нибудь видишь сегодня?
Капитан(отвечает бессознательно, как во сне). Вижу! Вижу я, что ночь. Море. Скоро бриз утренний дышать станет. Прибрежные рыбаки сейчас кофе пьют и на лов утренний собираются.
Витя. Значит, видишь. А Луна есть сегодня?
Капитан. Луну я всегда чувствую. Мужик ведь. Есть Луна.
Витя. А в какой стороне, можешь показать?
Капитан. Да вот же. (Показывает в сторону палубной лампы.)
Витя (отворачивает голову от лампы и смотрит в другую сторону, где высоко в небе яркая Луна). Правильно. Молодец, капитан. Правильно ты все, как всегда, видишь. И виляешь хвостом правильно. Ничего мы с тобой разговорами не изменим.
Слышатся голоса, стук весел и частые шаги босых ног по палубе.
Капитан (встрепенулся и открыл глаза). Что за шум? Кого-то привезли с берега?
Витя. Похоже на то. Точно. Сюда несут. В сетке, как рыбу усталую.
Несколько человек несут пленного, кладут на палубу и раскручивают тело, освобождая из сети. Освободили. Он не шевелится, лежит весь мягкий, будто бескостный, как кукла. Запихивают его в клетку, сидя, сгибая ему ноги в коленях и прижимая к телу. Голова при этом остается лежать на коленях. Клетку закрыли и ушли, не оглядываясь. Стало тихо.
Витя. Сосед! Очнись! Живой!
Капитан. Пусть поспит. Не тревожь.
Витя. Я по рыбе знаю. Хорошая рыба, акулу возьми или тунца, лежит на палубе мертвой, аж сухая вся, а плесни на нее водой — оживет мигом.
Капитан. Ты к чему это?
Витя. Так я его сейчас словом окроплю, он по-морскому поймет и жить захочет. Новенький! А, новенький? Новенький! Едрит твою фень, камбала на бекрень… Покажи голос!
Новенький. …Строп твою душу бога и три богородицы…
Витя. Земляк! Землячок, родненький! Акула тебе между ног… Шевелись, шевелись, водоплавающий…
Но новенький впал в беспамятство и умолк.
Витя. Дышит, капитан?
Капитан. Вроде.
Витя. Вроде, в народе, бузина на огороде. Кто из нас слепой? У кого слух лучше работать должен. Ну! Ну, прислушайся, капитан.
Капитан. Дышит. Сопит аж. Видно, краем сознанья услышал, что мы рядом. Свои, значит. Вот и успокоился. Пусть поспит.
Витя. Пусть. И нам на душе веселей. Все-таки, больше нас стало. Прирастаем. Вот он поспит, проснется и столько нам новостей выложит. (Мечтательно.) И про то, что на Родине. И про то, что и сам я давно знаю.
Капитан. Это про что же, позволь спросить, такое ты знаешь, чего я не знаю. Скрываешь что-то? Что, спрашиваю?
Витя. Я и сам еще, батя, не знаю. Чувствую только. Душой. Что на Родине нашей все стало путем. Перестройка кончилась. Союз наш опять вместе. Обоих наших лидеров, и непьющего и недопитого, судили народным судом, и наказали таким лекарством, чтобы каяться им хотелось, а сказать они не могли.
Капитан. Как это?
Витя. А все им, горбатому с пляшущим, рубанули по-русски, фольклором заборным. И пустили их на все четыре стороны. Пусть идут по стране и видят. И Крым. И Севастополь. И Кавказ в слезах. И Сибирь в образах. Идут они, видят все, слышат, а прощенья у людей попросить не могут, языки, будто к небу прилипли. И станет им стыдно. И собака на них не залает, а бабушка со слезой в спину их перекрестит. А Бог не примет.
Капитан. Философ ты, как я посмотрю. А себя кем видишь?
Витя. Моряком в отпуске. Еду я по всей стране, как раньше, от Керчи до Магадана, от Кушки до Кандалакши. Эх, ты — матушка! Да, голубушка! Да, родная сторона, сердцу любушка… Доля ты, моряцкая, жизня — корабельная! От родной мне стороны — сторона отдельная…
Капитан. Молодец. Молодец — тралец.
Витя. Тралмастер, капитан. Тралмастер.
Капитан. А спой-ка, тралец, которая про облако с Богом. Помнишь?
Витя. Для тебя, капитан, вспомню.
Поет, тихим голосом.
Бог мой — на облаке белом распят. Бабья любовь — целовала раз пять. Любовь умоляла — не болеть и жить, И рано по мне панихиду служить. Я руки раскрылю — навстречу судьбе, И в колокол — сам позвоню по себе, Я так закричу, словно осиротел, Чтоб слышала ты, как я песню запел.Светает. Над ними летают морские птицы, изредка бросаясь в утреннюю воду и выдергивая из моря трепещущих рыб.
Ты хлебные крошки бросаешь в птиц, А это ведь я между белых орлиц, Ты ласковым словом окликни меня В закатной сирени вчерашнего дня. Ты молишь пред богом словами любви, Чтоб жизни моей молодой не сгубил, А счастье не в том, что остался живой, А в том, что к тебе преклонюсь головой.Спящий в третьей клетке шевельнулся, протягивая вверх руку, словно хотел помочь себе встать, но не смог, только поднял голову и огляделся.
Вернусь я, вернусь на любимую Русь, Где степью ковыльной качается грусть, Где ты одиноко плетешь из цветов Венок для моих недосказанных слов. Я руки раскрылю навстречу судьбе, И в колокол — сам позвоню по себе, Я сам закричу, словно осиротел, Чтоб слышала ты, что я песню запел.Новенький в соседней клетке застонал и заворочался.
Витя. Земеля! Очнулся, земеля?
Капитан. Не буди его, Витя. Видишь, помяли парня.
Витя. Погодите, капитан. Хватит ему слабеть. Морской разговор и геморрой лечит. И нам со свежим человеком поговорить не терпится. Может он мне земляк. Я его за русский мат целовать сегодня рад. Сосед, очнись! Земеля!
Гром. Где я?
Витя. Там же, где и мы — африканский берег, русская тюрьма, каюта отдельная, с видом на море, белая луна и вентиляция морским бризом — все натуральное.
Гром. Опять тюрьма.
Витя. Был здесь разве? Что-то тебя не помню.
Гром. Нет. Я на берегу сидел. В яме. Почти год.
Витя. Бежал?
Гром. Два раза.
Витя. Что же ты так неудачно?
Гром. Меня бить учили. Убегать — не учили.
Витя. Посмотрите, капитан, на этого лентяя. Ему, видите ли, бегать западло. Гордый. Да я — на Родину на коленях ползти буду. И тебя, лентяя, заставлю. Понял? Оплачено.
Гром. А зачем шумишь? Бегать и шуметь — не совместимо. И не оплачено, как ты намекаешь, деньгами. А оплакано. Слезами. Мамой твоей. Женой. Дождиком с родины. Так вот, земляк. Арифметика дальних плаваний.
Витя. А моими терзаниями — не оплачена? Или все мои боли не в счет?
Гром. Мы с тобой мужики, дорогой. Моряки. Нам эти боли и риски — профессия. Мы так устроены — чем хуже ситуация, тем больше закипает злость, и крылышки прорастают, назло и наперекор. Свои силы — не счесть. А себя жалеть, как деньги считать — мелко. Ты учись беречь силы близких. Это им трудно. Они — о крылышках твоих и запасе души — не знают. Только волнуются о тебе, как море брызгами, и руки у них опускаются от бессилья, что не могут помочь тебе. Понял? Самое трудное мужику — рассчитывать силы близких. Это труднее, чем кулаками на ринге.
Капитан. Быстро вы оклемались, однако. Молодой. Силы есть, значит. Вас как зовут?
Гром. И Герой, и Геной, и Гошей… А фамилия моя Гром. И в школе, и на флоте. А дома — жена с дочкой. Гром, миленький… Всем все ясно. Во мне раньше почти сто кило было. И слов лишних не требовалось.
Витя. Сто кило? Ослаб. Теперь в тебе и половины не будет.
Гром. Будет. Я живучий. Домой вернусь. Отопьюсь и отъемся.
Витя. Отопьюсь? Мечтатель.
Гром. Мечтатель.
Капитан. Мечта — это хорошо.
Гром. Хорошо-то хорошо, только тесно тут. Ноги затекли… Сосед! Ты, судя по всему, старожил здесь? Как в этом южном отеле номерок попросторнее снять? А то ноги затекли, сил нет.
Витя. Это просто. Делай как я. (Просовывает ноги сквозь деревянные жерди.) Хорошо, что похудел. Оценил?
Гром. А это не будет попыткой к побегу?
Витя. Нас не бьют. Мы — рабы тралового флота. Придут траулеры и нас разберут, как запчасти, взамен выбывших. Судов наших много. Народа — еще больше требуется. На рабочих палубах не пропадем — траловые палубы деревянные, родным лесом пахнут. Помнишь, песня была. «Пахнет палуба клевером, хорошо, как в лесу…»
Гром. «И бумажка приклеена у тебя на носу…»
Витя. Земляк!.. А беды две — от жары не сдохнуть и комара не прикормить бы.
Гром. Малярийный комар бледнолицых любит.
Витя. Ага. Как и африканская женщина.
Гром. Это отдельная тема.
Витя. Согласен, земляк! На потом — оставим. А грабли свои по моей команде успевай всосать, чтобы не потерять. Понял? Есть тут один — глаза шпрингом — безбашенный, бестия. С детства в пиратов играет. Бывший наш.
Гром. Так мы все теперь бывшие.
Капитан. Какие мы бывшие?
Гром. Так Союза ведь нет больше. Кто мы теперь?
Капитан. Как это — Союза нет?!
Гром. Так. Демократы-лидеры власть делить стали. Власть делили и страну развалили. Партийцы-радетели. Одним словом — предатели.
Капитан. Ты на партию не клевещи. Партия — это не два секретаря на селе. Советская власть на века поставлена. Советскими были — советскими и остались.
Витя. Русские мы. Россия не бросит. И Миша африканский теперь с нами.
Гром. Какой такой Миша?
Витя. Миша — вождь своего народа. Проводник поезда «Москва-Воркута». Муж восьми счастливых жен. Советчик от слова советский.
Гром. У России теперь столько советчиков — от Брюсселя до Вашингтона. Каждый свою долю выкраивает. А нашего брата-рыбака по всем океанам — тысячи. И все мы, как мины замедленного действия — ограничителя нет, с тормоза сняты, в любой момент взорваться можем.
Витя. Это какая такая мина? Я — мина, объясни?!
Гром. Такая. Страну потеряли, религию не знали, дома наши — настежь, родные — по миру. Вся душа твоя разорваться хочет! Мины! И те, кто здесь. И те, которые там остались. Ты ведь тихо умереть — не согласен?! Ты правду свою — наружу выплеснуть рвешься! А только слова забыл, которые все рванут и успокоят тебя. Нет таких слов, нет такого успокоения. Потому что не осталось в нас веры. Кого чем поманят, кого с кем обманут, кого жизни лишат — не на небе решат. Сами себе мы дорожку выберем — кому какой курс…
Капитан. У всех курс один — на Родину!
Витя. Домой, ясный перец.
Гром. Дома нам делать нечего. С пустыми руками мы там не нужны. Мы — добытчики. Дома для нас только два праздника — когда из рейса с деньгами пришел — неделя праздник, когда в рейс уходить — самый счастливый день.
Витя. А как же «беречь силы близких»? Сам говорил?
Гром. Об этом говорить вслух не надо. Между нами понятно. Первые тосты за столом. За дом! Пусть им сладко икнется. За друзей! За любовь! Уходишь — радость с лица убери. Уважай хозяйку. А в каюте с друзьями сядешь, тогда и расправь улыбку. За море! За пароход-кормилец! За машину, чтоб не подвела! За любовь! Потому как мы все — мужики.
Капитан. А мины свои куда прицепишь? Показывает жестом на известное место. Не оторвет причиндалы?
Гром. У меня противовес есть, управляемый, между прочим. Про мину в себе — это ты сам помни. Друг он без слов поймет, ни о чем не спросит. Женщина — по глазам примет, поцелуем простит. С чужаками я теперь осторожничаю — не толерантен стал. Раньше в иностранном порту за три квартала земляка разглядишь и рад ему — свой ведь. А теперь рядом стоит иной, а на тебя не реагирует, боится. Кто я ему? А вдруг попрошу чего? Все мы теперь стали окрас принимать разный. Как загар в тропиках. Свой — не свой. Вся наука моя проста, как промысловая сеть — место свое мне найти надо. Как тому Архимеду, которому точку правильную укажи — он и шар земной рычагом сдвинет. Физика души. Наше место — на промысле. Семью кормить. Тогда и страна выживет. А то, что я в клетку попал — не беда. Выпутаюсь. Риск — нормальная сторона морской профессии. Я на риск согласен. И в африканском народе я хороших друзей видел, а плохие меня обходили. Среди наших моряков, слава Богу, подлости не встречал. А про власть судить не хочу — все они мне на одно лицо — не загорелое и не морское. Инопланетяне, одним словом — выглядят как знакомые, а порядок слов у них бестолковый, глаза выразительные, как у коровы, а смотрят в сторону, будто сено свое перепрятали. Не моряки. Нет.
Витя. Это точно. Загар не тот.
Капитан. Страну с минным полем не путай. Партия выведет. Не такие задачи решали.
Гром. Ты прости, отец. От слов твоих, вроде, теплится что-то, а рукой потянусь — не греет. С умом развалили Союз наш. По плану. Африканцев — их просто травят: порошками, таблетками, пищевыми добавками. Нас другим извели — модно стало особое мнение. Он тебе: «А можно в вас плюнуть?» — Ты ему: «А я на вас в суд…» — Он: «А можно обгадить?» Ты: «А что скажет представитель по правам человека? — А можно — без совести?.. Можно?.. А пусть нас рассудит Европа?»… А в итоге — и вор улыбается, и убийца осужден — условно. Страна не страна, если нет одобрения Вашингтона. Бог людей создал, а Вашингтон не признал. Кино! Вот и мучаюсь я сомнениями. Где же — правда? Не то была русская вера, что в церкви молилась, а то, что солгать не могла и юродивым верила. Вот и все новости.
Капитан. Ты так не юродствуй. Есть высшая вера!
Гром. Вера — могучая баба и она устала. Половина страны без работы осталась. Чем жить? От Союза никто не отказывался. Кто его развалил? Кто границу в Керчи поставил?
Витя. Какую границу в Керчи? Ты чего брешешь?
Гром. Граница. Таможня. Севастополь теперь чужая земля.
Витя. Не верю!
Капитан. Вы что нам говорите такое? Как язык поворачивается? Севастополь — город русской морской славы! Всегда! Слышите?!
Гром. Эх, ребята. Долго вы здесь сидите, как я понимаю. Дайте поспать глоток. Отойду слегка — расскажу вам, что в мире делается. Я хоть и из ямы, но, видно, свежее вас к новостям буду.
Витя. Погоди, брат. Ты только скажи правду. Крым наш? Кто в Крыму-то?
Гром. Душой, думаю, наш. Лицами — наш. Улицами. И словами русскими плачет. Помнишь названия крымские, когда по дороге едешь. Сирень, Благодатное, Чистенькое, Счастливое… А в Керчи теперь по ночам бомжи, как крысы от света, из мусорных ящиков выпрыгивают.
Капитан. Какие бомжи? Кошки?
Витя. Мутанты Чернобыля?
Гром. Люди такие. Ветераны труда и моря, бывшие защитники города-героя. Бомж — бывший Отечества моего житель. И мы — бывшие.
Капитан. Врешь ты все. Не может этого быть. Витя, не слушайте его! Он просто болтун подкупленный. За что продался?.. Не может такого быть… Что такого наговорили? Нельзя так словами по сердцу резать. Больно!
Ответа не последовало. Умолкли. Каждый думал о своем. Прошли долгие минуты осознания новостей. Капитан, уронив голову на затылок, замер с открытым ртом. Руки его лежали на палубе ладонями вверх. Глаза были закрыты. Двое продолжали разговор полушепотом.
Витя. Ногам полегчало?
Гром. Спасен! Должник твой теперь.
Витя. Прими как подарок. Не глядя.
Гром. Спасибо, друг.
Витя. Ты на капитана не серчай. Трудно ему это все пережить. Видишь, опять вырубился.
Гром. Что с ним?
Витя. Нервы. С того дня, как пришла на борт радиограмма «Флаг советский спустить, серп с молотом с трубы срезать!», так и началось. Сначала просто вырубаться стал, минуты на две-три. Потом слух стал терять. Были дни, когда совсем не слышал. Но док на борту толковый был, стал его по вьетнамской методике возвращать. Помогло.
Гром. А сейчас?
Витя. Ослеп. Совсем ослеп. Хотя, иногда, говорит: «Вижу контуры гор… или облаков… или кусочки солнца, как на волне, качаются». Когда приехал на борт представитель компании, наш, из московского банка, и сказал, что суда наши вместе с экипажами передаются в международный холдинг, возгордились мы — слова ведь какие — «компания», «контракт», «акции», «рынок», «холдинг». На слова эти нас и купили. Точнее, за слова эти мы, можно сказать, сами Родину продали. Не знаю, как это ты про мину в каждом из нас продумал, а я согласился — много слов появилось таких, которые без минера прошептать опасно стало. Задурили народ словами и взяли страну без боя. Когда огляделись — поздно — документов нет — паспорта наши где-то в холдинге… А где этот холдинг? С чем его едят? И какая и где наша Родина?
Гром. Паспорта у вас были советские или российские?
Витя. А какие еще? О чем говоришь? Серп и молот, конечно. Как с трубы срезали. Мы — советские.
Гром. И деньги в Союз отсылают семьям, согласно контракта… рублями.
Витя. Че ты голову мне морочишь? В советских рублях, все по закону. Охрана труда, техника безопасности, зарплата, премия, отпуск… Отпуска нет. На берег не выходим, работаем в море, снабжение в море, бункеровка в море, отдых в море…
Гром. Галера, короче. Только цепью не приковывают.
Витя. А в яме лучше?
Гром. В яме хорошо. Стены высокие. Солнце сверху, но тень бывает. Только мне не впервой выживать, хоть новичком в классе, хоть в армии на гауптвахте, хоть по пояс в воде лед рубить. Обмерзал во льдах? А я попадал, как генерал Карбышев, можно сказать, обмерзал и вмерзал в пароход, как в глыбу. Поэтому в тропиках — отогреваюсь. А в яме ни ветра, ни моря. Я в первый же день на стене телевизор нацарапал. Сижу, передачи смотрю. Охрана на брюхе ползает сверху, не может понять, что я такое вижу? Чему смеюсь? Потом заставили «выключить и вынести». Юмористы, говорят, муслим наши передачи запрещает смотреть. У них с этим строго, пришлось «телевизор» замазать по глине. Нарисовал статую Будды, Христа и Девы Марии. Стал молиться. Охрана притихла, разговоры пошли, стали пускать к яме желающих — на поклонника Веры за деньги смотреть. Зауважали. Некоторые даже спускались ко мне, кланялись, молились, делали подношения. Место святое оказалось, многим молитвы показались вещими. Точно. Молился, чтобы сбежать — сбежал. Обувка подвела только. А босиком по ракушечнику и колючкам собственной кровью, можно сказать, след рисовал. Но с телевизором яма была, комфортно. Будет, что вспомнить в застолье дома.
Витя. Ну, ты Кулибин. Я бы не додумался.
Гром. А вы что с этой палубы никуда и не ходите? Не тянет на берег?
Витя. На берег без денег? Мы в советские времена очень прогуливались? Очень ты рвался с промысла в город? За шесть месяцев только и выйдешь на берег разок за подарками для дома. И пива не попьешь. А здесь по воскресеньям дают: банка пива и банка колы на брата. Еще мороженое дают по праздникам, как детям. Радуемся!.. Харч — рыба. Не привыкать. Молока сгущенного, правда, не стало. Отменили. Профсоюза нет. Какое вам, говорят, молоко за вредность, когда море вокруг и солнце, как на курорте.
Гром. Понятно. Курорт и диетическое питание. А эти клетки и эта палуба?
Витя. Карцер. Отдохнем в клетке недельку и с такой радостью побежим сами на наши палубы — не догнать!
Гром. Проштрафился, что ли. Это чем ты смог? Трал порвал? Звезду с неба сдернул?
Витя. Не обижай. Я в своем деле профи. И работу мою люблю. Я за капитаном пошел. Его одного нельзя было отпускать.
Гром. Почему?
Витя. Не могу говорить.
Гром. Да я сам догадался. Прикрываешь его слепоту, да?
Витя. Как ты догадался?
Гром. За дурака меня держишь?
Витя (понижая голос). Упаси Бог. Никто не знает. Капитан на борту всем командует, когда трал, когда подъем. В море мы все вместе. Вместе и на месте, как капитан говорит. Капитана не бросим. Он, хоть и слеповат, но моряк верный. Это он сейчас опять перенервничал, часа два в забытьи будет. Трудно ему эти перестроечные правила осваивать, член партии ведь. Я сам в переменах запутался. Генеральный директор наш, например, президент холдинга, живет в Лондоне, москвич, гражданин Австрии… Флаги на мачтах траулеров, бывших мурманских и бывших черноморских, какие теперь, угадай? Не угадаешь — Каймановы острова. Сам ты откуда?
Гром. Волжанский. Учился в Питере. Ленинградская область, город Санкт-Петербург, проспект Большевиков. Такая история.
Витя. Хорошая строка для песни с эстрады (поет). История страны, как паранойя — история трибун с идейным строем…
Гром (продолжает). Старший механик. Начинал на Каспии. Работал в Мурмáнске.
Витя. Мурмáнск?! Как там в песне морской про Мурманск. «Но радостно встретит героев Рыбачий, родимая наша земля…»
Гром. А ты мореход-звездочет, что ли?
Витя. Нет, мне штурманской доли не надо. Я траловый мастер. Знаешь такое? А рыбку ловить — думать надо. Она, рыбка, чтоб по палубе хвостом ударила, десять раз из любого дурака мыслителя делает. А у меня такой рыбки тринадцать рейсов в Атлантику. Умища накопилось как у Карла Маркса, больше бороды. (Декламирует театрально.) Лоб набычу сократовский! Клич возвышу ораторский! Пусть горит звездной графикой Млечный трафик над Африкой! Сам я — рыб повелитель…
Гром. Важных чисел числитель…
Витя. Не мешай. Сейчас все оформлю… В общем (стушевался), потому я теперь — мореход и мыслитель!
Гром. Мореход и мыслитель? Чудак! Такого не бывает.
Витя. Почему не бывает?
Гром. Не совместимо.
Витя. Что ты опять свое «не совместимо» тянешь?
Гром. Напоминает старый анекдот. Тралмастер, такой как ты, золотую рыбку поймал и спрашивает: что можешь сделать для меня? Могу сделать богатым, а могу наимудрейшим. Подумал тралец: деньги пропью, а ум-то останется. Давай, рыбка, умище мне — делай! Через пару минут рыбка спрашивает: ну, что? о чем задумался? Э-эх! Деньгами брать надо было… — Так и ты. Ты пойми, тралмастер, у мыслителя голова, как ядро пушечное, в плечах тонет и вниз тянет. Куда в море с таким балластом? До первого крена.
Витя. А у морехода?
Гром. У морехода сквозняк в голове должен быть, чтоб она, бестолковка (бьет пальцем по лбу) поплавком на воде качалась. На всякий случай. Пустая голова не тонет. И мысли в ней легкие, как стихи. Кстати, никакой ты не повелитель, а по русскому фольклору — колобок… Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я из клетки африканской выйду — в трафик океанский… пойдет?
Витя. Ты тоже, я смотрю, как и я — умный. Недаром говорят. «Механики на флоте — самые башковитые» (Улыбнулся, обнажая белые зубы.) И языком работаешь правильно.
Гром. А чего зря головой биться? Моряку волну искать надо, она нам как мама родная — пожурит, приласкает и дорогу подскажет.
Витя. Подскажет — пузырями вверх, а сам — вниз.
Гром. А тыковка на что? Как там, в песне поется: «Поднимет и снова бросает в кипящую бездну она…». (Поднимает вверх руки, пробуя высоту решетки.) Просторно. Жить можно. И никто меня не беспокоит. Я сижу в этой клетке, как дома под деревом. (Помолчал, прижавшись лбом к толстым жердям.) А хочу по-человечески — поплакать, на колени опуститься, проститься.
Витя. А я? В майке и трусах, на краю Африки, как обезьяна или попугай на продажу выставлен. И времени у меня теперь — дни и ночи — думай и умней. А чего думать, если я уже как карась в тазике? Это умно? Зачем я здесь? Как? Думаю день и ночь — как я сюда попал? Передовик производства. Ветеран тралового флота. Душа многих компаний и одной увлекательной женщины. А где я теперь? Кто меня умным теперь назовет, когда сижу в обезьяньей клетке? Сам себя развлекаю, чтоб душа не плакала. И пою сам себе о себе, будто о чужой жизни.
Не скрипя, и не ахая, Сам рвану рубаху я, Пусть душа раскрыта, как рояль, Спят друзья на родине, Жизнь как будто пройдена… Снятся мне родимые края. Родился я на севере В стране СССРия — Во мне течет энергия тепла. Ведь мама песни пела мне, А папа офицером был — Мне их любовь — как свечечка — светла. Товарищи и родичи, Мы все теперь — народище! Нам родина — и Крым, и Магадан. И нам других не надо мер — Мы рождены в СССР, Улыбками любимым городам. И ты не гнись от старости, Крепись, дружок, и радуйся, Я внуку мою песню передам Мы рождены с тобой УМЕТЬ, А не ИМЕТЬ, и не шуметь… Мой внук сказал. Дедуля, пьем за дам! Мы не боимся не успеть, За Севастополь надо спеть, И улыбается задумчиво жена… Я ей служу, как рядовой, Как генерал и как герой… И мне она как родина нужна. Мне снится старый гарнизон, Сирень закрыла горизонт, И папа с мамой обнимаются в саду… Мы рождены в СССР, Такой страны не знал Гомер, Мы были молоды в каком-то там году… Товарищи и родичи, Мы все теперь — народище! Нам родина — и Крым, и Магадан. И нам других не надо мер — Измерил нас СССР, Улыбками любимым городам.Гром. Что за песня такая?
Витя. Сам балуюсь.
Гром. Песня, друг мой, это не баловство. Если душа поет. А если еще и слова есть, так ты не молчи — пой. Песня — это от Бога. И смысла в том больше, чем в самой твой жизни короткой, может быть. Как звезды на небе, одним — свет в ночи, другим — дорогу указывают, третьим — судьбу говорят… Чего — утих? Зачем задумался?
Витя. Задумался. Где тот Магадан? Где тот Гомер? Где Крым? Грудь разорвать хочется, чтоб домой полететь.
Гром. Думать, как мамулечка говорила, надо, а задумываться опасно. Лучше на треп тему свести, как на море принято. Лучше дурачком прикинуться, чем крышу подорвет. А, Витя?
Витя. Прости, друг. Вот еще одно квартальное знамя завоюем, и должны отпустить в отпуск. Я пять лет уже дома не был.
Гром. Какое такое квартальное знамя? Треп? Или крыша поехала?
Витя. А как же, как было всегда: социалистическое соревнование, переходящее знамя. Комитет теперь и в Москве, и в Лондоне. Подводят итоги. Флаг. Премия. Из аглицкого банка!
Гром. Премию домой отправляют, согласно контракту?..
Витя. Конечно.
Гром. Советскими рублями?..
Витя. Советскими рублями. Что ты опять с этими рублями пристал? Что не так?
Гром. А из дома тебе пишут? По телефону говоришь с домом?
Витя. Телефонная связь здесь отсутствует. Африка, что возьмешь с них. Беднота.
Гром. А письма? Радиограммы?
Витя. Радиограммы. Короткие только. Все хорошо, типа. Ну, как всю жизнь и шлют в море. А ты чего так напрягся?
Гром. А кто у вас на борту следит за этими знаменами и соревнованиями? Кстати, а знамя — какого цвета?
Витя. Красное, как положено. А с результатами все по-честному. Два учившихся у нас сенегальских коммуниста ответственные. Доска соцсоревнования. Кто передовик — красным день отмечен, кто слабее — зеленым и синим…
Гром. А сенегальцы какого цвета?
Витя. Ты о чем?
Гром. Прости меня, Витя. Я, видимо, что-то не то говорю. Извини, если обидел тебя чем.
Витя. Что ты, Гром? Разве ты можешь обидеть? Давно со мной не говорил никто. Много сказано для первой встречи. Хорошо, что ты пришел, Гром. Я сейчас в магазин сбегаю, ты не уходи, жди меня.
Гром умолк и замер, наблюдая за действиями соседа-собеседника, который подобрал ноги внутрь клетки, встал, и пошел мелким шагом, командуя сам себе. На месте, шагом — марш! Левое плечо вперед! Равнение на середину… — Капитан очнулся ото сна или транса и произнес уравновешенным голосом.
Капитан. Вы внимания на него не обращайте. И не бойтесь. Это пройдет сейчас. Он в магазин сходит, и это пройдет. Будет говорить — слушайте. У него это всегда перед восходом солнца происходит.
Гром. Что происходит?
Капитан. Доля моряцкая — жизнь не завидная. Клапана на головке слабеют, мозги присвистывают. Как у всех у нас (посвистел паровозиком). Он в Севастополь ходит. Вернется.
Гром. Далеко. Давно это с ним?
Капитан. Лет восемь уже. Когда нас напоили какой-то гадостью и загрузили на польский траулер, и отработали мы в южных морях, от Кергелена до Антарктического полуострова, шесть лет без документов и зарплаты.
Гром. Он мне сказал, что вы пять лет здесь?
Капитан. Пять, плюс шесть, плюс восемь… Я и сам уже сбился со счета. Мы не только из страны, мы из времени выбились. Как греки древние говорили — есть люди живые, мертвые, и те, которые уходят в море. Слышали? Вот и солнце показалось, да? Я чувствую. Не вижу, но чувствую. Раньше, в другой жизни, я его совсем не замечал. Просто ждал день. А день для меня был как будильник-светофор: утром — не опоздать на работу, днем — забежать в магазин, купить домой продукты и мелкие подарки, вечером — почитать газету и посмотреть телевизор. И не замечал — каждый день приходило солнце. Как счастье, на которое я не обращал внимания. Счастье приходит как солнце, скрытое в суете дня. Скромно, можно сказать. А я его не замечал. Теперь делюсь моим открытием с вами. Нельзя радоваться счастью в одиночку. Хорошо, что вы к нам попали. (Улыбнулся и развел руками.) Извините, я не клетки имею в виду.
Гром. Я понимаю. А кстати, почему вас с Витей в клетках держат?
Капитан. Чтобы мы не убежали раньше времени.
Гром. Отсюда? Куда?
Капитан(продолжает). Сегодня вечером начинается праздник акулы-человека. Человека бросают акуле и он должен победить. Такой праздник. Праздник победителя акул. Как у нас Масленица, например. Не слышали? Кто-то избавится от болезни в этот день или кто-то умрет — все равно это будет праздник. Для других.
Гром. Не слышал.
Капитан. А ты правду сказал про Севастополь, Гром?
Гром. Что об этом сейчас?
Капитан. Мне важно. Как свечечку в храме поставить и помолчать.
Гром. Стоит Севастополь. Живут люди.
Капитан. Спасибо, друг.
Гром. А меня почему посадили в клетку?
Капитан. Начинаешь соображать. По той же самой причине, что и нас с Витей.
Гром. А еще одна клетка?
Капитан. Правильно. Чтобы праздник продолжался дольше. Еще ведь не вечер, успеют заполнить и ее (помолчал и продолжил). Не бойся. Африканцы говорят, что у каждого человека есть своя акула… или лев, или крокодил… Такая у них вера.
Гром. А в России верят, что у каждого человека есть в небе звезда.
Капитан. А на море говорят — морская звезда — дорога домой.
Молчат.
Откуда-то с неба звучит мотив. «Гори, гори, моя звезда…».
Светает. Море. Скрип. Плеск.
Крики чаек, как плач. Их тени и крылья. Вверх — вниз.
Далеко слышен нарастающий бой большого африканского барабана.
Действие второе
Утро. Косоглазый уборщик палубы принес ведро с водой и стал разливать в пустые пластиковые бутылки, останавливаясь перед каждой клеткой.
Витя. Эй ты, глаза шпрингом! Подойди ближе. Узнаешь меня? Мы с тобой на польском траулере под Кергеленом были, помнишь? Тебя еще за воровство мелкое ребята за борт пустить хотели, а я не дал. Помнишь? Вижу, что помнишь. Ты почему пайку урезал, не полную бутылку наливаешь?
Шпринг. Воду хозяину экономлю.
Витя. Экономишь? Хозяину? Ты за мной ухаживать приставлен. Мне — положено полтора литра воды на день. Случиться со мной от жары беда — ты пойдешь вместо меня трал ставить? Полбутылки воды экономишь, а лучшего специалиста тралового флота в расход пустить хочешь? А если я Мише черному скажу? Миша главнее, чем твой хозяин. Миша — моряк, хоть и вождь племени. Восемь лет в Советском Союзе учился. Знаешь? Слышал? Мишу не уважаешь?
Шпринг возвращается и доливает воду в бутылку.
Витя. Всем долей.
Шпринг доливает всем.
Витя. За что тебя к клеткам приставили? (Шпринг молчит.) Чего молчишь? Я понять хочу — все из души у тебя выпотрошено или осталось на жареху… Ты моряком был? Был моряком, спрашиваю?!
Шпринг. Был…
Витя. Почему тебя из моряков выгнали и при клетках поставили?
Шпринг. Я палкой могу ударить.
Витя. Что — самого били много? За что?
Шпринг. Завидовал.
Витя. Завидовал? Кому? Кому можно в море завидовать? Мы же все, которые в море, чокнутые? Чокнутые и нищие! У нас одно богатство — вода, да и та соленая, ее даже пить нельзя! Кому ты завидовал, жлоб водяной?!
Шпринг. У кого зажигалка красивая, у кого авторучка… Увижу, покручу в руках, а потом спрячу или за борт выброшу.
Витя. Карманил, значит?
Шпринг. Я только по мелочи.
Витя. Мелкие — самые подлые. Тебе поверил, а ты, оказывается, гад. Моряк ребенка не обидит, как говорится. Но за воровство на флоте испокон веку били. Моряку чужого не надо.
Шпринг. А пираты? Пираты — моряки? Пиратов короли принимали на равных.
Витя. Пираты? Капля ты сопливая! Ты кем себя возомнил?
Шпринг. Да! Дрейк — великий пират, адмиралом стал. Морган — пират — губернатором. А банкиры и трактирщики — сплошь одноногие и одноглазые с попугаем на плече. А то, что они людей грабили и убивали, так это королева Англии прощала им.
Витя. И ты, воруя у меня по стакану воды в день, поставил себя рядом с Дрейком и королевой Англии? Бычок ты азовский, хамса недоразвитая. А знаешь ты, шпротина косоглазая, что Морган свой клад так запрятал, что сам найти не смог, из ума выжил. А Дрейк, пират — адмирал, как умер — знаешь? Вижу, что не знаешь. Послала его королева Панамский перешеек отвоевать. Пришла эскадра к перешейку, изготовилась к атаке. А великий адмирал на горшок присел и… умер. На горшке. Дизентерия. Обгадился. Захлебнулась атака и британские планы в Америке. Королева-баба пирата возвысила, а Бог посмеялся — на горшок его посадил, как ботаник бабочку. Вот и вся слава. Бог не фраер, все он правильно видит.
Шпринг. Врешь ты. Я давно заметил, что ты врать мастер.
Витя. Так это от моря — веселое вранье или треп, по-морскому, помогает улыбнуться и выжить, когда смерть рядом. Понимаешь? Смерть — улыбки моей боится и убегает. Тебя, кислого, преследует, а меня обходит.
Шпринг. Пьяница ты.
Витя. А ты не пьешь?
Шпринг. Нет.
Витя. Напрасно. Малярию в море можжевеловой лечат, джин называется, а дизентерию — коньяком. Не знал? Дрейка, когда с горшка сняли, в бочку с коньяком закупорили, чтобы до Англии тело доставить. Доставили. Дрейка проспиртованного слугам королевы передали, а коньяк из бочки — за помин души и для профилактики желудка…
Шпринг кинулся к борту и надолго обнял фальшборт. Витя протянул руку сквозь жерди клетки и взял ведро с остатками воды. Спросил, поворачиваясь к соседям.
Витя. Капитан, умыться хочешь? Гром, пить будешь?
Капитан. Не откажусь… День впереди жаркий.
Гром. Это по-нашему… Слышь, как барабаны все громче и громче.
Снова появился Шпринг. Давно такого громкого праздника не было. Интересно. Африканские игры всегда смертью заканчиваются. Я люблю смотреть. (Поворачиваясь к Вите.) И улыбка твоя тебя не спасет.
Витя. Так это еще неизвестно, кто у нас на заклание пойдет. Миша черный придет и слово свое скажет. Ты меня береги, Шпринг! Которые со мной — им везет. А то ведь и клетка пустая есть. Для кого она? Заходи!
Шпринг. Я в клетку не попаду. Мои предки сами такие клетки делали.
Витя. Дурак ты, мелкопакостный.
Шпринг. Почему?
Витя. Нечего под предков косить. Они у тебя кто были?
Шпринг. Один, точно знаю, был китобоем, а потом пиратом. Настоящий китобой и настоящий пират.
Витя. Откуда знаешь?
Шпринг. Я сначала не знал. Только удивлялся, когда иностранное слово услышу или название африканской реки, или закат над берегом, как будто я это слышал, видел, знал раньше. А потом стали сниться сны, в которых эти слова и названия, и мой прадед мне все рассказывает. Про Африку, про убитого кита и племя с умирающей дочерью вождя. И корабль на ночном рейде, к которому он поплыл, хотя дочь вождя показывала ему плавник акулы меж близкими волнами. Он доплыл. Акула его не тронула. Но корабль оказался пиратским и жизнь изменилась. Мой предок. Точно.
Витя. Придумал или правда — приснилось?
Шпринг. Правда.
Витя. У меня тоже пираты были в роду.
Шпринг. Правда?
Витя. Конечно. Мы же моряки. Могут у нас быть похожие тайны в прошлом? Могут. Мы, может быть, даже породнились сейчас. Вполне. Мне точно подобные сны снились. Как-то раз, в тропиках, когда пытался заснуть на палубе и смотрел на звезды. А потом вырубился и проснулся от ветра и брызг. И точно, подумал тогда, что это со мной уже было: ветер, брызги, мачта тычется, как школьная указка, прямо в созвездие Южный Крест. И голос… Учительский такой…
Шпринг. Что он сказал?
Витя. Сказал, что, мол, «верной дорогой идете, товарищи!»…
Шпринг. Это же Ленин сказал!
Витя. Может и Ленин, а только под мачтой в небе, и во сне. А Ленин, не мог иметь родственника-пирата?
Шпринг. Ленин — вождь пролетариата. А вожди от моря далеки, как чайки от городской свалки.
Витя. Не скажи. С этой перестройкой в стране и чайки просторы морские на горы мусорные поменяли — до самой Москвы воронье вытеснили.
Шпринг (продолжает). А если тебе Ленин приснился, значит, точно — в Россию вернемся. Я сны хорошо разгадываю. А если про мусор — это к плохому.
Витя. К плохому? Язва ты, Шпринг. Не можешь, чтобы плохое не вспомнить. Но чайки тебя оправдывают, что-то морское в разговоре прослеживается. Пиратская, ты душа. Потому вот и кровь у тебя, как у рыбы, холодная, в смысле. (Напевает.)
Не скрипя, и не ахая, Сам рвану рубаху я, Пусть душа раскрыта, как рояль, Спят друзья на родине, Жизнь как будто пройдена… Снятся мне родимые края.Шпринг. Как ты можешь петь в клетке? Тебя акула ждет!?
Витя (напевает):
Товарищи и родичи, Мы все теперь — народище! Нам родина — и Крым, и Магадан. И нам других не надо мер — Мы рождены в СССР, Улыбками любимым городам.(Где-то далеко гремят барабаны.) Слышишь, Шпринг, это мои барабаны гремят. Чтобы я этой акуле глаз вырвал.
(Шпринг оглядывается с недоумением и испугом.) Эта акула раз в десять лет приходит, и ее все на побережье боятся, а ты?!
Витя (смеется и поднимается в клетке во весь рост). А я кто? Лучший тралмастер Советского Союза! Я, может быть, один такой в мире остался. Я бы сам в барабан сейчас врезал. Чтобы громко, до самого неба! Я стихи писал, Шпринг! Ты хотел, хоть бы раз, сказать громко и в рифму.
Спасибо, друг, тебе я говорю, — Мы как канат сплелись в единоверцы, Мы все с тобой отдали кораблю, И океан — он из морского сердца. Весь океан до облака залит Из наших вен, как продолженье тела… Мы полним море, чтобы корабли Всегда могли свою работу делать. Спасибо, друг, что жизнь полна мечты. Спасибо, друг, что сердце — многокровно. Матрос морей и капитан, почти, — Ты врос в металл, как дом растет под кровлей. Как горсть земли, которой мы верны, — Мы все обнялись в кубрике матросском… Как горсть земли — нам стали корабли, Короткий трап и палубные доски… Спасибо, друг, ты веришь или нет — Ведь мы могли и раньше повстречаться. Ведь нам с тобою миллионы лет, Как океану и морскому братству… А в океане наша кровь бежит… Души и сердца — золотые брызги… Мы вечно будем в океане жить Как две волны, доверчивых и близких.Шпринг(полушепотом, наклоняясь к его клетке). А откуда ты узнал, что у меня язва?.. (Но Витя ответить не успел.)
Миша(стремительно, как всегда, шагает по палубе и улыбается во весь африканский рост и белозубый рот). Витка морской! Сегодня я праздник делать! (Взбрасывает руки вверх, размахивая широкими рукавами, как летающими веерами, быстро загибает пальцы: все, как всегда.) Фельдшерском учился, подводного плавания учился, военном командном «Повзводно! Равнение направо! Грудь четвертого человека! Шаго-о-мммм-арш!»… Спаси-бо друг! Ти веришь ильи нет? Помнишь, когда я тебя заполнил? Заполнил, запомнил, какая разница? Когда ты меня учил. «Переправа, переправа! Берег левый, берег правый!.. Эх, ребята! Что мне орден, я согласен на медаль! Правильно учил, Витка? Правильно я запо-Мни-ил?.. Право руля! Стопа-машина! Четыре смычки на клюзе! До утра стоять с якоря сниматься!». Я Зыкина люблю, пой как я, Витка. «Издалека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет…». Выходи, Витка, из клетка. Я тебя твой лондонский москвич совсем забирать буду. Ты теперь мой. Как моя рука, видишь?! Ты, меня выбирай! Лондонский москвич — вор. Зачем тебе? Миша — хороший. Справедливый. Африканского социализма благодатель. Будешь теперь мой, Витка! Рад?
Витя. Не буду я твоим, благодетель хренов.
Миша. Почему не будешь? Благо хрена? Женишься моем племени. Дети будут. Народ будет. Африка — Россия — все дружно будут. Москва учился, Херсон учился, Севастополь морской форма был. Проводник вагона практИк студентил, веником махал, пиво вокзалил, туалета открывал-закрывал, чаем пел. Пил. Пел. Запевал. «Конфетки-бараночки…». Москва-Воркута, Москва-Алма-Ата, Москва-Владивостока, мало тока. Девушки едут, ребята едут. Все поют. Все пьют. Все друга любят. Миша смотрит. Социализма хочет. Весь Африка — семия! Россия, Кения, Сенегал — семия! Семия социализма. Миша хотел. Девушка хотел. Почему не хочешь?
Витя. Я траловый мастер.
Миша. Этот лондонский москвич — вор. Болшой вор. Деньги — копейка. Твой лондонский москвич Бога твоего из души крадет. Ты не видишь? Не хочешь увидеть? Он — тебя обманывает, банк обманывает, три государство обманывает, Бога обманывает, совесть давно забыл. Это очень вор. Плохой человек. Черный человек. Снаружи — белый, внутри — весь совсем черный. Хуже меня. Такой человек лев обходит, чтобы не запачкаться. Ему ты согласен? Ему — почему ты готов работать? Миша — вождь. Миша знает каждый ребенок. Каждый день я забочусь. Каждый юноша я женю. Я имею восемь жен: черный, белий, две хохлушки и одна белорусия — самая русая. Мой народ со мной, моя семия со мной. Семейный социализм. Миша придумал. Сам придумал, потому что думал. Россия хорошо было: белий лица, красный лица, желтый, черный, косые глаза, плоский лица, русая коса, украина-краса, все кровь мешали, душа вышивали — семейный социализм строили. Миша успел видеть, умел понимать, знаю сам как теперь Африка делать. Америка видел. Англия видел. Россия учил. Япония мудрил. Каире не брился и мечеть молился. Папа говорил. «Всем учись!». Многа народа — топота много. Все хотят тишина. Хорошо?
Капитан. Опять шумишь, Миша? Который раз мы с тобой встречаемся?
Миша. Здравствуй, капитан! Думал, спишь?
Капитан. Ты и мертвого разбудишь, морда черная — душа светлая! И всегда ты гремишь барабанами.
Миша. Зачем ругаешь? Сколько сходился, хорошо расходился. Грех не орех, молитва не смех, так говорил, да? Не плутай слова свой голова. Барабан — музыка неба — ты говорил?
Капитан. Я тогда молодым был, наверное. Барабаны твои — о чем бьют сегодня?
Миша. Большом человеке бьют.
Капитан. На себя намекаешь?
Миша. О себе говорить, себя уронить. Миша — вождь. Вождь думает всех, заботится всех, бережет всех, каждый человек как мой пальчик. Так говорил?
Капитан. Так говоришь, Мишенька, так. От Вити чего хочешь сегодня?
Миша. Хочу — Витя мой был.
Капитан. Твой? Это как — раб, брат, сват, министр? Прямо говори! У тебя народ. У меня экипаж. За тобой — поле. За мной — море. У каждого доля, да не для каждого воля.
Миша. Хорошо сказал. Правильно я тебя выбрал.
Капитан. Куда это ты меня выбрал?
Миша. Витю выбрал, тебя выбрал, его выбрал. Мой народ хочет знать, кто еще на земле умный? Где? Мой народ поезда не видел. Веселый страна не знал. ЭСССР не ехал.
Капитан. Новых богов ищешь? Опять шаманы твои жертвенных петушков на великий холм гонят? Небо ублажать? Я тебя, хитреца, в тот первый раз раскусил и запомнил, ты — в свой барабан бьешь! Свою долю — выкраиваешь. Тот раз, помню, семейный социализм строил, нужным тебе женщинам мужиков не хватало, да? Белыми статуэтками хочешь черный алтарь разбавить? Чем удивить хочешь? Что задумал на этот раз? О любви говоришь? Или о крови?
Миша. Не беги паровоза первым. Миша — первый! День проживешь — Бог ближе станет. Ближе станет — тебя услышит. Тебя услышит — говорить будешь. Богом говорить — до неба встать. (И вождь племени распахнул руки, расплескав цветы халата, как фантазии флагов.)
Гром (тихо, чтобы вождь не услышал). Это что за обезьяна, Витя?
(Но Миша услышал и резко повернулся к клеткам.) Это я обезьяна?! Слушай! Ты — английский, французский, китайский знаешь? Ты Пушкина сказать «Цветок засохший, благуханный, забытый книге…» знаешь? Ты змеей рядом твоей постелью уснешь? Ты львом на тропе разойтись можешь? Это ты — обезьяна. А я — вождь.
Гром. Прости, вождь, не узнал. Первый раз тебя вижу. А слышал много.
Миша. Я тебя тоже. Мне говорили — смелый ты. Вижу сейчас — не надо смелости быть глупым.
Гром. А каким можно выглядеть в клетке?
Миша. Думай, когда говоришь! Так говорить — друзей обидеть. Капитан клетке, а говорит, как капитан. Витя клетке, а я его друг.
Гром. Чего же ты друга в клетке держишь? Какой же ты вождь?!
Миша. Вождь тоже клетке, только никто не видит. Открою тебе клетку — куда пойдешь? В другую клетку? Я — вождь. За мной — мой народ. А ты? За тобой твой народ чувствуешь? «Цветок засохший, благоханный…» помнишь? Матрешка-играшка ты в себе понимаешь? Себя ты — какой матрешка рисовать хочешь? В какой куколка складывать? Девочка рисуй, зайчика рисуй, Ленина рисуй, китайский лица, африканский улибка — все будет матрешка. Одна игрушка, а народ умный. Африканский матрешка — маска. Мне — обидно. Слон — хорошо, три обезьяна — книга, женщина — танца. Африка — народ тоже умный! На меня смотри, улыбайся! «Переправа, переправа, берег левый, берег правый…» — Я — сам учил. А ты? Ты что запомнишь? Какой Африка любить? Не смотри на клетка — смотри на солнце! Солнце — одно. Оно сейчас и в России светит. Бог один на всех. Солнце — один на всех. Можно солнце продать? Можно ветер продать? Почему человека можно? Это я, Миша, тебе говорю. Капитан твой глазами слепой, а это видит. Витка! Капитан! Вам говорю. Молодого привезут — берегите всех. Все — нужны. Вечером приду. Вечером акула к берегу идет! Мой народ костры танец будет. (Поет на известный студенческий мотив.) Мы приехали колхоз! Весь колхоз молчал, только председатель нас приветствием встречал. А приветствие такое, право слово боевое — мать вашу за ногу, туды вас растуды-и!.. Миша — дорога знает, проводник работал, командирский приказ слушай. Запрягайте, хлопцы-и конив… Запев-ай! (И Миша запел сам, удаляясь быстрой походкой халата-флага и человека-паровоза…) Раз! Два! Три, калина… Клина будем выбивать! Матрешка-человека мир делать.
Стало тихо. Барабаны били медленно, издалека, будто перекликаясь.
Гром. Хорошо этот черт черный про матрешку сказал. Я, честно сказать, никогда и не думал, что игрушка — символ народа. Всех понимает, всех к себе принимает, как в душу берет.
Капитан. Зри в корень, как говорил Козьма Прутков. Матрешка — матрица мира. В этом смысле, мы все — снежинки СССР. Сам придумал, или слышал где-то? (трет лоб и задумывается).
Гром. Где эта страна? Чего о ней вспоминать? Она о нас помнит?
Капитан. А ты себя лучше спроси: ты помнишь? Миша — дитя Африки и романтик-проводник поезда «Москва-Магадан»…
Гром. В Магадан поезда не ходят.
Капитан. А он и не спрашивает. Сам — куда хочет— едет. Миша, получается, больше помнит, чем мы. И Зыкину поет, и «три калина… с клином!» сам придумал. А ты?
Гром. А я на заработках. Я о семье думаю.
Капитан. О семье твоей твоя жена думает. Каждое утро. И каждую ночь. И о семье. И о стране. И о тебе — добытчике хреновом. Вот она, жена твоя — может, имеет право о стране судить, в рев и в гриву, как говорится. А тебе — помолчи лучше. Удрали мы из страны, потому что… Удрали. До лучших времен. Как птицы перелетные, до нового времени года.
Витя. Капитан! А ведь Новый год скоро? Какой же это год будет? Сколько мы уже здесь? Надо в Севастополь… Слышишь, музыка. Духовой оркестр на Приморском бульваре. Барабан бьет так отчетливо. «На Малахов курган опустился туман…». Я на Приморский сбегаю, капитан… (Витя пытается встать, роняет голову на плечо и медленно опускается в клетке, погружаясь в собственные колени.)
Капитан. Уснул?
Гром. Уснул… А вы, капитан, встречались с акулой? Приходилось? Не то, что каждый рыбак рассказать может. А так, что она вам одному по ночам снится.
Капитан. Она теперь всегда рядом. Разговариваю я с ней, а она — со мной.
Гром. Вы о чем?
Капитан. Не бойся, я в полном здравии. Сейчас расскажу… Мы под марокканским берегом работали. Там самые рыбьи места. А акул прорва. Привыкли мы к ним и внимания не обращали, когда тралом на палубу вываливали. Крупные попадались. А один раз, под вечер, получили штормовое предупреждение — циклон шел. И решили следующий трал не ставить, а готовиться уходить из района на юг. В этот момент и намотали на винт чей-то выброшенный кусок сети. Машину пришлось стопорить. Сбежались на корме, смотрим в воду, а там пляшет в волнах этот хвост капроновый, который винт судовой петлями обмотал, и траулер наш к приближающемуся шторму готовит. Что тут делать? Надо нырять под корму и резать капроновые петли. Дело не новое. Добровольцы всегда есть — народ на море риск любит, и парни молодые плечами не обижены. А только заминка случилась — под корпусом кружила, всплывая и вспарывая плавником воду, пятиметровая акула. Откуда она взялась? — «Наверно, любопытная очень…», — пошутил кто-то. Посмеялись, не дружно. «Или это африканская мама пришла за своим рационом…», — сказал другой. И шутки на палубе стихли. И добровольцев идти под воду — освобождать винт и спасать пароход как-то не стало.
Гром. А вы тогда уже капитаном были? И кого послали?
Капитан. Кого пошлешь? Не жребий же тянуть. А отвечает за все капитан, в любом случае. Другая проблема — мы только начали наш контракт, две недели всего. Не притерлись. Но нельзя оскорбить подозрением в слабости. Ведь каждый — моряк.
Гром. А еще ведь о мамах надо помнить, которые мальчиков своих дождаться должны.
Капитан. О мамах. О женах. О детях. Как на себя чужой риск взять, чтобы не получилось, что капитан взял риск, а море — матросскую жизнь, а?
Гром. Не просто.
Капитан. Пока думали и подводное снаряжение готовили — темно стало. Африканские сумерки очень короткие. Отложили геройствование до утра. Я всю ночь не спал. Решил просто — я за все отвечаю, потому и рискую. Всю ночь, кажется, с акулой разговаривал. Просил. Уговаривал. Представлял, как мне ее сподручнее будет ножом ткнуть, если она на меня пойдет. Решил твердо — бить надо один раз и наверняка, точно в глаз. Самое у акул болевое место. С тем и пошел под воду, как только рассветать начало. Вот и все.
Гром. Как это все? Вы же главного не рассказали.
Капитан. А главного не случилось. Нырнул, смотрю, а сеть с винта на моих глазах последним шлагом по волне уходит. И я бы за ней ушел, если бы боцман, дай ему Бог здоровья, не привязал меня намертво 50-метровым фалом к пароходу. Такое течение сумасшедшее. И волной меня как шарахнуло об обросший подводный борт ракушечный! Еле вытянули меня на палубу. А я кричу механику, как дурак полупьяный: заводи, дедушка! Запускай!
Гром. А акула?
Капитан. Акула? Я, когда уже двинулись носом на волну, и после душа горячего взял в холодильнике бутылку водки, вышел на крыло… и бросил в океан. Будто ее мы распили с океаном на пару, можно сказать. За жизнь.
Гром. А акула?
Капитан. Акула пришла ко мне лет через десять, во сне. Проснулся я, будто из-под воды вынырнул. А рука в кулак сжата, будто я акулий глаз вырвал… С тех пор и ходит за мной она.
Гром. Испытание акулой? Каждую ночь?
Капитан. Много чести, каждую ночь. Боится она меня.
Гром. А вы?
Капитан. Когда дома проснусь, до утра, бывало, уснуть не могу. А в море — в море мы с ней на равных. Как африканцы говорят — у каждого человека своя акула. А сегодня приснилась.
Гром. Ну, да. Слышали. Или крокодил… или слон… или лев ленивый.
Опять слышится мелодия и далекий голос: «Гори, гори, моя звезда…»
Гром. А вот и нового соседа нам несут.
По палубе несут тело, опутанное сетью. Кладут на палубу и переворачивают, освобождая. Запихнули в клетку. Крикнули Шпрингу, и он суетливо стал поливать новичка водой, черпая из ведра обрезанной пластиковой бутылкой. Потом вылил несколько ведер воды на палубу вокруг клеток и опустил тент, создавая тень. Все разошлись.
Капитан. Кто там?
Витя (очнулся). Где-то я этого мальчика видел. Не могу вспомнить.
Капитан. Очнется, расскажет. День впереди долгий.
Гром. И жаркий. И, может быть, наш последний.
Капитан. Не последний, Бог даст.
Гром. А барабаны, африканская масленица, человек-акула?
Капитан. В Африке любят представления, как театр. Зачем-то мы Мише нужны стали. Почетные гости. Воспоминания о Союзе. Родина жен его. Чужая душа потемки.
Гром. Тем более, черная.
Капитан. Опять глупость сказал ты. Прости, что я прямо. Миша, душой своей, светлее всех нас. И говорит он все правильно — про матрешку, про нашего хозяина-москвича из Лондона, про нашу возню червячную. Червяки. Гордимся, что трудяги-работяги, моремане из тумана. Трепом и морскими байками от жизни закрыться хотим. А собственное за душой где? Какие слова? А надо иногда и задуматься. Детство вспомнить. Тогда, после большой войны, все мы, мальчишки, девчонки в войнушку играли. И все «за наших» были. А теперь кто я? Где я? За кого? Жизнь изменилась, конечно. Я не сразу догадался, зачем Миша тебя к нам подселил, а теперь понял — хочет, чтобы ты рассказал о переменах в России. Сам не говорит, остерегается. Оказаться судьей мне не хочет. Деликатный. Как вождь. Что — есть перемены? Большие? Тяжелые — для души моей, да? Подозреваю. А только, это мне сейчас и не важно. Я теперь солнце каждый день, как счастье, чувствую. Не будильник-рассвет к трудовым подвигам, а тепло на щеке. Словно это не солнце мне греет, а слеза течет. Мне бы встретиться сейчас с моими пацанами-друганами и сказать просто: пацаны! Сыграем опять «за наших»?! Полста лет прошло после школы. Песня тогда была такая. «Летят перелетные птицы, а я остаюся с тобой…» Не слышал? Ты какого года, Гром?.. Молодой, наверное… «Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна…»
Витя(поднимая голову). А на Новый год повесили на елке конфеты и мандарины. Я тогда первый раз мандарины попробовал, вкуснотище какая! А запах — до сих пор слышу. Я потом одной девушке, много лет спустя после этой елки с мандаринами, романс написал и пел.
Когда созреют грозди винограда, Когда дни августа устанут от жары, Расцветится листвой кусочек сада, Как ломтик мандаринной кожуры. Смешаются календари и годы, Как в небе праздничном воздушные шары, Как снег ложится в натюрморт природы На ломтик мандаринной кожуры. Я буду рад, когда мечты присядут, Усталые, от блеска мишуры, Припомнить поцелуй в прохладе сада, Как запах мандаринной кожуры.…Ей очень этот романс нравился.
Гром. А ты, Витек, нравился ей?
Витя. Наверно, нравился. Только не нравилось, что я в море хожу. Надолго. Я, говорит она мне, долго ждать не смогу. Такая девочка.
Поэт. Это совсем ни о чем не говорит. (Все повернули головы.) Когда женщина любит, в ней такие чувства и силы бурлят, что мир меняется в ее пользу. Как шторм на море бушует-бушует, а солнце придет — всех помирит и успокоит: и ветер успокоит, и волну пригреет. Как счастье.
Капитан. Счастье приходит незаметно и скромно, как солнце.
Гром. Ай, да молодой человек! Капитан, а ведь он точно, как вы, говорит! Ты кто, молодой?
Поэт. Я третий помощник с траулера «Альпинист». Меня с палубы смыло волной ночью, а я на рыбацкую плавающую сеть попал. Меня корейцы подобрали утром.
Витя. Везучий! Опять про сеть и опять везучий! Так ты настоящий моряк, молодой?!
Поэт. Нет. До настоящего мне далеко еще. Но я стараюсь. А так я — поэт. Я море люблю и стихи. Меня шаман местный вчера в дом привез ночью и сказал, чтобы я стихи читал до утра, не останавливаясь. Как молитву. Я читал. Там — за ширмой больная лежала. Плакала. Когда я читать начал — притихла. Руку мне гладила. Африканочка. Из-за занавесочки. Руку просунула — горячая, тонкая, пальцы дрожат и за меня цепляются, как за жизнь. Никогда я не думал, что пальцы могут быть такими понятными, как слова, и такими чувствительными. Мне кажется сейчас, когда вспоминаю, что мы пальцами с ней разговаривали. Она мне рассказывала о своих снах. О птицах, розовых и белых. О песке на берегу океана. Там лежал большой черный кит. И много-много людей шли к нему, отрезали кусочки мяса и сосали, будто пили чужую жизнь, как лекарство. Как свежую кровь. Другие, окрепшие, резали ломтики китового мяса и раскладывали на камнях и траве, подставляя солнцу. И солнце мгновенно опаляло лучами, золотило, наполняло теплом и энергией. Моя девочка гладила мои руки. А все мое тело, шея, губы, открытая грудь — все трепетало и рвалось. Я чувствовал себя китом, лежащим на горячем песке. Это меня разрезали и рвали, трогали и целовали, кусали, нашептывали мне слова и молитвы. Потом пришла ночь. Горели костры. Летали искры и звезды. Люди медленно раскачивались на песке, вставали, шли, пританцовывая, нащупывая друг друга, будто выбирая по душе и по силам. Стояли, будто обнюхивая друг друга, или — нашептывая слова. Целуя и подставляя губы. Размахивая руками, будто пытаясь взлететь. Извивая и перегибая тела свои, удлиняясь или сокращаясь, как тени, падали на песок. И песок скрипел под телами и вздохами. Песок утрамбовывался спинами и локтями, пятками и ударами ладоней. Будто там шла борьба. С болезнью и страхом. С пустотой и одиночеством. С любовью. Со смертью. С голодом жадной жизни. А потом захотелось пить. Ужасно хотелось пить. Ручей оказался рядом. Влага текла по губам, омывала шею и капала на грудь. И руки лежали в воде неподвижно, а вода холодила пальцы. Вода наполняла губы. Девочка целовала мне шею. А утром затихла. Шаман сказал, умерла. Шаман сказал, что хорошо умерла, с улыбкой. Что я очень помог ей. Я спросил, разве она мой язык понимала? А он говорит — Бог один. Он всех понимает. А человек один быть не может. Я стихи читал, она слушала. Так мы с ней обручились. Музыкой слов. И теперь она не одинока. Бог ее принял счастливой.
Капитан. Это ты хорошо сказал. Бог ее принял счастливой…
Витя. А ну, почитай нам! Давно я поэтов на море не слушал. О чем пишут?
Поэт (читает).
Качает наш дом на веселой воде, Летят из трубы облака… Куда нас несет, остановит нас где? — Никто не ответит пока. О встрече далекой ты просто забудь… От борта до борта качает звезду. Качает наш дом, а под ним глубина И стаи кочующих рыб… Отсюда родная земля не видна — Родным здесь лишь ветра порыв. Такой же, как в нашем вишневом саду… От борта до борта качает звезду. Друзья мои, все вы сегодня со мной — Кто в сердце, кто в песне, кто рядом… Качает наш дом океанской волной, А мы ему — грешные — рады!— Еще читать?
— Еще читай!
Сегодня, ни с кем не ругаясь, не споря, Лишь горы зарей зацвели, Отдали концы, и в открытое море Мы юность свою повели. И берег, сползая в туманную небыль, Упрятался за горизонт… Прошлепали морем до самого неба, Лишь солнце раскрылось, как зонт. Здесь море себя перед нами не делит — Схватить свой порыв не спеши… Померкло значенье числа и недели. Здесь море, как мера души. Здесь понял, качаясь в летящем просторе, Покой — это лишь фейерверк. Вся жизнь задержалась Над бездною моря, Как камень, подброшенный вверх.— Еще?
— Читай!
Легко нарушая традиции флота, Мы в пятницу вышли в поход… Нелегкая служба — морская работа, А море нас любит и ждет. Волна голубая взорвется над баком — Смелее, товарищ и брат, Нас тот не поймет, кого шторм не оплакал, Кто в пятницу морю не рад. Вернемся домой мы с тобою не скоро, Дорога у нас далека… Качается небо, качается море — Танцует душа моряка. Веслом и канатом мозолены руки, Рождается песня во мне — Мы ходим с тобой по воде и разлуке, А след наш ищи на земле.— Я еще одно вам прочитаю, можно?..
— Валяй!
Всем, кто верил и ждал, Нет нужды объяснять, Что такое печаль и потери, Что такое — устал, Что такое — не спать, Что такое — бояться истерик. Верю в зелень листвы, В цвет вечернего дня, Верю в запах растертой полыни. Жду я самых простых, Дорогих для меня Слов моей долгожданной любимой. Я из тех, кто ушел, Кто в дорогу одет, Кого кормят усталость и ноги, Мне в пути хорошо, Я движеньем согрет, Я из тех, кто идет по дороге… Наш сегодня черед Эту Землю крутить, Чтоб скрипели магнитные оси… Вот — еще поворот, И полгода пути — И мы снова к любимым вернемся! Нам нельзя обмануть Тех, кто верит и ждет, Мы вернемся, смешными, как прежде. Тот — обнимет жену, Друг ко мне подойдет, Кто-то снова поверит в надежду! И к чему вспоминать Наши боли и пот, И к чему говорить про потери — Мы пришли не считать, Мы — живучий народ, Мы пришли, Чтобы кто-то поверил.Витя. Молодец, молодой! Так держать! Тебя как зовут?
Поэт. Коля. Николай.
Гром. Настоящее морское имя. Святой Николай — покровитель моряков и путешественников.
Поэт. А мы отсюда домой — когда вернемся?
Капитан. Скоро, Коленька, скоро. Вот, праздник африканский новогодний отгуляем и домой.
Поэт. А то меня мама ждет.
Витя. Мама — это святое. Знаешь, Коля, какие самые настоящие морские слова. Я тебе сейчас расскажу. Мама — это святое. Дом — куда надо возвращаться.
Гром. Где тепло.
Капитан. Дом — это там, где мы. Потому что с нами тепло.
Витя. За это нас любят женщины.
Гром. И ждут.
Витя. А еще слово Родина.
Поэт. Я знаю. Потому что мы — мужики.
Витя. Капитан! Как он хорошо сказал. Молодец. Молодая кровь флота!
Капитан. Потому что поэт. На море поэт — от Бога.
Шпринг (бежит по палубе). Эй, вы, в клетках! Миша идет!
Витя. Не понял, чего это он так рано? Еще не вечер… Или акула пришла раньше времени?
Миша (подходит и говорит, не улыбаясь). Ну, что, капитан, есть две новости, плохо и хорошо. Так говорят?
Капитан. Говори. Не стесняйся.
Миша. Первая — плохо — у тебя нет ключа — открывать клетка. Нет ключа? Плохо. Вторая — совсем хорошо — никакая клетка никогда не заперта. Как сердце — стучит внутри, живет снаружи. (Дергает и открывает, улыбаясь и говоря просто.) Русский матрешка умный. Открывай-доставай, говорить не надо. Африка матрешка, тоже умный, потому что слова плохого нет. Нет слово замок, плохое слово. Обмануть нет — плохой человек слово. Нет слова убить. Нравится матрешка африканский? Хороший матрешка? Миша дарил тебе. Африка — темный, улыбка — белый. Матрешка — слова хороший. (Улыбается.) Вспоминать меня будешь, как говоришь? Отелло? Ромео? Вождь африканский? Босой и щедрый, улыбка для восемь счастливых жен! Да? Москва-Владивостока, мало тока, да?
Капитан. Веселый!? А твоя клетка, Миша? Нашел из нее выход?
Миша. Клетка есть. Обезьяна видит — человек клетке, человек видит — обезьяна клетке. По секрету скажу — у меня внутри тоже клетка есть — скелет, называется. А он мне — стоять помогает, сердце хранит. Хороший клетка моя? У меня дома русский матрешка. Талисман. Она мне поможет, как думаешь? Матрешка боится черный цвет? Нет?
Капитан. Много говоришь. Пора. Помоги мне подняться и выйти, вождь… Морская жизнь, скажу откровенно, спектакль на палубе. Виртуальность видна каждый день. Оттого глаза и слабеют. Капитанская болезнь, скажу. (Выходит на палубу. Другие выходят тоже.)
Витя. Миша-джан, ты обманываешь. Говоришь, что нет слова убить, а рыбу и птицу ешь, как?
Миша. Я говорю: рыба, живи во мне! Я говорю: птица, пой во мне! Видишь, петь хочется.
Витя. Ну, хитрец, дай я тебя обниму. Все-таки, смотрю на тебя, слушаю — зачем дурачком притворяешься? Матрешка африканская, маска? Черная маска? Слово-шутка-прибаутка, маска?
Миша. Маска-дурашка, Миша под маска, а Ванька-дурак — тоже умный? Блаженная!
Витя. Блаженный?! Да ты точно от русского моряка происходишь, а? Семейный ты наш. Не спрашиваю, куда мне идти дальше по этой палубе, но ты мне ответь, белая улыбка, как ты меня выкупил? Дорого платил?
Миша. На все вокруг есть цена, даже на нашу жизнь. Как Одесса говорил: если ты должен деньги, заплати деньги. Иначе придется платить совесть.
Витя. А слово совесть есть у африканцев?
Миша. У африканцев есть слово душа, как у русских.
Витя. Ты настоящий друг, Мишка. Умеешь ты сказать главное.
Гром. А как же барабаны? А что — акула?
Миша. Все настоящее. Африка, море. Не виртуально. Мои барабаны. Музыка неба. Акула? Акула тоже моя. Плачет. Девочка моя больная ушла. Барабаны, все говорят. Барабан слышать, все понимать. Далеко ушла. Океан. С хорошими словами ушла. С любовью. Твой молодой стихи читал. Знает. Родной мне теперь. Как сын.
Капитан. Умерла? Может, барабаны ошиблись? Не умерла?
Миша. В сердце осталась. Молодая радость. Грустно.
Капитан. Что-то еще, вождь?
Миша. Моя клетка захлопнулась — бабушка умер — я теперь вождь трех племен. Трех племен вождь, трех племен детей надо. Гуманитарной каша кормили, тараканов не стало, птичек мало, детей не рожать. Детей не рожать — племя не будет. Надо спешить. Буйвола охотится — мясо есть. Самому охотиться, самому есть, самому женится. Сейчас. Белоруска-жена плачет. Две хохлушка-жена плачет…
Гром. А курочка-ряба кудахчет…
Миша. Что говоришь, смелый, три раза беглый?
Витя. Это из русской сказки про золотое яичко.
Миша. Пасха?
Витя. Пусть будет Пасха, пусть Новый год, на счастье.
Миша. Пусть!
Витя. А можно, я Шпринга возьму. Пропадет он у тебя.
Миша. Он не счастье, Витка… Мой посошок тебе — Шпринга не бери. Беда приносит.
Витя. Я, Мишаня, не поверю в счастье, когда мелкого гада не будет рядом. По-морскому говорят: один шаг на палубу — счастье, полшага за борт — смерть. Все должно быть со мной, рядом! (Обнимая Шпринга.) Он мне опасность напоминать будет. Морское счастье — всегда соленое, всегда неустойчивое, на волне потому что. Пусть этот Шпринг рядом будет. Мы с ним, может быть, в прошлых жизнях на морях пересекались. Я, понятное дело, рыбу ловил. Он — меня! Правда, Шпринг? Или ты тогда уже рыбой был? Не обижайся, не всех одноглазых за борт бросали.
Миша. Пусть, если хочешь. Но домой, как пешком идти? Далеко.
Гром. А что же ты, друг-вождь — обувку на дорогу не дашь? Босиком по вашему песку — ноги в кровь?!
Миша. Такой тебе твой акула. И твой матрешка. А я буду видеть, кто ты? Пой, Витка, про морское счастье! Посошок по мне. Я — счастье на всех делИть. Или делАть? Нельзя счастье один, так, Капитан? Так! ДелАть, как я!.. (Первым шагает по трапу, остальные — будто выходят один из другого.) Матрешка! Морская! Левое плечо вперед! Живота грудь четвертый человек, я! Стой! (Миша напрягся, как от резкой боли в животе, и повернул голову в сторону берега.)
Витя. Что случилось, купец моей радости?
Миша. На берег случилось. Барабан сбился. Небо светлеет. День идет. Луна перышком летит. Луна несет новость большой, как большой живот беременной женщины… Барабаны торопят новость. Это хорошая новость! Слышишь, большой барабан говорит! Большой барабан любовь хочет! Так зовут на большую свадьбу!
Капитан. Так, может, это о твоей новой свадьбе барабаны гремят?
Миша. Нет. Мишина свадьба — племен дружба, ритуал вождя. А тут — смерть или жизнь.
Гром. Ну и Африка! Во, дает! Просто азбука Морзе на барабанах. Любовь или свадьба? Ключ или клетка? Театр или смерть?! Что смотреть будем?
Витя. Точно. Шекспир! Миша, объясни? Может к нам снова вернулась акула и надо нырять? За цветами? За платьем невесты? Ты опять затеваешь нам свадьбу типа Африка-Россия? Семейный социализм на половину земного шара? Смешение народов и буйство ласк? Хочешь моим загорелым торсом женщин своих успокоить, а? Я могу! Но ты покорми меня, тогда под жареное мясо и улыбаться приятнее. Не темни, Миша?!
Но уже слышно нарастающее движение быстрых весел и шум воды, вспененной флотилией невидимых черных пирог, летящих от берега к судну, как тысячи пущенных к цели стрел. Воздух звенел, казалось, от скорости звука, готового разорвать полог рассветного неба… Так нарастает вой реактивного самолета на взлете. На палубу упал человек и заплакал словами прощающегося с жизнью. Он лежал и выл, ожидая приказа о смерти. Стало так тихо, что комариный писк испугался себя и смолк. Миша подошел к лежавшему и что-то спросил. Лежачий ответил, не отрывая головы от палубных досок.
Миша повернулся к капитану и спросил голосом мирового судьи.
Миша. Поэт здесь?
Поэт (вышел вперед). Я здесь.
Миша. Ты касался руки моей дочери?
Поэт. Да.
Миша. По законам моего народа ты должен умереть. Завтра.
Поэт. Понимаю. Согласен.
Миша. И жениться на ней. До полуночи. Сегодня… (Но голос сорвался в крик и причитания.) Как ты смел это сделать?! Мальчишка! Щенок бледнолицый. Сынок… Все кончим сегодня!
Поэт. Я согласен — сегодня…
Миша. Капитан! Что требуется от жениха на свадьбе по вашим законам. Я хочу соблюсти правила.
Капитан. Благословение родителей. Костюм с галстуком. Присутствие родителей, родственников, друзей.
Миша. Где твои родители?
Поэт. Отец погиб в море. Мама дома. В Новороссийске.
Миша. Считай, я твой отец и твое благословение. Маму спросим, когда приедем в Россию. Думаю, что она согласится. Как думаешь, капитан?
Капитан. Согласится. Только поздно, будет.
Миша. Почему поздно?
Капитан. Если завтра казнь.
Миша. Кто сказал, казнь?
Капитан. Ты. Сегодня — свадьба, а завтра — казнь.
Миша. Делай дважды — будет лучше. Как я могу разрешить ему умереть, когда он будет муж моей любимой дочери? Которая не умерла, а полюбила. Слава богам на небе и рыбам в море! Слава Луне и Солнцу! Слава звездам и голосу неба! Слава моим барабанам и моему народу! Я хотел ехать поезд и делать семейный социализм, еду и пою! Бог моего народа и всей Африки слышит мою песню. Поднимись, плачущий раб, целуй ветер жизни, ласкающий губы и играющий нашими одеждами. Дети мои, будьте счастливы и благодарите мир, дарованный вам всевышним! Мы все — дети мира. И все вы мне — семия! Говори, поэт и мой сын теперь, чего хочешь? Нам домой спешить надо.
Поэт. Нам тоже, папа?
Миша. Сынок! Заработала! Моя идея семейного социализма! Дай, тебя обниму, мальчик мой. Ты, наверно, не совсем русский… Коля? А по отчеству? По отчеству как?
Капитан. Не обижай его, Миша. Он наш. Морсковатый, как моя тетя из Одессы. Дай нам побыть вместе. Помолчать, рядышком. Тебе — тебе тоже надо подумать.
Миша. Ты видишь плохо?
Капитан. Я вижу плохо, но предвижу хорошо. Как твой шаман. Мама-морячка — это таки большая тетя. Ты это учти, Миша. Понимаешь меня?
Миша. Я теперь все буду делать, как скажет тетя? Тетя-мама-ревизор?..
НЕМАЯ СЦЕНА.
Через полчаса на опустевшей палубе, рядом с открытыми клетками.
Витя. Наверное, это наша последняя ночь в обществе клеток. Моя мне родной стала, ей богу. Доберемся домой — я скучать по ней буду.
Капитан. Конечно, с женой так не похрапишь, разбудит и на диван отправит.
Витя. На диван? Ой-ей, не хочу.
Гром. Хочу под Канаду, под Скандинавию, на Мурмáнск. Там дожди и прохлада.
Капитан. Надоела мне Африка! Хорошо, что мы вместе…
Витя. Вместе и на месте, капитан!
Поэт. Как птицы сбиваются в стаю, как рыбы переполняют океан… На Родину!
Витя. Поэт! Хорошо, что поэт. А я хочу — окунуть лицо в дождь… (поет тихо и грустно.)
Здесь ни ночи, ни дня… Здесь ни звезд, ни луны и ни солнца — Лишь туманы и дождь… Лишь туманы, туманы и дождь. Лишь прозрачная чайка Над мачтою лапой потрется И, подняв свои крылья, как призрак в туман упадет… Туманы, туманы — роса океана. В тумане Канада и север Европы. Три месяца в море — печалиться рано, Но слепо туманы домой нас торопят. Здесь ни ночи, ни дня… Здесь неделя проходит как годы. Наша прошлая жизнь утекла, как сквозь пальцы вода… Здесь в тумане гудят маяки И гудят пароходы. И полжизни бесследно туман проглотил навсегда. Туманы, туманы — роса океана… Глаза проглядишь и умоешься потом Здесь мало сомнений и мало желаний, Здесь мало желаний и много работы. Здесь все проще, не надо Ни слов, ни чужого участья… Лед плывет за бортом, Воздух мокрый шатается вдрызг… Чашки чая горячего Хватит вполне мне для счастья — Для бессонницы хватит в лицо разорвавшихся брызг! Туманы, туманы — роса океана. Глядят штурмана напряженно и гордо! Бесцветный капкан вместо неба над нами Туман затянулся, как узел на горле… Здесь ни ночи, ни дня. Почему ты давно мне не снишься? Видишь, чайка взлетела, себя разорвав пополам… Наши дети на фото в каюте со мною смеются — Я смотрю, как в тумане, смотрю, будто падаю к вам… Туманы, туманы — роса океана… В слепой тесноте напряженнее чувства — И наша любовь оживает в тумане, Среди ожиданий, сомнений… и грусти…Витя. Если дойду домой, положу перед ней ромашки. Пусть она улыбнется…
Капитан. Или — заплачет…
Витя. Она улыбнется мне, капитан! Улыбнется! Она так улыбнется…
Гром. Посошок скажу, чтобы всем думать. Меня Миша предупредил, чтобы я молчал об этом. Только я и не понял тогда, почему вам нельзя говорить. А теперь уже надо.
Капитан. Говори.
Гром. Когда меня в машине везли, по радио передали, что Крым и Севастополь Россия теперь.
Витя. Севастополь? Конечно, Россия! Всегда было.
Гром. Давно не было.
Витя (задумавшись). Так можно в магазин идти?
Гром. Бежать, Витя! Бежать!
Капитан. В Севастополь?.. Так вот какой Миша… Оберегал меня. Дождь мой… (Слезы текут по щекам.) Переправа, переправа… Спасибо…
Витя(голосом и интонацией Миши, разбрасывая руками блеск воображаемого халата). Спасибо — не надо. Я — народ, и ты — народ. А вождь — всегда будет.
Гром. Паспорта надо…
Витя(продолжая игру голосом). Сердце твое — главный паспорт. Его не теряй. Так говорю?..
Шпринг. Придется еще пожить. Смешно. Кем буду теперь? Неужели Дрейк — пират адмирал — на горшке умер? Не верю… А может, пиратам тоже плохо бывает?
Капитан. В Севастополь. Домой. Мы там — нужны… Там наше солнце.
Витя (голосом Миши и все больше вживаясь в африканскую роль). Как вождь говорю вам. Все нужны другу! Солнце и кит, песок-океан, поезд-весна, дочь-мальчик… Смерть тоже надо, когда устал очень. Все надо любить, потому что хотела так мне моя мама. А мама — это и Богу на небе тепло…
Поэт(поет тихо). Мы вернулись домой в Севастополь родной…
Гром. Запел, жених? Собирай силы! Африканские женщины слабых не любят…
Витя(подхватывая тему). Суп из акульих плавников с африканской травкой — это у них коронка!
Гром. И два килограмма за ночь из тебя вынут, как пить дать!
Витя(поет на мотив «молодой моряк, грудь его в медалях…»). Молодой поэт… (Оба хохочут.)
Поэт(Вите и Грому, серьезно). Дураки вы, и мало еще понимаете. Женщины любят ласковых.
Общий возглас. Ага, умеющих разговаривать пальцами?!.
Капитан(слушая их и улыбаясь чему-то своему.) Поэт! Хорошо, когда есть поэт…
Все улыбаются. Музыка барабанов сменяется музыкой вальса и духового оркестра на Приморском бульваре. «…Мы вернулись домой в Севастополь родной…»
К О Н Е Ц
Примечания
1
Деревянная затычка для заделки пробоин (выговор, взыскание); чопик — хитрец, подхалим (о человеке)
(обратно)2
Спасибо
(обратно)3
Пьем! За нас — с океана! За наше лучшее состояние — вместе! За Катюшу!
(обратно)



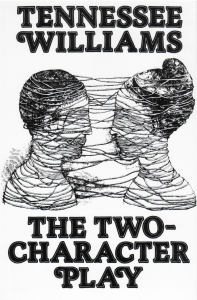
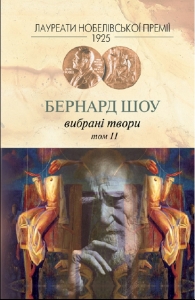



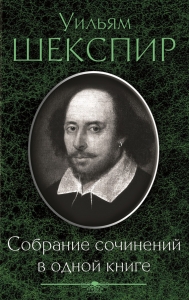

Комментарии к книге «Дом на волне…», Николай Бойков
Всего 0 комментариев