Фридрих Шиллер Коварство и любовь
Фридрих Шиллер. Великий драматург и великий поэт
13 января 1782 года в городе Мангейме силами лучших актеров местной театральной группы была поставлена пьеса еще почти никому неизвестного молодого поэта. По словам очевидца, спектакль имел небывалый успех: «зрительный зал был похож на сумасшедший дом, люди закатывали глаза, сжимали кулаки, слышны были хриплые крики. Незнакомые, рыдая, бросались друг другу в объятия, женщины, шатаясь в полубессознательном состоянии, выходили из зала. Царил общий беспорядок, как в хаосе, из тумана которого возникает новое творение».
Что это была за пьеса, которая вызвала столь бурные страсти, такие сильные чувства? Почему она так взволновала зрителей? Кто был ее автор? Каким он был человеком?
Пьесу написал полковой врач герцога Вюртембергского Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер, и название ее было «Разбойники».
В день премьеры автору было чуть больше двадцати двух лет.
Он родился и жил в Германии, в одном из ее многочисленных герцогств. Шиллер был гражданином раздробленной на малые и совсем крохотные государства страны, которая как целостность не существовала. Эта территория Европы была отсталой и в политическом, и в экономическом отношениях. На ней господствовали десятки и сотни больших и малых тиранов, не признававших над собой никакой власти, никаких законов. Только их злая или добрая воля определяла судьбу подданных.
Но, как ни странно, именно в этой захудалой и несвободной Германии во второй половине XVIII века творили вопреки всему ее великие поэты и философы Лессинг, Гете, Шиллер, Гельдерлин, Кант, Фихте, Гегель.
Среди немецких чиновников герцог Вюртемберга Карл-Евгений отличался особой жестокостью и распущенностью. Он пытался роскошью своего двора соперничать с французским Версалем и для этого всеми средствами выбивал деньги из своих небольших владений, прибегая к откровенному, бесстыдному грабежу. Кроме того, чтобы кормить и развлекать две тысячи дворовых дерзких бездельников (именно такое их количество паразитировало на шее вюртембергских граждан), герцог делал огромные долги. «Они больше, чем стоимость всего герцогства», – взволнованно писали в петиции к своему обладателю измученные непосильным вымогательством подданные.
Юноши герцогства воспитывались в специальной военной школе (позднее она получила название «Академия»), превращаясь в покорных исполнителей чужих приказов. Свою армию Карл-Евгений посылал не только против собственного народа, чтобы подавить любой протест, исключить саму возможность бунта, но и продавал целыми полками другим.
Одним из самых отвратительных преступлений этого деспота была расправа над талантливым свободолюбивым писателем Кристианом Фридрихом Даниелем Шубартом. Одаренный поэт-лирик и музыкант, он выступал со статьями в «Немецкой хронике», разоблачая произвол немецких князей, в частности их торговлю солдатами. Карл-Евгений коварно завлек Шубарта в Вюртемберг, бросил его в 1776 году в подземную тюрьму, где музыкант провел десять ужасных лет.
Грубость герцога определила будущее и мальчика Фридриха Шиллера, омрачила его ранние годы и юность.
Тот, кому суждено было стать одним из самых прославленных писателей Германии, родился 10 ноября 1759 года в городе Марбах. Его отец, Каспар Шиллер, происходил из крестьянской семьи, мать, Доротея Кодвейс, была дочерью пекаря. Отец почти всю свою жизнь служил в армии и отличался строгостью нрава. Он был цирюльником и хирургом (что в те времена было одной специальностью), принимал участие в военных походах, вербовал солдат для герцога, а затем «сделал карьеру» – стал управляющим замковых парков. Привыкнув к жестокой палочной дисциплине, неукоснительному выполнению приказов начальников, он установил жесткую дисциплину и в собственной семье, не гнушаясь побоев. Но одновременно отец Фридриха был человеком довольно образованным. Он сумел привить сыну интерес к литературе, охотно читал вслух в свободное от службы время жене и детям. Кроме того, он умел увлекательно рассказывать о своих многочисленных приключениях, которые пережил в походах. А от своей матери – женщины тихой, болезненной, ласковой и кроткой – Фридрих унаследовал душевную тонкость и мечтательность, особую любовь к интересным необычным историям.
Семье Шиллера жилось плохо. Иногда приходилось и голодать: герцог нерегулярно платил своим солдатам. Отец часто отсутствовал, и все трудности ложились на плечи матери.
Когда Фридриху исполнилось тринадцать лет, по приказу герцога его забрали из семьи и отдали на обучение в так называемый «военный рассадник», который находился в замке Солитюд. Здесь дети были изолированы не только от семьи, но и от всего мира на целых восемь лет. Ежедневная суровая муштра, физические наказания за малейшую провинность, слежка днем и ночью за каждым шагом воспитанника – вот жизнь, в которую погрузился юный Шиллер. Но даже в таких условиях он находил возможность много читать. В это время он знакомится с лучшими произведениями отечественной литературы – «Мессиадой» Клопштока, «Гецем фон Берлихингеном» Гете, «Эмилией Галотти» Лессинга. Эти и другие произведения приобщали его к прекрасному миру искусства, воспитывали в нем свободолюбие, любовь к родному краю, ненависть к насилию, несправедливости, угнетению. Драматургические произведения выдающегося немецкого писателя-просветителя Лессинга, а еще больше трагедии Шекспира оказали на юношу сильное впечатление. Именно они привлекли его внимание к литературе для театра. Он поверил в большие возможности сцены, которая могла бы стать трибуной для выражения его мыслей и чувств. Лекции талантливых и гуманных учителей, профессоров Абеля и Шваба, которые преподавали историю, эстетику, логику, философию и другие науки, дали Фридриху очень много. Он подолгу беседовал с ними, брал у них интересные для себя книги.
Когда в герцогской школе был открыт медицинский факультет, Шиллер, который к тому же изучал юриспруденцию, переходит на него и увлекается естественными науками. Он интересуется психологией, связью между биологической и духовной природой человека, пишет на подобные темы свои первые работы. Его глубоко волнуют философские учения, в первую очередь идеи французских просветителей, в частности Руссо, предтеч идей Французской революции. Загнанный в школу-казарму, юноша вопреки всему верит в общественный прогресс, в великую силу разума и просвещения. Он разделяет убеждение Ж.-Ж. Руссо о неотъемлемых правах народа на независимость и свободу, которые украли у простых людей тираны.
В Вюртемберге будущий военный врач познает глубины социальных и межчеловеческих отношений. Собственная судьба вызывает у него гнев, мятежные мысли, помогает лучше понять положение тех, кто, как и он, должны молча подчиняться чужим приказам, терпеть и склоняться перед волей деспота. Идеи народовластия, республиканского правления находят в душе воспитанника герцогской «Академии» живой отклик. Этот худой высокий юноша с большим орлиным носом и меланхоличными глазами, неуклюжий в военном строе, вечно задумчивый и мечтательный, отличался глубоким и многогранным умом ученого-мыслителя и чувствительностью настоящего поэта. Все в его характере протестовало против навязанной ему судьбы, убогого рабского существования. Разрывая духовные узы, все в нем стремилось к творческому и человеческому самоосуществлению. Поэзия рвалась из души.
Первое литературное произведение Шиллера было напечатано в 1776 году. Это лирическое стихотворение называлось «Вечер».
Через год было написано новое стихотворение – «Завоеватель». В нем юный автор шлет проклятия тому, кто с оружием в руках уничтожает человеческие жизни, унижает человеческое достоинство. Горячие строки печатаются анонимно, ведь воспитанники военной академии не имели права писать и издавать свои произведения.
Уже первые стихи Шиллера свидетельствовали о его несомненном поэтическом таланте, об умении с лирической тонкостью чувствовать природу во всем ее богатстве и разнообразии. В ранних стихах звучат прекрасные пылкие чувства юноши-идеалиста, мечтающего о свободе и счастье человечества. В одном из этих произведений Шиллера – оде «Памятник разбойнику Моору» – впервые возникает тема, которая стала основой его пьесы «Разбойники».
Все, о чем мы до сих пор говорили, уже давно дало ответ на вопрос, каким был автор драмы, так взволновавшей мангеймских зрителей 13 января 1782 года. Мы можем также в известной степени представить себе, в каких условиях и при каких обстоятельствах родился замысел этой юношеской пьесы Шиллера, почему на обложке второго издания «Разбойников» (первое вышло без имен автора и издателя) стоял девиз «In tyrannos» («На тиранов»), а рисунок, помещенный над ним, изображал готовящегося к прыжку льва. Против тиранов направлял свою пьесу «молодой лев» Шиллер! И это поняли, почувствовали сердцем первые зрители «Разбойников». Граждане Германии 80-х годов XVIII века услышали со сцены смелое слово, призыв к борьбе против жалкого прозябания и рабства. Порыв близкой бури, первые зарницы могучей революционной грозы гремели и вспыхивали перед потрясенными зрителями. Правда, буржуазная революция не состоялась в Германии ни тогда, ни значительно позднее, но до Французской революции, которая вошла в историю под названием Великая, оставалось лишь восемь лет. Поэтому не случайным, а закономерным и справедливым было то, что французские революционеры-разрушители парижской Бастилии (1789) – этой цитадели абсолютизма, воплощения монархической тирании и произвола – увидели в лице Фридриха Шиллера своего единомышленника и союзника и сделали его почетным гражданином молодой Французской республики.
Восторг, с которым немецкие зрители и читатели встретили «Разбойников», несмотря на то, что, по словам Томаса Манна, в первом сценическом варианте пьесу «ограбили, обескровили, выхолостили, исказили, извратили», был вызван прежде всего республиканизмом автора. Прогрессивная молодежь, разночинная интеллигенция и до того вдохновлялись идеями республиканского устройства, мечтали о свободе в широком смысле слова. Но никто до Шиллера не высказал эту мечту так пламенно и смело: «Это мне-то сдавить свое тело шнуровкой, а волю зашнуровать законами? Закон заставляет ползти улиткой и того, кто мог бы взлететь орлом! Закон не создал ни одного великого человека, лишь свобода порождает гигантов и высокие порывы. Проникши в брюхо тирана, они потворствуют капризам его желудка и задыхаются от его ветров! О, если бы дух Германа восстал из пепла! Поставьте меня во главе войска таких молодцов, как я, и Германия станет республикой, перед которой и Рим и Спарта покажутся женскими монастырями» (I, 2).
Продолжая свою мысль, Т. Манн говорил: «Органически присущая ей (пьесе «Разбойники». – К. Ш.) неистребимая внутренняя диалектика устояла вопреки боязливым предупреждающим мерам и сохраняет свою силу и по сей день».
Сама история, положенная в основу драмы, была подсказана Шиллеру рассказом «К истории человеческого сердца» несчастного узника герцогской крепости уже упомянутого здесь Х. Ф. Д. Шубарта. С другой стороны, как на это не раз указывали исследователи, многое шло в этой пьесе от фольклора. В народном творчестве разных стран мы встречаем образ героического мстителя за страдания простых людей, разбойника, который «у богатых берет, бедным отдает». Это и благородные защитники бедного люда в песнях, легендах, балладах, сказках украинского народа, такие, как атаман повстанцев Олекса Довбуш, или у русских – Степан Разин, и английский Робин Гуд, и словацкий Яношик, и венгерские бетьяры, и немецкий Зонненвиртле, и многие другие реальные разбойники, мифологизированные народным сознанием.
Шиллер весьма существенно переосмыслил фольклорный эталон образа. Его герой – благородный разбойник Карл Моор – также честный и бескорыстный молодой человек с горячим сердцем и гуманными помыслами. Он еще и широко образован, и своей интеллигентностью превосходит не только своих сообщников, но и всех персонажей пьесы. По типу он больше похож на пушкинского Дубровского, или, точнее, этот герой Пушкина возник у российского автора под очевидным влиянием его немецкого предшественника Карла Моора – пылкого, энергичного, который легко вспыхивает справедливым гневом, полон стремления быть полезным для всех униженных и гонимых. Но он не знает другого способа перестроить общество на принципах добра и человечности, иначе как во главе банды разбойников оказывать строгий суд над поработителями народа: «Я не вор… Мое ремесло возмездие, мой промысел – месть» (II, 3).
Карл Моор не терпит никакого ограничения своей духовной и физической свободы, никакого унижения своего человеческого достоинства, порожденных рабским обществом, где ему выпало жить. Он не склоняется перед жестоким и бессмысленным принуждением, перед несправедливостью. По словам знатока немецкой литературы Ф. Энгельса, Шиллер «воспел благородство молодого человека, который объявил войну всему обществу». И в этой мужественной и опасной борьбе у Карла нет настоящих соратников. Он предводитель разбойников. Лишь немногие из них, как Косинский, – благородные мстители. Другие не понимают замыслов своего атамана. А третьи, как Шпигельберг, – циничные и корыстные преступники, которых привело в банду желание грабить и издеваться над теми, кто попадет им в руки.
Со все большей душевной болью видит Карл тщетность своих усилий восстановить попранные правду и справедливость. Он может наказать того или иного феодала за его жестокость, убить министра-вора и бросить его труп к ногам хозяина, задушить попа-священника или ограбить неутолимого советника-взяточника, совершить еще целый ряд подобных актов единичной мести, но освободить весь народ от угнетения, уничтожить абсолютно всех больших и малых эксплуататоров, разрушить общественное зло подобными действиями он не в состоянии. Тема мести в пьесе очень важна в моральном отношении для глубоко верующего христианина Шиллера. Нерешительность Карла Моора, его колебания, постоянные сомнения, из-за которых его иногда называют «немецким Гамлетом», связаны именно с размышлениями о том, может ли быть жестокая и кровавая месть справедливой с точки зрения христианской этики. Драматург отвечает на этот щекотливый вопрос отрицательно. И не только капитуляцией Моора-главаря разбойников, но и самоубийством члена банды Швейцера. Только Бог может быть судьей, выносить приговор и наказывать, как говорит Библия: «Мне принадлежит отмщение, и я воздам». Обращаясь к Богу, Карл восклицает в отчаянии: «Я стою над ужасной пропастью и узнаю со стоном и скрежетом зубов, что двое людей, как я, могли бы вдребезги разрушить все строение нравственного мира. Сжалься, сжалься над мальчишкой, осмелившимся вмешаться в твои намерения… Тебе принадлежит только отмщение! Ты не нуждаешься в руке человеческой» (V, 2). Шиллер, раздумывая о типе своего героя, писал, что неверные представления о деятельности, о влиянии отдельной личности, избыток сил, бьющих вопреки всему, не могли не привести его к гибели. И далее он называет Карла Моора «странным Дон Кихотом».
Большинство исследователей творчества Шиллера считали, что причины бесперспективности бунта героя «Разбойников» заключались в отсутствии у молодой бюргерской интеллигенции, этого наиболее критически настроенного слоя немцев, четко осмысленных методов борьбы за изменение существующих порядков. Молодые бунтовщики и мечтатели их не имели и не могли их иметь в условиях тогдашней раздробленной Германии. (Кстати, и в совершенно отличных политических условиях французские революционеры действовали довольно спонтанно, без четкого плана и ясной перспективы, что доказал кровавый якобинский террор, который послал на гильотину самих его организаторов. Далее пришел Наполеон. Он уничтожил республику, провозгласил себя императором и бросил Францию в водоворот завоевательных военных походов почти против всей Европы.) Теперь мы можем утверждать, что революционные методы борьбы зачастую приводили к совершенно иным результатам, чем те, которые представляли себе молодые отчаянные революционеры. Можно только удивляться политической интуиции совсем молодого драматурга, который именно так написал финальную сцену «Разбойников» (более чем за десять лет до поражения Французской революции!). Отчаявшийся в своей деятельности Карл Моор добровольно отдает себя в руки властей. Он осознает ошибочность актов насилия, которые не могут изменить мораль чиновников, изменить характер государственного устройства. Несмотря, однако, на то, что Шиллер со своей драмой «Разбойники» остается любимцем мятежников различных поколений и стран, они не сделали выводов из поучений немецкого писателя. Вспомним российских нечаевцев, народовольцев, эсеров XIX – начала XX века, или террористов из РАФ («Фракции Красной Армии»), или «Красных бригад» 60–70 годов, совершивших столько убийств в Западной Германии или Италии. Но не будем модернизировать Шиллера. Конечно, его мысли не достигали такого далекого будущего. Просто будем помнить об историческом опыте и подзабытых предупреждениях мыслителей.
В пьесе отсутствуют сцены расправы разбойников с помещиками, придворными, которые наживаются на народном горе, с жадными и хитрыми клерикалами – обо всем этом Карл Моор только рассказывает. И этими монологами героя, полными праведного гнева, автор добивается нужного эффекта, вызывает эмоциональный отклик у зрителей, пробуждает в них социально-критическое мнение. Сцена становится настоящей трибуной. (В наше время монологи Карла кажутся слишком обширными и пафосными, но их страсть, гнев, сила не утихают.) Критическое напряжение произведения усиливалось и тем, что в нем противопоставлены образы двух братьев – Карла и Франца. В романтическую эпоху Шиллер использовал такой важный для поздних романтиков прием контраста, крайне обостренного, подобно противопоставлению белого и черного. По происхождению оба брата дворяне. И если Карл отрекается от своей среды и хочет помочь простым людям, то его брат является воплощением самых отвратительных черт помещика-тирана. Он хитрый, корыстолюбивый эгоист с мерзкими повадками лицемера и интригана. Ради оправдания своих бесчестных планов, осуществления низменных желаний, ради напыщенного самоутверждения, торжества собственного «Я» он способен оклеветать родного брата, убить отца, коварством и насилием принудить к любви невесту брата. Гнусные черты Франца-человека характеризуют его и как представителя определенного социального слоя, худший тип феодала. Сбросив маску добропорядочности, этот отцеубийца провозглашает программу своей будущей деятельности в качестве владельца унаследованных семейных имений. Его монолог дышит презрением и ненавистью к простонародью: «Мой отец не в меру подслащал свою власть. Подданных он превратил в домочадцев; ласково улыбаясь, он сидел у ворот и приветствовал их, как братьев и детей. Мои брови нависнут над вами, подобно грозовым тучам; имя господина, как зловещая комета, вознесется над этими холмами; мое чело станет вашим барометром. Он гладил и ласкал строптивую выю. Гладить и ласкать – не в моих обычаях. Я вонжу в ваше тело зубчатые шпоры и заставлю отведать кнута. Скоро в моих владениях картофель и жидкое пиво станут праздничным угощением. И горе тому, кто попадется мне на глаза с пухлыми, румяными щеками! Бледность нищеты и рабского страха – вот цвет моей ливреи. Я одену вас в эту ливрею!» (II, 2).
Зрители – современники Шиллера (и более поздние) – видели в образе Франца не только брата-злодея, но и феодала-изверга, который своими поступками вызывал острую эмоциональную реакцию, чувство ненависти, рождающейся в их сердцах, как и монологи Карла – мятежные настроения.
Юношеская пьеса Шиллера имела, конечно, не только положительные качества, но и некоторые существенные недостатки. Развитие действия и характеров не всегда отмечалось последовательностью. Герои говорили, словно декламируя, долго и очень многословно, не раскрываясь в конкретных поступках. Уже упоминалась чрезмерная пафосность монологов, особенности речи персонажей. Их чувства слишком бурные, неестественно напряженные и преувеличенные, они звучат на такой высокой ноте, что, кажется, могут в любой момент сорваться в истерику или приступ безумия. Это объясняется тем, что стилистика «Разбойников» была сформирована исторически обусловленным литературным движением в Германии, сложившимся в начале 70-х годов XVIII века и получившим название «Буря и натиск» («Sturm und Drang») по одноименной драме Ф. М. Клингера. Идейными руководителями молодых штюрмеров, как их стали величать, были Гердер и такой же молодой, как и они, Гете. Те, в свою очередь, много идей позаимствовали у великого французского философа Ж.-Ж. Руссо. Штюрмеров отличала страсть в выступлениях против авторитета монархической власти, тирании князей, светских и церковных. В своем творчестве они стремились опираться на немецкие народные традиции, на фольклор. Им была присуща чрезвычайная преувеличенность эмоций, высокий пафос высказываний, склонность к созданию необычных характеров, фигур, наделенных взрывным темпераментом, склонных к внезапным решениям, и т. п. В своих произведениях участники «Бури и натиска» изображали героев-идеалистов, провозгласивших войну обществу, готовых выйти на поединок против чуждых их убеждениям сил. Все литераторы «Бури и натиска» увлекались эпической простотой Гомера, драматургией Шекспира, поэзией своих предшественников и современников, в которой бурно и стремительно прорывалась жажда свободы, культ человеческого чувства. Среди таких штюрмеров, как Ленц, Клингер, Вагнер, Бюргер, особенно ярко сиял талант молодого Гете, автора романа «Страдания молодого Вертера», который тогда же стал всемирно известным. В группировку штюрмеров входил и узник герцога Карла-Евгения – Шубарт. Многие идеи, художественные принципы этого движения нашли отчетливое и в эстетическом отношении особенно полнокровное воплощение в первом драматургическом творении Шиллера. Штюрмеры были предтечами нового литературного направления, возникшего в начале 90-х годов XVIII века именно в Германии, – романтизма.
Многие черты, типичные для героев романтизма, в первую очередь чувство разрыва между прекрасной мечтой о счастье человечества и гнетущей, тяжелой, противоречивой реальностью, особенно больно ранящие тонкие, чувствительные души романтиков, мы найдем и у героев ранних пьес Шиллера: «Разбойники», «Мятеж Фиеско в Генуе» (1783–1785), «Коварство и любовь» (1784), «Дон Карлос» (1787). Поэтому не случайно героев этих пьес – Карла Моора, Фердинанда фон Вальтера, маркиза Позу – называют романтическими, хотя большинство литературоведов предпочитают слово «штюрмерские». «Буря и натиск» было явлением национально-немецким – романтизм же носил всемирный характер. А из-за того, что пьесы Шиллера быстро перешагнули границы своего отечества (драма «Разбойники» была, например, напечатана в России уже в 1793 году, скорость перевода по тем временам довольно стремительная) и сыграли значительную роль в становлении романтической драматургии европейских стран, есть реальные основания считать эти пьесы во многом романтическими. Почти все актеры, которые играли главных героев этих пьес, трактовали их как романтиков, во всей семантической многокрасочности этого слова, то есть не только как персонажей литературы этого направления, но и как людей, окрыленных высокими идеалами, пылких, чистых душой, бескорыстных энтузиастов, смелых, духовно богатых, способных на большую самоотверженную любовь.
Отпраздновав небывалый успех своего драматургического первенца, молодой полковой врач Фридрих Шиллер с высоты успеха спускается на землю. Герцог Карл-Евгений, узнав о спектакле Мангеймского театра и о том, что его подданный самовольно оставляет госпиталь и посещает очередные представления своей пьесы, запрещает ему не только эти поездки, но и любую литературную деятельность. И тогда Шиллер бежит из Вюртемберга. С этого момента для него начинаются долгие годы испытаний, нравственных и материальных трудностей. Первую осень и зиму после побега писатель находится в доме небогатой помещицы Генриетты фон Вальцоген, матери товарища по военной школе. В селе Бацербах на юге Тюрингии, вдали от всех, прежде всего от своего жестокого властелина, Шиллер может наконец целиком отдаться литературной деятельности. Конечно же, молодой писатель томится в заснеженном Бацербахе, который насчитывает окола тридцати усадеб. Но у него есть крыша над головой, рядом доброжелательные люди и упоительная тишина, столь необходимая для работы. За короткий срок – всего семь месяцев – он завершает начатую ранее пьесу «Мятеж Фиеско», создает «мещанскую трагедию» «Луиза Миллер», которая позже завоевала мировое признание под названием «Коварство и любовь», разрабатывает некоторые сцены драмы «Дон Карлос», наконец, намечает первоначальный план «Марии Стюарт».
«Мятеж Фиеско» – историческая пьеса о событиях, происходивших в Генуе в 1547 году. Шиллер по праву назвал ее «республиканской трагедией». Главный конфликт заключается в том, что любимец народа – республиканец Фиеско – на самом деле занимается не интересами своих сограждан, возглавив их борьбу против ненавистного тирана, а хочет сам захватить власть в Генуе. Ему противостоит строгий, несокрушимый сторонник республики Веррина. Он и совершает справедливый суд над предателем интересов большинства генуэзцев – сталкивает Фиеско со скалы в море. Эта пьеса с еще большей силой и откровенностью, чем «Разбойники», провозглашает идеи республиканизма. Однако из-за довольно запутанной интриги, внутренней противоречивости характеров главных героев она не имела на сцене такого успеха, как предыдущая.
Зато постановку следующего произведения – «Коварство и любовь» – сопровождает настоящий триумф. Пьеса наиболее личная в драматургии Шиллера. Правда, ее конфликт взят не из биографии писателя, но собственная судьба Шиллера, юношеские впечатления, то, что он знал о придворной жизни в государстве Карла-Евгения, свидетелем чего был сам, – все это в художественном преобразовании было воплощено в пьесе. Глубокая правда конфликта, десятки рассыпанных в пьесе политических и бытовых реалий жизни маленького немецкого герцогства создавали впечатление абсолютной жизненной достоверности. Эта драма имела в немецкой литературе предшественницу, которая с такой же силой обличала княжеский произвол. Это была пьеса великого просветителя Готгольда Эфраима Лессинга «Эмилия Гольтри» (ее, как и «Коварство и любовь», с успехом ставят и в наши дни на национальной и мировой сцене). В ней события происходили в одном из итальянских княжеств, и герои имели итальянские имена. Это было сделано, конечно же, в угоду цензуре, и публику подобный камуфляж не мог ввести в заблуждение. Шиллер сделал следующий дерзкий шаг. Он развенчивал тиранию, деспотизм именно как немецкий, такой типичный для мелких местных властителей, называя его по имени, открытым текстом.
Главный конфликт «Коварства и любви» – столкновение придворной клики во главе со всемогущим министром, карьеристом и интриганом, президентом фон Вальтером с семьей бедного, униженного, зависимого музыканта Миллера. На стороне дворовых злодеев неограниченная власть. Миллер и его дочь могут противопоставить ей лишь свою порядочность, честность, чувство собственного достоинства, гордость бедняков.
История любви благородного идеалиста Фердинанда, сына президента фон Вальтера, и дочери придворного музыканта Луизы Миллер заканчивается трагически. И роковые события в пьесе не только раскрывали жестокую бессмысленность сословных предрассудков, по которым юноше-аристократу не дозволено жениться на простой девушке, но и показывали, какими коварными и низкими методами сиятельные господа сохраняли свою власть, свое господство и привилегии. Шиллер создал целую галерею своеобразных персонажей, наделенных выразительными, индивидуальными чертами и сочными характерами, психологически убедительными, которые дают богатый материал для актерской игры. Каждый персонаж – яркая индивидуальность с социально окрашенной речью и поведением. Это касается не только старой Миллерши или ее мужа, но и Фердинанда, который сохранил чистоту помыслов и красоту чувства, вопреки губительному влиянию двора и собственной аристократической семьи, так же как и леди Мильфорд, которая способна увидеть своего покровителя-любовника герцога, да и себя саму, в истинном свете, способна выявить благородство и великодушие.
Герцог не появляется на сцене, но он также действует в пьесе. О его поступках рассказывает фаворитка владельца леди Мильфорд. Во взволнованном разговоре со старым камердинером о продаже сотен юношей в иностранные армии для того, чтобы герцог мог подарить ей новые драгоценности, леди Мильфорд раскрывала перед зрителями тайны политической жизни не только условного немецкого княжества, но и реального Вюртемберга, и не только этого малого государства.
Всю придворную верхушку Шиллер рисует резко отрицательно. Это и развращенный властолюбец, подлый интриган президент фон Вальтер, который жертвует не только счастьем своего сына, но и самой жизнью юноши, чтобы еще больше укрепить свои позиции при дворе, свое влияние на князя и государственные дела. Это и слабоумный напыщенный гофмаршал фон Кальб (именно фамилия Кальб – в переводе «теленок» – свидетельствует о его глупости), и корыстный подхалим секретарь Вурм (тоже красноречивая фамилия, потому что «Вурм» – по-немецки «червь»), карикатурная копия своего коварного господина. Все они воплощают самые отвратительные человеческие пороки, темные страсти, которые конкретно породил феодальный строй с его грубой тиранией, беззаконием, страхом, холопством, жаждой власти и обогащения, но которые в той или иной мере и форме присущи любому недемократическому строю. В художественном плане все эти персонажи близки к типичным фигурам эпохи Просвещения с их одномерностью, доминированием какой-то одной решающей черты их характера. И в то же время отрицательные персонажи угадывают заранее характерные особенности злодеев романтической литературы, которые часто были воплощением всех возможных грехов и пороков, остро контрастировали с добродетельными положительными героями. Выразительность зла, как ни странно, была свойственна одинаково и романтикам, и их предшественникам. В лагере негодяев, каким предстает княжеский двор, есть одна фигура, которой Шиллер дал то, что можно назвать «диалектикой души». Это леди Мильфорд. Драматург делает удачную попытку раскрыть капризную удачу жестокой и безжалостной, на первый взгляд, фаворитки через ее человеческую судьбу, дает этой изуродованной душе шанс на возрождение.
Фердинанд фон Вальтер кажется «белой вороной» в своей среде. Вопреки дурному влиянию окружения, он смог сохранить в себе лучшие черты гуманной и благородной личности. В нем живет молодая страсть и отвага, прекрасный максимализм чистой и наивной юности. Это типичный для Шиллера положительный герой, в уста которого молодой драматург вложил много своих выстраданных мыслей. Не без основания о таких, как он, о Карле Мооре, маркизе Позу или Доне Карлосе не раз писалось, что они «рупоры» авторских идей.
Среди положительных персонажей пьесы наиболее живым и убедительным кажется женский образ Луизы Миллер. Если для Фердинанда быть гордым, смелым, уверенным в себе, не поступаясь собственным достоинством, кажется вполне естественным, поскольку именно его происхождение, его положение при дворе давали ему эти преимущества, то для девушки из бедной семьи сохранять гордость и достоинство значительно труднее. В тех условиях, в которые она поставлена, действовать бесстрашно, не терять духовную силу почти невозможно. Чистота моральных принципов, бескорыстие Луизы, ее чувства к Фердинанду, такие искренние и светлые, заставили забиться сильнее даже зачерствевшее сердце леди Мильфорд, проникнуться сочувствием к влюбленным даже эту отравленную придворной жизнью женщину.
Вся пьеса полна искренней симпатии драматурга к простым людям. В них он видит привлекательные человеческие качества. Несмотря на это, автор не приукрашает своих персонажей, выходцев из народа. Музыкант Миллер, возвышающийся в последней картине пьесы до настоящего трагического величия, не лишен определенных слабостей и недостатков. Он живет и мыслит, как подобные ему мастера, не отличается ни особыми талантами, ни необычными добродетелями. Честный, порядочный человек, хороший муж и отец, он не бунтует против власти и стремится жить тихо, в согласии со всеми, потому что знает, как опасно конфликтовать с властями. Как любящий отец, он со страхом думает обо всех опасностях и искушениях, подстерегающих его юную и красивую дочь поблизости от развращенного двора. Он не хочет, чтобы его дочь стала игрушкой для большого господина. Его не прельщают ни большие деньги, ни высокое положение семьи фон Вальтера. Речь Миллера полна рассудительности и остроумия, она не приглаженная, а образная, иногда грубовато простонародная.
Иные краски выбирает Шиллер для характеристики жены музыканта. Это недалекая женщина, глупая и тщеславная мещанка. Ей очень хотелось бы видеть свою дочь большой госпожой, ей льстит, что за Луизой ухаживают богатые и влиятельные господа. В отличие от своего мужа, она не может защитить честь своей дочери. Как большинство людей из ее окружения, она заражена сословными предрассудками, болезнью лакейства.
Упомянутые роли дают актерам материал для создания выразительных образов. Даже при чтении пьесы ее персонажи возникают в нашем воображении зримо, со своей особой манерой говорить, двигаться и т. д. Построение пьесы свидетельствовало о незаурядном мастерстве молодого драматурга. Используя эффективные приемы создания сценического напряжения, неожиданные сюжетные повороты, содержательные и эмоционально насыщенные диалоги и монологи, Шиллер почти полностью избегает в этом произведении декларативности и декламационного пафоса, свойственных «Разбойникам». Хотя, конечно, общая романтическая приподнятость тона в пьесе остается.
Пьеса «Коварство и любовь» вышла в 1784 году, и с тех пор начинается ее триумфальное шествие по театральным сценам мира. Трогательная история несчастной любви двух молодых людей, разведенных установленным в обществе неравенством, стала такой же известной, как и «печальная повесть» Шекспира о Ромео и Джульетте. Но демократический зритель с еще большим волнением воспринимал пламенные антитираничные тирады героев пьесы, которые звучали как призыв к борьбе против несправедливой власти.
Трагедия «Коварство и любовь» завершала первый, штюрмерский период творчества Шиллера. Начинался новый этап в жизни и мировосприятии писателя. Последующие годы, конец 80-х и начало 90-х, так называемый веймарско-иенский период, были в творчестве поэта сложными и идейно, и художественно. Они отразились блестящими взлетами и печальными неудачами. У Шиллера появились новые друзья и среди них Гете, который, между прочим, помог ему своей весомой рекомендацией получить должность преподавателя истории в Иенском университете. В эти годы художник занимается главным образом основательным изучением и разработкой проблем эстетики, печатает теоретические труды: «Письма об эстетическом воспитании человека», трактат «О наивной и сентиментальной поэзии». В это время он создает поэзии в жанре философской лирики, поэтические произведения гражданского звучания, баллады и др. Его «Ода к радости» нашла отклик не только в сердцах читателей. На ее слова Бетховен написал финальный хор своей прославленной Девятой симфонии. Кроме эстетических проблем, писателя серьезно интересуют события истории, он изучает прошлое Германии, из-под его пера выходят научные и одновременно художественно яркие страницы исторических исследований.
Новой, после перерыва в работе драматурга, была пьеса «Дон Карлос» (1787). Это драматическая поэма, которую можно еще определить и как трагедию идеализма в политике. А потом Шиллер почти десять лет не пишет ничего для театра. Лишь в конце 90-х появляются такие сценические произведения, как трилогия «Валленштейн» (1797–1799), «Мария Стюарт» (1800) и «Орлеанская дева» (1801), каждое из которых раскрывает какую-либо новую грань драматургического таланта мастера.
«Орлеанская дева» в романтических красках, с высоким пафосом воспроизводит образ героини французского народа, крестьянской девушки Жанны д’Арк, которая смогла повести за собой тысячи соотечественников на борьбу за освобождение Франции от врагов – англичан.
Трагедия «Мария Стюарт» – конфликт двух очень непохожих женских характеров, борьба за власть двух могущественных политических соперниц, блестящий анализ психологии противоречивых неординарных личностей – королев Марии Шотландской и Елизаветы Английской.
Трилогия «Валленштейн» – огромное драматическое полотно, которое воспроизводит полное значительных событий и страстей историческое время из жизни Германской империи. В центре событий – образ полководца немецкой армии – волевого, умного, сильного, но безгранично эгоистичного человека, охваченного жаждой власти, славы, самоутверждения, который проигрывает свою борьбу, осужденный самой историей. Шиллер не только вывел на сцену психологические нюансы личностей выдающихся деятелей немецкой истории, но и изобразил народ как мощное единство разнообразных и ярких индивидуальностей. Он первым в истории литературы нарисовал сцену, в которой главное – не развитие событий, а показ ежедневного бытия подвижной, эмоциональной массы людей, ее разговоров, мелких стычек, споров и т. п. Часть трилогии под названием «Лагерь Валленштейна», стала образцом для подобного изображения народной массы не только в драматических произведениях, но и в романной прозе. Новаторство Шиллера нашло отклик и у английского писателя Вальтера Скотта, и у русского Пушкина, и у украинца Кулиша, и у венгра Етвеша, и у французов Гюго и Роллана, и у многих других.
Все упомянутые пьесы объединяет то, что в их основу положены подлинные события истории, их главные герои носят имена известных исторических деятелей разных стран. В формальном плане трагедии объединены еще и тем, что они написаны прекрасным звучным ямбом, полным эмоциональной силы, афористической меткости и емкости. Драматург считал, что «использование метрической системы языка – большой шаг, который приближает нас к поэтической трагедии». Томас Манн, его знаменитый соотечественник, так охарактеризовал язык пьес Шиллера: «Он изобрел для себя свою неповторимую сценическую речь, которую безошибочно узнаешь по интонации, по ритму и звучанию, язык блестящий, самый патетичный из когда-либо созданных в немецкой, а может, и в мировой литературе, – своеобразная смесь размышлений и душевных порывов, настолько насыщенная драматизмом, что после Шиллера трудно говорить со сцены, не подражая ему».
В подходе писателя к вопросам истории, как и в решении многих других проблем, очевиден идеализм, присущий ему еще в юношеские годы. В советской литературоведческой науке ему это не раз ставили в вину, достаточно прямолинейно упрекая большого драматурга в том, что он не стоял на марксистских позициях… до рождения самого Карла Маркса. В наши дни серьезные ученые более чем скептически относятся к идеальным представлениям о всепобеждающей роли революции и революционного террора, о функции пролетариата как гегемона общественных преобразований к лучшему, к отрицанию роли личности в истории и т. д. Тем понятнее кажется нам философия истории у Шиллера, который в своей юношеской драматургии был идейным предвестником революционных катаклизмов, а после событий в соседней Франции ужасался революционного террора. Как и его друг Гете, отшатнулся от жестокостей народного восстания и политической практики якобинцев. О «пролетариате и его роли» в феодальных немецких государствах не было и мысли. А расплывчатое понятие «народ» драматург понимал очень дифференцированно, вспомним «Лагерь Валленштейна» и «Вильгельма Телля», о котором мы теперь будем говорить. Что касается роли личности в истории, то современнику Наполеона Бонапарта и художественному исследователю эпохи самого значимого короля (да, именно короля!) Англии – Елизаветы I было бы бесполезно доказывать, что эти личности не имели огромного влияния на ход исторического процесса.
Самой популярной драмой последнего периода творчества Шиллера был «Вильгельм Телль». Драматург обратился к истории Швейцарии, к одному из эпизодов борьбы граждан этой горной страны в XIII веке против иностранного порабощения. Однако само прошлое Швейцарии было только достаточно прозрачной оболочкой, под которой автор стремился донести до своих соотечественников мысли об актуальных, острых проблемах немецкой жизни. С точки зрения исторической точности, достоверности всех деталей, глубокого понимания специфических особенностей борьбы кантонов и характеров действующих лиц этой борьбы времен Вильгельма Телля в пьесе есть уязвимые места, неточности. На это не раз указывали поздние исследователи-историки. Однако главным в пьесе была не скрупулезная точность в изображении дальнего, окутанного легендами и мифами, прошлого, а воспевание единства швейцарцев, их преданности борьбе за освобождение от иноземных поработителей, за суверенность собственной страны.
Современники Шиллера уже после его смерти восприняли эту последнюю из завершенных драматургических работ художника как мужественный призыв к объединению Германии. Оккупированная в начале XIX века войсками Наполеона Бонапарта, она не смогла из-за своей раздробленности, политической и экономической слабости дать достойный отпор французской армии, которая перешла Рейн. Многочисленные монологи из «Вильгельма Телля» ассоциировались с политическими условиями в тогдашней Германии, способствовали подъему патриотических настроений, развертыванию национально-освободительного движения.
Главный герой пьесы – блестящий стрелок из лука Вильгельм Телль – исторический персонаж, воспетый в национальном фольклоре. Сначала он далек от борьбы соотечественников против австрийских захватчиков. Интересы Телля ограничиваются сугубо частными делами. Заслуга Шиллера как психолога и писателя-гражданина состояла в том, что он убедительно, без навязчивости показал, как герой и другие персонажи пьесы под давлением политических событий, вторгающихся в их мирное ежедневное существование, становятся активными, осознают свои патриотические обязанности – борьбу за независимость своего народа, за его свободу. Шиллер не торопится показать изменения в душе героя, не делает их сиюминутными, чем-то, что происходит вдруг, в состоянии аффекта. Он все весьма подробно мотивирует, тонко анализируя сомнения, нерешительность Телля, желание сохранить свое спокойствие и уютное существование своей семьи, не вмешиваясь в политические столкновения, кровавый водоворот которых может поглотить не только его счастье, но и саму жизнь.
Когда австрийский наместник в Швейцарии Геслер заставляет смиренного Телля стрелять в яблоко, лежащее на голове сына лучника, чаша его терпения переполняется. Страх отца за жизнь сына, гнев из-за публичного оскорбления становятся катализаторами гражданского созревания Телля, толкают его на решающий шаг. Его кровавое возмездие наместнику больше, чем только месть униженного человека. Это расплата патриота за народные страдания, за поруганную отчизну. Убийство Геслера становится сигналом для всеобщего восстания против поработителей, примером, ведущим в бой других патриотов. Восстание заканчивается изгнанием австрийцев из свободолюбивого альпийского края.
В пьесе сильно и убедительно проявился демократизм драматурга. Простые люди из кантонов Швитц, Ури, Унтервальден – лесорубы и рыбаки, охотники и скотоводы, каменщики и ремесленники – действуют в пьесе как сила, которая, объединившись, становится непреодолимой. В «Вильгельме Телле» Шиллер провозглашал всеми художественными средствами и открытым текстом насущную для того времени мысль о необходимости объединения страны силами народного большинства. Говоря о Швейцарии, он имел в виду свою родину – Германию.
«Вильгельм Телль» – одно из самых зрелых и совершенных драматургических произведений Шиллера. Стройность композиции, психологическая подлинность и глубина в рисунке характеров; живописно и подробно воссозданный быт швейцарцев – все это делало пьесу жизненно убедительной и сценически захватывающей. Знатоки творчества Шиллера отмечают богатство языка и разнообразие художественных средств в пьесе, широкое использование сокровищ немецкого и швейцарского фольклора. Благородство помыслов и чувств главных персонажей, притягательная сила их патриотических устремлений выливаются в звучные чеканные строки поэтических монологов. Но не только высокий пафос присутствует в словах персонажей, но и живой разговорный язык, простонародные, меткие и образные выражения, богатые средства поэтики народной речи. Важно подчеркнуть, что в этой пьесе, как и в некоторых других, Шиллер показал себя непревзойденным мастером сцен, исполненных высокого драматического напряжения, таких, которые до глубины души волнуют зрителя или читателя. А также как настоящий виртуоз в создании массовых сцен, насыщенных движением, страстями, жаркими столкновениями, живой динамикой противоречивых настроений толпы. В уже цитированном труде Томаса Манна «Слово о Шиллере» есть такие строки, посвященные «Вильгельму Теллю»: «Эти сельские жители, скромные, степенные, рассудительные, умеренные и трезвые: они отнюдь не образованные революционеры… Они хотят лишь одного – отстоять от невыносимой тирании завещанные предками права, которые они свято чтят, как неотъемлемые от природы своей родины. Однако, хотя эти швейцарцы ничем не напоминают пламенных трибунов и якобинцев, хотя время действия – конец XIII века, все же в «Вильгельме Телле» дует ветер Французской революции, от которой Шиллер отрекся, но которая дала жизнь идеям единства, свободы и надежды».
До этого момента речь шла о драматургии, самой весомой части наследия Шиллера, которая лучше всего известна за пределами отечества, – автора «Коварства и любви», и остается наиболее живой и актуальной в наше время, не сходит со сцены. Но великий драматург был и великим поэтом (не только потому, что, например, «Вильгельма Телля» написал в стихотворной форме), но и потому, что жил поэзией. Она сопровождала его всю жизнь. Среди его поэтических произведений есть настоящие жемчужины, которые обогатили мировую литературу, шедевры непреходящего значения. Поэт Божьей милостью, он был глубоким мыслителем, и у его стихов всегда два крыла – мысль и чувство, философия и лирическое глубочайшее переживание, размышления над земными человеческими делами и стремление в высшие идеальные сферы. Шиллер жил в эпоху мощного расцвета немецкой классической философии, которая дала Германии название – «страна философов». Его старшим современником был великий Кант. Фихте и Гегель были чуть моложе его, как и выдающиеся теоретики искусства, в частности, романтического направления, братья Шлегели. Интерес к главным проблемам, закономерностям природы и общества, а также принципиальным вопросам эстетики, значению искусства в жизни человека и человечества был всеобщим. Не случайно Гете – друг Шиллера, с которым он советовался, которому писал о своих творческих планах, поисках, сомнениях, – так много внимания уделял именно философским, эстетическим размышлениям и в прозе, и в стихах. Шиллер хорошо понимал двойственную природу своего поэтического таланта и упрекал себя, что часто не может достичь целостности, единства «между понятием и созерцанием, между законом и чувством, между техническими средствами и гением». Он писал о себе: «…Поэт, как обычно, торопил меня там, где мне следовало прибегать к философскому размышлению, а философская мысль – там, где я должен быть поэтом… довольно часто бывает со мной такое, что воображение становится препятствием моим абстракциям, а холодный разум – моим стихам». Такой строгий анализ собственных недостатков в творчестве уже сам по себе свидетельствовал о силе логического и критического ума художника, о неспонтанном характере его работы над стихами. И одновременно это доказательство его чрезмерной требовательности к себе, строгой самокритичности. Потому Шиллер сказал в поэзии все, что хотел и успел сказать, все, что было самобытным, неповторимо личным, и сделал это так, как подсказывал ему его талант, его характер. Тем он и интересен. Как бы ни представлял себя Шиллер неким художником, не мудрствуя лукаво, ему принадлежат гениальные слова: «Цель искусства для меня – особого рода наслаждение». Не открытие истины, не наставление, информирование, а именно «наслаждение». И это откровение поэта лучше соответствует представлению, по крайней мере для многих, о цели творчества, искусства, поэзии. В поэтическом творчестве Шиллера каждый найдет для себя то, что даст ему наибольшее наслаждение: и философскую лирику, удивительно разнообразную, и стихи о любви и поэзии в фольклорном духе, и баллады, мастерские по форме и поучительные без навязчивости, и оды, подобные замечательной солнечной «К радости», и «Думе о колоколе», и эпиграммы, и притчи.
Однажды Фридрих Шиллер написал такие слова: «По-настоящему я чувствую свою силу только в творчестве». Эту силу писателя и сегодня ощущают читатели и зрители его произведений, все, кто любит высокое и истинное искусство.
К. А. Шахова
Коварство и любовь
Действующие лица:
Президент фон Вальтер при дворе германского владетельного герцога.
Фердинанд – сын его, майор.
Гофмаршал фон Кальб.
Леди Мильфорд – фаворитка герцога.
Вурм – домашний секретарь президента.
Миллер – музыкант.
Его жена.
Луиза – его дочь.
Софи – камеристка леди.
Камердинер герцога.
Разные второстепенные лица.
Первое действие
Комната музыканта.
Явление I
Миллер встает со стула и отставляет в сторону свою виолончель. Госпожа Миллер сидит у стола в утреннем костюме и пьет кофе.
Миллер (быстро шагая взад и вперед). Говорю тебе раз и навсегда! Дело завязывается не на шутку. Про дочь мою с бароном пойдет дурная слава. Нашему дому позор! Президент пронюхает, и… Одним словом, я выставлю этого барчука.
Жена. Ты не заманивал его к себе в дом, не навязывал ему своей дочери.
Миллер. Не заманивал к себе в дом? Не навязывал ему девчонку? Станут об этом справляться! Разве я не хозяин у себя в доме? Мне следовало получше беречь свою дочь. Мне следовало хорошенько отделать майора или тотчас же донести обо всем его превосходительству, господину папеньке. Молодому барону все как с гуся вода – дело известное! И все беды обрушатся на голову скрипача.
Жена (допивает чашку). Вздор! Пустяки! Что тебе сделают? Кто тебя может в чем обвинить? Ты делаешь свое дело и подбираешь учеников, где можешь.
Миллер. Но ты мне одно скажи: что из всего этого выйдет?.. Не жениться же ему на девчонке – об этом не может и речи быть. А чтобы он взял ее к себе в… Господи, прости мое согрешение! Нет, здорово живешь! Ох, уж эти мусье фон-бароны! Где-где, я думаю, не терся, каких, поди, шашен не заводил – и сам черт не разберет! Разумеется, у этакого сластены текут слюнки на лакомый кусочек… Смотри ты у меня! берегись! Впрочем, будь у тебя в каждой стенной щели глаз, стой ты часовым над кровинкой – и тут он вскружит ей голову у тебя под носом, а потом наставит и ей самой нос, да и поминай его, как звали. А девке на всю жизнь позор: сиди, голубушка, а коль по нраву пришлось – продолжай ремесло! (Ударяет себя кулаком по лбу.) Боже милостивый!
Жена. Спаси нас, Господи!
Миллер. Надо самим-то не плошать. На что больше рассчитывать этакому ветрогону? Девушка – красавица, стройная, ловкая. Что живет не в хоромах – не беда. С вами, бабами, на это сквозь пальцы смотрят; дал бы только Бог местечко par terre – только бы моему хвату эту статью обработать, а там… Э, все пойдет, как по маслу… вот как у нашего Роднея, когда он носом француза почует: тут ему и море по колено. Я его и не виню. Человек бо есть. Как этого не знать?
Жена. Прочитал бы ты только, какие чудесные записочки пишет майор твоей дочери. Боже мой, да из них как белый день ясно, что ему только ее сердце дорого!
Миллер. Так и есть! Кошку бьют, а невестке наметки дают. Эх, ты! Кому охота до тела добраться, стоит только на переговоры доброе сердце послать. Как я-то сам действовал?.. Только бы того добиться, чтобы сердца-то поладили, а там – живо: по их примеру и тело с телом поладят. Челядь берет пример с господ, и глядишь, серебряный-то месяц окажется под конец просто сводником.
Жена. Посмотри, какие книги отличные присылает господин майор! Луиза по ним все молится.
Миллер (свистит). Как же! Молится! Держи карман! Натуральные соки природы еще слишком тяжелы для нежного желудка его милости; ему надо отдать их сначала притомить в адской, ядовитой сочинительской кухне. В печку эту дрянь! Девка наберется из них Бог знает каких заоблачных фантазий, кровь забурлит, как от шпанских мушек: прощай тогда и малая толика религии, что кое-как с великим трудом поддерживал в ней отец. В печку, говорю! Девка набьет себе всякой дьявольщины в голову; нагулявшись в этом небывалом царстве, под конец и дороги домой не найдет, забудет, станет стыдиться, что отец ее – скрипач Миллер, и кончится тем, что не будет у меня хорошего, честного зятя, который мог бы мне быть таким отличным преемником. Нет, черт меня побери! (Вскакивает, с сердцем.) Сейчас же за дело! И майору… Да, я покажу майору… где Бог, а где порог! (Хочет идти.)
Жена. Будь же благоразумен, Миллер! Сколько получили мы одними подарками…
Миллер (возвращается и останавливается перед нею). Ценой чести дочерней? Убирайся к черту, гнусная сводня! Да скорее я пойду по миру со своею виолончелью и стану давать свои концерты за миску похлебки; скорее разобью свой инструмент и стану навоз в нем возить, чем притронусь к деньгам, за которые единственное дитя мое продаст свою душу и вечное блаженство! Брось свой проклятый кофе да перестань табак нюхать, не для чего тебе водить дочь на рынок – лицом торговать. Я и сыт был, и всегда была у меня хорошая рубашка на теле, прежде чем затесался ко мне в дом этот расфуфыренный франт!
Жена. Зря-то пыли не подымай! Так вот весь и загорелся! Я одно говорю – не следует нам пренебрегать майором: ведь он сын президента.
Миллер. Вот в чем штука-то! Да поэтому, именно поэтому-то и надо сегодня же положить всему конец! Президент еще поблагодарит меня, если он честный отец. Почисть-ка мне мой красный плисовый кафтан: отправлюсь к его превосходительству. Я его превосходительству скажу: «Вашего превосходительства сынку приглянулась моя дочь: в жены она ему не годится, в любовницы – слишком накладно!» – и баста! Меня зовут Миллер!
Явление II
Те же и секретарь Вурм.
Жена. А, с добрым утром, господин секретарь! Наконец-то вы опять доставляете нам удовольствие…
Вурм. Полноте, полноте, кумушка! При милостях высокого дворянства что уж за удовольствие от нас, мещан?
Жена. Уж чего-то вы не скажете! Господин майор фон Вальтер точно утешают нас время от времени своей высокой милостью, но из-за этого мы никем не пренебрегаем.
Миллер (с досадой). Дай кресло, жена! Кладите вашу шляпу, господин секретарь.
Вурм (кладет шляпу и палку и садится). Ну, а как здоровье моей будущей… или бывшей?.. Я надеюсь… ведь я увижу ее – мадемуазель Луизу?
Жена. Благодарим за внимание, господин секретарь! Дочь у меня вовсе не спесива.
Миллер (сердито толкает ее в бок). Жена!
Жена. Жаль, что она не может иметь чести видеться с вами. Она у обедни.
Вурм. Приятно слышать! приятно слышать! У меня будет, значит, богомольная, богобоязненная жена!
Жена (улыбаясь с глупой важностью). Да… только…
Миллер (заметно смутясь, дергает ее за ухо). Жена!
Жена. Если мы можем служить вам чем другим, господин секретарь, – с полным нашим удовольствием…
Вурм (лукаво щурясь). Чем другим? Душевно вас благодарю! душевно!.. Гм! гм!
Жена. Разумеется – вы, господин секретарь, и сами рассудите…
Миллер (вне себя от досады, толкает жену сзади). Жена!
Жена. Рыба ищет – где глубже, а человек – где лучше. Не отнимать же нам счастья у единственного своего детища? (Со спесью.) Вы сами, верно, замечаете, господин секретарь.
Вурм (тревожно двигается на кресле, почесывает за ухом и поправляет на себе манжеты и жабо). Замечаю? То есть… Да… что вы хотите сказать?
Жена. Я… я хотела только… я говорю… (Откашливается.) Так как Господу Богу угодно, чтобы дочь моя была знатной бароншей…
Вурм (вскакивает). Что вы такое говорите? что такое?
Миллер. Сидите, сидите, господин Вурм! Не слушайте глупой бабы! Выдумала какую-то знатную бароншу! Этакая болтовня ослиная!
Жена. Ругайся, сколько тебе угодно, а я знаю, что знаю… и что сказал господин майор – то сказал…
Миллер (вне себя от гнева, кидается к виолончели). Да зажмешь ли ты рот? Или тебе хочется, чтобы я тебе голову разбил инструментом? Что такое ты знаешь?.. что мог он тебе сказать? Не слушайте вы этой болтовни, господин секретарь! Марш на кухню! Надеюсь, вы не считаете меня таким олухом царя небесного, чтобы у меня были этакие виды на девку? Надеюсь, не подумаете этого обо мне, господин Вурм?
Вурм. Да я, кажется, этого и не заслужил, господин Миллер! Вы видели, я постоянно держался своего слова, и мои планы на вашу дочь все равно, что обязательство на бумаге. С моей должностью при порядке можно жить; президент ко мне благоволит; вздумай я пожелать места повыше – в протекции не будет недостатка. Вы видите, у меня серьезные намерения относительно мадемуазель Луизы, разве только какой-нибудь вертопрашный дворянчик…
Жена. Господин секретарь Вурм, нельзя ли поуважительнее…
Миллер. Сказано тебе – молчать! Не слушайте, господин секретарь! Все остается по-старому… Что я говорил вам прошлой осенью, то и теперь говорю. Я дочери своей не принуждаю. По сердцу вы ей – прекрасно: пусть старается быть с вами счастливой. Не согласна – тем лучше… ее дело, хотел я сказать. Вы откланяетесь и разопьете бутылочку с отцом. Ей с вами жить, не мне. Не стану же я из одного упрямства навязывать ей мужа, который ей не по нраву?.. Да мне, на старости лет, покоя не будет, совесть замучает… Да я стакана вина не выпью, ложку супу не проглочу, чтобы не подумать: «Загубил ты, злодей, свое детище!»
Жена. А я коротко и ясно вам скажу: я своего согласия решительно не дам; моя дочь на кое-что повыше может расчитывать, и я все суды обегаю, если муж мой даст себя уговорить.
Миллер. Хочешь ты, чтобы я тебе руки и ноги обломал, чертова перечница?
Вурм (Миллеру). Отцовский совет для дочери много значит, а вы меня, надеюсь, знаете, господин Миллер?
Миллер. Черт побери! Надо, чтобы Луиза-то вас узнала. То, что я, старый воробей, вижу в вас – вовсе не приманка для молодой лакомой девки. Я вам по пальцам разберу, годитесь ли вы в оркестр… ну, а женское сердце подчас и капельмейстера забракует. Да уж надо вам и то сказать, господин Вурм, – я ведь прямой и простой человек, – пожалуй, что за мой совет вы не очень-то были бы мне благодарны. Я дочери ни за кого не прочу, но выходить за вас, господин секретарь, не стал бы советовать! Дайте мне досказать. Влюбленному, который призывает отца на помощь, я – с позволения вашего – не верю ни на медный грош. Если он чего-нибудь стоит, наверное постыдится представлять свои таланты возлюбленной своей таким старомодным путем. Если же у него смелости не хватает – он просто трус, а Луиза на свете живет не для трусов. Да, за спиной отца следует ему уладить свое сватовство. Надо, чтобы девка скорее отца и мать к черту послала, чем с ним рассталась, или чтобы сама пришла, бросилась отцу в ноги, стала Христом-Богом молить: схоронить ее в мать-сырую землю или дать ей милого дружка. Вот это по-моему, молодец! вот это любовь! А кто с женским полом этого не добьется, тот садись на палочку верхом да отваливай!
Вурм (хватает шляпу и шпагу и бежит из комнаты). Покорно вас благодарю, господин Миллер!
Миллер (тихо идя вслед за ним). Да за что же? Мы вас ничем и не попотчевали, господин Вурм! (Возвращаясь.) Ничего не слушает и бежит. Рожа этой чернильной лисы для меня хуже всякого рвотного. Этакая противная, гнусная тварь! Кажется, будто он и на Божий-то свет тайком пролез. Узенькие, лукавые мышиные глазки, рыжие волосы, подбородок выпятился, словно природа со злости на неудачное свое изделие схватила его и швырнула куда-нибудь в угол… Нет! чем отдать свою дочь за этакого поганца, пусть лучше она… Господи, прости мое прегрешение!
Жена (плюнув злобно). У, собака… Уж навязывать ее тебе не станут!
Миллер. И ты-то тут со своим проклятым бароном! Тоже совсем меня давеча взбесила. Никогда ты такой дурой не выглядишь, как тогда, когда умной быть стараешься. Ну, с чего принялась трещать про знатную бароншу, про дочь? Нашла кому говорить! Стоит только ему что на носу зарубить, так на другой день уж на рынке станут трезвонить. Эти прохвосты только и знают, что ходить со двора на двор да вынюхивать, да толковать, что у кого в погребе, да какой повар, и сорвись только у кого с языка глупое слово – трамта-ра-рам! Уж его знают и герцог, и фаворитка, и президент – и того и гляди, что разразят тебя гром и молния!
Явление III
Те же. Входит Луиза Миллер с книгой в руке.
Луиза (кладет книгу, подходит к отцу и обнимает его). Здравствуйте, батюшка!
Миллер (ласково). Молодец, Луиза! Очень приятно видеть, что ты так усердно помнишь Господа твоего. Будь всегда такой – и его десница сохранит тебя.
Луиза. Ах, я великая грешница, батюшка!.. Был он, матушка?
Жена. Кто, дитятко?
Луиза. Ах, я и забыла, что есть на свете и кроме него люди… у меня в голове так пусто… Не заходил он? Вальтер?
Миллер (грустно и серьезно). А я думал, что Луиза оставила в церкви это имя.
Луиза (пристально смотрит на него). Я понимаю вас, батюшка, – чувствую нож, что вы вонзаете в мою совесть; но уже поздно. Нет во мне прежнего благочестия, батюшка. Небо и Фердинанд рвут друг у друга мою истерзанную душу – и я боюсь… боюсь… (Помолчав.) Нет-нет, батюшка! Разве не лучшая хвала художнику, если мы забываем его, глядя на его творение? Разве не должно быть приятно Богу, что я меньше помню его, любуясь и радуясь лучшему его созданию?
Миллер (в досаде опускается на стул). Вот они, плоды этих безбожных книг!
Луиза (подходит с беспокойством к окну). Где-то он теперь? Знатные девицы видят его… Слышат, а я жалкая, позабытая девушка… (Пугается своих слов и кидается к отцу.) Нет! нет! простите мне. Я не плачусь на свою судьбу. Я хочу только иногда думать о нем… ведь это ничего не стоит. Эту малую толику жизни… о, если бы можно было выдохнуть ее нежным, ласковым ветерком, который освежал бы его лицо! о, если б этот цвет молодости был простой фиалкой, и он мог бы наступить на него, и я могла бы смиренно умереть под его ногой! Мне бы и этого было довольно… Батюшка! Разве солнце, гордое, величественное солнце, наказывает жалкую мошку за то, что она греется в его лучах?
Миллер (растроганный, склоняется на ручку стула и закрывает лицо руками). Слушай, Луиза, – все, что остается мне еще прожить на белом свете, отдал бы я, чтобы только тебе никогда не встречаться с майором.
Луиза (в испуге). Что вы говорите такое?.. Нет, вы не то хотели сказать, добрый батюшка! Будто вы не знаете, что Фердинанд – мой, создан для меня, дан мне на радость творцом любви. (Стоит в задумчивости.) Когда я увидала его в первый раз (с большей живостью) – кровь бросилась мне в лицо, и отраднее забилось сердце; каждое биение говорило мне, каждое дыхание шептало: «это он!» И сердце мое узнало его, вечно желанного, и подтвердило: «да, это он!» И весь мир радовался со мною и звучал для меня этими словами! Тогда – о! тогда взошло для души моей первое утро. Тысячи новых чувств распустились в моем сердце, как цветы в поле, когда наступает весна. Я не видела мира перед собой, а все-таки, мне кажется, никогда не был мир так прекрасен! Я не думала о Боге, а между тем никогда так не любила его.
Миллер (быстро подходит к ней и прижимает ее к своей груди). Луиза! дорогое, милое дитя мое! Возьми мою старую, дряхлую голову – возьми все, все! Майора же – Бог свидетель – я не могу тебе дать. (Уходит.)
Луиза. Да ведь я не хочу его теперь, батюшка! Эта скудная росинка времени… один сон о Фердинанде страстно поглотит ее. Я отказываюсь от него в этой жизни. А тогда, матушка, тогда, когда рухнут стены различий, когда с нас слетит ненавистная шелуха неравенства, когда люди будут только людьми… я не принесу с собой ничего, кроме своей невинности; но ведь батюшка не раз говорил, что когда прийдет Господь – уборы и пышные титулы подешевеют, а сердца поднимутся в цене. Я буду тогда богата… Слезы зачтутся там за триумфы, а чистые мысли – за предков! Там буду я знатна, матушка! Чем же будет он тогда лучше своей милой?
Жена (вскакивает). Луиза! Майор! Он перескочил через плетень! Где мне спрятаться?
Луиза (начинает дрожать). Останьтесь, матушка!
Жена. Боже мой! на что я похожа? просто срам! Как мне показаться его милости в таком виде? (Уходит.)
Явление IV
Луиза. Фердинанд фон Вальтер быстро подходит к ней. Она бледнеет и в изнеможении опускается на стул. Он останавливается перед нею. Какое-то время они смотрят друг на друга. Молчание.
Фердинанд. Ты бледна, Луиза?
Луиза (встает и обвивает его руками). Ничего, ничего… Ведь ты со мной. Все прошло!
Фердинанд (берет ее руку и подносит к губам). И Луиза моя все меня любит? У меня то же сердце, что вчера, а у тебя? Я прибежал только взглянуть – весела ли ты, и потом идти и быть счастливымым. А ты не весела…
Луиза. Весела, весела, милый!
Фердинанд. Скажи мне правду! Ты не весела! Для меня душа твоя так же ясна, как чистая вода этого брильянта. (Показывает на свой перстень.) Тут не может появиться даже точки, чтобы я ее не заметил… ни одна мысль на этом лице не ускользнет от меня! Что с тобой? Скажи скорее! Только бы это зеркало не омрачилось – тогда нет для меня тучки в небе! Отчего ты печальна?
Луиза (смотрит на него серьезно и задумчиво, потом с грустью). Фердинанд, если бы ты знал, как лестны простой девушке такие слова!
Фердинанд. Что? (С удивлением.) Послушай, Луиза! откуда у тебя такие мысли? Ты – моя Луиза! Кто ж говорит тебе, чтобы ты была еще кем-нибудь? Так вот как встречаешь ты меня, милая обманщица! Будь ты полна любви ко мне, тебе бы и в голову не пришло делать такие сравнения! Когда я с тобой – весь рассудок мой тонет в твоем взгляде; когда я один – я в мечтах о тебе; а у тебя любовь уживается с рассуждениями. Стыдись! Каждую минуту, что ты предаешься этой тревоге, ты отнимаешь у своего милого.
Луиза (берет его за руку и качает головой). Ты хочешь утешить меня, Фердинанд, хочешь отвлечь мой взгляд от этой пропасти, в которую мне придется неминуемо пасть. Я гляжу на будущее. Голос славы – твои планы, твой отец и мое ничтожество… (Пугаясь своих слов, выпускает его руку.) Фердинанд! Меч висит над тобой и надо мной! Нас разлучат!
Фердинанд. Разлучат? (Вскакивает.) Откуда у тебя такие предчувствия, Луиза! Разлучат?.. Кто может разорвать союз двух сердец? разъединить звуки одного аккорда? Я дворянин… Пусть мне докажут, что моя дворянская родословная старше бесконечной вселенной или что мой герб важнее знаков неба в глазах моей Луизы: «Эта женщина создана для этого человека!» Я сын президента. Тем лучше. Что, кроме любви, может смягчить проклятия, которые навлечет на меня разорение страны моим отцом?
Луиза. О! как я боюсь его – твоего отца!
Фердинанд. Я ничего не боюсь – ничего, кроме конца твоей любви! Пусть горами встанут между нами препятствия – они будут мне ступенями, по которым я помчусь в объятия Луизы! Грозы враждебной судьбы во стократ усилят мои чувства; опасности лишь придадут больше прелести моей Луизе. Не говори же ничего о боязни, моя милая! Я сам, сам буду сторожить тебя, как волшебный дракон сторожит подземный клад. Доверься мне! тебе не нужно иного гения-хранителя. Я стану между тобой и роком, приму за тебя каждую рану, сберегу для тебя каждую каплю из кубка радости, принесу их тебе в чаше любви. (Нежно обнимает ее.) В этих объятиях играючи пройдет Луиза путь жизни; прекраснее, нежели какою оно отпустило тебя сюда, примет тебя небо и должно будет с изумлением сознаться, что лишь любовь придает душе окончательную огранку.
Луиза (в сильной тревоге, освобождаясь из его объятий). Довольно! Умоляю тебя, молчи!.. О! если б ты знал!.. Оставь меня! Ты знаешь, что надежды твои, как фурии, терзают мне сердце! (Хочет уйти.)
Фердинанд (удерживает ее). Луиза! Как! что? Что за странности?
Луиза. Я забыла эти грезы и была счастлива, а теперь! теперь! С нынешнего дня – конец спокойствию в моей жизни. Бурные желания – я это знаю – будут кипеть в моей груди… Уходи! Бог тебя прости! Ты зажег пожар в моем молодом, неискушенном сердце, и этому пожару никогда, никогда не угаснуть. (Быстро бежит из комнаты. Он безмолвно следует за нею.)
Явление V
Зал у президента.
Входит президент, с орденом на шее и со звездой на груди. Секретарь Вурм.
Президент. Серьезная привязанность? Мой сын? Нет, Вурм, этому я никогда не поверю!
Вурм. Прикажите, ваше превосходительство, – и я представлю доказательства.
Президент. То, что он рассыпается в комплиментах перед простой мещанкой, воркует перед ней да о чувствах толкует – это все возможно, по-моему, – и простительно. Но… И притом, ты говоришь, она дочь музыканта?
Вурм. Учителя музыки Миллера.
Президент. Хорошенькая? Впрочем, об этом и спрашивать нечего.
Вурм (с живостью). Прекраснейший экземпляр блондинки: смело можно сказать, она не ударила бы в грязь лицом и рядом с первыми придворными красавицами.
Президент (громко смеясь). Ты говоришь, Вурм, девчонка и тебе приглянулась… Только вот что, любезный Вурм, – если мой сын чувствует что-нибудь к этой девице, значит, мне можно надеяться, что дамы не будут им пренебрегать. Он может выдвинуться при дворе. Ты говоришь, девушка хороша собой; мне приятно, что у сына моего есть вкус. Если он напевает дурочке всякие обещания – тем лучше: значит, он себе на уме. Он может и в президенты попасть. А удастся ему все это – отлично! Значит, он счастлив! Окажется в развязке комедии здоровый внучок – превосходно! В честь добрых предзнаменований для моего родословного дерева я разопью лишнюю бутылку малаги и заплачу в полицию кормовые деньги за его девку.
Вурм. Я бы более всего желал, ваше превосходительство, чтобы вам не пришлось распить эту бутылку ради развлечения.
Президент (серьезно). Вурм, помни, что уж если я чему верю – то верю упорно, а если сержусь – сержусь до бешенства. Я прощаю тебе, что ты хотел раззадорить меня. От души верю, что тебе очень бы приятно спихнуть с шеи соперника. Самому тебе трудненько отвадить сына моего от этой девушки, и ты вздумал употребить вместо хлопушки отцовскую власть. Это я тоже понимаю. Я даже в восторге, что вижу в тебе такие удивительные плутовские способности… Одно только мне не нравится, любезный Вурм: что ты затеял меня обманывать. Понимаешь? Шути сколько угодно, только не затрагивай моих правил!
Вурм. Простите меня, ваше превосходительство! Если и действительно – как вы подозреваете – во мне говорит ревность, то она говорит разве глазами, а не языком.
Президент. А я думаю, ее и вовсе быть не должно. Ну, не глуп ли ты? Не все ли равно: получить червонец что прямо с монетного двора, что от банкира? Хоть бы ты со здешнего дворянства пример взял. С ведома или без ведома, но у нас редко случаются такие браки, чтобы по крайней мере полдюжины гостей – а то и лакеев – не могли всячески познать женихов рай.
Вурм (наклоняя голову). В этом случае мне приятнее оставаться в мещанстве, ваше превосходительство!
Президент. Притом ты можешь в скором времени иметь удовольствие отлично отплатить своему сопернику за его насмешку тою же монетой. У меня в кабинете лежит приказ, по которому леди Мильфорд, по случаю прибытия новой герцогини, должна получить для виду отставку и выйти для полноты обмана замуж. Ты знаешь, Вурм, в какой степени значение мое зависит от влияния леди, и как вообще важнейшие пружины моих действий опираются на страсти герцога. Герцог ищет партии для Мильфорд. На вызов может явиться другой – заключить торг, овладеть вместе с любовницей герцога его доверием, сделаться ему необходимым… Герцог должен остаться в сетях моей семьи: короче, Фердинанд женится на Мильфорд. Ясно теперь тебе?
Вурм. Так ясно, что глазам больно… По крайней мере, президент в вас легко преодолел отца. Если майор окажется настолько покорным сыном, насколько вы ему нежный отец, то ваше требование может, пожалуй, встретить протест.
Президент. К счастью, я еще никогда не боялся неуспеха в таких замыслах, где мог сказать: «так должно быть!» Ну, вот видишь, Вурм, мы опять возвратились к пункту, с которого начали. Я сегодня же объявлю сыну о предстоящем ему браке. Выражение лица, с которым он будет слушать меня, или подтвердит твое подозрение, или совершенно опровергнет его.
Вурм. Извините, ваше превосходительство! Мрачное выражение, которое вы, возможно, увидите, может относиться к предлагаемой ему невесте так же, как и к отнимаемой. Позвольте просить вас строже испытать его. Выберите для него безукоризнейшую партию во всем герцогстве, и если он согласится, сошлите хоть на каторгу вашего секретаря Вурма.
Президент (кусая губы). Черт!
Вурм. Это так! Мать ее – олицетворенная глупость – все выболтала мне в простоте душевной.
Президент (ходит взад и вперед, подавляя в себе гнев). Хорошо! Сегодня же!
Вурм. Об одном прошу ваше превосходительство: не забудьте, что майор – сын моего господина!
Президент. Тебя не тронут, Вурм!
Вурм. И что старание избавить вас от непрошеной невестки…
Президент. Стоит того, чтоб помочь и тебе добыть жену. Ладно, Вурм!
Вурм (кланяясь с довольным лицом). По гроб верный слуга вашего превосходительства. (Хочет идти.)
Президент. Смотри, Вурм, – то, что я сказал тебе недавно по секрету… (Грозит.) Если ты проболтаешься…
Вурм (смеется). То ваше превосходительство покажет мои фальшивые бумаги. (Уходит.)
Президент. В тебе-то я уверен! Ты у меня, как жук на ниточке, – на собственных своих плутнях.
Камердинер (входит). Гофмаршал фон Кальб.
Президент. Как раз кстати. Проси!
Камердинер уходит.
Явление VI
Президент. Гофмаршал фон Кальб в пышном, но безвкусном придворном костюме, с камергерским ключом, двумя часами, шпагой и chapeau bas[1], со шляпой подмышкой. Завит a la hérisson[2]. Он с большим шумом подлетает к президенту и распространяет по всему партеру запах мускуса.
Гофмаршал (обнимая президента). Ах, здравствуйте, милейший! Как спали? как почивали? Простите, что так поздно имею удовольствие… Куча дел… обеденное меню… визитные билеты… составление партий для сегодняшнего катанья на санях… Уф! А тут надо было еще присутствовать при lever[3] и донести его высочеству о состоянии погоды.
Президент. Да, маршал, вырваться было трудно.
Гофмаршал. Да еще вдобавок меня заставил ждать мошенник портной.
Президент. И несмотря на все это, вы всюду поспели молодцом?
Гофмаршал. Да это еще не все! У меня сегодня беда за бедой. Вот послушайте!
Президент (рассеянно). Возможно ли!
Гофмаршал. Вы только послушайте! Не успел я выйти из кареты, как лошади вдруг чего-то испугались, начали рвать поводья и бить копытами так, что окатили мне грязью, с позволения сказать, все панталоны. Как тут быть? Ради Бога, поставьте себя в мое положение, барон! Я стою. Уж поздно. Дело днем. Не явиться же в этом виде к его высочеству? Боже правый! Что же приходит мне в голову? Я притворяюсь, будто со мной обморок. Меня берут на руки и кладут в карету… Я во весь опор домой – переоделся – скачу назад… Что вы на это скажете? Оказывается, что я все-таки первый в приемной… Как вам это покажется?
Президент. Превосходный экспромт человеческой находчивости. Но оставим это, Кальб. Значит, вы уже говорили с герцогом?
Гофмаршал (с важностью). Двадцать с половиной минут.
Президент. Вот как! Стало быть, вы, наверное, можете сообщить мне какую-нибудь важную новость?
Гофмаршал (серьезно, после некоторого молчания). Его высочество сегодня в шубке цвета merde d’oie[4].
Президент. Скажите… Нет, маршал, нет, у меня есть новость поинтереснее. Ведь для вас, верно, будет новостью, что леди Мильфорд выходит за майора фон Вальтера?
Гофмаршал. Может ли быть? И это уже решено?
Президент. Решено и подписано, маршал, – и вы меня очень обяжете, если сейчас же отправитесь к леди, приготовите ее к визиту и разгласите по всей столице намерение моего Фердинанда.
Гофмаршал (в восторге). О, с величайшею радостью, милейший! Для меня ничего не может быть приятнее… Лечу сейчас же… (Обнимает президента.) Прощайте! Через три четверти часа весь город будет знать! (Выбегает из комнаты.)
Президент (смеется, провожая его глазами). Говори после этого, что эти господа ни на что не годны! Теперь мой Фердинанд должен согласиться, или, значит, весь город лгал. (Звонит.)
Входит Вурм.
Позвать ко мне сына!
Явление VII
Президент. Фердинанд. Вурм. Последний вскоре уходит.
Фердинанд. Вы приказали, батюшка…
Президент. К несчастью, мне приходится приказывать, когда хочется порадоваться за своего сына! – Оставь нас, Вурм! – Фердинанд, в последнее время я наблюдаю за тобой и не нахожу в тебе прежней открытой юношеской живости, которая так восхищала меня. Какая-то странная грусть не сходит с твоего лица. Ты избегаешь меня, избегаешь общества. Фи! в твои годы можно простить десять кутежей, но непростительна и одна только забота. Предоставь мне думать о твоем счастье и старайся только следовать моим предначертаниям. Подойди ко мне и обними меня, Фердинанд!
Фердинанд. Вы сегодня очень милостивы, батюшка.
Президент. Сегодня, плутишка! И еще с какой кислой гримасой говорит! (Серьезно.) Фердинанд! Для кого прокладывал я опасный путь к сердцу герцога? Для кого я навеки нарушил мир с совестью и с небом? Слушай, Фердинанд!.. Я говорю с сыном… Для кого очистил я место, уничтожив своего предшественника? Эта история тем ужаснее терзает мне сердце, чем тщательнее стараюсь я скрыть свой нож от света! Слушай! Скажи мне, Фердинанд, для кого сделал я все это?
Фердинанд (отступает в ужасе). Уж не для меня ли, батюшка? Не на меня ли должно пасть кровавое отражение этого злодеяния? Клянусь всемогущим Богом, лучше совсем не родиться, чем служить оправданием этому преступлению!
Президент. Это что? Это что такое?.. Впрочем, твоей романтической голове можно простить. Фердинанд, я не хочу сердиться! Так-то вознаграждаешь ты меня, дерзкий мальчишка, за бессонные ночи, за мои безустанные заботы, за вечные угрызения совести? На меня падает вся тяжесть ответственности – на меня проклятье, гром вышнего Судии… Тебе счастье достается из вторых рук… Преступление не пятнает наследства…
Фердинанд (поднимает правую руку к небу). Торжественно отказываюсь от наследства, которое будет только напоминать мне злодея-отца.
Президент. Послушай, юнец, не раздражай меня! Если бы все шло по-твоему – ты весь век пресмыкался бы во прахе.
Фердинанд. Все ж это лучше, батюшка, чем пресмыкаться у трона.
Президент (сдерживая гнев). Гм!.. Тебя надо насильно заставлять думать о своем счастье! Чего десятки других не могут добиться при всех усилиях, то дается тебе играючи, как во сне! На двенадцатом году ты прапорщик, на двадцатом – майор. Я обделал это у герцога. Ты снимешь военный мундир и поступишь в министерство. Герцог говорил о чине тайного советника, о месте посланника, о необыкновенных милостях. Перед тобой – чудная перспектива: гладкий путь в соседство трона, к самому трону, если только власть стоит того, чтобы ее променять на призраки власти. И это не пленяет тебя?
Фердинанд. Нет, потому что понятия мои о величии и счастье не совсем похожи на ваши. Ваше счастье основывается редко на чем-нибудь ином, кроме погибели ближнего. Зависть, страх, хула – вот печальные зеркала, в которых отражается улыбка высокого властелина. Слезы, проклятия, отчаянье – вот страшная трапеза, за которою роскошествуют эти хваленые счастливцы, из-за которой они выходят охмелевшие и так идут, как в тумане, в царство вечности, перед престол Бога… Мой идеал счастья умереннее: он заключается во мне самом. Все мои желания схоронены у меня в сердце.
Президент. Превосходно! удивительно! неподражаемо! Через тридцать лет приходится мне опять выслушивать первую лекцию! Жаль только, что пятидесятилетняя голова моя стала уж тупа для ученья. Впрочем, чтобы не оставлять в бездействии такой редкий талант, я отрекомендую тебе кой-кого, и ты можешь тогда упражняться сколько хочешь в своем арлекинском ораторстве. Ты должен решиться – сегодня же решиться – вступить в брак.
Фердинанд (отступает в изумлении). Батюшка!
Президент. Без комплиментов! Я послал от твоего имени карточку к леди Мильфорд. Ты сейчас же отправишься к ней и скажешь ей, что ты ее жених.
Фердинанд. Мильфорд, батюшка?
Президент. Надеюсь, ты знаешь ее!
Фердинанд (вне себя). Да есть ли позорный столб в герцогстве, который бы не знал ее? Но, не правда ли, я смешон, батюшка, что принимаю шутку вашу за дело? Захотите ли вы быть отцом подлецу-сыну, соединяющему судьбу свою с привилегированной прелестницей?
Президент. Напротив! Я и сам посватался бы за нее, будь ей годен пятидесятилетний муж. Захотел бы ты быть сыном подлеца-отца?
Фердинанд. Нет! видит Бог – нет!
Президент. Клянусь, эту дерзость можно простить разве только ради ее оригинальности!
Фердинанд. Умоляю вас, батюшка, не оставляйте меня в этом сомнении: при нем мне невыносимо называться вашим сыном!
Президент. Да ты с ума сошел! Всякий благоразумный человек стал бы добиваться чести занять таким образом место своего государя.
Фердинанд. Вы становитесь для меня загадкой, батюшка. Вы называете это честью – честью разделять с государем то, в чем и он перестает быть человеком?
Президент разражается смехом.
Смейтесь, смейтесь! Оставим даже это в стороне, батюшка! С каким лицом покажусь я самому жалкому ремесленнику, который за своею женою взял в приданое по крайней мере неопозоренное тело! С каким лицом покажусь я в свете! Герцогу! С каким лицом явлюсь перед прелестницей, которая омоет в моем позоре пятно своей чести!
Президент. Где это ты разглагольствовать на-учился?
Фердинанд. Заклинаю вас небом и землею, батюшка! Эта гибель вашего единственного сына не сделает вас настолько счастливым, насколько он будет несчастен. Возьмите мою жизнь, если это может возвысить вас! Жизнь получил я от вас, и, не колеблясь ни минуты, я готов пожертвовать ею вашим успехам. Но честь мою, батюшка! Если вы отнимете у меня честь, то и дать мне жизнь было легкомысленной подлостью – и я буду проклинать в отце сводника.
Президент (ласково треплет его по плечу). Браво, браво, мой милый! Теперь я вижу, что ты вполне молодец и стоишь лучшей невесты во всем герцогстве. Так и будет! Сегодня же в полдень ты обручишься с графинею Остгейм.
Фердинанд (в новом изумлении). Этому часу назначено окончательно сокрушить меня!
Президент (подозрительно глядя на него). Надеюсь, против этого нечего возмущаться твоей чести.
Фердинанд. Да, батюшка, Фредерика Остгейм могла бы составить счастье всякого другого. (Про себя в крайнем смущении.) Что оставила в моем сердце нетронутым его злоба, то разрывает теперь его доброта.
Президент (не спуская с него глаз). Я жду твоей благодарности, Фердинанд!
Фердинанд (бросается к нему и с жаром целует у него руку). Батюшка, ваша милость воспламеняет все мои чувства! Батюшка, горячо благодарю вас за вашу сердечную заботу обо мне! Ваш выбор безукоризнен… но… я не могу… я не смею… сжальтесь надо мной… я не могу любить графиню!
Президент (отступая шаг назад). Ага! Теперь я поймал молодца! Так на эту удочку ты поддался, хитрый притворщик? Значит – дело вовсе не в чести, что ты отказываешься от леди? Значит, тебе противна не невеста, а самый брак?
Фердинанд стоит сначала в оцепенении, потом срывается с места и хочет уйти.
Куда? Стой! Этак-то ты уважаешь отца?
Майор возвращается.
Леди извещена о твоем визите. Я дал слово герцогу. Все в городе и при дворе знают об этом. Если ты сделаешь меня лжецом перед герцогом, перед леди, перед светом, лжецом в глазах двора… смотри, Фердинанд!.. Или если я проведаю про какие-нибудь истории… Ага! что это вся краска исчезла вдруг с твоих щек?
Фердинанд (бледный, как снег, дрожащим голосом). Как? что? Я – ничего, батюшка!
Президент (останавливая на нем грозный взгляд). А если это не ничего, и я найду причину твоего упорства?.. О! уж одно только подозрение приводит меня в бешенство! Иди сию же минуту! Вахтпарад начинается. Ты будешь у леди тотчас после пароля. Стоит мне захотеть, и дрогнет все герцогство! Посмотрим, как-то сломит меня упрямый сын! (Идет и еще раз возвращается.) Слышишь! ты будешь там, или берегись моего гнева! (Уходит.)
Фердинанд (приходя в себя после оцепенения). Ушел? И это был голос отца! Да! я поеду к ней, поеду, выскажу ей все… покажу ей ее, как в зеркале… Презренная! И если ты и тут захочешь моей руки, ничтожная… пред лицом всего дворянства, войска и народа… вооружись ты всею гордостью своей Англии… я отвергну тебя – я, молодой немец! (Быстро уходит.)
Второе действие
Зал во дворце леди Мильфорд. Направо – софа, налево – фортепиано.
Явление I
Леди в простом, но изящном утреннем костюме с распущенными, еще не завитыми волосами, сидит за фортепиано и фантазирует. Софи, камеристка, подходит к ней от окна.
Софи. Офицеры расходятся! Парад кончился… Но Вальтера еще не видать!
Леди (в сильном беспокойстве, встает и проходит по комнате). Я не знаю, что со мною сегодня, Софи. Никогда еще со мною этого не было. Так ты его совсем не видала? Впрочем, ему нечего торопиться… Это давит мне грудь, как преступление… Поди, Софи, – вели оседлать мне самую бешеную лошадь, какая только есть на конюшне. Мне надо на простор – увидеть людей, ясное небо. Может быть, будет легче на сердце.
Софи. Если вы чувствуете себя не совсем хорошо, миледи, назначьте прием сегодня у вас. Пусть герцог обедает здесь или сядет за карты перед вашей софой! Будь у меня в распоряжении герцог и весь его двор – да я бы и не подумала никогда скучать!
Леди (бросаясь на софу). Прошу, пощади меня! Я готова платить тебе по брильянту за каждый час, только бы они не мозолили мне глаза! Не меблировать же мне комнаты этим народом?.. Все это дрянные, жалкие люди: их берет ужас, когда у меня срывается с языка теплое, сердечное слово; они раскрывают рты и поднимают носы, словно привидение увидали… Это рабы-марионетки на проволоке, которой мне легче управлять, чем шить или вязать. Что мне за дело до этих людей? У них и душа-то заведена на один лад, как часы. Мне не может быть удовольствия спрашивать их о чем-нибудь: ведь я заранее знаю, что мне они ответят. Могу ли я обмениваться с ними словами, когда у них не хватает смелости быть иного мнения, чем я? Прочь их! Досадно и на лошадь, если она никогда не закусывает удила. (Подходит к окну.)
Софи. Но уж герцога-то вы исключите из этого числа, миледи! Мужчины более красивого, любовника более пламенного, человека более умного не найти во всем его герцогстве.
Леди (возвращается). Оттого, что это его герцогство, и только герцогский сан, Софи, – может служить слабым извинением моему выбору. Ты говоришь, мне завидуют. Бедная! Меня следовало бы скорее жалеть. Из всех, кого питает трон, никто не кончает так грустно, как фаворитка: ее судьба похожа разве на судьбу великого и богатого человека, которому пришлось взяться за нищенскую клюку. Правда, талисманом своего величия он может вызвать из земли, как волшебный дворец, все, чего запросит мое сердце. Он ставит передо мною на стол дары обеих Индий; он создает эдемы в пустынях; по его мановению родники из земли взлетают под облака гордыми водометами… или вспыхивает в пышном фейерверке пот и кровь его подданных… Но может ли он приказать своему сердцу биться могучим и огненным биеньем около могучего, пламенного сердца? Может ли он отдать свою скудную душу одному прекрасному чувству? Сердце мое томится голодом при всем этом избытке наслаждений; и что мне в тысяче лучших чувств, если я обречена лишь утолять похоть!
Софи (смотрит на нее с удивлением). Давно уже служу я вам, миледи…
Леди. А узнала меня только сегодня! Да, это правда, Софи. Я продала герцогу свою честь; но сердце свое сохранила я свободным – сердце, милая Софи, которое может быть еще достойно любви. Заразительный воздух двора коснулся его лишь, как дыханье касается зеркала. Верь мне, милая, что этот жалкий герцог давно бы сделал меня первою дамой при дворе, если бы только пожелало того мое честолюбие.
Софи. А это сердце очень уж повиновалось честолюбию?
Леди (с живостью). Будто оно не довольно уж мстило за себя? Не мстит и теперь? Софи! (Серьезно, опуская руку на плечо Софи.) У нас, женщин, только один выбор – повелевать или служить; но и высшее наслаждение властью – лишь жалкое утешение, когда мы лишены самой высшей радости – быть рабами любимого человека.
Софи. Эту истину я желала бы слышать от вас в последний раз, миледи.
Леди. Отчего, Софи? Глядя на детское неуменье наше держать скипетр, как не подумать, что мы годимся лишь для помочей? Иль ты не замечала, что этим капризным легкомыслием, этими безумными удовольствиями я хотела заглушить бурные желания своего сердца?
Софи (отступая в изумлении). Миледи!
Леди (с еще большим одушевлением). Удовлетвори их! Дай мне человека, о котором я теперь думаю, которого боготворю… Ах, Софи! или умереть, или обладать им! (Замирающим голосом.) Дай мне услышать из его уст, что слезы любви в наших глазах блещут прекраснее всех брильянтов в наших волосах (пламенно), и я брошу к ногам герцога и его сердце, и его герцогство и убегу с этим человеком, убегу в самую далекую пустыню на земном шаре…
Софи (смотрит на нее в испуге). Боже мой! Что вы? Что с вами, миледи?
Леди (в смущении). Ты бледнеешь?.. Уж не сказала ли я чего лишнего?.. О, так пусть же моя доверчивость наложит молчание на твой язык. Выслушай больше – выслушай все!..
Софи (робко озирается). Я боюсь, миледи, – боюсь… зачем мне это знать?
Леди. Брак с майором… и ты, и свет – вы ошибаетесь, думая, что это придворная интрига. Софи, не красней – не стыдись меня: это дело моей любви!
Софи. Боже мой! Я это предчувствовала!
Леди. Их было нетрудно уговорить, Софи. Слабодушный герцог, хитрый придворный Вальтер, дурак маршал… каждый из них готов присягнуть, что этот брак – самое действительное средство сохранить меня для герцога, упрочить нашу связь… Нет! навеки разорвать ее! навеки разбить эти позорные цепи! Вас самих обманули, обманщики! Слабая женщина перехитрила вас! Вы сами соединяете меня с моим милым! Ведь я этого только и хотела… Только бы он был мой… и тогда прощай навеки, отвратительное величие!
Явление II
Входит старый камердинер герцога со шкатулкой в руках.
Камердинер. Его высочество герцог приказал кланяться миледи и прислал ей на свадьбу эти брильянты. Они только что получены из Венеции.
Леди (открывает шкатулку и отступает в испуге). Слушай, что заплатил твой герцог за эти камни?
Камердинер (мрачно). Они не стоят ему ни гроша.
Леди. Как! Ты с ума сошел? Ничего! Но ты (отступает от него шаг назад) – ты смотришь на меня так, будто хочешь пронзить меня насквозь своим взглядом. И эти дорогие камни, которым нет цены, ничего не стоят ему?
Камердинер. Вчера семь тысяч человек отправилось в Америку… те все заплатят!
Леди (тотчас же ставит шкатулку и начинает быстро ходить по залу; потом, после некоторого молчания, обращается к камердинеру). Старик! что с тобой: ты никак плачешь?
Камердинер (вытирает глаза и говорит глухим голосом, дрожа всем телом). Эти брильянты… И моих сыновей двое на них пошло…
Леди (отворачивается в тревоге и хватает его руку). Но не поневоле?
Камердинер (с горьким смехом). Боже мой!.. Нет – все по доброй воле!.. Правда, вышли двое-трое молодцов посмелее перед фронтом и спросили полковника, почем продает герцог пару людей. Но милостивый наш принц велел выступить на плацпарад всем полком и расстрелять крикунов. Мы слышали, как грянули ружья, видели, как брызнул на мостовую мозг, – и вся армия крикнула: «Ура! в Америку!»
Леди (в ужасе опускается на софу). Боже мой! Боже мой! А я ничего не слыхала! Не замечала!
Камердинер. Так-то, сударыня! Напрасно поехали вы с нашим герцогом на медвежью травлю как раз как ударили сбор к выступлению. Жаль, что вы это торжество пропустили, когда гром барабанов нам возвестил, что пора. Там сироты с воем догоняли живого отца, а тут бежала, как обезумев, мать, чтобы пропороть штыками своего грудного младенца; невест и женихов отгоняли друг от друга сабельными ударами; в отчаянии стояли седые старики и кидали под конец вслед детям свои костыли: возьмите, мол, и их в Америку!.. А барабаны-то со всех сторон трещали, чтобы Господь всеведущий не услыхал наших молитв.
Леди (встает в сильном волнении). Прочь эти камни! Они жгут адским огнем мое сердце! (Кротко камердинеру.) Успокойся, бедный старик! Они возвратятся. Они опять будут на родине.
Камердинер (с чувством). Богу это известно! Да! будут!.. Они еще у городских ворот обернулись и кричали: «Бог вас храни, жены и дети! Да здравствует наш герцог!.. На Страшном суде свидимся!»
Леди (ходит большими шагами взад и вперед по комнате). Ужасно! бесчеловечно!.. А мне говорили, что я осушила здесь все слезы!.. Страшно, страшно открываются у меня глаза. Ступай, скажи своему господину – я поблагодарю его лично! (Камердинер хочет идти. Она кладет ему в шляпу кошелек с деньгами.) Вот тебе за то, что ты сказал мне правду.
Камердинер (с презрением бросает кошелек на стол). Положите его к остальным. (Уходит.)
Леди (глядит с изумлением ему вслед). Софи, беги за ним! спроси, как его зовут! Сыновья возвратятся к нему!
Софи уходит.
(Леди ходит задумавшись. Молчание. К возвращающейся Софи.) Не правда ли, недавно говорили, что пожар истребил один город на границе, и около четырехсот семейств пошло по миру? (Звонит.)
Софи. Как вы это вспомнили? Это точно правда; и большая часть этих несчастных теперь в кабале у своих кредиторов или пропадает в шахтах герцогских серебряных рудников.
Слуга (входит). Что прикажете, миледи?
Леди (отдает ему брильянты). Сейчас же отнеси это в банк! Сказать, что я приказала немедленно превратить это в деньги и раздать их четыремстам несчастным, потерпевшим от пожара.
Софи. Подумайте, миледи, какой немилости можете вы подвергнуться!
Леди (с достоинством). А, по-твоему, мне лучше носить на голове проклятие его страны? (Делает знак слуге.)
Тот уходит.
Или ты хочешь, чтобы я упала под страшным бременем человеческих слез? Да, Софи! Лучше носить в волосах фальшивые алмазы, а в сердце сознание такого поступка.
Софи. Но такие камни! Что бы вам взять прежние, похуже! Нет, право, миледи, этого вам простить нельзя.
Леди. Глупая! за это в одну минуту дается мне больше брильянтов и жемчугу, чем могут насчитать десять королей у себя в коронах, и более ценных…
Слуга (возвращается). Майор фон Вальтер.
Софи (кидается к леди). Боже мой! Вы побледнели.
Леди. Это первый человек, которого я страшусь, Софи! Эдуард, скажи, что мне нездоровится… Подожди!.. Что, как он? Весел? Что говорит? Ах, Софи! Не правда ли, я сегодня ужасно выгляжу?
Софи. Ради бога, миледи…
Слуга. Прикажете отказать?
Леди (нерешительно). Нет, проси!
Слуга уходит.
Говори, Софи!.. Что мне сказать ему? Как принять его?.. Я буду нема… Он будет смеяться над моей слабостью… Он будет… О! какое ужасное предчувствие!.. Ты оставляешь меня, Софи? Останься! Нет!.. Иди!.. Нет, останься!
Майор показывается в дверях.
Софи. Придите в себя! Он уже здесь.
Явление III
Фердинанд фон Вальтер. Те же.
Фердинанд (с легким поклоном). Не беспокою ли я вас, миледи?
Леди (в заметном смущении). Нимало, господин майор. Я очень рада…
Фердинанд. Я явился по приказанию моего отца.
Леди. Очень благодарна ему.
Фердинанд. И должен объявить вам, что мы жених и невеста… Таково поручение отца.
Леди (бледнеет и дрожит). А что говорит вам ваше сердце?
Фердинанд. Министры и сводники никогда не справляются с сердцем.
Леди (в тревоге, через силу). А вам самим нечего прибавить к поручению?
Фердинанд (бросая взгляд на Софи). Очень много, миледи.
Леди (делает знак Софи; та удаляется). Не угодно ли вам сесть сюда, на софу?
Фердинанд. Моя речь будет недолга, миледи.
Леди. Я слушаю.
Фердинанд. Я человек честный.
Леди. И я умею ценить вас.
Фердинанд. Я дворянин.
Леди. Лучший в герцогстве.
Фердинанд. И офицер.
Леди (льстиво). Вы касаетесь достоинств, которые разделяют с вами и другие. Зачем умалчиваете вы о лучших ваших качествах, в которых нет вам равных?
Фердинанд (холодно). Здесь они мне не нужны.
Леди (с возрастающим беспокойством). Как понимать мне это предисловие?
Фердинанд (медленно и выразительно). Примите его за протест чести, если у вас есть охота насильно соединить свою судьбу с моей.
Леди (вскакивая). Что это значит, господин майор?
Фердинанд (небрежно). Голос моего сердца, моего герба и этой шпаги!
Леди. Эту шпагу дал вам герцог.
Фердинанд. Рукою герцога дало мне ее государство… Сердце мое дал мне Бог… Мой герб – целые пять столетий.
Леди. Имя герцога…
Фердинанд (запальчиво). Не может же герцог извращать законы человечества или чеканить поступки, как монету? Он сам стоит не выше чести, но может зажать ей рот своим золотом. Он может прикрыть свой стыд горностаевой мантией. Прошу вас, миледи, оставим этот предмет. Речь уж не о забвении составленных планов, не о предках, не об этом темляке, не о мнении света! Я готов попрать все это, только бы вы убедили меня, что награда не хуже самой жертвы!
Леди (отходя от него, скорбно). Господин Вальтер, этого я не заслужила!
Фердинанд (схватывает ее руку). Простите! Мы говорим здесь без свидетелей. Обстоятельство, которое свело нас – в первый раз, – дает мне право, вынуждает меня не скрывать от вас заветного моего чувства. Я никак не могу понять, миледи, чтобы женщина с такой красотой, с таким умом – качествами, которые оценил бы всякий достойный человек, – могла отдаться принцу, который сумел оценить в ней лишь ее пол. И эта женщина не стыдится предлагать свое сердце…
Леди (глядя ему прямо в глаза). Договаривайте!
Фердинанд. Вы называете себя британкой! Извините меня – я не могу поверить, чтобы вы были британка, свободно рожденная дочь самого свободного народа в мире – народа, который так горд, что не благоговеет и перед чужою доблестью, которая не может наняться служить чужому пороку! Не может быть, чтобы вы были британка!.. или сердце этой британки настолько же мелко, насколько смела и благородна кровь, текущая в жилах Британии!
Леди. Вы закончили?
Фердинанд. Можно, пожалуй, ответить, что это женская суетность, страсть, горячий темперамент, жажда удовольствий. Не раз случалось, что добродетель переживала честь. Не раз женщины, позорно вступавшие на эту дорогу, примиряли с собою свет благородными делами и облагораживали отвратительное ремесло хорошим его употреблением… Но отчего же здесь такой страшный гнет на всей стране? Прежде его не было. Я говорил от лица герцогства. Я кончил.
Леди (кротко, но с достоинством). Вы первый, Вальтер, решились обратиться ко мне с такими словами, и вы единственный человек, которому я на них отвечу. Вы отвергаете мою руку – и я уважаю вас за это! Вы хулите мое сердце – это я прощаю вам! Но я не верю вам, чтобы вы говорили серьезно. Решаясь обращаться с такими оскорблениями к женщине, которой довольно одного слова, чтобы погубить вас навеки, надо предположить в этой женщине высокую душу или – быть безумцем. Что разорение страны взваливаете вы на мои плечи – да простит вам Господь всемогущий, который некогда рассудит и вас, и меня, и герцога. Но вы обратили ваш вызов ко мне как англичанке, а на подобные упреки должно отвечать вам мое отечество.
Фердинанд (опершись на шпагу). Любопытно послушать!
Леди. Так выслушайте же то, чего, кроме вас, не доверяла я никому никогда и никогда не доверю ни единому человеку! Я не искательница приключений, какою вы меня считаете, Вальтер! Я могла бы хвастливо сказать вам, что я знатного происхождения – из рода несчастного Томаса Норфолка, павшего жертвою за шотландскую Марию. Отца моего, старшего камергера при короле, заподозрили в изменнических сношениях с Францией; парламент приговорил его, и ему отрубили голову. Все наши имения отобрали в казну. Нас самих изгнали из родной земли. Мать моя умерла в самый день казни. Я – тогда четырнадцатилетняя девочка – бежала в Германию со своей воспитательницей, с ящичком драгоценностей и с этим наследственным крестом, который умирающая мать моя надела мне на шею с последним своим благословением.
Фердинанд задумывается и устремляет на леди глаза с большим сочувствием.
(Леди продолжает с возрастающим волнением.) Больная, без имени, без помощи и средств, чужестранка и сирота, приехала я в Гамбург. Я ничему не училась; знала лишь немножко по-французски, умела немножко вязать да немножко играть на фортепиано. Зато привыкла есть на серебре и золоте, спать под атласными покрывалами, одним знаком руки рассылать десятки слуг и слушать лесть великих мира сего. Я проплакала шесть лет. Последняя брильянтовая брошка исчезла. Воспитательница моя умерла. А тут как нарочно судьбе нужно было привести в Гамбург вашего герцога. Я гуляла тогда по берегам Эльбы, смотрела на реку и только что принялась думать, что глубже: эта ли река или мое горе, – как герцог увидал меня, стал следить за мной, отыскал мою квартиру, упал к моим ногам и клялся, что любит меня. (Приостанавливается в сильной тревоге, потом продолжает со слезами в голосе.) Картины моего счастливого детства воскресли передо мной во всем их обольстительном блеске… Черной могилой казалось мне мое безутешное будущее… Сердце мое пламенно просило другого сердца… И я припала к его сердцу. (Убегая от него.) Теперь осуждайте меня!
Фердинанд (сильно встревоженный, бросается к ней и останавливает ее). Миледи! Боже мой! Что я слышу! Что я наделал?.. Мне самому ужасна моя дерзость! Я не могу ждать от вас прощения!
Леди (возвращается, стараясь собраться с духом). Слушайте дальше! Правда, герцог овладел моей беззащитной молодостью… но кровь Норфолков возмутилась во мне. «Эмилия! – говорил мне мой внутренний голос, – в тебе течет королевская кровь, а ты наложница герцога!» Гордость боролась у меня в душе с моею судьбой, когда герцог привез меня сюда, и глазам моим сразу явилось ужаснейшее зрелище… Сластолюбие великих этого мира – ненасытная гиена, в неутомимом голоде вечно ищущая себе добычу. Оно уже страшно свирепствовало в этой стране: разлучало женихов и невест, разрывало даже священные узы брака; здесь оно подтачивало скромное счастье семьи, там проникало тлетворной заразой в молодое, неопытное сердце – и умирающие ученицы, с пеной на устах, в последних судорогах проклинали своего учителя. Я встала между агнцем и тигром, потребовала от него в минуту страсти торжественной клятвы – и эти бесчеловечные жертвы прекратились.
Фердинанд (в сильнейшей тревоге быстро ходит по залу). Довольно, миледи! довольно!
Леди. Печальный период этот сменился еще более печальным. И двор, и сераль наполнились исчадиями Италии. Ветреные парижанки играли страшным скипетром, и народ истекал кровью от их прихотей. Царству их был положен конец! Я видела их жалкое падение: я была больше всех их кокетка! Я взяла бразды у тирана, разомлевшего в моих объятиях. Отечество ваше, Фердинанд, впервые почувствовало над собой человеческую руку – и доверчиво склонилось ко мне на грудь.
Молчание.
(Она страстно глядит на него.) Боже мой! и перед единственным человеком, мнением которого я дорожу, я принуждена хвастаться и сжигать свою скромную заслугу на огне изумления! Вальтер! я отворяла темницы, разрывала смертные приговоры и сократила не одну страшную вечность каторги. В неизлечимые раны лила я, по крайней мере, утоляющий бальзам; я повергала во прах могучих преступников и своею слезой наложницы спасала не раз проигранное дело невинности. О, Вальтер! как отрадно было мне это! С какою гордостью могло опровергать мое сердце всякое обвинение моего царственного происхождения! И вдруг является человек, который один должен был бы вознаградить меня за все это, – человек, созданный моею истощенной судьбой, может быть, взамен пережитых мною страданий, – человек, которого я уже в грезах обнимала с палящею страстью…
Фердинанд (глубоко потрясенный, прерывает ее). Довольно! Это уж слишком! Это против уговора, миледи! Вы должны были оправдать себя от обвинений – и делаете меня преступником. Пощадите, умоляю вас, пощадите мое сердце! его терзают стыд и жгучие угрызения совести.
Леди (крепко сжимая его руку). Теперь или никогда! Долго выдерживала я, как героиня… Но ты должен же почувствовать тяжесть этих слез! (Нежно.) Послушай, Вальтер. Неужели в минуту, когда несчастная, в непреодолимом, всемогущем влечении к тебе, прижмется к тебе грудью, полною пламенной, неистощимой любви, – неужели, Вальтер, ты и тут произнесешь холодное слово – честь? Когда эта несчастная, подавленная чувством своего позора, отвращаясь от порока, героически восставая на зов добродетели, бросится вот так в твои объятия (обнимает его; потом торжественно, умоляющим голосом) и захочет, чтобы ты спас ее – возвратил ее к небу, неужели (отворачивается от него; потом глухим, дрожащим голосом) – неужели ей бежать, от твоего образа и, повинуясь страшному голосу отчаяния, ринуться опять в еще более ужасный омут порока?
Фердинанд (в сильном смущении, стараясь вырваться из ее объятий). Нет, клянусь всемогущим Богом – мне не выдержать этого! Миледи, я должен… небо и земля требуют этого от меня, я должен вам признаться, миледи!..
Леди (убегая от него). Не теперь, не теперь – умоляю вас всем, что для вас свято! В эту минуту сердце мое и без того окровавлено тысячью ударов. Будь это решение на жизнь и смерть – я не могу, я не хочу его слышать.
Фердинанд. Нет-нет, миледи, вы должны выслушать. Мое признание уменьшит в ваших глазах мою вину и будет теплым ходатайством за прошедшее. Я обманулся в вас, миледи; я ожидал, я желал найти вас достойной моего презрения. Я пришел сюда с твердым решением оскорбить вас и заслужить вашу ненависть. Если бы предположение мое удалось, это было бы счастье для нас обоих. (После некоторого молчания, тише и застенчивее.) Я люблю, миледи, – люблю простую девушку, Луизу Миллер, дочь одного музыканта.
Леди бледнеет и отворачивается от него.
(Он продолжает с большим одушевлением.) Я знаю, чтó меня ждет; но если бы благоразумие и заставило умолкнуть страсть, тем громче заговорил бы долг. Я – виноват. Я первый нарушил золотой мир ее невинности, баюкал ее сердце дерзкими надеждами и коварно вовлек в пекло бурной страсти. Вы напомните мне мое состояние, мое рождение, правила моего отца – но я люблю! Моя надежда тем смелее, чем глубже разлад между природой и приличиями. Мое решение и предрассудок! Посмотрим, что победит – предубеждение или человечность!
Леди между тем удалилась в глубину комнаты и закрыла лицо руками.
(Он подходит к ней.) Вы хотели мне что-то сказать, миледи?
Леди (тоном глубочайшей скорби). Ничего, господин фон Вальтер. Ничего. Разве то, что вы губите и себя, и меня, и еще третью.
Фердинанд. И еще третью?
Леди. Мы не можем быть счастливы друг с другом; но мы должны пасть жертвой поспешности вашего отца. Никогда не владеть сердцем человека, который лишь поневоле отдал мне свою руку.
Фердинанд. Поневоле, миледи? отдал поневоле? но все-таки отдал? И вы можете требовать руки без сердца? Вы можете отнимать у бедной девушки человека, в котором для этой девушки заключен весь мир? Отнимать эту девушку у человека, весь мир которого заключен в ней? Вы, миледи, – за минуту перед тем достойная удивления британка, – вы готовы на это?
Леди. Я должна. (Серьезно и выразительно.) Страсть моя, Вальтер, уступает моей нежности к вам. Честь моя не может сделать такой уступки. Все герцогство говорит о нашем браке. На меня направлены все глаза, все стрелы насмешки. Ничем не смыть моего позора, если подданный герцога отвергнет меня. Боритесь со своим отцом. Защищайтесь, насколько у вас есть силы. Я взорву все мины. (Быстро уходит.)
Майор остается в оцепенении. Пауза. Потом он быстро убегает в главную дверь.
Явление IV
Комната музыканта. Входят Миллер, госпожа Миллер и Луиза.
Миллер (поспешно входя в комнату). Я наперед сказал.
Луиза (кидается к нему в испуге). Что такое, батюшка? Что такое?
Миллер (бегая взад и вперед, как помешанный). Мой парадный кафтан сюда – живо! Я должен предупредить его… и белую манишку! Мне это тотчас же пришло в голову.
Луиза. Ради Бога! что такое?
Жена. Да что случилось? Что такое?
Миллер (бросает ей свой парик). Скорей к парикмахеру! Что случилось? (Подбегает к зеркалу.) И борода опять уже, как щетка. Что случилось? что еще случится, чертова кукла? Все пошло вверх дном! Уже не сносить тебе головы.
Жена. Вот он всегда так! уж сейчас все и на меня.
Миллер. На тебя? Да, проклятая трещотка! А на кого же? Давеча тоже со своим дьявольским бароном… Не сказал я тогда же? Вурм все выболтал.
Жена. Ты-то почем знаешь?
Миллер. Я почем знаю? Поди-ка! там у дверей торчит посланный от министра.
Луиза. Я погибла!
Миллер. Уж и ты-то со своими сладкими глазками! (Злобно смеется.) Уж это так: у кого черт снесет в хозяйстве яичко, у того славная дочка родится. Теперь дело ясно.
Жена. Да почем ты знаешь, что о Луизе дело? Может, тебя рекомендовали герцогу, может, он тебя в оркестр хочет?
Миллер (хватает свою палку). Чтобы тебя громом разразило! В оркестр! да, в такой оркестр, где ты, сводня, будешь дискантом выть, а моя синяя задница будет контрабасом. (Бросается в кресло.) Боже милостивый!
Луиза (садится бледная, как смерть). Матушка, батюшка, почему это мне вдруг страшно стало?
Миллер (вскакивает опять со стула). Только бы мне попалась в лапы эта чернильная душа! Только бы он мне попался! На этом ли свете, или в будущем – уж выколочу я ему и тело и душу! Все десять заповедей, все семь прошений из «Отче наш» и все Книги Моисеевы и всех пророков выпишу ему на шкуре так, что синяки не заживут до самого светопреставления!
Жена. Да, ругайся, кричи! пуще всего этим поможешь. Господи, спаси нас, грешных! Куда нам теперь деться? Что делать? Что начать? Да говори же ты, Миллер! (С воем бегает по комнате.)
Миллер. Сейчас же иду к министру. Я первый заговорю – сам ему все скажу. Ты прежде меня знала. Могла бы мне сказать. Можно бы еще девку уговорить. Было еще время. Так нет! Помаклерить нам надо было – в мутной водице рыбу половить! Вот и наделала дела. Теперь сама и береги свою шкуру. Жри, что наклянчила. Я возьму дочь и марш с ней за границу!
Явление V
Фердинанд фон Вальтер вбегает в испуге и запыхавшись. Те же.
Фердинанд. Был здесь отец?
Луиза (вскакивает в ужасе). Его отец! Всемогущий Боже!
Жена (всплескивает руками). Президент? Пропали мы!
Миллер (злобно хохочет). Слава Богу, слава Богу! Вот нам и развязка!
Фердинанд (бросается к Луизе и крепко сжимает ее в объятиях). Ты моя, хотя бы ад и небо встали между нами!
Луиза. Судьба моя решена… Говори! Ты произнес ужасное имя… Твой отец…
Фердинанд. Ничего, ничего! все улажено! Ведь ты опять со мною. Ведь я опять с тобою! О, дай мне отдохнуть на твоей груди! Это были страшные минуты.
Луиза. Какие? Ты убиваешь меня.
Фердинанд (отступает и многозначительно смотрит на нее). Минуты, Луиза, когда между моим сердцем и тобою встало постороннее лицо; когда моя любовь побледнела перед моею совестью; когда Луиза перестала быть всем для своего Фердинанда.
Луиза закрывает лицо руками и опускается в кресло.
(Фердинанд быстро подходит к ней; безмолвно стоит перед нею, пристально на нее глядя; потом вдруг отходит от нее, в сильной тревоге.) Нет! никогда! невозможно, миледи! это уж слишком. Я не могу принести тебе в жертву это невинное существо! нет! клянусь всемогущим Богом! Я не могу нарушить своей клятвы. Громом небесным звучит она мне из этих смежающихся глаз! Миледи, взгляните! Взгляните, кровожадный отец! И мне убить этого ангела, зажечь адским огнем эту небесную грудь? (Решительно подходит к Луизе.) Я поведу ее к престолу небесного Судии, и он, предвечный, скажет мне – была ли моя любовь преступлением. (Берет ее за руку и подымает с кресла.) Ободрись, моя милая! Ты одержала верх: я возвращаюсь победителем из опаснейшей битвы!
Луиза. Нет, нет! Не скрывай от меня ничего! Произнеси страшный приговор! Ты назвал своего отца, назвал леди. Смертный трепет овладевает мной. Говорят, она выходит замуж.
Фердинанд (падает к ногам Луизы). За меня, несчастная!
Луиза (после некоторого молчания тихим, дрожащим голосом, с ужасающим спокойствием). Что же? Чего я испугалась? Ведь старик-отец не раз говорил мне это; а я все не хотела ему верить.
Молчание.
(Она с громким плачем кидается в объятия отца.) Батюшка! дочь твоя опять с тобою! Прости меня, батюшка! Виновато ли твое дитя, что этот сон был так прекрасен и так ужасно пробуждение?
Миллер. Луиза! Луиза! Боже мой, она вне себя! Дочь моя, бедное мое дитятко! Будь проклят, соблазнитель! Будь ты проклята, сводня!
Жена (с воплем кидается к Луизе). Заслужила ли я это проклятие, моя Луиза? Бог да простит вас, барон! За что вы убиваете эту овечку?
Фердинанд (быстро подходит к ней, с решимостью). Но я сломлю его интриги, разорву все эти железные цепи предрассудка; мой выбор будет выбором свободного человека, и эти мелкие души исчезнут в исполинском подвиге моей любви. (Хочет идти.)
Луиза (с трепетом встает и идет за ним). Останься, останься! Куда ты? Батюшка, матушка! в эту ужасную минуту он нас покидает!
Жена (бежит за ним и хватает его за платье). Сюда приедет президент, он будет грубо обращаться с нашей дочерью, с нами, а вы оставляете нас, господин Вальтер!
Миллер (смеется в бешенстве). Оставляет… А что ж? Отчего бы и нет? Ведь она все ему отдала! (Одною рукою хватает майора, а другою Луизу.) Потерпите, барон! Разве только через нее выйдешь ты из моего дома. Подожди сначала ты своего отца, если ты не подлец! Расскажи ему, как ты вкрался в это сердце, обманщик, или, клянусь Богом, сначала (толкает к нему дочь; потом громко и неистово) ты раздавишь эту несчастную, которую любовь твоя обрекла на такой позор!
Фердинанд (возвращается и ходит взад и вперед в глубокой задумчивости). Правда, власть президента велика. Права отца – громкое слово. Под ним может притаиться и преступление. Далеко может оно повести, далеко. Но к крайней цели ведет лишь любовь. Ко мне, Луиза! вложи свою руку в мою! (Крепко жмет ей руку.) Так же, как Бог не оставит меня при последнем издыхании, клянусь, что минута, которая разъединит наши руки, разорвет и нить, связующую меня с миром.
Луиза. Мне становится страшно. Не смотри на меня! Губы твои дрожат; в глазах такой страшный блеск!
Фердинанд. Нет, Луиза, не дрожи! Не безумие говорит моими устами: это драгоценный дар небес, решение в важную минуту, когда стесненная грудь может облегчить себя лишь неслыханным усилием. Я люблю тебя, Луиза, ты будешь моею! Теперь к отцу! (Быстро идет к дверям и сталкивается в них с президентом.)
Явление VI
Президент со слугами. Те же.
Президент (входя). Он уже тут?
Все в испуге.
Фердинанд (отступая на несколько шагов). В доме невинности.
Президент. Где сын научится быть покорным отцу!
Фердинанд. Оставьте нас…
Президент (прерывая его, Миллеру). Ты отец?
Миллер. Я музыкант Миллер.
Президент (к его жене). Ты мать?
Жена. Да, да! мать.
Фердинанд (Миллеру). Отец, уведи дочь! она того и гляди упадет в обморок.
Президент. Излишняя забота! Мы ее приведем в чувство. (Луизе.) Давно ли ты знакома с президентским сыном?
Луиза. Я не спрашивала, кто он такой. Фердинанд Вальтер ходит ко мне с ноября.
Фердинанд. Боготворит ее!
Президент. Давал он тебе обещания?
Фердинанд. Самые торжественные, еще за несколько минут – перед лицом Бога!
Президент (гневно сыну). Погоди, тебя еще позовут к исповеди в твоих безумствах. (Луизе.) Я жду ответа.
Луиза. Он клялся мне в любви.
Фердинанд. И сдержит клятвы.
Президент. Долго ли мне говорить, чтобы ты молчал? И ты принимала клятвы?
Луиза (нежно). Я отвечала тем же.
Фердинанд (решительно). Союз наш заключен!
Президент. Я велю выкинуть вон это эхо! (Злобно Луизе.) Но, надеюсь, он платил тебе каждый раз?
Луиза (внимательно). Я не совсем понимаю, о чем вы спрашиваете.
Президент (со злобной усмешкой). Не понимаешь? Я хотел сказать: ведь у каждого ремесла есть, как говорится, золотое дно. И ты, надеюсь, не дарила же свои ласки? Или сама была рада побаловаться с ним, а?
Фердинанд (подбегает в бешенстве). Смерть и ад! Что такое?
Луиза (майору, с негодующим достоинством.) Господин фон Вальтер, вы теперь свободны!
Фердинанд. Батюшка! невинность и в нищенском платье требует уважения.
Президент (с громким хохотом). Забавная выдумка! отец должен уважать сыновнюю стерву!
Луиза (падает без чувств). Праведное небо!
Фердинанд (замахиваясь шпагой на президента, но тотчас же снова опуская ее). Батюшка! раз был я обязан вам жизнью – долг мой уплачен! (Вкладывает шпагу в ножны.) Обязательство сыновней покорности разорвано.
Миллер (до сих пор боязливо стоявший в стороне, выступает тревожно вперед и говорит, то скрежеща зубами от бешенства, то дрожа от страха). Ваше превосходительство – кому дитя ближе, как не отцу? – извините! Кто позорит дочь – бьет в лицо отца, а на пощечину отвечают пощечиной – такая у нас такса. Извините!
Жена. Господи, спаси нас и помилуй! Вот и старик еще расходился – пропадут наши головушки!
Президент (не слушая). А! и сводник поднялся! Мы сейчас с тобой поговорим, сводник!
Миллер. Извините, меня зовут Миллер; если угодно послушать адажио – извольте! а сводничать я не умею! Пока этого народу много при дворе, нас, мещан, еще не требуется. Извините!
Жена. Ради Бога, старик! ты погубишь и жену, и дочь.
Фердинанд. Играя такую роль, батюшка, вам хоть бы от свидетелей себя избавить!
Миллер (подходит к нему ближе). Хорошо и честно сказано! Извините! Ваше превосходительство, распоряжайтесь, как хотите, в герцогстве, а это мой дом! Низко вам поклонимся, если случится подавать прошение, а непрошеного гостя выбросим за порог! Извините!
Президент (бледнея от бешенства). Что?! Что такое? (Подходит к нему ближе.)
Миллер (осторожно отступает). Это было лишь мое мнение, господин барон. Извините.
Президент (вне себя от злости). А, мерзавец! С твоими дерзкими мнениями я тебя упечатаю в острог. Эй, полицию сюда!
Некоторые из слуг уходят.
(Президент в бешенстве ходит скорыми шагами по комнате.) Отца – в острог! мать и потаскушку-дочь – к позорному столбу! Правосудие поможет моему бешенству! За это посрамление я потребую страшного удовлетворения. Чтобы подобная сволочь смела разрушать мои планы и безнаказанно стравливать отца с сыном?! Постойте, ничтожные! Я утолю свою ненависть вашею погибелью! Все отродье, отца, мать и дочь, – отдам в жертву своему мщению!
Фердинанд (подходит к ним с спокойною уверенностью). Погодите еще! Не бойтесь! Я с вами! (Президенту с покорностью.) Не будьте так поспешны, батюшка! Если вы дорожите собою – не употребляйте насилия! Есть уголок в моем сердце, где еще не слышалось никогда слово «отец». Не затрагивайте этого уголка!
Президент. Молчи, негодяй! Не раздражай меня еще больше!
Миллер (приходя в себя из бесчувственного оцепенения). Присмотри за дочерью, жена! Я побегу к герцогу. Придворный портной – сам Бог подал мне эту мысль – придворный портной учится у меня на флейте. Он поможет мне добраться до герцога. (Хочет идти.)
Президент. До герцога? Ты, видно, забыл, что я – порог, через который надо перескочить или сломать шею! До герцога, безмозглая голова? Попробуй это, когда будешь, заживо погребенный, сидеть в подземелье, в тюрьме, где любовно переглядываются ночь и ад, и куда не проникает ни звук, ни свет. Греми тогда своими цепями и плачь, что дожил до такой беды!
Явление VII
Полицейские. Те же.
Фердинанд (подбегает к Луизе, которая замертво падает к нему на руки). Луиза! Помогите! Спасите! Испуг убил ее!
Миллер хватает свою палку, надевает шляпу и становится в оборонительное положение. Жена кидается на колени перед президентом.
Президент (к полицейским, показывая им ордер). Берите их – именем герцога! Прочь от этой потаскушки, мальчишка! Не беда, что она в обмороке. Когда наденут на нее железный ошейник, ее приведут в чувство уличные мальчишки камнями и грязью.
Жена. Смилуйтесь, ваше превосходительство! Смилуйтесь! сжальтесь!
Миллер (сердито поднимая с полу жену). Умоляй Бога, старая шкура, а не мерзавца! Заодно уж и мне идти в острог.
Президент (кусая губы). Смотри, не ошибись в расчете, каналья! Можешь еще и на виселицу попасть. (Полицейским.) Что вам сказано?
Полицейские теснятся к Луизе.
Фердинанд (подбегая к ней и становясь перед нею, в ожесточении). Кто посмеет? (Выхватывает шпагу вместе с ножнами и защищается эфесом.) Пусть дотронется до нее, кто и жизнь свою продал полиции! (Президенту.) Пощадите себя! не доводите меня до крайности, батюшка!
Президент (с угрозой полицейским). Если вам дорог ваш хлеб, трусы…
Фердинанд. Прочь, дьяволы! говорят вам, прочь! Еще раз: пожалейте себя! не доводите меня до крайности, батюшка!
Президент (в бешенстве полицейским). Так вот ваше усердие, мошенники!
Полицейские хватают Луизу смелее.
Фердинанд. Если уж на то пошло… (Обнажает шпагу и ранит некоторых из полицейских.) Прости мне, небесное правосудие!
Президент (вне себя от гнева). Посмотрим, тронет ли и меня эта шпага! (Сам схватывает Луизу, поднимает ее и передает одному из полицейских.)
Фердинанд (с горьким смехом). Батюшка! батюшка! вы представляете язвительный пасквиль на божество: плохо же знает оно людей, что из отличных палачей делает дурных министров!
Президент (полицейским). Уведите ее!
Фердинанд. Батюшка! она будет стоять у позорного столба, но вместе с майором, сыном президента! Вы все еще настаиваете на этом?
Президент. Тем забавнее будет спектакль. Ведите!
Фердинанд. Батюшка, я брошу свою офицерскую шпагу к ее ногам. Вы все настаиваете?
Президент. Шпага твоя и на тебе привыкла к позору. Ведите! ведите! вы слышали мою волю!
Фердинанд (отталкивает одного из полицейских, одною рукою хватает Луизу, а другою заносит над ней шпагу). Батюшка! я не позволю позорить мою супругу: я скорее заколю ее! Вы все еще настаиваете?
Президент. Что ж? если клинок твой востер…
Фердинанд (выпускает Луизу из рук и поднимает глаза к небу). Ты мне свидетель, всемогущий Боже! я перепробовал все человеческие средства – теперь надо приняться за дьявольские. Ведите ее к позорному столбу! (Кричит на ухо президенту.) А тем временем я расскажу во всей столице историю о том, как попадают в президенты! (Уходит.)
Президент (как громом пораженный). Что такое?.. Фердинанд!.. Оставьте ее! (Бежит вслед за майором.)
Третье действие
Зал у президента.
Явление I
Входят президент и секретарь Вурм.
Президент. Проклятая штука!
Вурм. Я этого опасался, ваше превосходительство. Насилие всегда раздражает мечтателей, но никогда не обращает их.
Президент. Я возлагал все свои надежды на этот арест. Я так рассуждал: если девушку опозорить – он, как офицер, отступится.
Вурм. Прекрасно! Но без позора дело бы и не обошлось.
Президент. А все-таки – как подумаю теперь хладнокровно – мне не следовало поддаваться. Он наверное никогда бы не привел в исполнение своей угрозы.
Вурм. Не думайте этого! Раздраженная страсть готова на всякое безумие. Вы говорите, майор всегда покачивал головою, глядя на ваше управление? Очень верю. Правила, которые он привез сюда из академии, с первого же раза показались мне не совсем ясны. На что могут годиться фантастические мечты о великодушии и личном благородстве при дворе, когда высшая мудрость заключается в том, чтобы было и великим и малым спокойно – на известный лад! Он слишком молод и слишком горяч. Ему не может нравиться медленный, извилистый ход интриги, и затронуть его самолюбие способно только что-нибудь великое или необыкновенное.
Президент (с досадою). Все это очень дельно, да исправит ли это наши дела?
Вурм. Я хотел указать вашему превосходительству на рану, а может быть, и на лекарство. При таком характере – извините – или не следовало вовсе откровенничать, или не надо было ссориться. Он презирает средства, которые возвысили вас. Может быть, до сих пор только как сын удерживал он язык предателя. Дайте ему случай хорошенько сбросить с себя сыновний долг; заставьте его, повторяя нападения на его страсть, думать, что вы для него – не нежный отец, и у него выступят на первый план обязанности патриота. Уж одна странная фантазия – принести правосудию такую замечательную жертву, – могла бы прельстить его и заставить пожертвовать своим отцом.
Президент. Вурм! Вурм! Ты подводишь меня к страшной бездне!
Вурм. Я и отведу вас. Могу я говорить откровенно?
Президент (садясь). Как приговоренный со своим товарищем.
Вурм. В таком случае, извините меня. Вы, мне кажется, обязаны всем своим президентством гибкой придворной науке; отчего не вверили вы себя ей и как отца? Я помню, с каким чистосердечием вы уговорили тогда своего предшественника сыграть партию в пикет и провели у него чуть не целую ночь, дружески попивая с ним бургонское; а ведь в эту самую ночь должна была вспыхнуть подведенная под него мина и взорвать его на воздух. Зачем указали вы на врага своему сыну? Ему совсем бы не следовало знать, что мне известны его любовные дела. Вы могли бы расстроить этот роман со стороны девушки и удержать за собой сердце сына. Вам бы следовало сыграть роль ловкого полководца, который нападает не на главные силы врага, а старается разъединить его отряды.
Президент. Да как я мог это сделать?
Вурм. Очень просто – и дело еще не совсем проиграно. Забудьте на время, что вы отец. Не вступайте в борьбу со страстью, которую каждое сопротивление только усиливает. Предоставьте мне на ее же огне вывести червя, который ее подточит.
Президент. Это мне любопытно.
Вурм. Или я плохо понимаю барометр души, или майор так же ужасен в ревности, как и в любви. Заподозрите девушку в его глазах – хоть даже без всякого основания. Довольно одного грана дрожжей, чтобы привести целую массу в разрушительное брожение.
Президент. Но откуда взять этот гран?
Вурм. Вот мы и дошли до главного пункта. Прежде всего объясните мне, многим ли вы рискуете при дальнейшем упорстве майора? В какой степени для вас важно покончить роман с мещанскою девушкою и привести в исполнение план относительно леди Мильфорд?
Президент. Можешь ли ты об этом спрашивать, Вурм? Я рискую всем своим влиянием, если свадьба с леди не удастся, и головою, если стану принуждать майора.
Вурм (с одушевлением). Теперь будьте так добры и выслушайте меня! Майора мы опутаем хитростью. Против девушки призовем на помощь всю нашу власть. Мы продиктуем ей любовную записочку к третьему лицу и ловким образом подсунем ее майору.
Президент. Глупая выдумка! Так она сейчас и согласится написать свой собственный смертный приговор!
Вурм. Должна согласиться, только уполномочьте меня! Я знаю вдоль и поперек это доброе сердце. У нее всего две слабые стороны, которыми можно покорить ее совесть – отец ее и майор. Последний останется совсем в стороне, и тем лучше можно нам распорядиться с музыкантом.
Президент. Например?
Вурм. После того, что вы рассказали мне о сцене в его доме, нет ничего легче, как пригрозить старику уголовным судом. Любимец герцога и хранитель печати есть некоторым образом двойник его величества. Оскорбить президента – то же, что оскорбить его величество. По крайней мере, этим ловким пугалом я сумею вытянуть в нитку бедного музыканта.
Президент. Но не надо заводить серьезного дела.
Вурм. Как можно! надо только поставить всю семью в затруднительное положение. Прежде всего мы засадим втихомолку музыканта. Чтобы напугать побольше, можно взять и мать – наговорить об уголовном обвинении, об эшафоте, о пожизненном заключении в крепость, а единственным условием их освобождения сделать письмо дочери.
Президент. Прекрасно! Понимаю.
Вурм. Она любит отца до страсти, можно сказать. Опасность его жизни – по крайней мере, его свободе, упреки совести, что она сама подала к тому повод, невозможность обладать майором, наконец, путаница в голове, о чем я позабочусь, – все это вместе… она должна попасть в ловушку…
Президент. Но сын мой? Ведь он, пожалуй, тотчас обо всем догадается! Это взбесит его еще больше.
Вурм. Уж это предоставьте мне. Отца и мать мы выпустим не прежде, чем вся семья даст нам формальную клятву держать все дело в секрете и подтвердить обман.
Президент. Клятву? Да что значит клятва, дурак?
Вурм. Для нас ничего, ваше превосходительство, но для этого сорта людей – все. Теперь посмотрите, как ловко таким образом оба мы достигаем цели. Девушка потеряет любовь майора и свою добрую славу. Отец и мать попритихнут, и мало-помалу вся эта передряга так их укротит, что они под конец станут считать милостью, если я, для исправления репутации их дочери, предложу ей руку.
Президент (качает головою и смеется). Да ты меня перехитрил, плут! Все придумано дьявольски тонко! Ученик превзошел учителя! Теперь вот в чем вопрос: к кому должно быть адресовано письмо? С кем ее заподозрить?
Вурм. Разумеется, с таким человеком, который или все выиграет, или все потеряет от решения вашего сына.
Президент (подумав немного). Я знаю только гофмаршала.
Вурм (пожимая плечами). Будь я Луиза Миллер, он был бы не в моем вкусе.
Президент. Отчего же нет? Превосходно! Блестящий наряд – атмосфера eau dе mille fleurs и мускуса – что ни слово, то пошлость и горсть червонцев. Будто все это не может, наконец, вскружить голову мещаночке? Ах, мой друг! ревность не так разборчива. Я пошлю за маршалом. (Звонит.)
Вурм. Между тем, пока ваше превосходительство займетесь им и прикажете арестовать скрипача, я пойду и сочиню требуемое любовное письмо.
Президент (идет к письменному столу). Когда напишешь – принеси мне его прочесть.
Вурм уходит.
(Президент садится писать.)
Входит камердинер.
(Президент встает и подает ему бумагу.) Сию же минуту послать этот приказ об аресте в полицию. Кто-нибудь другой из вас пусть сходит к гофмаршалу и попросит его ко мне.
Камердинер. Господин гофмаршал только что изволил подъехать к крыльцу.
Президент. Тем лучше. Но арест произвести как можно тише. Скажи там, чтобы не вышло шуму.
Камердинер. Слушаюсь, ваше превосходительство.
Президент. Понимаешь? как можно тише!
Камердинер. Слушаю, ваше превосходительство. (Уходит.)
Явление II
Президент и гофмаршал.
Гофмаршал (торопливо). А я к вам en pass ant[5], милейший. Ну что вы? как поживаете? Сегодня вечером идет большая опера «Дидона», удивительнейший фейерверк – весь город будет пылать. Надеюсь, вы посмотрите? А?
Президент. У меня теперь в доме такой фейерверк, что того и гляди, и меня, и все мое величие взорвет на воздух! Вы как раз кстати приехали, любезный маршал, – посоветовать мне и деятельно помочь в деле, которое нас обоих или далеко подвинет, или совсем убьет. Садитесь!
Гофмаршал. Вы меня пугаете, голубчик!
Президент. Я вам говорю: или подвинет, или совсем убьет. Вы знаете мой проект насчет майора и леди. Вы понимаете, как было необходимо упрочить и ваше, и мое счастье. Все может рухнуть, Кальб. Фердинанд мой не соглашается.
Гофмаршал. Не соглашается? не соглашается? Да ведь я раструбил об этом по всему городу! Все уж говорят о свадьбе.
Президент. Вы можете прослыть по всему городу лгуном. Он любит другую.
Гофмаршал. Вы шутите? Будто это препятствие!
Президент. Самое непреодолимое с такой упрямой головой.
Гофмаршал. Надо быть без ума, чтобы отказаться от своего счастья – не правда ли?
Президент. Спросите его и послушайте, что он ответит.
Гофмаршал. Mon Dieu! да что же он может ответить?
Президент. Что он откроет всему свету преступление, которое вывело нас в знать; что он укажет наши фальшивые письма и отчеты; что обоих нас выдаст с головою – вот что он может ответить!
Гофмаршал. Полноте! что вы?
Президент. Он так ответил. Он даже был готов привести все это в исполнение! Я едва мог отвратить его от этого своим величайшим унижением. Что вы на это скажете?
Гофмаршал (с тупым выражением на лице). Я ничего не могу придумать.
Президент. Это бы еще ничего. Но в то же время шпионы доносят мне, что обер-шенк Бок уже совсем готов посвататься за леди.
Гофмаршал. Вы меня с ума сводите! Кто такой – Бок, вы говорите? Да знаете ли вы, что мы смертельные враги? Знаете почему?
Президент. В первый раз слышу.
Гофмаршал. Милейший! я вам расскажу – и у вас волосы дыбом поднимутся. Помните вы придворный бал – этому теперь двадцать первый год, – помните, еще на нем танцевали в первый раз английскую кадриль, и графу Мершауму облило костюм домино горячим воском с люстры? Ах, Боже мой! да вы, разумеется, помните!
Президент. Разве такие вещи забываются?
Гофмаршал. Ну да. Так вот, видите ли, принцесса Амалия в пылу танца потеряла подвязку. Все, разумеется, пришло в тревогу. Бок и я – мы были еще камерюнкерами – ползаем по всей зале, ищем подвязку. Наконец я увидел ее. Бок это замечает, кидается на нее, вырывает у меня из рук… вообразите! подает ее принцессе, и на его долю достается милостивая улыбка. Как вы это назовете?
Президент. Наглость!
Гофмаршал. Достается милостивая улыбка! Я чуть не упал в обморок! Видана ли подобная подлость? Наконец я ободряюсь, подхожу к ее высочеству и говорю: «Ваше высочество! фон Бок был так счастлив, что передал вам подвязку; но кто первый увидел ее – награжден уже одним этим и молчит».
Президент. Браво, маршал! Брависсимо!
Гофмаршал. И молчит… Но я не забуду этого Бока до Страшного суда. Подлый, пресмыкающийся льстец! Да это не все! Когда мы оба кинулись на пол, к подвязке, Бок стер у меня с головы на правой стороне всю пудру и погубил меня на весь бал.
Президент. И этот человек женится на Мильфорд и будет первой особой при дворе!
Гофмаршал. Вы воткнули мне нож в сердце. Он женится… он будет… Но почему же? Я не вижу необходимости.
Президент. Фердинанд мой не соглашается, а другого охотника нет.
Гофмаршал. Да неужто вы не знаете никакого средства заставить майора решиться? Хоть какого-нибудь самого странного, самого отчаянного средства? Да для нас нет теперь ничего такого, перед чем бы можно было остановиться – только бы помешать проклятому Боку!
Президент. Я знаю только одно средство – и оно зависит от вас.
Гофмаршал. От меня? какое же это средство?
Президент. Рассорить майора с его возлюбленной.
Гофмаршал. Рассорить? То есть, как это? и что же я могу сделать?
Президент. Все будет улажено, если мы заподозрим в его глазах девушку.
Гофмаршал. В чем же? В воровстве, хотите вы сказать?
Президент. Ах, что вы? Кто же этому поверит? Нет, что у нее есть другой любовник.
Гофмаршал. И этот другой…
Президент. Это вы, барон.
Гофмаршал. Я? Она дворянка?
Президент. К чему это? Что за глупость? Она дочь музыканта.
Гофмаршал. Значит, мещанка? Это не подойдет.
Президент. Что не подойдет? Какой вздор! Да кому же может прийти в голову справляться о родословной у хорошенькой девушки?
Гофмаршал. Но ведь я человек женатый… И моя репутация при дворе…
Президент. А! это другое дело! Извините, я не знал, что для вас важнее быть человеком безукоризненной нравственности, чем человеком с влиянием. Оставим этот разговор.
Гофмаршал. Ах, полноте, барон! Я не так вас понял.
Президент (холодно). Нет, нет. Вы совершенно правы; мне уж и самому надоело. Я остановлю машину. Пусть Бок будет первым министром. Не только свету, что в окошке, – я попрошу у герцога отставку.
Гофмаршал. А я? Вам хорошо говорить! вы ученый! А я – mon Dieu! – что будет со мною, если меня оставит его высочество!
Президент. Вы будете вчерашним каламбуром, прошлогоднею модой.
Гофмаршал. Умоляю вас, милейший! Выбросьте из головы эту мысль! Я готов на все!
Президент. Итак, вы готовы дать свое имя для свидания, которое письменно назначит вам эта Миллер?
Гофмаршал. Боже мой! разумеется!
Президент. Вы выроните это письмо где-нибудь в таком месте, где оно может попасться на глаза майору.
Гофмаршал. Например, на параде. Я как будто нечаянно выроню его, вынимая носовой платок.
Президент. И разыграйте перед майором роль ее любовника.
Гофмаршал. Mort de ma vie![6] уж я его отделаю! я отобью у дерзкого охоту мешать моим амурам!
Президент. Итак, все улажено! Письмо будет написано сегодня же. Вы перед вечером зайдете сюда взять его и уговориться со мной насчет вашей роли.
Гофмаршал. Как только сделаю шестнадцать визитов чрезвычайной важности. Поэтому извините меня, что я не остаюсь. (Идет.)
Президент (звонит). Я рассчитываю на вашу ловкость, маршал!
Гофмаршал (оглядываясь). Ах, mon Dieu, ведь вы меня знаете!
Явление III
Президент. Вурм.
Вурм. Скрипача и его жену преспокойно и без всякого шуму отправили под арест. Не угодно ли вашему превосходительству прочесть теперь письмо?
Президент (прочитав). Превосходно, Вурм! превосходно! И маршал клюнул! Яд, подобный этому, способен превратить любое здоровье в гнойную проказу. Теперь надо сейчас отправиться с предложениями к отцу, а потом хорошенько заняться дочерью.
Расходятся в разные стороны.
Явление IV
Комната в квартире Миллера. Луиза. Фердинанд.
Луиза. Умоляю тебя, перестань! Я уже не жду больше счастливых дней. Все надежды мои рухнули.
Фердинанд. Зато мои надежды возросли! Отец мой раздражен: он направит на вас все орудия. Он принудит меня сделаться бесчеловечным сыном. Я уже не опираюсь на мой сыновний долг. Бешенство и отчаяние вынудят у меня черную тайну совершенного им убийства. Сын выдаст отца в руки палача… это наибольшая опасность. Но что значат и высшие опасности, когда любовь моя решается на дерзкий шаг? Послушай, Луиза! мысль великая и дерзкая, как моя страсть, теснится ко мне в душу. Ты, Луиза, и я, и любовь! не все ли небо заключено в этом кругу? Или тебе нужно еще что-нибудь?
Луиза. Довольно! Замолчи! Мне страшно то, что ты хочешь сказать!
Фердинанд. Ведь мы ничего не требуем больше от мира; так зачем же нам из милости просить у него одобрения? К чему рисковать там, где нечего выиграть и можно все потерять? Разве не так же страстно будут гореть эти глаза, где бы они ни отражались, – в Рейне, в Эльбе или в Балтийском море? Отечество мое там, где меня любит Луиза! Следы ног твоих в дикой песчаной пустыне для меня дороже старого собора на моей родине! Станем ли мы жалеть о пышности городов? Где бы мы ни были, Луиза, солнце так же будет восходить и так же закатываться. А перед этим зрелищем бледнеют и самые высшие усилия искусства! У нас не будет храма, где бы мы могли молиться Богу; но ночь окружит нас вдохновляющим мраком; сменяющийся месяц будет указывать нам дни воздержания, вместе с нами будет молиться благоговейное сонмище звезд! Можем ли мы истощиться в беседах любви? Улыбки моей Луизы довольно для столетий, и я не успею исследовать эту слезу, как уже и кончен сон жизни!
Луиза. Будто у тебя нет иных обязанностей, кроме твоей любви?
Фердинанд (обнимая ее). Твое спокойствие – моя священная обязанность!
Луиза (очень серьезно). Так молчи же и оставь меня. У меня есть отец, у которого нет другого достояния, кроме единственной дочери, – которому завтра минет шестьдесят лет и который не уйдет от мщения президента.
Фердинанд (быстро прерывая ее). Мы возьмем его с собою! Не возражай мне, милая! Я пойду, превращу в деньги свои вещи, сделаю заем на имя моего отца. Не грех ограбить разбойника, и разве богатство его не куплено кровью родной земли? Ровно в час ночи будет готов экипаж. Вы сядете в него – и мы уедем!
Луиза. А за нами последует проклятие твоего отца! Таких проклятий, безрассудный, не произносят бесплодно и убийцы; такими проклятиями небесное мщение увеличивает муки преступника на плахе. Это проклятие будет беспощадно преследовать нас, беглецов, как призрак, от моря до моря! Нет, мой милый: если только лишь преступление может дать мне тебя, то я найду в себе силы отказаться от тебя…
Фердинанд (стоит мрачно и говорит про себя). В самом деле?
Луиза. Потерять! О, безгранично ужасна эта мысль – так ужасна, что способна сокрушить бессмертный дух и погасить яркий румянец радости. Фердинанд! потерять тебя! Но ведь мы теряем лишь то, чем обладали, а ты принадлежишь твоему окружению. Мои притязания были святотатством – и я с горечью отказываюсь от них!
Фердинанд (кусая нижнюю губу, с выражением скорби на лице). Отказываешься?
Луиза. Нет! взгляни на меня, милый Вальтер! не улыбайся так горько! Взгляни! дай мне оживить своим порывом твое умирающее мужество! позволь мне быть героиней этой минуты – возвратить отцу отшатнувшегося сына – отказаться от союза, который покачнул бы основы мещанского мира и разрушил бы всеобщий вечный порядок. Я преступница: сердце мое питало дерзкие, безумные желания! Несчастье дано мне в наказание, – так предоставь же мне сладкое, обольстительное заблуждение, что я принесла жертву. Неужели ты откажешь мне в этом наслаждении?
Фердинанд, в рассеянности и бешенстве взявший скрипку и пробовавший на ней играть, обрывает струны, разбивает инструмент об пол и громко хохочет.
Луиза. Вальтер! Боже праведный! что с тобою, ободрись! В эту минуту нужно мужество – это минута разлуки. У тебя есть сердце, милый Вальтер! я знаю его! Горячая, как жизнь, твоя любовь, и нет ей пределов, как вселенной! Подари ее благородной и более достойной – и она не позавидует самым счастливейшим женщинам! (Сдерживая слезы.) Со мною тебе не следует больше видеться. Пусть суетная, обманутая девушка выплачет в одиноких стенах свое горе! Что кому за дело до ее слез? Все пусто, все вымерло в моем будущем. Но я буду порою услаждать себя поблекшим венком прошедшего. (Отвернув лицо, подает ему дрожащую руку.) Прощайте, господин фон Вальтер!
Фердинанд (приходя в себя от оцепенения). Я уеду, Луиза! И ты в самом деле не хочешь бежать со мною?
Луиза (садится в глубине комнаты и закрывает лицо руками). Долг мой велит мне остаться и терпеть.
Фердинанд. Ты лжешь, изменница! Другое останавливает тебя здесь.
Луиза (тоном глубочайшей, подавленной скорби). Оставайтесь при этом предположении: с ним, может быть, горе не так горько.
Фердинанд. Холодный долг в ответ на пламенную любовь! И ты хочешь отвести мне глаза этою сказкою? У тебя есть любовник; и горе тебе и мне, если подозрение мое оправдается! (Быстро уходит.)
Явление V
Луиза одна. Она остается какое-то время без движения и без слов; наконец встает, выходит вперед и боязливо осматривается.
Луиза. Где это батюшка с матушкою? Ведь отец обещал воротиться через несколько минут, а вот уже прошло целых пять ужасных часов. Уж не случилось ли с ними какой беды? Что со мною? у меня что-то сердце замирает.
В эту минуту входит в комнату Вурм и останавливается в глубине сцены. Луиза не замечает его.
Ведь этого ничего нет… это лишь страшная игра разгоряченной крови… Стоит лишь раз переполниться душе ужасом – и глазам в каждом углу представляются привидения.
Явление VI
Луиза. Секретарь Вурм.
Вурм (подходя ближе). С добрым вечером, мадемуазель Миллер.
Луиза. Боже мой! кто тут? (Она оборачивается, замечает Вурма и в испуге отступает.) Это ужасно! ужасно! Мое грозное предчувствие уже готово сбыться! (Вурму с презрительным взглядом.) Вы ищете, может быть, президента? Его здесь нет.
Вурм. Я ищу вас.
Луиза. Удивляюсь, что вы пошли не на площадь.
Вурм. Зачем же туда?
Луиза. Увести вашу невесту от позорного столба.
Вурм. Мадемуазель Миллер! Вы напрасно меня подозреваете.
Луиза (не желая отвечать). Что вам угодно?
Вурм. Меня прислал ваш батюшка.
Луиза (в испуге). Батюшка! Где он?
Вурм. Где не очень хотел бы быть.
Луиза. Ради Бога! Скорее! У меня замирает сердце… Где батюшка?
Вурм. В тюрьме, если вам непременно хочется это знать.
Луиза (обращая взор к небу). Господи! В тюрьме? За что же?
Вурм. По приказанию герцога.
Луиза. Герцога?
Вурм. За оскорбление его величества в лице его представителя.
Луиза. Что? что такое? О Боже всемогущий!
Вурм. Ему назначено примерное наказание.
Луиза. Только этого недоставало! только этого… Да, да! у сердца моего были, кроме Фердинанда, заветные привязанности: можно ли было пощадить их? Оскорбление величества… Небесное провидение! спаси, спаси мою гаснущую веру! А Фердинанд?
Вурм. Должен выбрать или леди Мильфорд, или проклятие и лишение наследства.
Луиза. Страшная свобода выбора! И все-таки, все-таки он счастливее! Ему не приходится терять отца. Впрочем, не иметь отца – уже достаточно горя! Отец мой обвинен в оскорблении его величества, милому моему – или леди, или проклятие и лишение наследства… Это поразительно! Высшая подлость – тоже совершенство. Совершенство? Нет! Недостает еще одного… Где моя мать?
Вурм. В рабочем доме.
Луиза (со скорбной улыбкой). Теперь все… все! И я на свободе – лишенная всех привязанностей, и слез, и радостей, лишенная провидения. На что мне оно теперь? (Тяжелое молчание.) Может быть, у вас есть что-нибудь еще в запасе? Договаривайте. Теперь я могу выслушать все.
Вурм. Что случилось, вы знаете.
Луиза. Но не знаю, что случится. (Молчание. Она осматривает Вурма с ног до головы.) Бедный человек! у вас печальное ремесло; с ним невозможно быть счастливым. Делать других несчастными – ужасно; но возвещать им несчастья – отвратительно… каркать им вороном, смотреть, как окровавленное сердце трепещет в железных клещах необходимости, как христиане сомневаются в Боге… Боже, сохрани меня! Да если б за каждую каплю слез, которую вы видите, давали по бочке золота – я не хотела бы быть на вашем месте! Что же может еще случиться?
Вурм. Не знаю.
Луиза. Вы не хотите этого знать! Эта трусливая весть опасается слов; но в могильной тишине вашего лица я вижу страшный призрак! Что же еще остается? Вы сказали: герцог хочет примерно наказать? Что же такое, по-вашему, примерно?
Вурм. Не расспрашивайте меня больше…
Луиза. Послушайте! Вы были учеником палача. Иначе вы не сумели бы сначала тихо и осторожно проводить железом по сломанным суставам и дразнить замирающее сердце легким, щадящим прикосновением. Какая судьба ждет моего отца? В том, что вы говорите с усмешкою, – смерть: чего же вы не хотите сказать? Говорите! Обрушьте на меня сразу весь страшный груз! Что ждет моего отца?
Вурм. Криминальный процесс.
Луиза. Да что это такое? Я ничего не знаю, не понимаю, чтó значат ваши страшные латинские слова. Что это такое – криминальный процесс?
Вурм. Суд на жизнь или смерть.
Луиза (решительно). Благодарю вас! (Убегает в соседнюю комнату.)
Вурм (в смущении). Что это значит? Уж дура не вздумала ли… черт возьми! Не может быть! Я побегу за нею – я отвечаю за ее жизнь… (Хочет идти за Луизой.)
Луиза (возвращается, накинув на себя плащ). Извините меня, господин Вурм! надо запереть дверь: я ухожу.
Вурм. Куда же так поспешно?
Луиза. К герцогу. (Хочет идти.)
Вурм. Что? куда? (Удерживает ее в испуге.)
Луиза. К герцогу. Разве вы не слышите? К тому самому герцогу, который хочет повелеть судить моего отца на жизнь или смерть… нет! не хочет – должен велеть судить, потому что этого хотят несколько злодеев. Во всем этом процессе об оскорблении величества герцог участвует только своим царственным достоинством да своею герцогскою подписью.
Вурм (злобно хохочет). К герцогу!
Луиза. Я знаю, над чем вы смеетесь, – да ведь я иду туда не в надежде на милость – Боже меня сохрани! Я хочу только встревожить его своим криком. Я слыхала, что великие этого мира еще не знают, что такое горе – не хотят знать. Я скажу ему, что такое горе, покажу ему в конвульсиях смерти, что такое горе; из моих стонов, проникающих до мозга костей, узнает он, что такое горе; и когда после моего рассказа дыбом встанут у него на голове волосы, я прокричу ему на ухо, что на смертном одре так же хрипят и земные боги, и что на Страшном суде смешаются в одну толпу и герцоги и нищие. (Хочет идти.)
Вурм (со злобною радостью). Идите, идите! Умнее ничего нельзя выдумать! Я вам советую идти и даю вам слово, что герцог согласится.
Луиза (вдруг останавливается). Что вы сказали? вы мне сами советуете? (Быстро возвращается.) Что же это? Уж если этот человек мне советует, это должно быть что-нибудь ужасное. Откуда вы знаете, что герцог согласится?
Вурм. Конечно, не даром.
Луиза. Не даром? Какою же ценою он продает свое милосердие?
Вурм. Такая хорошенькая просительница чего-нибудь да стоит!
Луиза (стоит в оцепенении, потом дрожащим голосом). Боже праведный!
Вурм. Надеюсь, цена невелика, когда надо спасти отца.
Луиза (вне себя ходит по комнате). Да, да! это правда; они защищены, ваши высокие владыки, – защищены от истины своими пороками, как мечами херувимов. Пусть Бог поможет тебе, батюшка! Дочь твоя скорее умрет за тебя, чем согрешит.
Вурм. Для бедного, покинутого старика это будет утешительная новость. «Моя Луиза, – говорил он мне, – уронила меня; она меня и поднимет». Пойду передать ему ваш ответ, мадемуазель Миллер. (Как будто собирается идти.)
Луиза (спешит за ним и удерживает его). Остановитесь! остановитесь! погодите! Как поспешен этот сатана, когда хочет свести с ума! Я уронила его – я должна его поднять! Говорите же! советуйте! Что должна я сделать?
Вурм. Есть лишь одно средство…
Луиза. Что же?
Вурм. И ваш батюшка желает…
Луиза. И батюшка?.. Что же это за средство?
Вурм. Это совсем легко.
Луиза. Для меня ничего нет тяжелее стыда!
Вурм. Если вы захотите освободить майора…
Луиза. От его любви? Вы шутите надо мною – вы предоставляете моей воле то, к чему я принуждена поневоле.
Вурм. Вы не так меня поняли, милая Луиза. Майор должен отступиться первый – и добровольно.
Луиза. Он не отступится!
Вурм. Так кажется. Кто бы стал обращаться к вам, если бы кто-то другой мог в этом помочь?
Луиза. Да могу ли я принудить его ненавидеть меня?
Вурм. Мы попробуем. Сядьте-ка.
Луиза (в испуге). Что вы замышляете?
Вурм. Сядьте и пишите. Вот перо, чернила и бумага.
Луиза (садится в сильнейшей тревоге). Что мне писать? к кому писать?
Вурм. К палачу вашего отца.
Луиза. О! вы мастер истязать души! (Хватает перо.)
Вурм (диктует). «Милостивый государь… (Луиза пишет дрожащею рукою.) Вот уже три нестерпимых дня, как мы не видались».
Луиза (останавливается и кладет перо). К кому письмо?
Вурм. К палачу вашего отца.
Луиза. Боже мой!
Вурм. «Остерегайтесь майора, который целый день стережет меня, как Аргус».
Луиза (вскакивает). Это неслыханная подлость! К кому письмо?
Вурм. К палачу вашего отца.
Луиза (ходит взад и вперед, ломая руки). Нет! нет! это бесчеловечно! О небо! наказывай людей по-человечески, когда они раздражают тебя. Но зачем повергать меня между двух ужасов? Зачем колебать меня между смертью и позором? Зачем сажать мне на плечи этого адского вампира? Делайте, что хотите. Я ни за что не стану писать!
Вурм (берется за шляпу). Как угодно, мадемуазель Луиза. Это в вашей воле.
Луиза. В моей воле, говорите вы? в моей воле? Иди, варвар! повесь несчастного над пропастью ада, попроси его о чем-нибудь, богохульствуй и говори, что это в его воле! О! ты слишком хорошо знаешь, что привязанности крепче цепей держат наше сердце! Теперь мне все равно. Диктуйте дальше! Я перестаю и думать. Я уступаю адскому коварству. (Опять садится.)
Вурм. «Целый день стережет, как Аргус». Есть?
Луиза. Дальше! дальше!
Вурм. «У нас вчера был в доме президент. Смешно было смотреть, как добрый майор защищал мою честь».
Луиза. Прекрасно, прекрасно, превосходно! Продолжайте!
Вурм. «Я прибегла к обмороку, чтобы не захохотать».
Луиза. О небо!
Вурм. «Но мне становится уже несносно притворяться… несносно. Как бы я рада была от него отделаться!».
Луиза (останавливается, встает, ходит взад и вперед, опустив голову, словно ищет что-то на полу, потом опять садится и продолжает писать). «От него отделаться».
Вурм. «Завтра он на службе. Наблюдайте, когда он уйдет от меня, и приходите по уговору». Есть: «по уговору»?
Луиза. Да…
Вурм. «По уговору к любящей вас… Луизе».
Луиза. Недостает только адреса.
Вурм. «Господину гофмаршалу фон Кальбу».
Луиза. Боже всемогущий! Это имя так же чуждо моему слуху, как чужды сердцу моему эти постыдные строки! (Она встает и долго безмолвно смотрит на написанное неподвижным взором; потом подает письмо Вурму; затем слабым, замирающим голосом). Возьмите, сударь! Свое честное имя, все счастье своей жизни отдаю я в ваши руки, Я – нищая.
Вурм. Полноте! Не унывайте, милая мадемуазель Луиза! Мне от души вас жаль. Может статься – почем знать? – я бы на кое-что и сквозь пальцы посмотрел. Право! ей-богу! мне вас очень жаль!
Луиза (смотрит на него неподвижным, пронзительным взглядом). Не договаривайте, сударь! Вы готовы пожелать себе ужасного…
Вурм (хочет поцеловать у нее руку). А положим, я пожелал бы эту хорошенькую ручку. Что вы на это скажете?
Луиза (с грозной торжественностью). Да я удавила бы тебя в первую брачную ночь и с радостью отдала бы палачам свое тело! (Хочет идти, но быстро возвращается.) Теперь все, сударь? Можно лететь пташке?
Вурм. Еще есть кое-что! Вы пойдете со мной и поклянетесь, что это письмо добровольное.
Луиза. Боже мой! Боже мой! И ты утвердишь своею печатью дело ада?
Вурм уводит ее.
Четвертое действие
Зал у президента.
Явление I
Фердинанд фон Вальтер быстро входит с открытым письмом в руках. В другую дверь входит камердинер.
Фердинанд. Не был ли здесь маршал?
Камердинер. Господин президент просит вас к себе, господин майор.
Фердинанд. Черт возьми! Я спрашиваю, не был ли здесь маршал?
Камердинер. Господин маршал наверху за карточным столом.
Фердинанд. Именем всех чертей, господин маршал должен явиться сюда!
Камердинер уходит.
Явление II
Фердинанд (один, пробегает письмо и то останавливается в оцепенении, то в бешенстве бегает по комнате). Это невозможно! невозможно! В такой небесной оболочке не может таиться такое дьявольское сердце… А между тем… между тем, если бы все ангелы сошли с неба и ручались за ее невинность, если бы небо и земля, если бы Бог и мироздание соединились и ручались за ее невинность – ведь это ее рука… Неслыханный, чудовищный обман, какого еще не видывало человечество! Так вот отчего она так упорно не соглашалась на бегство! Вот отчего… Боже! теперь я прозрел; все становится мне теперь ясно! Вот отчего с таким упорством отказалась она от своих притязаний на мою любовь, и я готов был поверить этой коварной личине! (Быстрее ходит по комнате, потом опять останавливается в задумчивости.) Так глубоко понять меня! Отвечать на каждое смелое чувство, на каждый легкий трепет, на каждый пламенный порыв; понимать движение моей души по тончайшим, неуловимо-изменчивым звукам; рассчитывать на каждую слезу мою; следовать за мною на самые грозные вершины страсти; встречать меня у каждой страшной крутизны… Боже! Боже! И все это была лишь комедия! Комедия! О, если ложь так устойчива пред испытанием, как же случилось, что ни один дьявол не попал еще обманом в рай? Когда я открыл ей, какой опасности подвергается наша любовь, как убедительно сумела побледнеть притворщица! С каким победоносным достоинством встретила она дерзкие насмешки моего отца, а между тем в эту минуту она сознавала себя виноватою. Не выдержала ли она и самого главного испытания в своей правоте? Лицемерка упала в обморок… Каким языком будешь ты теперь говорить, чувство? И прелестницы падают в обморок. Чем ты оправдаешь себя, невинность? И потаскушки падают в обморок. Она знает, чтó она из меня сделала. Она видела всю мою душу. В моих глазах отражалось все мое сердце, когда я краснел от первого поцелуя. И она ничего не чувствовала? Может быть, чувствовала только торжество своего притворства? А я в пламенном безумстве думал обнять в ней целое небо! Самые бурные желания мои молчали! Душа моя не знала ни одной мысли, кроме мечты о вечности в союзе с нею!.. Боже! – и она ничего не чувствовала? Ничего не чувствовала, кроме того, что план ее удается? ничего не чувствовала, кроме сознания своих прелестей! – смерть и проклятие! – ничего не чувствовала, кроме того, что я обманут?
Явление III
Фердинанд. Гофмаршал.
Гофмаршал (вбегая в комнату). Вы выразили желание, милейший…
Фердинанд (бормочет про себя). Сломать шею мерзавцу. (Громко.) Маршал, это письмо вы, должно быть, выронили из кармана на параде, и мне (со злобным смехом) – и мне, к счастию, пришлось обнаружить его.
Гофмаршал. Вам?
Фердинанд. Случай забавный! Кончайте свои земные расчеты.
Гофмаршал. Вы меня совсем напугали, барон.
Фердинанд. Читайте! Читайте! (Отходит от него.) Если я не гожусь уже в любовники, так, может быть, в сводники пригожусь. (Пока тот читает, он подходит к стене и снимает с нее два пистолета.)
Гофмаршал (бросает письмо на стол и хочет убежать). Ах! черт возьми!
Фердинанд (хватает его за руку и останавливает). Терпение, любезнейший маршал! Известие, по-видимому, приятное! Мне причитается за находку! (Показывает ему пистолеты.)
Гофмаршал (отступая в испуге). Будьте благоразумны, милейший…
Фердинанд (грозным и решительным голосом). Да, я настолько благоразумен, что сейчас же отправлю тебя, мерзавца, на тот свет! (Насильно всовывает ему пистолет и вынимает свой носовой платок.) Возьмите! Держитесь за этот платок. Он у меня от распутницы.
Гофмаршал. Через платок? В уме ли вы? Что вы это вздумали?
Фердинанд. Держись за этот конец, говорят тебе, а то промахнешься, трус! Как он дрожит, подлец! Да тебе бы следовало благодарить Бога, мерзавец, что у тебя в первый раз будет хоть что-нибудь в голове.
Гофмаршал бежит прочь.
Потише, сделайте одолжение! (Догоняет его и запирает дверь на ключ.)
Гофмаршал. В комнате, барон?
Фердинанд. Да стоит ли за город плестись из-за тебя? Ведь здесь выстрел раздастся громче, и это будет, верно, первый шум, сделанный тобою на свете. Целься!
Гофмаршал (обтирая свой лоб). И вы хотите подвергнуть опасности вашу драгоценную жизнь – вы, молодой человек, полный надежд?
Фердинанд. Целься, говорят тебе! Мне нечего больше делать на этом свете!
Гофмаршал. Зато мне есть еще здесь дело, несравненнейший барон.
Фердинанд. Тебе, болван? тебе… Быть затычкой там, где с каждым днем все меньше охотников? В одну минуту семь раз съежиться и семь раз вытянуться, как бабочка на булавке? Вести реестр, сколько раз прослабило твоего господина, и быть мишенью его острот? Не все ли равно, если я поведу тебя с собою, как какого-нибудь редкого зверька? При вое осужденных грешников будешь ты плясать, как ручная обезьяна, подавать поноску и служить и увеселять вечное отчаяние своим придворным искусством!
Гофмаршал. Все, что вам угодно, барон! Все, что угодно!.. Только отложите пистолеты!
Фердинанд. Как он струсил, несчастный! Ты родился, кажется, на позор шестому дню творения. Как будто тебя не Бог создал, а какой-то мошенник подделал. Жаль только, жаль унции мозга, которому так неуютно в этом убогом черепе. Стоило бы добавить эту унцию к мозгу павиана, чтобы сделать его вполне человеком, а теперь это лишний нарост. И с такою тварью может она делить свое сердце? Непостижимо, непростительно! Да он создан скорее отучить от греха, а не то что увлечь.
Гофмаршал. Слава Богу, он начинает острить…
Фердинанд. Я пощажу его. Терпимость, которая щадит червяка, пусть и на его долю достанется. Встретившись с ним, иной пожмет плечами и подивится, может быть, мудрому устройству природы, которая кормит несколько тварей и навозом и илом, которая приготовляет обед вороне на виселице, а царедворцу – в грязи около трона; подивится и предусмотрительности провидения, которое и в духовном мире держит тарантулов и змей для выделения ядов. Но (снова впадая в бешенство) моего цветка да не коснется эта погань, или (хватает маршала за плечо и трясет его) я раздавлю его и вытрясу из него душу!
Гофмаршал (слабо стонет). Боже мой! как бы мне от него уйти? За сто миль отсюда, в парижский Бисетр [7], только бы не у него в руках!..
Фердинанд. Слушай! если она уже не невинна, если ты уже наслаждался, где я благоговел (с большим ожесточением), удовлетворял свою похоть, где я чувствовал себя Богом!.. (Внезапно смолкает и потом продолжает страшным голосом.) О! лучше бы тебе, подлец, искать убежища в аду, нежели встретиться в небе с моим гневом. До чего дошло у тебя с девушкою? Признайся!
Гофмаршал. Оставьте меня… Я все скажу…
Фердинанд. О! быть любовником этой девушки должно быть слаще, чем предаваться с другою самым небесным мечтам. Если б она захотела распутствовать, если б она захотела – она могла бы убить цену души и животную похоть превратить в добродетель! (Приставляет пистолет к груди гофмаршала.) До чего дошло у тебя с нею? Признавайся, или я спущу курок!
Гофмаршал. Да ничего не было – ничего не было! Да потерпите минуту. Ведь вас обманули!
Фердинанд. И ты открываешь мне глаза, злодей? Далеко ли зашло у тебя с нею? Признавайся, или я на месте убью тебя!
Гофмаршал. Mon Dieu! Боже мой! Ведь я говорю – выслушайте меня… ее отец, родной отец…
Фердинанд (с ожесточением). Сосводничал тебе дочь? И далеко ты зашел с нею? Признавайся, или я уничтожу тебя!
Гофмаршал. Вы вне себя! Не слушаете? Я никогда ее не видал! Я не знаю ее… Я ничего о ней не знаю…
Фердинанд (отступая). Ты никогда не видал ее? не знаешь ее? не знаешь ничего о ней? Она погибла из-за тебя, а ты трижды отрекаешься от нее одним духом? Вон, мерзавец! (Ударяет его пистолетом и выталкивает из комнаты.) Для таких, как ты, не изобретен еще порох!
Явление IV
Фердинанд (после долгого молчания, во время которого черты его выражают страшную мысль). Погибла! Да, несчастная! Да, мы оба погибли – и я и ты. Да, клянусь всемогущим Богом! уж если погиб я, погибла и ты. Всевышний судия! не отнимай у меня ее! Эта девушка моя! За нее уступил я тебе всю твою вселенную, отрекся от всего твоего дивного создания. Предоставь эту девушку мне! Всевышний судия! Миллионы душ с воплем зовут тебя. Обрати к ним свое милосердное око – меня же оставь действовать одного! (Ломает в отчаянии руки.) Неужто щедрый, богатый Творец не пожалеет одной души, и притом худшей во всем его творении?.. Эта девушка моя! Я был ей когда-то Богом, теперь буду дьяволом! (Устремляет неподвижный и страшный взгляд в угол.) Целую вечность быть сплетенным с нею на колесе пытки – очи погружены в очи – поднявшиеся дыбом волосы – наши глухие стоны слились воедино… И тут-то повторять свои нежности! и тут-то напоминать ей ее клятвы!.. Боже! Боже! Союз ужасный, но вечный! (Быстро идет к двери и встречается с президентом.)
Явление V
Фердинанд. Президент.
Фердинанд (отступая). Батюшка!
Президент. Очень рад, что встречаю тебя, Фердинанд. Я пришел сообщить тебе приятную весть и кое-что, чему ты верно удивишься. Сядем.
Фердинанд (долго смотрит на него пристально). Батюшка! (В сильной тревоге подходит к нему и хватает его руку.) Батюшка! (Целует его руку и падает перед ним на колени) Батюшка!
Президент. Что с тобою, Фердинанд? Встань! Руки у тебя дрожат и горят.
Фердинанд (тревожно и с сильным чувством). Простите мена за мою неблагодарность, батюшка! Я потерянный человек! Я усомнился в вашей доброте! Вы так по-отцовски заботились обо мне… Ваша душа все предугадала… Теперь уже поздно… Простите! простите! Благословите меня, батюшка!
Президент (притворившись непонимающим). Встань, Фердинанд, ты говоришь загадками.
Фердинанд. Эта Миллер, батюшка… О! вы знаете людей… Ваше негодование было тогда так справедливо, так благородно, так родительски горячо… Только ваша горячая отцовская забота не тронула глухого сердца… Эта Миллер…
Президент. Не мучь меня, сын мой! Я проклинаю свою жестокость! Я пришел извиниться перед тобою!
Фердинанд. Извиниться передо мною? Проклясть меня… Ваше порицание было мудростью! Ваша жестокость была небесным состраданием! Эта Миллер, батюшка…
Президент. Прекрасная, честная девушка! Я отказываюсь от обоих необдуманных подозрений! Она приобрела мое уважение.
Фердинанд (вскакивает, глубоко потрясенный). Как! и вы, батюшка, и вы? Не правда ли, батюшка, это как будто сама невинность? И любить эту девушку – так понятно!
Президент. Скажи лучше: не любить ее – преступление!
Фердинанд. Это неслыханно! Это ужасно! А вы еще так умеете читать в сердцах! И притом вы смотрели на нее предубежденными глазами! Беспримерное лицемерие… Эта Миллер, батюшка…
Президент. Достойна быть моею дочерью! Ее добродетели стоят длинного ряда предков, красота ее дороже богатства! Мои правила уступают твоей любви. Пусть будет она твоею!
Фердинанд (как обезумев, бежит вон из комнаты). Этого еще недоставало! Прощайте, батюшка! (Уходит.)
Президент (идя вслед за ним). Постой, постой! Куда ты бежишь? (Уходит.)
Явление VI
Пышный зал у леди Мильфорд. Входят леди и Софи.
Леди. Так ты ее видела? Придет она?
Софи. Сию минуту! она была еще не одета и хотела только наскоро одеться.
Леди. Не говори мне ничего о ней. Молчи! Я трепещу, как преступница, что увижу счастливицу, которая чувствует так страшно согласно с моим сердцем. Что же она, когда ты пригласила ее?
Софи. Она, кажется, удивилась, задумалась, смотрела на меня такими странными глазами и молчала. Я уже ждала отговорки, тут она взглянула на меня так, что я удивилась, и сказала: «Ваша леди приказала мне прийти, а я завтра хотела сама просить у нее позволения».
Леди (в сильной тревоге). Оставь меня, Софи! Пожалей меня! Я буду краснеть, если она даже обыкновенная женщина, и робеть, если она нечто большее.
Софи. Но, миледи… что за каприз пришел вам видеть свою соперницу? Вспомните, кто вы! Призовите на помощь свое происхождение, свой сан, свою власть. Гордое сердце еще более возвысит ваш гордый блеск.
Леди (в рассеянности). Что ты такое болтаешь?
Софи (ядовито). Уж не случай ли это, что на вас именно сегодня горят самые драгоценные ваши брильянты? Что именно сегодня на вас самое пышное платье? Что ваша прихожая полна гайдуков и пажей? Что вы ждете мещанскую девушку в самом роскошном зале вашего дворца?
Леди (ходит взад и вперед, с сердцем). Несносно, невыносимо, что у прислуги такие рысьи глаза для женских слабостей! Но как глубоко, должно быть, я пала, что подобная тварь разгадывает меня.
Камердинер (входит). Мадемуазель Миллер.
Леди (к Софи). Вон, вон, отсюда! Уходи!
Софи медлит.
(Леди с угрозой.) Я приказываю тебе!
Софи уходит.
(Леди ходит по залу.) Хорошо! прекрасно, что я в волнении! Я именно этого желала! (Камердинеру.) Позови ее сюда!
Камердинер уходит.
(Леди кидается на софу и принимает небрежно-важную позу.)
Явление VII
Луиза Миллер робко входит и останавливается на расстоянии от леди. Та, оборотившись к ней спиною, осматривает ее несколько минут внимательно в противоположное зеркало. Молчание.
Луиза. Миледи, я жду ваших приказаний.
Леди (оборачивается к Луизе и слегка кивает ей головою, холодно и сдержанно). А! ты здесь! Это верно – мадемуазель… как бишь зовут тебя?
Луиза (с некоторой горечью). Отца моего зовут Миллером, и ваша милость посылали за его дочерью.
Леди. Точно, точно! Помню – дочь бедного скрипача, о котором недавно была речь. (Помолчав, про себя.) Очень интересна, хоть и не красавица. (Громко Луизе.) Подойди поближе, дитя мое. (Про себя опять.) Глаза у нее немало поплакали. Как мне нравятся эти глаза! (Опять громко.) Подойди же – ближе, ближе. Ты как будто боишься меня, милая?
Луиза (с гордою решительностью). Нет, миледи. Я презираю суд толпы.
Леди (про себя). Ого! и высокомерие это от него… (Громко.) Мне тебя рекомендовали. Говорят, что ты кой-чему училась и вообще не глупа. Разумеется, как этому и не поверить? Да я бы не поручилось всей вселенной, чтобы заставить солгать такую горячую заступницу.
Луиза. Я, однако ж, не знаю никого, миледи, кто бы дал себе труд отыскать мне покровительницу.
Леди (как на иголках). Кто бы дал себе труд для тебя или для твоей покровительницы?
Луиза. Не пойму, миледи!
Леди. Судя по твоему открытому взгляду, никак нельзя подумать, что ты такая плутовка. Тебя зовут Луизой? А сколько тебе лет?
Луиза. Минуло шестнадцать.
Леди (быстро вставая). Понимаю! Шестнадцать лет! Первое биение этой страсти. Девственный серебряный тон еще не тронутого инструмента. Нет ничего обольстительнее… Садись, милая! ты мне очень по сердцу. И он тоже любит впервые. Удивительно ли, что лучи одной зари слились вместе. (Очень ласково, взяв ее за руку.) Я решила: я составлю твое счастье, милая. Это не что иное, как упоительная, но скоро отлетающая греза. (Треплет Луизу по щеке.) Моя Софи скоро выходит замуж. Ты поступишь на ее место. Шестнадцать лет! Это не может быть надолго.
Луиза (почтительно целует ей руку). Благодарю вас за эту милость, миледи, хоть и не могу принять ее.
Леди (раздраженным тоном). Какая важная дама! Девушки твоего сословия считают себя счастливыми, коль могут найти господ. Куда же ты метишь, моя милая? Или эти пальцы слишком нежны для работы? Или ты возгордилась своим смазливым личиком?
Луиза. Лицо мое, миледи, не от меня, как и мое происхождение.
Леди. Уж не думаешь ли ты, что этому и конца не будет? Бедняжка, тот, кто это тебе втолковал, – кто бы он ни был, обманул нас обеих. Ведь эти щеки не в огне вызолочены. Что тебе кажется в зеркале прочным и вечным – не более, как легкий налет румянца, которого рано или поздно не найдет и следа твой поклонник. Что мы будем тогда делать?
Луиза. Жалеть о поклоннике, миледи, который купил алмаз, потому что оправа показалась ему золотой.
Леди (как будто не слушая). У девушек твоих лет всегда два зеркала разом – настоящее и их поклонник. Ласковая угодливость обожателя исправляет грубую откровенность действительности. Зеркало показывает на щеке безобразный след оспы. «Неправда! – говорит поклонник, – это ямочка граций». В простоте душевной вы верите зеркалу лишь в том, что вам сказал обожатель; кидаетесь от одного к другому, пока не смешаете под конец, кто что говорил. Что ты на меня так смотришь?
Луиза. Извините, миледи! я только лишь хотела пожалеть об этом рубине с такой великолепной игрой, который верно не знает, что его владелица так сильно порицает суетность.
Леди (краснея). Не перебивай меня, плутовка!.. Если бы ты не надеялась на свое личико, я думаю, ничто на свете не помешало бы тебе занять место, где только и можешь ты научиться светским манерам и отделаться от твоих мещанских предрассудков.
Луиза. И от моей мещанской невинности, миледи!
Леди. Какой вздор! Самый беспутный мужчина побоится заподозрить нас в легкомыслии, если мы сами не дадим ему на то повода! Надо только уметь держать себя! Только веди себя честно и с достоинством, так и соблазнов никаких не будет.
Луиза. Позвольте мне все-таки не верить этому, миледи! Дворцы известных дам редко обходятся без самых разгульных забав. Можно ли требовать от дочери бедного скрипача такого героизма, чтобы она бросилась в зачумленное место и при этом не боялась заразиться? Кто бы мог подумать, что леди Мильфорд вечно чувствует угрызения совести, что она бросается деньгами, лишь бы иметь возможность каждую минуту сгорать от стыда? Я откровенна, миледи! Было бы вам приятно видеть меня, когда вы собираетесь на какое-нибудь развлечение? Не было бы вам несносно встречать меня, возвращаясь? О! пусть лучше разделят нас целые страны – целые моря! Подумайте, миледи! для вас могут настать часы отрезвления, минуты истощения – змеи раскаяния могут зашевелиться у вас в груди; не пыткою ли будет для вас тогда – видеть в лице вашей горничной ясное спокойствие, каким невинность награждает чистое сердце? (Отступает шаг назад.) Еще раз прошу у вас прощения, миледи.
Леди (ходит в сильной внутренней тревоге). Тяжело мне слышать это от нее, но еще тяжелее знать, что она права! (Подходит к Луизе и пристально смотрит ей в глаза.) Ты меня не перехитришь! Так горячо не высказываются взгляды! Сквозь эти рассуждения проглядывает какой-то сердечный интерес, и оттого-то быть в моем услужении кажется тебе особенно противно… оттого ты так разгорячилась… но я (с угрозой) – все узнаю!
Луиза (прямо, с достоинством). Что же? узнавайте! разбудите презрительным толчком вашей ноги обиженного шмеля, которому Творец дал жало для своей защиты! Я не боюсь вашей мести, миледи! Бедной грешнице, приведенной к позорной плахе, все равно, хотя бы сгорел весь мир! Несчастье мое так тяжело, что я не могу увеличить его своею откровенностью! (Помолчав, строго.) Вы хотите извлечь меня из праха моего происхождения. Я не хочу обдумывать ее, эту подозрительную милость. Об одном спрошу вас, миледи: что заставило вас считать меня дурой, которая стыдится своего происхождения? Что дало вам право навязывать себя в дарительницы моего счастья, еще не зная, захочу ли я принять его из ваших рук? Я навеки отказалась от притязаний на светские радости; я простила моему счастью его непрочность. К чему хотите вы опять увлечь меня ими? Если верховное божество скрывает лучи от глаз своего создания, чтобы и ангел-хранитель не убоялся своего затмения – зачем люди стремятся быть так жестоко милосердны? Как это так, миледи, что ваше хваленое счастье просит, как милости, зависти и удивления у несчастья? Или вашей радости необходимо видеть рядом отчаяние? О! дайте мне лучше слепоту, которая одна еще может примирить меня с моею горькою участью! Ничтожное насекомое чувствует и в капле воды такую же радость и такое же блаженство, как если б оно было в раю, пока не расскажут ему об океане, где плавают флоты и киты! Но ведь вы хотите, чтоб я была счастлива? (Помолчав, вдруг подходит к леди и быстро спрашивает ее.) Счастливы вы сами, миледи?
Леди быстро и в изумлении отступает от нее.
(Луиза следует за нею и прикладывает свою руку к ее груди.) Так же ли ясно это сердце, как ваш наружный вид? И если б мы могли теперь обменяться сердцем на сердце и судьбою на судьбу – если б я в детской простоте – если б я по совести спросила вас, как свою мать, – посоветовали бы вы такой обмен?
Леди (в сильном волнении кидается на софу). Непостижимо! невероятно! Нет, милая! нет! Это душевное величие у тебя – не врожденное, а для твоего отца оно слишком юношески пылко! Не запирайся передо мною! У тебя был другой учитель…
Луиза (тонко, проницательно смотрит ей в глаза). Как, миледи? Будто только теперь пришел вам в голову этот учитель, а между тем вы уже прежде приготовили мне место!
Леди (вскакивая). Этого нельзя выдержать! Да! уж мне не вывернуться. Я знаю его – знаю все – знаю больше, чем хотела бы! (Вдруг останавливается, потом с ожесточением, которое мало-помалу переходит в бешенство.) Но только посмей, несчастная, – посмей и теперь любить его или быть им любима! Что я говорю? Посмей думать о нем или быть одною из его мыслей… я сильна, несчастная, – моя месть ужасна… клянусь Богом – ты погибла!
Луиза (непоколебимо). И без возврата, миледи, если вы его принудите любить вас!
Леди. Я тебя понимаю… Но он не должен меня любить! Я погашу эту позорную страсть, заглушу свое сердце и сокрушу твое! Я воздвигну между вами утесы, вырою пропасти; как фурия, буду являться в вашем раю; имя мое будет спугивать ваши поцелуи, как привидение спугивает преступников; твой молодой цветущий стан будет мертветь, как мумия, в его объятиях… Я не могу быть с ним счастлива, но и ты не будешь! Знай это, несчастная! Разрушать блаженство – тоже блаженство!
Луиза. Этого блаженства вас уже лишили, миледи! Не клевещите на свое сердце. Вы неспособны привести в исполнение то, чем так грозно меня стращаете! Вы неспособны мучить существо, которое не сделало вам никакого зла и только чувствовало так же, как и вы. Но я вас уважаю, миледи, за этот порыв страсти!
Леди (приходя в себя). Где я? что со мною? что я высказала? кому? – О Луиза! благородная, чистая, божественная душа! прости, прости сумасшедшую! Я не трону волоска на голове твоей, дитя мое! Пожалей! потребуй! я буду носить тебя на руках, буду твоим другом, твоею сестрою! Ты бедна – вот! (Снимая с себя некоторые драгоценные вещи.) Я продам эти брильянты, продам свой гардероб, лошадей и экипажи; все будет твое, – только откажись от него!
Луиза (отступает назад в тревоге). Смеется она над моим отчаянием или в самом деле не участвовала в этой бесчеловечной интриге? А! так я могу еще придать себе вид героини и превратить в заслугу свое бессилие! (Стоит несколько времени в задумчивости. Потом подходит ближе к леди и смотрит на нее пристально и многозначительно.) Возьмите его, миледи! Добровольно уступаю я вам человека, которого адскими клещами отрывали от моего окровавленного сердца. Может быть, вы сами этого не знаете, миледи, но вы разрушили рай двух любящих; вы разлучили два сердца, соединенные Богом; вы сокрушили существо, которое близко ему, как вы, которое создал он на радость, как вас, которое славило его, как вы, и уже больше не будет никогда славить. Миледи! до слуха Всевидящего доходит и последний вздох раздавленного червя! Он не может равнодушно видеть, как убивают души в его руках! Теперь он ваш! Теперь, миледи, возьмите его себе! Бегите в его объятия! Влеките его к алтарю! Но помните, что между вашим свадебным поцелуем встанет призрак самоубийцы. Бог смилуется надо мною! Нет для меня другого спасения! (Убегает.)
Явление VIII
Леди (одна, стоит в оцепенении и вне себя, обратив неподвижный взгляд на дверь, в которую вышла Луиза. Наконец она приходит в себя). Что это? Что было со мною? Что говорила эта несчастная? Боже! эти слова еще раздирают мне слух, эти страшные, осуждающие меня слова: «Возьмите его себе!» Кого, несчастная? Подарок твоего предсмертного хрипа – ужасное наследство твоего отчаяния? Боже! Боже! как низко я пала! как внезапно свержена я со всех тронов своей гордости! Мне приходится в томительном голоде ждать подаяния от великодушия нищей в ее последней предсмертной агонии! «Возьмите его себе!» Каким тоном сказала она это! с каким взглядом! О Эмилия! затем ли, преступила ты границы твоего пола? затем ли старалась приобрести пышное имя высокой британки, чтобы все хвастливое здание твоей чести рухнуло перед высшею добродетелью беспомощной простой девушки? Нет, несчастная! нет! погоди гордиться! Эмилию Мильфорд можно устыдить, но она никогда не опозорит себя! И я найду в себе силы отказаться! (Ходит величественно взад и вперед.) Прочь от меня теперь, женская слабость, женские сетования! Прощайте, отрадные золотые картины любви! Пусть одно великодушие руководит мной!.. Или эта любящая чета погибнет, или Мильфорд оставит свои притязания и исчезнет из сердца герцога! (Помолчав, с живостью.) Дело сделано! Страшное препятствие уничтожено – разорваны всякие узы между мною и герцогом! Я исторгла из своего сердца эту безумную любовь. В твои руки бросаюсь я, добродетель! Прими кающуюся дочь твою, Эмилию! О! как мне хорошо! Как легко стало мне вдруг, как отрадно! Величаво, как заходящее солнце, сойду я сегодня с высоты моего величия. Пусть все пышное могущество мое умрет вместе с моей любовью. В гордое изгнание свое не возьму я ничего, кроме сердца! (Идет с решимостью к письменному столу.) Сейчас же должна я все покончить – сейчас же! Прелести любимого юноши, пожалуй, возобновят кровавую борьбу в моем сердце! (Садится и начинает писать.)
Явление IX
Леди. Камердинер. Софи. Потом гофмаршал и наконец слуги.
Камердинер. Гофмаршал фон Кальб – в приемной, с поручением от герцога.
Леди (продолжая писать, в волнении). Дрогнешь ты, кукла в герцогской мантии!.. Да! мысль недурна – сбить с толку этот августейший мозг! Придворные льстецы его завертятся, все герцогство придет в брожение!
Камердинер и Софи. Гофмаршал, миледи.
Леди (оборачиваясь). Кто? Что? Тем лучше! Этот сорт людишек затем только и на свете, чтобы разносить вести. Просить его!
Камердинер уходит.
Софи (с робостью приближаясь). Если б я не боялась, миледи, я бы не посмела… (Леди продолжает писать.) Эта Миллер выбежала вне себя из зала… Вы вся в жару… Говорите сами с собой. (Леди продолжает писать.) Я боюсь, как бы не случилось чего…
Гофмаршал (входит, расшаркивается и раскланивается необорачивающейся леди; она его не замечает; он подходит ближе, становится за ее креслом, берет кончик ее платья, целует его и робко лепечет). Его высочество…
Леди (посыпает лист песком и пробегает написанное). Он назовет это черной неблагодарностью… Я была жалкой сиротой. Он вывел меня из нищеты. Из нищеты? Ужасный обмен! Разорви свой счет, обольститель! Мой вечный позор с лихвою оплатил его!
Гофмаршал (тщетно старается обратить на себя внимание леди то с той, то с другой стороны). Миледи, по-видимому, чем-то занята. Приходится мне самому осмелиться. (Очень громко.) Его высочество прислал меня спросить вас, миледи, что назначить на вечер – пикник или немецкий театр?
Леди (встает смеясь). Либо то, либо другое, любезный! А пока отнесите герцогу на десерт эту записку! (Софи.) Вели заложить мне карету, Софи, и зови сюда в зал всю прислугу!
Софи (уходит в тревоге). Господи! Уж это что-то недоброе! Что тут еще будет!
Гофмаршал. Вы расстроены, миледи?
Леди. Тем больше правды в моих словах. Ура, гофмаршал! Вакансия открывается! То-то счастье сводникам!
Гофмаршал подозрительно смотрит на записку.
Читайте! прочтите! Я хочу, чтобы содержание письма не оставалось в тайне!
Гофмаршал (читает, между тем как в глубине сцены собирается прислуга леди). «Ваше высочество! Договор, так легкомысленно вами нарушенный, не может оставаться обязательным для меня. Благоденствие вашей страны было условием моей любви. Три года длился обман. Повязка спала наконец с глаз моих. Я гнушаюсь милостями, купленными слезами подданных. Подарите свою любовь, на которую я не могу более отвечать, вашей угнетенной стране и научитесь от британской принцессы состраданию к своему германскому народу. Через час я буду уже за границей. Джен Норфольк».
Все слуги (в изумлении, шепотом). За границей?
Гофмаршал (в испуге кладет записку на стол). Боже сохрани, дорогая миледи! У меня не две головы, да и у вас тоже!
Леди. Вот о чем забота! К несчастью, я знаю, впрочем, что вашей братии достается и за пересказ того, что сделали другие. Мой совет – запечь записку в паштет: тогда она сама собой попадет в руки его высочества.
Гофмаршал. Ciel! [8] Какая дерзость! Образумьтесь, миледи; подумайте, какой немилости подвергаете вы себя!
Леди (обращается к прислуге, с глубоким чувством). Вы удивлены, добрые люди, и с трепетом ждете, чем разрешится эта загадка. Подойдите ближе, мои милые! Вы честно и усердно мне служили; больше глядели мне в глаза, чем в кошелек; повиноваться мне – было вашей радостью; вы гордились одним – моей милостью! О! зачем память о вашей верности должна соединиться с воспоминанием о моем унижении? Не горькая ли это судьба, что самые черные дни мои были для вас счастливыми днями? (Со слезами на глазах.) Я отпускаю вас, дети мои! Леди Мильфорд уже нет, а Джен Норфолк слишком бедна, чтобы уплатить ее долг. Казначей мой пусть раздаст вам все, что есть в моей шкатулке. Этот дворец остается герцогу. Самый бедный из вас выйдет из него богаче, нежели ваша госпожа! (Подает им руки, и все наперерыв целуют их.) Я вас понимаю, друзья мои. Прощайте! прощайте навсегда! (Собираясь с духом.) О! карета подъехала! (Вырывается из рук прислуги и хочет выйти.)
Гофмаршал кидается к ней и останавливает ее.
А! ты еще здесь, жалкий человек?
Гофмаршал (все это время смотревший на записку с выражением тупости на лице). И я должен вручить эту записку его герцогскому высочеству? в его собственные руки?
Леди. Да, жалкий человек! В собственные его высочества руки! Донеси тоже собственным его высочества ушам, что я не могу идти босиком в Лоретто, и стану поэтому поденно работать, дабы очистить себя от посрамления, что управляла им! (Быстро уходит.)
Все в чрезвычайной тревоге расходятся.
Пятое действие
Комната музыканта Миллера. Сумерки.
Явление I
Луиза молча и неподвижно сидит в темном углу комнаты, опершись головою на руки. После долгого и глубокого безмолвия входит Миллер с фонарем в руке, тревожно светит, озираясь, и, не заметив Луизы, кладет шляпу на стол и ставит фонарь.
Миллер. И здесь ее нет… Все улицы обежал, ко всем знакомым наведался, у всех ворот расспрашивал: нигде не видали моей дочки! (Помолчав.) Потерпи, бедный, несчастный отец! Подожди до утра! Может быть, прибьет твое детище волной к берегу. Господи! Господи! Или тем я виноват, что слишком боготворил свою дочь? Тяжко это наказание… тяжко, Отче небесный. Я не ропщу, Господи! Но тяжко это наказание! (Кидается в глубокой скорби на стул.)
Луиза (из угла). Привыкай, бедный старик! Привыкай к потере заранее!
Миллер (вскакивая). Ты здесь, дитя мое? здесь? Да что же ты одна и впотьмах?
Луиза. Нет, я не одна. Когда вот так темно, черно вокруг меня, тут-то и собираются ко мне гости.
Миллер. Спаси тебя Господи! Только нечистая совесть да совы любят потемки. Только грешники да злые духи бегут света.
Луиза. Да еще вечность, батюшка, говорящая с душою без посредников.
Миллер. Дитятко мое! дитятко! что это ты говоришь такое?
Луиза (встает и выходит вперед). Я вынесла трудную битву. Ты это знаешь, батюшка! Господь дал мне силу: битва решена. Батюшка, нас, женщин, считают слабыми, хрупкими созданиями. Не верь этому. Мы вздрагиваем от паука, но, не дрогнув, заключаем в свои объятия черное чудовище: тление! Знай это, батюшка! Луиза твоя повеселела.
Миллер. Ах, Луиза! лучше бы ты выла и рыдала: легче бы мне смотреть на тебя.
Луиза. Ух как ж я перехитрю его, батюшка! Как же я обману его, тирана! Любовь хитрее злобы и смелее – этого он не знал, этот человек с печальной звездой. О, они хитрые, пока им приходится иметь дело с головой, но стоит им связаться с сердцем – и злодеи становятся глупы. Он думал утвердить свой обман клятвой! Клятва, батюшка, связывает живых, но смерть разрешает и железные узы клятв! Фердинанд узнает свою Луизу! Передашь ты эту записку, батюшка? потрудишься?
Миллер. Кому, дитя мое?
Луиза. И ты спрашиваешь! Всей бесконечности и сердцу моему не вместить и одной мысли о нем! К кому же мне больше писать!
Миллер (с беспокойством). Послушай, Луиза! Я распечатаю письмо!
Луиза. Как хочешь, батюшка! Только ты ничего в нем не поймешь. Буквы лежат в нем, как холодные трупы, и оживают лишь для очей любви.
Миллер (читает). «Ты обманут, Фердинанд! Беспримерное коварство разорвало союз наших сердец, но страшная клятва связала мне язык, и отец расставил везде своих шпионов. Но… будь только у тебя отвага, милый!.. я знаю место, где нет шпионов». (Миллер останавливается и серьезно смотрит ей в лицо.)
Луиза. Что ты так глядишь на меня? Читай дальше, батюшка!
Миллер. «Но много нужно тебе мужества, чтобы пройти темный путь, которого ничто не озарит перед тобою, кроме твоей Луизы и Бога. Лишь с одной любовью должен ты прийти и оставить за собою все свои надежды и все свои дурные желания; тебе ничего не нужно, кроме твоего сердца. Решишься – иди в путь, когда колокол кармелитского монастыря ударит в двенадцатый раз. Побоишься – вычеркни слово «мужество» из качеств своего обихода: тебя пристыдит девушка». (Миллер кладет письмо, долго смотрит вперед неподвижным, скорбным взглядом, потом оборачивается к Луизе и говорит тихим, прерывающимся голосом.) Где же это место, Луиза?
Луиза. А ты его не знаешь, батюшка? Странно! Я так ясно его обозначила. Фердинанд его найдет.
Миллер. Гм! Говори яснее!
Луиза. Я не могу теперь придумать для него приятного названия. Не путайся, батюшка, если я назову его неприятным именем. Это место… Ах, зачем не любовь изобретала слова! она назвала бы его лучшим словом. Это место, батюшка, – только не прерывай меня! – это место… могила.
Миллер (покачнувшись, хватается за ручку кресла). Господи!
Луиза (подходит к нему и поддерживает его). Полно, батюшка! Страшно лишь слово… Прочь его… это брачное ложе, над которым утро стелет свой золотой ковер и весны сыплют свои пестрые гирлянды. Только последний грешник может называть смерть скелетом: это прекрасный, ласковый юноша, такой же цветущий, каким рисуют бога любви, но не такой хитрый… это кроткий, услужливый ангел, подающий руку измученной страннице-душе через пропасть времени, отпирающий для нее чудные чертоги вечного блаженства, дружелюбно улыбающийся и потом исчезающий.
Миллер. Что это ты задумала, Луиза? Ты хочешь наложить на себя руки?!
Луиза. Не говори так, батюшка! Нет, очистить место в обществе, где я лишняя, – поспешить туда, куда и без того скоро пришлось бы мне уйти. Разве это грех?
Миллер. Самоубийство – страшный грех, дитя мое! Одному этому греху нет покаяния; смерть и преступление тут вместе.
Луиза (стоит неподвижно). Ужасно! Но ведь смерть не так же скоро придет. Я брошусь в реку, батюшка, и, опускаясь ко дну, стану молить Всемогущего о помиловании!
Миллер. Не все ли это равно, что каяться в воровстве, припрятав покражу в верном месте. Луиза! дитя мое! не оскорбляй Бога, когда тебе всего нужнее его милость! Ах! далеко ушла ты от правого пути! Ты бросила молиться – и милосердный отнял от тебя свою десницу.
Луиза. Разве любить – преступление, батюшка?
Миллер. Люби Бога – и любовь никогда не доведет тебя до преступления. Тяжким горем придавила ты меня, родная! тяжким! тяжким! Может, от него я и в могилу лягу. Луиза, я, как вошел, говорил тут. Я думал, что я один. Ты подслушала меня, да и что мне от тебя таиться? Ты была мне божеством! Луиза! если есть еще у тебя в сердце местечко для любви к отцу… Ты была бы для меня все! Ты уж теперь не только свое достояние погубишь. И я все потеряю. Посмотри, голова у меня уже седеет. Мало-помалу наступает время, когда нам, отцам, нужен становится капитал, положенный нами в сердца наших детей. Или ты хочешь обмануть меня, Луиза? убежать со всем добром твоего отца?
Луиза (глубоко тронутая, целует его руку). Нет, батюшка! Я покину свет твоею должницей и с лихвой заплачу свой долг в вечности.
Миллер. Смотри, не обсчитайся там, дитя мое! (Строго и торжественно.) Придется ли еще нам встретиться там!.. А! ты бледнеешь! Луиза моя и сама понимает, что мне уж не найти ее в том мире: ведь я не спешу туда вместе с нею.
Луиза припадает, вся дрожа от волнения, к его плечу.
(Он крепко прижимает ее к груди и продолжает умоляющим голосом.) Дитя мое! дочь моя! падшая, может быть, уж погибшая дочь моя! Послушай сердечного отцовского слова! Я не могу уберечь тебя! Отниму я у тебя нож – ты можешь умертвить себя и булавкой. Не дам я тебе яду принять – ты можешь удавиться ниткою жемчуга. Луиза… Луиза… я только и могу, что отговаривать тебя… Или ты хочешь, чтобы неверная прихоть твоя ускользнула от тебя на грозном переходе от времени к вечности? Или ты дерзнешь явиться к престолу Всевышнего с ложью на устах? Сказать: «ради тебя, Господи, пришла я сюда!» в то время, как твои грешные глаза станут искать своей земной страсти? А если этот хрупкий кумир твоего сердца, превращенный в такого же червя, как и ты, пресмыкаясь у ног твоего Судии, обманет в эту грозную минуту твою безбожную уверенность и укажет твоим обманутым надеждам на вечное милосердие, которого несчастный не в силах вымолить и себе – что тогда? (Громче и выразительнее.) Что тогда, несчастная? (Крепче обнимает ее, смотрит на нее какое-то время пристально и проницательно, потом вдруг выпускает ее из своих рук.) Больше я ничего не знаю… (Поднимая правую руку.) Не ручаюсь тебе, праведный Боже, за эту душу. Делай, что хочешь, дочь. Принеси своему красавцу жертву, от которой возрадуется нечистая сила и отступится твой ангел-хранитель! Ступай! взвали себе на плечи все свои грехи и этот последний ужаснейший грех, а коль бремя все еще недостаточно, я прибавлю к нему и свое проклятие! Вот тебе нож – пронзи им свое сердце, да и… (хочет уйти, с горьким воплем) сердце отца!
Луиза (кидается вслед за ним). Постой, постой! Батюшка! О! в отцовской нежности больше жестокого насилия, чем в самой тирании злобы! Что мне делать? Я не могу! Что мне делать?
Миллер. Если поцелуи твоего юнца горячее слез твоего отца – умирай!
Луиза (после мучительной борьбы, с некоторой твердостью). Батюшка! Вот моя рука! Я не хочу… Боже! Боже! Что я делаю? На что решаюсь? Батюшка, клянусь… Горе мне! горе мне, тяжкой преступнице!.. Батюшка, будь по-твоему!.. Фердинанд… Бог мне свидетель… Вот как уничтожу я в себе и последнюю память о нем! (Разрывает письмо.)
Миллер (радостно обнимая ее). Я узнаю мою Луизу! Взгляни на меня! Нет у тебя любовника, зато есть счастливый отец! (Обнимает ее, и смеясь, и плача.) Луиза! дитятко мое! да вся моя жизнь не стоит одного этого дня! И как это мне, ничтожному человеку, дал Господь такого ангела! Луиза моя! рай мой! Боже! я мало понимаю в любви, но какая это должно быть мука – перестать любить – это я знаю!
Луиза. Только прочь подальше из этой страны, батюшка! Прочь из города, где надо мною насмехаются мои подруги, где навеки погибло мое доброе имя! Дальше, дальше отсюда, где у меня перед глазами столько следов утраченного счастья. Дальше, если возможно!
Миллер. Куда хочешь, дитятко! Господь Бог растит хлеб везде; найдутся везде и уши для моей скрипки. Да пусть хоть и ничего не останется у нас… Я положу на ноты историю твоего горя, сложу песню про дочь, что из любви к отцу растерзала себе сердце, – и станем мы ходить с этой песней со двора во двор, и отрадно будет и милостыню взять от людей, поплакавших над нами.
Явление II
Фердинанд. Те же.
Луиза (первая замечает его и с громким криком кидается на шею отцу). Боже! Он! Я пропала!
Миллер. Где? Кто?
Луиза (показывает, не обращаясь лицом, на майора и крепче прижимается к отцу). Он сам! Оглянись, батюшка… Убить меня пришел!
Миллер (увидев Фердинанда, отступает назад). Как! Вы здесь, барон?
Фердинанд (тихо подходит ближе, останавливается против Луизы, смотрит на нее пристальным, испытующим взглядом и, помолчав, говорит). Спасибо тебе, пойманная врасплох совесть! Признание твое ужасно, но мгновенно и верно, и мне не для чего прибегать к пытке. Здравствуй, Миллер!
Миллер. Ради Бога! Что вам нужно, барон? Что привело вас сюда? Что это значит?
Фердинанд. Было время, когда день разбивали здесь на секунды, когда в тоске ожидания не сводили глаз с медлительных часов и по ударам пульса рассчитывали минуты, когда я приду… Отчего же так удивляет вас теперь мой приход?
Миллер. Уходите, уходите, барон! Если у вас в сердце есть хоть капля сострадания, если вы не хотите убить ту, которую, как вы говорите, вы любите, бегите, не оставайтесь здесь ни минуты больше! Благословение Божие отлетело от моего дома, как только вы переступили его порог. Вы накликали горе под мою кровлю, где прежде жила лишь радость. Или вам хочется еще копаться в ране, которую нанесло моему единственному детищу несчастное знакомство с вами?
Фердинанд. Чудак! я принес твоей дочери приятную весть.
Миллер. Уж не новые ли надежды для нового отчаяния? Уходи, вестник несчастья! Глядя тебе в лицо, не захочешь знать твоих вестей.
Фердинанд. Наконец цель моих надежд передо мной! Леди Мильфорд, самое страшное препятствие нашей любви, сейчас оставила герцогство. Отец одобряет мой выбор. Судьба перестает нас преследовать. Восходит наша счастливая звезда. Я пришел исполнить данное слово и повести к алтарю свою невесту.
Миллер. Слышишь, Луиза? Слышишь, как он издевается над твоими обманутыми надеждами? Оно и кстати, барон, к лицу обольстителю – упражнять остроумие на своем преступлении.
Фердинанд. Ты думаешь, я шучу? Клянусь честью, нет! Все это так же истинно, как любовь моей Луизы, и я так же свято сдержу слова свои, как она свои клятвы! Для меня нет ничего святее… Ты все еще не веришь? Все еще нет румянца радости на щеках моей прекрасной избранницы? Странно! видно, ложь здесь ходячая монета, если истине дают так мало веры? Вы не верите моим словам? Так поверьте этому письменному доказательству! (Бросает Луизе ее письмо к маршалу.)
Луиза развертывает письмо и, побледнев, как полотно, падает без чувств.
Миллер (не замечая этого, майору). Что это значит, барон? Я вас не понимаю!
Фердинанд (подводит его к Луизе). Тем лучше поняла меня она!
Миллер (припадает к дочери). Боже! Дочь моя!
Фердинанд. Побледнела, как смерть! Вот такой она мне нравится, твоя дочь! Никогда еще не была она так хороша, твоя кроткая, честная дочь! Лицо, как у мертвой… Дуновение Божьей правды, стирающее обманчивый блеск с каждой лжи, смело со щек ее румяна, которыми искусница обманула и светлых ангелов. Это в первый раз ее настоящее лицо! Дай поцелую его. (Хочет подойти к Луизе.)
Миллер. Мальчишка, прочь! Не гневи отцовского сердца! Я не уберег ее от твоих ласк, но сумею охранить от твоих оскорблений.
Фердинанд. Чего тебе, старик? Мне нет до тебя никакого дела. Не впутывайся в игру: она окончательно проиграна. Или ты умнее, чем я предполагал? Уж не помог ли ты дочери в ее любовных шашнях своей шестидесятилетней мудростью? Уж не посрамил ли своих седых волос ремеслом сводника? О! если этого не было – ложись, несчастный старик, и умирай! Пока еще есть время. Ты можешь еще заснуть в сладком заблуждении, что был счастливым отцом! Еще минута – и ты отбросишь ядовитую ехидну в породивший ее ад, проклянешь и дар, и дарителя, и с хулой на языке сойдешь в могилу! (Луизе.) Говори, лицемерка! Ты писала это письмо?
Миллер (предостерегая Луизу). Ради Бога, Луиза! Не забудь! Не забудь!
Луиза. О, это письмо, батюшка…
Фердинанд. Попало не в те руки? Хвала случаю! Он творит более великие дела, чем мудрствующий рассудок, и прочнее разума всех мудрецов. Случай?.. Провидение участвует и в падении воробья, – неужто же его нет, когда нужно сорвать личину с дьявола? Отвечай же мне! Ты писала это письмо?
Миллер (Луизе, сбоку, умоляющим тоном). Не робей! Будь тверда, Луиза! Одно только «да» – и всему конец.
Фердинанд. Лихо! Лихо! И отец обманут! Все обмануты! Посмотрите на нее, бесстыдную! И язык ее не хочет уже повиноваться последней ее лжи! Клянусь Богом! грозным и вечно истинным Богом! Ты писала это письмо?
Луиза (после мучительной внутренней борьбы, во время которой она взорами говорила с отцом, твердо и решительно). Я!
Фердинанд (в испуге). Луиза!.. Нет! душою моею клянусь, ты лжешь!.. На пытке и невинность признает за собою преступления, в которых не участвовала. Я спросил слишком резко… Не правда ли, Луиза?.. Ты оттого лишь взяла на себя вину, что я спросил так резко?
Луиза. Я сказала правду!
Фердинанд. Нет, говорю я тебе! Нет! Нет! ты не писала. Это вовсе не твоя рука. Да если и так – неужто подделать почерк труднее, чем испортить сердце? Скажи мне правду, Луиза!.. Или нет, нет… не говори! Ты можешь сказать «да» – и я пропал! Солги, Луиза! солги!.. О! если б у тебя была в запасе какая-нибудь ложь, и ты сказала мне ее с открытым ангельским видом, и убедила бы только мой слух, мои глаза, а сердце жестоко обманула! О Луиза! одно слово твое могло бы изгнать истину из мира и непреклонную справедливость превратить в придворное низкопоклонство! (Дрожащим от опасения голосом.) Ты писала это письмо?
Луиза. Клянусь Богом, грозным и вечно истинным богом – я!
Фердинанд (помолчав, затем тоном глубочайшей скорби). Женщина! женщина! Какими глазами глядишь ты на меня? Если б эти глаза раздавали райские наслаждения, ты не нашла бы желающих даже в самом аду. Знаешь ли ты, чем ты была для меня, Луиза? Невозможно! нет! ты не знаешь, что ты была для меня всем! Все!.. Это жалкое, ничтожное слово, но целая вечность едва вмещает его, целые системы миров вращаются в нем. Все! И так преступно насмеяться над всем!.. О! это ужасно!
Луиза. Я вам призналась, господин фон Вальтер. Я сама осудила себя. Идите теперь! Оставьте дом, где вы были так несчастливы!
Фердинанд. Хорошо! Хорошо! Ведь я спокоен… Спокойным называют и опустошенный край, по которому прошла чума. Я спокоен. (После некоторого размышления.) Еще одна просьба, Луиза, – последняя! Голова у меня в лихорадочном жару. Мне надо освежиться. Сделай мне стакан лимонаду.
Луиза уходит.
Явление III
Фердинанд, Миллер. Оба ходят какое-то время, не говоря ни слова, взад и вперед на противоположных сторонах комнаты.
Миллер (наконец останавливается и грустно смотрит на майора). Барон! может, это хоть немного уменьшит ваше горе, если я вам скажу, что мне от всей души вас жаль!
Фердинанд. Э! полно об этом, Миллер! (Делает еще несколько шагов.) Я уж теперь и не понимаю, как я попал к тебе в дом, Миллер… По какому поводу?
Миллер. Как, барон? Ведь вы хотели учиться у меня на флейте? Вы это забыли?
Фердинанд (быстро). Я увидел твою дочь.
Опять несколько минут молчания.
Ты не сдержал слова, приятель! Мы условились, чтобы уединенные уроки наши были спокойны. Ты обманул меня и подсунул мне скорпиона. (Видя волнение Миллера.) Не пугайся, старик, полно! (С чувством обнимает его.) Ты не виноват!
Миллер (вытирая глаза). Видит Господь всеведущий…
Фердинанд (снова ходит, погруженный в мрачные думы). Странно! о! непостижимо странно играет нами судьба! На тонких, незаметных нитях висят часто страшные тяжести. Знал ли человек, что в этом плоде вкушает он смерть?.. Гм… знал ли он это? (Ходит быстрее, потом в сильном волнении берет Миллера за руку.) Миллер! я слишком дорого плачу тебе за несколько твоих уроков… Но тебе от этого нет прибыли… И ты, может быть, все теряешь. (Отходит от него тревожно.) Нужно было мне приниматься за эту несчастную флейту!
Миллер (старается скрыть свое волнение). Что-то долго нет лимонаду. Не пойти ли мне посмотреть, если вы позволите?
Фердинанд. Успеется, любезный Миллер! (Про себя.) Отцу-то наверное нечего торопиться… Останься!.. Что бишь хотел я спросить?.. Да! Луиза у тебя единственная дочь? Нет у тебя больше детей?
Миллер (с чувством). Нет, барон!.. Да и не надо мне больше. Луиза всем моим сердцем завладела… все, что было во мне любви, все я ей отдал…
Фердинанд (глубоко потрясенный). А!.. Посмотри-ка лучше, добрый Миллер, что лимонад!
Миллер уходит.
Явление IV
Фердинанд (один). Единственное дитя! Чувствуешь ли ты это, убийца! Единственное! Слышишь, убийца? Единственное! И у старика нет во всем мире ничего, кроме его скрипки и этого единственного ребенка… И ты хочешь отнять его? Отнять?.. Отнять последний грош у нищего? Сломать костыли у хромого и бросить их к его ногам? Как? и у меня достанет жестокости? Ничего не ожидая, будет он спешить домой, чтобы на лице дочери увидеть всю свою радость, и вдруг входит и видит – она лежит, как увядший цветок – мертвая, раздавленная в порыве отчаянья… последняя, единственная, величайшая надежда!.. И останавливается он перед нею, и стоит, и у всей природы вокруг словно занялось живительное дыхание, и помертвевший взгляд его бесплодно бродит по безлюдному бесконечному Пространству, и ищет блаженства, и уже не может найти его, и слепо смежается… Боже! Боже! Но ведь и у моего отца один сын… один сын, но не одно богатство. (Помолчав.) Как? Да что же он потеряет? Разве может она осчастливить отца, если священнейшие чувства любви были для нее лишь игрушками? Нет, нет! и меня еще следует благодарить, что я раздавлю ехидну, пока она не успела ужалить и отца!
Явление V
Фердинанд. Миллер возвращается.
Миллер. Сейчас подадут, барон! Бедняжка моя сидит и разливается-плачет. Она нароняет вам слез и в лимонад.
Фердинанд. Хорошо, если б это были только слезы! Давеча мы говорили о музыке, Миллер. (Вынимая кошелек.) Я еще перед тобой в долгу!
Миллер. Как? Что? Полноте, барон! За кого вы меня принимаете? За вами не пропадет. Не конфузьте меня… Бог даст, не в последний раз мы видимся.
Фердинанд. Почем знать? Возьми. Это на случай смерти.
Миллер (смеясь). Э, полноте, барон! В этом случае, кажется, за вас бояться нечего.
Фердинанд. И не боялись. Но разве тебе не случалось еще слышать, что умирают и в молодости? Умирают и девушки, и юноши, дети надежды, воздушные замки обманутых отцов… Не время подточит, не старость, так убивает часто гром. Ведь и Луиза твоя не бессмертна.
Миллер. Мне ее дал Бог.
Фердинанд. Выслушай меня… Я говорю: и она не бессмертна. Эта дочь тебе дороже зеницы ока. Ты привязался к ней и сердцем и душой. Будь осторожен, Миллер! Только отчаянные игроки ставят все на одну карту. Мы называем безумцем купца, который грузит все свое состояние на один корабль. Эй, послушайся моего предостережения. Да что ж ты не возьмешь деньги?
Миллер. Что, барон? Этот тяжелый кошелек? Что это вы выдумали, барон?
Фердинанд. Это мой долг. Возьми! (Бросает кошелек на стол, так что из него выкатываются золотые монеты). Не целый же век носиться мне с этой дрянью.
Миллер (в изумлении). Как? Боже милостивый! да это никак не серебро? (Подходит к столу и восклицает в ужасе.) Как, барон? ради Бога! Что вы! Что это вы делаете? Вот рассеянность-то! (Всплескивая руками.) Да ведь тут – или я околдован, или – Бог меня убей! да ведь это золото, чистое золото! Нет, сатана! на этом ты меня не поймаешь!
Фердинанд. Выпил ты сегодня, что ли, Миллер?
Миллер (грубо). Черт побери! Да вы посмотрите!.. Золото!
Фердинанд. Ну так что же?
Миллер. Фу, дьявол… я вам говорю… ради Бога, взгляните!.. Золото!
Фердинанд. Да что же тут необыкновенного?
Миллер (после некоторого молчания подходит к нему и говорит с чувством). Господин барон! Я простой, прямой человек. На мошенничество вы меня не купите. Видит Бог, таких денег не заслужить честно!
Фердинанд (тронутый). Будь спокоен, любезный Миллер! Ты давно заслужил эти деньги, и я не требую, чтобы ты, Боже упаси, покривил душой ради этих денег.
Миллер (подпрыгивая, как сумасшедший). Так они мои! мои! С Божьего соизволения и благословения, мои! (Бежит к дверям и кричит.) Жена! дочь! Ура! сюда! (Возвращаясь.) Боже правый! да как же это очутилось у меня вдруг такое богатство? Чем я его заслужу? Чем заплачу? Ах!
Фердинанд. Уж не музыкальными уроками, Миллер. Этими деньгами я плачу тебе… (Останавливается от внутреннего содрогания.) Я плачу тебе ими… (помолчав, с грустью) за длившийся три месяца счастливый сон о твоей дочери!
Миллер (крепко жмет ему руку). Барон! будь вы простой, ничтожный мещанин (быстро) и посмей не любить вас моя дочь – да я бы ее зарезал! (Опять подходит к столу и наклоняется над деньгами.) Да ведь эдак у вас ничего не останется? Пожалуй, придется мне, начавши за здравие, съехать на упокой! а?
Фердинанд. Не беспокойся об этом, любезный. Я уезжаю – а в той стране, где думаю поселиться, эти деньги не ходят!
Миллер (все время не отрывавший от денег жадного взора, с восторгом). Так они у меня остаются? у меня? Жаль только, что вы уезжаете. То-то я теперь воспряну! Мы теперь покажем себя! (Надевает шляпу и расхаживает по комнате.) Стану теперь давать уроки в хорошем месте, курить табак номер пятый, а уж как засяду я в театре на райке, так черт меня побери! (Хочет идти.)
Фердинанд. Постой! Молчи и спрячь деньги. (Выразительно.) Только сегодня вечером помолчи, да сделай мне удовольствие – отныне не давай больше уроков.
Миллер (еще больше горячась, хватает майора за пуговицу жилета, с чрезвычайной радостью). А дочь-то моя, барон! (Выпуская пуговицу.) Для мужчины что деньги?.. что?.. Мне что картофель, что тетерка, только бы сыту быть! А этот сюртук и век проношу, лишь бы сквозь локти солнце не стало светить. Для меня деньги – вздор! А вот дочери они нужны: только в глазах у нее прочту, чего ей хочется, – все будет!
Фердинанд (быстро прерывая его). Молчи!.. ах, молчи!
Миллер (еще с большим жаром). И по-французски выучится отменно, и менуэт танцевать, и петь – наславу, что называется! В чепчике будет ходить, как барышня знатная, в разных этих фалбарах ваших. На четыре мили в окружности, кого ни спроси, всякий будет знать музыкантову дочку!
Фердинанд (хватает его за руку, в сильнейшем волнении). Довольно! довольно! Ради Бога замолчи! Только сегодня помолчи! Одного этого требую я от тебя вместо благодарности.
Явление VI
Луиза с лимонадом. Те же.
Луиза (подносит майору на тарелке стакан; глаза у нее заплаканы, голос дрожит). Скажите, если не сладко…
Фердинанд (берет стакан, ставит его и быстро обращается к Миллеру). Ах, чуть было и не забыл!.. Можно попросить тебя, любезный Миллер? Сослужишь ты мне небольшую службу?
Миллер. Хоть тысячу! Что прикажете?
Фердинанд. Меня будут ждать к столу, а я, к несчастью, совсем не в духе. Мне никакой охоты нет быть в обществе. Не сходишь ли ты к моему отцу сказать, чтобы меня извинили.
Луиза (в испуге перебивает). Я могу сходить…
Миллер. К президенту?
Фердинанд. Не к нему самому. Скажи только в прихожей камердинеру. А чтобы тебе поверили, вот мои часы. Я побуду здесь, пока ты не возвратишься. Подожди там ответа.
Луиза (умоляющим тоном). Да нельзя ли мне сходить?
Фердинанд (Миллеру, который уже собрался идти). Постой! вот еще что! Нынче вечером я получил письмо для передачи отцу… может быть, что-нибудь важное. Заодно отдай и его.
Миллер. Слушаю, барон!
Луиза (обнимая Миллера в невыразимом страхе). Батюшка, ведь все это могла бы сделать я!
Миллер. Одна-то, Луиза, в этакую темную ночь? (Уходит.)
Фердинанд. Посвети отцу, Луиза! (Пока она идет со свечой за отцом, он подходит к столу и всыпает яд в стакан с лимонадом.) Да, и она! и она! Высшие силы ниспосылают мне свое грозное согласие, мщение небесное утверждает его, ангел-хранитель отступился от нее.
Явление VII
Фердинанд. Луиза. Она тихо возвращается со свечой, ставит ее на стол и останавливается поодаль майора, опустив глаза, и лишь изредка украдкой взглядывает на него. Он стоит и неподвижно смотрит перед собой. Долгое и глубокое молчание.
Луиза. Не хотите ли сыграть со мной, господин фон Вальтер? Я сяду за фортепиано. (Развертывает ноты. Фердинанд не отвечает. Молчание.) Вы еще в шахматы не отыгрались. Не хотите ли партию, господин фон Вальтер? (Опять молчание.) Господин фон Вальтер, бумажник, что я вам тогда обещала вышить, – я его начала. Не хотите ли посмотреть узор? (Опять молчание.) О! я очень несчастна!
Фердинанд (не меняя положения). Очень может быть.
Луиза. Я не виновата, господин фон Вальтер, что не умею вас занять.
Фердинанд (с презрительным смехом). Чем ты можешь занять мое пустое молчание?
Луиза. Я знала, что нам уж незачем теперь быть вместе. Я испугалась, признаюсь вам, когда вы посылали батюшку… Мне кажется, что эти минуты должны быть невыносимы для нас обоих, господин фон Вальтер. Если вы позволите, я схожу и позову кого-нибудь из своих знакомых.
Фердинанд. Разумеется! А я пойду приведу своих.
Луиза (смотрит на него в смущении). Господин фон Вальтер!
Фердинанд (гневно). Клянусь честью! умнее ничего нельзя придумать в этом положении! Наш неприятный дуэт мы можем превратить в удовольствие и с помощью известных любезностей отомстить за любовные капризы.
Луиза. Вы в веселом настроении, господин фон Вальтер!
Фердинанд. В таком веселом, что мог бы собрать вокруг себя всех мальчишек на улице! Нет! В самом деле, Луиза! Твой пример увлекает меня. Ты будешь моей учительницей. Одни глупцы толкуют о вечной любви. Вечно одно и то же надоедает: только перемена – приправа удовольствия. Да, Луиза! я с этим согласен. Станем порхать из романа в роман, попадать из грязи в грязь… Ты туда – я сюда… Может, мое потерянное спокойствие и найдется где-нибудь в публичном доме. Может, окончив свое веселое поприще, мы еще раз столкнемся – два истлевшие скелета – к общему нашему удовольствию, и узнаем друг друга по родственным чертам, обличающим родство, как это бывает в комедиях, и, может быть, позор и мерзость сольются в ту гармонию, которая была невозможна для нежнейшей любви.
Луиза. Фердинанд! Фердинанд! И без того ты несчастлив… Или тебе хочется еще новых несчастий?
Фердинанд (озлобленный, бормочет сквозь зубы). Я несчастлив? Кто это сказал тебе? Ты слишком мерзка, чтобы почувствовать это… Чем тебе оценить чувства другого? Я несчастлив? О! это слово могло бы вызвать из могилы мое бешенство! Меня ждало несчастие – она знала это! Смерть и проклятие! она знала это, и все-таки изменила мне. Змея! Это было единственное право твое на прощение. Признание твое обрекает тебя на смерть. До этой минуты я мог украшать твое преступление наивностью; презрение мое чуть не спасло тебя, от моей мести. (Быстро берет стакан.) Так ты была не легкомысленна – не глупа? Дьяволом ты была! (Пьет.) Лимонад пресен, как твоя душа. Попробуй!
Луиза. Боже мой! недаром боялась я этой беседы!
Фердинанд (повелительно). Пей!
Луиза (нехотя берет стакан и пьет).
Фердинанд отворачивается, лишь только она подносит стакан к губам, вдруг бледнеет и отходит в самый дальний угол комнаты.
Но лимонад хорош…
Фердинанд (не оборачиваясь и весь дрожа). На здоровье!
Луиза (поставив стакан). О! если бы вы знали, Вальтер, как страшно оскорбляете вы мое сердце!
Фердинанд. Гм!
Луиза. Будет время, Вальтер…
Фердинанд (опять выходя вперед). О! о времени теперь уж нечего говорить.
Луиза. Вы будете горько жалеть об этом вечере.
Фердинанд (начиная ходить быстрее, становится беспокойнее и сбрасывает с себя перевязь и шпагу). Прощай, служба!
Луиза. Боже мой! что с вами?
Фердинанд. Мне тесно и жарко… хочу немного облегчить себя.
Луиза. Пейте! пейте! Лимонад вас освежит.
Фердинанд. Разумеется… Потаскушка добра… впрочем, все они таковы!
Луиза (кидается к нему с выражением глубокой любви и хочет обнять его). И это ты говоришь о твоей Луизе, Фердинанд?
Фердинанд (отталкивает ее). Прочь, прочь! прочь с этими нежными страстными взорами! Я не устою. Явись во всей своей ужасной отвратительности, змея! Кинься на меня, ехидна! Разверни передо мной свои страшные кольца, взвейся к небу!.. во всем безобразии, в каком видел тебя ад!.. только не являйся ангелом… только не ангелом! Уж поздно… Я должен раздавить тебя, как гадину, или впасть в отчаяние. Сжалься надо мной!
Луиза. О! до чего дошло…
Фердинанд (смотрит на нее сбоку). И это – прекрасное творение небесного ваятеля… Кто этому поверит? Кто поверит? (Берет ее руку и поднимает кверху.) Я не испытую тебя, Господи! Но зачем разливаешь ты яд в такие чудные сосуды? Может ли вмещаться порок в этой кроткой, небесной наружности? Непостижимо!
Луиза. О! Слышать все это – и не сметь говорить!
Фердинанд. И этот сладостный голос… Как могут звучать такою гармонией разорванные струны? (Глядит на нее в упоении.) Все так прекрасно… так полно гармонии, все так божественно совершенно! На всем печать последнего дня творения! Клянусь Богом! весь мир, кажется, возник лишь как приготовление к этому чудному созданию! И только на душе не отразилось это совершенство! Может ли быть, чтобы это возмутительное исчадие природы явилось на свет без порока? (Быстро отходит от Луизы.) Или, может быть, природа увидела, что из-под резца ее выходит ангел, и, чтобы исправить свою ошибку, дала ей черное сердце?
Луиза. О, горькое упорство! Он готов обвинять небо и не заподозрить себя в ошибке!
Фердинанд (с горьким плачем бросается ей на шею). Еще раз, как в тот день, когда ты впервые поцеловала меня, когда первое «ты» сорвалось с твоих пылающих губ!.. О! казалось, это мгновение заключало в себе, как почка, семена бесконечных, неизреченных радостей. Прекрасным майским днем лежала вечность перед нашими глазами; золотые века мелькали в пышном венчальном уборе перед нашею душой… Я был тогда счастлив! О Луиза! Луиза! Луиза! Зачем ты погубила меня?
Луиза. Плачьте, плачьте, Вальтер! Ваша грусть будет ко мне справедливее вашего гнева…
Фердинанд. Ты ошибаешься. Это не слезы грусти – не та теплая отрадная роса, что льется бальзамом в душевные раны и снова приводит в движение застывшее чувство. Эти одинокие холодные капли – горькое вечное «прости» моей любви. (С грозной торжественностью, опуская руку на ее голову.) Это слезы о твоей душе, Луиза! Слезы о том, что божество не коснулось тебя своим бесконечным милосердием, что в тебе гибнет лучшее из его созданий! О! мне кажется, весь мир должен бы одеться в траур и оцепенеть от того, что происходит в его сердцевине! Не диво, что люди падают и теряют рай, – но как не стонать всей природе, когда чума поражает и ангелов?
Луиза. Не доводите меня до крайности, Вальтер! У меня немало силы душевной… но и она не устоит против сверхчеловеческого испытания! Вальтер, еще одно слово – и потом расстанемся. Грозная судьба смешала звуки наших сердец. Если бы я смела открыть уста, Вальтер, я могла бы сказать тебе… я могла бы… Но жестокий рок связал мой язык, как и любовь мою, и я должна терпеть – пусть ты обращаешься со мной, как с распутницей!..
Фердинанд. Хорошо ты себя чувствуешь, Луиза?
Луиза. К чему этот вопрос?
Фердинанд. Мне было бы жаль тебя, если бы ты ушла отсюда с ложью на устах.
Луиза. Вальтер! Умоляю вас!
Фердинанд (в сильнейшей тревоге). Нет! нет! Это была бы сатанинская месть! Нет, Боже меня сохрани! в тот мир я не перенесу ее. Луиза! Любила ты маршала? Ты уже не выйдешь из этой комнаты.
Луиза. Спрашивайте, что хотите. Я уж больше ничего не отвечу. (Садится.)
Фердинанд (серьезно). Позаботься о своей бессмертной душе, Луиза… Любила ли ты маршала? Ты уж не выйдешь отсюда.
Луиза. Я ничего не отвечу.
Фердинанд (в неописуемом волнении падает перед нею на колени). Луиза! Любила ты маршала? Эта свеча не успеет еще догореть, как ты будешь пред лицом Бога!
Луиза (вскакивает в испуге). Боже! Что такое? Мне вдруг так дурно стало!.. (Снова опускается в кресло.)
Фердинанд. Уже? Вы, женщины, останетесь вечной загадкой! Нежные нервы выдерживают преступления, подтачивающие в корне человечество, – и жалкий гран мышьяку убивает их.
Луиза. Яд! яд! Боже мой!
Фердинанд. Должно быть. Лимонад твой был подслащен в аду. Ты пила его во славу смерти.
Луиза. Умереть! умереть! Боже милосердный! Яд в лимонаде – и умереть! О! смилуйся над душою моей, Боже всемилостивый!
Фердинанд. Это главное. О том же молю его и я.
Луиза. А мать моя… отец… Спаситель мира! Мой бедный, погибший отец! Или нет никакого спасения? Я так молода – и нет спасения! И мне уж умирать!
Фердинанд. Спасения нет, и тебе надо умирать. Но будь спокойна. Мы отправимся вместе.
Луиза. Фердинанд, и ты? Яд!.. Фердинанд! От тебя! Боже, прости ему! Боже милосердный, сними с него грех!
Фердинанд. Подумай о своих грехах. Это, кажется, не мешало бы тебе.
Луиза. Фердинанд! Фердинанд! О!.. Теперь уж я не могу молчать… Смерть… смерть снимает с нас все клятвы… Фердинанд! Ни небо, ни земля не видали никого несчастнее меня! Я умираю невинною, Фердинанд!
Фердинанд (в испуге). Что ты сказала? Готовясь к этому пути, кажется, забывают о лжи…
Луиза. Я не лгу… Лишь раз солгала я во всю свою жизнь… Ах! какая дрожь пробегает у меня по всем жилам… только раз, когда написала письмо к гофмаршалу.
Фердинанд. О! это письмо! Слава Богу! мужество мое возвращается ко мне.
Луиза (слабо владея языком; пальцы ее в судорожном движении). Это письмо… Соберись с духом! Ты услышишь страшное признание… Рука моя писала, а сердце проклинало эти строки. Твой отец диктовал мне…
Фердинанд стоит неподвижно, как статуя, в долгом мертвом безмолвии и вдруг падает, как громом пораженный.
О, ужасная ошибка! Фердинанд! меня принудили… Прости! твоя Луиза предпочла бы смерть, но отец мой… опасность… Они сделали так хитро…
Фердинанд (вскакивает в ужасе). Слава Богу! Я еще не чувствую яда. (Выхватывает шпагу.)
Луиза (все более и более слабеет). Боже! Что ты задумал? Это отец твой…
Фердинанд (тоном неудержимого бешенства). Убийца и отец убийцы! Туда же пойдет и он, чтобы вечный Судия обратил весь свой гнев на виновного! (Хочет идти.)
Луиза. Спаситель прощал, умирая… Бог да сохранит и тебя и его. (Умирает.)
Фердинанд (быстро оборачивается, замечает ее последнее предсмертное движение и припадает к мертвой). Подожди! подожди! Не улетай, ангел небесный! (Берет ее за руку, но тотчас же выпускает.) Холодная, холодная и влажная! Душа ее отлетела! (Снова вскакивает.) Боже, нет моей Луизы! Помилуй, помилуй худшего из убийц! Это была ее последняя молитва! Как хороша, как прекрасна она и мертвая! Тронутая смерть пощадила эти прелестные щеки. Эта красота не была личиной, и смерть не унесла ее! (Помолчав.) Но что же это? Отчего я ничего не чувствую? Или сила молодости хочет спасти меня? Напрасный труд! Я этого не хочу. (Хватает стакан и допивает.)
Явление последнее
Фердинанд. Президент. Вурм и слуги. Все вбегают в ужасе. Потом Миллер с народом и полицией, которые собираются в глубине сцены.
Президент (с письмом в руке). Сын мой! Что это?.. Я не верю…
Фердинанд (бросает стакан к его ногам). Так убедись, убийца!
Президент (отступает в испуге).
Все в оцепенении. Минута грозного безмолвия.
Президент. Зачем ты это сделал?
Фердинанд (не глядя на него). Разумеется! Следовало сначала спросить сановника, годится ли для его игры эта штука! Нечего сказать, хитро и удивительно придумал разорвать союз наших сердец ревностью. Расчет был мастерски составлен; жаль только, что разгневанная любовь не покорилась этим пружинам так, как твоя деревянная кукла.
Президент (озирается безумными глазами). Неужто нет здесь никого, кто пожалел бы о безутешном отце?
Миллер (за сценой). Пустите меня!
Фердинанд. Девушка эта – праведница; за нее пусть отомстит другой. (Отворяет дверь Миллеру, вбегающему с людьми и полицейскими.)
Миллер (в ужасе). Дитя мое! дитя мое! Яд… яд, сказали тут… Дочь моя! где ты?
Фердинанд (подводит его к трупу Луизы и указывает на президента). Я не виноват. Благодари вот этого!
Миллер (падает на пол). Господи!
Фердинанд. Всего несколько слов, отец! Их у меня немного осталось… Жизнь моя подло украдена у меня – украдена тобой. Я трепещу суда Божия, но злодеем я никогда не был. Что бы ни выпало мне на долю в вечности – да не падет оно на тебя… Но я совершил убийство (грозно возвышая голос) – убийство, с которым – ты знаешь это – явлюсь я не один пред Всевышним судией. Торжественно передаю тебе большую и ужаснейшую его половину: управляйся с нею, как сам знаешь! (Подводит его к Луизе.) Взгляни, злодей! Полюбуйся ужасными плодами своего остроумия: на этом лице неизгладимыми чертами написано твое имя, и ангелы-мстители прочтут его! Пусть образ ее распахивает полог твоей постели, когда ты спишь, и подает тебе свою ледяную руку. Пусть этот образ станет перед твоею душой, когда ты будешь умирать, и прервет твою последнюю молитву! Пусть этот образ станет над твоею могилой, когда наступит день воскресения, – и перед Богом, когда он будет судить тебя… (Теряет чувство.)
Слуги поддерживают его.
Президент (в отчаянии подымая руки к небу). Не от меня, Владыка небесный, не от меня требуй отчета в этих душах, а от него! (Подходит к Вурму.)
Вурм (оживляясь). От меня?
Президент. Да! от тебя, проклятый! от тебя, сатана!.. Ты, ты дал мне коварный совет… Ты ответишь… Я умываю руки!
Вурм. Я? (Злобно хохочет.) Вот как! Неужто? Ну, я узнал по крайней мере, какая благодарность у дьяволов! Я безумный злодей?! Да разве это мой сын? разве я был твоим господином? Я отвечу? отвечу в том, от чего вся кровь застыла у меня в жилах? Я отвечу? Хорошо! пусть я пропаду, но уж и ты не уйдешь. Эй! Эй! Кричите караул по улицам! Зовите полицию! Жандармы, вяжите меня! ведите меня отсюда! Я открою такие тайны, что у тех, кто их услышит, встанут волосы дыбом. (Хочет идти.)
Президент (удерживает его). Сумасшедший! неужто ты…
Вурм (треплет его по плечу). Да, приятель! да! я все открою! Я точно сумасшедший – это твое дело. Ну, и действовать стану как сумасшедший. Рука об руку пойдем мы с тобою на плаху! рука об руку с тобой и в ад! Мне будет лестно, что я осужден вместе с тобой!
Его уводят.
Миллер (все это время лежавший в безмолвной скорби, припав головой на грудь Луизы, быстро встает и бросает кошелек к ногам майора). Отравитель! возьми свои проклятые деньги! Не дитя ли мое думал ты купить на них? (Убегает из комнаты.)
Фердинанд (прерывающимся голосом). Идите за ним! Он в отчаянии. Эти деньги сберегите ему. Это моя страшная признательность… Луиза! Луиза!.. Я иду… Прощайте… Дайте мне умереть около этой святыни!
Президент (приходит в себя из мертвого оцепенения, сыну). Сын мой, Фердинанд! неужели ни взгляда твоему убитому отцу?
Майора опускают рядом с Луизой.
Фердинанд. Богу милосердному последний взгляд мой…
Президент (в глубокой скорби бросается перед ним на колени). И создание, и Творец покидают меня! Неужто ни одного взгляда мне в утешение?
Фердинанд, умирая, подает ему руку.
Президент (быстро поднимаясь). Он простил меня! Теперь я в вашей власти! (Он уходит.)
Полиция следует за ним.
Конец
Перчатка[9]
Вельможи толпою стояли
И молча зрелища ждали;
Меж них сидел
Король величаво на троне;
Кругом на высоком балконе
Хор дам прекрасный блестел.
Вот царскому знаку внимают.
Скрипучую дверь отворяют,
И лев выходит степной
Тяжелой стопой.
И молча вдруг
Глядит вокруг.
Зевая лениво,
Трясет желтой гривой
И, всех обозрев,
Ложится лев.
И царь махнул снова,
И тигр суровый
С диким прыжком
Взлетел опасный
И, встретясь с львом,
Завыл ужасно;
Он бьет хвостом,
Потом
Тихо владельца обходит,
Глаз кровавых не сводит…
Но раб пред владыкой своим
Тщетно ворчит и злится:
И невольно ложится
Он рядом с ним.
Сверху тогда упади
Перчатка с прекрасной руки
Судьбы случайной игрою
Между враждебной четою.
И к рыцарю вдруг своему обратясь,
Кунигунда сказала, лукаво смеясь:
«Рыцарь, пытать я сердца люблю.
Если сильна так любовь у вас,
Как вы твердите мне каждый час,
То подымите перчатку мою!»
И рыцарь с балкона в минуту бежит,
И дерзко в круг он вступает,
На перчатку меж диких зверей он глядит
И смелой рукой подымает.
* * *
И зрители в робком вокруг ожиданье,
Трепеща, на юношу смотрят в молчанье.
Но вот он перчатку приносит назад.
Отвсюду хвала вылетает,
И нежный, пылающий взгляд —
Недального счастья заклад —
С рукой девицы героя встречает.
Но досады жестокой пылая в огне,
Перчатку в лицо он ей кинул:
«Благодарности вашей не надобно мне!»
И гордую тотчас покинул.
1829
Примечания
Коварство и любовь
С. 27. Президент – здесь первый министр.
Гофмаршал – главный распорядитель церемоний при дворах феодалов.
С. 29. Родней Джордж – английский адмирал, в 1780 годах воевал в Вест-Индии против Франции и Испании.
С. 61…свободнорожденная дочь самого свободного народа в мире… – Прогрессивно настроенным немцам времен Шиллера Англия, где уже произошла буржуазная революция и быстро утверждались капиталистические отношения представлялась – по сравнению с феодально раздробленной, экономически отсталой Германией – свободной страной.
С. 62. Норфолк Томас Говард (1536–1572) – английский герцог, возглавлял католическую партию, которая в 1571 г. задумала реакционный феодальный заговор против королевы Елизаветы с целью сбросить ее с престола и провозгласить королевой Англии Марию Стюарт. Норфолка обвинили в государственной измене и казнили.
С. 106. …на позор шестому дню творения. – По Библии, Бог создал мир за шесть дней, и на шестой день он создал человека.
Примечания
1
С непокрытой головой (фр.).
(обратно)2
Модная прическа «ежиком» (фр.).
(обратно)3
Прием во время утреннего туалета герцога (фр.).
(обратно)4
Модный цвет «гусиного помета» (фр.).
(обратно)5
Мимоходом (фр.).
(обратно)6
«Смерть моей жизни» – французское выражение, означающее крайнее нетерпение.
(обратно)7
Дом умалишенных в Париже.
(обратно)8
О, небо! (Фр.)
(обратно)9
Перевод М. Ю. Лермонтова.
(обратно)
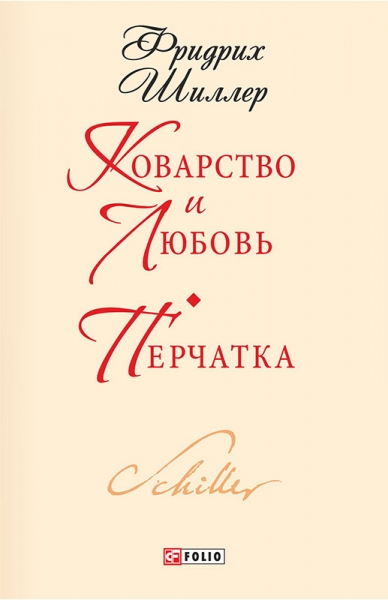




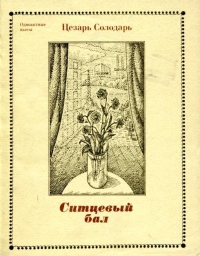
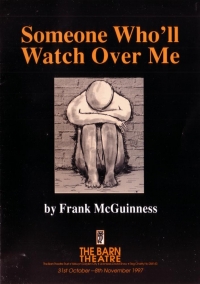
Комментарии к книге «Коварство и любовь. Перчатка», Фридрих Шиллер
Всего 0 комментариев