Бернард Шоу Пигмалион. Кандида. Смуглая леди сонетов (сборник)
George Bernard Shaw
PYGMALION
CANDIDA
THE DARK LADY OF THE SONNETS
Печатается с разрешения The Estate of Bernard Shaw c/o The Society of Authors.
© George Bernard Shaw, 1910, 1913, 1914, 1916, 1926, 1930, 1933, 1941, 1944, 1948
© The Public Trustee as Executor of the Estate of George Bernard Shaw, 1957, 1958
© Перевод. С. Бобров, М. Богословская, наследники, 2016
© Перевод. П. Мелкова, наследники, 2016
© Перевод. М. Лорие, наследники, 2016
© Издание на русском языке AST Publishers, 2016
* * *
Пигмалион Роман-фантазия в пяти действиях 1912–1913[1]
Профессор фонетики
Как мы увидим дальше, «Пигмалион» нуждается не в предисловии, а в продолжении, которым я и снабдил пьесу в должном месте.
Англичане не уважают родной язык и упорно не желают учить детей говорить на нем. Написание слов у них столь чудовищно, что человеку не научиться самому произносить их. Ни один англичанин не откроет рта без того, чтобы не вызвать к себе ненависти или презрения у другого англичанина. Немецкий и испанский языки вполне доступны иностранцам, но английский недоступен даже англичанам. Энергичный энтузиаст-фонетист – вот кто требуется сейчас Англии в качестве реформатора, потому-то я и сделал такового главным действующим лицом моей ныне столь популярной пьесы. Герои такого толка, тщетно вопиющие в пустыне, уже случались в последнее время. Когда к концу 1870-х годов я заинтересовался этой темой, прославленный Александр Мелвилл Белл, изобретатель Наглядной Речи, уже давно эмигрировал в Канаду, где сын его изобрел телефон. Но Александр Дж. Элис еще оставался лондонским патриархом, его величественную голову прикрывала неизменная бархатная шапочка, за что он изысканно извинялся перед аудиторией. Он и Тито Пальярдини, еще один ветеран-фонетист, принадлежали к тем людям, к которым невозможно испытывать неприязнь. Генри Суит, тогда еще молодой человек, отнюдь не отличался присущей им мягкостью: к обыкновенным смертным он относился примерно так же снисходительно, как Ибсен или Сэмюэл Батлер. Его талант фонетиста (а на мой взгляд, он лучше их всех знал свое дело) дал бы ему право на высокое официальное признание и, вероятно, возможность популяризировать любимую науку, если бы не его сатанинское презрение к академическим должностным лицам и вообще ко всем тем, кто греческий ставил выше фонетики. В те дни, когда в Южном Кенсингтоне возник Имперский институт и Джозеф Чемберлен расширял пределы империи, я подбил как-то раз одного издателя ежемесячного журнала заказать Суиту статью о значении его науки для Британской империи. Присланная им статья не содержала ничего, кроме издевательских нападок на профессора языка и литературы, чью должность, по мнению Суита, имел право занимать исключительно специалист по фонетике. Статью печатать было невозможно по причине ее пасквильного характера, и ее пришлось вернуть автору, а мне пришлось отказаться от мечты вытащить ее автора на сцену. Когда много лет спустя я встретил его после долгого перерыва, я, к удивлению моему, увидел, что он ухитрился из молодого человека вполне сносной наружности превратить себя (по чистому пренебрежению) в воплощенное отрицание Оксфорда и всех его традиций. Суита, очевидно назло ему, втиснули в должность преподавателя фонетики. Будущее фонетики, возможно, и принадлежит его ученикам – все они молились на него, – но самого учителя ничто не могло примирить с университетом, за который, пользуясь своим святым правом, он тем не менее цеплялся, как самый типичный оксфордец. Смею предположить, что его записки, если он таковые после себя оставил, содержат кое-какие сатиры, которые можно будет опубликовать без особых разрушительных последствий лет этак через пятьдесят. Он, как мне кажется, вовсе не был недоброжелательным, скорее, я бы сказал, наоборот, но просто он не выносил дураков.
Те, кто его знал, угадают у меня в III акте намек на изобретенную им систему стенографии, с помощью которой он писал открытки и которую можно изучить по руководству ценой в четыре шиллинга шесть пенсов, выпущенному Кларендон Пресс. Именно такие открытки, о которых упоминает миссис Хигинс, я и получал от Суита. Расшифровав звук, который кокни передал бы как «зерр», а француз как «ce», я затем писал Суиту, требуя с некоторой запальчивостью разъяснить, что именно, черт его подери, он хотел сказать. С безграничным презрением к моей тупости Суит отвечал, что он не только хотел, но и сказал слово «результат» и что ни в одном из существующих на земле языков нет другого слова, содержащего этот звук и имеющего смысл в данном контексте. Думать, что менее квалифицированным смертным требуются более подробные разъяснения, – это уже было свыше суитовского терпения. Задуман его Универсальный алфавит был для того, чтобы безупречно изображать любой звук в языке, как гласный, так и согласный, держа при этом руку под любым наиболее удобным углом и делая самые легкие и беглые движения, какие нужны для написания не только «м» и «н», но также «у», «л», «п» и «к». Однако неудачная идея использовать этот оригинальный и вполне удобочитаемый алфавит еще и как стенографию превратила его в суитовских руках в самую неразборчивую из криптограмм. Первоначальной задачей Суита было снабдить исчерпывающим, аккуратным, удобочитаемым шрифтом наш благородный, но плохо экипированный язык. Но Суита увело в сторону презрение к популярной Питменовской системе стенографии, которую он окрестил ямографией. Торжество Питмена было торжеством умелой организации дела: еженедельная газета убеждала вас изучать систему Питмена; вам предоставлялись дешевые пособия и сборники упражнений и расшифровки стенограмм речей, а также школы, где опытные педагоги натаскивали вас до необходимого уровня. Суит же не умел подобным образом организовать спрос на себя. Его скорее можно уподобить сивилле, разорвавшей листы со своим пророчеством оттого, что ее никто не желал слушать. Учебник за четыре шиллинга шесть пенсов, собственноручно им написанный и залитографированный, никогда не имел пошлой рекламы. Быть может, однажды его и подхватит какой-нибудь синдикат и навяжет обществу, как «Таймс» навязал читателям Британскую энциклопедию, но до тех пор, пока этого не произошло, его системе, безусловно, не одержать верха над Питменовской. За свою жизнь я купил три экземпляра Суита. Через издательство мне известно, что учебник его продолжает упорно вести здоровое затворническое существование. Я овладевал системой Суита дважды, в разные периоды своей жизни, и, однако, эти вот строки записаны по системе Питмена. Причина в том, что моя секретарша не умеет стенографировать по Суиту, так как волею обстоятельств обучалась по школе Питмена. Вот Суит и нападал в своих речах на Питмена так же тщетно, как Терсит на Аякса, и хотя язвительные нападки, может статься, и облегчали его душу, но повальной моды на Универсальный алфавит не обеспечили.
Пигмалион-Хигинс не есть портрет Суита, вся история с Элизой Дулитл для Суита была бы невозможна. Но, как вы увидите, в Хигинсе присутствуют черты Суита. Обладай тот телосложением и темпераментом Хигинса, он сумел бы поджечь Темзу. Будучи же самим собой, Суит как профессионал произвел на Европу такое впечатление, что сравнительная безвестность и непризнание Оксфордом суитовских заслуг до сих пор остаются загадкой для иностранных специалистов в этой области. Я не виню Оксфорд, так как считаю, что Оксфорд вправе требовать от своих питомцев хотя бы толики светской вежливости (видит Бог, ничего непомерного нет в этом требовании!). Хотя я хорошо понимаю, как трудно человеку талантливому, чью науку недооценивают, поддерживать безоблачно дружелюбные отношения с теми, кто ее недооценивает и отводит лучшие места менее важным дисциплинам (которые преподают без оригинальности и подчас не имея должных способностей), все же, коль скоро ты изливаешь презрение и ярость, вряд ли следует ожидать, что тебя будут осыпать почестями.
О последующих поколениях фонетистов я знаю мало. Среди них высится Поэт-лауреат, которому, возможно, Хигинс обязан своим увлечением Мильтоном, но и тут я опять-таки отрицаю всякое портретное сходство. Если моя пьеса доведет до сознания общества, что есть на свете такой народ – фонетисты и что они принадлежат в современной Англии к самым нужным людям, то она сделала свое дело.
Хочу похвастаться: «Пигмалион» пользуется большим успехом во всей Европе и Северной Америке и даже у себя на родине. Пьеса столь интенсивно и нарочито дидактична и тема ее слывет столь сухой, что я с наслаждением сую ее в нос умникам, которые как попугаи твердят, что искусство ни в коем случае не должно быть дидактичным. Она льет воду на мою мельницу, подтверждая, что искусство иным и быть не должно.
И в заключение, чтобы подбодрить тех, кого акцент лишает возможности сделать служебную карьеру, добавлю, что перемена, которую произвел профессор Хигинс в цветочнице, не является чем-то несбыточным и необычным. В наш век дочь консьержа, которая играет королеву Испании в «Рюи Блазе» в «Комеди Франсез», осуществляя свои честолюбивые мечты, – лишь одна из многих тысяч (женщин и мужчин), отбросивших родные диалекты, как сбрасывают старую кожу, и приобретших новый язык. Но совершать превращение надо по-научному, иначе последняя стадия обучения может оказаться безнадежнее первой: честный природный диалект трущоб вынести куда легче, чем попытку фонетически необученной личности подражать вульгарному жаргону членов гольф-клуба. А я с сожалением должен признать, что, невзирая на усилия нашей Королевской академии драматического искусства, на сцене нашей до сих пор слишком много поддельного английского, заимствованного именно из гольф-клубов, и слишком мало благородного английского языка Форбс-Робертсона.
Действие первое
Ковент-Гарден. 11.15 вечера. Лето. Проливной дождь. Со всех сторон отчаянные гудки автомобилей. Прохожие бегут к рынку и к церкви Св. Павла, под портиком которой уже укрылось несколько человек. Среди них дама с дочерью, обе в вечерних туалетах. Все мрачно взирают на потоки дождя, и только один человек, стоящий спиной к остальным, по-видимому, целиком поглощен своей записной книжкой; он торопливо делает какие-то заметки. Бьет четверть двенадцатого.
Дочь (стоит между двумя центральными колоннами портика, ближе к левой). Я продрогла до костей. Куда пропал Фредди? Вот уже двадцать минут как он ушел.
Мать (справа от дочери). Положим, не двадцать. Но такси он бы все-таки мог уже найти.
Прохожий (справа от дамы). Раньше половины двенадцатого никакого такси он вам не достанет, мэм, и не надейтесь; сейчас все из театров разъезжаются.
Мать. Но нам очень нужно. Мы не можем стоять здесь до половины двенадцатого. Какое безобразие!
Прохожий. А я чем виноват?
Дочь. Будь у него голова на плечах, он давно бы нашел такси у театра.
Мать. Ну что ты хочешь от бедного мальчика?
Дочь. Все достают такси. А он почему не может?
Под потоками дождя со стороны Саутгемптон-стрит вылетает Фредди и становится между ними, закрывая зонтик, с которого стекает вода. Это молодой человек лет двадцати в вечернем костюме, брюки у него мокры по щиколотку.
Дочь. Ну, достал-таки?
Фредди. Нигде ни одного, ни за какие деньги.
Мать. Ах, Фредди, машину всегда можно достать. Ты просто плохо искал.
Дочь. Боже, как мне все надоело! Уж не прикажешь ли нам самим идти за такси?
Фредди. Я же вам говорю, все машины расхватали. Дождь начался внезапно, никто его не ожидал, и все кинулись искать такси. Я дошел до Черинг-кросс, потом повернул и добрался почти до самого Ледгет-серкус; нигде ни одной свободной машины.
Мать. А на Трафальгар-сквер?
Фредди. И на Трафальгар-сквер ни одной.
Дочь. А ты там был?
Фредди. Я был на Черинг-Кросском вокзале. Ты, вероятно, ожидала, что я пробегусь до Хаммерсмита?
Дочь. Никуда ты не ходил.
Мать. Ты в самом деле ужасно беспомощен, Фредди. Иди опять и, пока не найдешь такси, не возвращайся.
Фредди. Только зря вымокну до нитки.
Дочь. А мы? По-твоему, мы всю ночь будем стоять здесь на ветру, в одних платьях? Это свинство. Эгоист несчастный!
Фредди. Ну, ладно, ладно, иду.
Раскрывает зонтик и бросается в сторону Стрэнда, но по дороге сталкивается с уличной цветочницей, которая спешит укрыться от дождя, и выбивает у нее из рук корзину с цветами. Ослепительная вспышка молнии, сопровождаемая оглушительным раскатом грома, служит фоном для этого происшествия.
Цветочница. Ты что, очумел, Фредди? Не видишь, куда прешь!
Фредди. Виноват… (Убегает.)
Цветочница (подбирая рассыпанные цветы и укладывая их в корзинку). А еще называется образованный! Все мои фиялочки копытами перемял.
Усаживается у подножия колонны справа от дамы и начинает приводить в порядок цветы. Привлекательной ее не назовешь. Лет ей восемнадцать-двадцать, не больше. На ней маленькая матросская шапочка из черной соломки, с многочисленными следами лондонской пыли и копоти, явно скучающая по щетке. Ее давно не мытые волосы приобрели какой-то неестественный мышиный цвет. Поношенное черное пальто, узкое в талии, едва доходит до колен. На ней коричневая юбка и грубый фартук. Башмаки тоже знавали лучшие дни. Нельзя сказать, что она не старается быть по-своему опрятной, но по сравнению с окружающими ее дамами выглядит настоящей грязнулей. Черты ее лица не хуже, чем у них, но кожа оставляет желать лучшего. К тому же девушка явно нуждается в услугах зубного врача.
Мать. Простите, откуда вы знаете, что моего сына зовут Фредди?
Цветочница. Ага, так это ваш сынок? Хороша мамаша! Воспитала бы сына как положено, так он бы побоялся цветы у бедной девушки изгадить, а потом смыться и денег не заплатить. Вот вы теперь и гоните монету!
Приношу извинения, но попытка воспроизвести ее отчаянный диалект без фонетической транскрипции неосуществима за пределами Лондона.
Дочь. Только этого еще не хватало!
Мать. Не вмешивайся, Клара. Есть у тебя мелочь?
Дочь. Шестипенсовик. Мельче нет.
Цветочница (с надеждой). Так я вам его разменяю, леди.
Мать (Кларе). Дай сюда.
Дочь неохотно подчиняется.
Так. (Цветочнице.) Вот вам за цветы, милая.
Цветочница. Премного благодарна…
Дочь. Пусть она даст сдачи. Такому букетику красная цена – пенни.
Мать. Помолчи, Клара. (Цветочнице.) Сдачу оставьте себе.
Цветочница. У… у… у… х, спасибо вам, леди.
Мать. А теперь скажите мне, откуда вам известно имя этого молодого человека?
Цветочница. Да я его и не знаю.
Мать. Но я слышала, как вы назвали его по имени. Не обманывайте меня.
Цветочница (возражая). А чего мне вас обманывать? Ну, Фредди, Чарли – не все одно? Надо же из вежливости как-то назвать человека. (Усаживается возле своей корзины.)
Дочь. Зря только выбросили шесть пенсов. Право, мама, тут уж вы могли бы пощадить Фредди. (Брезгливо отступает за колонну.)
Пожилой джентльмен – привлекательный тип старого военного – спешит укрыться от дождя, закрывая на ходу зонтик, с которого льет вода. У него, как и у Фредди, брюки внизу совершенно мокрые. Он в вечернем костюме и легком пальто. Занимает освободившееся место у колонны слева.
Джентльмен. Уф-ф!
Мать (джентльмену). Ну, как там, сэр? Просвета все еще не видно?
Джентльмен. Ни малейшего намека. Напротив, дождь усиливается. (Подходит к тому месту, где сидит цветочница, ставит ногу на плинтус колонны и, нагнувшись, подвертывает мокрые брюки.)
Мать. О господи! (Огорченно отходит к дочери.)
Цветочница (пользуется соседством пожилого джентльмена, чтобы завязать с ним дружеские отношения). Раз опять припустил, значит, конец видать. Не огорчайтесь, кэптен, купите лучше букетик у бедной девушки.
Джентльмен. К сожалению, у меня нет мелочи.
Цветочница. Я вам разменяю, кэптен.
Джентльмен. Соверен? Мельче у меня нет.
Цветочница. Ух ты! Купите цветочек, кэптен, купите! Полкроны я еще разменяю. Возьмите вот этот – всего два пенса.
Джентльмен. Не приставай ко мне, девочка, – это нехорошо. (Шарит по карманам.) У меня в самом деле нет мелочи… Постой-ка! Вот три монетки по полпенса, если тебя устроит… (Переходит к другой колонне.)
Цветочница (разочарованно, но понимая, что полтора пенса лучше, чем ничего). Спасибо вам, сэр.
Прохожий (цветочнице). Эй ты, полегче, взяла деньги – так дай ему цветок. Видишь вон того типа за колонной? Он записывает каждое твое слово.
Все оборачиваются к человеку с записной книжкой.
Цветочница (испуганно вскакивая). Что я худого сделала? Ну, заговорила с джентльменом – так я имею право продавать цветы, если на тротуар не лезу. (Истерически.) Я девушка порядочная! Я ничего такого ему не сказала – просто попросила купить цветочек…
Общий шум. Большая часть публики сочувствует цветочнице, но осуждает ее чрезмерную чувствительность. Люди пожилые, солидные треплют ее по плечу, бросая ободряющие реплики вроде: «Чего расхныкалась? Кто тебя трогает? Кому ты нужна? К чему шум поднимать? Ну-ну, успокойся. Будет, будет!» Менее терпеливые рекомендуют ей заткнуть глотку или сердито спрашивают, чего, собственно, она разоралась. Те, что стояли далеко и не знают, в чем дело, спешат к месту происшествия и усугубляют суматоху расспросами и объяснениями: «Что за шум? Что она натворила? Где он? Да вот, застукал ее легавый. Какой? Да вон тот, за колонной. Деньги у джентльмена выманила». И так далее. Цветочница, оглушенная и растерянная, протискивается сквозь толпу к джентльмену и громко вопит.
Цветочница. Ой, сэр, пожалуйста, не велите ему заявлять на меня! Вы не знаете, что мне за это будет! У меня отберут патент, меня выкинут на улицу за приставанье к мужчинам. Они мне…
Человек с записной книжкой (выходит вперед, толпа окружает его). Ну, хватит, хватит! Кто вас обижает, глупая вы девчонка! За кого вы меня принимаете?
Прохожий. Все в порядке. Это джентльмен – поглядите, какие у него ботинки. (Объясняет человеку с записной книжкой.) Она думала, сэр, что вы легавый.
Человек с записной книжкой (с живым интересом). А что значит «легавый»?
Прохожий (не находя определения). Легавый – это… это… ну, одним словом, легавый. Как его иначе назовешь? Ну, вроде сыщика или полицейского агента.
Цветочница (все еще истерически). Да я на Библии могу присягнуть, что ничего такого…
Человек с записной книжкой (повелительно, но добродушно). Довольно! Замолчите наконец. Разве я похож на полицейского?
Цветочница (далеко не успокоенная). А зачем тогда записывали каждое слово? Почем я знаю, что вы там накатали? А ну-ка, покажите, что у вас там обо мне накарякано?
Он раскрывает записную книжку и сует ей под нос. Толпа, пытаясь прочесть написанное через его плечо, напирает так, что человек послабее не устоял бы на ногах.
Чего это? Написано-то не по-нашему. Я не разбираю…
Человек с записной книжкой. Зато я разберу. (Читает, точно воспроизводя ее выговор.) «Ни огарчайтись, кэптин, купитя лучше пукетик у бенной девушки».
Цветочница (в полном смятении). Может, вы за то, что я его назвала «кэптен»? Так я ж ничего плохого не думала. (Джентльмену.) Ах, сэр, не велите ему на меня заявлять, за одно только слово. Вы…
Джентльмен. О чем заявлять? Я вас ни в чем не обвиняю. (К человеку с записной книжкой.) Право, сэр, хоть вы и сыщик, вам вовсе незачем ограждать меня от приставаний, пока я сам не попрошу. Слепому ясно, что у девушки не было дурных намерений.
Голоса в толпе (протестующие против полицейского произвола). Правильно! Чего он суется? Пусть лучше занимается своим делом! Не видите, что ли? Он выслужиться захотел! Каждое слово за человеком записывает! Девушка с ним слова не сказала! А хоть бы и сказала! Хорошенькое дело, девушке уж и от дождя нельзя укрыться, чтобы ее не оскорбили. (И т. д. и т. п.)
Прохожие, настроенные наиболее сочувственно, отводят цветочницу обратно к колонне, где она снова усаживается, стараясь побороть волнение.
Прохожий. Никакой он не сыщик. Просто любит соваться в чужие дела. Я же вам говорю, посмотрите на его ботинки.
Человек с записной книжкой (обернувшись к нему, сердечно). Как поживают ваши родные в Селси?
Прохожий (подозрительно). А кто вам сказал, что мои родные из Селси?
Человек с записной книжкой. Не важно кто. Ведь это же так. (К цветочнице.) А вас как занесло так далеко на восток? Вы ведь родились в Лисонгрове.
Цветочница (ошеломленная). А что такого, если я уехала из Лисонгрова? Я там в конуре вонючей жила – у свиньи хлев и то лучше, – а платила четыре шиллинга шесть пенсов в неделю. (Заливается слезами.) О… о… о… ой… ой… ой!
Человек с записной книжкой. Живите где угодно, только прекратите реветь.
Джентльмен (девушке). Ну полно, полно! Он не тронет тебя, ты имеешь право жить где хочешь.
Саркастический прохожий (протискиваясь между человеком с записной книжкой и джентльменом). Например, в собственном особняке на Парк-лейн. А знаете, я не прочь обсудить с вами жилищную проблему.
Цветочница (пригорюнившись над корзиной, потихоньку причитает). Я девушка честная. Да, честная.
Саркастический прохожий (не обращая на нее внимания). Ну, а откуда я родом, вы знаете?
Человек с записной книжкой (не моргнув глазом). Из Хокстона.
В толпе хихикают. Интерес к человеку с записной книжкой явно возрастает.
Саркастический прохожий (пораженный). Угадал, ничего не скажешь. Черт побери, да вы действительно всезнайка.
Цветочница (все еще переживая нанесенную ей обиду). Нет у него таких правов, чтобы лезть в чужие дела. Чего он ко мне пристал?
Прохожий (цветочнице). Верно! Вот ты ему и не спускай. (К человеку с записной книжкой.) Послушайте, а на каком таком основании вы все знаете о людях, которые с вами не желают иметь дела? Где ваше удостоверение?
Несколько человек из толпы (ободренные ссылкой на статью закона). Точно! Где у вас удостоверение?
Цветочница. А пусть его болтает чего вздумается! Не хочу я с ним связываться.
Прохожий. А все потому, что вы нас за людей не считаете. С джентльменом вы бы себе шутки шутить не позволили.
Саркастический прохожий. Верно! Если уж взялись ворожить, так скажите нам – откуда он взялся? (Указывает на пожилого джентльмена.)
Человек с записной книжкой. Челтенхем, Харроу, Кембридж, позднее Индия.
Джентльмен. Совершенно верно.
Толпа разражается хохотом. Теперь сочувствие явно на стороне человека с записной книжкой. Раздаются восклицания: «Все насквозь знает! Так и отрезал! Слыхали, как он ему выложил, что, да как, да где?»
И т. д.
Джентльмен. Позвольте спросить, сэр. Вы, наверно, из мюзик-холла? Зарабатываете этим номером на жизнь?
Человек с записной книжкой. Я уже подумывал об этом. Возможно, когда-нибудь попробую.
Дождь прекратился, и толпа понемногу начинает расходиться.
Цветочница (недовольная переменой общего настроения не в ее пользу). Никакой он не порядочный. Порядочный не станет обижать бедную девушку.
Дочь (потеряв терпение, бесцеремонно проталкивается вперед). Куда же пропал Фредди? Я схвачу воспаление легких, если еще постою на этом сквозняке.
Пожилой джентльмен, вежливо сторонясь, отступает за колонну.
Человек с записной книжкой (поспешно делает отметку, повторив про себя). Эрлкорт.
Дочь (возмущенно). Попрошу держать при себе свои дерзости.
Человек с записной книжкой. Неужели я сказал что-либо вслух? Простите, это невольно. Но матушка ваша, несомненно, из Эпсома.
Мать (подходит к дочери и становится между ней и человеком с записной книжкой). Подумайте, как интересно! Я действительно выросла в Широкаледи-парк, неподалеку от Эпсома.
Человек с записной книжкой (весело смеясь). Ха-ха-ха! Черт, ну и название. (К дочери.) Простите, вам, кажется, нужно такси?
Дочь. Как вы смеете обращаться ко мне?!
Мать. Клара, Клара!
Дочь сердито пожимает плечами и, не удостоив ответом, с надменным видом отходит в сторону.
Мы были бы страшно признательны вам, сэр, если бы вы достали для нас такси.
Человек с записной книжкой вытаскивает свисток. Мать отходит к дочери. Человек с записной книжкой пронзительно свистит.
Саркастический прохожий. Видали? Я же говорил, что это шпик, только в штатском.
Прохожий. Нет, у него не полицейский свисток, а спортивный.
Цветочница (все еще негодуя). Нет у него таких правов, чтобы забрать мой патент. Мне нужен патент, как и всякой леди.
Человек с записной книжкой. Кстати, вы заметили, что дождь уже перестал?
Прохожий. И верно. Чего же вы раньше не сказали? А то мы торчим здесь и теряем время, слушаем ваши глупости. (Уходит по направлению к Стрэнду.)
Саркастический прохожий. А я могу сказать, откуда вас самих принесло. Из психической лечебницы. Возвращайтесь-ка туда.
Человек с записной книжкой (поправляя). Психиатрической.
Саркастический прохожий (стараясь говорить изысканно). Весьма признателен, господин учитель. Ха-ха-ха! Всего наилучшего! (Издевательски-почтительно приподымает шляпу и уходит.)
Цветочница. Людей только пугает! Самого бы его пугнуть.
Мать. Дождя нет, Клара. Теперь можно добраться до автобуса. Идем. (Подбирает юбку и торопливо уходит по направлению к Стрэнду.)
Дочь. А как же такси…
Мать уже не слышит ее.
Ах, как мне все надоело! (С раздраженным видом следует за матерью.)
Вся публика постепенно разошлась. Остались только человек с записной книжкой, джентльмен и цветочница, которая сидит и, укладывая в корзину цветы, продолжает тихо жаловаться на судьбу.
Цветочница. Бедная ты девушка! И так тебе жизни нет, а тут еще каждый цепляется да надсмехается.
Джентльмен (возвращаясь на свое прежнее место, слева от человека с записной книжкой). Могу я узнать, как это у вас получается?
Человек с записной книжкой. Фонетика и еще раз фонетика. Наука о произношении. Моя профессия и моя страсть. Поистине счастлив тот, кому любимое занятие дает средства к жизни. Ирландца или йоркширца легко узнать по акценту. Но я могу определить место рождения человека с точностью до шести миль, а в Лондоне – двух. Иногда даже в пределах двух улиц.
Цветочница. Стыда на вас нет, бессовестный!
Джентльмен. Неужели этим можно заработать на жизнь?
Человек с записной книжкой. Конечно, можно. И на вполне приличную жизнь. Наш век – это век выскочек. Есть люди, которые начинают в Кентиштауне, живя на восемьдесят фунтов, а кончают в особняке на Парк-лейн, имея сто тысяч годового дохода. Они хотят отделаться от Кентиштауна, но стоит им раскрыть рот, как они выдают себя. Я же могу научить их…
Цветочница. Занимался бы лучше своим делом, чем мучить бедную девушку.
Человек с записной книжкой (вспылив). Женщина! Сейчас же прекрати свое мерзкое нытье или ищи себе место на другой паперти.
Цветочница (с робким вызовом). Я имею право тут сидеть, как и вы.
Человек с записной книжкой. Женщина, издающая такие омерзительные и убогие звуки, не имеет права сидеть где бы то ни было. Она вообще не имеет права жить. Не забывайте, что вы человеческое существо, наделенное душой и божественным даром членораздельной речи. Ваш родной язык – язык Шекспира, Мильтона и Библии. А вы тут сидите и квакаете, как простуженная лягушка.
Цветочница (совершенно подавленная, боясь поднять голову, искоса смотрит на него со смешанным чувством удивления и осуждения). Ай… о… о… у… у… а!
Человек с записной книжкой (хватаясь за карандаш). Боже мой! Что за звуки! (Записывает, затем, глядя в книжку, читает, точно воспроизводя сочетание звуков.) Ай… о… о… у… у… у… а!
Цветочница (довольная представлением, невольно смеется). Ух ты!
Человек с записной книжкой. Взгляните на эту девчонку! Слышали вы, на каком жаргоне она говорит? Этот жаргон навсегда приковал ее к панели. Так вот, сэр, дайте мне три месяца, и эта девушка сойдет у меня за герцогиню на приеме в любом посольстве. Я даже смогу устроить ее горничной или продавщицей в магазин, где надо говорить совсем уж безукоризненно. Нашим миллионерам я оказываю услуги именно этого рода, а на заработанные деньги веду научные изыскания в области фонетики и немножко занимаюсь поэзией – в духе Мильтона.
Джентльмен. Я сам изучаю индийские диалекты и…
Человек с записной книжкой (с нетерпением). Серьезно? А не знаете ли вы, случайно, полковника Пикеринга, автора «Разговорного санскрита»?
Джентльмен. Я и есть полковник Пикеринг. А кто вы?
Человек с записной книжкой. Генри Хигинс – изобретатель «Универсального алфавита Хигинса».
Пикеринг (восторженно). Я же приехал из Индии, чтобы повидаться с вами!
Хигинс. А я собирался в Индию, чтобы встретиться с вами!
Пикеринг. Где вы живете?
Хигинс. Уимпол-стрит, двадцать семь «а». Жду вас у себя завтра же.
Пикеринг. Я остановился в отеле «Карлтон». Идемте ко мне, мы еще успеем перекинуться словечком за ужином.
Хигинс. С восторгом!
Цветочница (Пикерингу, когда он проходит мимо). Купите цветочек, добрый джентльмен, а то мне за квартиру платить нечем.
Пикеринг. К сожалению, у меня в самом деле нет мелочи. (Уходит.)
Хигинс (возмущенный лживостью девушки). Лгунья! Вы же говорили, что можете разменять полкроны.
Цветочница (в отчаянии вскакивая). Сердце у вас каменное, вот что! (Швыряет к его ногам корзину.) Нате, забирайте всю эту чертову корзину за шесть пенсов.
Часы на колокольне бьют половину двенадцатого.
Хигинс (услышав в этом бое укор свыше за фарисейскую жестокость к бедной девушке). Глас божий! (Торжественно приподнимает шляпу, затем бросает в корзину пригоршню монет и уходит вслед за Пикерингом.)
Цветочница (вытаскивая полкроны). Ау… у… у… ох! (Вытаскивает два флорина.) У… а… а… ооу! (Вытаскивая еще несколько монет.) Ую… ю… ю… ай! (Вытаскивая полсоверена.) А… а… а… ха… ха… ха… ой!
Фредди (выскакивая из такси). Наконец-то достал! Хелло! (Цветочнице.) Тут стояли две дамы. Не знаете, где они?
Цветочница. А как дождь кончился, так они к автобусу и потопали.
Фредди. Безобразие! А что я буду делать с такси?
Цветочница (величественно). Не беспокойтесь, молодой человек. На вашей такси поеду домой я.
Проплывает мимо Фредди к машине. Шофер при виде ее поспешно захлопывает дверцу. Понимая его сомнения, она гордо показывает ему пригоршню монет.
Видал, Чарли? Восемь пенсов для нас – кха, тьфу!
Шофер ухмыляется и открывает ей дверцу.
Энджел-корт, Друри-Лейн, за керосиновой лавкой. И жми на всю железку!
С шумом захлопывает дверцу. Такси трогается.
Фредди. Вот это номер!
Действие второе
Одиннадцать утра. Кабинет Хигинса на Уимпол-стрит. Это комната в первом этаже, окнами на улицу, первоначально предназначавшаяся под гостиную. Посередине задней стены – двустворчатая дверь: входя через нее, видишь справа у стены два высоких картотечных шкафа, стоящих под прямым углом друг к другу. Там же письменный стол, где громоздятся фонограф, ларингоскоп, батарея тонких органных труб с воздуходувными мехами, ряд газовых горелок под ламповыми стеклами, подсоединенных резиновым шлангом к газовому рожку на стене, несколько разного размера камертонов, муляж человеческой головы в натуральную величину, показывающий голосовые органы в разрезе, и коробка с запасными восковыми валиками для фонографа. По эту же сторону – камин; возле него, ближе к двери, – удобное кожаное кресло и ящик для угля. На каминной доске – часы.
Между письменным столом и камином – журнальный столик. По левую руку от двери – шкафчик с неглубокими ящиками; на нем телефон и телефонная книга. Почти вся остающаяся часть левого угла занята концертным роялем, расположенным хвостом к двери; перед роялем не табурет, как обычно, а скамейка во всю длину клавиатуры. На рояле ваза с фруктами и сладостями, преимущественно шоколадными конфетами. Середина кабинета пуста. Кроме кресла, скамейки и двух стульев у письменного стола, в комнате есть лишь еще один стул, не имеющий определенного назначения. Сейчас он придвинут к камину. На стенах гравюры, в основном Пиранези, и портреты меццо-тинто. Картин нет. Пикеринг, сидя у стола, раскладывает по местам камертон и карточки, которыми только что пользовался. Хигинс, стоя рядом, у картотеки, водворяет обратно выдвинутые ящики. Сейчас, при дневном свете, видно, что это крепкий, жизнерадостный, отменного здоровья мужчина лет сорока, в костюме, свидетельствующем о принадлежности к определенной профессии, – черный сюртук, крахмальный воротничок, черный шелковый галстук. Он один из тех энергичных людей науки, которые глубоко, даже страстно интересуются всем, что может служить предметом научного исследования, и в то же время равнодушны к себе и ближним, а заодно и к их чувствам. Несмотря на возраст и внушительную комплекцию, он, в сущности, очень похож на непоседу ребенка, который шумно и бурно реагирует на все, что привлекает его внимание, и за которым нужно внимательно присматривать, чтобы он не натворил беды. По-детски неустойчиво и его поведение: добродушная ворчливость в минуты хорошего настроения мгновенно сменяется у него яростными вспышками, как только ему что-нибудь не по нраву; но он так непосредствен и бесхитростен, что симпатичен даже тогда, когда заведомо не прав.
Хигинс (задвигая последний ящик). Ну вот, как будто и все.
Пикеринг. Поистине потрясающе. Но знаете, я не воспринял даже половины.
Хигинс. Хотите снова прослушать на выбор?
Пикеринг (встает, подходит к камину и становится спиной к огню). Нет, спасибо, больше не могу. На сегодня хватит.
Хигинс (идет за ним и становится рядом, с левой стороны). Устали слушать звуки?
Пикеринг. Да. Ужасное напряжение. А я-то гордился, что могу отчетливо произнести двадцать четыре гласных. Но ваши сто тридцать сразили меня. В большинстве случаев я даже не могу уловить разницу между ними.
Хигинс (посмеиваясь, отходит к роялю и берется за конфеты). Вопрос привычки. Вначале вы не улавливаете разницы; но вслушайтесь хорошенько и вскоре убедитесь, что они отличаются друг от друга, как А от Б.
В комнату заглядывает миссис Пирс, экономка Хигинса.
В чем дело, миссис Пирс?
Миссис Пирс (колеблясь: она явно растерянна). Какая-то юная особа желает вас видеть, сэр.
Хигинс. Юная особа? А что ей угодно?
Миссис Пирс. Видите ли, сэр, она утверждает, что вы очень обрадуетесь, когда узнаете, зачем она пришла. Совсем простая девушка, сэр. Из самых простых. Я бы сразу выпроводила ее, но подумала, может быть, она вам нужна, чтобы наговаривать в ваши машины. Не знаю, правильно ли я поступила, но к вам иногда приходят такие странные люди… Надеюсь, вы меня извините, сэр…
Хигинс. Ничего, ничего, миссис Пирс. А у нее забавное произношение?
Миссис Пирс. Кошмарное, сэр, просто кошмарное. Не понимаю, как вы можете интересоваться такими вещами.
Хигинс (Пикерингу). Давайте послушаем. Тащите ее сюда, миссис Пирс. (Бросается к письменному столу и достает новый валик для фонографа.)
Миссис Пирс (подчиняясь не без внутренней борьбы). Слушаю, сэр. Как вам угодно. (Уходит.)
Хигинс. Какая удача! Я покажу вам, как делаю запись. Заставим ее говорить – я запишу ее сначала по системе Белла, а затем латинским алфавитом. Потом запишем ее на фонограф, и вы сможете прослушивать запись сколько захотите, сравнивая звук с транскрипцией.
Миссис Пирс (возвращаясь). Вот эта юная особа, сэр.
Входит цветочница. Она в полном параде. На голове у нее шляпа с тремя страусовыми перьями оранжевого, небесно-голубого и красного цвета. Ее передник почти чист, и грубошерстное пальто подверглось воздействию щетки. Пафос этой жалкой фигурки, с ее наивным тщеславием и видом важной дамы, трогает Пикеринга, который и так уже выпрямился в кресле при появлении миссис Пирс. Что касается Хигинса, то ему безразлично, с мужчиной или женщиной он имеет дело, разница заключается лишь в том, что в тех случаях, когда он не воздевает руки к небу в отчаянии от тупости какого-нибудь небесного создания или же не помыкает им, он заискивает перед женщиной, как ребенок перед своей нянькой, когда ему хочется выпросить у нее что-нибудь.
Хигинс (сразу узнав цветочницу и не скрывая своего разочарования, которое у него, как у ребенка, превращается в смертельную обиду). Это же та девчонка, которую я записал вчера вечером. Она нам не нужна. У меня достаточно записей с лисонгровским жаргоном. Нет смысла тратить на нее еще один валик. (Цветочнице.) Уходите, вы нам не нужны.
Цветочница. А вы не задирайте нос раньше времени! Вы еще не знаете, зачем я пришла. (К миссис Пирс, которая остановилась в дверях, ожидая дальнейших приказаний.) Вы сказали ему, что я приехала на такси?
Миссис Пирс. Какие глупости, моя милая! Неужели вы думаете, что такому джентльмену, как мистер Хигинс, не все равно, на чем вы приехали?
Цветочница. Ого, какие мы гордые! А ведь он не брезговает давать уроки, я сама слышала, как он говорил. Ну так вот! Я сюда не кланяться пришла. Если мои денежки вам не по вкусу, я пойду к другому.
Хигинс. При чем здесь ваши деньги?
Цветочница. Как при чем? При том, что я пришла брать уроки. Теперь расчухали? И платить за них собираюсь, не сумлевайтесь!
Хигинс (ошеломлен). Ну, знаете! (С трудом переводя дыхание.) И чего же вы ожидаете от меня?
Цветочница. А были бы вы джентльменом, так для начала предложили бы мне сесть. Я ведь уже сказала, что дам вам заработать.
Хигинс. Пикеринг, как мы поступим с этим пугалом? Предложим ей сесть или вышвырнем ее за окно?
Цветочница (в ужасе отступает за рояль, готовая отчаянно защищаться). А-а-о-о-у-у. (Оскорбленная в своих лучших чувствах, хнычет.) Что вы обзываете меня пугалом? Я же сказала, что буду платить, как всякая другая леди.
Мужчины, остолбенев, растерянно смотрят на нее.
Пикеринг (мягко). Чего вы хотите, дитя мое?
Цветочница. Я хочу быть продавщицей в цветочном магазине, а не торговать фиалками на углу Тотенхэм-Корт-роуд. А меня туда не возьмут, если я не буду выражаться по-образованному. А он сказал, что берется научить меня. Я не прошу никаких одолжениев, понятно? Я могу заплатить, а он меня обзывает, словно я дрянь последняя.
Миссис Пирс. Как можно быть такой глупой, невежественной девушкой? Неужели вы думаете, что вы в состоянии брать уроки у мистера Хигинса?
Цветочница. А почему бы нет? Я не хуже вас знаю, почем стоят уроки, и согласна платить.
Хигинс. Сколько?
Цветочница (приближаясь к нему, торжествующе). Наконец-то заговорил по-людски. Я ведь знала: стоит вам увидеть, что можно вернуть хоть часть того, что вы швырнули мне вчера вечером, вы сразу станете посговорчивее. (Доверительно.) Малость подзаложили за галстук, а?
Хигинс (повелительно). Сядьте!
Цветочница. Только выкиньте из головы, что мне из милости…
Хигинс (громовым голосом). Кому я сказал? Сядьте!
Миссис Пирс (строго). Садитесь, моя милая. Делайте, что вам велят. (Придвигает свободный стул к камину между Хигинсом и Пикерингом и становится за ним, ожидая, пока девушка сядет.)
Цветочница. А… аааоооу… у. (Стоит ошеломленная, но с вызывающим видом.)
Пикеринг (с изысканной вежливостью). Не присядете ли?
Цветочница (неуверенно). Что ж, это можно. (Садится.)
Пикеринг возвращается к камину.
Хигинс. Как вас зовут?
Цветочница. Элиза Дулитл.
Хигинс (торжественно декламирует). Элиза, Элизабет, Бетси и Бесс. Удрали за птичьими гнездами в лес.
Пикеринг. В гнезде там четыре яйца отыскали.
Хигинс. Оставили три, а по штучке забрали.
Оба заливаются хохотом, довольные своим остроумием.
Элиза. Хватит дурить-то!
Миссис Пирс. Так, милая, с джентльменами говорить не полагается.
Элиза. А чего он со мной не по-людски разговаривает?
Хигинс. Вернемся к делу. Сколько же вы намерены платить за уроки?
Элиза. Да уж я знаю, сколько положено. Моя подружка берет уроки французского языка по восемнадцать пенсов за час. Так то у настоящего француза. А у вас ведь не хватит нахальства брать с меня за мой родной язык столько же. Вот я и не дам больше шиллинга. Хотите – берите, не хотите – как хотите.
Хигинс (расхаживает по комнате и, засунув руки в карманы, позванивает ключами и мелочью). Знаете, Пикеринг, если рассматривать шиллинг не просто как шиллинг, а как некий процент с ее заработка, то он для нее то же, что шестьдесят – семьдесят фунтов для какого-нибудь миллионера.
Пикеринг. То есть как?
Хигинс. А вот так – посчитайте сами. Миллионер имеет примерно сто пятьдесят фунтов в день. Она зарабатывает примерно полкроны.
Элиза (заносчиво). Кто это вам сказал, что я зарабатываю только…
Хигинс (продолжая). Она предлагает мне за уроки две пятых своего дневного дохода. Две пятых дневного дохода миллионера составили бы примерно шестьдесят фунтов. Недурно! Нет, черт побери, колоссально! Это, пожалуй, самый высокий гонорар в моей жизни.
Элиза (вскочив в ужасе). Шестьдесят фунтов! Что вы такое городите! Я и не думала предлагать вам шестьдесят фунтов. Откуда мне их взять…
Хигинс. Придержите язык!
Элиза (плача). Нету у меня столько…
Миссис Пирс. Не плачьте, глупенькая. Сядьте. Никто не возьмет ваших денег.
Хигинс. Зато кто-то возьмет метлу и всыпет вам как следует, если не перестанете реветь. Сядьте.
Элиза (нехотя повинуется). О-о-о… а-а-у. Полегче – вы мне пока что не отец!
Хигинс. Если уж я возьмусь вас учить, то буду пострашнее двух отцов. Нате. (Протягивает ей свой шелковый носовой платок.)
Элиза. Это еще для чего?
Хигинс. Чтобы вытирать глаза. Вытирать нос, вытирать все, что окажется мокрым; и запомните: вот это – платок, а это – рукав. Не путайте их, если хотите стать леди и поступить в цветочный магазин.
Окончательно сбитая с толку, Элиза беспомощно смотрит на него.
Миссис Пирс. Бесполезно с ней говорить, мистер Хигинс: она же вас не понимает. Кроме того, вы не правы, она рукавом не утирается. (Берет у нее носовой платок.)
Элиза (вырывая платок). Еще чего! Отдавайте платок! Он не вам его дал, а мне.
Пикеринг (смеясь). Верно. Боюсь, миссис Пирс, что платок теперь придется рассматривать как ее собственность.
Миссис Пирс (подчиняясь силе обстоятельств). Так вам и надо, мистер Хигинс.
Пикеринг. Послушайте, Хигинс! Мне пришла в голову интересная мысль. Помните, вы похвастались, что сумели бы выдать ее за герцогиню на приеме в посольстве? Если вам это удастся, я признаю, что вы лучший педагог в мире. Держу пари на все издержки по эксперименту, что вам это не удастся. Я даже согласен платить за ее уроки.
Элиза. Вот это добряк! Спасибо, кэптен.
Хигинс (готовый поддаться искушению, смотрит на Элизу). Чертовски соблазнительно! Она так неподражаемо вульгарна, так невероятно грязна.
Элиза (с возмущением). Оау-о-о-о-о-о. И совсем я не грязная. Я мыла и лицо, и руки, а потом уж пошла к вам. Вот!
Пикеринг. Вы, безусловно, не вскружите ей голову комплиментами, Хигинс.
Миссис Пирс (с беспокойством). Не скажите, сэр. Есть много способов вскружить голову девушке, и нет человека, который бы умел это делать лучше, чем мистер Хигинс, пусть даже не всегда умышленно. Надеюсь, сэр, вы не толкнете его на безрассудные поступки.
Хигинс (зажигаясь идеей Пикеринга). Что такое жизнь, как не ряд безрассудных поступков? Вот повод для них найти труднее. Никогда не упускай случая: он подворачивается не каждый день. Согласен! Я сделаю герцогиню из этой чумички, из этого грязного, вонючего окурка!
Элиза (энергично протестуя против такой оценки ее особы). Ооооааау!
Хигинс (с увлечением). Через полгода, да нет, через три месяца, если у нее хороший слух и гибкий язык, я свезу ее куда угодно и выдам за кого угодно. Начнем сегодня же! Сейчас! Сию минуту! Миссис Пирс, возьмите ее и отмойте хорошенько! Не поможет мыло, трите наждаком! Плиту вы уже затопили?
Миссис Пирс (протестуя). Да, но…
Хигинс (неистово). Сорвите с нее все эти тряпки и немедленно сожгите. Позвоните к Уайтли или в любой магазин и велите прислать все новое! А пока не привезут – заверните ее в газету.
Элиза. Вы не джентльмен, никакой вы не джентльмен, если говорите такие вещи. Я честная девушка, да, честная. Знаю я таких, как вы! Видала!
Хигинс. Вот что, милая, хватит с меня вашей лисонгровской добродетели. Вы должны теперь учиться вести себя как герцогиня. Уведите ее, миссис Пирс. Если она не будет слушаться, вздуйте ее!
Элиза (вскакивает и бросается к Пикерингу, ища защиты). Нет! Я позову полицию, вот увидите, позову!
Миссис Пирс. Но у меня нет для нее места.
Хигинс. Суньте ее в мусорное ведро!
Элиза. Ааоооооооу!
Пикеринг. Ну-ну, Хигинс! Будьте же благоразумны!
Миссис Пирс (решительно). Вы должны быть благоразумны, мистер Хигинс, право, должны. Нельзя так третировать людей.
Хигинс, получив нагоняй, стихает. Ураган переходит в ласкающий ветерок изумления.
Хигинс (с профессиональной изысканностью модуляций). Я третирую людей! Дорогая моя миссис Пирс, дорогой мой Пикеринг, я не имел ни малейшего намерения третировать кого бы то ни было. Наоборот! Я считаю, что все мы должны как можно лучше отнестись к этой бедной девушке. Мы должны подготовить ее к новому образу жизни и помочь ей освоиться с ним. Если я недостаточно вразумительно высказывался, то делал это лишь из боязни ранить ее или ваши чувства.
Элиза, успокоившись, пробирается на свое прежнее место.
Миссис Пирс (Пикерингу). Нет, вы слыхали что-либо подобное, сэр?
Пикеринг (смеясь от души). Никогда, миссис Пирс, никогда.
Хигинс (терпеливо). А в чем, собственно, дело?
Миссис Пирс. А дело в том, что нельзя же вот так просто подобрать девушку, как подбирают камешек на пляже.
Хигинс. А почему бы нет?
Миссис Пирс. Как почему? Да ведь вы ничего о ней не знаете. Кто ее родители? К тому же она может быть замужем.
Элиза. Черта с два!
Хигинс. Вот именно. Как совершенно справедливо выразилась девушка – черта с два! Какой там замужем! Разве вы не знаете, что женщина ее происхождения, пробыв год замужем, выглядит как пятидесятилетняя поденщица.
Элиза. Да кто на мне женится!
Хигинс (внезапно переходя на самые волнующие, низкие ноты своего голоса и к самым убедительным приемам своего красноречия). Клянусь вам, Элиза, еще прежде чем я успею обучить вас, улицы у вашего дома будут усеяны трупами мужчин, застрелившихся от безумной любви к вам.
Миссис Пирс. Хватит, сэр. Вам не следует так разговаривать с ней.
Элиза (решительно встает и выпрямляется). Я ухожу. У него у самого не все дома! Ясно! Не нужно мне тронутых учителей!
Хигинс (оскорбленный до глубины души тем, что она осталась глуха к его красноречию). Ах вот как! Я сумасшедший, не так ли? Прекрасно. Миссис Пирс, не заказывайте ей новые платья. Вышвырните ее.
Элиза (хнычет). Легче, легче… Нет у вас таких прав, чтобы меня трогать.
Миссис Пирс. Видите, к чему приводит дерзость. (Указывая на дверь.) Сюда, пожалуйста.
Элиза (чуть не плача). Я и не просила платьев. Я бы все равно их не взяла. (Бросает платок Хигинса.) Я сама могу себе платья купить.
Хигинс (ловко подхватывает платок и загораживает ей дорогу). Вы дрянная, неблагодарная девчонка. Вот как вы мне платите за то, что я хотел вытащить вас из грязи, красиво одеть и сделать настоящей леди.
Миссис Пирс. Довольно, мистер Хигинс! Я этого не допущу. Дурно поступаете вы, а не она. Возвращайтесь домой к родителям, дитя мое, и скажите им, чтобы они лучше смотрели за вами.
Элиза. Нет у меня никаких родителев. Они сказали, что я уже взрослая, сама могу прокормиться, и выгнали меня.
Миссис Пирс. А где ваша мать?
Элиза. Нет у меня матери. А выгнала меня моя мачеха… шестая. Ну и наплевать – я и без них обхожусь. Но вы не думайте, я девушка честная.
Хигинс. Вот и прекрасно! К чему тогда весь шум? «Нет у нее никаких родителев». Девушка никому не принадлежит и никому не нужна, кроме меня. (Подходит к миссис Пирс и вкрадчиво убеждает.) Вы же можете удочерить ее, миссис Пирс. Иметь дочку – такая радость. А теперь довольно болтовни. Тащите ее вниз и…
Миссис Пирс. Но что станется с ней? Собираетесь ли вы платить ей? Опомнитесь же, сэр.
Хигинс (нетерпеливо). Да платите вы ей сколько положено; можете занести это в графу хозяйственных расходов. А зачем, черт побери, ей деньги? У нее будет вдоволь еды и платьев. А если дать ей денег, она запьет.
Элиза (набрасываясь на него). Совести у вас нет! Все вы врете! В жизни никто не видел, чтобы я хоть каплю спиртного в рот взяла. (Возвращается к своему стулу и с вызывающим видом садится.)
Пикеринг (с добродушным упреком). А вам не приходит в голову, Хигинс, что у девушки могут быть какие-то чувства?
Хигинс (критически осматривая ее). Нет, вряд ли. Во всяком случае, не такие, которые следовало бы принимать во внимание. (Весело.) Есть у вас какие-нибудь чувства, Элиза, а?
Элиза. У меня чувства такие, как у всех людей.
Хигинс (задумчиво). Понимаете вы, Пикеринг, в чем трудность?
Пикеринг. Что? Какая трудность?
Хигинс. Исправить произношение легко. Научить грамотно говорить – куда труднее.
Элиза. Не желаю я грамотно говорить. Я хочу говорить как леди.
Миссис Пирс. Мистер Хигинс, прошу вас, не уклоняйтесь в сторону. Я должна знать, на каких условиях остается здесь девушка. Собираетесь вы платить ей жалованье? Что станет с ней, когда вы кончите ее учить? Надо же хоть немного смотреть вперед, сэр.
Хигинс (нетерпеливо). А что станет с ней, если я оставлю ее в канаве? Ответьте-ка мне на этот вопрос, миссис Пирс.
Миссис Пирс. Это дело ее, а не ваше, мистер Хигинс.
Хигинс. В таком случае, когда я закончу обучение, мы сможем выбросить ее обратно в канаву, и это снова станет ее делом, так что все в порядке.
Элиза. Сердца у вас нет; на всех вам наплевать, кроме себя. (Встает и решительно объявляет.) Хватит с меня, я ухожу. (Направляется к двери.) Постыдились бы вы, да, постыдились.
Хигинс (берет конфету из вазы на рояле, глаза его лукаво блестят). Возьмите шоколадку, Элиза.
Элиза (колеблется, поддаваясь соблазну). Почем я знаю, что там внутри? Такие вот, как вы, отравили не одну порядочную девушку. Я знаю, слышала.
Хигинс вынимает перочинный нож, разрезает конфету, кладет половинку в рот и, смакуя ее, протягивает вторую половинку девушке.
Хигинс. Вот, смотрите, в залог доверия, одну половину вам, другую – мне.
Элиза хочет что-то возразить, Хигинс всовывает ей в рот конфету.
Вы будете получать шоколад коробками, бочками, каждый день. Вы только им и будете питаться. Ну как?
Элиза (наконец проглатывает конфету, чуть не подавившись ею). Сдалась мне ваша конфета! Я бы и не стала ее есть, только я слишком хорошо воспитана, чтобы плюваться.
Хигинс. Послушайте, Элиза, вы, кажется, приехали в такси?
Элиза. Ну, а если приехала? Я что, не имею права на такси ездить, как все?
Хигинс. Имеете, имеете, Элиза. Теперь вы будете ездить в такси сколько захотите. Можете хоть каждый день кататься по всему городу и вдоль, и поперек, и вокруг. Подумайте об этом, Элиза.
Миссис Пирс. Мистер Хигинс, вы искушаете девушку. Это нехорошо. Ей надо думать о будущем.
Хигинс. В ее возрасте! Вздор! О будущем она успеет подумать тогда, когда впереди уже не будет будущего. Нет, Элиза, берите пример с этой леди: думайте о чужом будущем, но никогда не размышляйте о своем собственном. Думайте лучше о шоколаде и такси, о золоте и бриллиантах.
Элиза. Не хочу я вашего золота и бриллиантов. Я порядочная девушка, вот! (Снова садится, пытаясь принять позу, исполненную достоинства.)
Хигинс. Вы и останетесь порядочной девушкой – об этом позаботится миссис Пирс. А замуж вы выйдете за гвардейского офицера с пышными усами. Он окажется сыном маркиза, и отец сначала лишит его наследства за то, что он женился на вас, а потом, тронутый вашей красотой и добродетелью, смягчится и…
Пикеринг. Простите, Хигинс, но я обязан вмешаться. Миссис Пирс, безусловно, права. Раз девушка намерена довериться вам на полгода, то есть на время вашего опыта, она должна ясно понимать, что делает.
Хигинс. Невозможно! Она решительно не способна понимать что бы то ни было. Да и вообще, кто из нас понимает, что делает? Мы бы никогда ничего не сделали, если бы понимали, что делаем.
Пикеринг. Очень остроумно, Хигинс, но маловразумительно. (Элизе.) Мисс Дулитл…
Элиза (ошеломленная). А… у… у… у… о!..
Хигинс. Ну вот! Это все, что можно выжать из Элизы. А… у… у… у… о! Объяснять ей что-либо – бесполезно. Вы должны понимать это, как человек военный. Ей надо приказывать – вот и все, что требуется. Элиза, вы будете жить здесь полгода и учиться красиво говорить, как леди из цветочного магазина. Если вы будете слушаться и делать то, что вам скажут, вы будете спать в хорошей спальне, есть вволю, покупать конфеты и разъезжать в такси. Если вы будете непослушной и ленивой, вы будете спать в чулане с черными тараканами и миссис Пирс будет колотить вас метлой. Через полгода вы наденете роскошное платье и в карете поедете в Букингемский дворец. Если король увидит, что вы не настоящая леди, он прикажет полицейским засадить вас в Тауэр, где вам отрубят голову в назидание другим дерзким цветочницам. Если же никто ничего не узнает, вы получите в подарок семь шиллингов шесть пенсов, поступите продавщицей в цветочный магазин и начнете новую жизнь. Если вы откажетесь от моего предложения, значит, вы самая неблагодарная и злая девчонка на свете, и ангелы будут плакать, глядя на вас. (Пикерингу.) Надеюсь, теперь вы удовлетворены, Пикеринг? (Миссис Пирс.) Я полагаю, что объяснил все предельно ясно и просто. Не так ли, миссис Пирс?
Миссис Пирс (терпеливо). Позвольте мне лучше, сэр, поговорить с девушкой с глазу на глаз. Не знаю, смогу ли я взять на себя заботу о ней и вообще соглашусь ли я на эту затею. Конечно, я уверена, что вы не желаете ей зла, но уж если вы заинтересуетесь произношением человека, так забываете обо всем на свете. Пойдемте со мной, Элиза.
Хигинс. Отлично, миссис Пирс, благодарю вас. Тащите ее в ванну.
Элиза (неохотно вставая, подозрительно). Невежа вы, вот кто. Не понравится мне здесь, так я и не останусь, а уж бить себя метлой никому не дам. Не просилась я в ваш Бэкнемский дворец. А с полицией никогда делов не имела, никогда. Я девушка порядочная…
Миссис Пирс. Нельзя возражать старшим, моя милая. Вы не поняли этого джентльмена. Пойдемте, пойдемте. (Ведет Элизу и распахивает перед ней дверь.)
Элиза (на пороге). А чего там, я правду сказала. И не стану я соваться ни к какому королю, пусть мне хоть голову отрубят. Знала бы я, что здесь получится, ни за какие коврижки не пришла бы. Я всегда была девушка честная, к нему я не лезла, ничего я ему не должна, наплевать мне, не позволю над собой измываться, и какие у всех людей чувства, такие и у меня.
Миссис Пирс закрывает дверь, и причитаний Элизы больше не слышно. Пикеринг отходит от камина и, усевшись верхом на стул, кладет локти на спинку.
Пикеринг. Простите за откровенный вопрос, Хигинс. Порядочный ли вы человек в отношениях с женщинами?
Хигинс (уныло). А вы встречали мужчин, которые были бы порядочны в отношениях с женщинами?
Пикеринг. Да, довольно часто.
Хигинс (опершись ладонями на крышку рояля, подпрыгивает, с шумом усаживается и авторитетно объясняет). Ну, а я не встречал! Стоит только женщине сблизиться со мной, как она становится ревнивой, требовательной, подозрительной и чертовски надоедливой. Стоит только мне сблизиться с женщиной, как я превращаюсь в тирана и эгоиста. Женщины все ставят с ног на голову. Впустите только женщину в свою жизнь, и вы обязательно увидите, что ей всегда нужно одно, а вам – совершенно другое.
Пикеринг. Что же, например?
Хигинс (в нетерпении спрыгивает с рояля). А черт его знает! Вероятно, женщина хочет жить своей жизнью, а мужчина своей, причем каждый старается свести другого с правильного пути. Один хочет ехать на юг, другой – на север, в результате оба вынуждены отправиться на восток, хотя оба не выносят восточного ветра. (Садится на скамейку у рояля.) Вот почему я старый убежденный холостяк и, по-видимому, таковым и останусь.
Пикеринг (встает и, подойдя к нему, говорит серьезно). Бросьте, Хигинс! Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Приняв участие в этой затее, я беру на себя ответственность за судьбу девушки. Надеюсь, вы не попытаетесь злоупотребить ее положением? Ясно?
Хигинс. Что? Ах, вот вы о чем! Дело свято – можете быть спокойны. (Встает и объясняет.) Поймите, она ведь будет моей ученицей, а научить чему-нибудь можно лишь при условии, что личность ученика – священна. Я научил десятки американских миллионерш правильно говорить по-английски, а это самые красивые женщины в мире. Я человек закаленный. На уроке женщина для меня все равно что полено, и сам я не мужчина, а полено. Видите ли…
Миссис Пирс приоткрывает дверь. В руках у нее шляпа Элизы. Пикеринг усаживается в кресло перед камином.
(Живо.) Ну что, миссис Пирс? Все в порядке?
Миссис Пирс (в дверях). Если разрешите, мистер Хигинс, я хотела бы сказать вам несколько слов.
Хигинс. Разумеется, миссис Пирс. Входите.
Она входит в комнату.
Не сжигайте это (он берет у нее шляпу), я хочу сохранить ее как антикварную редкость.
Миссис Пирс. Только, пожалуйста, поосторожнее, сэр. Мне пришлось дать девушке слово, что я не сожгу эту шляпу, но немножко прокалить ее в печке отнюдь не мешает.
Хигинс (поспешно кладет шляпу на рояль). Спасибо за предупреждение! Так что же вы хотите мне сказать?
Пикеринг. Я не помешаю?
Миссис Пирс. Нисколько, сэр. Мистер Хигинс, очень прошу вас тщательно выбирать выражения в присутствии этой девушки.
Хигинс (строго). Разумеется. Я всегда чрезвычайно тщательно выбираю выражения. Почему вас это беспокоит?
Миссис Пирс (невозмутимо). Нет, сэр, вы вовсе не выбираете выражения, особенно если что-нибудь ищете или теряете терпение. Для меня это не имеет значения, я привыкла. Но, право, вам не следует ругаться при девушке.
Хигинс (возмущенно). Я – ругаюсь! (С пафосом.) Я никогда не ругаюсь. Терпеть не могу сквернословия. Какого черта вы имеете в виду?
Миссис Пирс (бесстрастно). Как раз это я и имею в виду, сэр. Вы злоупотребляете бранными словами. С проклятиями я готова примириться: «к черту», «на черта», «какого черта», «какому черту» – это еще куда ни шло…
Хигинс. Миссис Пирс! Что за выражения я слышу от вас! Ну, знаете!
Миссис Пирс (твердо). … но есть одно слово, которое я самым настоятельным образом прошу не употреблять. Девушка только что сама произнесла это слово, стукнувшись о дверь. Кстати, оно начинается на ту же букву. Девушке простительно, сэр, она с детства ничего другого не слышала. Но она не должна слышать этого слова от вас.
Хигинс (надменно). Не припоминаю, чтобы я когда-нибудь произносил это слово, миссис Пирс.
Миссис Пирс пристально смотрит на него. Он вынужден добавить с мнимым беспристрастием судьи.
Разве в редкие минуты крайнего и справедливого возмущения.
Миссис Пирс. Еще сегодня утром, сэр, вы помянули этим словом свои ботинки, масло и хлеб.
Хигинс. Вот как! Но это же просто метафора, вполне естественная в устах поэта.
Миссис Пирс. Как бы это ни называлось, сэр, прошу вас не повторять этого слова при девушке.
Хигинс. Ну ладно, ладно, не буду. Это все?
Миссис Пирс. Нет, сэр. Присутствие девушки обязывает нас быть особенно аккуратными и опрятными.
Хигинс. Несомненно. Вы совершенно правы. Это очень важно.
Миссис Пирс. Ее нужно отучить от неряшливости в одежде, и нельзя позволять ей разбрасывать повсюду свои вещи.
Хигинс (подходя к ней, торжественно). Золотые слова! Я как раз хотел обратить на это ваше внимание. (Отходит к Пикерингу, который наслаждается этим разговором.) Именно такие мелочи, Пикеринг, имеют огромное значение. Береги пенсы, а фунты сами себя сберегут – эту пословицу можно в равной мере отнести и к нашим личным привычкам, и к деньгам. (Теперь Хигинс бросил якорь на коврике у камина с видом человека, занявшего неприступную позицию.)
Миссис Пирс. Да, сэр. В таком случае я попрошу вас не выходить к завтраку в халате или по крайней мере возможно реже пользоваться им вместо салфетки. А если вы еще будете так любезны и перестанете есть все с одной тарелки, и запомните, что не следует ставить кастрюльку с овсянкой прямо на чистую скатерть, то у девушки перед глазами всегда будет полезный пример. Ведь на прошлой неделе вы чуть не подавились рыбьей костью, которая ни с того ни с сего очутилась в вашем варенье.
Хигинс (снявшись с якоря, снова берет курс к роялю). Допускаю, что такое может произойти со мной – по рассеянности. Во всяком случае, не часто. (Разозлившись.) Кстати, от моего халата чертовски разит бензином.
Миссис Пирс. Верно, мистер Хигинс. Но если вы будете вытирать руки…
Хигинс (вопит). Ну хорошо, хорошо, хорошо! Отныне я буду вытирать их о свои волосы.
Миссис Пирс. Надеюсь, вы не обиделись на меня, мистер Хигинс?
Хигинс (смутясь при мысли, что его могли заподозрить в столь недобрых чувствах). Что вы, что вы, миссис Пирс! Вы совершенно правы. Я буду крайне осмотрителен при девушке. Теперь все?
Миссис Пирс. Нет, сэр. Не разрешите ли мне дать ей пока один из японских халатов, которые вы привезли из-за границы? Я просто не решаюсь снова надеть на нее старое платье.
Хигинс. Разумеется, разрешаю. Берите все, что хотите. А теперь наконец все?
Миссис Пирс. Теперь все. Благодарю вас, сэр. (Уходит.)
Хигинс. Знаете, Пикеринг, у этой женщины совершенно превратное представление обо мне. Я человек скромный и застенчивый. Мне до сих пор кажется, что я не такой взрослый и внушительный, как другие. И тем не менее она глубоко убеждена, что я деспот, домашний тиран и сумасброд. Почему – не понимаю.
Миссис Пирс возвращается.
Миссис Пирс. Ну вот, сэр, неприятности уже начинаются. Пришел мусорщик Элфрид Дулитл и хочет вас видеть. Он говорит, что здесь его дочь.
Пикеринг (встает). Ого! Ну и ну! (Отступает к камину.)
Хигинс (быстро). Впустите-ка этого прохвоста.
Миссис Пирс. Слушаю, сэр. (Уходит.)
Пикеринг. А может быть, он вовсе не прохвост, Хигинс?
Хигинс. Вздор! Конечно прохвост!
Пикеринг. Прохвост он или нет, но, боюсь, у вас будут неприятности.
Хигинс (самоуверенно). Не думаю. А если уж будут, то скорее у него, чем у меня. И уж конечно, мы услышим что-нибудь интересное.
Пикеринг. Насчет девушки?
Хигинс. Нет, я имею в виду его речь.
Пикеринг. О!
Миссис Пирс (в дверях). Дулитл, сэр. (Впускает Дулитла и уходит.)
Элфрид Дулитл – пожилой, но еще крепкий мусорщик в рабочей одежде и в шляпе, поля которой закрывают шею и плечи. У него энергичные, довольно интересные черты лица: он производит впечатление человека, которому одинаково чужды страх и совесть. У него на редкость выразительный голос – результат привычки давать волю своим чувствам. В данный момент весь его вид говорит об оскорбленном достоинстве и решимости.
Дулитл (останавливается в дверях, стараясь понять, к кому из двоих он должен обратиться). Профессор Хигинс?
Хигинс. Да. Доброе утро. Садитесь.
Дулитл. Доброе утро, хозяин. (Опускается на стул с важностью сановной особы.) Я пришел по очень важному делу, хозяин.
Хигинс (Пикерингу). Вырос в Хоунслоу, мать, вероятней всего, из Уэльса. (Дулитлу, который смотрит на него разинув рот.) Что вам нужно, Дулитл?
Дулитл (угрожающе). Мне нужна моя дочь, вот что мне нужно. Понятно?
Хигинс. Вполне. Вы ведь ее отец, верно? Кому же она еще нужна, кроме вас? Я рад, что в вас еще жива искра отцовского чувства. Ваша дочь здесь, наверху. Забирайте ее немедленно.
Дулитл (встает, страшно обескураженный). Чего?
Хигинс. Забирайте свою дочь! Неужели вы думали, что я буду нянчиться с нею вместо вас?
Дулитл (протестуя). Ну-ну, погодите же, хозяин, да разве так можно? Разве так поступают с человеком? Девчонка – моя, вы ее забрали себе, а я с чем остаюсь? (Снова садится.)
Хигинс. Ваша дочь имела наглость явиться ко мне и потребовать, чтобы я научил ее правильно говорить, иначе ей не получить места продавщицы в цветочном магазине. Разговор происходил при этом джентльмене и моей экономке. (Наступая на него.) Как вы смели явиться ко мне и шантажировать меня? Вы ее нарочно сюда подослали.
Дулитл. Что вы, хозяин! Я тут ни при чем.
Хигинс. Нет, подослали. Откуда вы иначе узнали, что она здесь?
Дулитл (протестуя). Легче, легче! Нельзя так сразу брать человека за горло!
Хигинс. Берегитесь, как бы за вас не взялась полиция! Чистой воды мошенничество! Он еще мне угрожает! Попытка выманить деньги налицо! Сейчас же звоню в полицию. (С решительным видом идет к телефону и открывает справочник.)
Дулитл. Да разве я с вас хоть фартинг потребовал? Вот этот джентльмен пусть скажет. (Пикерингу.) Сказал я хоть слово о деньгах?
Хигинс (бросает справочник и подходит к Дулитлу). Так зачем же вы пришли сюда?
Дулитл (заискивающе). Зачем всякий пришел бы на моем месте? Будьте человеком, хозяин.
Хигинс (обезоруженный). Элфрид, скажите, вы нарочно подослали ее сюда?
Дулитл. Не подсылал, хозяин, чтоб мне с места не сойти. Могу хоть на Библии присягнуть, я девчонку уже два месяца в глаза не видел.
Хигинс. Откуда же вы узнали, где она?
Дулитл («сладко, печально»). Сейчас объясню, хозяин, дайте только рот раскрыть. Я готов вам объяснить, пытаюсь вам объяснить, должен вам объяснить!
Хигинс. Пикеринг, да этот парень – прирожденный оратор! Обратите внимание на инстинктивную ритмичность его фразы: «Я готов вам объяснить, пытаюсь вам объяснить, должен вам объяснить». Сентиментальная риторика. Вот что значит примесь уэльской крови. Попрошайничество и жульничество отсюда же.
Пикеринг. Помилосердствуйте, Хигинс! Я ведь сам с Запада. (Дулитлу.) Откуда вы узнали, что девушка здесь, если не подослали ее?
Дулитл. Вот как получилось, хозяин. Дочка как поехала к вам, так взяла с собой мальчонку на такси прокатить. Он сынишкой ее квартирной хозяйке приходится. Вот он и болтался тут, думал, она его обратно тоже подвезет. А она, как узнала, что вы ее здесь оставляете, возьми да и пошли его домой за своим барахлишком, а он на меня и нарвался на углу Лонг-Экр и Эндел-стрит.
Хигинс. У пивной, не так ли?
Дулитл. Пивная – клуб для бедного человека, хозяин. Что ж тут дурного?
Пикеринг. Дайте же ему договорить, Хигинс.
Дулитл. Вот он и рассказал мне, какое дело вышло. Спрашиваю вас: что я должен был почувствовать, как поступить? Я же ей отец! Я говорю мальчонке: тащи сюда ее барахло, говорю я…
Пикеринг. А почему вы сами не пошли за вещами?
Дулитл. Да хозяйка мне их ни в жизнь не доверит. Бывают, знаете, такие бабы. Мальчонка – и тот, поросенок, пенни сорвал, иначе ни в какую не хотел доверить. А я человек услужливый. Взял да и притащил вещички сюда. Вот и все.
Хигинс. Что это за вещи?
Дулитл. Музыкальный инструмент, хозяин, парочка фотографий, кое-какие побрякушки да птичья клетка. Платьев брать она не велела. Что я должен был подумать, а, хозяин? Я вас спрашиваю. Что я должен был подумать, как ее родитель, спрашиваю я вас.
Хигинс. Итак, вы пришли, чтоб спасти ее от позора более страшного, чем смерть? Не так ли?
Дулитл (с заметным облегчением – он доволен тем, что его так хорошо поняли). Именно так, хозяин. Именно так.
Пикеринг. Но зачем же вы принесли ее вещи, если собираетесь взять ее отсюда?
Дулитл. А разве я сказал, что собираюсь? Заикнулся я хоть раз насчет этого?
Хигинс (решительно). Вы ее заберете, и заберете немедленно. (Подходит к камину и звонит.)
Дулитл. Нет, хозяин, не надо так говорить. Не такой я человек, чтобы собственной дочке встать поперек дороги. Тут, можно сказать, перед ней карьера открывается, а я…
В дверях, ожидая приказаний, появляется миссис Пирс.
Хигинс. Миссис Пирс, за Элизой пришел ее отец. Он хочет увести ее. Выдайте ему девушку. (Отходит к роялю с видом человека, решившего умыть руки.)
Дулитл. Да нет, тут ошибка вышла, послушайте…
Миссис Пирс. Он не может увести ее, мистер Хигинс. Ей же не в чем идти – вы сами велели мне сжечь ее платье.
Дулитл. Правильно! Не могу же я тащить девчонку по улицам в чем мать родила, как какую-нибудь мартышку! Ну, сами посудите, разве это можно?
Хигинс. Вы заявили мне, что требуете свою дочь. Вот и заберите ее. А если она сидит без платья – пойдите и купите.
Дулитл (в отчаянии). А где платье, в котором она пришла к вам? Кто его сжег – я или эта ваша мадам?
Миссис Пирс. В этом доме я, с вашего позволения, не мадам, а экономка. Я послала за платьем для вашей дочери. Когда его принесут, можете взять ее домой. Подождите на кухне. Сюда, пожалуйста.
Расстроенный Дулитл идет за ней к двери, затем останавливается и после некоторого колебания вкрадчиво обращается к Хигинсу.
Дулитл. Да погодите минутку, хозяин, не торопитесь. Мы ведь с вами люди воспитанные, верно?
Хигинс. Вот оно что! Мы – люди воспитанные! Вам, пожалуй, лучше пока уйти, миссис Пирс.
Миссис Пирс. Я тоже так думаю, сэр! (С достоинством удаляется.)
Пикеринг. Слово за вами, мистер Дулитл.
Дулитл (Пикерингу). Спасибо, хозяин. (Хигинсу, который пытается укрыться на стуле у рояля: он избегает чрезмерной близости к посетителю, потому что от Дулитла исходит свойственный его профессии запах.) А знаете, хозяин, по правде говоря, вы мне здорово нравитесь. Если девчонка вам так уж нужна, пусть остается. Только давайте договоримся с вами честь по чести. Ведь если глядеть на нее как на женщину, ей-богу, она годится по всем статьям – хорошая, красивая девка. А как дочь – ее прокормить себе дороже станет. Я с вами начистоту говорю и только одного прошу – не забывайте мои отцовские права! Вы, я вижу, человек справедливый, хозяин! Не хотите же вы, чтобы я уступил ее просто так, за здорово живешь? Что для вас пять фунтов? И что для меня Элиза! (Возвращается к стулу и торжественно садится.)
Пикеринг. Вам следует знать, Дулитл, что у мистера Хигинса вполне благородные намерения.
Дулитл (Пикерингу). Само собой, благородные, хозяин. Иначе я запросил бы пятьдесят фунтов.
Хигинс (возмущенно). Вы хотите сказать, бессердечный негодяй, что продали бы родную дочь за пятьдесят фунтов?
Дулитл. Продавать ее заведенным порядком мне ни к чему. Другое дело услужить такому джентльмену, как вы. Тут я готов на все, верьте слову.
Пикеринг. Неужели вы начисто лишены моральных устоев?
Дулитл (откровенно). Я не могу позволить себе такую роскошь, хозяин. Да и вы не смогли бы, окажись вы в моей шкуре. Да и что тут особенного? Как, по-вашему, уж если Элизе перепало кой-что, почему бы и мне не попользоваться? А?
Хигинс (озабоченно). Право, не знаю, что и делать, Пикеринг. Дать этому типу хоть фартинг – с точки зрения морали равносильно преступлению. И в то же время я чувствую, что в его требованиях есть какая-то первобытная справедливость.
Дулитл. То-то и оно, хозяин. Вот и я так думаю. Отцовское сердце, как ни скажите.
Пикеринг (Хигинсу). Я понимаю вашу щепетильность, но едва ли правильно будет…
Дулитл. Зачем так говорить, хозяин? Вы на это дело взгляните с другой стороны. Кто я такой? Я вас спрашиваю: кто я такой? Я бедняк и человек недостойный, вот я кто. Вдумайтесь-ка, что это значит? А это значит, что буржуазная мораль не для таких, как я. Если я чего-нибудь захотел в этой жизни, мне твердят одно и то же – ты человек недостойный, тебе нельзя. А ведь нужды у меня такие же, как у самой предостойной вдовы, которая в одну неделю получает деньги с шести благотворительных обществ за смерть одного и того же мужа. Мне нужно не меньше, чем достойному, – мне нужно больше. У меня аппетит не хуже, чем у него, а пью я куда больше. Мне и развлечься надо, потому что я человек мыслящий. Мне и на людях побыть охота, и песню послушать, и музыку, когда на душе худо. А дерут с меня за все, как с достойного. Чем же она оборачивается, ваша буржуазная мораль? Да это же просто предлог, чтобы мне ни шиша не дать. Поэтому я и обращаюсь к вам как к джентльменам и прошу поступить со мной по-честному. Я ведь с вами играю начистоту – не притворяюсь достойным. Был я всю жизнь недостойным, таким и останусь. Мне это даже нравится, если хотите знать. Так неужели вы обманете человека и не дадите ему настоящую цену за его родную дочь, которую он в поте лица растил, кормил и одевал, пока она не стала достаточно взрослой, чтобы заинтересовать сразу двух джентльменов? Разве пять фунтов такая уж крупная сумма? Я спрашиваю вас и жду вашего решения.
Хигинс (подходит к Пикерингу). А знаете, Пикеринг, займись мы этим человеком, он уже через три месяца мог бы выбирать между постом министра и церковной кафедрой в Уэльсе.
Пикеринг. Что вы на это скажете, Дулитл?
Дулитл. Нет уж, увольте, хозяин, не подойдет. Доводилось мне слушать и проповедников, и премьер-министров – потому человек я мыслящий и для меня всякая там политика, религия или социальные реформы – тоже развлечение. Но скажу вам одно: куда ни кинь – всюду жизнь собачья. Так, по мне, уж лучше быть недостойным бедняком. Как сравнишь различные положения в обществе, то в моем, ну, в общем, на мой вкус, в нем хоть изюминка есть.
Хигинс. Дадим ему, пожалуй, пять фунтов.
Пикеринг. Боюсь, он истратит их без всякой пользы.
Дулитл. С пользой, хозяин, лопни мои глаза! Вы, может, боитесь, что я их припрячу и буду на них жить себе понемножку, не работая? Не беспокойтесь, к понедельнику от них уж пенни не останется, и потопаю я на работу, будто у меня их и не было. В нищие не скачусь, можете быть спокойны. Малость кутну со старухой, сам отведу душу и другим заработать дам. А вам приятно будет знать, что деньги не выброшены на ветер. Да вы и сами их разумнее не истратите.
Хигинс (вынимая бумажник, подходит к Дулитлу). Нет, он неотразим. Дадим ему десять. (Протягивает две кредитки.)
Дулитл. Не надо, хозяин: у старухи не хватит духу истратить десятку. Да и у меня, пожалуй, тоже. Десять фунтов – большие деньги; заведутся они, и человек становится расчетливым, а тогда прощай счастье! Нет, дайте мне столько, сколько я прошу, хозяин, – ни больше ни меньше.
Пикеринг. Дулитл, почему вы не женитесь на этой вашей старухе? Я не склонен поощрять безнравственность.
Дулитл. Вот вы ей это и скажите, хозяин, скажите! Я-то со всем удовольствием. Ведь сейчас кто страдает? Я. Власти у меня нет над ней: я и угождай ей, и подарки делай, и платья покупай. Грех да и только! Я раб этой женщины, хозяин, а все потому, что я ей не муж. И она это знает. Попробуйте-ка, заставьте ее выйти за меня. Послушайтесь моего совета, хозяин: женитесь на Элизе, пока она еще молодая и не смыслит, что к чему. Не женитесь – потом пожалеете. А женитесь – потом пожалеет она. Так уж пусть лучше она пожалеет, поскольку вы мужчина, а она всего-навсего баба и все равно своего счастья не понимает.
Хигинс. Пикеринг, если мы еще минуту послушаем этого человека, у нас не останется никаких убеждений. (Дулитлу.) Пять фунтов? Так вы, кажется, сказали?
Дулитл. Покорно благодарю, хозяин.
Хигинс. Итак, вы отказываетесь взять десять?
Дулитл. Сейчас отказываюсь. Как-нибудь в другой раз, хозяин.
Хигинс (вручает ему кредитку). Получите.
Дулитл. Спасибо, хозяин. Счастливо оставаться.
Дулитл спешит к двери, чтобы поскорее улизнуть со своей добычей. На пороге он сталкивается с изящной, ослепительно чистой молодой японкой в скромном голубом кимоно, искусно вышитом мелкими белыми цветочками жасмина. За ней следует миссис Пирс. Он почтительно уступает ей дорогу и извиняется.
Прошу прощения, мисс.
Японка. Провалиться мне на этом месте! Родную дочку не признал!
Дулитл Лопни мои глаза! Элиза!
Хигинс (одновременно) Кто это? Она?
Пикеринг Боже мой, ну и ну!
Элиза. А верно, я как придурковатая выгляжу?
Хигинс. Придурковатая?
Миссис Пирс (у двери). Прошу вас, мистер Хигинс, не говорите лишнего, а то девушка бог весть что о себе возомнит.
Хигинс (спохватившись). Ах да, да, совершенно верно, миссис Пирс. (Элизе.) Черт знает, что у вас за идиотский вид.
Миссис Пирс. Пожалуйста, сэр!
Хигинс (поправляясь). Я хотел сказать, очень глупый вид.
Элиза. Вот надену шляпу, так будет получше. (Берет свою шляпу, надевает ее и с непринужденностью светской дамы шествует к камину.)
Хигинс. Ей-богу, новая мода! А ведь могло выглядеть ужасно!
Дулитл (с отцовской гордостью). Батюшки, вот не думал, что ее можно отмыть до такой красоты, хозяин. Она делает мне честь, верно?
Элиза. Подумаешь, великое дело здесь мытой ходить! Вода в кране и тебе горячая, и холодная, плескайся сколько влезет. Полотенца пушистые, а вешалка под ними такая горячая, что пальцы обожжешь, и щетки мягкие есть, чтобы тереться, а уж мыла полная чашка, и запах от него – ну, что твой первоцвет. Теперь понятно, почему все леди такие намытые ходят. Мытье им – одно удовольствие. Вот посмотрели бы они, как оно нам достается!
Хигинс. Очень рад, что моя ванна пришлась вам по вкусу.
Элиза. И вовсе не все мне по вкусу. Уж как там хотите, а я скажу – не постесняюсь. Вот миссис Пирс знает.
Хигинс. Какой-нибудь непорядок, миссис Пирс?
Миссис Пирс (мягко). Пустяки, сэр. Право, не стоит говорить об этом.
Элиза. Покалечить я его хотела, вот что. Со стыда не знаешь, куда глаза девать. Потом-то я исправилась, взяла да полотенце на него и навесила.
Хигинс. На кого?
Миссис Пирс. На зеркало, сэр.
Хигинс. Дулитл, вы слишком строго воспитали свою дочь.
Дулитл. Я? А я ее и не воспитывал. Так, разве постегаешь ремнем для порядку. Вы уж не взыщите, хозяин. Не привыкла она еще – вот в чем штука. Поживет у вас, так научится свободному поведению, как в ваших кругах полагается.
Элиза. Не стану я учиться свободному поведению: я не какая-нибудь, я девушка порядочная.
Хигинс. Элиза, если вы еще раз скажете, что вы порядочная девушка, отец заберет вас домой.
Элиза. Как же, заберет! Держи карман шире! Плохо вы моего папашу знаете. Он сюда пришел, чтобы из вас деньжат выжать да нализаться как следует – только и всего.
Дулитл. А что мне еще с деньгами делать? В церковную кружку бросить, что ли?
Элиза показывает ему язык. Он так взбешен этим, что Пикерингу приходится встать между ними.
Ты у меня язык попридержи да смотри, не вздумай с этим джентльменом разные штучки откалывать, а то я тебе по первое число всыплю. Поняла?
Хигинс. Не хотите ли вы дать ей еще какие-нибудь наставления, Дулитл? Или, может быть, благословить ее на прощанье?
Дулитл. Нет, хозяин. Не такой я отпетый дурак, чтобы своим деткам выложить все, что знаю. С ними и без того не совладаешь. Хотите, чтоб Элиза ума набралась, возьмите ремень, хозяин, да поучите ее сами. Счастливо оставаться, джентльмены! (Направляется к двери.)
Хигинс (повелительно). Стойте! Вы должны регулярно навещать свою дочь. Это ваш отцовский долг. У меня есть брат священник, он поможет вам направить ее.
Дулитл (уклончиво). Ну как же, как же. Я приду, хозяин. На этой неделе, правда, не смогу, работаю очень далеко. Но малость попозже можете на меня рассчитывать. Всего доброго, джентльмены! Всего доброго, мэм! (Снимает шляпу перед миссис Пирс, но та не отвечает на его приветствие, и он направляется к двери. Обернувшись на пороге, он подмигивает Хигинсу, видимо, соболезнуя ему по поводу тяжелого характера миссис Пирс; затем уходит вслед за ней.)
Элиза. Не верьте вы этому старому брехуну. Да он скорее согласится, чтобы вы на него бульдога напустили, чем священника. И не ждите – он сюда скоро не сунется.
Хигинс. Мы не очень жаждем видеть его, Элиза. А вы?
Элиза. А уж я и подавно. Век бы мне его не видеть. Срамит меня только – с мусором возжается, вместо того чтоб свое дело делать.
Пикеринг. Чем он занимается, Элиза?
Элиза. Людям зубы заговаривает да денежки в свой карман перекачивает. А сам-то он – землекоп. Бывает, и теперь берется за лопату, когда поразмяться захочет, и хорошие деньги зашибает. А вы больше не хотите звать меня мисс Дулитл?
Пикеринг. Простите, мисс Дулитл, я оговорился.
Элиза. Да нет, я не обижаюсь. Просто очень уж это красиво получается – мисс Дулитл. А можно мне сейчас такси нанять и проехаться по Тотенхэм-Корт-роуд? Я бы там вышла и велела подождать. Вот бы наши девчонки утерлись – пусть знают свое место. Разговаривать с ними я бы, понятное дело, не стала.
Пикеринг. Лучше подождите, пока вам принесут новое модное платье.
Хигинс. Кроме того, заняв высокое положение, не следует забывать старых друзей. Мы это называем снобизмом.
Элиза. Нет уж, вы меня теперь с ихней компанией не путайте. Было время, насмехались они надо мной почем зря, а теперь я им нос утру. Конечно, если я получу новые модные платья, можно и подождать. Больно мне заиметь их охота. Миссис Пирс говорит, что вы мне разные дадите – одни днем носить, другие ночью в постель надевать. А по-моему, чего деньги зря переводить, раз в них никому не покажешься? А потом, мне и подумать страшно: зимой раздеваться да на ночь холодные вещи на себя напяливать!
Миссис Пирс (возвращается). Идемте, Элиза. Там принесли платья, нужно примерить.
Элиза. У-у-ух ты! А… а… а… ах! Уй… ий… й. (Вылетает из комнаты.)
Миссис Пирс (следуя за ней). Не надо носиться сломя голову, моя милая. (Закрывает за собой дверь.)
Хигинс. Трудное нам предстоит дело, Пикеринг.
Пикеринг (убежденно). Да, Хигинс. Очень трудное.
Действие третье
Приемный день у миссис Хигинс. Еще никого нет. Квартира ее расположена на набережной Челси, и гостиная всеми тремя окнами выходит на реку; только потолок в ней ниже, чем был бы в таком доме, будь он более старинной постройки. Окна – во всю стену. Они распахнуты, открывая доступ на балкон, уставленный цветами в горшках. Слева, если стоять лицом к окнам, – камин, в правой стене, поближе к углу, – дверь. Миссис Хигинс воспитана на Моррисе и Берн-Джонсе, и ее жилище разительно отличается от квартиры ее сына на Уимпол-стрит: ни лишней мебели, ни полочек, ни безделушек. Посреди комнаты – просторная тахта. Подушки и парчовое покрывало на ней, ковер на полу, моррисовские обои и моррисовские набивные занавеси на окнах – вот и все убранство гостиной, но оно настолько изысканно, что его грешно было бы прятать за нагромождением никому не нужных вещей. На стенах несколько хороших картин (в манере Берн-Джонса, а не Уистлера), лет за тридцать до этого выставлявшихся в Гросвенор-Геллери. Пейзаж всего один: Сесил Лоусон в масштабах Рубенса. Здесь же портрет миссис Хигинс в молодости; на ней, наперекор тогдашней моде, один из тех очаровательных россетиевских костюмов, которым так карикатурно подражали невежды, чьими стараниями был насажден безвкусный эстетизм семидесятых годов.
В углу, наискосок от двери, за простым, но элегантным письменным столиком с пуговкой звонка под рукою, сидит миссис Хигинс и пишет письмо: ныне ей за шестьдесят, и она давным-давно не дает себе труда одеваться не так, как требует мода. В глубине, между столиком и окном, – чиппендейловский стул. На другой стороне комнаты, подальше от окна, елизаветинское кресло с грубой резьбой в духе Иниго Джонса. Там же рояль в чехле со строчкой. Между камином и окнами диванчик с обивкой из моррисовского кретона. Время – пятый час пополудни. Дверь с шумом распахивается, входит Хигинс в шляпе.
Миссис Хигинс (тревожно). Генри! (Укоризненно.) Зачем ты явился? Ты же обещал не приходить в мои приемные дни.
В то время как он наклоняется поцеловать ее, она снимает с него шляпу и подает ему.
Хигинс. А, черт! (Швыряет шляпу на стол.)
Миссис Хигинс. Сейчас же возвращайся домой.
Хигинс (целуя ее). Знаю, знаю, мама. Я пришел нарочно.
Миссис Хигинс. И напрасно. Я не шучу, Генри. Ты распугал всех моих друзей. Стоит им встретиться с тобой, как они перестают бывать у меня.
Хигинс. Вздор! Светских разговоров я вести не умею, что верно, то верно, но это никого не трогает. (Садится на диван.)
Миссис Хигинс. Ты так думаешь? Светские разговоры! А не светские ты умеешь вести? Нет, милый, уходи, я решительно настаиваю на этом.
Хигинс. Не могу. Вы должны помочь мне в одном деле… связанном с фонетикой.
Миссис Хигинс. Нет, милый. К сожалению, твои гласные выше моего понимания. Я с удовольствием получаю от тебя хорошенькие открытки, стенографированные по твоей системе, но читать мне приходится написанные обычными буквами подстрочники, которые ты предусмотрительно прикладываешь.
Хигинс. Тогда считайте, что мое дело не связано с фонетикой.
Миссис Хигинс. Но ты же сам так сказал.
Хигинс. То есть оно связано, но вы к ней не будете иметь отношения. Я тут подцепил девушку…
Миссис Хигинс. А не значит ли это, что девушка подцепила тебя?
Хигинс. Ничего подобного. О любви здесь и речи нет.
Миссис Хигинс. Очень жаль!
Хигинс. Почему?
Миссис Хигинс. Ты еще ни разу не влюблялся в женщину моложе сорока пяти. Когда наконец ты поймешь, что на свете есть немало прелестных девушек?
Хигинс. Не собираюсь возиться с девушками. Мой идеал – женщина, насколько это возможно, похожая на вас. Ни одна девушка никогда мне всерьез не понравится: у меня свои привычки, а старые привычки трудно менять. (Порывисто вскакивает, начинает шагать из угла в угол, побрякивая ключами и мелочью в кармане.) Кроме того, все они дуры.
Миссис Хигинс. Знаешь, Генри, что бы ты сделал, если бы по-настоящему любил меня?
Хигинс. А, черт! Ну что еще? Женился бы, наверно, да?
Миссис Хигинс. Нет. Вынул бы руки из карманов и перестал носиться по комнате.
С жестом отчаяния он повинуется и снова усаживается на диван.
Вот пай-мальчик. А теперь расскажи мне о девушке.
Хигинс. Она сегодня явится к вам с визитом.
Миссис Хигинс. Не припоминаю, чтобы я ее приглашала.
Хигинс. Вы не приглашали. Пригласил я. Вы бы ее ни за что не пригласили, если бы знали, кто она.
Миссис Хигинс. Интересно! А почему?
Хигинс. Вот как обстоит дело. Она простая цветочница. Я подобрал ее на панели.
Миссис Хигинс. И пригласил ко мне в мой приемный день!
Хигинс (подходит к матери, стараясь задобрить ее). Не беспокойтесь, все будет в порядке. Я научил ее правильно говорить и дал точные указания, как вести себя. Ей строго-настрого велено касаться только двух тем: погоды и здоровья. Словом, ничего не значащие фразы: «Как поживаете?» – «Сегодня прекрасный день» – и никаких рассуждений на общие темы. Уверяю вас, это совершенно безопасно!
Миссис Хигинс. Безопасно! Безопасно говорить о нашем здоровье! О внутренностях! Может быть, даже о внешности! Как мог ты так наглупить, Генри!
Хигинс (нетерпеливо). Должна же она о чем-то говорить. (Вовремя берет себя в руки и снова садится.) Да не волнуйтесь вы, пожалуйста, из-за пустяков, все будет хорошо. Пикеринг тоже принимает в ней участие. Я держал с ним пари, что через полгода смогу выдать ее за герцогиню. Я работаю с ней всего несколько месяцев, но она уже сделала потрясающие успехи. Пари я непременно выиграю. У нее превосходный слух, и воспринимает она все куда лучше, чем мои ученики из буржуазных кругов, потому что ее приходится учить с самого начала, как учат чужому языку. Сейчас она уже говорит по-английски почти так, как вы по-французски.
Миссис Хигинс. Во всяком случае, это уже не так страшно.
Хигинс. И да и нет.
Миссис Хигинс. Как это понимать?
Хигинс. Видите ли, произношение она освоила. Но сейчас мне уже надо думать не только о том, как эта девушка произносит, но и о том, что она произносит. И вот тут-то…
Разговор их прерывает горничная, докладывающая о гостях.
Горничная. Миссис и мисс Эйнсфорд-Хилл. (Уходит.)
Хигинс. Чтоб их черт побрал! (Вскакивает, хватает со стола свою шляпу и спешит к двери, но прежде чем успевает до нее дойти, мать уже представляет его входящим.)
Миссис и мисс Эйнсфорд-Хилл – те самые мать и дочь, которые укрывались от дождя в Ковент-Гардене. Мать – хорошо воспитанная, спокойная женщина, но чувствуется, что она находится в постоянном напряжении, как все люди с ограниченными средствами. Дочь усвоила светский тон девушки, постоянно бывающей в обществе: бравада прикрашенной бедности.
Миссис Эйнсфорд-Хилл (мистеру Хигинсу). Здравствуйте!
Здороваются.
Мисс Эйнсфорд-Хилл. Здравствуйте.
Здороваются.
Миссис Хигинс (представляя). Мой сын Генри.
Миссис Эйнсфорд-Хилл. Ваш знаменитый сын! Я жаждала познакомиться с вами, профессор Хигинс.
Хигинс (мрачно, не двигаясь с места). Очень рад. (Облокачивается на рояль и небрежно кивает ей.)
Миссис Эйнсфорд-Хилл (доверительно-фамильярно, приближаясь к нему). Здравствуйте.
Хигинс (уставившись на нее). Я вас уже где-то видел. Где и когда – не имею представления, но голос ваш я тоже слышал. (Мрачно.) Впрочем, это совершенно безразлично. Что же вы стоите? Сели бы куда-нибудь.
Миссис Хигинс. К сожалению, должна признаться, что мой знаменитый сын совершенно не умеет вести себя. Не обижайтесь на него.
Мисс Эйнсфорд-Хилл (весело). Ну что вы! (Садится в елизаветинское кресло.)
Миссис Эйнсфорд-Хилл (слегка растерянно). Конечно, конечно. (Садится на тахту слева от дочери и справа от миссис Хигинс, которая повернула к ним свое кресло у письменного стола.)
Хигинс. Разве я нахамил? Простите, нечаянно. (Подходит к окну и, став спиной к гостям, созерцает реку и цветы Бетерси-парка с таким видом, словно перед ним вечные льды.)
Горничная возвращается с Пикерингом.
Горничная. Полковник Пикеринг. (Уходит.)
Пикеринг. Здравствуйте, миссис Хигинс.
Миссис Хигинс. Очень рада вас видеть. Вы знакомы? Миссис Эйнсфорд-Хилл, мисс Эйнсфорд-Хилл.
Обмен поклонами. Полковник ставит чиппендейловский стул между миссис Хигинс и миссис Эйнсфорд-Хилл и усаживается.
Пикеринг. Генри рассказал вам о цели нашего визита?
Хигинс (через плечо). Не успел досказать, черт побери.
Миссис Хигинс. Генри, Генри, прошу тебя.
Миссис Эйнсфорд-Хилл (приподнимаясь). Может быть, мы помешали?
Миссис Хигинс (встает и снова усаживает ее). Что вы, что вы! Напротив, вы пришли как раз вовремя. Мы хотим познакомить вас с одной нашей приятельницей.
Хигинс (обрадованный, поворачивается к ним). Черт побери, а ведь верно! Нам нужно, чтоб было несколько человек. Вы вполне сойдете.
Горничная возвращается, за ней следует Фредди.
Горничная. Мистер Эйнсфорд-Хилл.
Хигинс (чуть ли не в полный голос). А, черт! Еще одного нелегкая принесла!
Фредди (здороваясь с миссис Хигинс). Здрассте.
Миссис Хигинс. Очень рада вас видеть. (Знакомит.) Полковник Пикеринг.
Фредди (кланяется). Здрассте.
Миссис Хигинс. Вы, вероятно, не знакомы с моим сыном, профессором Хигинсом?
Фредди (подходя к Хигинсу). Здрассте.
Хигинс (разглядывает его так, будто перед ним вор-карманник). Голову даю на отсечение, что и вас я где-то уже видел. Только вот где?
Фредди. Что-то не припомню.
Хигинс (покорившись судьбе). Впрочем, это не имеет значения. Садитесь. (Пожимает руку Фредди и чуть ли не силой усаживает его на тахту. Сам переходит на другую сторону). Ну вот, мы и уселись. (Садится рядом с миссис Эйнсфорд-Хилл, слева.) О чем же, черт возьми, нам говорить до прихода Элизы?
Миссис Хигинс. Генри, на вечерах Королевского общества ты, вероятно, неотразим, но в менее торжественных случаях тебя трудно переносить.
Хигинс. В самом деле? Сожалею. (Внезапно просияв.) А знаете, наверно, действительно трудно. (Хохочет.) Ха-ха-ха!
Мисс Эйнсфорд-Хилл (которая находит Хигинса вполне приемлемым с матримониальной точки зрения). Я понимаю вас. Я сама не умею вести светские разговоры. Ах, почему люди так редко бывают откровенны и говорят не то, что думают?
Хигинс (мрачнея). И слава богу!
Миссис Эйнсфорд-Хилл (перехватывая реплику дочери). Но почему?
Хигинс. То, что, как люди полагают, они обязаны думать, видит бог, уже достаточно мерзко. А то, что они на самом деле думают, вообще ни в какие ворота не лезет. Вы полагаете, вам будет приятно, если я сейчас возьму и выложу все, что думаю на самом деле?
Мисс Эйнсфорд-Хилл (весело). Неужели это так неприлично?
Хигинс. Неприлично? Куда, к черту, неприлично! Просто непристойно!
Миссис Эйнсфорд-Хилл (серьезно). Я уверена, что вы шутите, мистер Хигинс.
Хигинс. Видите ли, все мы в той или иной мере дикари. Предполагается, что мы цивилизованны и культурны – разбираемся в поэзии, философии, науке, искусстве и прочее, и прочее. Но скажите, многие ли из нас знают, что представляют собой хотя бы одни эти названия? (К мисс Хилл.) Ну что вы, например, понимаете в поэзии? (К миссис Хилл.) Что вы знаете о науке? (Указывая на Фредди.) А вот он, что он смыслит в искусстве, науке и вообще в чем бы то ни было? А что я сам, черт побери, знаю о философии?
Миссис Хигинс (предостерегающе). Или об умении вести себя в обществе.
Горничная (открыв дверь). Мисс Дулитл. (Уходит.)
Хигинс (поспешно вскакивает и бежит к матери). Мама, это она. (Становится за креслом матери и, поднявшись на цыпочки, глазами показывает Элизе, кто из дам хозяйка дома.)
Элиза, изысканно одетая, производит такое впечатление своей красотой и элегантностью, что все невольно встают. Направляемая сигналами Хигинса, она с заученной грацией подходит к миссис Хигинс.
Элиза (произносит слова с педантичной чистотой, приятным, музыкальным голосом). Здравствуйте, миссис Хигинс. Мистер Хигинс передал мне ваше приглашение.
Миссис Хигинс (приветливо). Да, да! Я очень рада вас видеть.
Пикеринг. Здравствуйте, мисс Дулитл.
Элиза. Если не ошибаюсь, полковник Пикеринг?
Миссис Эйнсфорд-Хилл. Я уверена, что мы с вами уже встречались, мисс Дулитл. Я помню ваши глаза.
Элиза. Здравствуйте. (Грациозно опускается на тахту, заняв место, которое только что освободил Хигинс.)
Миссис Эйнсфорд-Хилл (знакомя). Моя дочь Клара.
Элиза. Здравствуйте.
Клара (возбужденно). Здравствуйте! (Садится рядом с Элизой, пожирая ее глазами.)
Фредди (подходя). Я уже имел счастье…
Миссис Эйнсфорд-Хилл (представляя). Мой сын. Фредди.
Элиза. Здравствуйте.
Фредди кланяется и, совершенно покоренный, опускается в елизаветинское кресло.
Хигинс (внезапно). Ах, черт побери, теперь я вспомнил!
Все уставились на него.
Ковент-Гарден. (Сокрушенно.) Вот нелегкая!
Миссис Хигинс. Генри! (Заметив, что он собирается сесть на ее письменный столик.) Не садись на мой письменный стол – сломаешь.
Хигинс (хмуро). Прошу прощения.
Направляется к дивану, но по дороге спотыкается о каминную решетку и роняет щипцы. Ругаясь сквозь зубы, приводит все в порядок и, завершив наконец свое неудачное путешествие, обрушивается на диван с такой силой, что диван трещит. Миссис Хигинс наблюдает за ним, но сдерживается и молчит. Долгая тягостная пауза.
Миссис Хигинс (прерывая молчание). Как вы думаете, будет сегодня дождь?
Элиза. Незначительная облачность, наблюдавшаяся в западной части Британских островов, постепенно захватит и восточные районы. Судя по барометру, существенных перемен в состоянии атмосферы не предвидится.
Фредди. Ха-ха-ха! Как смешно!
Элиза. Что тут смешного, молодой человек? Держу пари, я все сказала как надо.
Фредди. Восхитительно!
Миссис Эйнсфорд-Хилл. Надеюсь, в этом году не будет неожиданного похолодания! Кругом столько случаев инфлюэнцы. А наша семья так подвержена ей – каждую весну все заболевают.
Элиза (мрачно). Тетка у меня померла, так тоже сказали – от инфлюэнцы.
Миссис Эйнсфорд-Хилл сочувственно прищелкивает языком.
(Тем же трагическим тоном.) А мое такое мнение – пришили старуху.
Миссис Хигинс (озадаченно). Пришили?
Элиза. Факт! Боже ж ты мой, с чего бы это ей помирать от инфлюэнцы? Прошлый год она дифтеритом болела – и то как с гуся вода. Она аж посинела, я своими глазами видела. Все уж думали, ей крышка, а папаша мой возьми ложку да и начни ей в глотку джин лить, так она сразу очухалась и пол-ложки откусила.
Миссис Эйнсфорд-Хилл (потрясенная). Господи!
Элиза (нагромождая улики). Ну, скажите на милость, с чего бы такой здоровенной тетке вдруг помереть от инфлюэнцы! А куда девалась ее новая соломенная шляпа, что должна была достаться мне? Стибрили! Вот я и говорю: кто шляпу стибрил, тот и тетку пришил!
Миссис Эйнсфорд-Хилл. А что это значит – пришил?
Хигинс (поспешно). О, это модное светское выражение. Пришить человека – значит убить его.
Миссис Эйнсфорд-Хилл (Элизе, в ужасе). Неужели вы серьезно думаете, что вашу тетушку убили?
Элиза. Велико дело! Да эта публика могла пристукнуть ее за шляпную булавку, не то что за целую шляпу.
Миссис Эйнсфорд-Хилл. И все же вашему отцу не следовало вливать ей в горло алкоголь. Это действительно могло убить ее.
Элиза. Кого? Ее? Да для нее джин – что материнское молоко для младенца. Моему ли папаше не знать, что за штука джин? Он на своем веку немало за галстук залил.
Миссис Эйнсфорд-Хилл. Вы хотите сказать, что ваш отец много пил?
Элиза. Пил? Лакал без передышки, черт бы его подрал!
Миссис Эйнсфорд-Хилл. Как вы, должно быть, страдали!
Элиза. Нисколечко! Как я замечала, это ему только на пользу шло. Да он и не то чтобы подряд глушил, запоем. (Весело.) Так, бывало, загуляет время от времени. Он, когда выпивши, куда лучше становится. Вот сидит он без работы, а мать дает ему четыре пенса и велит домой не приходить, пока он не напьется, потому что тогда он веселый да ласковый. Многим женщинам приходится своих мужей поить, а то, пока они не выпивши, с ними и житья нет. (Окончательно почувствовав себя как дома.) Тут ведь какой переплет получается. Вот, к примеру, человек совесть имеет, так трезвого она его ух как заедает, и он от этого на стенку лезет. А долбанет стаканчик-другой, горя как не бывало. (К Фредди, который корчится от сдерживаемого смеха.) Эй, молодой человек! Вы чего ржете?
Фредди. Ах, эти модные светские выражения. До чего же здорово они у вас получаются!
Элиза. А если здорово, так чего зубы скалить. (Хигинсу.) Разве я сказала, чего не следует?
Миссис Хигинс (опередив сына). Нет, что вы, мисс Дулитл!
Элиза. Слава тебе господи! (С увлечением.) Я ведь что говорю…
Хигинс (поднимаясь и глядя на часы). Гм…
Элиза (взглянув на него, понимает намек и встает). Простите, мне пора идти.
Все встают. Фредди направляется к двери.
Мне было так приятно познакомиться с вами. До свиданья. (Прощается с миссис Хигинс).
Миссис Хигинс. До свиданья.
Элиза. До свиданья, полковник Пикеринг.
Пикеринг. До свиданья, мисс Дулитл. (Пожимает ей руку.)
Элиза (кивком головы прощаясь с остальными). И вам всем до свиданья.
Фредди (распахивая перед ней дверь). Вы идете через парк, мисс Дулитл? Позвольте мне…
Элиза. Че-его? Пешком топать? К чертям собачьим!
Все потрясены. Я в такси еду!
(Выходит.)
Пикеринг, задохнувшись от изумления, падает в кресло. Фредди выбегает на балкон, чтобы еще раз взглянуть на Элизу.
Миссис Эйнсфорд-Хилл (все еще не оправившись от потрясения). Все-таки я никак не могу привыкнуть к этой новой манере выражаться.
Клара (с досадой бросаясь в елизаветинское кресло). Ну полно, мама, полно. Вы так старомодны, что люди подумают, будто мы никогда нигде не бываем.
Миссис Эйнсфорд-Хилл. Вероятно, я действительно очень старомодна, но, надеюсь, Клара, ты не будешь употреблять таких выражений. Я уже привыкла к тому, что мужчин ты называешь «пройдохами», на каждом шагу говоришь «мерзость» и «свинство», хотя я лично считаю это неприличным и неженственным. Но то, что мы сейчас слышали, – это уж слишком! Как вы считаете, полковник Пикеринг?
Пикеринг. Меня не спрашивайте. Я несколько лет провел в Индии, и за это время манера держаться так изменилась, что, право, иногда не знаешь, где находишься – на званом обеде в респектабельном доме или в пароходном кубрике.
Клара. Дело привычки. Это ни хорошо ни плохо. И никто не придает этому никакого значения. Просто такая необычность придает особый шик тому, что само по себе не слишком остроумно. Я нахожу новую манеру выражаться прелестной и вполне безобидной.
Миссис Эйнсфорд-Хилл (встает). Пожалуй, нам пора.
Пикеринг и Хигинс встают.
Клара (встает). Да, сегодня нам предстоит сделать еще три визита. До свиданья, миссис Хигинс. До свиданья, полковник Пикеринг. До свиданья, профессор Хигинс.
Хигинс (мрачно провожая ее до двери). До свиданья. Смотрите не забудьте на всех трех визитах испробовать новую манеру выражаться. Главное, не смущайтесь и валяйте вовсю.
Клара (расплываясь в улыбке). Обязательно! До свиданья. Вся эта старомодная викторианская благовоспитанность – такая чушь!
Хигинс (искушая ее). Будь она проклята!
Клара. К чертям ее собачьим!
Миссис Эйнсфорд-Хилл (содрогаясь). Клара!
Клара. Ха-ха-ха! (Уходит, сияя оттого, что оказалась на уровне современных требований. С лестницы доносится ее звонкий смех.)
Фредди (ко всей вселенной). Нет, вы мне скажите… (Не в силах справиться с нахлынувшими чувствами, прощается с миссис Хигинс.) До свиданья.
Миссис Хигинс (обмениваясь рукопожатием). До свиданья. Хотели бы вы снова встретиться с мисс Дулитл?
Фредди (горячо). Да, да, ужасно хотел бы!
Миссис Хигинс. Милости просим. Вы знаете мои приемные дни.
Фредди. Благодарю вас. До свиданья. (Уходит.)
Миссис Эйнсфорд-Хилл. До свиданья, мистер Хигинс.
Хигинс. До свиданья, до свиданья.
Миссис Эйнсфорд-Хилл (Пикерингу). Ничего не поделаешь, я никогда не сумею заставить себя употреблять эти ужасные выражения.
Пикеринг. И не старайтесь: это вовсе не обязательно. Вы прекрасно обойдетесь без них.
Миссис Эйнсфорд-Хилл. Да вот Клара опять обрушится на меня за то, что я пренебрегаю самым модным жаргоном. До свиданья.
Пикеринг. До свиданья.
Пожимают руки друг другу.
Миссис Эйнсфорд-Хилл (миссис Хигинс). Не сердитесь на Клару.
Пикеринг, услышав, что она понизила голос, деликатно отходит к окну, где стоит Хигинс.
Мы так бедны, и она так редко бывает в обществе, бедная девочка! Она просто не знает, как сейчас следует держаться.
Миссис Хигинс, заметив у нее на глазах слезы, сочувственно пожимает ей руку и провожает ее до двери.
Но Фредди у меня очень славный, правда?
Миссис Хигинс. Он очень мил, и я всегда буду рада ему.
Миссис Эйнсфорд-Хилл. Благодарю вас, дорогая. До свиданья. (Уходит.)
Хигинс (нетерпеливо). Ну как? Можно показывать Элизу в обществе? (Тащит мать к дивану.)
Миссис Хигинс садится на место Элизы, сын садится слева от нее. Пикеринг возвращается на свой стул справа.
Миссис Хигинс. Ну конечно, нет, глупый мой мальчик. Она шедевр искусства – твоего и ее портнихи. Но если ты хоть на минуту сомневаешься в том, что она выдает себя каждой фразой, значит, ты просто помешан на ней.
Пикеринг. И вы полагаете, что ничего нельзя сделать? Неужели невозможно отучить ее от ругательств?
Миссис Хигинс. До тех пор, пока она будет находиться в обществе Генри, – нет.
Хигинс (обиженно). По-вашему, моя манера выражаться неприлична?
Миссис Хигинс. Нет, дорогой, отчего же. Для грузовой пристани вполне прилична, но в гостях едва ли.
Хигинс (глубоко оскорбленный). Ну, знаете…
Пикеринг (прерывая его). Не кипятитесь, Хигинс, а лучше последите за собой. Таких словечек, как ваши, я не слыхал с тех пор, как производил смотры волонтеров в Гайд-парке лет двадцать назад.
Хигинс (надувшись). Ну что ж, вероятно, я действительно не всегда выражаюсь как епископ.
Миссис Хигинс (успокаивая его жестом). Полковник Пикеринг, может быть, вы мне расскажете, что происходит на Уимпол-стрит.
Пикеринг (весело, будто вопрос изменил тему разговора). Я переехал к Генри и живу у него. Мы вместе работаем над моей книгой «Индийские диалекты» – мы решили, что так нам будет удобнее…
Миссис Хигинс. Да, да, все это мне известно, и вы действительно все очень разумно устроили. Но где живет эта девушка?
Хигинс. Как где? Конечно, у нас. Где же ей еще жить?
Миссис Хигинс. Но на каком положении? Она ваша горничная? А если нет, так кто?
Пикеринг (медленно). Миссис Хигинс, я, кажется, начинаю понимать, что вы имеете в виду.
Хигинс. Будь я проклят, если я что-нибудь понимаю. Одно ясно – три месяца я изо дня в день работаю над этой девушкой, чтобы привести ее в человеческий вид. Кроме того, она оказалась очень полезной: она знает, где найти мои вещи, помнит, когда и с кем я должен встретиться.
Миссис Хигинс. А как с ней ладит твоя экономка?
Хигинс. Миссис Пирс? Радуется, что с нее свалилось столько забот. Ведь до появления Элизы ей самой приходилось разыскивать мои вещи и напоминать мне о деловых свиданиях. И все-таки Элиза – это ее пунктик. Она без устали мне твердит: «Вы ни о чем не думаете, сэр». Правда, Пик?
Пикеринг. Да, это ее неизменная формула: «Вы ни о чем не думаете, сэр». Этими словами кончается каждый разговор об Элизе.
Хигинс. А я ни на секунду не перестаю думать об этой девушке и ее проклятых гласных и согласных. Я измучился, думая о ней, наблюдая за ней, за ее губами, зубами, языком, не говоря уже о ее душе, – а это самое непостижимое.
Миссис Хигинс. Ах, взрослые дети! Вы играете с куклой, но ведь она живая.
Хигинс. Хороша игра! Поймите же, мама, я еще никогда в жизни не брался за такую трудную работу. Вы даже не представляете себе, как интересно взять человека, наделить его новой речью и с помощью этой речи сделать его совершенно иным. Ведь это значит уничтожить пропасть, разделяющую классы и души людей.
Пикеринг (придвигаясь к миссис Хигинс и даже наклоняясь к ней). Да, это поразительно интересно. Уверяю вас, миссис Хигинс, мы относимся к Элизе чрезвычайно серьезно. Каждую неделю – какое там! – почти каждый день в ней происходит новая перемена. (Придвигается еще ближе.) Мы фиксируем каждую стадию… Сотни записей и фотографий…
Хигинс (атакуя с другой стороны). Черт побери, да это самый увлекательный эксперимент, какой мне приходилось ставить. Она заполнила всю нашу жизнь. Правда, Пик?
Пикеринг. Мы постоянно говорим об Элизе.
Хигинс. Учим Элизу.
Пикеринг. Одеваем Элизу.
Миссис Хигинс. Что?
Хигинс. Изобретаем новую Элизу.
Миссис Хигинс (затыкая уши, так как теперь они оба стараются перекричать друг друга). Ш-ш-ш-ш-ш!
Они замолкают.
Пикеринг. Прошу прощения. (Смущенно отодвигает свой стул.)
Хигинс. Простите. Но когда этот Пикеринг начинает кричать, он слова никому не дает вставить.
Миссис Хигинс. Замолчи, Генри. Полковник Пикеринг, неужели вы не понимаете, что в тот день, когда Элиза переступила порог дома на Уимпол-стрит, с нею вместе вошло еще кое-что?
Пикеринг. Да, приходил ее отец, но Генри быстро выставил его.
Миссис Хигинс. Уместнее было бы, чтобы пришла ее мать. Но дело не в этом. Появилось нечто другое.
Пикеринг. Но что же? Что?
Миссис Хигинс (бессознательно выдавая этим словом свои устаревшие понятия). Проблема!
Пикеринг. Ага, понял! Проблема – как выдать ее за светскую даму.
Хигинс. Я разрешу эту проблему. По существу, она уже наполовину разрешена.
Миссис Хигинс. Как безгранично тупы бывают порой мужчины! Проблема в том, что делать с Элизой после.
Хигинс. Не вижу здесь никакой проблемы. Будет жить как ей вздумается, пользуясь всеми преимуществами, которые я ей дам.
Миссис Хигинс. Да, будет жить, как живет та женщина, которая только что вышла отсюда! Ты дашь ей манеры и привычки светской дамы, которые лишат ее возможности зарабатывать на жизнь, но не дашь ей доходов светской дамы. И это ты называешь преимуществом?
Пикеринг (снисходительно, ему стало скучно). Все как-нибудь уладится, миссис Хигинс. (Встает.)
Хигинс (тоже встает). Мы подыщем ей какую-нибудь легкую работу.
Пикеринг. Она совершенно счастлива. Не беспокойтесь о ней. До свиданья. (Пожимает ей руку с таким видом, словно утешает испуганного ребенка, и направляется к двери.)
Хигинс. Так или иначе, сейчас уже поздно беспокоиться – дело сделано. До свиданья, мама. (Целует ее и следует за Пикерингом.)
Пикеринг (в виде последнего утешения). Существует масса возможностей. Мы сделаем все, что полагается. До свиданья.
Хигинс (Пикерингу, в дверях). Свезем-ка ее на Шекспировскую выставку в Эрлскорт.
Пикеринг. С удовольствием. Вы представляете себе ее замечания? Вот будет забавно!
Хигинс. А дома она начнет передразнивать публику.
Пикеринг. Великолепно!
Слышно, как оба, смеясь, спускаются по лестнице. Миссис Хигинс порывисто встает и подходит к письменному столу. Отодвигает в сторону разбросанные бумаги, садится и, вытащив из бювара листок чистой бумаги, решительно начинает писать письмо. Но, написав три строчки, бросает перо и сердито отталкивает стол.
Миссис Хигинс. Ах эти мужчины! Мужчины! Мужчины!
Действие четвертое
Кабинет Хигинса. Полночь. В комнате никого нет. Часы на камине бьют двенадцать. В камине нет огня. Теплая летняя ночь. На лестнице раздаются голоса Хигинса и Пикеринга.
Хигинс (кричит Пикерингу). Послушайте, Пик, заприте, пожалуйста, входную дверь. Сегодня я больше никуда не пойду.
Пикеринг. Хорошо. А миссис Пирс можно идти спать? Нам больше ничего не понадобится?
Хигинс. Ни черта нам не надо. Пусть ложится.
В освещенном квадрате двери появляется Элиза. Она в роскошном вечернем туалете и бриллиантах. В руках у нее цветы, веер и прочие аксессуары. Она подходит к камину и включает свет. Видно, что она очень устала; темные глаза и волосы подчеркивают ее бледность; выражение лица у нее чуть ли не трагическое. Она сбрасывает накидку, кладет веер и цветы на рояль и опускается на козетку, печальная и притихшая. Входит Хигинс в вечернем костюме, пальто и цилиндре, в руках у него домашняя куртка, которую он захватил внизу. Он бросает цилиндр и пальто на журнальный столик, снимает смокинг и, облачившись в домашнюю куртку, устало разваливается в кресле у камина. Входит Пикеринг, тоже в вечернем костюме. Снимает цилиндр и пальто и уже собирается бросить их на вещи Хигинса, но спохватывается.
Пикеринг. Как бы нам не влетело от миссис Пирс за то, что мы бросили здесь вещи.
Хигинс. Спустите их по перилам в холл. Утром она найдет их и повесит на место. Подумает, что мы вернулись пьяные, и все тут.
Пикеринг. А мы действительно чуточку того. Писем не было?
Хигинс. Я не смотрел.
Пикеринг уносит пальто и шляпы. Хигинс между зевками напевает арию из La Fandulla del Golden West[2]. Внезапно он обрывает пение.
Куда, к дьяволу, запропастились мои домашние туфли?
Элиза мрачно смотрит на него, внезапно вскакивает и выходит из комнаты. Хигинс зевает и снова начинает напевать свою арию. Возвращается Пикеринг с пачкой писем в руках.
Пикеринг. Одни проспекты и любовное послание с графской короной для вас. (Бросает проспекты в камин и, повернувшись, прислоняется к нему спиной.)
Хигинс (взглянув на письмо). Ростовщик.
Письмо летит вслед за проспектами. Возвращается Элиза, в руках у нее большие стоптанные домашние туфли. Она ставит их на коврик перед Хигинсом и молча садится на прежнее место.
(Зевая.) О господи! Что за вечер! Что за люди! Что за дурацкий балаган! (Поднимает ногу, чтобы расшнуровать ботинок, и замечает туфли. Оставив в покое ботинок, смотрит на них, будто они появились тут сами собой.) А, вот они, оказывается, где!
Пикеринг (потягиваясь). Признаюсь, я устал. Трудный был день. Прием, званый обед и еще вдобавок опера! Слишком много удовольствий сразу. Но пари вы, Хигинс, выиграли. Элиза справилась с ролью, да еще как!
Хигинс (с жаром). Слава богу, все позади!
Элизу передергивает, но мужчины ничего не замечают. Она берет себя в руки и снова застывает.
Пикеринг. Вы нервничали на приеме? Я ужасно. А Элиза была совершенно невозмутима.
Хигинс. Она и не думала нервничать. Я вообще нисколько не беспокоился и был уверен, что все пройдет гладко. Просто я переутомился, и напряжение всех этих месяцев наконец сказалось. Вначале, когда мы занимались фонетикой, было довольно интересно, а потом мне смертельно надоело. Если бы не пари, я бы еще два месяца назад послал все к черту. Затея-то, в общем, глупая – сплошная скука.
Пикеринг. Не скажите! На приеме были захватывающие моменты. У меня даже сердцебиение началось.
Хигинс. Да, первые три минуты. А когда стало ясно, что мы выигрываем без боя, я почувствовал себя как медведь в клетке – слоняйся без дела из угла в угол. А обед и того хуже! Сиди и обжирайся целый час, и поговорить не с кем, кроме какой-то модной дуры. Нет, Пикеринг, с меня довольно. Поддельных герцогинь я больше изготовлять не собираюсь. Вся эта история обернулась настоящей пыткой.
Пикеринг. У вас просто не хватает тренировки для светского образа жизни. (Направляясь к роялю.) А я по временам люблю окунуться в эту атмосферу – начинаешь снова чувствовать себя молодым. Как бы там ни было, но это успех, потрясающий успех! Элиза так хорошо себя держала, что раза два мне даже стало страшно.
Видите ли, настоящие герцогини часто вовсе не умеют держать себя. Эти дуры воображают, что хорошие манеры свойственны им от природы, и не желают ничему учиться. Когда же человек делает что-то безукоризненно хорошо, в этом всегда чувствуется профессиональная выучка.
Хигинс. Вот это меня и бесит. Эти дураки даже настоящими дураками быть не умеют. (Встает.) Во всяком случае, наше дело сделано и с ним покончено. По крайней мере, можно завалиться спать без боязни за завтрашний день.
Красота Элизы принимает зловещий вид.
Пикеринг. Пожалуй, и я отправлюсь на покой. Что ни говорите, а событие это – ваш полный триумф. Покойной ночи. (Уходит.)
Хигинс (следуя за ним). Спокойной ночи. (Обернувшись на пороге.) Погасите свет, Элиза, и скажите миссис Пирс, чтобы утром она не варила кофе: я буду пить чай. (Уходит.)
Элиза старается взять себя в руки и остаться равнодушной. Она направляется к выключателю, но, дойдя до камина, уже находится на грани истерики. Она опускается в кресло Хигинса и сидит, крепко вцепившись в ручки. В конце концов силы ей изменяют, и в порыве бессильной злобы она бросается на пол. Хигинс орет за дверью.
Куда опять девались эти проклятые туфли? (Появляется в дверях.)
Элиза (хватает туфли и одну за другой изо всей силы швыряет ему прямо в лицо). Вот вам ваши туфли! Вот вам! Берите ваши туфли и подавитесь ими!
Хигинс (изумленный). Какого дьявола?.. (Подходит к ней.) Что случилось? Вставайте. (Поднимает ее.) Я спрашиваю вас: что-нибудь стряслось?
Элиза (задыхаясь). Ничего не стряслось – с вами. Ничего! Я выиграла вам пари, не так ли? С вас этого достаточно. А до меня вам и дела нет.
Хигинс. Вы выиграли мне пари! Вы, дрянь вы этакая! Я выиграл его. Почему вы швырнули в меня туфлями?
Элиза. Потому что хотела расквасить вам физиономию. Я готова убить вас, скотина толстокожая! Почему вы не оставили меня там, где нашли, – на панели? Теперь вы благодарите Бога, что все кончено и меня снова можно вышвырнуть на улицу, да? (В отчаянии ломает руки.)
Хигинс (глядя на нее с холодным удивлением). Оказывается, у этого существа все-таки есть нервы.
Элиза со сдавленным воплем ярости бросается на Хигинса, готовая выцарапать ему глаза, но он хватает ее за руки.
Ах, вы царапаться? Прочь когти, кошка! Какое вы имеете право устраивать мне сцены? Садитесь, и чтобы я звука не слышал! (Грубо швыряет ее в кресло.)
Элиза (подавленная его превосходством в силе и весе). Что со мной будет?! Что со мной будет?!
Хигинс. За каким чертом мне знать, что с вами будет? Не все ли мне равно, что с вами будет?
Элиза. Да, вам все равно! Я знаю, что вам все равно. Даже если я умру, это вас не тронет. Я для вас ничего не значу – меньше вот этих туфлей.
Хигинс (громовым голосом). Туфель.
Элиза (с горькой покорностью). Туфель. Впрочем, сейчас это уже не имеет значения.
Пауза. Элиза безнадежно подавлена. Хигинс чувствует себя неловко.
Хигинс (со всем высокомерием, на какое способен). С чего это вы вдруг взорвались? Позвольте узнать, вы недовольны отношением к вам?
Элиза. Нет.
Хигинс. Кто-нибудь плохо обращается с вами? Полковник Пикеринг? Миссис Пирс? Прислуга?
Элиза. Нет.
Хигинс. Надеюсь, вы не жалуетесь на то, что я третировал вас?
Элиза. Нет.
Хигинс. Рад слышать. (Смягчаясь.) Вы, вероятно, просто устали после напряженного дня. Хотите бокал шампанского? (Направляется к двери.)
Элиза. Нет. (Вспомнив, как полагается вести себя.) Благодарю вас, нет.
Хигинс (снова придя в добродушное настроение). Это у вас накопилось за последние дни. Совершенно естественно: вы волновались в ожидании приема. Но теперь уже все позади. (Снисходительно треплет ее по плечу. Она съеживается.) Теперь больше не о чем беспокоиться.
Элиза. Да, вам больше не о чем беспокоиться. (Внезапно встает и, отойдя от него, опускается на козетку у рояля, где сидит, закрыв лицо руками.) Боже мой, как мне хочется умереть!
Хигинс (глядя на нее с искренним изумлением). Но почему? Ради всего святого, объясните мне, почему? (Подходя к ней, рассудительно.) Послушайте, Элиза, ваше раздражение носит чисто субъективный характер.
Элиза. Не понимаю. Я слишком невежественна.
Хигинс. Вы все сами выдумали. Плохое настроение, и больше ничего. Никто вас не обижал, никто не собирается обижать. Будьте умницей, ложитесь, выспитесь – и все пройдет. Поплачьте немного, помолитесь – вам сразу станет легче.
Элиза. Вашу молитву я уже слышала: «Слава богу, все кончилось!»
Хигинс (нетерпеливо). А вы разве не благодарите Бога, что все кончилось? Теперь вы свободны и можете делать что вам вздумается.
Элиза (через силу, в отчаянии). На что я годна? К чему вы меня подготовили? Куда я пойду? Что будет дальше? Что со мной станет?
Хигинс (он наконец уразумел, в чем дело, но это его нисколько не тревожит). Ах, так вот что вас волнует! (Засовывает руки в карманы и, позвякивая по привычке их содержимым, начинает шагать по комнате. Лишь по доброте душевной он снисходит до такого тривиального разговора.) На вашем месте я бы не беспокоился о будущем. Думаю, что вам будет нетрудно так или иначе устроиться, хотя, откровенно говоря, я еще как-то не представляю себе, что вы уйдете от нас.
Она бросает на него быстрый взгляд, но он ничего не замечает.
Он исследует вазу с фруктами, стоящую на рояле, и решает съесть яблоко.
В конце концов, вы можете выйти замуж. (Откусывает большой кусок яблока и шумно жует его.) Знаете, Элиза, далеко не все мужчины такие убежденные старые холостяки, как мы с полковником. Большинство мужчин, увы, принадлежит к тем несчастным, которые женятся. А вы ведь совсем неплохо выглядите… Иногда на вас просто приятно смотреть – не сейчас, конечно; сейчас физиономия у вас зареванная и похожа черт знает на что. Но когда вы спокойны и довольны, я сказал бы даже, что вы привлекательны. То есть я хочу сказать – привлекательны для мужчин, склонных к браку. Отправляйтесь-ка в постель, отдохните как следует, а утром встаньте, посмотритесь в зеркало, и у вас сразу поднимется настроение.
Элиза, не двигаясь с места, молча пристально смотрит на него, но взгляд ее пропадает даром. Яблоко оказалось вкусным, и Хигинс с довольным видом жует его. Внезапно его осеняет блестящая идея.
Послушайте, мама найдет вам какого-нибудь подходящего парня! Ручаюсь!
Элиза. Как я низко пала после Тотенхэм-Корт-роуд.
Хигинс (очнувшись). Что вы имеете в виду?
Элиза. Там я продавала цветы, но не себя. Теперь, когда вы сделали из меня леди, мне не остается ничего другого, как торговать собой. Лучше бы вы оставили меня на улице.
Хигинс (решительно бросает огрызок яблока в камин). Довольно нести вздор, Элиза. Не оскорбляйте человеческие отношения ханжескими рассуждениями о купле и продаже. Никто вас не заставляет выходить за него, если он вам не понравится.
Элиза. А что мне остается делать?
Хигинс. Да все, что угодно. Помните, вы мечтали о цветочном магазине? Пикеринг может вам это устроить – у него куча денег. (Хихикает.) Ему еще придется заплатить за тряпки, которые вы сегодня надевали, а если к этому прибавить плату за прокат бриллиантов, то плакали его двести фунтов. Сознайтесь, ведь полгода назад вы и мечтать не смели о таком счастье, как собственный цветочный магазин. Ну, выше нос! Все будет в порядке. А теперь мне пора в постель – чертовски хочется спать. Да, кстати, я ведь за чем-то пришел… Будь я проклят, если помню, за чем…
Элиза. За туфлями.
Хигинс. Совершенно верно, за туфлями. А вы ими запустили в меня. (Подбирает туфли и собирается уходить, но Элиза встает и задерживает его.)
Элиза. Прежде чем вы уйдете, сэр…
Хигинс, услышав это обращение, роняет от неожиданности туфли.
Хигинс. А?
Элиза. Я хочу знать: мои платья принадлежат мне или полковнику Пикерингу?
Хигинс возвращается в комнату с таким видом, словно ему никогда не приходилось слышать более нелепого вопроса.
Хигинс. На кой черт нужны Пикерингу ваши платья?
Элиза. Они могут понадобиться ему для эксперимента над следующей девушкой, которую вы найдете.
Хигинс (уязвленный). Так вот вы какого мнения о нас!
Элиза. Я не желаю больше разговаривать на эту тему. Я желаю лишь знать, что из вещей принадлежит мне. Мои вещи, в которых я пришла сюда, к сожалению, сожжены.
Хигинс. Да не все ли равно? С чего это вы вздумали задавать мне в час ночи дурацкие вопросы?
Элиза. Я хочу знать, что я могу взять с собой. Я не хочу, чтобы потом меня обвинили в воровстве.
Хигинс (глубоко оскорбленный). В воровстве! Зачем вы так говорите, Элиза? Не думал я, что вы такая бесчувственная.
Элиза. Прошу прощения, но я простая, невежественная девушка, и в моем положении мне надо быть очень осторожной. Между такими, как вы, и такими, как я, не может быть никаких чувств. Прошу вас, скажите точно, что здесь принадлежит мне, а что нет.
Хигинс (угрюмо). Выносите хоть весь дом, черт вас дери! Оставьте только бриллианты: они взяты напрокат. Вас это устраивает? (Возмущенный, направляется к двери.)
Элиза упивается его раздражением, как нектаром, и обдумывает, как еще спровоцировать Хигинса, чтобы продлить наслаждение.
Элиза. Погодите! (Снимает с себя драгоценности.) Будьте так любезны, возьмите их и спрячьте у себя. Я не хочу отвечать за них – вдруг что-нибудь пропадет.
Хигинс (взбешенный). Давайте!
Она передает ему драгоценности.
Если бы они принадлежали мне, а не ювелиру, я бы заткнул ими вашу неблагодарную глотку. (Яростно рассовывает украшения по карманам, не замечая, что украсил себя свешивающимися концами ожерелья.)
Элиза (снимая кольцо). Это кольцо не взято напрокат. Вы купили мне его в Брайтоне. Теперь оно мне больше не нужно.
Хигинс швыряет кольцо в камин и оборачивается к ней с таким угрожающим видом, что она прячется за рояль, вскрикивает и закрывает лицо руками.
Не бейте меня!
Хигинс. Бить вас, тварь вы этакая! Как вы смели подумать, что я ударю вас?! Это вы ударили меня! Вы ранили меня в самое сердце!
Элиза (трепеща от затаенной радости). Очень рада, что хоть немного поквиталась с вами.
Хигинс (с достоинством, самым изысканным профессиональным тоном). Вы меня вывели из себя, что случается со мной чрезвычайно редко. На этом мы прервем наш разговор – я иду спать.
Элиза (дерзко). Оставьте лучше записку миссис Пирс насчет кофе, я не собираюсь ничего передавать ей.
Хигинс (педантично). К черту миссис Пирс! К черту кофе! К черту вас! К черту мою собственную глупость! Надо же было мне, идиоту, тратить свои упорным трудом приобретенные знания, сокровища своей души, свои чувства на бессердечную уличную девчонку! (Величественно покидает комнату, но портит весь эффект, хлопнув изо всех сил дверью.)
Элиза впервые за весь вечер улыбается и выражает свои чувства бурной пантомимой, то пародируя горделивый уход Хигинса, то упиваясь торжеством победы. В конце концов она опускается на колени перед камином и начинает искать в нем кольцо.
Действие пятое
Гостиная миссис Хигинс. Хозяйка сидит за письменным столом. Входит горничная.
Горничная (в дверях). Мистер Генри, мэм, и с ним полковник Пикеринг.
Миссис Хигинс. Просите.
Горничная. Они говорят по телефону, мэм. По-моему, вызывают полицию.
Миссис Хигинс. Что?
Горничная (подходит ближе и понижает голос). Мистер Генри в расстроенных чувствах, мэм. Я сочла нужным вас предупредить.
Миссис Хигинс. Я удивилась бы гораздо больше, если бы узнала, что мистер Генри не в расстроенных чувствах. Попросите их подняться ко мне, когда они покончат свои дела с полицией. Мистер Генри, наверно, потерял что-нибудь.
Горничная. Слушаю, мэм. (Направляется к двери.)
Миссис Хигинс. Поднимитесь наверх и скажите мисс Дулитл, что мистер Генри и полковник здесь. Передайте, чтобы она не выходила, пока я не пришлю за ней.
Горничная. Слушаю, мэм.
Врывается Хигинс. Он, как правильно заметила горничная, пребывает в расстроенных чувствах.
Хигинс. Послушайте, мама, произошла дьявольская история!
Миссис Хигинс. Доброе утро, мой милый.
Он сдерживает свое нетерпение и целует ее, в то время как горничная покидает комнату.
Что же случилось?
Хигинс. Элиза сбежала.
Миссис Хигинс (спокойно продолжая писать). Вы, наверно, напугали ее.
Хигинс. Как же! Ее напугаешь! Вздор! Вчера вечером она, как обычно, задержалась, чтобы погасить свет и всякое прочее, а потом вместо того, чтобы пойти спать, переоделась и сбежала. Ее постель даже не смята. Сегодня рано утром она приехала на такси за своими вещами, и эта дура миссис Пирс, не сказав мне ни слова, отдала их. Что мне теперь делать?
Миссис Хигинс. Обходиться без нее, Генри. Девушка имела полное право уйти, если ей так хочется.
Хигинс (блуждая по комнате). Но я не могу найти ни одной своей вещи. Я не знаю, с кем и когда у меня назначены встречи. Я…
Входит Пикеринг. Миссис Хигинс кладет перо и отодвигается от письменного стола.
Пикеринг. Доброе утро, миссис Хигинс. Генри уже рассказал вам? (Садится на тахту.)
Хигинс. Ну, что сказал этот осел инспектор? Вы предложили вознаграждение?
Миссис Хигинс (встает в негодовании). Неужели вы серьезно собираетесь разыскивать Элизу через полицию?
Хигинс. Конечно! Для чего еще существует полиция? И что нам оставалось делать? (Садится в елизаветинское кресло.)
Пикеринг. Я с трудом договорился с инспектором. Он, кажется, заподозрил нас в не совсем чистых побуждениях.
Миссис Хигинс. Безусловно. Вообще, какое вы имели право заявлять об этой девушке в полицию, как будто она воровка или потерянный зонтик? Безобразие! (Снова садится, крайне возмущенная.)
Хигинс. Но мы же хотим найти ее.
Пикеринг. Мы не допустим, чтобы она вот так ушла от нас. Что же нам оставалось делать, миссис Хигинс?
Миссис Хигинс. Здравого смысла у вас столько же, сколько у двух младенцев. Почему…
Входит горничная, прервав начатый разговор.
Горничная. Мистер Генри, к вам какой-то джентльмен по срочному делу. Его направили сюда с Уимпол-стрит.
Хигинс. А ну его ко всем чертям! Мне сейчас не до дел. А кто он такой?
Горничная. Некий мистер Дулитл, сэр.
Пикеринг. Дулитл? Так ведь это мусорщик!
Горничная. Мусорщик? Что вы, сэр! Это джентльмен.
Хигинс (возбужденно вскочив с места). Черт побери, Пик. Это, наверно, ее родственник, у которого она скрывается. Кто-нибудь, кого мы еще не знаем. (Горничной.) Тащите его сюда, да поживее.
Горничная. Слушаю, сэр. (Уходит.)
Хигинс (подходит к матери, нетерпеливо). Ну, сейчас мы кое-что услышим. (Садится на чиппендейловский стул.)
Миссис Хигинс. А вы знаете кого-нибудь из ее родных?
Пикеринг. Только отца. Помните, мы вам о нем рассказывали.
Горничная (объявляет). Мистер Дулитл. (Уходит.)
Входит Дулитл. Он великолепно одет: новый, модный сюртук, белый жилет и серые брюки. Цветок в петлице, сверкающий цилиндр и лакированные ботинки завершают картину. Войдя, он не замечает миссис Хигинс, так как целиком поглощен целью своего визита. Он направляется прямо к Хигинсу и обрушивает на него град упреков.
Дулитл (указывая на свой костюм). Смотрите! Видите вы это? Все это вы наделали!
Хигинс. Простите, что «все»?
Дулитл. Вот это все, говорю я вам. Взгляните на меня! Взгляните на эту шляпу! Взгляните на этот костюм!
Пикеринг. Элиза купила вам эти вещи?
Дулитл. Как же, Элиза! Держи карман шире! С какой это стати Элиза будет покупать мне тряпки?
Миссис Хигинс. Доброе утро, мистер Дулитл. Не угодно ли присесть?
Дулитл (смущенный тем, что не заметил хозяйку дома). Прошу прощения, мэм. (Подходит к ней и пожимает протянутую руку.) Благодарю вас. (Усаживается на тахту справа от Пикеринга.) Совсем я убит тем, что со мной приключилось, ни о чем другом думать не могу.
Хигинс. Что же, черт побери, с вами приключилось?
Дулитл. Да если б это со мной просто случилось, ну, что ж, как говорится, ничего не поделаешь, с каждым может случиться, на то и воля Божья. Так ведь нет, не случилось, а вы это сами со мной сделали. Да, да, вы, лично вы, Генри Хигинс.
Хигинс. Вы нашли Элизу? Остальное не важно.
Дулитл. А вы ее потеряли?
Хигинс. Да.
Дулитл. Ваше счастье. Я ее не нашел, но теперь, после того что вы со мной сделали, она меня сама живо найдет.
Миссис Хигинс. Но что же такое сделал с вами мой сын, мистер Дулитл?
Дулитл. Что он со мной сделал? Сгубил меня. Лишил покоя. Связал меня по рукам и ногам и отдал в лапы буржуазной морали.
Хигинс (встает и с негодующим видом подступает к Дулитлу). Вы бредите. Вы пьяны. Вы с ума сошли. Я дал вам пять фунтов, после чего имел с вами еще две беседы по полкроны в час. Больше я вас в глаза не видел.
Дулитл. Ах, я, значит, пьян? Да? Я с ума, значит, сошел? Да? А скажите-ка, писали вы письмо одному старому душегубу в Америке, который отвалил пять миллионов на то, чтобы по всему свету основать общества моральных реформ, и просил, чтобы вы придумали для него всемирный язык?
Хигинс. Что? Эзра Д. Уонафелер? Да ведь он умер. (Успокоенный, снова усаживается.)
Дулитл. Да, он умер, а я пропал. Писали вы ему или не писали? Нет, вы ответьте, писали вы ему, что, насколько вам известно, самый что ни на есть оригинальный моралист во всей Англии – это Элфрид Дулитл, простой мусорщик?
Хигинс. А ведь верно, после вашего последнего визита я, кажется, написал что-то в этом духе, ради шутки.
Дулитл. Ничего себе шутка! Она меня доконала, ваша шутка! Он ведь только и дожидался случая показать, что американцы нам не чета. Они, мол, признают и уважают человека за его достоинства, а из какого он класса, им начхать, пусть хоть из самых подонков. Вот эти самые слова черным по белому и записаны в его завещании. А по этому завещанию он из-за ваших дурацких шуток, Генри Хигинс, оставил мне пай в своем тресте «Пережеванный сыр» на три тысячи годового дохода при условии, что я буду читать лекции в его уонафелеровской «Всемирной лиге моральных реформ», когда меня пригласят, но не больше шести раз в год.
Хигинс. Черт побери! (Внезапно развеселившись.) Ну и потеха!
Пикеринг. Вам нечего опасаться, Дулитл: второй раз вас уже не пригласят.
Дулитл. Да тут не о лекциях речь. Я и глазом не моргну, а буду себе читать им эти лекции, пока они на стенку не полезут. Я ведь против чего возражаю – против того, что из меня порядочного сделали. Кто его просил делать из меня порядочного? Жил я в свое удовольствие, был свободен как ветер, а когда хотел, мог из любого джентльмена деньжат вытянуть, вроде как из вас вытянул, Генри Хигинс. Теперь я минуты покоя не знаю. Связан по рукам и ногам, и все, кому не лень, из меня деньги тянут. «Вам повезло», – говорит мой адвокат. «Вот как, – говорю я. – Вы, верно, хотите сказать, что это вам повезло». Помню, когда я был бедняком, довелось мне раз иметь дело с адвокатом – оказалась, понимаете, в моем мусорном фургоне детская коляска. Так адвокат этот только и думал, как бы меня поскорее с рук сбыть. И с докторами та же история – я еще на ногах не держусь, а меня уже норовят из больницы вышвырнуть. Так это мне хоть денег не стоило. А теперь доктора находят, что здоровье у меня слабое и я помру, если они ко мне по два раза на дню не будут заглядывать. Дома мне пальцем не дают шевельнуть: все за меня делают другие, а я за это денежки гони. Год назад у меня на всем белом свете было два-три родственника, да и те со мной знаться не хотели. А теперь их объявилось штук пятьдесят, и всем жить не на что.
Живи для других, а не для себя – вот она как обернулась, буржуазная-то мораль. Вы говорите, Элиза потерялась? Не беспокойтесь! Бьюсь об заклад, что она уже у моего подъезда торчит. А пока меня почтенным буржуа не сделали, она себе спокойно цветочки продавала и сама кормилась. Подходит день, когда и вы, Генри Хигинс, начнете из меня деньги тянуть. Придется вам меня учить разговаривать по-буржуазному, просто по-человечески мне теперь говорить не положено. Вот тут-то ваш черед и подойдет. Я так думаю, что вы всю эту штуку для того и подстроили.
Миссис Хигинс. Но, милый мистер Дулитл, если вы говорите серьезно, то зачем вам терпеть это? Никто не заставляет вас принять наследство. Вы можете отказаться от него. Не так ли, полковник Пикеринг?
Пикеринг. Несомненно.
Дулитл (смягчая тон из уважения к даме). В том-то и трагедия, мэм. Легко сказать – отказаться. А если духа не хватает? Да и у кого хватило бы? Все мы запуганы, мэм, – вот оно что. Ну, допустим, я отказался, а под старость что? Ступай в работный дом? Мне уже сейчас приходится волосы красить, чтобы работу не потерять. А я всего-навсего мусорщик. Будь я достойным бедняком, я бы, конечно, имел кой-какие сбережения и тогда мог бы отказаться. Но опять-таки смысла нету, потому как достойным беднякам живется не лучше, чем миллионерам. Им даже не понять, что значит жить в свое удовольствие. А как я есть бедняк недостойный, то между мной и нищенской робой только и стоят что эти три тысячи в год. Будь они трижды прокляты – простите за выражение, мэм, но и вы на моем месте не удержались бы – они-то меня в буржуазное общество и спихнули. Вот и выходит – куда ни кинь, все клин: выбирать приходится между Скилией работного дома и Харбидией буржуазного класса, а выбрать работный дом рука не поднимается. Запуган я, мэм. Сдаться решил. Меня купили. Счастливцы будут вывозить мой мусор и тянуть из меня на чай, а я буду смотреть на них и завидовать. И все это подстроил мне ваш сынок. (Смолкает от наплыва чувств.)
Миссис Хигинс. Я очень рада, что вы не собираетесь делать глупости. Таким образом, будущее Элизы перестанет быть проблемой. Теперь вы можете обеспечить ее.
Дулитл (с печальной покорностью). Да, мэм. Теперь я должен обеспечивать всех – и все на жалкие три тысячи в год.
Хигинс (вскакивая). Вздор! Он не может обеспечить ее и не будет ее обеспечивать. Она ему не принадлежит: я заплатил за нее пять фунтов. Честный вы человек или мошенник, Дулитл?
Дулитл (кротко). И того и другого есть понемногу. Как каждый из нас, Генри.
Хигинс. Но деньги-то вы за девушку взяли? Значит, не имеете права требовать ее обратно.
Миссис Хигинс. Генри, перестань глупить. Угодно тебе знать, где Элиза? Так вот, она у меня наверху.
Хигинс (пораженный). Наверху? Ну, так я ее живо спущу вниз! (Решительно направляется к двери.)
Миссис Хигинс (следует за ним). Успокойся, Генри. Сядь.
Хигинс. Я…
Миссис Хигинс. Сядь, милый, и выслушай меня.
Хигинс. Ну хорошо, хорошо, пожалуйста! (С размаху бросается на тахту и отворачивается.) Но вы могли все-таки сказать мне об этом еще полчаса назад.
Миссис Хигинс. Элиза пришла ко мне сегодня утром. Уйдя от вас, она в ярости металась по улицам, хотела утопиться, но не нашла в себе сил и остаток ночи провела в отеле «Карлтон». Она рассказала мне, как отвратительно вы поступили с ней.
Хигинс (снова вскочив). Что-о?
Пикеринг (тоже встает). Дорогая миссис Хигинс, поверьте, это сплошные выдумки. Никто с ней дурно не поступал. Мы вообще почти не разговаривали с ней и расстались самыми лучшими друзьями. (Хигинсу.) Хигинс, может быть, вы ее чем-нибудь допекли после моего ухода?
Хигинс. Как раз наоборот. Это она запустила в меня туфлями и вообще вела себя самым непозволительным образом. Я не дал ей ни малейшего повода, и вдруг бац! – не успел я слова сказать, как она влепила мне в физиономию сначала одну туфлю, потом другую. А сколько гадостей наговорила!
Пикеринг (удивленный). Но за что? Что мы ей сделали?
Миссис Хигинс. А я прекрасно понимаю, что вы ей сделали. Девушка, вероятно, от природы очень чувствительна. Не правда ли, мистер Дулитл?
Дулитл. Сердце у нее чистый воск, мэм. В меня пошла.
Миссис Хигинс. Вот видите. Она привязалась к вам обоим. Она так старалась ради тебя, Генри! Ты даже представить себе не можешь, что значит для такой девушки умственная работа. Наконец наступает великий день. Она справляется с труднейшим испытанием без единого промаха, а вы возвращаетесь домой и, даже не замечая ее, начинаете рассказывать, как вам надоела вся эта история и как вы рады, что все наконец кончилось. И ты еще удивляешься, что она запустила в тебя туфлями? Я бы в тебя кочергой запустила!
Хигинс. Мы сказали только, что очень устали и хотим спать, вот и все. Правда, Пик?
Пикеринг (пожимая плечами). Больше мы ничего не говорили.
Миссис Хигинс (с иронией). Вы уверены?
Пикеринг. Абсолютно уверен. Ни слова больше.
Миссис Хигинс. И вы не поблагодарили ее, не сказали ей ласкового слова, не похвалили ее за то, что она так блистательно справилась со своей задачей?
Хигинс (нетерпеливо). Все это ей и без того было известно. Если вы имеете в виду поздравительные речи, то мы их действительно не произносили.
Пикеринг (испытывая угрызения совести). Возможно, мы были недостаточно внимательны. Она очень сердится?
Миссис Хигинс (возвращаясь на свое место за письменным столом). Боюсь, что она не вернется больше на Уимпол-стрит, особенно теперь, когда мистер Дулитл может обеспечить ей то положение, которое вы ей навязали. Однако она говорит, что готова забыть обиды и встретиться с вами по-дружески.
Хигинс (взбешенный). Вот как! Она готова снизойти до нас!
Миссис Хигинс. Если ты обещаешь вести себя прилично, Генри, я попрошу ее спуститься сюда. Если – нет, отправляйся домой: ты и так уже отнял у меня много времени.
Хигинс. Прекрасно! Превосходно! Пик, прошу вас, ведите себя прилично. Облачимся в наши лучшие воскресные манеры ради девчонки, которую мы вытащили из грязи. (Сердито бросается в елизаветинское кресло.)
Дулитл (с укором). Ах, Генри Хигинс, Генри Хигинс, пощадите мои буржуазные чувства.
Миссис Хигинс. Не забывай, Генри: ты обещал. (Нажимает кнопку звонка на письменном столе.) Мистер Дулитл, будьте любезны, пройдите пока на балкон. Я хочу, чтобы Элиза помирилась с этими джентльменами до того, как вы сообщите ей о своем новом положении. Вы не возражаете?
Дулитл. Как вам угодно, мэм. Я готов на все, лишь бы Генри избавил меня от нее. (Скрывается за балконной дверью.)
Появляется горничная. Пикеринг занимает место Дулитла.
Миссис Хигинс. Попросите, пожалуйста, мисс Дулитл.
Горничная. Слушаю, мэм. (Уходит.)
Миссис Хигинс. Смотри, Генри, будь умницей.
Хигинс. По-моему, я веду себя идеально.
Пикеринг. Он старается как может, миссис Хигинс.
Пауза. Хигинс откидывает голову, вытягивает ноги и начинает насвистывать.
Миссис Хигинс. Милый Генри, в этой позе ты выглядишь совсем не лучшим образом.
Хигинс (подбирая ноги). А я и не стремлюсь выглядеть лучшим образом.
Миссис Хигинс. Дело не в этом, милый. Я просто хотела, чтобы ты заговорил.
Хигинс. А почему?
Миссис Хигинс. А потому, что, когда человек разговаривает, он не может свистеть.
Хигинс издает стон. Снова томительная пауза.
Хигинс (потеряв терпение, вскакивает с места). Где же, черт побери, эта девчонка? Целый день нам ее дожидаться, что ли?
Входит невозмутимая, излучающая приветливость Элиза. Она в совершенстве владеет собой и держится с полной непринужденностью. В руках у нее рабочая корзинка. Видно, что она чувствует себя здесь как дома. Пикеринг так поражен, что не в силах двинуться с места.
Элиза. Здравствуйте, профессор Хигинс. Как вы себя чувствуете?
Хигинс (поперхнувшись). Как я… (Продолжать он не в состоянии.)
Элиза. Ну конечно, хорошо – вы ведь никогда не болеете. Как я рада вас видеть, полковник Пикеринг!
Пикеринг поспешно вскакивает и здоровается с ней.
Сегодня прохладно, не правда ли? (Садится.)
Пикеринг усаживается рядом с ней.
Хигинс. Со мной вы эти фокусы бросьте! Я сам вас всему научил, меня этим не возьмешь! Хватит дурака валять! Одевайтесь и домой.
Элиза вынимает из корзинки вышивание и начинает работать, не обращая на Хигинса ни малейшего внимания.
Миссис Хигинс. Право, ты очень мил, Генри! Ни одна женщина не устоит перед таким приглашением.
Хигинс. Оставьте вы ее, мама. Пусть говорит сама за себя. Вы очень скоро убедитесь, что у нее нет ни одной своей мысли, ни одного своего слова – всему научил ее я. Повторяю вам, я создал ее из рыночных отбросов, а теперь эта гнилая капустная кочерыжка разыгрывает передо мной знатную леди.
Миссис Хигинс (успокаивающе). Да, да, мой милый, но, может быть, ты все-таки сядешь?
Разъяренный Хигинс садится.
Элиза (продолжая работать и, по-видимому, не замечая его присутствия). Теперь вы меня, наверно, совсем забудете, полковник Пикеринг, – ведь ваш эксперимент окончен.
Пикеринг. Не надо так. Вы не должны об этом думать как об эксперименте. Мне больно это слышать.
Элиза. Правда, я ведь всего лишь гнилая капустная кочерыжка…
Пикеринг (порывисто). Нет!
Элиза (невозмутимо). … но вы для меня столько сделали, что мне было бы очень горько, если бы вы меня забыли.
Пикеринг. Вы очень любезны, мисс Дулитл.
Элиза. Дело не в том, что вы платили за мои туалеты. Я знаю, вы не скупитесь на деньги. Но именно от вас я научилась хорошим манерам, а ведь без них нельзя стать настоящей леди, не правда ли? Знаете, мне было так трудно научиться прилично вести себя, находясь все время в обществе профессора Хигинса. Я с детства привыкла вести себя точно так же, как ведет себя он: не умела сдерживаться, кричала, ругалась по каждому поводу. Я бы так никогда и не узнала, как ведут себя настоящие леди и джентльмены, если бы не вы.
Хигинс. Ну и ну!
Пикеринг. Но ведь у него это получается непроизвольно. Он не хотел вам плохого.
Элиза. Вот и я непроизвольно делала то же самое, когда была цветочницей. Но все-таки делала – вот в чем беда.
Пикеринг. Ваша правда. Тем не менее именно он научил вас правильно говорить; я, знаете, с этим бы не справился.
Элиза (небрежно). Да, конечно, но ведь это его профессия.
Хигинс. Ах, черт!
Элиза (продолжая). Это все равно что научить танцевать модные танцы, не больше. Знаете вы, когда по-настоящему началось мое воспитание?
Пикеринг. Нет…
Элиза (опуская вышивку). В тот день, когда я впервые пришла на Уимпол-стрит и вы назвали меня мисс Дулитл. С этой минуты я начала уважать себя. (Снова берется за вышивание.) Многих мелочей вы даже не замечали, так они были естественны для вас. Вы разговаривали со мной стоя, снимали передо мной шляпу, пропускали меня в дверях…
Пикеринг. Какие пустяки!
Элиза. Да, но эти пустяки говорили о том, что вы обо мне лучшего мнения, чем о какой-нибудь судомойке; хотя и с судомойкой, попади она в гостиную, вы, конечно, были бы так же вежливы. Вы, например, никогда не снимали при мне ботинок в столовой.
Пикеринг. Вы не должны обижаться за это на Хигинса: он снимает их всюду.
Элиза. Знаю. И не виню его. Это у него получается непроизвольно, не правда ли? Но для меня было так важно, что вы этого не делали. Видите ли, разница между леди и цветочницей заключается не только в умении одеваться и правильно говорить – этому можно научить, и даже не в манере вести себя, а в том, как себя ведут с ними окружающие. С профессором Хигинсом я навсегда останусь цветочницей, потому что он вел себя и будет вести себя со мной как с цветочницей. Но с вами я могу стать леди, потому что вы вели себя и будете вести себя со мной как с леди.
Миссис Хигинс. Генри, пожалуйста, не скрежещи зубами.
Пикеринг. Право, мне очень приятно это слышать, мисс Дулитл.
Элиза. Если хотите, можете называть меня просто Элизой.
Пикеринг. Благодарю. С наслаждением буду называть вас Элизой.
Элиза. А профессора Хигинса я просила бы называть меня мисс Дулитл.
Хигинс. Раньше подохнете.
Миссис Хигинс. Генри! Генри!
Пикеринг (смеясь). Платите ему той же монетой, Элиза. Не церемоньтесь с ним, ему это на пользу.
Элиза. Не могу. Раньше смогла бы, а теперь не могу. Ночью, когда я бродила по улицам, ко мне обратилась какая-то девушка. Я попробовала заговорить с ней по-старому, но у меня ничего не вышло. Помните, вы мне рассказывали, что, когда ребенок попадает в другую страну, он быстро начинает говорить на чужом языке и забывает свой. Я – такой ребенок в вашей стране. Я забыла свой родной язык и могу говорить только на вашем. Именно теперь, когда я ушла с Уимпол-стрит, я навсегда покончила с Тотенхэм-Корт-роуд.
Пикеринг (встревоженно). Но вы же вернетесь на Уимпол-стрит, правда? Вы простите Хигинса?
Хигинс (вскакивая). Черта с два я ей позволю прощать меня. Пускай убирается! Пускай попробует обойтись без нас. Без меня она через три недели скатится обратно на дно.
В комнате появляется Дулитл. Бросив на Хигинса полный достоинства и укоризны взгляд, он тихо подходит к дочери, которая стоит спиной к нему.
Пикеринг. Он неисправим, Элиза. Но вы ведь не скатитесь на дно, правда?
Элиза. Нет, никогда не скачусь. Я хорошо выучила свой урок. Я уже не могу издавать такие звуки, как раньше, даже если бы захотела!
Дулитл сзади кладет ей руку на плечо. От неожиданности она роняет вышивание, оборачивается, и тут, при виде отца в шикарном костюме, ей сразу изменяет выдержка.
А… а… а… у… у… о… ой!
Хигинс (издав торжествующий вопль). Ага! Правильно! А… а… а… у… у… о… ой! Победа! Победа! (Растягивается на тахте, скрестив руки на груди.)
Дулитл. Ну чего к девушке прицепились? Не смотри на меня так, Элиза. Я тут ни при чем. Просто у меня деньги завелись.
Элиза. Не иначе как тебе миллионер подвернулся?
Дулитл. Верно. Но сегодня я вырядился по особому случаю. Сейчас еду в церковь Святого Георгия. Мачеха твоя за меня выходит.
Элиза (сердито). И ты унизишься до брака с этой мерзкой, вульгарной бабой?
Пикеринг (мягко). Это его долг, Элиза. (Дулитлу.) А почему она переменила свои намерения?
Дулитл (грустно). Запугана, хозяин, запугана. Буржуазная мораль требует жертв. Не хочешь ли поглядеть, как меня окрутят, Элиза? Надевай шляпу, и поехали.
Элиза. Если полковник считает это нужным, я… я… (Чуть не плачет.) Я поступлюсь своим достоинством. А в награду за это, наверно, наслушаюсь новых оскорблений.
Дулитл. Не бойся, теперь она больше ни с кем не лается. Как стала порядочной, так совсем духом пала.
Пикеринг (слегка сжимая локоть Элизы). Не огорчайте их, Элиза. Сделайте что в ваших силах.
Элиза (пытается выдавить улыбку, скрыв раздражение). Ну хорошо, я поеду. Пусть видят, что я не злопамятна. Подожди минутку, я сейчас вернусь. (Уходит.)
Дулитл (подсаживаясь к Пикерингу). Как подумаю об этой церемонии, так меня страх и разбирает, полковник. Может, вы тоже поедете, чтобы подбодрить меня?
Пикеринг. У вас ведь уже есть опыт, старина. Вы же были женаты на матери Элизы.
Дулитл. Да кто это вам сказал?
Пикеринг. Мне, собственно, никто не говорил… Но, естественно, я полагал…
Дулитл. Ничего тут нет естественного. Просто у порядочных так принято. А я всегда поступал, как положено непорядочному. Только вы Элизе ничего не говорите. Она не знает: я ей из деликатности не говорил.
Пикеринг. И правильно сделали. Если не возражаете, забудем о нашем разговоре.
Дулитл. Ладно. А вы поедете со мной в церковь, полковник, и присмотрите, чтобы меня окрутили по всем правилам?
Пикеринг. С удовольствием. Не знаю только, будет ли от меня, холостяка, польза.
Миссис Хигинс. А меня вы не приглашаете, мистер Дулитл? Я бы тоже с удовольствием побывала на вашей свадьбе.
Дулитл. За большую честь сочту, мэм, если вы снизойдете. А старуха моя, так та на стенку от радости полезет. Очень уж она расстраивается, бедняжка, что кончились наши счастливые денечки.
Миссис Хигинс (вставая). Тогда я велю подать коляску и пойду одеваться.
Мужчины встают, Хигинс не трогается с места.
Я задержу вас минут на пятнадцать, не больше.
Направляется к двери. Навстречу ей входит Элиза в шляпе и перчатках, которые она застегивает на ходу.
Элиза, я тоже отправляюсь в церковь на свадьбу вашего отца. Вам удобнее ехать со мной, а полковник Пикеринг может сопровождать жениха.
Миссис Хигинс уходит. Элиза проходит в комнату и станавливается между окном и тахтой. Пикеринг присоединяется к ней.
Дулитл. Жених! Ну и словечко! Скажешь такое, и сразу тебе ясно, на что идешь. (Берет цилиндр и направляется к двери.)
Пикеринг. Элиза, пока я не ушел, обещайте, что простите Хигинса и возвратитесь к нам.
Элиза. Боюсь, что папа не разрешит мне. Правда, папочка?
Дулитл (опечаленный, но готовый проявить великодушие). А ловко эти шутники обвели тебя вокруг пальца, Элиза. Имей ты дело с одним, ты бы уж его из рук не выпустила. Вся беда в том, что их оказалось двое, и один вроде как прикрывал другого. (Пикерингу.) Хитрей не придумаешь, полковник, но я не в претензии – я бы и сам так сделал. Всю жизнь я страдал от женщин; так уж если вам удалось выкрутиться, ваше счастье. Я в ваши дела не полезу. Ну, полковник, пора нам двигаться. До скорого, Генри. Элиза, увидимся в церкви. (Уходит.)
Пикеринг (заискивающе). Оставайтесь с нами, Элиза. (Идет вслед за Дулитлом.)
Элиза хочет выйти на балкон, чтобы не оставаться наедине с Хигинсом. Он следует за ней. Она тут же возвращается в комнату, но он, пробежав вдоль балкона, успевает преградить ей путь.
Хигинс. Ну вот, Элиза, вы и поквитались со мной, по вашему выражению. Довольны вы или вам еще мало? Может быть, вы хоть теперь образумитесь?
Элиза. Вы хотите, чтобы я вернулась только затем, чтобы подавать вам туфли, терпеть ваши вздорные причуды и быть у вас на побегушках?
Хигинс. Я не сказал, что хочу вашего возвращения.
Элиза. Ах вот как! В таком случае о чем нам вообще говорить?
Хигинс. О вас, не обо мне. Если вы вернетесь, я буду относиться к вам точно так же, как относился до сих пор. Я не могу переделать себя и не собираюсь менять свои манеры. Кстати, веду я себя нисколько не хуже, чем полковник Пикеринг.
Элиза. Неправда. Полковник Пикеринг ведет себя с цветочницей как с герцогиней.
Хигинс. А я с герцогиней – как с цветочницей.
Элиза. Понятно. (Спокойно садится на тахту лицом к окну, отвернувшись от него.) Со всеми одинаково.
Хигинс. Совершенно верно.
Элиза. Совсем как мой отец.
Хигинс (с усмешкой, но слегка сбавив тон). Я не совсем согласен с вашим сравнением, Элиза. Однако должен признать, что отец ваш не страдает снобизмом и будет чувствовать себя одинаково свободно в любом положении, в каком может очутиться по воле своей капризной судьбы. (Серьезно.) Вы знаете, в чем секрет, Элиза? Не в том, что человек ведет себя плохо, или хорошо, или еще как-нибудь, а в том, что он со всеми людьми ведет себя одинаково. Короче говоря, надо вести себя так, словно ты в раю, где нет пассажиров третьего класса и царит всеобщее равенство.
Элиза. Аминь. Вы прирожденный проповедник.
Хигинс (раздраженно). Дело не в том, что я груб с вами, а в том, что я никогда ни с кем и не бываю иным.
Элиза (очень искренне). Мне все равно, как вы со мной обращаетесь. Ругайте меня, бейте, пожалуйста, – я к этому привыкла. Но (встает и смотрит на него в упор) раздавить себя я не позволю.
Хигинс. Так прочь с моего пути. Я не собираюсь останавливаться из-за вас. С какой стати вы говорите обо мне так, словно я автобус?
Элиза. Вы и есть автобус. Завели мотор и поперли, а до других вам и дела нет. Но не думайте, я могу обойтись и без вас.
Хигинс. Знаю. Я сам говорил вам, что можете.
Элиза (уязвленная, переходит к другому концу тахты и поворачивается к камину). Да, говорили, бездушный вы человек. Вы хотели избавиться от меня.
Хигинс. Врете.
Элиза. Спасибо. (С достоинством садится.)
Хигинс. А приходило вам когда-нибудь в голову, что я не могу обойтись без вас?
Элиза (серьезно). Не пытайтесь снова меня опутать. Вам придется обходиться без меня.
Хигинс (высокомерно). И обойдусь. Мне не нужен никто. У меня есть моя собственная душа, моя собственная искра божественного огня. (С неожиданным смирением.) Но мне будет недоставать вас, Элиза. (Садится рядом с ней.) Ваши идиотские представления о жизни многому меня научили – признаюсь покорно и с благодарностью. Кроме того, я привык к вашему голосу и к вашему виду, они мне даже нравятся.
Элиза. Ну что ж, у вас есть записи с моим голосом и мои фотографии. Когда вам станет скучно без меня, послушайте запись. У нее, по крайней мере, нет чувств, ей не причинишь боли.
Хигинс. Но я не услышу вашей души. Оставьте мне свою душу, а голос и лицо берите с собой. Они – не вы.
Элиза. О, да вы настоящий дьявол! Вы умеете вывернуть душу, как другие выворачивают руку, чтобы поставить человека на колени. Миссис Пирс предупреждала меня. Сколько раз она собиралась от вас уйти, но в последнюю минуту вам всегда удавалось уломать ее. А ведь она вас нисколько не интересует, так же как не интересую вас я.
Хигинс. Но меня интересует человеческая природа и жизнь, а вы – частица этой жизни, которая встретилась мне на пути и в которую я вложил свою душу. Чего еще вы хотите?
Элиза. Я хочу быть безразличной к тому, для кого безразлична я.
Хигинс. Это торгашеский принцип, Элиза. Все равно что (профессионально точно воспроизводит ее ковентгарденскую манеру речи) «фиялочки» продавать.
Элиза. С вашей стороны подло глумиться надо мной.
Хигинс. Я никогда в жизни ни над кем не глумился. Глумление не украшает ни человека, ни его душу. Я лишь выражаю свое справедливое возмущение торгашеским подходом к делу. В вопросах чувства я не признаю сделок. Вы называете меня бездушным, потому что не смогли купить меня тем, что подавали мне туфли и находили очки. Вы были дурой. Женщина, подающая мужчине туфли, – отвратительное зрелище. Разве я когда-нибудь подавал туфли вам? Вы много выиграли в моих глазах, когда запустили этими самыми туфлями мне в физиономию. Нечего сперва раболепствовать передо мной, а потом возмущаться, почему я не интересуюсь вами. А кто может интересоваться рабом? Если вы хотите вернуться, возвращайтесь ради настоящей дружбы. Другого не ждите. Вы и так получили от меня в тысячу раз больше, чем я от вас. А если вы посмеете сравнивать свои собачьи повадки – вроде таскания туфель – с тем, что я создал из вас герцогиню Элизу, то я просто захлопну дверь перед вашим глупым носом.
Элиза. Зачем вы делали из меня герцогиню, если я вас не интересую?
Хигинс (искренне). Так ведь это же моя работа.
Элиза. Вы даже не подумали, сколько беспокойства причините мне этим.
Хигинс. Мир никогда бы не был сотворен, если бы творец его боялся кого-нибудь обеспокоить. Творить жизнь – значит причинять беспокойство. Есть один только путь избежать беспокойства: убийство. Вы заметили, трусы всегда требуют, чтобы беспокойных людей убивали?
Элиза. Я не проповедник, чтобы обращать внимание на такие вещи. Я обращаю внимание только на то, что вы не обращаете внимания на меня.
Хигинс (разозлившись, вскакивает и начинает ходить по комнате). Элиза, вы идиотка! Я зря трачу сокровища своего мильтоновского ума, выкладывая их перед вами. Поймите раз и навсегда – я иду своим путем и делаю свое дело. А на то, что может случиться с любым из нас, мне решительно наплевать. Я не запуган, как ваш отец и ваша мачеха. Выбирайте сами – либо возвращайтесь, либо идите ко всем чертям.
Элиза. Зачем мне возвращаться?
Хигинс (встав коленями на тахту, наклоняется к Элизе). Только ради собственного удовольствия. Из-за этого я и взял вас к себе.
Элиза (отвернувшись). А завтра, если я не стану выполнять все ваши желания, вы вышвырнете меня обратно на улицу?
Хигинс. Да. Но вы тоже можете встать и уйти, если я не буду исполнять все ваши желания.
Элиза. Уйти и жить с мачехой?
Хигинс. Да. Или продавать цветы.
Элиза. Ах, если бы я могла опять вернуться к моей корзине с цветами! Я бы не зависела ни от вас, ни от отца, ни от кого на свете! Зачем вы отняли у меня мою независимость? Зачем я пошла на это? А теперь я просто жалкая раба, несмотря на все свои красивые платья.
Хигинс. Ничего подобного. Если хотите, я могу удочерить вас и положить на ваше имя деньги. А может быть, вы предпочитаете выйти замуж за Пикеринга?
Элиза (свирепо). Я не вышла бы даже за вас, если бы вы меня попросили. А по возрасту вы мне больше подходите, чем они.
Хигинс (мягко). «Чем он», а не «чем они».
Элиза (выйдя из себя, вскакивает). Буду говорить как хочу. Вы мне больше не учитель.
Хигинс (в раздумье). Нет, Пикеринг едва ли пойдет на это. Он такой же убежденный холостяк, как я.
Элиза. Я и не собираюсь замуж, не воображайте. У меня всегда хватало охотников жениться на мне. Вон Фредди Эйнсфорд-Хилл пишет мне три раза в день, и не письма – целые простыни.
Хигинс (неприятно пораженный). Черт знает что за нахал! (Откидывается назад и оказывается сидящим на корточках.)
Элиза. Он имеет право писать мне, раз ему так нравится. Бедный мальчик любит меня.
Хигинс (слезая с тахты). Но вы не имеете права поощрять его.
Элиза. Каждая девушка имеет право на любовь.
Хигинс. На чью любовь? Вот таких идиотов?
Элиза. Фредди не идиот. А если он бедный и слабенький и я нужна ему, то, может быть, я буду с ним счастливее, чем с человеком, который стоит выше меня и которому я не нужна.
Хигинс. Весь вопрос в том, сможет ли он что-нибудь сделать из вас?
Элиза. А может быть, я сама могу что-нибудь сделать из него. Но я вообще никогда не задумывалась над тем, кто из кого будет что-то делать, а вы только об этом и думаете. Я хочу остаться такой, как я есть.
Хигинс. Короче говоря, вы хотите, чтобы я вздыхал по вас так же, как Фредди? Да?
Элиза. Нет, не хочу. Мне от вас нужно совсем другое чувство. Напрасно вы так уж уверены насчет меня или себя. Я могла бы стать скверной девушкой, если б хотела. Я в жизни такое видела, что вам и не снилось, несмотря на всю вашу ученость. Вы думаете, такой девушке, как я, трудно завлечь джентльмена? Только от этой любви назавтра в петлю полезешь.
Хигинс. Это верно. Так из-за чего же, черт побери, мы спорим?
Элиза (с глубоким волнением). Мне хочется чуточку внимания, ласкового слова. Я знаю, я простая, темная, а вы большой ученый и джентльмен. Но ведь и я человек, а не ком грязи у вас под ногами. Если я чего и делала (поспешно поправляется), если я что-нибудь и делала, то не ради платьев и такси. Я делала это потому, что нам было хорошо вместе, и я начала… я начала привязываться к вам… не в смысле любви или потому, что забыла разницу между нами, а так просто, по-дружески.
Хигинс. Вот-вот! То же самое чувствуем и мы с Пикерингом. Элиза, вы дура.
Элиза. Это не ответ. (Опускается в кресло у письменного стола, на глазах ее слезы.)
Хигинс. Другого не ждите, пока не перестанете вести себя как круглая дура. Желаете стать леди, так нечего хныкать, что знакомые с вами мужчины не проводят половину своего времени, вздыхая у ваших ног, а вторую половину – разукрашивая вас синяками. Если вам не под силу та напряженная, но чуждая страстей жизнь, которую веду я, – возвращайтесь обратно на дно. Гните спину до потери человеческого облика, потом, переругавшись со всеми, заползайте в угол и тяните виски, пока не заснете. Ах, хороша жизнь в канаве! Вот это настоящая жизнь, жаркая, неистовая – прошибет самую толстую шкуру. Чтобы вкусить и познать ее, не нужно ни учиться, ни работать. Это вам не наука и литература, классическая музыка и философия или искусство. Вы находите, что я – бесчувственный эгоист, человек с рыбьей кровью, так ведь? Вот и прекрасно. Отправляйтесь к тем, кто вам по душе. Выходите замуж за какого-нибудь сентиментального борова с набитым кошельком. Пусть он целует вас толстыми губами и пинает толстыми подошвами. Не способны ценить, что имеете, так получайте то, что способны ценить.
Элиза (в отчаянии). Вы злой, вы тиран, вы деспот! Я не могу с вами говорить – вы все обращаете против меня, и выходит, что я же во всем виновата. Но в душе-то вы понимаете, что вы просто мучитель, и больше ничего. Вам отлично известно, что я не могу уже вернуться на дно, как вы говорите, и что на всем белом свете у меня нет настоящих друзей, кроме вас и полковника. Вы великолепно знаете, что после вас я буду не в состоянии жить с простым грубым человеком. Зачем же оскорблять меня, предлагая мне выйти за такого? Вы считаете, что мне придется вернуться на Уимпол-стрит, так как к отцу я не пойду, а больше мне некуда деться. Но не воображайте, что уже наступили мне на горло, что надо мной теперь можно издеваться. Я выйду замуж за Фредди, вот увидите, как только он сможет содержать меня.
Хигинс (садится рядом с ней). Вздор! Вы выйдете замуж за посла, за генерал-губернатора Индии, за наместника Ирландии, за любого короля! Я не потерплю, чтобы мой шедевр достался Фредди!
Элиза. Вы думаете доставить мне удовольствие, но я не забыла, что вы говорили минуту назад. Сладкими словами вы от меня ничего не добьетесь. Я не ребенок и не дурочка. Раз уж я не получу любви, то, по крайней мере, сохраню независимость.
Хигинс. Независимость! Это кощунственная мелкобуржуазная выдумка. Все мы, живые люди, зависим друг от друга.
Элиза (решительно встает). А вот вы увидите, завишу я от вас или нет. Если вы способны проповедовать, то я способна преподавать. Я стану учительницей.
Хигинс. Хотел бы я знать, чему это вы собираетесь учить?
Элиза. Тому, чему учили меня вы, – фонетике.
Хигинс. Ха-ха-ха!
Элиза. Я пойду к профессору Непину и предложу ему свои услуги в качестве ассистентки.
Хигинс (яростно вскакивая). Что?! К этому мошеннику, к этому невежде, к этой старой каракатице! Раскрыть ему мои методы! Выдать мои открытия! Да я вам раньше шею сверну! (Хватает ее за плечи.) Слышите, вы?
Элиза (не делая ни малейшей попытки сопротивляться). Сворачивайте! Мне все равно. Я знала, что когда-нибудь вы меня ударите.
Он выпускает ее, взбешенный тем, что забылся, и отшатывается так резко, что падает на тахту, на свое прежнее место.
Ага! Теперь я знаю, чем вас пронять. Боже, какая я была дура, что не догадалась раньше! Вам уже не отнять у меня моих знаний. А слух у меня тоньше, чем у вас, – вы это сами говорили. Кроме того, я умею вежливо и любезно разговаривать с людьми, а вы нет. Что? Пробрало вас наконец, Генри Хигинс! Теперь мне наплевать и на вашу ругань, и на все ваши высокопарные слова. (Прищелкивает пальцами.) Я дам объявление в газеты, что ваша герцогиня – простая цветочница, которую обучили вы, и что я берусь сделать то же самое из любой уличной девчонки; срок – полгода, плата – тысяча фунтов. Боже, когда вспоминаю, что пресмыкалась перед вами, что вы издевались надо мной, насмехались и мучили меня, а мне достаточно было пальцем шевельнуть, чтобы поставить вас на место, – я просто убить себя готова!
Хигинс (пораженный, смотрит на нее). Ах вы, наглая, бессовестная девчонка! Но все равно, это лучше, чем ныть, лучше, чем подавать туфли и находить очки, правда? (Встает.) Черт побери, Элиза, я сказал, что сделаю из вас настоящую женщину, – и сделал. Такая вы мне нравитесь.
Элиза. Да, теперь вы будете хитрить и заискивать. Поняли наконец, что я не боюсь вас и могу без вас обойтись.
Хигинс. Конечно, понял, дурочка! Пять минут тому назад вы висели у меня на шее, как жернов. Теперь вы – крепостная башня, боевой корабль! Вы, я и Пикеринг – мы теперь не просто двое мужчин и одна глупая девочка, а три убежденных холостяка.
Возвращается миссис Хигинс, уже успевшая переодеться. Элиза тотчас же принимает спокойный, непринужденный вид.
Миссис Хигинс. Элиза, экипаж ждет. Вы готовы?
Элиза. Да, вполне. А профессор не едет?
Миссис Хигинс. Ну конечно, нет. Он не умеет вести себя в церкви. Он постоянно отпускает во всеуслышание критические замечания по поводу произношения священника.
Элиза. Значит, мы больше не увидимся, профессор. Всего хорошего. (Направляется к двери.)
Миссис Хигинс (подходя к Хигинсу). До свиданья, милый.
Хигинс. До свиданья, мама. (Хочет поцеловать ее, но спохватывается и говорит вдогонку Элизе.) Да, кстати, Элиза, закажите по дороге копченый окорок и головку стилтоновского сыра. И купите мне, пожалуйста, у «Ила и Бинмена» пару замшевых перчаток номер восемь и галстук к новому костюму – расцветка на ваше усмотрение. (Его небрежный, веселый тон свидетельствует о том, что он неисправим.)
Элиза (презрительно). Купите сами. (Выплывает из комнаты.)
Миссис Хигинс. Боюсь, вы слишком избаловали девушку, Генри. Но ты не волнуйся, милый: я сама куплю тебе галстук и перчатки.
Хигинс (сияя). Нет, мама, можете быть спокойны: она купит все, что я просил. До свиданья. (Целует мать.)
Миссис Хигинс выходит. Хигинс, вполне довольный собой, с лукавой усмешкой позванивает в кармане мелочью.
Послесловие
Дальнейшие события показывать на сцене незачем, да, по правде говоря, незачем было бы и рассказывать о них, если бы не разленилось наше воображение; оно слишком привыкло полагаться на шаблоны и заготовки из лавки старьевщика, где Романтика держит про запас счастливые развязки, чтобы кстати и некстати приставлять их ко всем произведениям подряд. Итак, история Элизы Дулитл, хотя и названа романом из-за того, что описываемое преображение кажется со стороны невероятным и неправдоподобным, на самом деле достаточно распространена. Такие преображения происходят с сотнями целеустремленных честолюбивых молодых женщин с тех пор, как Нелл Гвин показала им пример, играя королев и очаровывая королей в том самом театре, где сперва продавала апельсины. Тем не менее самые разные люди полагают, что раз Элиза – героиня романа – изволь выходить замуж за героя. Это невыносимо. Прежде всего ее скромная драма будет испорчена, если играть пьесу, исходя из столь несообразного предположения, а кроме того, реальное продолжение очевидно всякому, кто хоть немного разбирается в человеческой природе вообще и в природе женской интуиции в частности.
Элиза, объявляя Хигинсу, что не пошла бы за него замуж, если б даже он ее просил, отнюдь не кокетничала, она сообщала ему глубоко продуманное решение. Когда холостяк интересует незамужнюю девицу, оказывает на нее влияние, обучает ее и становится необходимым ей, как Хигинс Элизе, то она, если только у нее хватает характера, всерьез задумается: а стоит ли еще делаться женой этого холостяка, тем более что любая решительно настроенная и увлеченная идеей брака женщина может его заарканить – так мало он думает о браке? Тут решение будет в значительной степени зависеть от того, насколько она свободна в своем выборе. А это, в свою очередь, будет зависеть от ее возраста и дохода. Если она не столь уж юна и не обеспечена средствами к существованию, то она выйдет за него замуж, так как вынуждена согласиться на любого, кто ее обеспечит. Но красивая девушка в возрасте Элизы не испытывает такой безотлагательности; она свободна в своем выборе и может проявлять разборчивость. И тут она руководствуется интуицией. Интуиция ей подсказывает не выходить за Хигинса. Но она не велит ей отказаться от него совсем. Нет никаких сомнений: на всю жизнь он останется одним из сильнейших ее увлечений. Чувство это жестоко пострадало бы, если бы другая женщина заняла ее место. Но поскольку в этом отношении она в нем уверена, то и не сомневается в правильности избранной ею линии поведения и не сомневалась бы, даже если бы между ними не было разницы в двадцать лет – разницы, которая так велика с точки зрения юности.
Коль скоро ее решение к нашей интуиции не взывает, давайте попробуем обосновать его с точки зрения разума. Когда Хигинс объясняет свое равнодушие к молодым женщинам тем, что они имеют сильнейшую соперницу в лице его матери, он дает ключ к своей холостяцкой закоренелости.
Случай этот можно считать редким только в том смысле, что замечательные матери попадаются редко. Если у впечатлительного мальчика мать достаточно богата, наделена умом, изящной внешностью, строгим, но не суровым характером, тонким вкусом и умением из современного искусства извлечь лучшее, то он возьмет ее за образец, с которым мало кто из женщин сможет потягаться; к тому же она освобождает его привязанности, чувство красоты и идеализм от специфических сексуальных импульсов. Все это делает его ходячей загадкой для большинства людей с неразвитым вкусом, которых растили в безвкусных домах заурядные или несимпатичные родители и для которых поэтому литература, скульптура, музыка и нежные отношения нужны лишь как формы секса, если вообще нужны. Слово «страсть» означает для них только секс, и мысль, что Хигинс испытывает страсть к фонетике и идеализирует мать, а не Элизу, кажется им нелепой и неестественной. И однако, посмотрев окрест себя, мы убедимся, что нет такого уродливого и несимпатичного человеческого существа, которое при желании не нашло бы себе жену или мужа, тогда как многие старые девы и холостяки возвышаются над средним уровнем благодаря своим высоким нравственным качествам и культуре. В результате всего этого нам трудно не заподозрить, что отделение секса от других человеческих связей, достигаемое людьми талантливыми путем чисто интеллектуального анализа, иногда осуществляется под воздействием родительского обаяния или же стимулируется им.
Так вот, хотя Элиза и не могла таким образом объяснить себе хигинсовские могучие силы противостояния ее чарам, которые повергли Фредди ниц с первого взгляда, она инстинктивно почувствовала, что никогда ей не завладеть Хигинсом целиком, не встать между ним и его матерью (первое, что должна сделать замужняя женщина). Короче говоря, она догадалась, что по какой-то необъяснимой причине он не подходит для роли мужа, то есть мужчины, для которого, соответственно ее представлению о муже, она стала бы объектом ближайшего, нежнейшего и самого горячего интереса. Даже при отсутствии соперницы-матери Элиза все равно не пожелала бы удовольствоваться таким интересом к себе, который стоял бы на втором месте после философских интересов. Даже если бы миссис Хигинс умерла, остался бы Мильтон и Универсальный алфавит. Высказывание Лэндора в том смысле, что любовь для тех, кто наделен сильнейшей способностью любить, играет второстепенную роль, не расположило бы к нему Элизу. Добавьте сюда возмущение, с каким она относилась к высокомерному деспотизму Хигинса, и как не доверяла его хитрой вкрадчивости, когда он старался обвести ее вокруг пальца и избежать ее гнева в тех случаях, когда обращался с нею чересчур запальчиво и грубо, – и вы увидите, что чутье Элизы с полным основанием предостерегало ее от брака с Пигмалионом.
Но тогда за кого же вышла Элиза? Ибо если Хигинсу на роду было написано оставаться холостяком, то Элиза вовсе не была создана для того, чтобы оставаться старой девой. Хорошо, коротко расскажем это для тех, кто сам не догадался, несмотря на некоторые намеки Элизы.
Почти сразу вслед за тем, как уязвленная Элиза провозглашает свое обдуманное решение не выходить за Хигинса, она упоминает, что молодой мистер Фредерик Эйнсфорд-Хилл ежедневно объясняется ей в любви по почте. Что ж, Фредди молод, фактически на двадцать лет моложе Хигинса: он джентльмен (или же, говоря языком прежней Элизы, «барчук») и изъясняется как джентльмен. Полковник обращается с ним как с равным; Фредди непритворно любит Элизу и не командует ею и вряд ли будет командовать, несмотря на свое социальное превосходство. Элиза не признает дурацкого романтического традиционного представления о том, что всем женщинам нравится, чтобы ими повелевали, а то и в буквальном смысле силой принуждали к подчинению и били.
«Идешь к женщине – бери с собой плетку», – говорит Ницше. Здравомыслящие деспоты никогда не прилагали этот совет к женщинам: они брали с собой плетку, когда имели дело с мужчинами, и мужчины, над чьей головой она свистела, рабски их боготворили, в гораздо большей степени, чем женщины. Бесспорно, бывают не только мужчины, но и женщины, любящие покоряться: они, как и мужчины, восхищаются теми, кто сильнее их. Но восхищаться сильной личностью – одно, а жить у него или у нее под пятой – совсем другое. Слабые личности, быть может, и не вызывают восхищения и желания поклоняться, но зато они не вызывают и неприязни, от них не шарахаются, и они без малейших затруднений вступают в брак с теми, кто для них слишком хорош. Они могут подвести в минуту крайности, но поскольку жизнь не есть одна сплошная минута крайности, а представляет собою главным образом цепь ситуаций, не требующих никакой особенной силы, то справиться с ними могут даже сравнительно слабые люди, имея в помощь более сильного партнера. Равным образом все вокруг свидетельствует о том, что люди сильные (не важно, мужского или женского пола) не только не вступают в брак с еще более сильными, но даже не отдают им предпочтения, когда подбирают себе друзей. Когда один лев встречает другого, у которого еще более громкий рык, он относит его к разряду зануд. Мужчина или женщина, которые чувствуют в себе силы на двоих, ищут в партнере чего угодно, только не силы. Обратное положение вещей тоже верно. Люди слабые любят вступать в брак с сильными, лишь бы те не очень их пугали, и, таким образом, часто совершают ошибку, которую метафорически мы определяем как «орешек не по зубам». Они хотят слишком многого в обмен на слишком малое, и когда сделка становится неравноценной до бессмысленности, союз распадается: слабейшего партнера либо отвергают, либо волочат за собой как тяжелый крест, что еще хуже. В таких нелегких обстоятельствах обычно оказываются люди не просто слабые, но к тому же еще глупые или тупые.
Ну, а раз с человеческими отношениями дело обстоит таким образом, как же поступит Элиза, очутившись между Фредди и Хигинсом? Изберет ли себе уделом всю жизнь подавать домашние туфли Хигинсу или предпочтет, чтобы всю жизнь ей подавал туфли Фредди? Ответ не вызывает сомнений. Если только Фредди физически не отталкивает ее, а Хигинс не привлекает настолько, что чувство это пересилит все другие, то, если она за кого-нибудь из них и выйдет, это будет Фредди.
Именно так и поступила Элиза.
Последовали осложнения. Но экономического, а не романтического характера. У Фредди не было ни денег, ни профессии. Вдовья часть, последняя реликвия, оставшаяся от былого великолепия Толсталеди-парка, позволила его матери переносить превратности жизни в Эрлскорте с жантильным видом, но не позволила дать детям сколько-нибудь серьезного среднего образования, а тем более профессию сыну. Служить клерком за тридцать шиллингов в неделю было ниже его достоинства, и вообще непереносимо. Его виды на будущее заключались в надежде на то, что, если соблюдать видимость благополучия, кто-нибудь что-нибудь для него сделает. «Что-нибудь» смутно рисовалось его воображению как частное секретарство или некая синекура. Матери это «что-то», вероятно, представлялось женитьбой на светской девушке со средствами, не устоявшей перед обаянием ее мальчика. Вообразите же чувства матери, когда Фредди женился на цветочнице, покинувшей свой класс при совершенно экстраординарных обстоятельствах, которые уже приобрели широкую известность.
Нельзя, правда, назвать положение Элизы полностью незавидным. Отец ее, в прошлом мусорщик, совершил фантастический прыжок из одной общественной категории в другую и стал необычайно популярен в фешенебельном обществе благодаря своему демагогическому таланту, восторжествовавшему над всеми предрассудками и всеми невыгодами его положения. Отвергнутый ненавистным ему классом буржуа, он в один миг угодил в высшие слои за счет своей смекалки, профессии мусорщика (которую он выставлял как знамя) и ницшеанской позиции вне добра и зла. На званых герцогских обедах для узкого круга он помещался по правую руку от герцогини, а в загородных домах если не сидел за обеденным столом и не давал советы членам кабинета министров, то курил в буфетной и ему прислуживал дворецкий. Но оказалось, что ему так же трудно заниматься всем этим на четыре тысячи в год, как миссис Эйнсфорд-Хилл существовать в Эрлскорте на ничтожно малый доход – доход настолько меньше дулитловского, что у меня духу не хватает предать гласности точную цифру. И он наотрез отказался добавить к своему бремени последнюю крупицу: взять на себя заботу о содержании Элизы.
Таким-то образом Фредди и Элиза, отныне мистер и миссис Эйнсфорд-Хилл, провели бы медовый месяц без гроша в кармане, если бы полковник не поднес Элизе в качестве свадебного подарка пятьсот фунтов. Их хватило надолго, так как Фредди, денег никогда не имевший, тратить их не умел, а Элиза, получившая светское воспитание из рук двух застарелых холостяков, носила платья, пока они совсем не изнашивались, но все равно была хороша собой, и ее нисколько не беспокоило, что они давно вышли из моды. Однако на всю жизнь пятисот фунтов молодой паре хватить не могло, и оба знали, а Элиза еще и инстинктивно чувствовала, что нужно наконец обходиться без посторонней помощи. Она могла бы поселиться на Уимпол-стрит, так как там, по существу, был теперь ее дом. Но она вполне отдавала себе отчет в том, что Фредди селить там не следует, потому что для его характера это будет вредно.
Надо сказать, уимполстритовские холостяки не возражали против вселения молодой четы. Когда Элиза попросила у них совета, Хигинс просто отказался обсуждать жилищный вопрос, не видя тут проблемы, – желание Элизы иметь в доме подле себя Фредди, с его точки зрения, заслуживало не более пристального внимания, чем, скажем, желание купить еще один предмет мебели для спальни. Соображения относительно характера Фредди и его морального долга самостоятельно зарабатывать на жизнь не произвели на Хигинса никакого впечатления. Он заявил, что характер у Фредди отсутствует и что, если он возьмется за полезную деятельность, какому-то компетентному лицу придется все исправлять, а такая процедура доставит чистый убыток обществу и огорчения самому Фредди, которого природа явно создала для легкой работы, а именно – развлекать Элизу, и это, по уверению Хигинса, куда полезнее и почетнее, чем служить в Сити.
Когда Элиза снова вернулась к своему прожекту обучать фонетике, Хигинс ни на йоту не умерил яростного сопротивления. Он утверждал, что ее по меньшей мере еще десять лет нельзя подпускать к преподаванию его любимой науки, и поскольку полковник, судя по всему, взял его сторону, Элиза поняла, что не сможет пойти против них в таком важном деле и что без согласия Хигинса она не имеет права использовать полученные от него знания (не будучи коммунисткой, она считала знания такой же личной собственностью, как, например, часы). Ко всему прочему, она была до фанатизма предана им обоим, и после замужества еще безраздельнее и откровеннее, чем прежде.
В конце концов разрешил проблему полковник, но стоило это ему многих мучительных сомнений. Как-то раз он довольно нерешительно спросил Элизу, отказалась ли она совсем от идеи поступить в цветочный магазин. Она ответила, что если раньше и думала об этом, то выбросила эту мысль из головы с того дня, как полковник объявил у миссис Хигинс, что это никуда не годится. Полковник сознался, что тогда он говорил под свежим впечатлением блистательного триумфа накануне. В тот же вечер они открыли свои замыслы Хигинсу. Единственное замечание, какое он соизволил отпустить по этому поводу, чуть было всерьез не рассорило их с Элизой. Сводилось оно к тому, что из Фредди получится идеальный мальчик на побегушках.
Разузнали мнение Фредди. Как оказалось, Фредди и сам подумывал о магазине, но ему, привычному к нужде, магазин представлялся тесной лавчонкой, где на одном прилавке Элиза продает табак, а на противоположном – он торгует газетами. Но он с готовностью согласился на цветочный магазин, сказав, что забавно будет ходить ранним утром вместе с Элизой на Ковент-гарденский рынок и покупать цветы на том месте, где они впервые встретились. За столь трогательные чувства он был вознагражден женой множеством поцелуев. Фредди добавил, что всегда боялся высказать вслух такое предположение из-за Клары – она закатила бы скандал, обвинив его в том, что он губит ее шансы на замужество, да и мать вряд ли одобрила бы такой шаг, раз столько лет она цеплялась за ту ступень общественной лестницы, на которой розничная торговля недопустима.
Это препятствие было устранено благодаря одному совершенно непредвиденному событию, которого мать Фредди никак не могла ожидать. Клара во время своих вторжений в наиболее высокие из доступных ей артистических кругов обнаружила, что в разговорную подготовку входит знание романов мистера Г. Д. Уэллса. Она принялась отовсюду брать их взаймы, и так энергично, что за два месяца проглотила все до единого. Результатом явилось обращение, в наше время весьма распространенное. Современные Деяния Апостолов составили бы целых пятьдесят Библий, найдись кто-нибудь, кто сумел бы их написать.
Бедная Клара, казавшаяся Хигинсу и его матери неприятной и нелепой особой, а собственной матери неудачницей, необъяснимым образом провалившейся в свете, не воспринимала сама себя ни той, ни другой, потому что, хотя над ней подтрунивали и ее передразнивали, как, впрочем, было вообще принято в Западном Кенсингтоне, ее тем не менее считали разумным и нормальным (или, так сказать, неизбежным?) человеческим существом. В худшем случае ее называли пробивной, но ни им, ни ей в голову не приходило, что пробивается она сквозь пустоту, и притом не в ту сторону. Однако счастливой она себя не чувствовала. Более того, она уже начинала приходить в отчаяние. Единственное ее достояние, а именно тот факт, что ее мать походила, по выражению зеленщика в Эпсоме, на «даму с выездом», очевидно, не имело ходовой ценности. Оно помешало ей получить образование, потому что рассчитывать Клара могла только на те знания, которые ей причиталось получать вместе с дочерью эрлскортского зеленщика. Поневоле ей пришлось искать общества людей того круга, откуда происходила ее мать. Но те попросту не хотели ее, так как она была гораздо беднее зеленщика и не могла себе позволить держать не то что собственную горничную, но даже прислугу в доме, и вынуждена была обходиться приходящей прислугой, согласной на скупое жалованье. При таких условиях ничто не могло придать ей вид подлинного продукта Толсталеди-парка. И тем не менее его традиции обязывали ее взирать на брак с кем-то в пределах ее досягаемости как на нестерпимое унижение. Дельцы и разного рода «люди со специальностью» мелкого пошиба были для нее неприемлемы. Она гонялась за художниками и романистами, но сама для них предмета очарования не составляла, ее манера подхватывать и смело пускать в ход словечки из мира художников и литераторов раздражала их. Короче говоря, она во всех отношениях была неудачницей – невежественная, ничего не умеющая, претенциозная, никому не нужная, отличающаяся снобизмом никчемная бесприданница. И хотя сама она ни в коей мере не допускала наличия у себя этих недостатков (ни один человек не желает признавать неприятных истин в приложении к себе, пока ему не забрезжит свет другого способа существования), она ощущала их воздействие на свою жизнь слишком остро, чтобы быть удовлетворенной положением вещей.
Сильнейшую встряску, открывшую ей глаза, Клара испытала, когда встретила девушку одного с ней возраста. Та произвела на нее ошеломляющее впечатление, пробудила ее, вызвала неудержимое желание взять ее себе за образец, завоевать ее дружбу. Но потом вдруг обнаружилось, что это утонченное создание вышло из трущоб и стало тем, чем оно стало, всего лишь в течение нескольких месяцев. Потрясение оказалось настолько сильным, что, когда мистер Г. Д. Уэллс приподнял ее на кончике своего могучего пера и с новой точки зрения показал ей в истинном свете жизнь, которую она вела, и общество, к которому льнула, показал, какое отношение они имеют к подлинным нуждам человечества и достойной социальной структуре, он добился такого разительного преображения и сознания греховности, что подвиг его можно сравнить лишь с самыми сенсационными подвигами генерала Бута и Джипси Смит. Кларин снобизм как рукой сняло. Жизнь ее внезапно пришла в движение. Сама не зная как и почему, она начала приобретать друзей и врагов. Одни знакомые, для которых прежде она была скучной, или безразличной, или нелепой неизбежностью, бросили ее совсем; другие стали радушны. К своему изумлению, она обнаружила, что некоторые «очень порядочные» люди насквозь пропитаны уэллсовскими идеями, и в том, что они доступны новым идеям, и кроется секрет их порядочности. Люди, которых она считала глубоко религиозными и из подражания которым также пыталась встать на этот путь (причем с катастрофическими результатами), неожиданно заинтересовались ею, и она открыла в них враждебное отношение к общепринятой религии, свойственное, как она раньше полагала, только отпетым личностям. Ее заставили прочесть Голсуорси, и тот обнажил перед нею всю тщеславность Толсталеди-парка и тем доконал ее. Ей невыносима стала мысль, что темница, где она изнывала долгие несчастливые годы, все это время была незаперта и что порывы, с которыми она так старательно боролась и которые подавляла для того, чтобы подлаживаться к обществу, одни только и могли помочь ей завязать настоящие человеческие отношения. В слепящем блеске этих открытий и сутолоке нахлынувших чувств она не раз ставила себя в глупое положение так же непосредственно и явно, как и в тот раз, в гостиной у миссис Хигинс, когда столь опрометчиво подхватила бранные слова Элизы. Это и понятно: новорожденной уэллсовке приходилось в поисках пути тыкаться во все стороны с детской бестолковостью. Но ведь младенец не вызывает неприязни своей бестолковостью и к нему не относятся хуже из-за того, что он попытался съесть спички. Потому и Клара не растеряла друзей из-за своих глупых выходок. На сей раз над нею смеялись открыто, так что она могла защищаться и что есть сил стоять на своем.
Когда Фредди явился в Эрлскорт (что он делал, только если нельзя было этого избежать) с сокрушительным известием, что они с Элизой намереваются бросить тень на фамильный герб Толсталеди, открыв цветочный магазин, он нашел обитателей дома в состоянии лихорадки: Клара опередила его, она тоже собиралась работать – в лавке подержанной мебели на Доувер-стрит, принадлежавшей ее сестре по духу, тоже поклонявшейся Уэллсу. Этой службой Клара в конечном счете была обязана своим прежним пробивным способностям. Она давно уже забрала себе в голову во что бы то ни стало увидеть мистера Уэллса вживе и добилась своего на одном приеме в саду. Ей повезло больше, чем того заслуживала ее вздорная затея. Мистер Уэллс вполне оправдал ее ожидания. С годами он не увял, и его бесконечное разнообразие не могло приесться за полчаса. Его подкупающая опрятность и собранность, маленькие руки и ноги, богатый, щедрый ум, непритворная простота и какая-то тонкая понятливость, свидетельствовавшая о его способности воспринимать и чувствовать всем организмом – от любого волоска на макушке до кончиков ногтей на ногах, – были неотразимы.
Клара несколько недель подряд только о нем и говорила. И так как случайно она заговорила о нем с хозяйкой мебельной лавки, а та тоже больше всего на свете хотела познакомиться с мистером Уэллсом и продать ему что-нибудь красивое, то она и предложила Кларе место у себя в лавке, рассчитывая через нее осуществить свою мечту.
Вот так и получилось, что удача продолжала сопутствовать Элизе, предполагаемое противодействие отпало. Магазин помещается в галерее вокзала неподалеку от музея Виктории и Альберта, и если вы живете в этом районе, вы в любой день можете зайти и купить у Элизы бутоньерку.
И вот тут-то остается последний шанс для романтической версии. Разве не хотелось бы вам удостовериться, что магазин процветал благодаря обаянию Элизы и ее былому опыту в цветочном деле с ковент-гарденских времен? Увы! правды не утаить: магазин долгое время не приносил дохода просто-напросто потому, что ни Элиза, ни Фредди не умели вести дела. Хорошо еще, что Элизе не надо было начинать все сначала, – все-таки она знала названия простых и более дешевых цветов. И радости ее не было границ, когда выяснилось, что Фредди, как и все молодые люди, учившиеся в дешевых, претенциозных и ровно ничего не дающих школах, чуть-чуть знает латынь. Малость, но вполне достаточно, чтобы он казался ей Порсоном или Бентли и без труда освоил ботаническую номенклатуру. К сожалению, больше он ничего не знал, а Элиза, хоть и умела сосчитать приблизительно до восемнадцати шиллингов и приобрела некоторое знакомство с языком Мильтона за время своих трудов во славу Хигинса, стараясь выиграть для него пари, не могла выписать счета, не скомпрометировав своего заведения. Умение Фредди сказать на латыни, что Бальб возвел стену, а Галлия делилась на три части, не означало еще умения вести бухгалтерские книги и вообще дела, так что пришлось полковнику Пикерингу объяснять ему, что такое чековая книжка и банковский счет. Притом парочка наша не так-то легко поддавалась обучению. Фредди поддерживал Элизу в ее упрямом нежелании нанять бухгалтера, который бы имел понятие о цветочных магазинах, и, так же как она, не верил, что это сэкономит им деньги. Каким образом, протестовали они, можно сэкономить деньги, пойдя на дополнительные расходы, когда и так не свести концы с концами? Но тут полковник, неоднократно сводивший для них концы с концами, мягко настоял на своем, и присмиревшая Элиза, стыдясь, что так часто вынуждена прибегать к его помощи, уязвленная бесцеремонными насмешками Хигинса, для которого образ преуспевающего Фредди был мишенью непрекращающихся шуток, постигла наконец следующую истину: профессии, как и фонетике, надо учиться.
Не стану останавливаться на жалостном зрелище, которое являла собой эта парочка, проводившая все вечера на курсах стенографии и в политехнических классах, обучаясь бухгалтерии и машинописи вместе с начинающими младшими клерками и секретаршами, пришедшими из начальных школ. Не обошлось даже без занятий в Лондонской школе экономики, где они смиренно обратились с личной просьбой к директору – рекомендовать им курс, имеющий отношение к цветочному делу. Директор, будучи шутником, рассказал им о методе, которым пользовался один джентльмен в знаменитом диккенсовском очерке о китайской метафизике: он сперва читал статью про Китай, потом статью про метафизику и сведения затем объединял. Директор предложил им соединить Лондонскую школу экономики с Кью-Гарденс. Элиза, которой способ диккенсовского джентльмена показался совершенно правильным (а так оно и было) и нисколько не смешным (и тут уж виновато было ее невежество), восприняла совет с полнейшей серьезностью. Наибольшие унижения ей доставила просьба, с которой она обратилась к Хигинсу. Следующей после стихов Мильтона вдохновенной страстью у него была каллиграфия, и сам он писал красивейшим почерком. Она попросила научить ее писать. Он объявил, что она от рождения не способна изобразить хотя бы одну букву, достойную занять место в самом незначительном слове мильтоновского словаря. Но она настаивала, пока он опять не принялся со свойственным ему пылом обучать ее, проявляя при этом сочетание бурного натиска, сосредоточенного терпения и отдельных взрывов увлекательных рассуждений о красоте и благородстве, великой миссии и предназначении человеческого почерка. В конце концов Элиза приобрела крайне неделовую манеру писать, носившую отпечаток ее личной красоты, и стала тратить на бумагу втрое больше денег, чем другие. Она даже не соглашалась надписать конверт общепринятым способом, так как в этом случае поля выглядели как-то некрасиво.
Дни обучения коммерции явились для молодой пары периодом позора и разочарования: знаний о цветочных магазинах ничуть не прибавлялось. Наконец, отчаявшись, они бросили всякие попытки чему-то научиться и навсегда отряхнули прах стенографических курсов, политехнических классов и Лондонской школы экономики со своих ног. А кроме того, их цветочная торговля каким-то непостижимым образом вдруг пошла сама собой. Они и не заметили, что позабыли о своем нежелании нанимать чужих людей. И пришли к выводу, что их путь – самый верный и что они обладают замечательными деловыми качествами. Полковник, который несколько лет принужден был держать на своем текущем счету в банке порядочную сумму, чтобы покрывать их убытки, вдруг обнаружил, что запас этот больше не нужен – молодые люди преуспевают. Говоря по совести, игра была не совсем честной – они находились в более выгодном положении, чем их конкуренты по ремеслу: загородные уик-энды им ничего не стоили и сберегали средства на воскресные обеды благодаря тому, что автомобиль принадлежал полковнику и полковник с Хигинсом оплачивали еще и гостиничные счета. Манеры мистера Ф. Хилла, торговца цветами и зеленью (очень скоро молодые сделали открытие, что спаржа хорошо идет, а от спаржи перешли к другим видам овощей), придавали заведению шик, а в частной жизни он как-никак был Фредерик Эйнсфорд-Хилл, эсквайр. Но Фредди никогда не зазнавался, и одна Элиза знала, что при рождении его нарекли Фредерик Чэлонер. Элиза-то как раз зазнавалась почем зря.
Вот, собственно, и все. Так обернулась эта история. Просто удивительно, до какой степени Элиза ухитряется по-прежнему вмешиваться в домашнее хозяйство на Уимпол-стрит, несмотря на магазин и свою семью. И можно заметить, что мужа она никогда не шпыняет, к полковнику привязана искренне, как любимая дочь, но так и не избавилась от привычки шпынять Хигинса, как повелось с того рокового вечера, когда она выиграла для него пари. Она откусывает ему нос по малейшему поводу и без оного. Он больше не смеет дразнить ее, утверждая, что Фредди находится на несравненно более низком уровне умственного развития, чем он. Он беснуется, угрожает, издевается, однако она всегда дает ему такой безжалостный отпор, что полковник подчас не выдерживает и просит быть подобрее к Хигинсу, и это единственная из его просьб, вызывающая на ее лице выражение ослиного упрямства. И ничто не изменит этого положения, кроме чрезвычайных обстоятельств или катастрофы такой силы (избави их бог от подобного испытания!), чтобы сломить симпатии и антипатии и воззвать к их общему человеколюбию. Она знает, что Хигинс не нуждается в ней, так же как не нуждался в ней ее отец. Именно та добросовестность, с какой он сообщил ей в тот день, что привык к ее присутствию, что он полагается на нее в разного рода мелочах и ему будет не хватать ее (Фредди или полковнику в голову бы не пришло говорить такие вещи), укрепляет ее уверенность в том, что она для него «ничто, хуже вот этих туфлей». И в то же время есть у нее ощущение, что безразличие его стоит большего, чем страстная влюбленность иных заурядных натур. Она безмерно заинтересована им. Бывает даже, у нее мелькает злорадное желание заполучить его когда-нибудь одного, на необитаемом острове, вдали от всяких уз, где ни с кем не надо считаться, и тогда стащить его с пьедестала и посмотреть, как он влюбится – как самый обыкновенный человек. Всех нас посещают сокровенные мечты такого рода. Но когда доходит до дела, до реальной жизни в отличие от жизни воображаемой, то Элизе по душе Фредди и полковник и не по душе Хигинс и мистер Дулитл. Все-таки Галатее не до конца нравится Пигмалион: уж слишком богоподобную роль он играет в ее жизни, а это не очень-то приятно.
Кандида Мистерия 1894–1895[3]
Действие первое
Ясное октябрьское утро в северо-восточной части Лондона; это обширный район вдали от кварталов Мейфера и Сент-Джеймса; в его трущобах нет той скученности, духоты и зловония. Он невозмутим в своем мещански-непритязательном существовании: широкие улицы, многотысячное население, обилие уродливых железных писсуаров, бесчисленные клубы радикалов, трамвайные пути, по которым непрерывным потоком несутся желтые вагоны. Главные улицы благоденствуют среди палисадников, поросших травою, не истоптанных человеческой ногой за пределами дорожки, ведущей от ворот к подъезду; глаз отупело мирится с унылым однообразием неприглядных кирпичных домов, черных чугунных решеток, каменных тротуаров, шиферных крыш, с благопристойностью дурно одетых и непристойностью бедно одетых людей, которые здесь ко всему пригляделись и по большей части бескорыстно занимаются чужими делами. Некоторая энергия и предприимчивость проявляются лишь в кокнейской страсти к наживе и в оживленной торговле. Даже полисмены и часовни не нарушают здешнего однообразия – их видишь не так уж редко. Солнце весело сияет, никакого тумана. И хотя все пропитано дымом, отчего лица и руки, штукатурка и кирпич и все кругом кажется грязным и несвежим, он висит не такой густой пеленой, чтобы беспокоить лондонского обывателя. В этой пустыне неприглядности есть свой оазис. В дальнем конце Хэкни-роуд раскинулся парк в двести семнадцать акров, обнесенный не решеткой, а деревянным забором; там много зелени, деревьев, озеро для любителей купания, цветочные клумбы, делающие честь прославленному кокнейскому искусству возделывания газона, и песчаная площадка – куча песку, когда-то привезенного с пляжа для забавы детей, но быстро покинутая ими, после того как она превратилась в естественный приют паразитов, в обиталище всякой мелкой твари, которой изобилуют Кингсленд, Хэкни и Хокстон. Павильон для оркестра, лишенная всякого убранства трибуна для религиозных, антирелигиозных и политических ораторов, крикетное поле, спортивная площадка и старинная каменная беседка – таковы его аттракционы. Там, где перед глазами у вас зеленые холмы и купы деревьев, – это приятное место; там, где голая земля подходит к серому забору, кирпичу, штукатурке, к высоко расклеенным рекламам, тесному строю труб и завесе дыма, – ландшафт уныл и мрачен. Самый красивый вид на Виктория-парк открывается из окна дома, принадлежащего церкви Святого Доминика: оттуда не видно ни одного кирпича. Приходский священник занимает половину дома с отдельным входом и палисадником. Посетители входят через высокое крытое крыльцо, поставщики провизии и свои домашние – через дверь под крыльцом, ведущую в полуподвальное помещение, в котором находятся столовая и кухня. Наверху, вровень с входной дверью, расположена гостиная с большим зеркальным окном в парк. Это единственная комната, куда прегражден доступ детям и семейным трапезам, здесь трудится приходский священник, достопочтенный Джеймс Мэвор Морелл. Он сидит на жестком вертящемся стуле с круглой спинкой, в конце длинного стола, который стоит так, что, повернув голову налево, можно наслаждаться видом парка. Вплотную к другому концу стола придвинут маленький столик, на нем пишущая машинка. За машинкой, спиной к окну, сидит машинистка. Большой стол завален брошюрами, журналами, письмами, заставлен картотечными ящиками, тут же календарь-блокнот, почтовые весы и прочее. Перед столом, посредине, прямо напротив священника, стул для посетителей. Рядом, так, что можно достать рукой, этажерка, и на ней фотография в рамке. Стена позади уставлена книжными полками, и зоркому, опытному глазу нетрудно догадаться о склонности священника к казуистике и богословию – по теологическим очеркам Мориса и полному собранию стихов Браунинга, а по выделяющемуся своим желтым корешком «Прогрессу и бедности», по «Фабианским опытам», «Мечте Джона Болла», «Капиталу» Маркса и десятку других литературных вех социализма – о его прогрессивных убеждениях. Напротив, в другом конце комнаты около стола с машинкой, дверь. Подальше, против камина, книжный шкаф и рядом кушетка. В камине горит веселый огонь; и этот уголок у камелька с удобным креслом и черным обливным, расписанным цветами горшком для угля с одной стороны и маленьким детским стульчиком – с другой выглядит очень уютно. В деревянной полированной раме камина вырезаны изящные полочки с тоненькими полосками зеркала, пропущенными в панели; на полке неизменный свадебный подарок – будильник в кожаном футляре, а на стене над камином – большая репродукция с главной фигуры Тицианова «Успения». В общем, это комната хорошей хозяйки, над которой, в пределах письменного стола, одержал верх беспорядочный мужчина; но повсюду вне этих пределов женщина, безусловно, сохраняет полный авторитет.
Декоративные качества обстановки изобличают стиль «гостиного гарнитура», изготовляемого предприимчивой мебельной фирмой из предместья; но в комнате нет ничего ни бесполезного, ни претенциозного; ист-эндскому священнику не по карману всякие нарядные безделушки. Преподобный Джеймс Мэвор Морелл – христианский социалист, священник английской церкви и активный член гильдии Святого Матфея и Христианского социалистического союза. Человек лет сорока, крепкий, здоровый, приятной внешности, бодрый, жизнерадостный, пользующийся всеобщей любовью, он подкупает своей неистощимой энергией, мягкими, располагающими манерами, сильным, проникновенным голосом в сочетании с отчетливой дикцией опытного оратора и богатой экспрессией, которой он пользуется с великолепным мастерством. Это первоклассный священник, который может сказать что угодно кому угодно, который умеет поучать людей, не восстанавливая их против себя, умеет держать их в повиновении, не унижая их, и в случае надобности позволяет себе вмешиваться в их дела, не проявляя при этом никакой навязчивости. Заложенный в нем запас энтузиазма и доброжелательных чувств не иссякает ни на миг. Тем не менее он хорошо ест и спит, что позволяет ему с честью одерживать победу в повседневной борьбе между затратой сил и их восстановлением. Вместе с тем это большой ребенок, которому прощают и некоторое тщеславие, и бессознательное довольство собой. У него здоровый цвет лица, хороший лоб, как бы обрубленные брови, светлые живые глаза, решительный рот, очерченный без особой тонкости, внушительный нос с подвижными, раздувающимися ноздрями драматического оратора, лишенный, как и все его черты, какого-либо изящества. Машинистка мисс Прозерпина Гарнетт – маленькая подвижная женщина лет тридцати, из мещанской семьи, опрятно, но простенько одетая – в широкой шерстяной юбке и блузке. Довольно бойка и резка на язык; не слишком любезна в обращении, но, по существу, чуткий и преданный человек. Она деловито стучит на машинке, в то время как Морелл распечатывает последнее письмо из утренней почты.
Он пробегает его и издает комический вздох отчаяния.
Прозерпина. Еще лекция?
Морелл. Хокстонское общество свободомыслящих граждан просит меня выступить у них в воскресенье утром. (Он выразительно подчеркивает слово «воскресенье», как явную нелепость.) А что они собой представляют?
Прозерпина. Анархисты-коммунисты, кажется.
Морелл. Вот именно, что анархисты… Не знают, что священник не может выступать на митинге в воскресенье. Скажите им, пусть придут в церковь, если хотят меня послушать: им это будет полезно. Скажите, что я могу быть у них в понедельник или в четверг. Календарь у вас?
Прозерпина (беря календарь). Да.
Морелл. Есть у меня какая-нибудь лекция в следующий понедельник?
Прозерпина (заглядывает в календарь). Клуб радикалов в Хэмлет-Тауэр.
Морелл. Так. Ну а в четверг?
Прозерпина. Английская Лига по мелиорации земель.
Морелл. А дальше?
Прозерпина. Гильдия Святого Матфея – в понедельник. Независимая рабочая партия, гринвичский филиал, – в четверг. В понедельник – социал-демократическая федерация в Майл-Энде. Четверг – первый урок с конфирмантами. (Нетерпеливо.) Ах, я лучше напишу им, что вы не можете. Подумаешь, какая-то кучка безграмотных, дерзких уличных разносчиков, у которых нет ни гроша!
Морелл (посмеиваясь). Да, но, видите ли, это мои близкие родственники, мисс Гарнетт.
Прозерпина (изумленно уставившись на него). Ваши родственники?
Морелл. Да, у нас один и тот же отец – на небесах.
Прозерпина (с облегчением). А, только-то!
Морелл (с огорчением, доставляющим некоторое удовольствие человеку, который умеет так бесподобно выразить его голосом). Ах, вы не верите. Вот так-то и все – только говорят, а никто не верит, никто. (Оживленно, снова переходя к делу.) Да, да! Ну что же, мисс Прозерпина? Неужели вы не можете найти свободного дня для разносчиков? А как насчет двадцать пятого? Третьего дня это число было свободно.
Прозерпина (перелистывая календарь). Занято – Фабианское общество.
Морелл. Вот привязалось это Фабианское общество! А двадцать восьмого тоже не выйдет?
Прозерпина. Обед в Сити. Вы приглашены на обед в Клуб предпринимателей.
Морелл. Ну, вот и отлично; вместо этого я отправлюсь в Хокстонское общество свободомыслящих граждан.
Прозерпина молча записывает, и в каждой черточке ее лица сквозит неуловимое презрение к хокстонским анархистам. Морелл срывает бандероль с оттиска «Церковного реформатора», присланного по почте, и пробегает передовицу мистера Стюарта Хэдлема и извещения гильдии Святого Матфея. Действие оживляется появлением помощника Морелла, достопочтенного Александра Милла, юного джентльмена, которого Морелл откопал в ближайшей университетской общине, куда этот молодой человек явился из Оксфорда, чтобы облагодетельствовать лондонский Ист-Энд своим университетским образованием. Это самодовольно-добродушный, увлекающийся юнец, в котором нет ничего определенно невыносимого, за исключением его привычки говорить почти не разжимая губ, что якобы способствует более изысканному произношению гласных и к чему пока и сводятся все его попытки насадить оксфордскую утонченность в противодействие хэкнийской вульгарности. Морелл, которого он завоевал своей истинно собачьей преданностью, бросает на него снисходительный взгляд поверх «Церковного реформатора».
Морелл. Ну, Лекси? Как всегда, с опозданием?
Лекси. Боюсь, что да. Как бы я хотел научиться вставать пораньше.
Морелл (в восторге от избытка собственной энергии). Ха-ха-ха! (Лукаво.) Бодрствуйте и молитесь, Лекси, бодрствуйте и молитесь!
Лекси. Я знаю. (Стараясь быть остроумным.) Но как же я могу бодрствовать и молиться, когда я сплю? Не правда ли, мисс Просси? (Идет к камину.)
Прозерпина (резко). Мисс Гарнетт, сделайте одолжение!
Лекси. Прошу прощения! Мисс Гарнетт.
Прозерпина. Вам придется сегодня поработать за двоих.
Лекси (стоя у камина). Почему?
Прозерпина. Не важно почему. Вам полезно будет хоть раз в жизни взять пример с меня: заработать свой обед, прежде чем съесть его. Довольно лентяйничать. Вам следовало быть на обходе еще полчаса тому назад.
Лекси (в недоумении). Она это серьезно говорит, Морелл?
Морелл (в самом веселом настроении, глаза так и сияют). Да. Сегодня лентяйничаю я.
Лекси. Вы! Да разве вы умеете?
Морелл (поднимаясь со стула). Ха-ха-ха! А то нет? Сегодня весь день мой… или по крайней мере полдня. Сейчас приезжает моя жена; она должна быть здесь в одиннадцать сорок пять.
Лекси (удивленно). Она уже возвращается? С детьми? Я думал, они пробудут там до конца месяца.
Морелл. Так оно и есть: она приезжает только на два дня – захватить теплые вещи для Джимми и посмотреть, как мы тут живем без нее.
Лекси (с беспокойством в голосе). Но, дорогой Морелл, если Джимми и Флэффи действительно болели скарлатиной, разве вы считаете разумным…
Морелл. Скарлатина? Ерунда, просто краснуха. Я сам занес ее сюда из школы с Пикрофт-стрит. Священник – это все равно что доктор, дитя мое. Он не должен бояться заразы, как солдат не боится пули. (Похлопывает Лекси по плечу.) Подцепите краснуху, Лекси, если сумеете: моя жена будет ухаживать за вами. То-то будет счастье для вас! А?
Лекси (смущенно улыбаясь). Вас очень трудно понять, вы так говорите о миссис Морелл…
Морелл (с чувством). Ах, дитя мое, женитесь на хорошей женщине, тогда вы поймете. Это предвкушение того высшего блаженства, что ждет нас в Царствии Божием, которое мы пытаемся создать на земле. Это излечит вас от лентяйства. Честный человек понимает, что он должен платить небу за каждый счастливый час доброй мерой сурового, бескорыстного труда, который состоит в служении ближним. Мы не имеем права пользоваться счастьем, если мы не насаждаем его, как не имеем права пользоваться богатством, не заработав его. Найдите себе такую жену, как моя Кандида, и вы всегда будете в долгу! (Он ласково похлопывает Лекси по спине и идет к двери.)
Лекси. Ах, подождите минутку, я забыл.
Морелл останавливается и оборачивается, уже приоткрыв дверь.
К вам собирался зайти ваш тесть.
Морелл, сразу меняясь в лице, снова закрывает дверь.
Морелл (удивленно и недовольно). Мистер Берджесс?
Лекси. Да. Я встретил его в парке, он с кем-то оживленно беседовал. Он просил меня передать вам, что зайдет.
Морелл (несколько недоверчиво). Но ведь он не был у нас целых три года. Да вы не ошиблись, Лекси? Вы не шутите, а?
Лекси (серьезно). Нет, не шучу, сэр.
Морелл (задумчиво). Гм! Пора ему взглянуть на Кандиду, пока она еще не успела измениться так, что он ее и не узнает. (Выходит из комнаты с видом человека, который подчиняется неизбежному.)
Лекси смотрит ему вслед с восторженно-глупым обожанием. Мисс Гарнетт, подавляя невольное желание хорошенько встряхнуть Лекси, дает выход своим чувствам в свирепой трескотне на машинке.
Лекси. Что за чудесный человек! Какая отзывчивая, любящая душа! (Садится на стул Морелла у стола и, расположившись поудобнее, вынимает папиросу.)
Прозерпина (нетерпеливо, выдергивая из машинки письмо, которое только что дописала, и затем складывая его). Ах, можно любить свою жену, но не носиться с ней так, что смотреть тошно!
Лекси (шокированный). Мисс Просси!
Прозерпина (деловито достает конверт, вкладывает в него письмо). Тут Кандида, там Кандида, везде Кандида! (Лижет края конверта, чтобы заклеить его.) Да это кого угодно может вывести из терпенья (постукивает по конверту кулаком), когда при тебе бессмысленнейшим образом превозносят до небес самую заурядную женщину только из-за того, что у нее красивые волосы и приличная фигура.
Лекси (с укором, внушительно). По-моему, она поразительно красива, мисс Гарнетт. (Берет фотографию, разглядывает ее и добавляет с еще большей убежденностью.) Поразительно красива. Какие чудесные глаза!
Прозерпина. У нее глаза ничуть не лучше, чем у меня. Вот!
Лекси ставит фотографию на место и сурово глядит на мисс Гарнетт.
А ведь сознайтесь, что вы считаете меня некрасивой и заурядной.
Лекси (величественно поднимаясь). Упаси боже, чтобы я позволил себе думать так хотя бы о самом ничтожном творении рук господних! (С чопорным видом отходит от нее и идет через комнату к книжному шкафу.)
Прозерпина (иронически). Благодарю вас. Очень любезно и утешительно!
Лекси (огорченный ее испорченностью). Я не подозревал, что вы имеете что-то против миссис Морелл.
Прозерпина (с негодованием). Я ничего не имею против нее. Она очень милая, очень добрая, я очень люблю ее, и я лучше любого мужчины умею ценить ее хорошие качества.
Лекси грустно качает головой. Мисс Гарнетт вскакивает и подбегает к нему, крайне раздраженная.
Вы мне не верите? Вы думаете, я ревную? Скажите, какое у вас глубокое знание человеческого сердца, мистер Лекси Милл! Как вы хорошо знаете женские слабости, не правда ли? Должно быть, так приятно быть мужчиной и обладать тонким, проницательным умом, вместо нашей глупой чувствительности, и знать, что если мы не разделяем ваших любовных иллюзий, так это только потому, что все мы ревнуем вас друг к дружке. (Круто поворачивается и, передернув плечами, подходит к камину погреть руки.)
Лекси. Ах, мисс Просси, если б только вы, женщины, умели так же пользоваться силой мужчины, как вы пользуетесь его слабостями, тогда не было бы никакого женского вопроса.
Прозерпина (через плечо, нагнувшись и держа руки над огнем). Где вы это слышали? Вероятно, от Морелла? Ведь не сами же вы это придумали, куда вам!
Лекси. Совершенно верно. Я не стыжусь признаться, что я усвоил это от него, так же как я усвоил от него много других духовных истин. Он говорил об этом на ежегодном собрании Женской либеральной федерации. Разрешите прибавить только, что если женщины этого не оценили, то я, мужчина, оценил. (Снова поворачивается к шкафу, полагая, что уж теперь-то он ее осадил.)
Прозерпина (поправляя прическу перед узкой полоской зеркала в каминной раме). Ну, знаете, когда вы говорите со мной, излагайте, пожалуйста, ваши собственные мысли, уж какие есть, а не его. Вы не представляете себе, какой у вас жалкий вид, когда вы пытаетесь подражать ему.
Лекси (уязвленный). Я стараюсь следовать его примеру, а не подражать ему.
Прозерпина (возвращаясь к своему рабочему столику, снова накидывается на Лекси). Нет, подражаете, подражаете! Почему вы носите зонтик под мышкой, а не в руке, как все люди? Почему вы ходите, выставив вперед подбородок, быстрым шагом и с таким деловым видом? Это вы-то! Когда вы не способны подняться с постели раньше половины десятого. Почему во время проповеди вы говорите «познание», когда в разговоре вы всегда произносите «пазнанье»? Что, вы думаете, я не понимаю? (Усаживается за машинку.) Ну хватит! Принимайтесь-ка за работу, достаточно мы с вами сегодня потеряли времени. Вот вам расписание на сегодня. (Протягивает ему листок.)
Лекси (глубоко оскорбленный). Благодарю вас. (Берет листок и, остановившись у стола, спиной к ней, читает расписание.)
Прозерпина принимается переписывать на машинке стенограмму, не обращая на Лекси внимания. Входит без доклада мистер Берджесс. Это человек лет шестидесяти, очерствевший и огрубевший из-за вечной расчетливости, неизбежной в мелкой торговле, но постепенно, благодаря сытой жизни и коммерческим успехам, раздобревший и размякший до ленивого самодовольства. Тупой, невежественный человек, для которого самое главное в жизни собственное брюхо; грубый и высокомерный с людьми, чей труд ценится дешево, заискивающий перед богатством и титулом – и при этом вполне искренний, без всякой злобы и зависти к тем и другим. Природа не наделила его никакими талантами, и для него не нашлось в мире никакой высокооплачиваемой работы, кроме мошеннической эксплуатации чужого труда, – это наложило на него отпечаток животной тупости и хамства. Но он этого не подозревает и от души верит, что его коммерческие успехи являются неизбежным, благодетельным для общества торжеством усердия, способностей, проницательности и опыта делового человека, который в частной жизни покладист, привязчив и снисходителен к чужим порокам. Он маленького роста, толстый, с плоским квадратным лицом и приплюснутым носом; редкая с проседью борода цвета мочалы; маленькие водянистые глазки смотрят с жалостно-прочувствованным выражением, и говорит он также прочувствованно, благодаря усвоенной им привычке напыщенно растягивать слова.
Берджесс (останавливаясь в дверях и оглядываясь по сторонам). Мне сказали, что мистер Морелл здесь.
Прозерпина (поднимаясь). Он наверху. Сейчас я вам его позову.
Берджесс (видимо, разочарованный). Вы, по-моему, не та молодая леди, которая раньше писала у него на машинке.
Прозерпина. Нет.
Берджесс (себе под нос, направляясь к камину). Нет, та была помоложе.
Мисс Гарнетт удивленно смотрит на него, затем выходит, сильно хлопнув дверью.
В обход собираетесь, мистер Милл?
Лекси (складывая расписание и пряча его в карман). Да. Мне пора идти.
Берджесс (величественно). Я не задерживаю вас, мистер Милл. Мне нужно поговорить с мистером Мореллом с глазу на глаз.
Лекси (обиженно). Я не намерен мешать вам, можете не сомневаться, мистер Берджесс. До свиданья.
Берджесс (покровительственно). До свиданья.
Лекси идет к двери; в это время входит Морелл.
Морелл (Лекси). На работу?
Лекси. Да, сэр.
Морелл (ласково похлопывая его по плечу). Возьмите мой шелковый шарф и закутайте шею. Сегодня холодный ветер. Ну, ступайте.
Лекси, просияв, вполне вознагражденный за грубость Берджесса, уходит.
Берджесс. Балуете, как всегда, своих помощников, Джеймс. Здравствуйте. Когда я плачу человеку жалованье и он находится в зависимости от меня, я держу себя с ним так, что он знает свое место.
Морелл (очень сухо). Я всегда держусь со своими помощниками так, что они прекрасно знают свое место, место моих соратников и товарищей. Если бы вы могли заставить своих клерков и рабочих работать так, как я заставляю своих помощников, вы бы давно разбогатели. Пожалуйста, садитесь в ваше кресло. (Властным жестом указывает ему на кресло у камина, затем отодвигает от стола свободный стул и усаживается в несколько подчеркнутом отдалении от своего гостя.)
Берджесс (не двигаясь). Все такой же, как прежде, Джеймс.
Морелл. Когда вы были у нас последний раз, – как будто года три тому назад, – мне помнится, вы выразились примерно так же, только несколько более откровенно. Вот в точности ваши слова: «Все такой же болван, как прежде, Джеймс!»
Берджесс (успокоительно). Ну что ж, может быть, я так и сказал, но (с заискивающим благодушием) я не хотел сказать ничего обидного. Священнику, знаете, полагается быть чуточку блаженным; это только подходит к его ремеслу. Я пришел сюда не затем, чтобы поднимать старые ссоры, а затем, чтобы покончить и забыть все, что между нами было. (Внезапно принимая в высшей степени торжественный вид и направляясь к Мореллу.) Джеймс, три года тому назад вы сыграли со мной скверную штуку. Вы провалили мой контракт; а когда я – ну, понятно, в огорчении – сказал вам несколько крепких слов, вы восстановили против меня мою дочь. Так вот, я поступаю по-христиански. (Протягивает ему руку.) Я прощаю вас, Джеймс.
Морелл (вскакивая). Черт знает что за бесстыдство!
Берджесс (пятится от него, обиженный чуть не до слез). Прилично ли так выражаться священнику, Джеймс? Да еще такому взыскательному священнику, как вы!
Морелл (гневно). Нет, сэр, священнику неприлично так выражаться, я не так выразился. Я должен был сказать: да провалитесь вы в преисподнюю с вашим дьявольским бесстыдством! Вот как сказал бы вам святой Павел и любой честный священнослужитель. Вы думаете, я забыл этот ваш подряд на поставку одежды для работного дома?
Берджесс (объятый гражданскими чувствами). Я действовал в интересах налогоплательщиков, Джеймс. Это был самый дешевый подряд, уж этого вы не можете отрицать.
Морелл. Да, самый дешевый, потому что вы платили рабочим такие гроши, что с вами не мог конкурировать ни один предприниматель. Женщины, которые шили эту одежду, получали у вас нищенскую плату, хуже чем нищенскую! Вы обрекали их на такую нужду, что им не оставалось ничего другого, как идти на улицу, чтобы не умереть с голоду. (Все больше и больше раздражаясь.) Эти женщины были мои прихожанки. Я пристыдил попечителей так, что они отказались принять ваш подряд, я пристыдил налогоплательщиков – как они могли допустить это. Я пристыдил всех, кроме вас! (Вне себя от негодования.) Как вы осмеливаетесь, сэр, являться сюда и говорить, что вы прощаете меня, и произносить имя вашей дочери, и…
Берджесс. Успокойтесь, успокойтесь, Джеймс, успокойтесь! Не надо так волноваться из-за пустяков. Я признал, что я был не прав…
Морелл (с возмущением). Признали? Я что-то не слышал.
Берджесс. Разумеется, признал. Я и сейчас готов признать. Ну, слушайте, я прошу у вас прощения за то письмо, которое написал вам. Теперь вы довольны?
Морелл (хрустя пальцами). Это ровно ничего не значит. А плату вы повысили?
Берджесс (торжествующе). Да.
Морелл (застыв на месте). Что?
Берджесс (умильно). Я стал примерным хозяином. Я больше не держу на работе женщин: я их всех рассчитал; всю работу делают у меня машины. Нет ни одного рабочего, который получал бы меньше шести пенсов в час, а квалифицированные мастера получают по ставке профсоюза. (С гордостью.) Что вы мне на это скажете?
Морелл (потрясенный). Не может быть! Ну что ж, об одном раскаявшемся грешнике больше радости на небесах… (Направляясь к Берджессу в порыве сердечного раскаяния.) Дорогой Берджесс, от всего сердца прошу вас простить меня за то, что я дурно думал о вас. (Хватая его за руку.) А теперь скажите, разве вы не чувствуете себя лучше от этой перемены? Ну признайтесь: вы чувствуете себя счастливее? И вид у вас более счастливый.
Берджесс (угрюмо). Что ж, может статься. Надо полагать, что так оно и есть, раз уж вы заметили это. Во всяком случае, контракт мой в муниципальном совете приняли. (Злобно.) Они не желали иметь со мной дела, пока я не поднял ставки. Черт бы их побрал, этих олухов, суются не в свое дело!
Морелл (совершенно отчаявшись, отпускает его руку). Ах вот почему вы повысили оплату! (Мрачно садится на свое место.)
Берджесс (строго, наставительно и постепенно повышая тон). А чего еще ради я стал бы это делать? К чему это ведет, кроме пьянства и зазнайства среди рабочих? (Он с чрезвычайно внушительным видом усаживается в кресло.) Все это очень хорошо для вас, Джеймс. Вы благодаря этому попадаете в газеты, вас превозносят, вы становитесь знаменитостью, но вам никогда в голову не приходит, сколько вреда вы приносите, отнимая деньги у людей, которые могли бы употребить их с пользой, и перекладывая их в карман рабочих, которые не знают, что с ними делать.
Морелл (тяжело вздохнув, говорит с холодной учтивостью). Что вас привело сегодня ко мне? Не стану притворяться, скажу прямо: не думаю, чтобы в вас вдруг заговорили родственные чувства.
Берджесс (упрямо). Вот именно, только родственные чувства, и ничего больше.
Морелл (с усталым спокойствием). Не верю.
Берджесс (поднимаясь, с угрожающим видом). Прошу вас, не говорите так со мной, Джеймс Мэвор Морелл.
Морелл (равнодушно). Я буду так говорить до тех пор, пока вы не убедитесь сами, что это правда. Я не верю ни одному вашему слову!
Берджесс (захлебываясь от оскорбления). А, вот как! Ну, ежели вы намерены продолжать ссору, я думаю, мне лучше уйти. (Нерешительно делает шаг к двери.)
Морелл не двигается.
(Берджесс медлит.) Я не ожидал, что вы окажетесь таким непримиримым, Джеймс.
Морелл по-прежнему безмолвствует.
(Берджесс делает еще несколько нерешительных шагов к двери, затем возвращается, хныча.) Жили же мы с вами раньше в ладу, хоть и расходились во взглядах. Почему же вы вдруг стали ко мне так относиться? Даю вам честное слово, я пришел сюда из чисто дружеских чувств, мне надоело жить в ссоре с мужем родной дочери. Полно, Джеймс, будьте же христианином. Ну, дайте мне руку. (С чувством кладет руку на плечо Морелла.)
Морелл (задумчиво, поднимая на него взгляд). Послушайте, Берджесс. Хотите вы быть у нас таким желанным гостем, каким вы были до того, как у вас сорвался этот контракт?
Берджесс. Хочу, Джеймс. Честное слово, хочу.
Морелл. Тогда почему же вы не ведете себя так же, как раньше?
Берджесс (осторожно снимая руку с плеча Морелла). Что вы хотите сказать?
Морелл. Я вам сейчас объясню. Вы тогда считали меня желторотым болваном.
Берджесс (заискивающе). Да нет, Джеймс, я…
Морелл (обрывая его). Нет, считали. А я считал вас старым мошенником.
Берджесс (бурно протестуя против такого грубого самообвинения Морелла). Нет, что вы, Джеймс! Неправда, вы клевещете на себя.
Морелл. Да, я считал вас старым мошенником. Однако это не мешало нам поддерживать добрые отношения. Бог создал вас тем, что я называю мошенником, и Бог же создал меня тем, что вы называете болваном.
Это умозаключение колеблет основы моральных принципов и понятий Берджесса. Он весь как-то оседает и, беспомощно уставившись на Морелла, испуганно вытягивает перед собой руку, как будто для того, чтобы не потерять равновесие, точно пол ускользает у него из-под ног.
(Морелл продолжает тем же спокойным, убежденным тоном.) А мне не подобает роптать на созданье рук Его, ибо как в том, так и в другом случае это Его воля. Если вы пришли сюда честно, как истинный, убежденный, уважающий себя мошенник, который защищает свое мошенничество и гордится им, – милости просим. Но (голос Морелла становится грозным, он встает и внушительно стучит кулаком по спинке стула) я не потерплю, чтобы вы являлись сюда морочить мне голову рассказами о том, что вы стали примерным хозяином и добродетельным человеком, тогда как вы просто ханжа, вывернувший шкуру наизнанку ради того, чтобы добиться выгодного контракта в муниципальном совете. (Трясет энергично головой в подкрепление своих слов, затем подходит к камину и, став спиной к огню, с внушительным и непринужденным видом продолжает.) Нет, я хочу, чтобы человек оставался верен себе даже в своих пороках. Так вот, не угодно ли? Или берите шляпу и убирайтесь, или садитесь и извольте дать мне откровенное, достойное истинного мошенника объяснение: почему вам понадобилось мириться со мной?
Берджесс, смятение которого улеглось настолько, что он пытается выразить свои чувства изумленной улыбкой, испытывает явное облегчение от такого конкретного предложения. Он с минуту обдумывает его, затем медленно и с величайшей скромностью садится на стул, с которого только что поднялся Морелл.
Вот так-то. А теперь выкладывайте.
Берджесс (хихикая). Право, вы все-таки большой чудак, Джеймс, как хотите! Но (почти с восторгом) вас нельзя не любить. Опять-таки, как я уже сказал, нельзя, разумеется, принимать всерьез все, что говорит священник, иначе как же можно было бы жить. Согласитесь сами. (Настраивается на более глубокомысленный лад и, устремив взгляд на Морелла, продолжает с тупой серьезностью.) Что ж, я, пожалуй, готов признаться, раз уж вы желаете, чтобы мы были совершенно откровенны друг с другом: я действительно считал вас когда-то чуточку блаженным, но теперь я начинаю думать, что у меня, как говорится, был несколько отсталый взгляд.
Морелл (торжествующе). Ага! Наконец-то вы додумались!
Берджесс (многозначительно). Да, времена меняются так, что даже трудно поверить. Пять лет тому назад ни одному здравомыслящему человеку не пришло бы в голову считаться с вашими идеями. Я, признаться, даже удивлялся, как вас вообще подпускают к кафедре. Да что! Я знаю одного священника, которому лондонский епископ несколько лет не давал ходу, хотя этот бедный малый держался за свою религию ничуть не больше вашего. Но теперь, если бы мне предложили поспорить на тысячу фунтов, что вы когда-нибудь сами станете епископом, я бы воздержался. (С важностью.) Вы и ваша братия входите в силу; я теперь вижу это. И уж придется им как-нибудь да ублажить вас, хотя бы только для того, чтобы заткнуть вам рот. Надо признаться, у вас, в конце концов, было верное чутье, Джеймс; для человека такого сорта, как вы, вы взяли правильную линию, такую, которая приносит доход.
Морелл (не колеблясь, решительно протягивает ему руку). Вашу руку, Берджесс. Вот теперь вы разговариваете честно. Не думаю, что меня когда-нибудь сделают епископом; но если сделают, я познакомлю вас с самыми крупными воротилами, каких я только смогу заполучить к себе на званые обеды.
Берджесс (поднимаясь с глуповатой улыбкой и отвечая на дружеское рукопожатие). Вы все шутите, Джеймс. Ну, теперь, значит, конец ссоре?
Женский голос. Скажи «да», Джеймс.
Оба, вздрогнув от неожиданности, оборачиваются и видят только что вошедшую Кандиду, которая смотрит на них с обычным для нее выражением шутливой материнской снисходительности. Это тридцатитрехлетняя женщина, статная, с прекрасной фигурой, может быть, чуть-чуть склонной к полноте, но сейчас как раз в меру, во всем обаянии молодости и материнства. По ее манере держать себя чувствуется, что эта женщина умеет расположить к себе людей и заставить их подчиняться и что она пользуется этим, нисколько не задумываясь. В этом отношении она мало отличается от любой хорошенькой женщины, которая достаточно умно пускает в ход свою привлекательность для мелких эгоистических целей; но ясный лоб Кандиды, ее смелый взгляд, выразительный рот и подбородок свидетельствуют о широте ума и возвышенности натуры, которые облагораживают эту вкрадчивость в подходе к людям. Мудрый сердцевед, взглянув на нее, тотчас же догадался бы, что тот, кто повесил над ее камином Деву из Тицианова «Успения», сделал это потому, что он уловил между ними некое духовное сходство; но, разумеется, он не заподозрил бы ни на минуту, что такая мысль могла прийти в голову ее супругу или ей самой: трудно предположить, чтобы они хоть сколько-нибудь интересовались Тицианом. Сейчас она в шляпке и пелерине; в одной руке у нее перетянутый ремнями плед, из которого торчит зонтик, в другой – ручной саквояж и пачки иллюстрированных журналов.
Морелл (потрясенный своей забывчивостью). Кандида! Как… (Смотрит на часы и ужасается, обнаружив, что уже так поздно.) Милочка моя! (Бросается к ней, выхватывает у нее из рук плед, не переставая громко упрекать себя.) Ведь я собирался встретить тебя на станции и не заметил, как прошло время. (Бросает плед на кушетку.) Я так заговорился (поворачивается к ней), что совсем забыл… Ах! (Обнимает ее, снедаемый чувством раскаяния.)
Берджесс (несколько сконфуженный и не уверенный в том, как к нему отнесутся). Как поживаешь, Канди?
Кандида, все еще в объятиях Морелла, подставляет отцу щеку для поцелуя.
Мы с Джеймсом заключили мир, почетный мир. Не правда ли, Джеймс?
Морелл (нетерпеливо). А ну вас, с вашим миром! Я из-за вас опоздал встретить Кандиду. (С сочувственным пылом.) Бедняжка моя, как же ты справилась с багажом? Как…
Кандида (останавливая его и высвобождаясь из его объятий). Ну, будет, будет, будет! Я не одна. У нас был Юджин, и мы ехали сюда вместе.
Морелл (приятно удивленный). Юджин!
Кандида. Да, он возится с моим багажом, бедный мальчик. Выйди к нему сейчас же, милый, а то он расплатится с извозчиком, а я не хочу этого.
Морелл поспешно выходит. Кандида ставит на пол саквояж, затем снимает пелерину и шляпку и кладет их на кушетку рядом с пледом, разговаривая в то же время с отцом.
Ну, папа, как вы все там дома поживаете?
Берджесс. Да что там, какая может быть радость дома, с тех пор как ты уехала от нас, Канди. Хоть бы ты когда-нибудь заглянула и поговорила с сестрой. Кто такой этот Юджин, который приехал с тобой?
Кандида. О, Юджин – это одна из находок Джеймса. Он наткнулся на него в прошлом году в июне, когда тот спал на набережной. Ты не обратил внимания на нашу новую картину? (Показывая на Деву.) Это он подарил нам.
Берджесс (недоверчиво). Чушь! И как это ты можешь рассказывать такие небылицы мне, своему родному отцу, что какой-то бродяга покупает такие картины? (Строго.) Не выдумывай, Канди. Это благочестивая картина, и выбирал ее сам Джеймс.
Кандида. Вот и не угадал. Юджин вовсе не бродяга.
Берджесс. А кто же он такой? (Иронически.) Благородный джентльмен, надо полагать?
Кандида (кивая с торжеством). Да. У него дядя – лорд. Настоящий живой пэр.
Берджесс (не решаясь поверить столь замечательной новости). Быть не может!
Кандида. Да. И у него был чек в кармане на пятьдесят пять фунтов, сроком на неделю, когда Джеймс нашел его на набережной. А он думал, что не может получить по нему раньше чем через неделю, и ему было стыдно попросить в долг. Ах, он такой славный мальчик! Мы очень полюбили его.
Берджесс (делает вид, что ему наплевать на аристократию, а у самого глаза загорелись). Гм… Я так думаю, что этот племянник пэра вряд ли бы прельстился вашим Виктория-парком, если бы он не был малость придурковат. (Снова разглядывая картину.) Конечно, эта картина не в моем вкусе, Канди, но все же это превосходное, прямо сказать, первоклассное произведение искусства; в этом-то уж я разбираюсь. Ты, конечно, познакомишь меня с ним, Канди? (С беспокойством смотрит на свои карманные часы.) Я могу побыть еще минуты две, не больше.
Морелл возвращается с Юджином, на которого Берджесс смотрит влажным от восхищения взором. Это несколько странный, застенчивый молодой человек лет восемнадцати, хрупкий, женственный, со слабым детским голосом; испуганное, напряженное выражение его лица и привычка как-то робко стушевываться изобличают болезненную чувствительность утонченного и островосприимчивого юноши, у которого еще не успел сложиться характер. Он беспомощен и нерешителен, он не знает, куда девать себя, что с собой делать. Он оробел при виде Берджесса, и, если бы у него хватило смелости, он с радостью убежал бы и спрятался. Но та острота, с какой он переживает любое, самое обыкновенное состояние, проистекает от избытка нервной силы, а его глаза, ноздри, рот свидетельствуют о неукротимом, бурном своеволии, которое, судя по его лбу, уже отмеченному чертами страдания, направлено не в дурную сторону. Он так необычен, что кажется почти не от мира сего. Люди прозаического склада склонны усматривать в этой отрешенности нечто пагубное, тогда как поэтические натуры видят в ней нечто божественное. Одет он очень небрежно. На нем поношенная расстегнутая куртка из синей саржи поверх шерстяной теннисной рубашки, шелковый платок вместо галстука, брюки из той же материи, что и куртка, коричневые парусиновые туфли. Он, по-видимому, валялся в этом костюме на траве, переходил вброд речку и, судя по всему, никогда не прикасался к нему щеткой. Увидев незнакомого человека, он останавливается в дверях, затем пробирается вдоль стены в противоположный конец комнаты.
Морелл (входя). Идемте, идемте. Какие-нибудь четверть часа вы можете уделить нам, во всяком случае. Это мой тесть. Мистер Берджесс – мистер Марчбэнкс.
Марчбэнкс (нервно жмется к книжному шкафу). Очень приятно познакомиться, сэр.
Берджесс (с величайшим благодушием направляется к нему через всю комнату, в то время как Морелл подходит к Кандиде, которая стоит у камина). Счастлив познакомиться с вами, чрезвычайно, мистер Марчбэнкс. (Вынуждая его к рукопожатию.) Как вы себя чувствуете? Хороший денек, не правда ли? Надеюсь, вы не позволяете Джеймсу засорять вам голову всякими безумными идеями?
Марчбэнкс. Безумными идеями? О, вы имеете в виду социализм. Нет!
Берджесс. Хорошо делаете. (Снова взглядывая на часы.) Да, а мне уже пора идти, ничего не поделаешь. Вам со мной не по пути, мистер Марчбэнкс?
Марчбэнкс. В какую сторону вы идете?
Берджесс. На станцию «Виктория-парк». Поезд в Сити отходит в двенадцать двадцать пять.
Морелл. Глупости. Я надеюсь, Юджин останется с нами завтракать.
Марчбэнкс (взволнованно отнекиваясь). Нет… я… я…
Берджесс. Отлично, отлично, я не настаиваю. Вы, конечно, предпочитаете позавтракать с Канди. Когда-нибудь, я надеюсь, вы пообедаете со мной в Клубе предпринимателей в Нортон-Фолгэйт.
Марчбэнкс. Благодарю вас, мистер Берджесс. А где это Нортон-Фолгэйт – кажется, где-то в Суррее?
Берджесс, в невыразимом восторге, давится от смеха.
Кандида (спешит на выручку). Ты опоздаешь на поезд, папа. Тебе нужно идти сию же минуту. Приходи к обеду, и тогда ты расскажешь мистеру Марчбэнксу, где твой клуб.
Берджесс (хохочет во всю глотку). В Суррее!.. Нет, вы только послушайте! Неплохо, а? В жизни своей не встречал человека, который не знает, где находится Нортон-Фолгэйт. (Смущенный собственной шумной развязностью.) До свиданья, мистер Марчбэнкс. Я знаю, вы слишком хорошо воспитаны и не осудите меня за то, что я посмеялся. (Снова протягивает ему руку.)
Марчбэнкс (нервно, рывком хватая протянутую ему руку). Нет, ничуть.
Берджесс. Ну, будь здорова, Канди. Я загляну попозже. До свиданья, Джеймс.
Морелл. Вам действительно нужно идти?
Берджесс. Да вы не беспокойтесь. (Несокрушимый в своем благодушии, уходит.)
Морелл. Я провожу вас. (Идет вслед за ним.)
Юджин провожает их испуганным взглядом, затаив дыхание, пока Берджесс не исчезает за дверью.
Кандида (со смехом). Ну, Юджин?
Юджин, вздрогнув, оборачивается и стремительно направляется к Кандиде, но, встретив ее смеющийся взгляд, останавливается.
Что вы скажете о моем отце?
Марчбэнкс. Я? Да ведь мы только что познакомились. Кажется, очень симпатичный старый джентльмен.
Кандида (с мягкой иронией). И вы пойдете в Клуб предпринимателей обедать с ним, правда?
Марчбэнкс (растерянно – он принимает это совершенно серьезно). Да, если это вам доставит удовольствие.
Кандида (тронутая). Знаете, Юджин, вы очень милый мальчик, несмотря на все ваши странности. Если бы вы посмеялись над моим отцом, я бы не обиделась, но я еще больше люблю вас за то, что вы были так милы с ним.
Марчбэнкс. А разве нужно было смеяться? Кажется, он сказал что-то смешное; но я так всегда стесняюсь с незнакомыми людьми… И я никогда не понимаю шуток. Мне очень жаль. (Садится на кушетку, упершись локтями в колени, сжав виски кулаками с видом безнадежного страдания.)
Кандида (ласково тормошит его). Да будет вам! Взрослый вы ребенок! Что с вами, вы сегодня хуже, чем всегда. Почему вы были такой грустный доро́гой, когда мы с вами ехали в кебе?
Марчбэнкс. Ах, да так… просто я думал, сколько надо заплатить извозчику. Я знаю, что это ужасно глупо, но вы не представляете себе, какой страх я испытываю перед такими вещами, – я так теряюсь, когда мне приходится иметь дело с незнакомыми людьми. (Постепенно и успокаивающе.) Но все обошлось благополучно: он весь просиял и снял шляпу, когда Морелл дал ему два шиллинга. А я собирался дать ему десять.
Кандида добродушно смеется. Входит Морелл с небольшой пачкой писем и газет, полученных с дневной почтой.
Кандида. Ах, Джеймс, милый, он собирался дать извозчику десять шиллингов – десять шиллингов за три минуты езды! Нет, ты подумай!
Морелл (у стола, просматривая письма). Не обижайтесь на нее, Марчбэнкс. Инстинкт, который заставляет человека быть щедрым, – это благородный инстинкт, лучше того, который вынуждает его скупиться, и встречается он не так часто.
Марчбэнкс (снова впадая в уныние). Нет – трусость, невежество. Миссис Морелл совершенно права.
Кандида. Разумеется, она права. (Берет свой саквояж.) А теперь разрешите мне удалиться и оставить вас с Джеймсом. Вы слишком поэтическая натура и вряд ли способны представить себе, в каком состоянии находит женщина свой дом после трехнедельного отсутствия. Передайте-ка мне плед.
Юджин достает с кушетки перетянутый ремнями плед и подает ей. Она берет его в левую руку, держа саквояж в правой.
Теперь перекиньте мне на руку пелерину.
Он повинуется.
Теперь давайте шляпу.
Он подносит ей шляпу, она прихватывает ее той рукой, в которой у нее саквояж.
Теперь откройте мне дверь.
Он бросается вперед и распахивает перед ней дверь.
Благодарю вас. (Она выходит.)
Марчбэнкс закрывает дверь.
Морелл (по-прежнему чем-то занят у стола). Вы, конечно, останетесь завтракать, Марчбэнкс?
Марчбэнкс (испуганно). Я не должен. (Быстро смотрит на Морелла, но тотчас же опускает глаза, избегая его открытого взгляда, и добавляет с явной неискренностью.) Я хочу сказать: я не могу.
Морелл. Вы хотите сказать, что вам не хочется.
Марчбэнкс (горячо). Нет, я бы очень хотел, правда. Я вам очень признателен. Но… но…
Морелл. Но-но-но-но… Глупости! Если вам хочется остаться, оставайтесь. Не станете же вы уверять меня, что у вас какие-то дела. Если вы стесняетесь, пойдите прогуляйтесь в парке, можете сочинять стихи до половины второго, а потом приходите, и мы хорошенько закусим.
Марчбэнкс. Благодарю вас. Мне бы очень хотелось. Но я не смею, правда. Дело в том, что миссис Морелл сказала мне, что я не должен. Она сказала мне, что она не думает, что вы пригласите меня остаться завтракать, но что мне надо запомнить, что если вы и предложите, так это не значит, что вы на самом деле этого хотите. (Жалобно.) Она сказала, что я должен понимать, но я не понимаю. Пожалуйста, не говорите ей, что я вам сказал.
Морелл (посмеиваясь). Только и всего? Но разве мое предложение прогуляться в парке не разрешает затруднения?
Марчбэнкс. Каким образом?
Морелл (шутливо). Ах вы, бестолковая голова! (Но взятый им развязный тон смущает его самого, так же как и Юджина; он одергивает себя.) Нет, я не то говорю. (Поясняет с ласковой серьезностью.) Милый юноша, в счастливом браке, подобном нашему, возвращение супруги в родной дом есть нечто глубоко священное.
Марчбэнкс бросает на него быстрый взгляд, пока еще только наполовину угадывая, что он хочет сказать.
Старый друг или истинно благородная и сочувственная душа не могут быть помехой в такие минуты, но случайный гость – да.
Пришибленное, испуганное выражение яснее проступает на лице Юджина, когда он наконец понимает.
(Морелл, поглощенный своей мыслью, продолжает, не замечая этого.) Кандида думала, что мне будет нежелательно ваше присутствие, но она ошиблась. Я очень вас люблю, мой мальчик, и мне хочется, чтобы вы сами увидели, какое счастье – такое супружество, как наше.
Марчбэнкс. Счастье? Ваше супружество! Вы так думаете? Вы верите этому?
Морелл (беспечно). Я знаю, мой мальчик. Ларошфуко утверждает, что браки бывают удобные, но счастливых браков не бывает. Вы представить себе не можете, какое это удовлетворение – уличить в обмане бесстыдного лгуна и гнусного циника. Ха-ха-ха! Ну вот, а теперь отправляйтесь в парк сочинять стихи. До половины второго, ровно. Мы никого не ждем.
Марчбэнкс (вне себя). Нет, подождите, вы напрасно… Я вам открою глаза.
Морелл (в недоумении). Как? Откроете что?
Марчбэнкс. Я должен поговорить с вами. Нам с вами необходимо объясниться.
Морелл (бросая выразительный взгляд на часы). Сейчас?
Марчбэнкс (с жаром). Сейчас. Прежде чем вы выйдете из этой комнаты. (Отступает на несколько шагов и останавливается, как бы готовясь загородить Мореллу дорогу к двери.)
Морелл (внушительным тоном, почувствовав, что это действительно что-то серьезное). Я не собираюсь уходить отсюда, я думал, вы собираетесь.
Юджин, ошеломленный его решительным тоном, отворачивается, сдерживая гнев. Морелл подходит к нему и ласково, но твердо кладет ему руку на плечо, невзирая на его попытки стряхнуть ее.
Так вот, сядьте спокойно и расскажите, в чем дело. И помните – мы с вами друзья; и нам нечего бояться, что у кого-нибудь из нас не хватит терпения и участия выслушать другого, о чем бы ни шла речь.
Марчбэнкс (круто повернувшись к нему всем телом). Не думайте, я ничуть не забываюсь. Я просто (в отчаянии закрывает лицо руками) в ужасе. (Отнимает руки от лица и, яростно наступая на Морелла, продолжает угрожающе.) Вы увидите, захочется ли вам сейчас проявить терпение и участие.
Морелл, твердый, как скала, смотрит на него снисходительно.
Не смотрите на меня с таким самодовольством. Вы думаете, вы сильнее меня, но я могу сразить вас, если только у вас есть сердце в груди.
Морелл (несокрушимо уверенный в себе). Разите меня, мой мальчик. Ну, выкладывайте.
Марчбэнкс. Прежде всего…
Морелл. Прежде всего?
Марчбэнкс. Я люблю вашу жену.
Морелл, отпрянув, с минуту глядит на него в полном недоумении и внезапно разражается неудержимым хохотом. Юджин озадачен, но нимало не смущен; он мгновенно преисполняется негодованием и презрением.
Морелл (садится, чтобы перевести дух). Ну, разумеется, дитя мое! Конечно, вы ее любите. Ее все любят и ничего не могут с этим поделать; и я только радуюсь этому. Но (глядя на него с комическим изумлением) послушайте, Юджин, неужели вы считаете, что нам с вами нужно объясняться по этому поводу? Ведь вам еще и двадцати нет, а ей уже за тридцать. Не кажется ли вам, что это просто ребяческая блажь?
Марчбэнкс (в исступлении). Вы осмеливаетесь говорить так о ней! Вот как вы понимаете любовь, которую она внушает! Вы ее оскорбляете.
Морелл (быстро поднимается и говорит совсем другим тоном). Ее! Эй, Юджин, будьте осторожней. Я терпелив. Я надеюсь не потерять терпения. Но есть вещи, которых я не могу позволить. Не требуйте от меня снисходительности, какую я проявил бы к ребенку. Будьте мужчиной.
Марчбэнкс (делает жест, точно отмахиваясь от чего-то). Ах, оставим все это ханжеское пустословие. Просто ужас берет, как подумаешь, сколько ей пришлось вынести подобной болтовни за все эти унылые годы, когда вы так эгоистично и слепо приносили ее в жертву своему чванству, – вы, у которого (наступая на него)… у которого нет ни одной мысли, ни одного чувства, общего с ней.
Морелл (философически). Она как будто отлично мирится с этим. (Глядя на него в упор.) Юджин, дорогой мой, вы спятили, вы просто спятили! Вот вам мое совершенно откровенное, искреннее мнение. (Отчитывая его, он впадает в привычный наставительный тон и, став на ковер у камина, греет за спиной руки.)
Марчбэнкс. А вы думаете, я не знаю? Неужели вы считаете, что то, из-за чего люди способны сходить с ума, менее реально или менее истинно, чем все то, к чему они подходят в полном разуме?
В глазах Морелла впервые мелькает сомнение. Он забывает о том, что хотел погреть руки, и стоит, слушая, встревоженный и удрученный.
Это-то и есть самое настоящее; если в жизни есть что-нибудь настоящее, так только это. Вы очень спокойны, и рассудительны, и сдержанны со мной, потому что вы видите, что я схожу с ума по вашей жене; так же вот и этот старик, который только что был здесь: он нисколько не беспокоится насчет вашего социализма, потому что он видит, что вы на нем помешаны.
Замешательство Морелла заметно растет. Юджин пользуется этим, донимая его жестокими вопросами.
Разве это доказывает, что вы не правы? Разве ваше самодовольное превосходство доказывает мне, что я не прав?
Морелл. Марчбэнкс, какой дьявол вложил эти слова в ваши уста? Легко, ах, как легко поколебать веру человека в самого себя. Воспользоваться этим, сокрушить дух человека – это призвание дьявола. Подумайте о том, что вы делаете. Подумайте.
Марчбэнкс (безжалостно). Я знаю. Я делаю это умышленно. Я сказал, что я могу сразить вас.
Они секунду смотрят друг на друга угрожающе. Затем к Мореллу возвращается чувство собственного достоинства.
Морелл (с благородной мягкостью). Юджин, послушайте. Когда-нибудь, я надеюсь и верю, вы будете таким же счастливым человеком, как я.
Юджин презрительно фыркает, явно давая понять, что он ни во что не ставит его счастье.
(Морелл, глубоко оскорбленный, сдерживает себя, проявляя изумительное терпение, и продолжает спокойно, с великолепным ораторским мастерством.) Вы женитесь, и вы будете стремиться употребить все ваши силы и таланты на то, чтобы сделать каждый уголок на земле таким же счастливым, как ваш собственный дом, вы будете одним из созидателей Царства Божьего на земле. И – кто знает? – может быть вам предстоит стать строителем, мастером – зодчим там, где я всего-навсего только скромный ремесленник, ибо не думайте, мой мальчик, что я не способен видеть в вас, несмотря на ваш юный возраст, задатки высоких дарований, на которые я никогда не осмеливался притязать. Я хорошо знаю, что именно в поэте божественный дух человека, бог, который обитает в нем, – наиболее богоподобен. И вы должны содрогаться при мысли об этом – при мысли о том тяжком бремени, о великом даре поэта, который вы, может быть, несете в себе.
Марчбэнкс (запальчиво, без малейшего раскаяния; мальчишеская откровенность его суждений резко восстает против красноречия Морелла). Нисколько я от этого не содрогаюсь. Наоборот, меня приводит в содрогание отсутствие этого в других.
Морелл (удваивая силу своего красноречия, воодушевляемого искренним чувством и подстегиваемого упрямством Марчбэнкса). Тогда помогите зажечь это в них, во мне, а не гасите. В будущем, когда вы будете так же счастливы, как я, я пребуду вашим истинным братом в вере. Я помогу вам сохранить веру в то, что Бог создал для нас мир, которому только наше собственное безрассудство препятствует стать раем. Я помогу вам сохранить веру в то, что ваш труд, каждая кроха ваших усилий сеет счастье для великой жатвы, которую все мы – даже самые ничтожные из нас – некогда пожнем. И наконец, – и поверьте мне, это не самое малое, – я помогу вам сохранить веру в то, что ваша жена любит вас и счастлива в своем доме. Мы нуждаемся в такой помощи, Марчбэнкс, мы постоянно испытываем в ней великую нужду. Так много вещей способно заставить нас усомниться – достаточно только позволить чему-нибудь поколебать наш душевный мир. Даже у себя дома мы живем словно в лагере, осажденном со всех сторон вражеской ратью сомнений. Неужели вы способны стать предателем и позволить им завладеть мной?
Марчбэнкс (с отвращением оглядывает комнату). И вот так всегда для нее в этом доме. Женщина с большой душой, жаждущая реальности, правды, свободы! А ее пичкают метафорами, проповедями, пошлыми разглагольствованиями, жалкой риторикой. Вы думаете, женская душа может жить этим вашим проповедническим даром?
Морелл (уязвленный). Марчбэнкс, с вами трудно не потерять терпения. Мой талант подобен вашему, поскольку он вообще имеет какую-нибудь цену: это дар находить слова для божественной истины.
Марчбэнкс (запальчиво). Дар пустословия, и ничего больше! А при чем тут истина, какое отношение к ней имеет ваше искусство ловко трепать языком? Не больше, чем игра на шарманке. Я никогда не был в вашей церкви, но мне случалось бывать на ваших политических митингах, и я видел, как вы вызывали у собрания так называемый энтузиазм: вы просто-напросто приводили их в такое возбужденное состояние, что они вели себя совершенно как пьяные. А их жены смотрели на них и дивились: что за дураки! О, это старая история, о ней говорится еще в Библии. Я думаю, царь Давид в припадках исступления был очень похож на вас. (Добивая его цитатой.) «Но жена презирала его в сердце своем…»
Морелл (яростно). Убирайтесь вон из моего дома! Вы слышите? (Наступает на него угрожающе.)
Марчбэнкс (пятясь к кушетке). Оставьте меня! Не трогайте меня!
Морелл с силой хватает его за воротник.
(Марчбэнкс съеживается, падает на кушетку и неистово вопит.) Перестаньте, Морелл, если вы ударите меня, я покончу с собой! Я не перенесу этого! (Почти в истерике.) Пустите меня! Уберите вашу руку!
Морелл (медленно, с подчеркнутым презрением). Вы жалкий, трусливый щенок. (Отпускает его.) Убирайтесь, пока вы со страха не закатили истерику.
Марчбэнкс (на кушетке, задыхаясь, но испытывая облегчение после того, как Морелл убрал руку). Я не боюсь вас! Это вы боитесь меня.
Морелл (спокойно, глядя на него сверху вниз). Похоже на это, не правда ли?
Марчбэнкс (с яростным упрямством). Да, похоже.
Морелл презрительно отворачивается и отходит. Юджин вскакивает и идет за ним.
Вы думаете, если я не могу выносить, когда со мной грубо обращаются, если (со слезами в голосе) я способен только плакать от бешенства, когда я встречаюсь с насилием, если не могу снять тяжелый чемодан с кеба, как это делаете вы, не могу подраться за вашу жену, как какой-нибудь пьяный матрос, – так это значит, что я вас боюсь? Ошибаетесь! Если я не обладаю тем, что называется британским мужеством, то у меня нет и британской трусости: я не боюсь поповских идей. Я буду бороться с вашими идеями. Я вырву ее из рабства, в котором они ее держат. Я сокрушу их своими собственными идеями. Вы выгоняете меня вон из дома, потому что вы не осмеливаетесь предоставить ей выбор между вашими и моими идеями. Вы боитесь позволить мне еще раз увидеть ее.
Морелл, разозленный, внезапно поворачивается к нему. Юджин в невольном ужасе отскакивает и бросается к двери.
Оставьте меня, я вам говорю. Я ухожу.
Морелл (с холодным презрением). Подождите минутку, я не трону вас, не бойтесь. Когда моя жена вернется, она заинтересуется, почему вы ушли. А когда она узнает, что вы больше не переступите нашего порога, она будет допытываться, почему это так. Так вот, я не хочу огорчать ее рассказом о том, что вы вели себя как подлец.
Марчбэнкс (возвращаясь, со вновь вспыхнувшей злобой). Вы расскажете, вы должны это сделать. Если вы скажете ей что-нибудь другое, кроме того, что было на самом деле, – вы лжец и трус. Скажите ей то, что я сказал: и как вы были мужественны и решительны и трясли меня, как терьер трясет крысу, и как я ежился и испугался, и как вы обозвали меня жалким, трусливым щенком и выгнали вон из дома. Если вы не расскажете ей, я расскажу. Я напишу ей.
Морелл (сбитый с толку). Зачем вам нужно, чтобы она это знала?
Марчбэнкс (в лирическом экстазе). Тогда она поймет меня и узнает, что я понимаю ее. Если вы утаите от нее хоть одно слово из того, что было сказано здесь, если вы не готовы сложить правду к ее ногам, как готов я, – тогда вы будете знать до конца ваших дней, что она по-настоящему принадлежит мне, а не вам. Прощайте. (Уходит.)
Морелл (страшно встревоженный). Постойте, я не хочу ей рассказывать.
Марчбэнкс (оборачиваясь, около двери). Правду или ложь, но вы должны будете сказать ей, если я уйду.
Морелл (мнется). Марчбэнкс, иногда бывает простительно…
Марчбэнкс (резко обрывает его). Знаю – простительно солгать. Это будет бесполезно. Прощайте, господин поп!
Когда Марчбэнкс поворачивается, чтобы уйти, дверь открывается и входит Кандида, одетая по-домашнему.
Кандида. Вы уходите, Юджин? (Приглядываясь к нему внимательнее.) Ах, боже мой, как это похоже на вас – идти на улицу в таком виде! Ну, ясное дело, поэт. Посмотри-ка на него, Джеймс! (Берет его за куртку и тащит показать Мореллу.) Посмотри на его воротник, на его галстук, посмотри на его волосы. Можно подумать, что вас кто-то оттаскал.
Юджин невольно оборачивается и взглядывает на Морелла, но она тянет его назад.
Ну-ка, стойте смирно. (Она застегивает его воротник, завязывает бантом шейный платок и приглаживает ему волосы.) Ну вот. Теперь вы выглядите так мило, что, я думаю, вам лучше в конце концов остаться позавтракать, хотя я вам и говорила, что вы не должны оставаться. Завтрак будет готов через полчаса. (Еще раз поправляет его бант. Он целует ей руку.) Не дурите.
Марчбэнкс. Мне, конечно, хотелось бы остаться, если только досточтимый джентльмен, ваш супруг, не имеет ничего против.
Кандида. Оставить его, Джеймс, если он обещает быть хорошим мальчиком и поможет мне накрыть на стол?
Морелл. О да, конечно. Разумеется, ему лучше остаться. (Подходит к столу и делает вид, что разбирает какие-то бумаги.)
Марчбэнкс (предлагает руку Кандиде). Идемте накрывать на стол.
Она берет его под руку. Они вместе идут к двери.
Я счастливейший из смертных!
Морелл. Таким был я – час тому назад.
Действие второе
Тот же день под вечер. Та же комната. Стул для посетителей придвинут к столу. Марчбэнкс один; от нечего делать пытается выяснить, как это пишут на машинке. Услышав чьи-то шаги у двери, он потихоньку, виновато отходит к окну и делает вид, что рассматривает окрестности. Входит мисс Гарнетт с блокнотом, в котором она стенографирует письма Морелла, подходит к машинке и садится расшифровывать. Ей очень некогда, и она не замечает Юджина; но едва она начинает печатать, клавиши застревают.
Прозерпина. Ах, мученье! Вы трогали мою машинку, мистер Марчбэнкс! И вы напрасно делаете вид, будто вы ее не трогали.
Марчбэнкс (робко). Я очень извиняюсь, мисс Гарнетт, я только попробовал писать… (жалобно) а она не пишет.
Прозерпина. Ну вот, а теперь клавиши заело.
Марчбэнкс (горячо). Уверяю вас, я ничего не трогал. Я только повернул вот это маленькое колесико. И оно щелкнуло.
Прозерпина. А, теперь понятно. (Она поправляет каретку и тараторит без передышки.) Вы, должно быть, думали, что это нечто вроде шарманки; стоит только повернуть ручку, и она сама собой напишет вам чудесное любовное письмо, а?
Марчбэнкс (серьезно). Я думаю, машинку можно заставить писать любовные письма. Они же все пишутся на один лад, не правда ли?
Прозерпина (готова возмутиться: вести дискуссию такого рода – если только это не делается в шутку – против ее правил). Откуда я знаю? Почему вы меня об этом спрашиваете?
Марчбэнкс. Прошу прощения. Мне казалось, что у серьезных людей, у людей, которые делают что-то важное, ведут корреспонденцию и все такое, – что у них непременно должны быть любовные дела, а иначе они бы с ума сошли.
Прозерпина (вскакивает, оскорбленная). Мистер Марчбэнкс! (Строго смотрит на него и с величественным видом направляется к книжному шкафу.)
Марчбэнкс (смиренно приближаясь к ней). Надеюсь, я не обидел вас? Вероятно, мне не следовало касаться ваших любовных дел.
Прозерпина (выдергивает синюю книжку с полки и круто поворачивается к нему). У меня нет никаких любовных дел. Как вы смеете говорить мне подобные вещи? (Берет книгу под мышку и возвращается к машинке.)
Марчбэнкс (с внезапно пробудившимся сочувствием и интересом). Ах вот что? Вы, верно, застенчивы, вроде меня.
Прозерпина. Нисколько я не застенчива. Что вы хотите этим сказать?
Марчбэнкс (задушевно). Нет, конечно, это застенчивость: вот поэтому-то на свете так мало взаимной любви. Мы все тоскуем о любви, это первая потребность нашей природы, первая мольба нашего сердца, но мы не смеем высказать наших желаний, мы слишком застенчивы. (С большим жаром.) О, мисс Гарнетт, чего бы вы не дали за то, чтобы не испытывать страха, стыда!..
Прозерпина (шокированная). Нет, честное слово!
Марчбэнкс (возмущенно и нетерпеливо). Ах, не говорите вы мне всяких этих глупых слов, они меня не обманут, какой в них смысл? Почему вы боитесь быть со мной такой, какая вы на самом деле? Я совершенно такой же, как вы.
Прозерпина. Как я? Скажите, пожалуйста, кому это вы думаете польстить – мне или себе? Я что-то не могу понять, кому именно. (Снова направляется к машинке.)
Марчбэнкс (останавливает ее с таинственным видом). Ш-ш-ш… Я всюду ищу любви – и нахожу несметное количество ее в сердцах людей. Но когда я пытаюсь вымолить ее, эта ужасная застенчивость сковывает меня, и я стою немой… или хуже, чем немой, говорю бессмысленные вещи, глупую ложь. И я вижу, как нежность, о которой я тоскую, расточают собакам, кошкам, птицам, потому что они сами подходят и просят. (Почти шепотом.) Ее нужно просить; она подобна призраку – не может заговорить, пока не заговорят с ней. (Обычным голосом, но с глубокой меланхолией.) Вся любовь в мире жаждет заговорить, только она не смеет, потому что она стыдится, стыдится! В этом трагедия мира. (С глубоким вздохом садится на стул для посетителей и закрывает лицо руками.)
Прозерпина (изумлена, старается не выдать себя: первое ее правило при встрече с незнакомыми молодыми людьми). Люди испорченные превозмогают время от времени эту стыдливость, не правда ли?
Марчбэнкс (вскакивает, чуть ли не в ярости). Испорченные люди – это те, у которых нет любви. Поэтому у них нет и стыда. Они способны просить любви, потому что они не нуждаются в ней, они способны предлагать ее, потому что им нечего дать. (Опускается на стул и добавляет грустно.) Но мы, которые обладаем любовью и жаждем соединить ее с любовью других, мы не смеем вымолвить ни слова. (Робко.) Вы согласны с этим, не правда ли?
Прозерпина. Послушайте, если вы не перестанете говорить подобные вещи, я уйду из комнаты, мистер Марчбэнкс. Честное слово, уйду. Это неприлично. (Усаживается за машинку, открывает синюю книжку и собирается переписывать из нее.)
Марчбэнкс (безнадежным тоном). Все то, о чем стоит говорить, все считается неприличным. (Поднимается и бродит по комнате с растерянным видом.) Я не могу понять вас, мисс Гарнетт. О чем же мне разговаривать?
Прозерпина (поучительно). Говорите о безразличных вещах, говорите о погоде.
Марчбэнкс. Могли бы вы стоять и разговаривать о безразличных вещах, если бы рядом с вами ребенок горько плакал от голода?
Прозерпина. Полагаю, что нет.
Марчбэнкс. Вот так и я не могу разговаривать о безразличных вещах, когда мое сердце горько плачет от голода.
Прозерпина. Тогда придержите язык.
Марчбэнкс. Да, Вот к этому мы всегда и приходим. Придерживаем язык. А разве от этого перестанет плакать ваше сердце? Ведь оно плачет, разве не правда? Оно должно плакать, если только оно у вас есть.
Прозерпина (внезапно вскакивает, хватаясь рукой за сердце). Ах, нет смысла пытаться работать, когда вы ведете такие разговоры. (Выходит из-за своего маленького столика и садится на кушетку. Чувства ее явно затронуты.) Вас совершенно не касается, плачет мое сердце или нет, но я все-таки хочу вам сказать…
Марчбэнкс. Вы можете не говорить. Я и так знаю, что оно должно плакать.
Прозерпина. Но помните, если вы когда-нибудь расскажете о том, что я вам сказала, я отрекусь.
Марчбэнкс (участливо). Да, я понимаю. Итак, значит, у вас не хватает смелости признаться ему?
Прозерпина (подскакивая). Ему! Кому это?
Марчбэнкс. Ну, кто бы это ни был – человеку, которого вы любите. Это может быть кто угодно. Может быть, мистер Милл, помощник священника…
Прозерпина (с презрением). Мистер Милл!!! Вот уж поистине достойный предмет, чтобы я стала по нему убиваться! Скорей бы уж я выбрала вас, чем мистера Милла.
Марчбэнкс (ежится). Нет, что вы! Мне очень жаль, но вы не должны думать об этом. Я…
Прозерпина (с раздражением идет к камину и останавливается, повернувшись к Марчбэнксу спиной). О, не пугайтесь! Это не вы. Речь идет не о каком-то определенном человеке.
Марчбэнкс. Я понимаю, вы чувствуете, что могли бы любить кого угодно, кто предложил бы…
Прозерпина (в бешенстве). Кого угодно… кто предложил бы… нет, на это я не способна. За кого вы меня принимаете?
Марчбэнкс (обескураженный). Все не так. Вы не хотите мне по-настоящему ответить, а только повторяете слова, которые говорят все. (Подходит к кушетке и опускается на нее в полном унынии.)
Прозерпина (уязвленная тем, что она принимает за презрение аристократа к ее особе). О, пожалуйста, если вы жаждете оригинальных разговоров, можете разговаривать сами с собой.
Марчбэнкс. Так поступают все поэты. Они разговаривают вслух сами с собой, а мир подслушивает их. Но так ужасно одиноко, если хоть изредка не слышишь кого-нибудь другого.
Прозерпина. Подождите, вот придет мистер Морелл. Он с вами поговорит.
Марчбэнкса передергивает.
И нечего строить такие презрительные гримасы. Он разговаривает получше вас. (Запальчиво.) Он с вами так поговорит, что вы прикусите язычок.
Она сердито идет к своему столику, как вдруг Марчбэнкс, внезапно осененный, вскакивает и останавливает ее.
Марчбэнкс. А, понимаю.
Прозерпина (покраснев). Что вы понимаете?
Марчбэнкс. Вашу тайну. Но скажите, нет, правда, неужели он может внушить женщине настоящую любовь?
Прозерпина (словно это уже переходит всякие границы). Ну, знаете!
Марчбэнкс (с жаром). Нет, ответьте мне! Я хочу это знать. Мне нужно знать. Я не понимаю этого. Я ничего не вижу в нем, кроме слов, благочестивых сентенций и того, что люди называют добродетелью. Это нельзя любить.
Прозерпина (тоном холодной назидательности). Я просто не знаю, о чем вы говорите. Я не понимаю вас.
Марчбэнкс (с раздражением). Нет, понимаете. Вы лжете.
Прозерпина. О-о!
Марчбэнкс. Вы понимаете, и вы знаете. (Решившись во что бы то ни стало добиться от нее ответа.) Может женщина по-настоящему любить его?
Прозерпина (глядя ему прямо в лицо). Да.
Он закрывает лицо руками.
Что с вами?
Он отнимает руки, и ей открывается его лицо: трагическая маска. Испуганная, она поспешно отступает в дальний угол, не сводя глаз с его лица, пока он, повернувшись к ней спиной, не направляется к детскому стульчику у камина, где садится в полном отчаянии. Когда она подходит к двери, дверь открывается и входит Берджесс.
(Увидев его, она вскрикивает.) Слава тебе господи, наконец кто-то пришел. (Садится, успокоившись, за свой столик и вставляет в машинку чистый лист бумаги.)
Берджесс направляется к Юджину.
Берджесс (почтительно наклоняясь к титулованному гостю). Так вот как, они оставляют вас скучать одного, мистер Марчбэнкс. Я пришел составить вам компанию.
Марчбэнкс смотрит на него в ужасе, чего Берджесс совершенно не замечает.
Джеймс принимает какую-то депутацию в столовой, а Канди наверху занимается с девочкой-швеей, которую она опекает. (Соболезнующе.) Вам, должно быть, скучно здесь одному, и поговорить-то не с кем, кроме машинистки. (Подвигает себе кресло и усаживается.)
Прозерпина (совершенно разъяренная). Теперь ему, наверно, будет очень весело, раз он сможет наслаждаться вашим изысканным разговором. Можно его поздравить. (Яростно стучит на машинке.)
Берджесс (пораженный ее дерзостью). Насколько мне известно, я не к вам обращаюсь, молодая особа.
Прозерпина (ехидно Марчбэнксу). Видели вы когда-нибудь такие прекрасные манеры, мистер Марчбэнкс?
Берджесс (напыщенно). Мистер Марчбэнкс – джентльмен и знает свое место, чего нельзя сказать о некоторых других.
Прозерпина (колко). Во всяком случае, мы с вами не леди и не джентльмены. Уж я бы с вами поговорила начистоту, если бы здесь не было мистера Марчбэнкса. (Так резко выдергивает письмо из машинки, что бумага рвется.) Ну вот, теперь я испортила письмо, придется все снова переписывать. Ах, это выше моих сил. Толстый старый болван!
Берджесс (подымается, задыхаясь от негодования). Что-о? Это я – старый болван? Я? Нет, это уж слишком. (Вне себя от ярости.) Хорошо, барышня, хорошо. Подождите, вот я поговорю с вашим хозяином, вы у меня увидите, я вас проучу. Не я буду, если не проучу.
Прозерпина (чувствуя, что перешла границы). Я…
Берджесс (обрывая ее). Нет, хватит. Нам с вами больше не о чем говорить. Я вам покажу, кто я.
Прозерпина с вызывающим треском переводит каретку и продолжает писать.
Не обращайте на нее внимания, мистер Марчбэнкс, она недостойна этого. (Снова величественно усаживается в кресло.)
Марчбэнкс (расстроенный, с жалким видом). Не лучше ли нам переменить тему разговора? Я… я думаю, мисс Гарнетт не хотела сказать ничего такого…
Прозерпина (настойчиво и убежденно). Не хотела! Как бы не так! Вот именно что хотела.
Берджесс. Стану я унижать себя, обращая на нее внимание.
Раздаются два звонка.
Прозерпина (берет свой блокнот и бумаги). Это меня. (Поспешно уходит.)
Берджесс (кричит ей вдогонку). Обойдемся и без вас. (Несколько утешенный сознанием, что за ним осталось последнее слово, однако не совсем отказавшись от мысли придумать что-нибудь покрепче, он некоторое время смотрит ей вслед, затем опускается в кресло рядом с Юджином и говорит конфиденциальным тоном.) Ну вот, теперь, когда мы с вами остались одни, мистер Марчбэнкс, разрешите мне сказать вам по-дружески то, о чем я не заикался никому. Вы давно знакомы с моим зятем Джеймсом?
Марчбэнкс. Не знаю. Я никогда не помню чисел. Вероятно, несколько месяцев.
Берджесс. И вы никогда ничего такого за ним не замечали… странного?
Марчбэнкс. Да нет, кажется.
Берджесс (внушительно). Вот то-то и дело, что нет. Это-то и опасно. Так вот, знаете – он не в своем уме.
Марчбэнкс. Не в своем уме?
Берджесс. Спятил вконец! Вы понаблюдайте за ним. Сами увидите.
Марчбэнкс (смущенно). Но, быть может, это просто кажется, потому что его убеждения…
Берджесс (тыча его указательным пальцем в колено, чтобы заставить себя слушать). Это вот как раз то, что я всегда думал, мистер Марчбэнкс. Я долгое время считал, что это только убеждения, но вы все-таки попомните мои слова: убеждения, знаете, это нечто весьма, весьма серьезное, когда люди начинают из-за них вести себя так, как он. Но я не об этом хотел. (Оглядывается, желая удостовериться, что они одни, и, наклонившись к Юджину, говорит ему на ухо.) Как вы думаете, что он сказал мне здесь, вот в этой самой комнате, нынче утром?
Марчбэнкс. Что?
Берджесс. Он мне сказал – и это так же верно, как то, что мы вот здесь с вами сейчас сидим, – он мне сказал: «Я болван, – вот что он сказал, – а вы, говорит, вы – мошенник». И так это, знаете, спокойно. Это я-то мошенник, подумайте! И тут же пожал мне руку, точно это что-то очень лестное! Так как же после этого можно сказать, что человек в здравом уме?
Морелл (кричит Прозерпине, открывая дверь). Запишите их имена и адреса, мисс Гарнетт.
Прозерпина (за сценой). Да, мистер Морелл.
Морелл входит с бумагами, которые ему принесла депутация.
Берджесс (Марчбэнксу). Вот и он. Вы только последите за ним, и вы увидите. (Поднимаясь, величественно.) Я очень сожалею, Джеймс, но я должен обратиться к вам с жалобой. Я не хотел делать этого, но чувствую, что обязан. Этого требуют долг и справедливость.
Морелл. А что случилось?
Берджесс. Мистер Марчбэнкс не откажется подтвердить, он был свидетелем. (Весьма торжественно.) Эта ваша юная особа забылась настолько, что обозвала меня толстым старым болваном.
Морелл (с величайшим благодушием). Ах, но до чего же это похоже на Просси! Вот прямая душа! Не умеет сдержать себя. Бедняжка Просси! Ха-ха-ха!
Берджесс (трясясь от ярости). И вы думаете, что я могу стерпеть такую штуку от подобной особы?
Морелл. Какая чепуха! Не станете же вы придавать этому значение! Не обращайте внимания. (Идет к шкафу и прячет бумаги.)
Берджесс. Я не обращаю внимания. Я выше этого. Но разве это справедливо – вот что я хочу знать. Справедливо это?
Морелл. Ну, это уж вопрос, касающийся Церкви, а не мирян. Причинила она вам какое-нибудь зло? Вот о чем вы можете спрашивать. Ясное дело, нет. И не думайте больше об этом. (Дав таким образом понять, что вопрос исчерпан, направляется к столу и начинает разбирать почту.)
Берджесс (тихо Марчбэнксу). Ну, что я вам говорил? Совершенно не в своем уме. (Подходит к столу и с кислой миной проголодавшегося человека спрашивает Морелла.) Когда обед, Джеймс?
Морелл. Да не раньше чем часа через два.
Берджесс (с жалобной покорностью). Дайте мне какую-нибудь хорошую книжку, Джеймс, почитать у камина. Будьте добры.
Морелл. Какую же вам дать книжку? Что-нибудь действительно хорошее?
Берджесс (чуть не с воплем протеста). Да нет же, что-нибудь позанятнее, чтобы провести время.
Морелл берет со стола иллюстрированный журнал и подает ему.
(Смиренно принимает.) Спасибо, Джеймс. (Возвращается к своему креслу у камина, усаживается поудобнее и погружается в чтение.)
Морелл (пишет за столом). Кандида сейчас освободится и придет к вам. Она уже проводила свою ученицу. Наливает лампы.
Марчбэнкс (вскакивает в ужасе). Но ведь она выпачкает себе руки! Я не могу перенести это, Морелл, это позор. Я лучше пойду и налью сам. (Направляется к двери.)
Морелл. Не советую.
Марчбэнкс нерешительно останавливается.
А то она, пожалуй, заставит вас вычистить мои ботинки, чтобы избавить меня от этого.
Берджесс (строго, с неодобрением). Разве у вас больше нет прислуги, Джеймс?
Морелл. Есть. Но ведь она же не рабыня. А у нас в доме все так ведется, будто у нас по крайней мере трое слуг. Вот каждому и приходится брать что-нибудь на себя. В общем, это совсем неплохо. Мы с Просси можем разговаривать о делах после завтрака, в то время как моем посуду. Мыть посуду не так уж неприятно, если это делать вдвоем.
Марчбэнкс (удрученно). И вы думаете, все женщины такие толстокожие, как мисс Гарнетт?
Берджесс (с воодушевлением). Сущая правда, мистер Марчбэнкс. Что правда, то правда. Вот именно – толстокожая!
Морелл (спокойно и многозначительно). Марчбэнкс!
Марчбэнкс. Да?
Морелл. Сколько слуг у вашего отца?
Марчбэнкс (недовольно). О, я не знаю. (Возвращается к кушетке, словно стараясь уйти подальше от этого допроса, и садится, снедаемый мыслью о керосине.)
Морелл (весьма внушительно). Так много, что вы даже и не знаете сколько? (Уже тоном выговора.) И вот, когда нужно сделать что-нибудь этакое толстокожее, вы звоните и отдаете приказание, чтобы это сделал кто-нибудь другой, да?
Марчбэнкс. Ах, не мучайте меня! Ведь вы-то даже не даете себе труда позвонить. И вот сейчас прекрасные пальцы вашей жены пачкаются в керосине, а вы расположились здесь со всеми удобствами и проповедуете, проповедуете, проповедуете. Слова, слова, слова!
Берджесс (горячо приветствуя эту отповедь). Вот это, черт возьми, здорово! Нет, вы только послушайте! (Торжествующе.) Ага, что? Получили, Джеймс?
Входит Кандида в фартуке, держа в руках настольную лампу, которую только остается зажечь. Она ставит ее на стол к Мореллу.
Кандида (морщится, потирая кончики пальцев). Если вы останетесь у нас, Юджин, я думаю поручить вам лампы.
Марчбэнкс. Я останусь при условии, что всю черную работу вы поручите мне.
Кандида. Очень мило. Но, пожалуй, придется сначала посмотреть, как это у вас выходит. (Поворачиваясь к Мореллу.) Джеймс, ты не очень-то хорошо смотрел за хозяйством.
Морелл. А что же такое я сделал или – чего я не сделал, дорогая моя?
Кандида (с искренним огорчением). Моей любимой щеточкой чистили грязные кастрюли.
Душераздирающий вопль Марчбэнкса. Берджесс изумленно озирается.
(Подбегает к кушетке.) Что случилось? Вам дурно, Юджин?
Марчбэнкс. Нет, не дурно, но это кошмар! Кошмар! Кошмар! (Хватается руками за голову.)
Берджесс (пораженный). Что? Вы страдаете кошмарами, мистер Марчбэнкс? Вам нужно как-нибудь постараться избавиться от этого.
Кандида (успокаиваясь). Глупости, папа. Это просто поэтические кошмары. Не правда ли, Юджин? (Треплет его по плечу.)
Берджесс (сбитый с толку). Ах, поэтические… Вон оно что. В таком случае прошу прощения. (Снова поворачивается к камину, сконфуженный.)
Кандида. Так в чем же дело, Юджин? Щетка?
Его передергивает.
Ну ладно. Не огорчайтесь. (Садится подле него.) Когда-нибудь вы подарите мне хорошенькую новенькую щеточку из слоновой кости с перламутровой отделкой.
Марчбэнкс (мягко и мелодично, но грустно и мечтательно). Нет, не щетку, а лодочку… маленький кораблик, и мы уплывем на нем далеко-далеко от света – туда, где мраморный пол омывают дожди и сушит солнце, где южный ветер метет чудесные зеленые и пурпурные ковры… Или колесницу, которая унесет нас далеко в небо, где лампы – это звезды и их не нужно каждый день наливать керосином.
Морелл (резко). И где нечего будет делать – только лентяйничать. Жить в свое удовольствие и ни о чем не думать.
Кандида (задетая). Ах, Джеймс, как же ты мог так все испортить?!
Марчбэнкс (воспламеняясь). Да, жить в свое удовольствие и не думать ни о чем. Иначе говоря, быть прекрасным, свободным и счастливым. Разве каждый мужчина не желает этого всей душой женщине, которую он любит? Вот мой идеал. А какой же идеал у вас и у всех этих ужасных людей, которые ютятся в безобразных, жмущихся друг к другу домах? Проповеди и щетки! Вам – проповеди, а жене – щетки.
Кандида (живо). Он сам чистит себе башмаки, Юджин. А вот завтра вы их будете чистить, за то, что вы так говорите о нем.
Марчбэнкс. Ах, не будем говорить о башмаках. Ваши ножки были бы так прекрасны на зелени гор.
Кандида. Хороши бы они были без башмаков на Хэкни-роуд.
Берджесс (шокированный). Слушай, Канди, нельзя же так вульгарно. Мистер Марчбэнкс не привык к этому. Ты опять доведешь его до кошмаров – до поэтических, я хочу сказать.
Морелл молчит. Можно подумать, что он занят письмами. В действительности его тревожит и гнетет только что сделанное им печальное открытие: чем увереннее он в своих нравоучительных тирадах, тем легче и решительнее побивает его Юджин. Сознание, что он начинает бояться человека, которого не уважает, наполняет его горечью. Входит мисс Гарнетт с телеграммой.
Прозерпина (протягивая телеграмму Мореллу). Ответ оплачен. Посыльный ждет. (Направляясь к своей машинке и усаживаясь за стол, говорит Кандиде.) Мария все приготовила и ждет вас в кухне, миссис Морелл.
Кандида поднимается.
Лук уже принесли.
Марчбэнкс (содрогаясь). Лук?
Кандида. Да, лук. И даже не испанский, а противные маленькие красные луковки. Вы мне поможете покрошить их. Идемте-ка. (Она хватает его за руку и тащит за собой.)
Берджесс вскакивает, ошеломленный, и, застыв от изумления, глядит им вслед.
Берджесс. Канди не годилось бы так обращаться с племянником пэра. Она уж слишком далеко заходит… Слушайте-ка, Джеймс, а он что – всегда такой чудной?
Морелл (отрывисто, обдумывая телеграмму). Не знаю.
Берджесс (прочувствованно). Разговаривать-то он большой мастер. У меня всегда была склонность к этой… как ее? – поэзии. Канди в меня пошла, видно. Вечно, бывало, заставляла меня рассказывать ей сказки, когда еще была вот этакой крошкой. (Показывает рост ребенка, примерно фута два от пола.)
Морелл (очень озабоченный). Вот как. (Помахивает телеграммой, чтобы высохли чернила, и уходит.)
Прозерпина. И вы сами придумывали ей эти сказки, из собственной головы?
Берджесс не удостаивает ее ответом и принимает высокомерно-презрительную позу.
(Спокойно.) Вот никогда бы не подумала, что в вас кроются такие таланты. Между прочим, я хотела предупредить вас, раз уж вы воспылали такой нежной любовью к мистеру Марчбэнксу: он не в своем уме.
Берджесс. Не в своем уме! Как, и он тоже?
Прозерпина. Совсем полоумный. Он меня до того напугал, что и рассказать не могу, как раз перед тем, как вы сюда пришли. Вы не заметили, какие он странные вещи говорит?
Берджесс. Так вот что значат эти его поэтические кошмары! Ах, черт подери, и верно ведь! У меня раза два мелькнула мысль, что он немножко того… (Идет через всю комнату к двери и говорит, постепенно повышая голос.) Нечего сказать, попадешь в такой желтый дом, и некому человека предостеречь, кроме вас.
Прозерпина (когда он проходит мимо нее). Да, подумайте! Какой ужас, если что-нибудь случится с вами.
Берджесс (высокомерно). Оставьте ваши замечания при себе. Скажите вашему хозяину, что я пошел в сад покурить.
Прозерпина (насмешливо). О!
Входит Морелл.
Берджесс (слащаво). Иду прогуляться в садик, покурить, Джеймс.
Морелл (резко). А, отлично, отлично.
Берджесс выходит, напуская на себя вид разбитого, дряхлого старика. Морелл, стоя у стола, перебирает бумаги.
(Полушутливо, вскользь Прозерпине.) Ну, мисс Просси, что это вам вдруг вздумалось обругать моего тестя?
Прозерпина (вспыхивает, становится ярко-пунцовой, поднимает на него полуиспуганный-полуукоризненный взгляд). Я… (Разражается слезами.)
Морелл (с нежной шутливостью наклоняется к ней через стол). Ну, полно, полно, полно! Будет вам, Просси! Конечно, он старый толстый болван, ведь это же сущая правда!
Громко всхлипывая, она бросается к выходу и исчезает, сильно хлопнув дверью. Морелл грустно качает головой, вздыхает, устало идет к своему столу, садится и принимается за работу. Он кажется постаревшим и измученным.
Входит Кандида. Она покончила со своим хозяйством и сняла фартук. Сразу заметив его удрученный вид, она тихонько усаживается на стул для посетителей и внимательно смотрит на Морелла, не говоря ни слова.
(Морелл взглядывает на нее, не выпуская пера, как бы не намереваясь отрываться от работы.) Ну, что скажешь? Где Юджин?
Кандида. В кухне. Моет руки под краном. Из него выйдет чудесный поваренок, если только он сумеет преодолеть свой страх перед Марией.
Морелл (коротко). Гм… да, разумеется. (Снова начинает писать.)
Кандида (подходит ближе, мягко кладет ему руку на рукав). Погоди, милый, дай мне посмотреть на тебя.
Он роняет перо и покоряется.
(Заставляет его подняться, выводит из-за стола и внимательно разглядывает его.) Ну-ка, поверни лицо к свету. (Ставит его против окна.) Мой мальчик неважно выглядит. Он что, слишком много работал? Морелл. Не больше, чем всегда.
Кандида. Он такой бледный, седой, морщинистый и старенький. (Морелл заметно мрачнеет, а она продолжает в нарочито шутливом тоне.) Вот! (Тащит его к креслу.) Довольно тебе писать сегодня. Пусть Просси докончит за тебя, а ты иди поговори со мной.
Морелл. Но…
Кандида (настойчиво). Да, ты должен со мной поговорить. (Усаживает его и садится сама на коврик у его ног.) Ну вот. (Похлопывая его по руке.) Вот у тебя вид уже много лучше. Для чего это тебе каждый вечер ходить читать лекции и выступать на собраниях? Я совсем не вижу тебя по вечерам. Конечно, то, что ты говоришь, это все очень верно и правильно, но ведь это же все попусту. Они ничуточки не считаются с тем, что ты говоришь. Они будто бы со всем согласны, но какой толк в том, что они со всем согласны, если они делают не то, что надо, стоит только тебе отвернуться. Взять хотя бы наших прихожан церкви Святого Доминика. Почему, ты думаешь, они приходят на твои проповеди каждое воскресенье? Да просто потому, что если в течение шести дней они только и занимаются, что делами да загребанием денег, то на седьмой им хочется забыться и отдохнуть, чтобы потом можно было со свежими силами снова загребать деньги еще пуще прежнего. Ты положительно помогаешь им в этом, вместо того чтобы удерживать.
Морелл (решительно и серьезно). Ты отлично знаешь, Кандида, что им нередко здорово достается от меня. Но если это их хождение в церковь для них только развлечение и отдых, почему же они не ищут какого-нибудь более легкомысленного развлечения, чего-нибудь, что более отвечало бы их прихотям? Хорошо уже и то, что они предпочитают пойти в воскресенье к Святому Доминику, а не в какое-нибудь злачное место.
Кандида. О, злачные места по воскресеньям закрыты. А если бы они даже и не были закрыты, они не решаются идти туда – из боязни, что их увидят. Кроме того, Джеймс, дорогой, ты так замечательно проповедуешь, что это все равно что пойти на какое-нибудь представление. Почему, ты думаешь, женщины слушают тебя с таким восторгом?
Морелл (шокированный). Кандида!
Кандида. О, я-то знаю! Ты глупый мальчик. Ты думаешь, это все твой социализм или религия? Но если бы это было так, тогда они бы и делали то, что ты им говоришь, вместо того чтобы приходить и только глазеть на тебя. Ах, у всех у них та же болезнь, что и у Просси.
Морелл. У Просси? Какая болезнь? Что ты хочешь сказать, Кандида?
Кандида. Ну да, у Просси и у всех других твоих секретарш, какие только у тебя были. Почему Просси снисходит до того, чтобы мыть посуду, чистить картошку и делать то, что должно бы ей казаться унизительным, получая при этом на шесть шиллингов меньше, чем она получала в конторе? Она влюблена в тебя, Джеймс, вот в чем дело. Все они влюблены в тебя, а ты влюблен в свои проповеди, потому что ты так замечательно проповедуешь. Ты думаешь, весь этот их энтузиазм из-за Царства Божьего на земле. И они тоже так думают. Ах ты, мой глупенький!
Морелл. Кандида, какой чудовищный, какой разлагающий душу цинизм! Ты что – шутишь? Или… но может ли это быть? – ты ревнуешь?
Кандида (в странной задумчивости). Да, я иногда чувствую, что немножко ревную.
Морелл (недоверчиво). К Просси?
Кандида (смеясь). Нет, нет, нет! Не то что ревную, а огорчаюсь за кого-то, кого не любят так, как должны были бы любить.
Морелл. За меня?
Кандида. За тебя! Да ведь ты так избалован любовью и обожанием, что я просто боюсь, как бы это тебе не повредило! Нет, я имела в виду Юджина.
Морелл (ошеломленный). Юджина?
Кандида. Мне кажется несправедливым, что вся любовь отдается тебе, а ему – ничего, хотя он нуждается в ней гораздо больше, чем ты.
Морелла невольно передергивает.
Что с тобой? Я чем-нибудь расстроила тебя?
Морелл (поспешно). Нет, нет. (Глядя на нее тревожно и настойчиво.) Ты знаешь, что я совершенно уверен в тебе, Кандида.
Кандида. Вот хвастунишка! Ты так уверен в своей привлекательности?
Морелл. Кандида, ты удивляешь меня. Я говорю не о своей привлекательности, а о твоей добродетели, о твоей чистоте, – вот на что я полагаюсь.
Кандида. Фу, как у тебя язык поворачивается говорить мне такие гадкие, такие неприятные вещи! Ты действительно поп, Джеймс, сущий поп!
Морелл (отворачиваясь от нее, потрясенный). Вот то же самое говорит Юджин.
Кандида (оживляясь, прижимается к нему, положив ему руку на колено). О, Юджин всегда прав. Замечательный мальчик! Я очень привязалась к нему за это время в деревне. Ты знаешь, Джеймс, хотя он сам еще ничего не подозревает, но он готов влюбиться в меня без памяти.
Морелл (мрачно). Ах, он не подозревает?
Кандида. Ничуточки. (Снимает руку с его колена и, усевшись поудобней, сложив руки на коленях, погружается в задумчивость.) Когда-нибудь он это поймет, когда будет взрослым и опытным – как ты. И он поймет, что я об этом знала. Интересно, что он тогда подумает обо мне?
Морелл. Ничего дурного, Кандида; я надеюсь и верю – ничего дурного.
Кандида (с сомнением). Это будет зависеть…
Морелл (совершенно сбитый с толку). Зависеть! От чего?
Кандида (глядя на него). Это будет зависеть от того, как у него сложится все.
Морелл недоуменно смотрит на нее.
Разве ты не понимаешь? Это будет зависеть от того, как он узнает, что такое любовь. Я имею в виду женщину, которая откроет ему это.
Морелл (в полном замешательстве). Да… нет… я не понимаю, что ты хочешь сказать.
Кандида (поясняя). Если он узнает это от хорошей женщины, тогда все будет хорошо: он простит меня.
Морелл. Простит?
Кандида. Но представь себе, если он узнает это от дурной женщины, как это случается со многими, в особенности с поэтическими натурами, которые воображают, что все женщины ангелы! Что, если он откроет цену любви только после того, как уже растратит ее зря и осквернит себя в своем неведении? Простит ли он меня тогда, как ты думаешь?
Морелл. Простит тебя – за что?
Кандида (разочарованная его непониманием, но все с той же неизменной нежностью). Ты не понимаешь?
Он качает головой.
(Снова обращается к нему с сердечной доверчивостью.) Я хочу сказать: простит ли он мне, что я не открыла ему этого сама? Что я толкнула его к дурным женщинам во имя моей добродетели – моей чистоты, как ты называешь это? Ах, Джеймс, как плохо ты знаешь меня, если способен говорить, что ты полагаешься на мою чистоту и добродетель. С какой радостью я отдала бы и то и другое бедному Юджину – так же как я отдала бы свою шаль несчастному, продрогшему нищему, – если бы не было чего-то другого, что удерживает меня. Полагайся на то, что я люблю тебя, Джеймс, потому что если это исчезнет, то что мне твои проповеди? Пустые фразы, которыми ты изо дня в день обманываешь себя и других. (Приподнимается, собираясь встать.)
Морелл. Его слова!
Кандида (останавливаясь). Чьи слова?
Морелл. Юджина.
Кандида (восхищенно). Он всегда прав! Он понимает тебя, понимает меня, он понимает Просси, а ты, Джеймс, ты ничего не понимаешь. (Смеется и целует его в утешение.)
Морелл отшатывается, словно его ударили, и вскакивает.
Морелл. Как ты можешь? О Кандида! (В голосе его страдание.) Лучше бы ты проткнула мое сердце раскаленным железом, чем подарить мне такой поцелуй.
Кандида (подымается, испуганно). Дорогой мой, что случилось?
Морелл (вне себя, отмахиваясь от нее). Не трогай меня.
Кандида (в изумлении). Джеймс!
Их прерывает появление Марчбэнкса и Берджесса. Берджесс останавливается у двери, выпучив глаза, в то время как Юджин бросается вперед и становится между ними.
Марчбэнкс. Что случилось?
Морелл (смертельно бледный, сдерживая себя неимоверным усилием). Ничего, кроме того, что или вы были правы сегодня утром, или Кандида сошла с ума.
Берджесс (громогласно протестуя). Как? Что? Канди тоже сошла с ума? Ну, ну! (Он проходит через всю комнату к камину, громко изъявляя свое возмущение, и, остановившись, выколачивает над решеткой пепел из трубки.)
Морелл садится с безнадежным видом, опустив голову на руки и крепко стиснув пальцы, чтобы сдержать дрожь.
Кандида (Мореллу, смеясь, с облегчением). Ах, ты, значит, шокирован – и это все? Какие же вы, однако, рабы условностей, вы, люди с независимыми взглядами!
Берджесс. Слушай, Канди, веди себя прилично. Что подумает о тебе мистер Марчбэнкс?!
Кандида. Вот что получается из нравоучений Джеймса, который говорит мне, что надо жить своим умом и никогда не кривить душой из страха – что подумают о тебе другие. Все идет как по маслу, пока я думаю то же, что думает он. Но стоило мне подумать что-то другое, и вот – посмотрите на него! Нет, вы только посмотрите! (Смеясь, показывает на Морелла. По-видимому, ее это очень забавляет.)
Юджин взглядывает на Морелла и тотчас же прижимает руку к сердцу, как бы почувствовав сильную боль. Он садится на кушетку с таким видом, словно оказался свидетелем трагедии.
Берджесс (у камина). А верно, Джеймс! У вас сегодня далеко не такой внушительный вид, как всегда.
Морелл (со смехом, похожим на рыдание). Полагаю, что нет. Прошу всех извинить меня. Я не подозревал, что стал центром внимания. (Овладевает собой.) Ну хорошо, хорошо, хорошо! (Он идет к своему столу и с решительным и бодрым видом берется за работу.)
Кандида (подходит к кушетке и садится рядом с Марчбэнксом; все в том же шутливом настроении). Ну, Юджин, почему вы такой грустный? Может быть, это мой лук заставил вас всплакнуть?
Марчбэнкс (тихо, ей). Нет, ваша жестокость. Я ненавижу жестокость. Ужасно видеть, как человек заставляет страдать другого.
Кандида (поглаживает его по плечу с ироническим видом). Бедный мальчик! С ним поступили жестоко! Его заставили резать противные красные луковицы!
Марчбэнкс (нетерпеливо). Перестаньте, перестаньте, я говорю не о себе. Вы заставили его ужасно страдать. Я чувствую его боль в своем сердце. Я знаю, что это не ваша вина, – это должно было случиться. Но не шутите этим. Во мне все переворачивается, когда я вижу, что вы мучаете его и смеетесь над ним.
Кандида (в недоумении). Я мучаю Джеймса? Какой вздор, Юджин, как вы любите преувеличивать! Глупенький! (Встревоженная, идет к столу.) Довольно тебе работать, милый, поговори с нами.
Морелл (ласково, но с горечью). Нет, нет. Я не умею разговаривать, я могу только проповедовать.
Кандида (поглаживая его по плечу). Ну иди, прочти нам проповедь.
Берджесс (решительно протестуя). Ах нет, Канди, вот еще недоставало!
Входит Лекси Милл с встревоженным и озабоченным видом.
Лекси (спеша поздороваться с Кандидой). Как поживаете, миссис Морелл? Так приятно видеть вас снова дома.
Кандида. Благодарю вас, Лекси. Вы знакомы с Юджином, не правда ли?
Лекси. О да. Как поживаете, Марчбэнкс?
Марчбэнкс. Отлично, благодарю вас.
Лекси (Мореллу). Я только что из гильдии Святого Матфея. Они в большом смятении от вашей телеграммы.
Кандида. А что за телеграмма, Джеймс?
Лекси (Кандиде). Мистер Морелл должен был выступать у них сегодня вечером. Они сняли большой зал на Мэр-стрит и ухлопали массу денег на плакаты. И вдруг получили его телеграмму, что он сегодня не может приехать. Для них это было как гром среди ясного неба.
Кандида (изумлена, в ней просыпается подозрение, что тут что-то неладно). Отказался выступать?
Берджесс. Похоже, что это первый раз в жизни – а, Канди?
Лекси (Мореллу). Они хотели послать вам срочную телеграмму, узнать, не перемените ли вы свое решение. Вы получили ее?
Морелл (сдерживая нетерпение). Да, да, получил.
Лекси. Телеграмма была с оплаченным ответом.
Морелл. Да. Я знаю. Я уже ответил. Я не могу сегодня.
Кандида. Но почему, Джеймс?
Морелл (почти грубо). Потому что не хочу. Эти люди забывают, что и я человек. Они думают, что я какая-то говорильная машина, которую каждый вечер можно заводить для их удовольствия. Неужели я не могу провести один вечер дома с женой и друзьями?
Все поражены этой вспышкой, кроме Юджина, который сидит с застывшим лицом.
Кандида. Ах, Джеймс, ты не должен придавать значение тому, что я сказала. Ведь если ты не пойдешь, ты завтра будешь мучиться угрызениями совести.
Лекси (робко и настойчиво). Я, конечно, понимаю, что с их стороны просто непозволительно так донимать вас, но они телеграфировали во все концы, чтобы найти другого оратора, и не могли заполучить никого, кроме председателя Лиги агностиков.
Морелл (живо). Ну что ж, прекрасный оратор, чего им еще надо?
Лекси. Но ведь он только и кричит, что социализм несовместим с христианством. Он сведет на нет все, чего мы добились. Конечно, вам лучше знать, но… (Пожимает плечами и идет к камину.)
Кандида (ласково). О, пойди, пожалуйста, Джеймс. Мы все пойдем.
Берджесс (ворчливо). Послушай-ка, Канди! По-моему, давайте лучше посидим по-хорошему дома, у камелька. Ведь он там пробудет часа два, не больше.
Кандида. Тебе будет так же хорошо и на митинге. Мы все усядемся на трибуне, как важные персоны.
Марчбэнкс (в испуге). Пожалуйста, давайте не надо на трибуну – нет, нет, а то все будут смотреть на нас. Я не могу. Я сяду где-нибудь подальше, сзади.
Кандида. Не бойтесь. Они так все будут глазеть на Джеймса, что и не заметят вас.
Морелл. Болезнь Просси – а, Кандида?
Кандида (весело). Да.
Берджесс (заинтересованный). Болезнь Просси? О чем это вы, Джеймс?
Морелл (не обращая на него внимания, встает, идет к двери и, приоткрыв ее, кричит повелительным тоном). Мисс Гарнетт!
Прозерпина (за сценой). Да, мистер Морелл, иду.
Все молча ждут, кроме Берджесса, который отводит в сторону Лекси.
Берджесс. Послушайте-ка, мистер Милл! Чем это больна Просси? Что с ней случилось?
Лекси (конфиденциально). Да я, право, не знаю. Она очень странно разговаривала со мной сегодня утром. Боюсь, что с ней что-то неладно.
Берджесс (остолбенев). Что? Так это, верно, заразное! Четверо в одном доме!
Прозерпина (появляясь в дверях). Да, мистер Морелл?
Морелл. Дайте телеграмму гильдии Святого Матфея, что я приеду.
Прозерпина (удивленно). А разве они не знают, что вы приедете?
Морелл (повелительно). Сделайте, как я вам говорю.
Прозерпина, испуганная, садится за машинку и пишет. Морелл, к которому вернулась вся его энергия и решительность, подходит к Берджессу. Кандида следит за его движениями с возрастающим удивлением и тревогой.
Берджесс, вам не хочется идти?
Берджесс. Ну зачем вы так говорите, Джеймс? Просто ведь сегодня не воскресенье, вы же знаете.
Морелл. Очень жаль. А я думал, вам приятно будет познакомиться с председателем гильдии, он член Комитета общественных работ при муниципальном совете и пользуется кое-каким влиянием при раздаче подрядов.
Берджесс сразу оживляется.
Так вы придете?
Берджесс (с жаром). Ну ясное дело, приду, Джеймс. Еще бы, такое удовольствие вас послушать.
Морелл (поворачиваясь к Просси). Я хочу, чтобы вы кое-что застенографировали, мисс Гарнетт, если вы только не заняты сегодня.
Прозерпина кивает, не решаясь вымолвить ни слова.
Вы пойдете, Лекси, я полагаю?
Лекси. Разумеется.
Кандида. Мы все идем, Джеймс.
Морелл. Нет. Тебе незачем идти. И Юджин не пойдет. Ты останешься здесь и займешь его – чтобы отпраздновать твое возвращение домой.
Юджин встает, у него перехватывает горло.
Кандида. Но, Джеймс…
Морелл (властно). Я настаиваю. Тебе незачем идти, и ему тоже незачем.
Кандида пытается возразить.
Вы можете не беспокоиться, у меня будет масса народу и без вас. Ваши стулья пригодятся кому-нибудь из необращенных, из тех, кому еще ни разу не приходилось слышать мою проповедь.
Кандида (встревоженная). Юджин, а разве вам не хочется пойти?
Морелл. Я опасаюсь выступать перед Юджином, он так критически относится к проповедям (глядит на него), он знает, что я боюсь его. Он мне сказал это сегодня утром. Так вот, я хочу показать ему, как я его боюсь: я оставляю его на твое попечение, Кандида.
Марчбэнкс (про себя с живым чувством). Вот это смело! Это великолепно!
Кандида (в беспокойстве). Но… но… что такое случилось, Джеймс? (В смятении.) Я ничего не понимаю.
Морелл (нежно обнимает ее и целует в лоб). А я думал, дорогая, что это я ничего не понимаю.
Действие третье
Вечер, одиннадцатый час. Шторы опущены. Горят лампы. Машинка накрыта колпаком. Большой стол приведен в порядок. По всему видно, что деловой день кончен. Кандида и Марчбэнкс у камина. Настольная лампа стоит на каминной полке над Марчбэнксом, который сидит на маленьком стульчике и читает вслух. Несколько исписанных листков и два-три томика стихов лежат около него на ковре. Кандида в кресле. В руке у нее блестящая медная кочерга, которую она держит стоймя. Она сидит, откинувшись на спинку кресла, вытянув ноги к огню, и пристально смотрит на кончик кочерги. Мысли ее витают где-то далеко.
Марчбэнкс (прерывая свою декламацию). Каждый поэт, который когда-нибудь жил на земле, пытался выразить эту мысль в сонете. Это неизбежно. Это само собой так выходит. (Он смотрит на Кандиду, ожидая ответа, и замечает, что она не отрываясь глядит на кочергу.) Вы не слушаете?
Ответа нет.
Миссис Морелл!
Кандида (очнувшись). А?
Марчбэнкс. Вы не слушаете?
Кандида (виновато, с преувеличенной учтивостью). Да нет, что вы! Это очень мило. Продолжайте, Юджин! Я жажду узнать, что случилось с ангелом.
Марчбэнкс (роняет листок на пол). Простите меня, я вижу, что надоел вам.
Кандида. Да нет, ничуточки не надоели, уверяю вас. Продолжайте, пожалуйста. Читайте, Юджин.
Марчбэнкс. Я кончил читать стихи об ангеле по крайней мере четверть часа тому назад. После этого я успел прочесть еще несколько стихов.
Кандида (с раскаянием в голосе). Мне очень стыдно, Юджин. Я думаю, это кочерга так загипнотизировала меня. (Опускает кочергу на пол.)
Марчбэнкс. Она и меня ужасно смущала.
Кандида. Так почему же вы не сказали мне? Я бы сразу положила ее.
Марчбэнкс. А я боялся вас смутить. Она была словно какое-то оружие. Если бы я был героем из старинного предания, я положил бы между нами мой обнаженный меч. Если б вошел Морелл, он подумал бы, что вы нарочно взяли кочергу, потому что между нами нет обнаженного меча.
Кандида (удивленно). Что? (Глядя на него с недоумением.) Я что-то не совсем понимаю. У меня как-то все перепуталось от этих ваших сонетов. Почему между нами должен быть меч?
Марчбэнкс (уклончиво). Да нет, ничего. (Нагибается за листком).
Кандида. Положите его обратно, Юджин. Есть пределы моей любви к поэзии, даже к вашей поэзии. Вы читаете мне уже больше двух часов – с тех пор, как ушел Джеймс. Мне хочется поговорить.
Марчбэнкс (испуганно поднимается). Нет, мне нельзя разговаривать. (Растерянно озирается кругом и внезапно заявляет.) Я думаю, мне лучше пойти погулять в парке. (Делает шаг к двери.)
Кандида. Глупости. Парк уже давно закрыт. Подите и сядьте вот здесь, на коврике у камина, и рассказывайте мне всякий фантастический вздор, как вы это всегда делаете. Развлекайте меня. Ну, хотите?
Марчбэнкс (в ужасе и экстазе). Да!
Кандида. Тогда идите сюда. (Отодвигает свой стул, чтобы освободить место.)
Юджин колеблется, потом нерешительно растягивается на ковре лицом вверх, положив голову ей на колени, и смотрит на нее.
Марчбэнкс. Ах, я чувствовал себя таким несчастным весь вечер оттого, что поступал так, как надо, а теперь я поступаю так, как не надо, – и я счастлив.
Кандида (нежно и в то же время слегка забавляясь). Да? Я уверена, что вы чувствуете себя страшно взрослым, дерзким и искусным обманщиком и очень гордитесь этим.
Марчбэнкс (быстро поднимая голову и глядя ей в глаза). Берегитесь! Если бы вы только знали, насколько я старше вас. (Становится перед ней на колени, стискивает руки, кладет их ей на колени и говорит с нарастающим жаром, чувствуя, что кровь в нем закипает.) Можно мне сказать вам одну дерзкую вещь?
Кандида (без малейшего страха или холодности, с глубоким уважением к его чувству, но с оттенком мудрой материнской шутливости). Нет. Но вы можете сказать мне все, что вы по-настоящему, искренне чувствуете. Все что угодно. Я не боюсь, если только это будет ваше истинное «я» и не будет позой – любезной, дерзкой или даже поэтической позой. Я обращаюсь к вашему благородству и правдивости. Ну, а теперь говорите все, что хотите.
Марчбэнкс (нетерпеливое выражение исчезает с его лица, губы и ноздри перестают дрожать, а глаза загораются пламенным воодушевлением). О, теперь уж я ничего не могу сказать. Все слова, которые я знаю, все они – та или другая поза; все, кроме одного.
Кандида. Что же это за слово?
Марчбэнкс (мягко, погружаясь в музыку этого имени). Кандида, Кандида, Кандида, Кандида, Кандида… Я должен теперь называть вас так, потому что вы приказали мне быть честным и правдивым, а у меня ни в мыслях, ни в чувствах нет никакой миссис Морелл, а всегда – Кандида.
Кандида. Конечно. А что вы хотите сказать Кандиде?
Марчбэнкс. Ничего – только повторять ваше имя тысячу раз. Разве вы не чувствуете, что всякий раз – это словно молитва к вам?
Кандида. А вы счастливы тем, что можете молиться?
Марчбэнкс. Да, очень.
Кандида. Ну так, значит, это счастье – ответ на вашу молитву. А вам хочется чего-нибудь еще?
Марчбэнкс. Нет. Я на небе, где нет желаний!
Входит Морелл. Он останавливается на пороге и сразу замечает эту сцену.
Морелл (спокойно и сдержанно). Надеюсь, я не помешал вам?
Кандида от неожиданности вскакивает, но не обнаруживает ни малейшего смущения и тут же смеется над собой. Юджин, который от ее резкого движения растягивается на полу, спокойно садится, обхватив руками колени. Он тоже нисколько не смущен.
Кандида. Ах, Джеймс, и напугал же ты меня! Я так увлеклась здесь с Юджином, что не слыхала, как ты отпирал дверь. Ну, как прошел митинг? Ты хорошо говорил?
Морелл. Так хорошо, как никогда в жизни.
Кандида. Вот это замечательно! Какой же был сбор?
Морелл. Забыл спросить.
Кандида (Юджину). Должно быть, это была великолепная речь, иначе он бы не забыл. (Мореллу.) А где же остальные?
Морелл. Они ушли задолго до того, как мне удалось выбраться оттуда. Я уж думал, что мне никогда не удастся уйти. Я полагаю, они отправились куда-нибудь ужинать.
Кандида (деловитым домашним тоном). В таком случае Мария может лечь спать. Пойду скажу ей. (Идет в кухню.)
Морелл (глядя сурово на Марчбэнкса). Ну?
Марчбэнкс (сидит на ковре скорчившись, скрестив ноги; он держится с Мореллом совершенно непринужденно и даже лукаво посмеивается). Ну?
Морелл. Вы хотите мне что-нибудь сказать?
Марчбэнкс. Да только то, что я разыгрывал дурака здесь, в гостиной, в то время как вы проделывали это публично.
Морелл. Но несколько иным способом, полагаю?
Марчбэнкс (вскакивая, говорит с жаром). Точно, точно, точно таким же! Совершенно так же, как вы, я разыгрывал из себя добродетельного человека. Когда вы тут развели вашу героику насчет того, чтобы оставить меня наедине с Кандидой…
Морелл (невольно). С Кандидой?
Марчбэнкс. Да. Видите, как я далеко зашел! Но не бойтесь. Героика, знаете, вещь заразительная – и я заразился от вас этой немощью. Я поклялся не произносить без вас ни одного слова, которое я не мог бы произнести месяц назад, и притом в вашем присутствии.
Морелл. И вы сдержали вашу клятву?
Марчбэнкс (внезапно вскакивает и усаживается на спинку кресла). Да, более или менее, – я изменил ей всего лишь за десять минут до вашего появления. А до этой минуты я как проклятый читал стихи – собственные, еще чьи-то, – только чтобы не заговорить. Я стоял перед вратами рая, не пытаясь войти. Вы представить себе не можете, как это было героично и до чего противно. А потом…
Морелл (с трудом сдерживая нетерпение). Потом?
Марчбэнкс (спокойно съезжая со спинки кресла на сиденье). Потом ей уж стало невтерпеж слушать стихи.
Морелл. И вы в конце концов приблизились к вратам рая?
Марчбэнкс. Да.
Морелл. Как? (Исступленно.) Да отвечайте же! Неужели у вас нет сострадания ко мне?
Марчбэнкс (мягко и мелодично). И тут она превратилась в ангела, и вспыхнул огненный меч, и он сверкал повсюду, – и я не мог войти, потому что я увидел, что эти врата были в действительности вратами ада.
Морелл (торжествующе). Она оттолкнула вас!
Марчбэнкс (вскакивая с гневным презрением). Да нет! Какой же вы болван! Если бы она это сделала, разве я мог бы чувствовать себя в раю? Оттолкнула! Вы думаете, это спасло бы нас – такое добродетельное возмущение?! Вы просто недостойны существовать в одном мире с ней! (Презрительно повернувшись, уходит в другой конец комнаты.)
Морелл (наблюдает за ним, не двигаясь с места). Вы думаете, вам придает достоинства то, что вы меня оскорбляете, Юджин?
Марчбэнкс. На чем и оканчивается ваше тысяча первое поучение, Морелл! В конце концов, ваши проповеди меня мало восхищают. Я думаю, что и сам мог бы это делать, и получше. Человек, с которым я хотел бы помериться, это тот, за кого Кандида вышла замуж.
Морелл. Человек… за кого?.. Вы имеете в виду меня?
Марчбэнкс. Я имею в виду не достопочтенного Джеймса Мэвора Морелла, резонера и пустослова. Я имею в виду настоящего человека, которого достопочтенный Джеймс прячет где-то под своей черной рясой. Человека, которого полюбила Кандида. Не могла же такая женщина, как Кандида, полюбить вас только за то, что вы застегиваете свой ворот сзади, а не спереди.
Морелл (смело и решительно). Когда Кандида отдала мне свою руку, я был тем же резонером и пустословом, что и сейчас. И я носил вот эту черную рясу и застегивал свой ворот сзади, а не спереди. Вы думаете, я больше заслужил бы ее любовь, если бы не был искренним в своей профессии?
Марчбэнкс (на кушетке, обняв руками колени). О, она простила вам это так же, как она прощает мне, что я трус и рохля, и то, что вы называете – жалкий, трусливый щенок, и прочее. (Мечтательно.) У такой женщины, как она, божественный дар ясновидения. Она любит наши души, а не наши безумства, прихоти или иллюзии, не наши воротники, и одежду, и прочее тряпье и лохмотья, которыми мы прикрыты. (Задумывается на мгновение, затем обращается к Мореллу и спрашивает в упор.) Что мне хотелось бы знать, так это – как вам удалось переступить через огненный меч, который остановил меня?
Морелл. Может быть, все объясняется тем, что меня не прервали через десять минут?
Марчбэнкс (возмущенно). Что?
Морелл. Человек может подняться на самые высокие вершины, но долго пребывать там он не может.
Марчбэнкс (вскакивая). Неправда. Он может пребывать там вечно, и только там! А в те минуты, когда он не там, он не может ощущать ни покоя, ни тихого величия жизни. Где же, по-вашему, должен я быть, как не на вершине?
Морелл. В кухне, крошить лук, наливать лампы.
Марчбэнкс. Или с кафедры заниматься чисткой дешевых глиняных душ?
Морелл. Да, и там тоже. Именно там я заслужил свою золотую минуту и право в такую минуту добиваться ее любви. Я не брал этих минут в долг и не пользовался ими, чтобы воровать чужое счастье.
Марчбэнкс (с отвращением поворачивается и идет к камину). Не сомневаюсь, что эта сделка была проведена вами с такой же честностью, с какой вы покупаете фунт сыру. (Останавливается, не доходя до ковра, и, стоя спиной к Мореллу, говорит в задумчивости, словно самому себе.) А я мог только молить ее, как нищий.
Морелл (вздрагивая). Продрогший нищий, который просит у нее шаль.
Марчбэнкс (обернувшись, удивленно). Вы очень любезны, что вспоминаете мои стихи. Да, если хотите: продрогший нищий, который просит у нее шаль.
Морелл (возбужденно). И она отказала вам. Хотите, я вам скажу, почему она отказала? Я могу вам это сказать. И с ее собственных слов. Она отказала вам, потому что…
Марчбэнкс. Она не отказывала.
Морелл. Нет?
Марчбэнкс. Она предлагала мне все, о чем бы я ни попросил. Свою шаль, свои крылья, звездный венец на ее голове, лилии в ее руках, лунный серп под ее ногами.
Морелл (хватая его). Да ну, говорите напрямик. Моя жена – это, в конце концов, моя жена. Хватит с меня ваших поэтических фокусов. Я знаю одно – если я потерял ее любовь, а вы приобрели ее, то никакой закон не может удержать ее.
Марчбэнкс (посмеиваясь, без всякого страха и не сопротивляясь). Хватайте меня прямо за шиворот, Морелл, – она поправит мой воротник, как она это сделала сегодня утром. (В тихом экстазе.) Я почувствую, как ее руки коснутся меня.
Морелл. Вы, гадкий чертенок, как вы решаетесь говорить мне такие вещи? Или (с внезапным подозрением) было что-то, от чего вы расхрабрились?
Марчбэнкс. Я вас больше не боюсь. Я не любил вас раньше, поэтому меня всего передергивало от вашего прикосновения. Но сегодня, когда она мучила вас, я понял, что вы любите ее. С этой минуты я стал вашим другом. Можете задушить меня, если хотите.
Морелл (отпуская его). Юджин, если это не самая бессердечная ложь, если в вас есть хоть искра человеческого чувства, скажите мне, что здесь произошло, пока меня не было дома?
Марчбэнкс. Что произошло? Ну вот – пылающий меч…
Морелл в нетерпении топает ногой.
Ну хорошо, я буду говорить самой деревянной прозой. Я люблю ее так упоительно, что не мыслил никакого другого блаженства, кроме того, которое давала мне эта любовь. И прежде чем я успел спуститься с этих необъятных высот, появились вы.
Морелл (мучаясь). Значит, еще ничего не решено? Все те же мучительные сомнения?
Марчбэнкс. Мучительные? Я счастливейший из людей. Я не желаю ничего, кроме ее счастья. (В порыве чувства.) Ах, Морелл, давайте оба откажемся от нее! Зачем заставлять ее выбирать между жалким, неврастеническим заморышем вроде меня и чугунно-болванным попом вроде вас? Давайте отправимся в паломничество – вы на восток, я на запад – в поисках достойного возлюбленного для нее. Какого-нибудь прекрасного пурпурнокрылого архангела!
Морелл. Какого-нибудь проходимца. Если она до того потеряла голову, что может покинуть меня ради вас, кто же защитит ее? Кто поможет ей? Кто будет работать для нее? Кто будет отцом ее детям? (Растерянно садится на кушетку и, опершись локтями о колени, подпирает голову кулаками.)
Марчбэнкс (хрустя пальцами в неистовстве). Она не задает таких идиотских вопросов. Она сама хочет защищать кого-то, кому-то помогать, работать для этого человека, и чтобы он дал ей детей, которых она могла бы защищать, помогать им и работать для них. Взрослого человека, который стал ребенком. Ах вы, тупица, тупица, трижды тупица! Я – этот человек, Морелл! Я – этот человек. (Приплясывает в возбуждении, выкрикивая.) Вы не понимаете, что такое женщина. Позовите ее, Морелл, позовите ее, и пусть она выберет между…
Дверь открывается, и входит Кандида. Он застывает на месте, словно остолбенев.
Кандида (в изумлении на пороге). Силы небесные! Юджин, что с вами?
Марчбэнкс (дурашливо). Мы тут с Джеймсом состязались по части проповедей. И я разбил его в пух и прах.
Кандида быстро оглядывается на Морелла; видя, что он расстроен, она бросается к нему в явном огорчении.
Кандида. Вы его обидели? Чтобы этого больше не было, Юджин! Слышите! (Кладет руку на плечо Мореллу, в своем огорчении даже утрачивая чувство супружеского такта.) Я не хочу, чтобы моего мальчика обижали. Я буду защищать его.
Морелл (поднимается торжествующе). Защищать!
Кандида (не глядя на него, Юджину). Что вы тут ему наговорили?
Марчбэнкс (испуганно). Ничего… Я…
Кандида. Юджин! Ничего?
Марчбэнкс (жалобно). Я хотел сказать. Простите… Я больше не буду. Правда, не буду. Я не буду к нему приставать.
Морелл (в негодовании, с угрожающим видом порывается к Юджину). Вы не будете ко мне приставать? Ах вы, молокосос!..
Кандида (останавливая его). Ш-ш! Не надо. Я сама поговорю с ним.
Марчбэнкс. О, вы не сердитесь на меня? Скажите!..
Кандида (строго). Да, сержусь, очень сержусь. И даже намерена выгнать вас вон отсюда.
Морелл (пораженный резкостью Кандиды и отнюдь не соблазняясь перспективой быть спасенным ею от другого мужчины). Успокойся, Кандида, успокойся. Я и сам могу постоять за себя.
Кандида (гладит его по плечу). Ну да, милый, конечно, ты можешь. Но я не хочу, чтобы тебя расстраивали и огорчали.
Марчбэнкс (чуть не плача, направляется к двери). Я уйду.
Кандида. Вам совершенно незачем уходить. Я не могу позволить вам уйти в такой поздний час. (Сердито.) Постыдитесь, вам должно быть стыдно.
Марчбэнкс (в отчаянии). Что же я сделал?
Кандида. Я знаю, что вы сделали; и знаю так хорошо, как если бы я все время была здесь. Это недостойно! Вы настоящий ребенок. Вы не способны держать язык за зубами.
Марчбэнкс. Я готов скорей десять раз умереть, чем огорчить вас хоть на одно мгновение.
Кандида (с крайним презрением к этой ребячливости). Много мне толку от того, что вы за меня будете умирать!
Морелл. Кандида, милая, подобные пререкания становятся просто неприличными. Это вопрос, который решают между собой мужчины. Я и должен его решать.
Кандида. Это, по-твоему, мужчина? (Юджину.) Скверный мальчишка!
Марчбэнкс (обретая от этой головомойки какую-то своенравную и трогательную храбрость). Если меня распекают, как мальчишку, значит, я могу оправдываться, как мальчишка. Он начал первый! А он старше меня.
Кандида (несколько теряя свою самоуверенность, едва только у нее возникает подозрение, что Морелл уронил свое достоинство). Этого не может быть. (Мореллу.) Джеймс, ведь не ты начал, правда?
Морелл (презрительно). Нет!
Марчбэнкс (возмущенно). Ого!
Морелл (Юджину). Вы начали это сегодня утром!
Кандида, тотчас же связывая эти слова с теми таинственными намеками, которые Морелл ей делал еще днем, взглядывает на Юджина с подозрением.
(Продолжает с пафосом оскорбленного превосходства.) Но в другом вы правы. Из нас двоих я старше и, надеюсь, сильнее, Кандида. Так что тебе уж лучше предоставить это дело мне.
Кандида (снова стараясь успокоить его). Да, милый. Но… (озабоченно) я не понимаю, что ты говоришь о сегодняшнем утре?
Морелл (мягко останавливая ее). Тебе и нечего понимать, дорогая.
Кандида. Послушай, Джеймс, я…
Раздается звонок.
Вот досада! Это они! (Идет открывать дверь.)
Марчбэнкс (подбегая к Мореллу). Ах, Морелл, как все ужасно! Она сердится на нас! Она ненавидит меня! Что мне делать?
Морелл (с преувеличенным отчаянием хватается за голову). Юджин, у меня голова идет кругом! Я, кажется, сейчас начну хохотать! (Бегает взад и вперед по комнате.)
Марчбэнкс (беспокойно бегает за ним). Нет, нет, она подумает, что я довел вас до истерики. Пожалуйста, не хохочите.
Раздаются, приближаясь, громкие голоса, смех. Лекси Милл, с блестящими глазами, в явно приподнятом настроении, входит одновременно с Берджессом. У Берджесса самодовольный вид, физиономия его лоснится, но он вполне владеет собой. Мисс Гарнетт, в самой своей нарядной шляпке и жакетке, входит за ними следом, и, хотя глаза ее сверкают ярче, чем обычно, ей, по-видимому, как-то не по себе. Она становится спиной к своему столику и, опершись на него одной рукой, другой проводит по лбу, как бы чувствуя усталость и головокружение. Марчбэнкс, снова одолеваемый застенчивостью, отходит в угол около окна, где стоят книги Морелла.
Лекси (возбужденно). Морелл, я должен поздравить вас! (Трясет ему руку.) Какая замечательная, вдохновенная, прекрасная речь! Вы превзошли самого себя.
Берджесс. Верно, Джеймс! Я не проронил ни одного слова. Ни разу даже не зевнул. Не правда ли, мисс Гарнетт?
Прозерпина (досадливо). Ах, было мне время смотреть на вас. Я только старалась поспеть со стенограммой. (Вынимает блокнот, смотрит на свои записи и при виде их готова расплакаться.)
Морелл. Что, Просси, я чересчур быстро говорил?
Прозерпина. Чересчур! Вы знаете, я не могу записывать больше девяноста слов в минуту. (Дает выход своим чувствам, сердито швыряя блокнот на машинку: ее работа на завтра.)
Морелл (успокаивающе). Ну ничего, ничего, ничего. Не огорчайтесь. Вы ужинали? Все?
Лекси. Мистер Берджесс был до того любезен, что угостил нас роскошным ужином в «Бельгреве».
Берджесс (великодушно). Ну стоит ли говорить об этом, мистер Милл! Я очень рад, что вам понравилось мое скромное угощение.
Прозерпина. Мы пили шампанское! Я никогда его не пробовала. У меня совсем закружилась голова.
Морелл (удивленно). Ужин с шампанским! Вот это замечательно. Что же, это мое красноречие привело к такому сумасбродству?
Лекси (риторически). Ваше красноречие и доброе сердце мистера Берджесса. (Снова воодушевляясь.) А какой замечательный человек этот председатель! Он ужинал вместе с нами.
Морелл (многозначительно, глядя на Берджесса). А-а-а! Председатель! Теперь я понимаю.
Берджесс сдержанно покашливает, чтобы скрыть свое торжество по поводу одержанной им дипломатической победы. Лекси, скрестив руки, с вдохновенным видом прислоняется к изголовью кушетки, чтобы удержать равновесие. Входит Кандида с подносом в руках, на котором стаканы, лимоны и кувшин с горячей водой.
Кандида. Кто хочет лимонаду? Вы знаете наши правила – полнейшее воздержание. (Ставит поднос на стол и берет выжималку для лимона, вопросительно оглядывая присутствующих.)
Морелл. Напрасно ты хлопочешь, дорогая. Они все пили шампанское. Прозерпина нарушила свой обет.
Кандида. Неужели это правда, вы пили шампанское?
Прозерпина (строптиво). Да, пила. Я давала зарок не пить только пиво, а это – шампанское. Терпеть не могу пива. У вас есть срочные письма, мистер Морелл?
Морелл. Нет, сегодня ничего не нужно.
Прозерпина. Очень хорошо. Тогда – покойной ночи всем.
Лекси (галантно). Может быть, проводить вас, мисс Гарнетт?
Прозерпина. Нет, благодарю вас. Сегодня я ни с кем не решусь пойти. Лучше бы я не пила этой отравы. (Неуверенно нацеливается на дверь и ныряет в нее с опасностью для жизни.)
Берджесс (в негодовании). Отрава! Подумайте! Эта особа не знает, что такое шампанское. «Поммери» и «Грино» – двенадцать шиллингов шесть пенсов бутылка! Она выпила два бокала почти залпом.
Морелл (встревоженно). Пойдите проводите ее, Лекси.
Лекси (в смятении). Но если она и в самом деле… Вдруг она начнет петь на улице или что-нибудь в этом роде?
Морелл. Вот то-то и есть. Может случиться. Поэтому вам и надо доставить ее домой.
Кандида. Пожалуйста, Лекси! Будьте добрым мальчиком. (Пожимает ему руку и тихонько подталкивает его к двери.)
Лекси. По-видимому, таков мой долг. Надеюсь, в этом не будет прямой необходимости. Спокойной ночи, миссис Морелл. (К остальным.) До свиданья. (Уходит.)
Кандида закрывает за ним дверь.
Берджесс. Его развезло от благочестия после двух глотков. Нет, разучились люди пить! (Торопливо идет к камину.) Ну, Джеймс, пора закрывать лавочку. Мистер Марчбэнкс, может быть, вы составите мне компанию, нам по дороге?
Марчбэнкс (встрепенувшись). Да. Я думаю, мне лучше уйти. (Поспешно идет к двери, но Кандида становится перед дверью, загораживая ему дорогу.)
Кандида (спокойно, повелительным тоном). Сядьте. Вам еще рано уходить.
Марчбэнкс (струхнув). Нет, я… я и не собирался. (Возвращается и с несчастным видом садится на кушетку.)
Кандида. Мистер Марчбэнкс останется у нас ночевать, папа.
Берджесс. Отлично. В таком случае покойной ночи. Всего доброго, Джеймс. (Пожимает руку Мореллу и подходит к Юджину.) Скажите им, чтобы они дали вам ночник, мистер Марчбэнкс. На случай, если вдруг ночью у вас опять будут эти ваши кошмары… Покойной ночи!
Марчбэнкс. Благодарю вас. Попрошу. Покойной ночи, мистер Берджесс!
Они жмут друг другу руки. Берджесс идет к двери.
Кандида (окликая Морелла, который идет провожать Берджесса). Не ходи, милый. Я подам папе пальто. (Уходит с Берджессом.)
Марчбэнкс (встает и крадучись подходит к Мореллу). Морелл! Сейчас будет ужасная сцена, вы не боитесь?
Морелл. Нимало.
Марчбэнкс. Никогда я до сих пор не завидовал вашему мужеству. (Он умоляюще кладет руку на рукав Мореллу.) Заступитесь за меня.
Морелл (решительно отстраняя его). Каждый за себя, Юджин, Она ведь должна выбрать между нами.
Возвращается Кандида. Юджин снова садится на кушетку, точно провинившийся школьник.
Кандида (становится между ними и обращается к Юджину). Вы раскаиваетесь?
Марчбэнкс (пылко). Да, от всего сердца.
Кандида. Хорошо, тогда вы прощены. Теперь отправляйтесь спать, как послушный мальчик. Я хочу поговорить о вас с Джеймсом.
Марчбэнкс (подымаясь в смятении). О, я не могу, Морелл! Я должен быть здесь. Я никуда не уйду. Скажите ей.
Кандида (подозрение которой переходит в уверенность). Сказать мне? А что? (Он испуганно отводит глаза, она оборачивается и, не произнося ни слова, обращается с таким же вопросом к Мореллу.)
Морелл (мужественно приготовившись встретить катастрофу). Мне нечего сказать ей, кроме… (здесь голос его становится глубоким и приобретает оттенок рассчитанно проникновенной нежности) того, что она мое величайшее сокровище на земле – если она действительно моя.
Кандида (холодно, оскорбленная тем, что он впадает в свой ораторский тон и обращается к ней, точно она аудитория гильдии Святого Матфея). Если это все, то не сомневаюсь, что Юджин может сказать мне не меньше.
Марчбэнкс (в унынии). Она смеется над нами, Морелл.
Морелл (готов вспылить). Тут нет ничего смешного. Разве ты смеешься над нами, Кандида?
Кандида (со сдержанным недовольством). От Юджина ничего не укроется, Джеймс, – я надеюсь, что мне можно посмеяться. Но я боюсь, как бы мне не пришлось рассердиться, и всерьез рассердиться. (Идет к камину и останавливается, опершись рукой на карниз и поставив ногу на решетку, между тем как Юджин тихонько подходит к Мореллу и дергает его за рукав.)
Марчбэнкс (шепчет). Стойте, Морелл, давайте ничего не будем говорить!
Морелл (отталкивая Юджина, даже не удостоив его взглядом). Надеюсь, это не угроза, Кандида?
Кандида (выразительно). Берегись, Джеймс! Юджин, я просила вас уйти. Вы идете?
Морелл (топая ногой). Он не уйдет! Я хочу, чтобы он остался.
Марчбэнкс. Я ухожу. Я сделаю все, что она хочет. (Поворачивается к двери.)
Кандида. Стойте!
Юджин повинуется.
Вы разве не слышали? Джеймс сказал, чтобы вы остались. Джеймс – хозяин здесь. Разве вы этого не знаете?
Марчбэнкс (вспыхивает свойственным юному поэту бешенством против тирании). По какому праву он хозяин?
Кандида (спокойно). Скажи ему, Джеймс.
Морелл (в замешательстве). Дорогая моя, я не знаю, по какому праву я здесь хозяин. Я не претендую на такие права.
Кандида (с бесконечным упреком). Ты не знаешь… Ах, Джеймс, Джеймс! (Задумчиво, Юджину.) Ну, а вы понимаете это, Юджин?
Он беспомощно качает головой, не смея взглянуть на нее.
Нет, вы слишком молоды. Ну хорошо, я позволяю вам остаться. Останьтесь и учитесь. (Отходит от камина и становится между ними.) Ну, Джеймс, так в чем же дело? Расскажи.
Марчбэнкс (прерывающимся шепотом Мореллу). Не рассказывайте!
Кандида. Ну, я слушаю.
Морелл (медленно). Я хотел подготовить тебя осторожно, Кандида, чтобы ты не поняла меня превратно.
Кандида. Да, милый. Я не сомневаюсь, что ты этого хотел. Но это не важно. Я пойму так, как надо.
Морелл. Так вот… гм… гм… (Мнется, силясь начать издалека, и не знает, как приступить к этому объяснению, чтобы оно вышло достаточно убедительным.)
Кандида. Так как же?
Морелл (неожиданно для себя выпаливает). Юджин заявляет, что ты любишь его.
Марчбэнкс (в исступлении). Нет, нет, нет – никогда! Я не говорил этого, миссис Морелл, это неправда! Я сказал, что я люблю вас. Я сказал, что я понимаю вас, а что он не может вас понять. И все это я говорил не после того, что произошло здесь, у камина, – нет, нет, честное слово! Это было утром.
Кандида (начинает понимать). Ах утром!
Марчбэнкс. Да! (Смотрит на нее, моля о доверии, и затем просто добавляет.) Вот почему мой воротник был в таком виде.
Кандида (до нее не сразу доходит смысл его слов). Воротник? (Поворачивается к Мореллу.) О, Джеймс, неужели ты… (Замолкает.)
Морелл (пристыженный). Ты знаешь, Кандида, я не всегда могу совладать с собой. А он сказал (вздрагивая), что ты меня презираешь в сердце своем.
Кандида (быстро, Юджину). Вы это сказали?
Марчбэнкс (перепуганно). Нет.
Кандида (строго). Значит, Джеймс лжет? Вы это хотите сказать?
Марчбэнкс. Нет! Нет! Я… я… (Выпаливает в отчаянии.) Это жена Давида. И это не дома было. Это было, когда она видела, как он пляшет перед народом.
Морелл (подхватывая реплику с ловкостью искусного спорщика). Пляшет перед всем народом, Кандида… и думает, что он трогает их сердца своим искусством, тогда как у них это – только… болезнь Просси! (Кандида собирается протестовать, он поднимает руку, чтобы заставить ее замолчать.) Не старайся делать вид, будто ты возмущена, Кандида!
Кандида. Делать вид?
Морелл (продолжает). Юджин абсолютно прав. Как ты мне сказала несколько часов тому назад, он всегда прав! Он не говорит ничего, чего бы уже не говорила ты, – и гораздо лучше его. Он поэт, который видит все. А я бедный поп, который ничего не понимает.
Кандида (раскаиваясь). И ты можешь придавать значение тому, что говорит этот сумасшедший мальчишка, потому что я в шутку говорю что-то похожее?
Морелл. У этого сумасшедшего мальчишки наитие младенца и мудрость змия! Он говорит, что ты принадлежишь ему, а не мне; и – прав он или не прав – я начал бояться, что это может оказаться правдой. Я не хочу мучиться сомнениями или подозрениями, я не хочу жить рядом с тобой и что-то скрывать от тебя. Я не хочу подвергаться унизительным пыткам ревности. Мы сговорились с ним, он и я, что ты выберешь одного из нас. Я жду решенья.
Кандида (медленно отступая на шаг, слегка раздраженная этой риторикой, несмотря на искреннее чувство, которое слышится за ней). Ах, так мне, значит, придется выбирать! Вот как! Надо полагать, это уж вопрос совершенно решенный и я обязательно должна принадлежать одному из вас?
Морелл (твердо). Да, безусловно. Ты должна выбрать раз и навсегда.
Марчбэнкс (взволнованно). Морелл, вы не понимаете: она хочет сказать, что она принадлежит самой себе!
Кандида. Да, я хочу сказать это и еще многое другое, мистер Юджин, как вы это сейчас оба узнаете. А теперь, мои лорды и повелители, что же вам угодно предложить за меня? Меня сейчас как будто продают с аукциона. Что ты даешь за меня, Джеймс?
Морелл (укоризненно). Канди… (Силы его иссякли, глаза наполняются слезами, в горле комок, оратор превращается в раненое животное.) Я не могу говорить…
Кандида (невольно бросаясь к нему). Родной мой!..
Марчбэнкс (в совершенном неистовстве). Стойте! Это нечестно! Вы не должны ей показывать, что вы страдаете, Морелл. Я тоже как на дыбе, но я не плачу!..
Морелл (собирая все свои силы). Да, вы правы. Я прошу не жалости. (Отстраняет Кандиду.)
Кандида (отходит от него, расхоложенная). Прошу прощения, Джеймс, я тебя не трогаю. Я жду, что ты дашь за меня.
Морелл (с гордым смирением). Мне нечего предложить тебе, кроме моей силы для твоей защиты, моей честности для твоего спокойствия, моих способностей и труда для твоего существования, моего авторитета и положения для твоего достоинства. Это все, что подобает мужчине предложить женщине.
Кандида (совершенно невозмутимо). А вы, Юджин, что вы можете предложить?
Марчбэнкс. Мою слабость, мое одиночество, мое безутешное сердце.
Кандида (тронутая). Это хорошая цена, Юджин. Теперь я знаю, кого я выберу. (Умолкает и с интересом переводит взгляд с одного на другого, словно взвешивая их.)
Морелл, выспренняя самоуверенность которого переходит в невыносимый ужас, когда он слышит, что дает за Кандиду Юджин, уже не в силах скрывать свое отчаяние. Юджин, в страшном напряжении, застыл неподвижный.
Морелл (задыхаясь, с мольбой, голосом, который рвется из глубины его отчаяния). Кандида!
Марчбэнкс (в сторону, вспыхивая презрением). Трус!
Кандида (многозначительно). Я отдам себя слабейшему из вас двоих.
Юджин сразу угадывает, что она хочет сказать, лицо его белеет, как сталь в горниле.
Морелл (опускает голову, застывая в оцепенении). Я принимаю твой приговор, Кандида.
Кандида. Вы меня поняли, Юджин?
Марчбэнкс. О, я чувствую, что обречен! Ему это было бы не по силам.
Морелл (вскинув голову, говорит, не веря, каким-то деревянным голосом). Так ты обо мне говорила, Кандида?
Кандида (чуть-чуть улыбаясь). Давайте сядем и поговорим спокойно, как трое хороших друзей. (Мореллу.) Сядь, милый.
Морелл, растерянный, придвигает от камина детский стульчик.
Дайте-ка мне то кресло, Юджин! (Показывает на кресло.)
Он молча приносит кресло, преисполненный какого-то холодного мужества, ставит его около Морелла, чуть-чуть позади. Она садится. Он идет к стулу для посетителей и садится на него, все такой же спокойный и непроницаемый. Когда все уселись, она начинает говорить, и ее ровный, трезвый, мягкий голос действует на них успокаивающе.
Вы помните, что вы мне рассказывали о себе, Юджин? Как никто не заботился о вас, с тех пор как умерла ваша старушка няня, как ваши умные, блистающие в свете сестры и преуспевающие братья были любимцами ваших родителей, каким несчастным чувствовали вы себя в Итоне, как ваш отец лишил вас средств, чтобы добиться вашего возвращения в Оксфорд, как вам приходилось жить без утешения, без радости, без всякого прибежища, одиноким, нелюбимым, непонятым, бедный мальчик?
Марчбэнкс (уверенный в благородстве выпавшего ему жребия). У меня были мои книги. У меня была природа. И, наконец, я встретил вас.
Кандида. Ну, не стоит сейчас говорить об этом. Теперь я хочу, чтобы вы посмотрели на этого другого мальчика – на моего мальчика, избалованного с колыбели. Мы два раза в месяц ездим навещать его родителей. Вам бы не мешало как-нибудь поехать с нами, Юджин, и полюбоваться на фотографии этого героя семьи. Джеймс-бэби – самый замечательный из всех бэби! Джеймс, получающий свою первую школьную награду в зрелом возрасте восьми лет! Джеймс в величии своих одиннадцати лет! Джеймс в своей первой сюртучной паре! Джеймс во всевозможных славных обстоятельствах своей жизни! Вы знаете, какой он сильный, – я надеюсь, он не наставил вам синяков? – какой он умный, какой удачливый! (С возрастающей серьезностью.) Спросите мать Джеймса и его трех сестер, чего им стоило избавить Джеймса от труда заниматься чем бы то ни было, кроме того, чтобы быть сильным, умным и счастливым! Спросите меня, чего это стоит – быть Джеймсу матерью, тремя его сестрами, и женой, и матерью его детей – всем сразу! Спросите Просси и Марию, сколько хлопот в доме, даже когда у нас нет гостей, которые помогают крошить лук. Спросите лавочников, которые не прочь испортить Джеймсу настроение и его прекрасные проповеди, кто их выставляет вон! Когда нужно отдать деньги – отдает он, а когда нужно в них отказать – отказываю я. Я создала для него крепость покоя, снисхождения, любви и вечно стою на часах, оберегая его от мелких будничных забот. Я сделала его здесь хозяином, а он даже и не знает этого и минуту тому назад не мог сказать вам, как это случилось. (С нежной иронией.) А когда ему пришло в голову, что я могу уйти от него с вами, единственная его мысль была: что станется со мной? И чтобы я осталась, он предложил мне (наклоняется и ласково гладит Морелла по голове при каждой фразе) свою силу для моей защиты, свои способности для моего существования, свое положение для моего достоинства, свое… (Запинаясь.) Ах, я спутала все твои прекрасные фразы, разрушила их ритм, правда, милый? (Нежно прижимается щекой к его щеке.)
Морелл (потрясенный, опускается на колени около кресла Кандиды и обнимает ее с юношеским порывом). Все это правда. Каждое слово. То, что я есть, – это ты сделала из меня трудами рук своих и любовью твоего сердца. Ты – моя жена, моя мать и мои сестры. Ты для меня соединение всех забот любви.
Кандида (в его объятиях, улыбаясь, Юджину). А могу я для вас быть матерью и сестрами, Юджин?
Марчбэнкс (вскакивая, с яростным жестом отвращения). Нет! Никогда! Прочь, прочь отсюда! Ночь, поглоти меня!
Кандида (быстро поднимается и удерживает его). Но куда же вы сейчас пойдете, Юджин?
Марчбэнкс (чувствуется, что теперь это уже говорит мужчина, а не мальчик). Я знаю свой час – и он пробил. Я не могу медлить с тем, что мне суждено свершить.
Морелл (встревоженный, поднимается с колен). Кандида, как бы он чего-нибудь не выкинул!
Кандида (спокойно, улыбаясь Юджину). Бояться нечего! Он научился жить без счастья.
Марчбэнкс. Я больше не хочу счастья. Жизнь благороднее этого. Священник Джеймс! Я отдаю вам свое счастье обеими руками, – я люблю вас, потому что вы сумели наполнить сердце женщины, которую я любил. Прощайте! (Направляется к двери.)
Кандида. Еще одно, последнее слово.
Он останавливается, не оборачиваясь.
(Подходит к нему.) Сколько вам лет, Юджин?
Марчбэнкс. Я сейчас стар, как мир. Сегодня утром мне было восемнадцать.
Кандида. Восемнадцать! Можете вы сочинить для меня маленький стишок из двух фраз, которые я вам сейчас скажу? И пообещайте мне повторять их про себя всякий раз, когда вы будете вспоминать обо мне.
Марчбэнкс (не двигаясь). Хорошо.
Кандида. Когда мне будет тридцать – ей будет сорок пять. Когда мне будет шестьдесят – ей будет семьдесят пять.
Марчбэнкс (поворачиваясь к ней). Через сто лет нам будет поровну. Но у меня в сердце есть тайна получше этой. А теперь пустите. Ночь заждалась меня.
Кандида. Прощайте. (Берет его лицо обеими руками, когда он, угадав ее намерение, преклоняет колена, целует его в лоб; затем он исчезает в темноте. Она поворачивается к Мореллу, протягивая ему руки.) Ах, Джеймс!
Они обнимаются, но они не знают тайны, которую унес с собой поэт.
Смуглая леди сонетов Интерлюдия 1910[4]
Почему была написана пьеса
Объясню-ка я, пожалуй, почему в этой piece d’occasion[5], сочиненной для спектакля, идущего в фонд проекта Национального театра, задуманного для увековечения памяти Шекспира, я отождествил Смуглую леди с мистрис Мэри Фитон. Прежде всего, разрешите заметить, я вовсе не утверждаю, будто Смуглая леди и есть Мэри Фитон. Когда благополучно закончилось дело в пользу Мэри (или против нее, если вы соблаговолите принять в соображение, что Смуглая леди была ничуть не лучше, чем ей и полагалось быть), на свет выплыл портрет Мэри, где она предстала вовсе не смуглой, а светловолосой леди. Это решает вопрос, если только портрет подлинный (в чем у меня нет причин сомневаться) и если волосы у дамы не выкрашены (в чем уверенности уже меньше). Шекспир в своих сонетах немилосердно напирал на смуглоту дамы, так как в его время черные волосы были так же не в моде, как рыжие в начале правления королевы Виктории. Любой оттенок светлее цвета воронова крыла губителен для сильнейшей претендентки на титул Смуглой леди.
Поэтому, если только я не сумею доказать, что сонеты Шекспира вынудили Мэри Фитон в негодовании выкрасить волосы и наложить на лицо белила, мне лучше отказаться от всяких попыток выдать мою пьесу за историческую. Недавнее предположение мистера Ачесона, что Смуглая леди совсем не фрейлина, а содержательница таверны в Оксфорде и мать поэта Давенанта, я поддержал бы с большой охотой, имей я желание прослыть современным. Почему же я в таком случае представил Смуглую леди как Мэри Фитон?
Что ж, причин у меня на это было две. Пьесу вообще собирался писать не я, а госпожа Эдит Литлтон; она и придумала сцену ревности из-за злополучного барда между королевой Елизаветой и Смуглой леди. Но в таком случае написать сцену было проще простого, если Смуглая леди была фрейлиной, и с огромной натяжкой, будь она хозяйкой таверны. Поэтому я и ухватился за Мэри Фитон. Но у меня был и еще один мотив, более личного характера. Я, так сказать, присутствовал при рождении фитоновской гипотезы. Еще до этого я познакомился с ее родителем, и он завел обыкновение советоваться со мной по поводу неясностей в сонетах в те времена, когда, кроме него, ни один человек не придавал моему мнению на сей или любой иной счет ни малейшего значения. Однако, насколько помнится, мне ни разу не удалось пролить свет ни на одно из темных мест. Вот я и подумал, что поступлю по-дружески, обессмертив, по глупому литературному выражению, его имя, как Шекспир, выполняя свое обещание, обессмертил имя мистера У. Г., просто написав о нем.
Но позвольте же рассказать историю по порядку.
Томас Тайлер
На протяжении по крайней мере всех 80-х годов, а может быть, и несколько лет до того, в читальню Британского музея ежедневно наведывался господин такого поразительного, такого сокрушительного уродства, что, однажды встретив, нельзя уже было его забыть. Рыжий, с бронзоватым, а не песочным оттенком волос; между сорока пятью и шестьюдесятью, во фраке и цилиндре респектабельного, но неизменно поношенного вида; квадратный, без талии, без шеи, без щиколоток, среднего роста, он выглядел ниже из-за того, что, не будучи толст, не имел ни одной тонкой детали фигуры. Уродство его, однако, не носило отталкивающего характера – оно было случайным, чисто внешним, каким-то избыточным. От левого уха к подбородку тянулся чудовищный нарост, свисавший до ключицы; другой нарост, поменьше, на правом веке, кое-как уравновешивал первый. Природа так перестаралась в своем злобном умысле, что отталкивающий эффект, на который она рассчитывала, не удался. Когда вы впервые видели Томаса Тайлера, в голову вам лезло только одно: куда смотрят хирурги? Но уже после нескольких встреч вы не замечали его изъянов, а беседовали с ним так же, как если бы он был Ромео или Ловлас. И только потому, что большинство людей, особенно женщин, не решалось пройти через предварительный период, он прожил обособленной жизнью и остался холостяком. Меня опухолью не испугаешь и против ее носителя не настроишь, так что я завязал с ним сердечные отношения, и он почти неуклонно держал меня в курсе своей работы в музее, куда я, как и он, ходил читать почти каждый день.
По профессии он был литератор некоммерческого толка, специалист в области пессимизма. Он сделал перевод Екклесиаста, и в год продавалось по восемь экземпляров его перевода; он с острым интересом изучал пессимизм Шекспира и Свифта. Он увлекался мерзкой концепцией, которую именовал теорией циклов, согласно которой история человечества и Вселенной постоянно повторяется без малейших отступлений испокон веков, так что он уже когда-то жил и умер, и имел нарост, и будет жить, и умрет все с тем же наростом, и так будет без конца. Ему нравилось думать, что из происходящего с ним ничто не бывало новым, и он часто уверял меня, что помнит, как то же событие уже имело место в предыдущем цикле. Он выискивал намеки на свою излюбленную теорию у трех своих излюбленных пессимистов. Пытался он и расшифровывать древние надписи, читая по ним, как читают по звездам, усматривая медведей и овнов, мечи и козерогов там, где, на мой взгляд, ни один человек в здравом уме не мог увидеть ничего, кроме звездного хаоса. Следующим magnum opus[6] после Екклесиаста была работа над сонетами Шекспира, в которой он соглашался с уже существующим предположением, что мистер У. Г. – «единственный виновник сонетов» – есть граф Пембрук, Уильям Герберт, и выдвигал собственную идею отождествления мистрис Мэри Фитон со Смуглой леди. Меня не очень волновало, прав он или заблуждается, по мне, пусть будет хоть Мария Томпкинс. Но Тайлер утверждал, что Смуглая леди именно Мэри Фитон, и прослеживал жизнь Мэри, начиная с первого замужества лет в пятнадцать и кончая могилой в Чешире, куда он и совершил паломничество и возвратился оттуда, торжествуя, с изображением скульптурного надгробия на ее могиле и известием, что еле различимые следы краски на скульптуре окончательно убедили его в том, что она и есть Смуглая леди.
Со временем он издал сонеты, присовокупив описание своих находок. Он дал мне прочесть свой экземпляр книги, а я его так и не вернул. Но в «Пэлл-Мэлл гэзетт» от 7 января 1886 года я отрецензировал издание и таким образом сделал фитоновскую концепцию достоянием более широкого круга читателей, куда книга сама бы не проникла. Затем Тайлер умер, незаметно канув, как камень в воду. Я замечаю, что мистер Ачесон, поборник госпожи Давенант, называет Тайлера преподобным. Допускаю, что познания свои в древнееврейском он приобрел, когда готовился в священники; в его одежде и манере держаться и в самом деле было что-то от священника или школьного учителя. Возможно, он и в самом деле принял сан. Однако ни об этом, ни о других своих личных делах он мне никогда ничего не говорил. Да и за мрачный пессимизм его вышибли бы из любой церкви, ныне существующей на Западе. Мы никогда не обсуждали с ним его личных дел, мы говорили о Шекспире, о Смуглой леди и Свифте, о Когелете, циклах и непостижимых моментах, когда у нас появляется тайное чувство, что все это с нами уже когда-то происходило; о поддельных экземплярах Пятикнижия, которые хотели продать Британскому музею, о литературе и вообще о вещах духовных. Он всегда подходил к моему столику в музее и заговаривал на одну из этих тем, так как ему, очевидно, редко встречались люди, склонные к подобным беседам. Он остается ярким островком памяти в море моей беспамятности, значительная душа в нелепом и безобразном теле.
Фрэнк Харрис
Моей рецензии в «Пэлл-Мэлл гэзетт» я приписываю – уж не знаю, прав я или нет, – знакомство мистера Фрэнка Харриса с Мэри Фитон. Рассуждаю я так: мистер Харрис написал пьесу о Шекспире и Мэри Фитон. Когда же я, почитая это своим долгом по отношению к духу Тайлера, напомнил человечеству, что фитоновской концепцией мы обязаны Тайлеру, Фрэнк Харрис, явно понятия не имевший, откуда у него в голове взялась Мэри, видимо, решил, что я выкопал Тайлера специально для того, чтобы доставить ему неприятность. Значение, которое я придавал приоритету Тайлера, должно было казаться необъяснимым порождением коварного умысла, если исходить из того, что Тайлер для меня лишь одно из тысяч имен в каталоге Британского музея. Поэтому я и хочу разъяснить, что у меня были и есть личные мотивы помнить Тайлера и считать себя, так сказать, уполномоченным напомнить миру о его труде. Мне стало обидно за него, когда Мэри на портрете оказалась светловолосой, а мистер У. Г. снова из Пембрука стал Саутгемптоном. Но даже и теперь труд его не пропал даром: ведь лишь перепробовав все гипотезы, мы добираемся до той, которую можно доказать. И, в конце концов, неправильная дорога всегда куда-нибудь да выведет.
Фрэнк Харрис написал пьесу задолго до меня. Я читал ее в рукописи до того, как обсуждался вопрос о Шекспировском мемориальном театре. И если что-то в моей пьесе, кроме фитоновской концепции (а она принадлежит Тайлеру), совпадает с чем-то в пьесе мистера Харриса, так это «что-то» заимствовал у него я, а не он у меня. Да и вообще все это не важно, так как пьеса моя – короткая безделка и к тому же полна заведомо невозможных вещей, тогда как у мистера Харриса пьеса солидная и по размерам, и по замыслу, и по качеству. Но сама их природа исключает их сходство: Фрэнк видит Шекспира сломленным, печальным, невероятно сентиментальным, я же убежден, что он был очень похож на меня. Более того, родись я не в 1856 году, а в 1556-м, я пристрастился бы к белому стиху и показал бы Шекспиру, что такое настоящий конкурент, – я бы загонял его больше, чем все елизаветинцы, вместе взятые. При всем при том успех книги Фрэнка Харриса о Шекспире доставил мне истинное удовольствие.
Для тех, кому знаком литературный мир Лондона, в неоспоримом приговоре в пользу этой книги был сильный привкус едкой насмешки. В критической литературе существует одна награда, конкурс на которую всегда открыт, одна голубая лента, которая означает высший критический ранг. Чтобы получить эту награду, вы должны написать лучшую книгу вашего времени о Шекспире. Все без изъятия сознают, что для этого нужна некая высокая утонченность, безупречный вкус, корректность, верно найденные тон и манера, а также большие академические заслуги вкупе с обязательной ученой степенью и литературной репутацией.
Поэтому на тех, кто притязает на эти качества, взирают с благосклонностью и ожиданием, что вот-вот они совершат великий подвиг. Итак, если есть на свете человек, который является полной противоположностью образа, составленного из вышеописанных качеств, человек, само существование которого оскорбляет этот идеальный образ, взор которого принижает, зычный голос осуждает, пренебрежительная манера оттесняет всякую благопристойность, всякий такт, вежливость, достоинство, всякий милый обычай мирной атмосферы взаимного восхищения, в какой только и может произрастать подлинное понимание Шекспира, – если есть такой человек, то это Фрэнк Харрис. Вот кто безмерно одарен широчайшим диапазоном сочувствия и понимания – от разнузданности пирата до самой робкой нежности чувствительнейшей поэзии, кто создан для того, чтобы быть всеобщим союзником, но из гордой прихоти встает на сторону противников любого, кто увенчан славой или притязает на нее. Для архиепископа он атеист, для атеиста – католик и мистик, для империалиста бисмарковского толка – Анахарсис Клоотс, для Анахарсиса Клоотса – Вашингтон, для миссис Прауди – Дон Жуан, для Аспазии – Джон Нокс; короче говоря, для каждого он скорее необходимое дополнение, чем антитеза, и в то же время антагонист, а не собрат. Однако все это при одном условии, что оскорбляемые им – люди респектабельные. Софья Перовская, погибшая на эшафоте за то, что разнесла на куски Александра II, вероятно, могла бы повторить гамлетовские слова:
Каким Бесславием покроюсь я в потомстве, Пока не знает истины никто! –но Фрэнк Харрис, написав свою Соню, уберег ее от несправедливости, поместив среди святых. Он совлек с чикагских анархистов дурную славу и показал, что по сравнению с убившим их капитализмом они герои и мученики. Сделал он это с неслыханной убедительностью. В его изложении история их неизбежно и непреодолимо вытесняет все вульгарные и подлые, недальновидные и недоброжелательные версии. Точный реализм и неулыбчивая, обдуманная, твердая прямота – вот что придает удивительное достоинство работе автора, который взял себе в обычай следовать неукротимому побуждению пинать общепринятое понятие достоинства при каждом удобном случае.
Харрис «Durch Mitleid Wissend»[7]
Фрэнк Харрис – кто угодно, только не юморист, и, судя по всему, не от недостатка ума, а оттого, что чувство презрения пересиливает в нем чувство юмора. Никому еще не приходило в голову упрекать мильтоновского Люцифера за то, что он не видит комической стороны своего падения; так, никто из читавших мистера Харриса не захочет облегчить его книгу главами, написанными рукой Артемуса Уорда. Однако Харрис знает толк в юморе и цену ему. Он был одним из немногих писателей, высоко оценивших Оскара Уайльда, хотя и не был в рядах его ревностных поборников, до тех пор, пока мир не покинул Оскара в его позоре. Я как-то присутствовал при одной занятной встрече этих двоих: Харрис накануне слушания дела Уайльда против Куинсберри предсказывал Уайльду с потрясающей точностью все, что сразу и случилось с ним, и советовал покинуть страну. Это было первое предсказание на моей памяти, которое сбылось. Уайльд, не заблуждавшийся, впрочем, относительно того, какую он сделал глупость, поддавшись на уговоры и затеяв бескорыстный судебный процесс, не рассчитал силы общественной мести, которую на себя обрушил, и вообразил, что сможет смягчить удар, если издатель «Сэтердей ревью» (тогдашняя должность мистера Харриса) объявит, по его просьбе, роман «Дориан Грей» высоконравственным (каковым он и является). Когда Харрис предсказал Уайльду, что́ его ожидает, тот провозгласил Харриса малодушным другом, предавшим его в беде, и в гневе покинул комнату. Повышенная способность к жалости помешала Харрису почувствовать или проявить обиду. А вскоре события доказали Уайльду, как безрассудно было следовать советам и возбуждать судебное дело и как верно Харрис оценил ситуацию.
Та же способность к жалости движет Харрисом в его работе над Шекспиром, которого, как я уже сказал, он жалеет, и даже слишком. Но о том, что юмор ему не чужд, свидетельствует не только то, что он оценил Уайльда, но и то, что в группе авторов, прославивших период его руководства «Сэтердей ревью» (хвалить их мне не мешает тот факт, что к ним принадлежал и я сам), каждый на свой лад был юмористом.
Пембрука мать, Сидни сестра…
А теперь вернемся к Шекспиру. Хотя мистер Харрис вслед за Тайлером отождествил Смуглую леди с Мэри Фитон, а графа Пембрука с адресатом других сонетов и человеком, пользовавшимся успехом у любовницы Шекспира, он, как это ему свойственно, отказывается следовать Тайлеру только в одном пункте. Но вот убей меня бог, если я помню – шла ли речь об одной из догадок, высказанных Тайлером в печати, или только о той, по поводу которой тот советовался со мной, как он обычно делал, когда встречал неясные строки в сонетах.
Догадка состоит в том, что уговаривать Пембрука жениться побудила Шекспира «Пембрука мать, Сидни сестра», и в этом кроется объяснение того, почему в ранних сонетах с такой неестественной настойчивостью мистера У. Г. понуждают к супружеству. По-моему, это одна из самых блестящих гипотез Тайлера, потому что уговоры в сонетах действительно необъяснимы. Объяснить их можно лишь тем, что Шекспир написал их в угоду кому-то, кому хотел угодить и кто проявлял материнское участие в Пембруке. Гипотеза Харриса соблазнительна и еще одним. Самой очаровательной из шекспировских немолодых героинь, да, по существу, и всех шекспировских женщин вообще, старых и молодых, является графиня Русильонская в пьесе «Все хорошо, что хорошо кончается». По сравнению с остальными героинями Шекспира в ней так сильно чувствуется индивидуальность, что здесь явно присутствует портретное сходство. Мистер Харрис утверждает, что все приятные старые дамы у Шекспира списаны с его возлюбленной матери, но я лично не нахожу никаких указаний на то, что мать у Шекспира была такая уж приятная или что он так уж ее любил. Поверить не могу, чтобы она, как утверждает мистер Харрис, была олицетворением непомерной материнской гордости, какой была – по Плутарху – мать Кориолана. С таким же успехом она могла и не простить сыну того, что он «пошел в комедианты, которые представляют всякие непотребства», и опозорил Арденов. Как бы там ни было, а в качестве возможного прообраза графини Русильонской я предпочитаю тот, о котором Джонсон писал:
Пембрука мать, Сидни сестра! Хоть жертву другую смерть унесла, – Ту, что блистала умом и красой, – Но время к тебе подступает с косой.Но о таком варианте Фрэнк и слышать не хотел, так как его идеальный Шекспир смахивал на моряка в мелодраме, а моряк в мелодраме непременно обожает мать. Я вовсе не собираюсь принижать подобных моряков – они символы человеколюбия. Но Шекспир-то не был символом, он был человеком и автором «Гамлета», а Гамлет не питал иллюзий относительно своей матери. В минуты душевной слабости мне иногда прямо-таки хотелось, чтобы они у него были.
Положение Шекспира в обществе
По поводу спорного вопроса о положении Шекспира в обществе мистер Харрис замечает, что Шекспир «не воспользовался привилегией среднего сословия и не получил буржуазного воспитания». Я выскажу предположение, что Шекспир упустил эту сомнительную привилегию не потому, что помехой оказалось его чересчур низкое происхождение, а как раз потому, что он убедил себя в принадлежности к высшему классу. Пусть-ка мистер Харрис на миг окинет взором мир современной журналистики. Он увидит немало людей с теми же свойствами характера, которые, по его утверждению, делали незавидным общественное положение Шекспира, не получившего должного буржуазного воспитания. Шумные, грубые озорники и скандалисты, любящие уснащать свои статьи непристойными мальчишескими анекдотами, они отличные мастера в особого вида шантаже, который состоит в беспощадном поношении и очернительстве каждого писателя, чьи взгляды достаточно еретичны. Они пользуются тем, что такой писатель не может рискнуть обратиться с жалобой в предвзятый ортодоксальный суд присяжных, не боясь распроститься на пять лет со своим скудным доходом. В жестком и подлом поведении они видят лишь уморительно веселый розыгрыш, а ведь им нельзя отказать в подлинных литературных способностях, в преданности литературе и даже в наличии своеобразной совести художника. Однако вне этой категории, в среде, расположенной ниже по социальной лестнице, Харрис не найдет ни одной модели подобного типа, взирающей на среднее сословие не смиренно и с завистью, а нагло, свысока. Мистер Харрис и сам отмечает презрение Шекспира к торговцам и ремесленникам, его неисправимое пристрастие к непристойным шуткам. Мистер Харрис делает общественно полезную работу, сметая метлой привычный довод бардопоклонникуса невеждимуса (доказывающего, что грубость Шекспира в его эпоху была общепринятой нормой поведения) и метко указывая на одно-единственное имя – Спенсера, – которое само собой разоблачает эту клевету на елизаветинское благопристойное общество. Ничто решительно не мешало Шекспиру быть столь же пристойным, как Мор до него или Беньян после, и относиться к себе с таким же самоуважением, как Рали или Сидни, – не мешало ничто, кроме традиции его слоя, выходцы из которого, безусловно, могут добиться образования и государственной должности, если есть у них к тому склонность, но чья наглость, зубоскальство, распутство, непотребные шутки, долговые обязательства и шумное озорство беспрерывно оскорбляют чувства набожных, серьезных, трудолюбивых, платежеспособных буржуа. Никакой другой слой не бывал ослеплен настолько, чтобы считать, будто джентльменами родятся, а не становятся в результате очень сложного культурного процесса. Даже королей с самого раннего возраста обучают, натаскивают и муштруют, чтобы подготовить к их будущей роли. Но человек из родовитой семьи (каким, я убежден, считал себя Шекспир) ринется в общество, не научившись держать себя за столом, в политику – не взяв ни единого урока истории, в деловую сферу – не имея понятия о коммерции, и в армию – не получив представления о чести.
Когда желают доказать, что Шекспир происходил из трудовой семьи, обращают внимание на то, что он едва выводил свое имя. Почему же? А потому, что он «не воспользовался привилегией среднего сословия и не получил буржуазного воспитания». Сам Шекспир устами Гамлета сообщает нам, что джентльмены нарочно писали скверно, чтобы их не приняли за писцов. Но большинство из них писали (как водится и в наши дни) скверно оттого, что лучше не умели. Короче говоря, весь набор причуд Шекспира – порочность, презрение к торговцам и ремесленникам, убежденность, что остроумный разговор обязан состоять из непристойностей, подхалимство перед вышестоящими и высокомерное обращение с нижестоящими, фамильярные отношения со слугами, о чем можно судить не только по отношениям двух веронцев и их слуг, но и по той любви и уважению, какие внушал такой замечательный слуга, как Адам, – все это характерно для Итона и Харроу, но не для начальных закрытых или государственных коммерческих школ. Как и все, что мы знаем о Шекспире, это указывает на то, что он мнил семьи Шекспиров и Арденов благородными, а себя джентльменом в стесненных обстоятельствах из-за отцовского невезения в делах. Но ни одной минуты не считал себя выходцем из простонародья. В этом кроется объяснение и одновременно оправдание его снобизма. Он не был выскочкой, старающимся прикрыть свое низкое происхождение покупным гербом, – он был джентльменом, пожелавшим вернуть себе принадлежащее ему по праву положение, едва только заработал средства, чтобы поддерживать его.
Почти до идолопоклонства
Есть и еще одна вещь, над которой следовало бы поразмыслить мистеру Харрису. Он говорит, что «современники не очень уважали Шекспира». Он даже расценивает изречение Джонсона «мало знал латынь и еще меньше греческий» как насмешку, хотя это суждение, несомненно, взято из искреннего панегирика Шекспиру, написанного после его смерти и, безусловно, предназначенного для того, чтобы усилить впечатление громадности природного дарования Шекспира, подчеркнуть, что схоластическая образованность тут ни при чем. Вообще говоря, в каком-то смысле Харрис прав: Шекспира действительно мало ценили его современники, а если на то пошло, то и все последующие поколения тоже. Барочники на Риджент-канале что-то не распевают стихов Шекспира, как, по слухам, распевают гондольеры Венеции стихи Тассо (обычай этот по какой-то причине был отменен на время моего пребывания в Венеции; во всяком случае, при мне ни один гондольер этого не делал.). Шекспир не более популярный драматург, чем Роден – популярный скульптор или Рихард Штраус – популярный композитор. Но Шекспир был, разумеется, не такой простак, чтобы ожидать, что Томы, Дики и Гарри его эпохи будут интересоваться драматической поэзией, равно как Ньютон позднее не ожидал, что они будут интересоваться флюксиями[8]. И когда мы задумываемся – а может быть, Шекспиру не хватало той уверенности, какую все великие люди черпают у своих наиболее одаренных и восприимчивых современников, уверенности в том, что они великие, – то слова Бена Джонсона раз и навсегда кладут конец столь невероятным домыслам: «И я любил этого человека почти до идолопоклонства, как и другие». Отчего, во имя здравого смысла, сделал он оговорку «почти», если не было идолопоклонства, причем настолько чрезмерного, что оно раздражало самого Джонсона и он даже счел нужным отказаться от него? Джонсона-каменщика, вероятно, обижало, когда Шекспир говорил и писал о каменщиках как о существах низших. Наверное, ему казалось немножко несправедливым, что он, человек более образованный и, возможно, более храбрый и сильный физически, был не так уж удачлив и не так любим, как Шекспир. Но, несмотря на это, он восхвалял Шекспира со всем пылом отпущенного ему красноречия; более того, он не переставал любить его «почти до идолопоклонства».
Следовательно, если уж Джонсон почувствовал необходимость разубедить современников в своей до нелепости преувеличенной оценке Шекспира, то, надо полагать, было немало людей, поклонявшихся Шекспиру так же, как нынче американские дамы поклоняются Падеревскому, и доводивших бардопоклонничество уже при жизни поэта до такого уровня, что более трезвым его поклонникам грозила опасность прослыть глупцами.
Пессимизм Шекспира
Я обращаю внимание мистера Харриса на следующее: исключая идолопоклонство и, как возможный результат, уверенность Шекспира в том, что публика все от него стерпит, он исключает и более правдоподобное объяснение недостатков такой пьесы, как «Тимон Афинский», – куда более правдоподобное, чем его гипотеза, будто страсть Шекспира к Смуглой леди «разъедала и терзала гордую плоть и довела его до помешательства и нервного срыва». В «Тимоне» интеллектуальное банкротство налицо: Шекспир слишком часто пытался строить пьесы на дешевом пессимизме, который перерастал в безысходность при сопоставлении подлинной человеческой натуры с отвлеченной моралью, подлинного правосудия и администрирования с абстрактной законностью и тому подобное. Но представление Шекспира о том, что все люди (если подходить к ним с тем же нравственным мерилом, какое они прикладывают к другому человеку и с помощью которого оправдывают наказания, применяемые к другому) – дураки и мерзавцы, представление это восходит не к периоду неприятностей со Смуглой леди; Шекспир, судя по всему, с ним родился. Если в «Комедии ошибок» и в пьесе «Сон в летнюю ночь» персонажи не так легко идут на предательство и убийство, как Лаэрт, да и сам Гамлет (не говоря уже о целой процессии головорезов, проходящей через поздние драмы), то это, разумеется, не оттого, что они больше чтят закон или религию. Из всех пьес Шекспира только в одной есть место, где стыд выступает как свойство человеческого характера, а именно сцена, где стыдится Гамлет, притом не какого-то своего поступка, а связи его матери с дядей. Сцена эта абсолютно неестественна: сын осыпает упреками мать, да и вообще способен обсуждать со своей матерью такую тему – это еще омерзительнее, чем даже сами ее отношения с братом покойного мужа.
И вот здесь-то Шекспир в кои веки обнаруживает свою религиозность: Гамлет, испытывающий муки стыда, объявляет, что поведение его матери «делает пустым набором слов обряды церкви». Не будь этих строк, мы бы и впрямь могли вообразить, что представление Шекспира о религии исчерпывалось радостным чувством, возникающим в воскресное утро на природе, что так прекрасно описывает Орландо в «Как вам это понравится». Я говорю «и впрямь», ибо все-таки Изабелла в «Мере за меру» обладает религиозным обаянием, несмотря на условно-театральную предпосылку, что женская религиозность означает фанатически суровое целомудрие. Однако большей частью Шекспир проводит различие между своими героями и злодеями скорее на основании того, как они поступают, а не того, что собой представляют. Дон Хуан в «Много шума» – настоящий злонамеренный злодей, но такой унылый тупица, что на роль главного действующего лица непригоден; когда же мы доходим до таких крупных злодеев, как Макбет, выясняется, что они, как подтверждает и мистер Харрис, тождественны героям: Макбет – тот же Гамлет, только совершающий неуместные убийства и любящий вступать в рукопашные схватки. А Гамлет, который и не помышляет извиняться за три совершенных им убийства, вечно извиняется за то, что еще не совершил четвертого, и, в конце концов, к великому своему удивлению, обнаруживает, что ему не хочется его совершать.
Не желчь в моей печенке голубиной, – говорит он. Позор не злит меня, а то б давно Я выкинул стервятникам на сало Труп изверга.Право, я склонен заподозрить, что, когда Шейлок задает вопрос:
А можно ль ненавидеть тех, кого Убить не хочешь? –он выражает естественные и уместные чувства, свойственные роду человеческому, как его понимает Шекспир, а вовсе не мстительные чувства театрального еврея.
Веселость гения
Ввиду перечисленного неосторожно было бы выдавать пессимизм Шекспира за доказательство отчаяния, в которое он впал после того, как Смуглая леди разбила ему сердце. Неукротимая веселость гения дает возможность его сердцу выносить всю тягость людских несчастий не дрогнув. У него всегда наготове смех, чтобы отомстить за слезы удрученности. В строках, которые мистер Харрис приводит лишь для того, чтобы объявить, что он их не понимает, и осудить как нехарактерные, Ричард III, пожалев себя:
Никто меня не любит. Никто, когда умру, не пожалеет, –тут же добавляет с усмешкой:
Как им жалеть, когда в самом себе К себе я жалости не нахожу?Позвольте мне снова напомнить мистеру Харрису про Оскара Уайльда. Все мы страшились читать «De Profundis»[9], нас тянуло заткнуть уши или бежать прочь, чтобы не слышать вопля разбитого, хотя отнюдь не кающегося сердца. Но мы напрасно растрачивали нашу жалость. «De Profundis» оказалось действительно бездной: Уайльд – слишком умелый драматург, чтобы упустить такой могучий эффект. Но бездна эта была выдающейся, de profundis in excelsis[10]. Между строк этой поэмы скрывалось больше смеха, чем в тысяче фарсов иных бесталанных авторов. Уайльд, подобно Ричарду и Шекспиру, не находил в самом себе жалости к себе. Ничто так безошибочно не отмечает прирожденного драматурга, как дар увидеть комическое в собственных невзгодах. Воздействие этого комизма почти сравнимо с воздействием пафоса, с которым человек заурядный возвещает о своих невзгодах. Убейте меня, если я усматриваю разбитое сердце в последних творениях Шекспира. «Чу! Жаворонка песнь звончей несется с высоты» – так не пишет человек сломленный; и еще: замечание Клотена, что, если на Имогену это не подействует, «значит, уши у нее с изъяном и, сколько ни пиликай конским волосом по бараньей кишке, – не поможет», не похоже на шутку человека опечаленного. Да разве не очевидно, что до последней минуты в Шекспире сохранялись неистребимое, божественное легкомыслие, неиссякаемая радость, насмехавшиеся над печалью? Подумайте, каково было бедной Смуглой леди противостоять этой невыносимой способности из всего извлекать мрачное веселье. Послушать мистера Харриса, так на долю Шекспира приходились все страдания, а на долю Смуглой леди – все жестокие поступки. Но почему бы ему хоть на миг не поставить себя на место Смуглой леди, как он успешно ставил себя на место Шекспира? Вообразите себе, с какими чувствами читает она сто тридцатый сонет!
Ее глаза на звезды не похожи, Нельзя уста кораллами назвать, Не белоснежна плеч открытых кожа, И черной проволокой вьется прядь. С дамасской розой, алой или белой, Нельзя сравнить оттенок этих щек. А тело пахнет так, как пахнет тело, Не как фиалки нежный лепесток. Ты не найдешь в ней совершенных линий, Особенного света на челе. Не знаю я, как шествуют богини, Но милая ступает по земле. И все ж она уступит тем едва ли, Кого в сравненьях пышных оболгали.Вот вам образец того сорта комплиментов, которых она могла ждать от Шекспира в любой момент. Примите во внимание, что она не сочиняла комедий; что обычай елизаветинской эпохи обходиться с брюнетками как с уродинами сделал ее весьма обидчивой, когда дело шло о цвете ее лица; что никакому человеческому существу, будь то мужчина или женщина, не может понравиться, когда прохаживаются насчет запаха твоего тела; что отвращение к любви проявлялось у Шекспира так же бурно, как и любовный восторг, и выражал он это с той же до ужаса реалистической силой, какая заставляет Гамлета сказать, что небеса тошнит, когда они взирают на поведение королевы, – примите во внимание все это и потом спросите у мистера Харриса, какая женщина могла бы выносить долго такое обращение или считать, что «медовый» комплимент стоит жестоких ран, стоит раздирания сердца надвое – то есть того, что Шекспиру казалось столь же естественным и забавным, как и пародирование его эпических сочинений Пистолем, проповедей – Фальстафом, а стихов – Клотеном и Оселком.
Юпитер и Семела
Это не означает, что Шекспир был человеком жестоким; судя по всему, он им не был, но ведь не от жестокости Юпитер испепеляет Семелу, просто он не мог перестать быть богом, а она – смертной. Уж чем-чем, а идолопоклонством (как в одном месте книги назвал ее мистер Харрис) страсть Шекспира к Смуглой леди не была. В противном случае Смуглая леди, наверное, смогла бы ее вынести. Мужчина, который «догадывается и любит, подозревает и боготворит», терпим даже с точки зрения избалованной и деспотичной возлюбленной. Но какая женщина способна терпеть мужчину, который любит, но который не просто подозревает, а знает и при этом смеется над нелепостью собственной страсти к женщине, чьи недостатки видны ему все до единого? Мужчину, чей кладбищенский юмор вечно заставляет его перемигиваться с черепом Йорика и приглашать свою владычицу посмеяться вместе над тем смешным фактом, что она кончит, как Йорик, хоть накладывай она белила в дюйм толщиной (как, вероятно, Смуглая леди и поступала). Смуглой леди Шекспир, должно быть, порой казался безжалостным чудовищем – так сказать, интеллектуальным Калибаном. Да, да, Калибаном, который способен сказать:
Ты не пугайся: остров полон звуков – И шелеста, и шепота, и пенья; Они приятны, нет от них вреда. Бывает, словно сотни инструментов Звенят в моих ушах; а то бывает, Что голоса я слышу, пробуждаясь, И засыпаю вновь под это пенье. И золотые облака мне снятся. И льется дождь сокровищ на меня… И плачу я о том, что я проснулся.И звучит это очаровательно, но у Смуглой-то леди уши, возможно, были с тем самым изъяном, которого опасался Клотен: к этой красоте она была глуха, зато уж, будьте уверены, ни одно словечко из сонета «Ее глаза на звезды не похожи…» не прошло для нее незамеченным.
И можно ли после этого предполагать, что Шекспир был слишком глуп или слишком скромен и так и не понял, что его случай – вариант Юпитера и Семелы? В этом смысле Шекспир, безусловно, скромностью не отличался. Никто никогда не слыхал от него скромного покашливания второстепенного поэта:
Замшелый мрамор царственных могил Исчезнет раньше этих веских слов.Таких строк много. Находя, по-видимому, острое удовольствие и забаву в том, чтобы шокировать скромных кашлюнов, он громогласно заявлял здесь о своем месте и своей власти в «широком мире, что грезит о грядущем дне». Вероятнее всего, Смуглой леди это его качество казалось невыносимым самомнением, – нет причин предполагать, что ей пьесы Шекспира нравились больше, чем Минне Вагнер нравились музыкальные драмы Рихарда. Вполне возможно, что «Испанская трагедия», по ее мнению, стоила шести «Гамлетов».
Не был Шекспир и глуп: если бы не классовые ограничения и не профессия, которые отрезали его от настоящего участия в государственных делах и свели его возможности интеллектуальной и политической практики к частным беседам в таверне «Русалка», он, может статься, сделался бы одним из талантливейших государственных деятелей своей эпохи, а так он сделался просто талантливейшим драматургом. Можно было бы предположить, что Шекспир обнаружил, что умственные способности Смуглой леди так же не поспевают за его разумом, как не поспевали они у Энн Хетеуэй, будь у нас хоть какое-нибудь свидетельство о прекращении их дружбы после того, как он прекратил писать ей сонеты. Собственно говоря, переход страсти в прочную устойчивую близость обычно кладет конец сонетам.
Гипотеза, что Смуглая леди разбила Шекспиру сердце (как настаивает мистер Харрис), уж очень не вяжется с Шекспиром. «Люди время от времени умирали, и черви их поедали, но случалось все это не от любви», – говорит Розалинда. Ричард Глостер, в которого Шекспир вложил все свое озорное презрение к вульгарным чувствам, восклицает:
И пусть любовь, что бороды седые Зовут святой, живет в сердцах людей, Похожих друг на друга, – не во мне. Один я.У Гамлета не находится ни одной слезинки для Офелии. В связи с ее смертью у него возникает лишь яростное отвращение к сентиментальному поведению Лаэрта на могиле; когда Гамлет вскоре обсуждает эту сцену с Горацио, он уже успел забыть Офелию, ему только совестно, что он не сдержался, и поэтому он охотно соглашается выступить в состязании на рапирах, чтобы сгладить неприятный осадок. Как бы в опровержение такой точки зрения мистер Харрис выставляет Ромео, Орсино и даже Антонио, и глубокая проникновенность, с какой он это делает, убеждает вас в том, что Шекспир в этих персонажах не раз выдавал себя с головой. Но одно дело – выдать себя с головой, а другое – нарисовать себя во весь рост, как он это делает в Гамлете и Меркуцио. Шекспир никогда «не видел» себя (по актерскому выражению) в Ромео, Орсино или Антонио. В пьесе у мистера Харриса Шекспир изображен с трогательнейшей нежностью. Трагическая фигура – ожесточенный, вызывающий жалость, несчастный и сломленный человек среди толпы здоровяков, состоящей из всяких Джонсонов и Елизавет. Но для меня он не Шекспир, мне не хватает шекспировской саркастичности и веселости. Отнимите их у него – и Шекспир перестанет быть собой, исчезнут хватка, горячность, сила, мрачное упоение своей способностью смотреть со смехом в лицо страшным фактам; останется лишь самая что ни на есть наводящая уныние жертва. А теперь подумайте сами: похож ли Шекспир на обиженного неудачника? Даже когда речь идет о самом устойчивом и вдохновенном из шекспировских увлечений – о любви к музыке (которую мистер Харрис хотя бы в какой-то степени оценил по достоинству первым), чувствуется налет издевки. «Поплюйте и настраивайте снова», «…божественная песня! И душа его воспарит! Не странно ли, что овечьи кишки способны так вытягивать из человека душу?» В этих репликах столько же Шекспира, сколько и в неизменной цитате о трепете ветра и фиалках.
Такой упор на шекспировскую саркастичность, на озорное упоение пессимизмом, на способность бурно радоваться тому, что разбивает сердца людей обыкновенных, я делаю не только оттого, что все это симптоматично для сгустка жизненной энергии, который мы называем гением, но и потому, что отсутствие иронии – единственный вопиющий недостаток в остальных отношениях удивительно глубокой книги мистера Харриса. К счастью, это упущение книгу не калечит, как, на мой взгляд, оно калечит героя пьесы, ибо из пьесы автор исключил себя, тогда как книгу он заполняет собой в полной мере, – язвительный, звучноголосый, с тем особым, несокрушимым стилем, который и есть человек.
Идол бардопоклонников
Есть даже польза в том, что появилась книга о Шекспире, в которой оставлена без внимания шекспировская ирония. Я не говорю, что опущенную главу не следует вставить в следующее издание, – пробел слишком велик, читателю не по себе от трогательного образа пресмыкающегося червя на месте неуязвимого гиганта. Но, может быть, мистер Харрис иначе не сумел бы подобраться к своему герою. Ибо, в конце-то концов, в чем состоит секрет безнадежной неудачи академических бардопоклонников, не сумевших дать нам правдоподобного или хотя бы заслуживающего интерес Шекспира, и победы, легко достигнутой мистером Харрисом, давшим нам и того и другого Шекспира? Да просто мистер Харрис исходил из того, что имеет дело с человеком, а другие вообразили, будто пишут о Боге, вследствие чего они отмели все факты, все соображения традиции или интерпретации, которые бы указывали на человеческие недостатки их героя. В результате материала у них не хватает и им приходится начинать с оговорки, что о Шекспире известно очень мало. Тогда как на самом деле, имея в распоряжении пьесы и сонеты, мы знаем о Шекспире много больше, чем о Диккенсе и Теккерее. Сложность лишь в том, что мы намеренно утаиваем сведения, так как они доказывают, что Шекспир не только не был похож на бога, каким его представляют в Клэпеме, но даже (по той же мерке) на человека порядочного. Академический взгляд основывается на предпосылке, что Шекспир не позволял себе непристойностей, а значит, стихи про «бесстыжую Люси» не могли быть написаны им и аналогичные пассажи в пьесах – либо просто мазки в обрисовке характеров, либо актерская отсебятина. Этот идеальный Шекспир по своей чрезмерной благовоспитанности просто не мог напиться пьяным, поэтому традиционную версию о том, что смерть его была ускорена совместной попойкой с Джонсоном и Дрейтоном, следует отвергнуть, а раскаяние Кассио надо рассматривать как нечто наблюденное, а не пережитое. Мало того, пользуясь отвращением Гамлета к пьянству в Дании, Шекспира выдают за величайшего из трезвенников, превосходившего самообладанием Александра.
Надо сказать, эта система – сперва выдумать великого человека, а потом отбросить все данные, которые с выдуманным образом не согласуются, в результате чего приходится пускаться на нелепое утверждение, будто никаких материалов нет вообще (в то время как ваша мусорная корзина ломится от них), – система эта приводит к тому, что Шекспир оказывается с незаслуженно скверной репутацией. Конечно, не очень важно, написал он слова «бесстыжая Люси» или нет; совсем не важно, напивался ли он в компании с Джонсоном и Дрейтоном, когда кутил с ними ночь напролет, но зато сонеты поднимают щекотливый вопрос, который весьма немаловажен. И нежелание академических бардопоклонников обсуждать или даже мельком упоминать этот вопрос было равносильно молчаливому приговору Шекспиру. Мистер же Харрис обсуждает эту тему открыто и с легкостью убеждает нас в том, что Шекспир был человеком нормального сексуального склада, а никакая не жертва самого жестокого и злосчастного из капризов природы – каприза, подменяющего нормальный объект влечения неким другим. Замалчивание этой темы означает осуждение, а осуждение на современном этапе является всеобщим, хотя достаточно было мистеру Харрису бесстрашно взяться за вопрос, чтобы с этим нездоровым и очень неприятным современным обычаем было покончено.
Против людей знаменитых всегда выдвигаются какие-нибудь шаблонные обвинения. Во время моего детства каждого известного человека обвиняли в том, что он бьет свою жену. Позднее, по какой-то необъяснимой причине, их стали обвинять в психопатических отклонениях. Причем мода бывает обращена в прошлое. Имена Шекспира и Микеланджело приводятся в подтверждение того, что каждый гений первой величины был страдальцем. А в Англии и Германии имеются круги, где эти отклонения нелепым образом чтут как признак мученического ореола героических личностей.
И все это вопиющая чушь. К несчастью, в случае с Шекспиром пуризм, который не мешает передавать обвинение из уст в уста шепотом, не дает прокричать опровержение вслух. Но мистеру Харрису, обладателю зычного голоса, заткнуть рот не удается. Он с надлежащим презрением относится к глупости, возмутительным образом истолковывающей самые невинные и очевидные вещи. Например, пренебрежение Шекспира к «любовному ритуалу», предписывающему отдавать визиты, клясться, преподносить подарки, оказывать пустые знаки внимания, – то есть делать все то, чем люди талантливые заниматься не желают и чему люди обидчивые и бесталанные придают такое значение. Никакой читатель, если только на него не оказали влияния маньяки, во всем усматривающие психопатизм, не даст этим пассажам дурного истолкования. Но в целом лексика сонетов, посвященных Пембруку (или кем там был «мистер У. Г.»), на современный вкус, столь перегружена, что на поднятый вопрос вообще требуется дать развернутый ответ.
Так называемое подхалимство и извращенность Шекспира
Мистер Харрис, не задумываясь, дает двойной ответ: во-первых, да, Шекспир в своем поведении по отношению к графьям был подхалимом; во-вторых, нормальность его сексуальных устремлений даже чересчур подтверждается его излишним пристрастием к нормальному влечению: в его творчестве это проявляется повсюду. Второй ответ вполне убедителен. В случае с Микеланджело, конечно, нельзя не признать, что если повесить его работы рядом с работами Тициана или Паоло Веронезе, то невольно бросится в глаза отсутствие у флорентийца той чувствительности к женской красоте, которая пронизывает картины венецианцев. Но, как показывает мистер Харрис (он, правда, не пользуется этим именно сопоставлением), Паоло Веронезе просто анахорет по сравнению с Шекспиром. Язык сонетов к Пембруку, каким бы он ни казался нам экстравагантным, просто язык светской любезности, к тому же, несомненно, преображенный словесной магией Шекспира и гиперболизированный (гиперболическим Шекспир всегда кажется людям не с таким живым, как у него, воображением), но в то же время его нельзя принять ни за что иное, кроме как за выражение дружбы – достаточно нежной и потому легко уязвимой, и мужской преданности – достаточно глубокой и потому ломающейся раз и навсегда. Но язык сонетов к Смуглой леди есть язык страсти – свидетельство тому их жестокость. Ничто не говорит о том, что Шекспир был способен хладнокровно совершить зло, но в своих обвинениях против любви он бывал злым, язвительным, даже безжалостным, не щадил ни себя, ни несчастную женщину, которая провинилась только тем, что привела великого человека к общему человеческому знаменателю.
Мистер Харрис использовал эти два пункта с такой уверенностью и так умело пустил в ход свои данные, что мне остается лишь представить доводы в пользу второго пункта, который я считаю более разумным. Некоторая, с моей точки зрения, слабость первого объясняется, я думаю, распространенным заблуждением относительно положения Шекспира в обществе или, если хотите, тем, что его истинное место в обществе – место сына бедного торговца, который пошел в актеры, чтобы зарабатывать на жизнь, – смешивают с его собственным представлением о себе как о джентльмене благородного происхождения. Я готов утверждать, что, хотя Шекспир и проявлял сентиментальность в изъявлении своей преданности мистеру У. Г. в форме, ставящей их обоих сегодня в нелепое положение, подхалимом его считать нельзя, если мистер У. Г. был в самом деле хорош собой и обаятелен и Шекспир был глубоко привязан к нему. Подхалим не говорит своему патрону, что слава о нем останется не в его поступках, а в его, подхалима, сонетах. Подхалим, когда патрон отбивает у него возлюбленную, не высказывает ему всего, что о нем думает. Кроме того, подхалим не сообщает патрону о состоянии всех своих чувств по каждому поводу. А между тем этой редкостной искренностью исполнены все сонеты. Шекспир, по отзывам, был «господин очень учтивый». Стало быть, его желание угождать людям, нравиться им и нежелание обидеть кого бы то ни было вынуждали его льстить из любезности, даже когда чувства его и не были затронуты. Если принять во внимание все это, а заодно и тот факт, что Шекспир испытывал и выражал все обуревавшие его эмоции с такой неистовостью, что подчас впадал в смехотворное преувеличение, заставляя своего Ричарда предлагать за коня королевство, а Отелло говорить о Кассио:
О, если б раб жил тысячею жизней! Для полной мести мало мне одной, –приняв все это во внимание, мы увидим больше учтивости и гиперболы, чем подхалимства, даже в ранних и более хладнокровных сонетах.
Шекспир и демократия
Рассмотрим теперь обвинение, которое Толстой, покойный Эрнест Кросби и другие выдвигают против Шекспира как врага демократии и которое поддерживает мистер Харрис. Состоятельно ли оно? Мистер Харрис привлекает внимание к тем отрывкам, где Шекспир говорит о ремесленниках и даже о мелких лавочниках как о подлом люде, чья одежда засалена, дыхание зловонно, а политическая неразвитость и непостоянство таковы, что Кориолан не мог удержаться и ответил римскому горожанину, требовавшему от него «добрых слов»:
Кто скажет слово доброе тебе, Тот мерзкий льстец.Будем, однако, честными. Как политическое кредо строки эти вызовут омерзение у всякого демократа. Но предположите, что это не политическое кредо! Предположите, что это просто констатация фактов. Джон Стюарт Милль объявил же нашим британским рабочим, что они большей частью лжецы. Карлейль оповестил нас всех о том, что мы большей частью глупцы. Мэтью Арнолд и Рескин высказывались более обстоятельно и в более оскорбительных выражениях. Всем, включая самих рабочих, известно, что рабочий люд грязен, пьет, сквернословит, пьянствует, невежествен, прожорлив, погряз в предрассудках, короче говоря, что он унаследовал специфические пороки бедности и рабства, равно как вместе с плутократией унаследовал все человеческие недостатки вообще. Даже Шелли двести лет спустя после того, как Шекспир написал «Кориолана», признал, что о всеобщем избирательном праве и речи быть не может.
Разумеется, истинным мерилом – не Демократии, она во времена Шекспира не была актуальным политическим вопросом, – а беспристрастия судящих классов (а это требуется и от великого поэта) служит не его умение льстить беднякам и осуждать богачей, а умение взвешивать тех и других на одних весах. Стоит прочесть «Лира» и «Меру за меру» – и уже не отделаться от впечатления такого ужаса перед опасностью облекания человека хотя бы небольшой и недолгой властью, такого беспощадного срывания пурпура с «бедного, голого двуногого животного», именующего себя царем и вообразившего себя Богом, что прямо недоумеваешь, куда смотрели «Елизавета и наш Яков» и какие таинственные причины помешали им научить Шекспира почтительности по отношению к коронованным особам, так же как недоумеваешь, почему Толстого оставляли на свободе, когда столько менее грозных сторонников равенства пошло на каторгу или в Сибирь. У зрелого Шекспира мы уже не найдем сцен, исполненных такого деревенского снобизма, какая разыгрывается между театральным деревенским сквайром Александром Айденом и театральным бунтовщиком Джеком Кедом. Зато есть пастух в «Как вам это понравится» и целый ряд честных, храбрых, достойных, преданных слуг наряду с неизбежно комическими. Даже в ура-патриотической пьесе «Генрих V» имеются Бетс и Уильямс, обрисованные со всем уважением и почтением к рядовым солдатам. В «Юлии Цезаре» Шекспир энергично продолжает линию Плутарха: прославляет цареубийство и в искаженном виде подает республиканцев. Надо сказать, почитатели героев так никогда и не простили Шекспиру того, что он принизил Цезаря и не увидел той стороны его убийства, из-за которой Гете осудил это убийство как бессмысленнейшее из преступлений.
Сопоставьте пьесу с «Карлом I» Уиллса, где Кромвель развенчан до такой степени, что Джек Кед в «Генрихе VI» выглядит просто героем, и после этого уверуйте, если сможете, в то, что Шекспир был одним из тех, кто «гнет колени там, где раболепье приносит прибыль». Вспомните Розенкранца, Гильденстерна, Озрика, франта, досаждавшего Хотсперу, и десяток других мест, где речь идет о подобных же личностях! Если такого рода примеры что-нибудь доказывают (а мистер Харрис повсюду опирается именно на такие), то Шекспир ненавидел придворных.
Если же, с другой стороны, обратить внимание на то, что шекспировские персонажи принадлежат к праздным классам, так ведь то же самое относится и к персонажам пьес мистера Харриса и моих. Промышленное рабство несовместимо с той свободой приключений, изысканностью облика и интеллектуальной культурой, с той широтой охвата, каких требует более высокая и утонченная драма. Даже Сервантесу пришлось в конце концов отказаться от возни Дон Кихота с трактирщиками, требовавшими от него уплаты за жилье и пропитание, и сделать его свободным от экономических тягот, каким был Амадис Галльский. Все, что происходило с Гамлетом, не могло случиться с паяльщиком. Бедняк на сцене призван выполнять ту же функцию, что и слепой, а именно возбуждать сострадание. Бедность аптекаря в «Ромео и Джульетте» производит сильное впечатление и даже позволяет вывести здоровую мораль: совесть для бедняка излишняя роскошь. Но если бы все действующие лица пьесы были так же бедны, как он, получилась бы мелодрама на манер тех, какими нас угощают сицилийские актеры, а это было бы не лучшее, что мог предложить Шекспир. Когда бедность будет уничтожена и праздная, вольготная жизнь станет доступна всем, то единственными пьесами, оставшимися от нашей эпохи, которые будут иметь хоть какое-то отношение к действительности (в понимании того времени), будут те, в которых никто из персонажей не терпит нужду и не влачит жалкое, нищенское существование. Наши пьесы о бедности и убожестве, которые сейчас одни только и воспроизводят правдиво жизнь большинства живущих, тогда попадут в разряд документов о скупцах и монстрах, и читать их станут только студенты, изучающие историю социальной патологии.
И вот в свете этого рассмотрим теперь шекспировских королей, лордов и джентльменов!
Разве имел бы основание сам Джон Болл или пророк Иеремия считать, что Шекспир польстил этим господам? Поистине, не проходило по сцене вереницы негодяев, развенчанных с большей беспощадностью! Даже монарх, который останавливает мятежника, сославшись на божественный ореол, охраняющий короля, – пьяница и похотливый убийца, и его вскоре с презрением приканчивают на наших глазах, несмотря на его божественный ореол.
Я мог бы написать не менее доказательную главу о диккенсовского толка предубежденности Шекспира против трона, знати и джентри в целом, чем это сделали мистер Харрис и Эрнест Кросби, стоя на противоположных позициях. Я даже готов пойти дальше и утверждать, что Шекспир был неграмотен в своем понимании феодализма. И он, конечно же, не предвидел демократического коллективизма. Если не считать таких банальных понятий, как война и патриотизм, Шекспир был насквозь капером. Ни один человек в его пьесах, будь то король или горожанин, не выполняет никакого гражданского долга для блага общества и не имеет об этом ни малейшего понятия, разбираясь разве что в деле назначения констеблей; тут Шекспир привлекал внимание к злоупотреблениям совсем в духе фабианского общества. Его волновало пьянство, а также идолопоклонство и лицемерие в системе судопроизводства, но средство против них он видел только в индивидуальной трезвости и свободе от идолопоклоннических иллюзий, насколько он вообще мог предложить какое-нибудь средство, а не просто потерять веру в человечество. Его первое и последнее слово о парламенте было: «Купи себе стеклянные глаза и делай вид, как негодяй политик, что видишь то, чего не видишь ты».
Он и не представлял, с каким чувством сегодняшние поборники национализации земель относятся к тому, что он принимал участие в огораживании общинных земель в Уэлкоме. И объяснение тут не в его умственной отсталости, а в том, что английские земли в ту эпоху нуждались в индивидуальном владении и возделывании, а английская конституция нуждалась в принципах индивидуальной свободы, которые исповедовали виги.
Шекспир и британская публика
Я отверг идею мистера Харриса о том, что Шекспир умер от разбитого сердца в «муках отвергнутой любви». Я привел свои доводы в пользу идеи, что Шекспир умер мужественно и даже в несколько легкомысленном настроении, которое показалось бы неуместным в епископе. О чем, однако, данные мистера Харриса свидетельствуют, так это о том, что у Шекспира был-таки повод для обиды, и весьма серьезный. Его могли бросить десять Смуглых леди, и он бы это перенес не моргнув глазом, но вот отношение к нему британской публики – дело иное. Идолопоклонство, смущавшее Бена Джонсона, ни в коей мере не было распространенным явлением, и к тому же, как всякое идолопоклонство такого типа, оно было обусловлено скорее магией шекспировского таланта, чем его воззрениями.
Начало его карьеры преуспевающего драматурга положила трилогия о Генрихе VI – сочинение, отличающееся оригинальностью, глубиной и тонкостью лишь постольку, поскольку эти качества свойственны чувствам и фантазиям простых людей. Шекспира это не удовлетворило. Какой прок быть Шекспиром, если тебе разрешается выражать лишь взгляды Автолика? Шекспиру виделся мир совсем не таким, как Автолику. Если он видел его и не вполне так, как Ибсен (да и мир ведь был не совсем тот), то, во всяком случае, постигал почти с ибсеновской силой понимания и со всем свифтовским ужасом перед его жестокостью и нечистоплотностью.
Так вот, с людьми таких дарований случается, что они вынуждены обрушивать всю мощь этих дарований на человечество, так как не могут создать популярное произведение. Возьмите, к примеру, Вагнера и Ибсена! Их ранние работы, несомненно, примитивнее поздних, и тем не менее популярными в свое время эти работы не были. Для Вагнера и Ибсена, в сущности, никогда не вставал вопрос – написать популярную вещь или нет: если бы они опустились до нее, они подобрали бы у ног людей гораздо меньше, чем им удавалось схватить поверх их голов. Но вот Гендель и Шекспир вели себя не лучшим образом. Они могли сочинить все, чего от них хотели, да еще с походом. Они поносили британскую публику и не могли простить ей того, что она пренебрегала их лучшими творениями и восторгалась их великолепными банальностями. Но они все равно продолжали сочинять свои банальности, которые получались великолепными просто за счет их животной способности к своему ремеслу.
Когда Шекспиру приходилось писать популярные пьесы, чтобы спасти театр от краха, он бунтовал, называя их «Как вам это понравится» или «Много шума из ничего». И все равно он делал свое дело так хорошо, что и по сей день эти две гениальные вульгарности остаются главным шекспировским капиталом наших театров. Позднее могущество Бербеджа и популярность Шекспира как актера дали ему возможность освободиться от тирании кассы и высказываться свободнее в пьесах, представляющих собой главным образом монолог, произносимый каким-нибудь великим актером, от которого публика готова стерпеть многое. Таким образом, история шекспировских трагедий есть история длинной цепи знаменитых актеров, от Бербеджа и Беттертона до Форбс-Робертсона. И человек, о котором рассказывают, что, «когда Бербедж произносил, что Ричард умер, и восклицал «коня! коня!», он плакал», стал отцом девяти поколений театралов-шекспировцев, толкующих про гарриковского Ричарда, киновского Отелло, ирвинговского Шейлока и Гамлета Форбса-Робертсона, знать не зная (да и не пытаясь знать), сколько в них на самом деле от шекспировского Ричарда или шекспировского Отелло. А пьесы, в которых не было больших главных ролей, а именно «Троил и Крессида», «Все хорошо, что хорошо кончается» и «Мера за меру», провалились, как и вторая часть гетевского «Фауста» или «Кесарь и галилеянин» Ибсена.
Вот где была у Шекспира настоящая обида. И хотя описывать его как человека с разбитым сердцем вопреки безудержно веселым сценам и безмятежно счастливой поэзии последних пьес – сентиментальное преувеличение, тем не менее открытие того факта, что самые серьезные из его произведений имели успех, только когда их вывозил на себе обворожительный актер (при этом безобразно переигрывающий), а серьезные пьесы, не содержавшие ролей, где было что переигрывать, оставались лежать на полке, – достаточно красноречиво объясняет, почему под конец жизни человечество и театр не рождали у Шекспира восторженного ликования. А это единственное, что мистер Харрис может привести в подкрепление своей теории разбитого сердца. Но если бы даже Шекспир и не терпел неудач, все равно человек его таланта, наблюдая политическое и нравственное поведение своих современников, не мог не прийти к выводу, что они не способны справляться с проблемами, поставленными их собственной цивилизацией. И их попытки проводить в жизнь законы и исповедовать религии, предлагаемые великими пророками и законодателями, всегда были и остаются до такой степени беспомощными, что ныне мы призываем сверхчеловека (новый, по существу, вид), чтобы он выручал человечество, спасая его от неумелого управления. Вот в чем истинное горе великих людей. Считать же, что, когда в словах великого человека слышна горечь, а на лице написана грусть, он будто бы разочарован в любви, кажется мне сентиментальной чепухой.
Если читатель вместе со мной добрался до этого места, он убедится, что, как бы ни была тривиальна моя пьеска, набросок этот полнее дает образ Шекспира, чем можно было бы ожидать при его легковесности. Увы! содержащийся в ней призыв создать Национальный театр как памятник Шекспиру не тронул глупцов, не понимающих, что Национальный театр стоит иметь ради Национальной души. Я, к сожалению, показал Шекспира хранящим и использующим (как и я это делаю) те сокровища бессознательно музыкальной речи, которые простые люди растрачивают каждодневно, и это приняли за умаление «оригинальности» Шекспира. Ну почему мне достались такие современники? Почему из Шекспира делают посмешище такие потомки?
Шестнадцатый век на исходе. Июньская ночь. Терраса Уайтхоллского дворца, выходящая на Темзу. Дворцовые часы, отзвонив четыре четверти, бьют одиннадцать. Лейб-гвардеец часовой на посту. К нему подходит неизвестный в плаще.
Часовой. Стой! Кто идет? Пароль!
Неизвестный. Пресвятая Дева! Не знаю. Забыл, совсем забыл.
Часовой. Значит, не пройдете. По какому делу? Кто вы такой? Верный ли человек?
Неизвестный. О нет, приятель. Я что ни день, то меняю обличье: то я Адам, то Бенволио, а то и Дух.
Часовой (отшатнувшись). Дух! Да охранят нас ангелы господни!
Неизвестный. Хорошо сказано, приятель. С вашего разрешения, я это запишу, ибо память у меня никуда не годная. (Достает вощеные таблички и пишет.) Сдается мне, хорошая это сцена: вы стоите один на посту, а я приближаюсь, как призрак в лунном сиянии. Не смотрите на меня так удивленно, но послушайте, что я вам скажу. У меня здесь сегодня свидание с одной смуглой леди. Она обещала мне подкупить часового. Я дал ей на это средства: четыре билета в театр «Глобус».
Часовой. Вот проклятая! Она дала мне только два.
Неизвестный (отрывая табличку). Друг мой, только покажите эту табличку, и вас с радостью пропустят в театр в любой день, когда будет идти пьеса Уилла Шекспира. Приводите жену. Приводите друзей. Приводите хоть весь гарнизон. Свободного места всегда достаточно.
Часовой. Не люблю я эти новомодные пьесы. В них ни слова не понять. Одни разговоры. Вы бы лучше дали мне пропуск на «Испанскую трагедию».
Неизвестный. «Испанскую трагедию» показывают за деньги, приятель. Вот получите. (Дает ему золотой.)
Часовой (потрясен). Золото! О сэр, вы платите лучше, чем ваша смуглая леди.
Неизвестный. Женщины бережливы, мой друг.
Часовой. Истинная правда, сэр. Да еще примите во внимание, что даже самый щедрый человек старается заплатить подешевле за то, что он покупает ежедневно. Этой леди чуть ли не каждый вечер приходится дарить что-нибудь часовому.
Неизвестный (бледнеет). Это ложь.
Часовой. А вот вы, сэр, готовы поклясться, и два раза в год не пускаетесь в такое приключение.
Неизвестный. Презренный! Ты что же, хочешь сказать, что моя смуглая леди не в первый раз так поступает? Что она и другим назначает свидания?
Часовой. Помилуй вас бог, как вы простодушны, сэр! Неужто вы думаете, что, кроме вас, нет красивых мужчин на свете? Веселая леди, сэр, уж такая вертихвостка! Да будьте спокойны: я не допущу, чтобы она водила за нос джентльмена, который дал мне золотой, ведь я их раньше и в руках не держал.
Неизвестный. Друг мой! Не странно ли, что мы, зная, как лживы все женщины, все же удивляемся, когда оказывается, что наша шлюха не лучше остальных?
Часовой. Не все, сэр. Много есть и порядочных.
Неизвестный (убежденно). Нет, все лживы. Все. Если вы это отрицаете, вы лжете.
Часовой. Вы судите по тому, какие они при дворе, сэр. Вот там поистине можно сказать о ничтожности, что название ей – женщина.
Неизвестный (опять достает таблички). Прошу вас, повторите, что вы сказали: вот это, насчет ничтожности. Какая музыка!
Часовой. Музыка, сэр? Видит бог, я не музыкант.
Неизвестный. У вас в душе живет музыка, я нередко замечал это среди простых людей. (Пишет.) «Ничтожность, женщина тебе названье!» (Повторяет, смакуя.) «Женщина тебе названье».
Часовой. Ну что ж, сэр, всего четыре слова. Разве вы собиратель таких вот пустейших пустяков?
Неизвестный (живо). Собиратель… (Захлебывается.) О! Бессмертная фраза! (Записывает ее.) Этот человек более велик, чем я.
Часовой. У вас та же привычка, что у милорда Пембрука, сэр.
Неизвестный. Очень возможно. Он мой близкий друг. Но что вы называете его привычкой?
Часовой. Сочинять сонеты в лунные ночи, да еще той же самой леди.
Неизвестный. Не может быть!
Часовой. Вчера вечером он был здесь по тому же делу, что и вы, и в таком же горе.
Неизвестный. И ты, Брут! А я считал его другом!
Часовой. Так всегда бывает, сэр.
Неизвестный. Так всегда бывает. Так всегда бывало. (Отворачивается, подавленный.) Два веронца. Иуда! Иуда!
Часовой. Неужто он настолько вероломен, сэр?
Неизвестный (к нему вернулось обычное его спокойствие и человечность). Вероломен? О нет. Он просто человек, приятель, просто человек. Когда мы обижены, мы ругаем друг друга, как малые дети. Вот и все.
Часовой. Да, да, сэр. Слова, слова, слова. Все ветер, сэр. Наполняем желудки свои восточным ветром, сэр, как говорится в Писании. Так каплуна не откормить.
Неизвестный. Хороший ритм. Разрешите… (Записывает.)
Часовой. А что это за штука – ритм, сэр? Я о ней никогда не слышал.
Неизвестный. Такая штука, с помощью которой можно править миром, друг.
Часовой. Чудно вы говорите, сэр, не во гнев вам будь сказано. Но вы мне нравитесь, вы очень учтивый джентльмен; бедного человека так и тянет к вам, – чувствуется, что вы не прочь поделиться с ним мыслями.
Неизвестный. Это мое ремесло. Но – увы! – мир отлично обходится без моих мыслей.
Дверь дворца отворяется изнутри, на террасу ложится полоса света.
Часовой. Вот и ваша леди, сэр. Я пойду в обход. Можете не торопиться: без предупреждения не вернусь, если только мой сержант не накроет меня. Сержант проворный, сэр, и с крепкой хваткой. Доброй ночи, сэр, желаю счастья! (Уходит.)
Неизвестный. «С крепкой хваткой»! «Сержант проворный»! (Словно пробуя спелую сливу.) О-о-о! (Записывает.)
Леди в темном плаще ощупью выходит из дворца и идет по террасе; она спит.
Леди (трет руки, как будто моет их). Прочь, проклятое пятно! Вы мне все измажете этими белилами и притираниями. Бог дал вам одно лицо, а вы делаете себе другое. Думай о смерти, женщина, а не о том, чтобы приукрашать себя. Всем благовониям Аравии не отмыть добела эту руку наследницы Тюдоров.
Неизвестный. «Всем благовониям Аравии»! «Приукрашать»! Целая поэма в одном только слове. И это моя Мария? (Обращаясь к леди.) Почему ты говоришь не обычным своим голосом и в первый раз твои слова звучат как поэзия? Ты захворала? Ты движешься как мертвец, восставший из могилы. Мария! Мария!
Леди (как эхо). Мария! Мария! Кто бы мог подумать, что в этой женщине так много крови! Разве моя вина, что мои советчики нашептали мне кровавые дела? Фи! Будь вы женщиной, вы догадались бы поберечь ковер, а то посмотрите, какие гадкие пятна. Не поднимайте ее за голову: волосы-то фальшивые. Говорю вам еще раз: Мария погребена, она не встанет из могилы. Я не боюсь ее; с этими мерзавками, которые лезут на трон, когда им место только на коленях у мужчин, разговор должен быть короткий. Что сделано, то сделано. Прочь, говорю я. Фи! Королева – и вся в веснушках.
Неизвестный (трясет ее за плечо). Мария, послушай! Ты спишь?
Леди просыпается, вздрагивает и чуть не теряет сознание. Неизвестный подхватывает ее.
Леди. Где я? Кто это?
Неизвестный. Смилуйтесь, умоляю вас. Я все время принимал вас за другую. Я думал, что вы моя Мария, моя любовница.
Леди (вне себя). Какая дерзость! Как вы смеете?!
Неизвестный. Не гневайтесь на меня, миледи. Моя любовница на редкость порядочная женщина. Но говорит она не так хорошо, как вы. «Всем благовониям Аравии» – это было хорошо сказано. Произнесено с прекрасной интонацией и отменным искусством.
Леди. Разве я сейчас беседовала с вами?
Неизвестный. Ну да, прекрасная леди. Вы забыли?
Леди. Я спала.
Неизвестный. Никогда не просыпайтесь, о волшебница, ибо, когда вы спите, ваши слова текут, как мед.
Леди (величественно и холодно). Ваши речи дерзки. Знаете ли вы, с кем разговариваете, сэр?
Неизвестный (не смущаясь). Нет, не знаю и не желаю знать. Вероятно, вы состоите при дворе. Для меня существует только два рода женщин: женщины с пленительным голосом, нежным и звучным, и квохчущие куры, а те меня бессильны вдохновить. У вас в каждом извиве голоса таится прелесть. Не жалейте, что на короткое мгновение усладили меня его музыкой.
Леди. Сэр, вы слишком смелы. На миг умерьте ваше изумленье, и…
Неизвестный (жестом останавливает ее). «На миг умерьте ваше изумленье»…
Леди. Грубиян! Вы смеете меня передразнивать?
Неизвестный. Это музыка. Разве вы не слышите? Когда хороший музыкант поет песню, разве вам не хочется петь ее еще и еще, пока вы не уловите и не запомните ее дивную мелодию? «На миг умерьте ваше изумленье». Бог ты мой! В одном этом слове «изумленье» – целая повесть человеческого сердца. «Изумленье»! (Берет таблички.) Как это? «На час оставьте ваше восхищенье…»
Леди. Очень неприятное нагромождение шипящих. Я сказала: «На миг умерьте…»
Неизвестный (поспешно). На миг, да, конечно, на миг, на миг, на миг! Будь проклята моя память, моя несчастная память! Сейчас запишу. (Начинает писать, но останавливается, так как память изменяет ему.) Но как же получалось это нагромождение шипящих? Вы очень правильно это заметили; даже мой слух уловил его, пока предательский мой язык произносил эти слова.
Леди. Вы сказали: «на час». Я сказала: «на миг».
Неизвестный. «На миг»… (Исправляет.) Так! (Пылко.) А теперь будьте моей не на миг и не на час, а навеки.
Леди. Этого еще недоставало! Уж не вздумали ли вы докучать мне вашей любовью, низкий негодяй?
Неизвестный. Нет, любовь – не моя, это ваше порождение; я только кладу ее к вашим ногам. Как мне не полюбить девушку, для которой так много значит правильно найденное слово. Так позволь, божественное чудо красоты… Нет, это я уже где-то говорил, а словесное одеяние моей любви к вам должно быть с иголочки новое.
Леди. Вы слишком много разговариваете, сэр. Предупреждаю вас: я больше привыкла заставлять себя слушать, чем выслушивать проповеди.
Неизвестный. Это обычно для тех, кто хорошо говорит. Но изъясняйтесь вы хоть ангельским языком – а оно поистине так, – все же знайте, что король над словом – я.
Леди. Король, ха!
Неизвестный. Именно. Жалкие созданья мы – мужчины и женщины.
Леди. Вы осмеливаетесь называть меня женщиной?
Неизвестный. Каким же более высоким именем мне назвать вас? Как иначе мне вас любить? А между тем у вас есть основания гнушаться этим именем: не сказал ли я только сейчас, что мы жалкие созданья? Но есть могучая сила, которая может спасти нас.
Леди. Покорно вас благодарю за проповедь, сэр. Хочу надеяться, что я знаю свои обязанности.
Неизвестный. Это не проповедь, а живая правда. Сила, о которой я говорю, – это сила бессмертной поэзии. Ибо знайте, что хоть этот мир и мерзок и хоть мы всего-навсего черви, но стоит только облечь всю эту мерзость в волшебные одежды слов, как сами мы преображаемся, и души наши парят высоко, и земля цветет, как миллионы райских садов.
Леди. Вы испортили ваши райские сады этими миллионами. Вы безрассудны. Надо же соблюдать какое-то чувство меры, когда говоришь.
Неизвестный. Вот это вы сказали, как Бен.
Леди. Что это еще за Бен?
Неизвестный. Ученый каменщик, который воображает, что небо не выше его лестницы, а потому считает своим долгом попрекать меня тем, что я летаю. Говорю вам: еще не создано слово, еще не пропета мелодия, достаточно безрассудная и величественная для той славы, которую нам могут открыть прекрасные слова. Отрицать это – ересь! Разве вас не учили, что в начале было Слово? Что Слово было у Бога, даже больше – что Слово было Бог?
Леди. Смотрите, сударь, поосторожнее со Священным писанием. Королева – глава Церкви.
Неизвестный. Вы глава моей церкви, когда говорите так, как говорили вначале. «Все ароматы Аравии»! Разве королева может сказать что-либо подобное? Говорят, она хорошо играет на спинете. Пусть сыграет мне, и я буду целовать ей руки. Но до тех пор вы моя королева, и я буду целовать эти губы, которые усладили мое сердце музыкой. (Обнимает ее.)
Леди. Вот непомерная наглость! Прочь руки, если жизнь вам дорога.
Смуглая леди, пригнувшись, крадется позади них по террасе, как бегущая куропатка. Увидев их, она гневно выпрямляется во весь рост и ревниво прислушивается.
Неизвестный (не замечая смуглую леди). Тогда сделайте так, чтобы руки у меня не дрожали от потоков жизни, которые вы вливаете в них. Вы притягиваете меня, как Полярная звезда притягивает железо; меня влечет к вам. Мы погибли, и вы и я; отныне ничто не в силах разлучить нас.
Смуглая леди. А вот посмотрим, лживый ты пес, обманщик, ты и твоя грязная тварь! (Двумя энергичными ударами отталкивает их друг от друга.)
Неизвестный, которому на горе достался удар правой рукой, растягивается на плитах террасы.
Вот вам обоим!
Леди в плаще (в неистовой ярости сбрасывает плащ и обращает к обидчице лицо, на котором написано оскорбленное величие). Государственная измена!
Смуглая леди (узнает ее и в раболепном ужасе падает на колени). Уилл, я погибла: я ударила королеву.
Неизвестный (приподнимается со всем достоинством, какое допускает его бесславная поза). Женщина, ты ударила Уильяма Шекспира!
Королева Елизавета (ошеломленная). Вот это мне нравится!!! Ударила Уильяма Шекспира, скажите на милость! А кто такой, во имя всех потаскух, и девок, и распутниц, и обманщиц, от которых в моих владениях проходу не стало, этот Уильям Шекспир?
Смуглая леди. Ваше величество, он всего лишь актер. Ах, я готова дать отрубить себе руку…
Королева Елизавета. Возможно, что и придется, голубушка. А вы не подумали о том, что я, может быть, прикажу отрубить вам и голову?
Смуглая леди. Уилл, спаси меня! О, спаси меня!
Елизавета. Спасти! Хорош спаситель! Слово королевы, я думала, этот человек по крайней мере дворянин, ибо я надеялась, что даже самая дрянная из моих приближенных не обесчестит мой двор, распутничая с каким-то безродным слугою.
Шекспир (с трудом встает на ноги, возмущенно). Безродный! Это я, потомок стратфордских Шекспиров! Я, чья мать носила имя Арден! Безродный! Не забывайтесь, ваше величество!
Елизавета (в ярости). Гром и молния! Это я забываюсь! Я вам покажу…
Смуглая леди (встает с колен и бросается разнимать их). Уилл, ради всего святого, перестань гневить ее. Это смерть. Ваше величество, не слушайте его.
Шекспир. Даже для спасения твоей жизни, Мария, не говоря уже о моей, я не стану льстить королевской особе, которая позволила себе оскорбить мою семью. Я не отрицаю, что мой отец к концу жизни стал нищим; это все его благородная кровь, он был слишком великодушен, чтобы заниматься торговлей. Ни разу он не отрекся от своих долгов. Правда, он не платил их, но каждый мог подтвердить, что, беря в долг деньги, он давал в обмен векселя. Эти-то векселя в руках низких корыстолюбцев и погубили его.
Елизавета (свирепо). Сын вашего отца скоро узнает, как вести себя в присутствии дочери Генриха Восьмого.
Шекспир (с надменным презрением). Не упоминайте имени этого развратника рядом с именем самого достойного олдермена Стратфорда. Джон Шекспир был женат только один раз, а Генрих Тюдор имел шесть жен. Вы должны бы стыдиться произносить его имя.
Шекспир (обрывая их). Откуда вы знаете, что король Генрих действительно был вашим отцом?
Шекспир. Научитесь вернее судить о себе, ваше величество. Я честный дворянин, никто не усомнится в моем происхождении, и я уже принял меры, чтобы мне дали герб, который мне по праву принадлежит. Можете ли вы сказать то же о себе?
Елизавета (едва владея собой). Еще одно слово, и я своими руками начну дело, которое завершит палач.
Шекспир. Вы не настоящая Тюдор: у этой вот дряни столько же прав на ваш королевский трон, как и у вас. Что позволило вам удержаться на английском престоле? Ваш прославленный ум? Ваша мудрость, перед которой бессильны самые лукавые государственные мужи всего христианского мира? Нет! Счастье, случайное счастье, которое могло бы выпасть на долю любой скотницы. Каприз природы, сделавшей вас образцом совершеннейшей красоты, какой еще не видывал мир.
Елизавета, уже занесшая кулак, чтобы ударить его, опускает руку.
Вот поэтому все мужчины и оказались у ваших ног, и трон ваш зиждется на неприступной скале вашего гордого сердца, каменистого острова в море желания. Вот вам, ваше величество, слова, сказанные по простоте, от чистого сердца. А теперь делайте со мной что хотите.
Елизавета (с достоинством). Мистер Шекспир, ваше счастье, что я милостивый монарх. Я оказываю вам снисхождение; вы росли в деревне и мало знаете. Но впредь запомните, что есть слова, пусть даже правдивые, с которыми все же не подобает обращаться… не скажу к королеве, ибо вы меня таковой не считаете, – но к девственнице.
Шекспир (без запинки). Не моя вина, что вы девственница, ваше величество, это только моя беда.
Смуглая леди (опять в испуге). Ваше величество, заклинаю вас, не удостаивайте его больше вашей беседой. У него вечно на языке какая-нибудь непристойная шутка. Вы слышали, как он обращается со мной! В присутствии вашего величества назвал меня дрянью.
Елизавета. А что до вас, голубушка, то я еще не спросила, почему вы оказались здесь в такой поздний час и каким образом вы могли настолько увлечься актером, что из ревности к нему как безумная подняли руку на вашу королеву.
Смуглая леди. Ваше величество, клянусь жизнью, клянусь надеждой на вечное спасение…
Шекспир (язвительно). Ха!
Смуглая леди (гневно). Да, да, уж скорее спасусь я, чем ты, который и верит-то разве только в черную магию слов да стихов… Так вот, ваше величество, клянусь жизнью, что я пришла сюда, чтобы навсегда порвать с ним. Ах, ваше величество, если вы хотите узнать, что такое страдание, слушайте этого человека, который и больше, чем обыкновенный человек, и меньше. Он свяжет вас и будет копаться у вас в душе, он исторгнет у вас кровавые слезы унижения, а потом будет лечить ваши раны лестью, против которой не устоит ни одна женщина.
Шекспир. Лесть?! (Опускается на колено.) О, ваше величество, позвольте мне сложить мои грехи к вашим ногам. Я сознаюсь во многом. У меня грубый язык, я неотесан, я кощунствую против святости миропомазанного монарха, но скажите, о моя королева, неужели я льстец?
Елизавета. В этом я вас не виню. Вы слишком прямодушны.
Шекспир встает с колен, благодарный.
Смуглая леди. Ваше величество, он и сейчас вам льстит.
Елизавета (грозно сверкая глазами). Это правда?
Шекспир. Ваше величество, она ревнует, и – да простит меня бог! – не без оснований. О, вы сказали, что вы милостивый монарх, но вы поступили жестоко, когда, застав меня здесь, скрыли ваше королевское достоинство. Ибо разве может меня удовлетворить эта черноволосая, чернобровая, черномазая чертовка после того, как я видел истинную красоту, истинное величие?!
Смуглая леди (вне себя от обиды и отчаяния). Сколько раз он мне клялся, что настанет день, когда черноволосых женщин, при всем их мерзком виде, будут больше ценить в Англии, чем рыжих. (Шекспиру, злобно.) Попробуй скажи, что этого не было. О, он весь соткан из лжи и насмешек. Я устала от его прихотей: то он возносит меня до небес, то тянет вниз, в преисподнюю. Я горю от стыда, что унизилась до любви к человеку, которому мой отец не позволил бы держать мне стремя, который треплет мое имя перед всем светом, который выносит мою любовь и мой позор на посмешище в своих пьесах, так что я готова сгореть от стыда, который пишет обо мне такие сонеты, что под ними не подписался бы ни один благородный человек… У меня голова идет кругом; я сама не знаю, что говорю вашему величеству, нет женщины несчастнее меня!..
Шекспир. Ага! Наконец-то горе выжало из тебя музыкальную фразу. «Нет женщины несчастнее меня». (Записывает.)
Смуглая леди. Ваше величество, умоляю вас, дозвольте мне уйти. Мой разум мутится от стыда и горя. Я…
Елизавета. Идите.
Смуглая леди пытается поцеловать ей руку.
Не нужно. Идите.
Смуглая леди уходит, потрясенная.
Вы жестоко обошлись с этой бедной любящей женщиной, мистер Шекспир.
Шекспир. Я не жесток, ваше величество, но вы знаете предание о Юпитере и Семеле. Не моя вина, что мои молнии опалили ее.
Елизавета. Вы много мните о себе, сэр; это не нравится вашей королеве.
Шекспир. О, ваше величество, разве прилично мне напоминать о себе скромным покашливанием, как второстепенному поэту, умаляя ценность своего вдохновения и сводя на нет величайшее чудо вашего царствования? Я сказал, что «замшелый мрамор царственных могил исчезнет раньше» тех слов, которыми я по своей воле изображаю мир то полным великолепия, то глупым и смешным. Кроме того, я хотел бы быть достаточно великим в ваших глазах, чтобы вы удостоили меня одной милости.
Елизавета. Я надеюсь, что это милость, о которой можно просить, не оскорбив королеву-девственницу, сэр. Вы так дерзки, что я не доверяю вам и прошу вас помнить: я не потерплю, чтобы человек вашего звания – не в обиду будь сказано вашему родителю-олдермену – зашел слишком далеко.
Шекспир. О, ваше величество, я не позволю себе забыться еще раз; хотя, клянусь жизнью, будь я властен превратить вас в служанку, вы остались бы королевой и девственницей ровно столько времени, сколько нужно молнии, чтобы пересечь Темзу. Но раз уж вы королева и не желаете знать ни меня, ни Филиппа Испанского, ни какого другого смертного мужчины, мне приходится сдерживать себя по мере сил и просить вас лишь о монаршей милости.
Елизавета. Монаршая милость? Так скоро? Вы становитесь царедворцем, как и все остальные. Вы жаждете отличий.
Шекспир. «Жаждете отличий». С разрешения вашего величества, – фраза, достойная королевы. (Собирается записать.)
Елизавета (вышибает табличку у него из рук). Ваши таблички мне надоели, сэр. Я не затем пришла сюда, чтобы писать за вас ваши пьесы.
Шекспир. Вы пришли сюда, чтобы вдохновлять их, ваше величество. Это, наряду с другими делами, предназначено вам свыше. Но милость, которой я домогаюсь, – это чтобы вы отпустили средства на постройку большого дома для представлений или, если вы разрешите мне изобрести для него ученое название, – Национального театра для просвещения и услаждения подданных вашего величества.
Елизавета. Стоит ли, сэр, разве мало театров на Бэнксайд и в Блэкфрайерс?
Шекспир. Ваше величество! Их держат необеспеченные, на все готовые люди, которые, чтобы не умереть с голоду, показывают глупцам то, что им больше всего по нраву; а по нраву им, видит бог, отнюдь не то, что возвышает их душу и служит их просвещению, как то являет нам пример церквей, куда народ нужно загонять силой, хотя они и открыты для всех и вход бесплатный. Только если в пьесе есть убийство, или заговор, или красивый юноша в юбке, или грязные проделки каких-нибудь распутников, только тогда ваши подданные согласны оплачивать дорогих, хороших актеров и их наряды, да так, чтобы и театру что-то осталось. В доказательство моих слов расскажу вам, что я написал две прекрасные, возвышенные пьесы, в которых вывел женщин, наделенных таким же благородным сердцем и плодотворным рвением, как вы, ваше величество: одна – искусная целительница, другая – послушница в монастыре, посвятившая себя добрым делам. А еще я украл из одной пустой, непотребной книжки две самые пустые нелепицы: одна – о женщине, что ходит в мужском платье и бесстыдно ухаживает за своим кавалером, а он радует партер тем, что сбивает с ног знаменитого борца, другая – о красотке, что щеголяет своим умом, преподнося без счета непристойности вельможе, столь же развратному, как и она сама. Я написал их, чтоб помочь друзьям, но не скрыл своего презрения к таким глупым выдумкам и к тем, кто их восхваляет, ибо одну я назвал «Как вам это понравится», подразумевая, что это не так, как нравится мне, а другую – «Много шума из ничего», чем она и является. И теперь эти две непотребные пьесы изгнали со сцены своих более благородных собратьев, так что свою целительницу, например, я совсем не могу показать – такая порядочная женщина не по вкусу нашей публике. Поэтому, ваше величество, я обращаюсь к вам с покорной просьбой: прикажите выделить из государственных доходов средства на создание театра, где я мог бы ставить те мои пьесы, которые не берет ни один театральный делец, хорошо зная, что ему гораздо выгоднее ставить скверные вещи, чем хорошие. Это будет также поощрением для других, пьесы начнут писать люди, которые сейчас презирают это занятие и целиком отдают его в руки тех, чьи писания не могут прославить вашу корону. Ибо сочинение пьес – серьезное дело, ведь так сильно влияние театра на склонности людей и их умы, что все происходящее на сцене они принимают всерьез и стремятся перенести в действительный мир, который есть не что иное, как большая сцена. Еще не столь давно, как вам известно, церковь поучала народ при помощи представлений; но народ шел смотреть только такие пьесы, в которых показывали всякие нелепые чудеса да мучеников в кровавых язвах, так что церковь, и так уже понесшая убытки от политики вашего венценосного отца, отказалась от театрального искусства и перестала поощрять его. И таким образом оно угодило в руки нищих актеров и алчных дельцов, которые заботятся не о славе вашего королевства, а лишь о своем кармане. И теперь вашему величеству следует продолжить доброе дело, от которого ваша церковь отказалась, и восстановить былое достоинство театра и его высокое назначение.
Елизавета. Мистер Шекспир, я поговорю об этом с лордом-казначеем.
Шекспир. Тогда я пропал, ваше величество, ибо не было еще лорда-казначея, у которого нашлось бы сверх необходимых правительственных расходов хоть одно пенни на что-либо, кроме войны или жалованья собственному племяннику.
Елизавета. Мистер Шекспир! Вы сказали истинную правду, но не в моих силах как-либо помочь делу. Я не могу обидеть моих беспокойных пуритан, взвалив на жителей Англии расходы по такому развратному учреждению, как театр; и есть тысяча вещей, которые нужно сделать здесь, у меня в Лондоне, прежде чем в казне найдется хоть пенни для вашей поэзии. Поверьте, мистер Уилл, пройдет триста лет, а может быть, и того больше, пока мои подданные поймут, что не одним хлебом жив человек, но и словом, исходящим из уст тех, кого вдохновляет Всевышний. К тому времени мы с вами будем прахом под копытами лошадей, если, конечно, тогда еще будут лошади и люди будут ездить на них, а не летать по воздуху. Впрочем, к тому времени и ваши произведения, быть может, обратятся в прах.
Шекспир. Они пребудут в веках, ваше величество, за них не опасайтесь.
Елизавета. Возможно. Но в одном я уверена, – ибо я знаю моих соотечественников, – пока все другие страны христианского мира вплоть до варварской Московии и селений невежественных германцев не станут содержать театры за счет казны, Англия ни за что не решится на такой шаг. А если наконец решится, то лишь потому, что она всегда стремится следовать моде и смиренно и послушно проделывать все, что проделывают на ее глазах другие. Пока же довольствуйтесь тем, что есть, ставьте эти две пьесы, которые вы считаете самыми скверными из всего вами написанного, но которые ваши соотечественники, уверяю вас, будут с пеной у рта причислять к лучшим вашим творениям. Одно я скажу: если б было в моей власти обратиться через века к нашим потомкам, я искренне посоветовала бы им исполнить вашу просьбу. Ибо правильно сказал шотландский менестрель, что создающий песни народа могущественнее, чем создающий его законы. И то же самое можно сказать относительно интермедий и пьес.
Часы бьют первую четверть. Часовой возвращается с обхода.
А теперь, сэр, настал час, когда королеве-девственнице более подобает быть в постели, чем беседовать наедине с самым дерзким из своих подданных. Эй, люди! Кто сегодня охраняет покои королевы?
Часовой. Я, ваше величество.
Елизавета. Так смотрите, впредь охраняйте их получше. Вы пропустили очень опасного кавалера к самым дверям нашей королевской опочивальни. Выведите его да известите меня, когда накрепко запрете за ним ворота; я не решусь снять одежды, пока дворцовая ограда не разделит нас.
Шекспир (целует ей руку). Я ухожу через ворота во тьму, ваше величество, но мысли мои следуют за вами.
Елизавета. Что? К моему ложу?
Шекспир. Нет, ваше величество, к вашим молитвам, в которых я прошу вас помянуть и мой театр.
Елизавета. С этой молитвой я обращаюсь к потомству. А сами вы не забудьте вознести молитву к Богу. Доброй ночи, мистер Уилл.
Шекспир. Доброй ночи, великая Елизавета! Боже, храни королеву!
Елизавета. Аминь!
Расходятся: она – в свои покои; он, под охраной часового, – к воротам, что обращены к Блэкфрайерс.
Сноски
1
© Перевод. П. Мелкова, наследники, 2004
(обратно)2
«Девушка с Запада» (ит.).
(обратно)3
© Перевод. М. Богословская и С. Бобров, наследники, 2004
(обратно)4
© Перевод. М. Лорие, наследники, 2004
(обратно)5
Пьесе на случай (фр.).
(обратно)6
Великим творением (лат.).
(обратно)7
Познающий через сочувствие (нем.).
(обратно)8
Производными (лат.).
(обратно)9
«Из бездны» (лат.).
(обратно)10
Из бездны высокой (лат.).
(обратно)



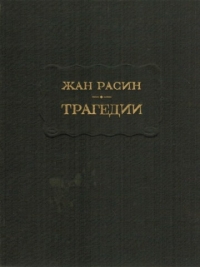

Комментарии к книге «Пигмалион. Кандида. Смуглая леди сонетов», Бернард Шоу
Всего 0 комментариев