Бернард Шоу Святая Жанна Хроника в шести сценах с эпилогом
Действующие лица
Жанна
Дофин, впоследствии король Карл VII
Архиепископ Реймский
Дюнуа – «Незаконнорожденный»
Ла Гир
Жиль де Рец – «Синяя Борода»
Герцог Ла Тремуйль
Герцогиня Ла Тремуйль
Роберт де Бодрикур
Управитель де Бодрикура
Де Пуленгей
Кошон – епископ Бовэ
Граф Уорик
Джон де Стогамбер – капеллан кардинала лорда Винчестера
Инквизитор
Жан Леметр, Ладвеню – доминиканские монахи
Жан Д’Эстивэ – каноник, прокурор
Английский Солдат
Пажи Дофина, Дюнуа и Уорика, придворные, судьи инквизиции, солдаты.
Картина первая
Солнечное утро в замке Вокулёр на реке Маас, между Лотарингией и Шампанью, весною 1429 года.
Капитан Роберт де Бодрикур – красивый, крепкого сложения военный, но – увы! – совершенно бесхарактерный, скрывает этот свой порок, пробирая своего управителя – забитого и хилого мозгляка, со скудной растительностью, которому можно дать сколько угодно лет – от 18 до 55, ибо эту породу людей, не знавших расцвета, возраст и не сушит.
И сеньор, и слуга находятся в залитом солнцем каменном зальце на первом этаже замка. Капитан де Бодрикур сидит боком у простого, крепко сколоченного дубового стола на дубовом же стуле, в правом углу сцены.
Управитель же стоит перед ним, если, конечно, так можно назвать его униженную позу, по другую сторону стола.
Позади настежь растворено окно с переплетом XIII века. Неподалеку от окна, в углу, башенка с узкой сводчатой дверцей, за которой винтовая лестница опускается во двор. Под стол задвинут приземистый табурет на четырех ножках, а под окном стоит деревянный сундук.
Роберт. Нет яиц? Нет яиц?!! Ах ты, дьявол, как это так, нет яиц?
Управитель. Да разве я виноват? Это же воля Божия!
Роберт. Не богохульствуй! Ты говоришь, что у тебя нет яиц, и смеешь винить в этом твоего Создателя?
Управитель. Но что ж мне делать? Я не умею нести яйца!
Роберт (с издевкой). Ей-богу?
Управитель. Мне самому туго приходится без яиц. Куры-то не несутся!
Роберт. Да ну? (Поднимаясь.) Послушай, ты…
Управитель (униженно). Слушаю…
Роберт. Кто, по-твоему, я такой?
Управитель. Кто вы такой?
Роберт (подходя к нему). Кто я такой? Дворянин – Роберт де Бодрикур, владелец замка Вокулёр, или же какой-нибудь погонщик скота?
Управитель. Господи, будто вы сами не знаете. Вы сильнее самого короля!
Роберт. А ты знаешь, кто ты такой?
Управитель. Нуль, ровным счетом нуль… Если забыть о том, что я имею счастье быть вашим управителем.
Роберт (загоняя его в стенку одним свирепым эпитетом за другим). Ты не только имеешь счастье быть моим управителем, но и несчастье быть самым гнусным, самым никчемным, нудным, паскудным, сопливым, болтливым болваном из всех управителей во Франции. (Делает несколько шагов к столу.)
Управитель (в страхе прижавшись к сундуку). Совершенно верно, сеньор! Такому великому человеку, как вы, я и должен казаться таким, как вы говорите.
Роберт (оборачиваясь). Опять я не прав, а?
Управитель (робко приближаясь к нему). И всегда-то вы самую невинную мысль вывернете наизнанку!
Роберт. Я и твою шкуру выверну наизнанку, если ты посмеешь говорить, будто не умеешь нести яйца…
Управитель (пытаясь возразить). Но, Господи, но, Господи…
Роберт. И слушать не хочу! Три мои берберийские курицы, да и черненькая тоже – лучшие несушки во всей Шампани. А ты говоришь, что у нас нет яиц. Куда они девались? Кто их стащил? Говори, не то я вышвырну тебя из замка, лгун ты такой-этакий! Даешь меня обкрадывать? Да ведь и молока вчера не хватило, ты разве не помнишь?
Управитель (в полном отчаянии). Помню, еще, как помню. И молока нет; и яиц нет; а завтра и вовсе ничего не будет!
Роберт. Не будет? Все хочешь украсть дочиста?
Управитель. Что вы, помилуй Бог. Да разве кто решится у вас воровать? Порчу на вас навели, колдовство…
Роберт. Ты мне зубы не заговаривай. Ступай! Принеси мне пять десятков яиц и две кринки молока еще до полудня, не то не уберечь тебе твоих костей! Я научу, как меня дурачить! (Усаживается на свое место с видом, полным решимости.)
Управитель. Говорю вам: нету у меня яиц! И не будет, хоть вы меня убейте! Покуда Дева стоит у дверей.
Роберт. Дева? Какая-такая дева? Что ты мелешь?
Управитель. Девушка из Лотарингии. Из Домреми.
Роберт (вскакивая от охватившей его ярости). Тридцать тысяч громов и молний! Пятьдесят тысяч чертей! Уж не хочешь ли ты сказать, что та самая девица, которая имела наглость добиваться свидания со мной и которую я приказал тебе отослать назад, к родителям, чтобы ее высекли, – она все еще здесь?
Управитель. Да неужто я ей не говорил, чтобы она убиралась? А она не желает, и все.
Роберт. Я не приказывал тебе ее уговаривать, я приказал тебе ее выгнать! У тебя не меньше пятидесяти стражников и дюжина здоровенных слуг, чтобы выполнить мое приказание. Уж не боишься ли ты ее часом?
Управитель. Она так уверена в своей правоте…
Роберт (хватает его за шиворот). А я вот уверен, что сброшу тебя с лестницы!
Управитель (беспомощно обвиснув у него в руках). Господи, господи! Да разве вы избавитесь от нее, если скинете меня с лестницы? (Роберт отпускает его, он падает и так и стоит на четвереньках, смиренно поглядывая с пола на своего сеньора.) Видите, вы куда увереннее меня. Но и она тоже.
Роберт. Да я просто сильнее тебя, дуралей.
Управитель. Нет, сеньор, дело совсем не в мускулах, сила у вас в характере. Она ведь куда слабее вас обоих – щупленькая девчонка, – а поглядите, мы никак не можем от нее избавиться.
Роберт. Да все вы тут мокрые курицы и просто ее боитесь.
Управитель (опасливо поднимаясь с пола). Нет, сеньор, боимся мы вас, а она, наоборот, вселяет в нас мужество. Она-то ведь ничего не боится. Может, вам удастся ее запугать…
Роберт (с угрозой). Попробую. Где она?
Управитель. На дворе, разговаривает с солдатами. Она всегда разговаривает с солдатами. Когда не молится.
Роберт. Молится! Ха! Болван, думаешь, она молится? Знаем мы этих девиц, которые любят поболтать с солдатами. А ну-ка, пусть она поговорит со мной. (Подходит к окну и сердито орет вниз.) Эй, ты там!
Голос девушки (веселый, сильный, грубоватый). Это вы меня зовете, что ли?
Роберт. Тебя.
Голос девушки. А вы и есть капитан?
Роберт. Да, черт возьми, я и есть капитан. Ступай сюда. (Солдатам внизу.) Вы, покажите ей дорогу. Побыстрее! (Отходит от окна и, вернувшись на место, усаживается с царственным видом.)
Управитель (шепотом). Она сама желает стать солдатом. Хочет, чтобы вы дали ей солдатскую одежду. Латы, понимаете. И меч! Ей-богу! (Пробирается к Роберту за спину.)
В дверях башни появляется Жанна. Это здоровая деревенская девушка, прилично одетая в добротное красное платье. У нее необыкновенное лицо. Глаза широко расставлены и чуть-чуть выпуклы, как это часто бывает у людей с очень богатым воображением; нос скорее длинный, но изящный, с раздувающимися ноздрями; верхняя губа короткая, рот твердый, со слегка припухшими губами; красиво очерченный, воинственный подбородок. Она с волнением подходит к столу, радуясь, что ей наконец удалось пробиться к Бодрикуру, полная надежд на успех. Его нахмуренное лицо не в силах ее ни смутить, ни оттолкнуть. Голос у Жанны обычно веселый, заразительный; в нем слышится такая вера в себя, что ей трудно противостоять.
Жанна (небрежно приседая). С добрым утром, сеньор капитан. Послушайте, вы должны мне дать коня, доспехи и стражу и послать к дофину. Так повелел Всевышний.
Роберт (с негодованием). Повелел? Мне? Какой такой Всевышний? Ступай к нему и скажи, что я не его вассал – я полноправный владетель Бодрикура и не подчиняюсь никому, кроме короля.
Жанна (умиротворяющим тоном). Ну да, никто ничего и не говорит. Всевышний – он и есть царь, только Царь Небесный.
Роберт. Девчонка, видно, совсем спятила. (Управителю.) Что же ты меня не предупредил, болван?
Управитель. Молю вас, не сердите ее, дайте ей то, что она просит!
Жанна (нетерпеливо, но еще дружелюбно). Да все вы поначалу говорите, что я спятила, а потом все равно меня слушаетесь. На то и воля Божия, чтобы вы делали то, что Он мне внушил.
Роберт. Господь внушил, чтобы я отправил тебя к отцу, а тот тебя запер и выбил из тебя дурь.
Жанна. Вам только кажется, что вы так поступите. А на самом деле все будет совсем по-другому. Вот вы говорили, что меня к себе не пустите, а чем это кончилось? Я тут как тут!
Управитель (с мольбой). Видите, что получается!
Роберт. Ты лучше помалкивай.
Управитель (униженно). Слушаю.
Роберт (Жанне, с кислой усмешкой, но уже без прежней уверенности). Значит, это ты заставила меня тебя принять?
Жанна (ласково). А кто же?
Роберт (чувствуя, что он вынужден отступить, изо всех сил бьет обоими кулаками по столу и, выпятив грудь, пытается хоть таким путем избавиться от неприятного, но давно знакомого ему ощущения собственной слабости). Вот увидишь. Я сейчас покажу тебе свою волю!
Жанна (поспешно). Пожалуйста, показывайте. Лошадь обойдется всего в шестнадцать франков. Это, конечно, большие деньги, но я постараюсь истратить поменьше на доспехи. Можно обойтись и солдатскими латами. Они будут мне как раз впору, я выносливая, на кой мне сдались богатые доспехи, такие, как носите вы! Да и много солдат мне не надо. Дофин мне даст их столько, сколько нужно, чтобы снять осаду с Орлеана.
Роберт (вне себя от изумления). Снять осаду с Орлеана?!
Жанна (простодушно). Конечно, а что же, по-вашему, повелел мне Всевышний? Хватит, если вы дадите мне хотя бы трех солдат, – если они люди хорошие и будут со мною ласковы. Да ведь кое-кто уж пообещал со мной поехать. Полли, Жак…
Роберт. Полли? Ах ты, девчонка, как ты смеешь так называть рыцаря Бертрана де Пуленгея?
Жанна. Да ведь Полли так зовут его же друзья, я и не знала, что у него есть другое имя. А Жак…
Роберт. По-видимому, речь идет о господине де Метце?
Жанна. Наверно. Жак поедет с охотой, он – добрый, всегда дает мне деньги для бедных. Не откажутся и Жан-Спасибог, и Дик-Стрелок, да и слуги их тоже: Жан из Орекура, Жулиан… Вам это не составит никаких хлопот, я все устроила, дайте только приказ…
Роберт (разглядывая ее с немым изумлением). Будь я проклят!..
Жанна (с невозмутимым благодушием). Зачем же? Господь милостив, а святая Екатерина и святая Маргарита, которые беседуют со мной чуть не каждый день (у Роберта от удивления отвисает челюсть) тоже замолвят за вас словечко… Вы непременно попадете в рай, и ваше имя останется в веках, как имя первого моего пособника.
Роберт (управителю, еще расстроенный, но уже меняя тон). Она говорит правду насчет господина де Пуленгея?
Управитель (услужливо). Правду, чистую правду, и насчет господина де Метца тоже. Оба они желают с ней ехать.
Роберт (задумавшись). Та-а-ак… (Подходит к окну и кричит во двор.) Эй! Вы там! Пошлите ко мне господина де Пуленгея! (Оборачивается к Жанне.) Ступай и обожди во дворе.
Жанна (радостно улыбаясь). Слушаюсь, начальник. (Выходит.)
Роберт (управителю). Ступай за ней и ты, безмозглый дурак! Не уходи далеко, жди, пока тебя кликнут, и не спускай с нее глаз. Я ее опять позову.
Управитель. Ради бога, сделайте это, сеньор. Подумайте о ваших курах – ведь это лучшие несушки во всей Шампани…
Роберт. А ты подумай о моем сапоге и убери от него подальше свою задницу…
Управитель поспешно ретируется и сталкивается в дверях с Бертраном де Пуленгеем – малокровным французом лет 36, на службе у начальника военной полиции. Он мечтателен, рассеян, редко пускается в разговоры, если его ни о чем не спрашивают, да и тогда отвечает нехотя и не сразу, – словом, это – полнейшая противоположность самонадеянному, крикливому, по виду деятельному, а по существу безвольному Роберту. Управитель, уступив ему дорогу, скрывается за дверью. Пуленгей отдает честь и стоит, ожидая приказаний.
Роберт (приветливо). Я тебя звал не по делам службы, Полли, а по делам дружбы. Садись. (Зацепив ногой под столом табурет, толкает его к собеседнику.)
Пуленгей с облегчением входит в комнату, ставит табурет между окном и столом и меланхолически усаживается.
Роберт, присев на край стола, завязывает дружескую беседу.
Роберт. Послушай, Полли. Мне надо поговорить с тобой по-отечески. (Пуленгей поднимает на него глаза, но не произносит ни слова.) Речь идет об этой самой девице, которой ты, кажется, интересуешься… Я ее видел. И даже с ней говорил. Во-первых, она сумасшедшая. Но это не важно. Во-вторых, совсем она не крестьянка. Она – городская. А это плохо. Знаю я их породу: отец ее приезжал сюда в прошлом году депутатом от своей деревни для участия в какой-то тяжбе. Он там у них фигура. Не какой-нибудь батрак. Или механик. У такого обычно двоюродный брат – судейский или священник. Властям от них приходится солоно. Тебе, небось, кажется, что ты можешь заморочить девчонке голову, будто везешь ее к дофину, ищи ее потом! Но если ты ее испортишь, мне не обобраться хлопот! Дружба дружбой, Полли, но ты ее не тронь!
Пуленгей (медленно). Я скорее решился бы тронуть Святую Деву.
Роберт (слезая со стола). Но она утверждает, что ты, Дик и Жак обещались с ней куда-то поехать. Надеюсь, ты не станешь меня уверять, будто принял всерьез ее бредни насчет дофина?
Пуленгей (медленно). В ней что-то есть. Наша солдатня, ты знаешь, не больше церемонится в выражениях, да и в мыслях у них святости маловато… Но ни разу никто и виду не подал, что она женщина. В ее присутствии теперь даже не ругаются. В ней что-то есть. Ей-богу, есть.
Роберт. Помилуй, Полли! Возьми себя в руки. У тебя и раньше не хватало здравого смысла, но это уж слишком! (Отходит от него с отвращением.)
Пуленгей (нимало не уязвленный). А какой толк от вашего здравого смысла? Если бы он и в самом деле у нас был, мы давно бы перешли на сторону англичан и герцога Бургундского. У них в руках полстраны, до самой Луары. Они держат Париж. Они – хозяева и этого замка, – ты-то ведь знаешь, что сидишь тут только с дозволения англичан. Дофин в Шиноне, загнан как крыса в угол, – только крысы кусаются, а он смирный. Мы даже не уверены, что он и в самом деле дофин, – мать его утверждает обратное, а ей лучше знать. Нет, только подумай, королева объявила собственного сына незаконнорожденным!
Роберт. Что поделаешь, в награду она выдала дочь за английского короля.
Пуленгей. Да я ее и не виню. Но дофин впал в полное ничтожество. Англичане возьмут Орлеан; Дюнуа им не помеха. Его солдаты деморализованы, а он не может творить чудеса. Вы мне поверьте: ничто нас не может спасти, кроме чуда.
Роберт. Кто же станет возражать против чудес! Беда в том, что в наши дни они не случаются.
Пуленгей. Я и сам так думал. А вот теперь… (Поднимается и задумчиво подходит к окну). Чем черт не шутит?.. В этой девушке что-то есть…
Роберт. Вот оно что? Ты веришь, что девушка умеет творить чудеса?
Пуленгей. Я верю, что девушка сама по себе в некотором роде чудо. И как ни вертись, это – наш последний козырь. Лучше пойти с него, чем бросать карты на стол. (Бродит по комнате и приближается к башенке.)
Роберт (колеблясь). Это ты серьезно?
Пуленгей (оборачиваясь). А что нам еще осталось?
Роберт (подходя к нему). Послушай, Полли. Будь ты на моем месте, ты позволил бы какой-то девчонке обставить себя на шестнадцать франков?
Пуленгей. Я сам заплачу за лошадь.
Роберт. Ты?
Пуленгей. Да, я готов нести материальную ответственность за свои убеждения.
Роберт. Ты рискнешь шестнадцатью франками, поставив на несбыточную надежду?
Пуленгей. Риска нет.
Роберт. А что же есть?
Пуленгей. Это – игра наверняка. Ее слова и пламенная вера зажгли даже меня.
Роберт (видя, что его не переубедишь). Фью! Ты такой же сумасшедший, как и она.
Пуленгей (упрямо). Нам сейчас нужно хоть несколько сумасшедших. Погляди, до чего довели нас разумные!
Роберт (его нерешительность явно побеждает). Ты так уверен…
Пуленгей. …что согласен сам свезти ее в Шинон, если ты не будешь чинить мне препятствий.
Роберт. Ну, это нехорошо! Ты сваливаешь на меня ответственность!
Пуленгей. Ты ее все равно несешь, как бы ты ни решил.
Роберт. В том-то и беда! Пойми, в какое я попал положение. (Делает обходной маневр в надежде, что Жанна решит за него.) А тебе не кажется, что мне стоит поговорить с ней еще разок?
Пуленгей (поднимаясь). Да. (Подходит к окну и кричит.) Жанна!
Голос Жанны. Он нас пустит, Полли?
Пуленгей. Поднимись наверх. (Роберту.) Оставить вас вдвоем?
Роберт. Ни в коем случае!
Пуленгей усаживается на сундук, Роберт возвращается к своему креслу, но стоит возле него, чтобы ему было легче напыжиться. Входит Жанна, радуясь добрым вестям.
Жанна. Жак согласен дать половину за лошадь.
Роберт. Ну, знаете!.. (Опускается в кресло в полной растерянности.)
Пуленгей (без улыбки). Садись, Жанна.
Жанна (чуточку смущена, глядя на Роберта). Можно?
Роберт. Делай, что тебе говорят. (Жанна приседает и усаживается на табурет между ними обоими. Роберт прикрывает свое малодушие самым что ни на есть властным тоном.) Как тебя зовут?
Жанна (охотно). В Лотарингии все меня звали Женни. А здесь, во Франции – Жанной. Солдаты называют меня – Дева.
Роберт. Фамилия?
Жанна. А что это такое? Отец иногда зовет себя д'Арк – почему, не знаю. Вы ведь видали моего отца. Он…
Роберт. Да, припоминаю… Ты из Лотарингии?
Жанна. Какая разница? Мы тоже говорим по-французски.
Роберт. Не задавай вопросов. Твое дело отвечать. Сколько тебе лет?
Жанна. Говорят, семнадцать. Может, и девятнадцать. Не помню.
Роберт. Что это за россказни, будто с тобой чуть не каждый день беседуют святая Екатерина и святая Маргарита?
Жанна. Это правда.
Роберт. Они с тобой разговаривают так, как разговариваю с тобой я?
Жанна. Ну нет, совсем не так. Но не надо говорить о моих голосах.
Роберт. О каких это таких голосах?
Жанна. Я слышу голоса, которые говорят, что мне нужно делать. Это от Бога.
Роберт. Это от твоего возбуждения.
Жанна. Конечно. А как же без него узнать волю Божию?
Пуленгей (Роберту). Шах и мат.
Роберт. Ничего подобного! (Жанне.) Значит, это Бог призывает тебя снять осаду с Орлеана?
Жанна. И короновать дофина в Реймском соборе.
Роберт (не веря своим ушам). Короновать до… Господи Иисусе!
Жанна. И выгнать англичан из Франции.
Роберт (язвительно). Всего-навсего?
Жанна (с обольстительной улыбкой). Пока что да, благодарю вас!
Роберт. Ты думаешь, что снять осаду – это все равно как выгнать корову с огорода?.. Ты думаешь, что воевать может каждый дурак?
Жанна. Да не такое это трудное дело, если Бог на вашей стороне. Правда, многие военные уж больно глупы…
Роберт (мрачно). Глупы! А ты видела, как воюют англичане?
Жанна. И они только люди. Бог создал их по нашему подобию, но дал им собственную страну и собственный язык. Он не велел им приходить в нашу страну и говорить на нашем языке.
Роберт. Кто тебе набил голову такой чепухой? Разве ты не знаешь: солдаты подчиняются своему феодалу, какая им разница, кто он такой – король английский или король французский?
Жанна. Все мы подданные одного и того же Царя Небесного, Он даровал нам нашу родину и наш язык, и повелел нам хранить их неукоснительно. А иначе как же можно убивать в бою? Ведь тогда это убийство, и вам грозила бы геенна огненная!
Пуленгей. Гиблое дело, Роберт. Она тебя совсем забьет.
Роберт. Посмотрим. (Жанне.) Чего нам вдаваться в богословие, поговорим о делах житейских. Я тебя спрашиваю: ты когда-нибудь видела, как дерутся англичане? Как они грабят, жгут, превращают весь край в пустыню? Слышала рассказы об их Черном Принце, чья душа чернее, чем у самого дьявола? А об отце нынешнего их короля?
Жанна. Не бойся, Роберт…
Роберт. Будь ты проклята, разве я трус? И кто тебе позволил звать меня Робертом?
Жанна. Вам дали это имя в храме. Все остальные имена – не ваши: они либо вашего отца, либо вашего брата, либо еще чьи-то.
Роберт. Ха!
Жанна. Нет, лучше вы меня послушайте! В Домреми, когда туда пришли англичане, нам пришлось бежать в соседнюю деревню. Троих солдат ранило, и англичане бросили их там на произвол судьбы. Я их видела: у этих бедняг не было и вполовину моей силы. Слышала я и про Черного Принца. В тот час, когда нога его ступила на нашу землю, в душу его вселился дьявол, он-то и превратил принца в исчадие ада. Но у себя дома, там, где ему повелел жить Господь, он был человек хороший. И всегда так. Если бы я, против воли Божьей, пошла на Англию, чтобы ее завоевать, стала бы там жить и говорить на их языке, и в меня бы, наверно, вселился дьявол.
Роберт. Возможно. Но чем больше в тебе дьявола, тем лучше ты дерешься. Потому-то англичане и возьмут Орлеан. И ни ты, ни десять тысяч таких, как ты, не смогут их остановить!
Жанна. Их может остановить тысяча таких, как я. Их могут остановить десять таких, как я, если на нашей стороне Бог. (Вскакивает со своего места и подходит к нему.) Ничего-то вы не понимаете! Наших солдат бьют потому, что они защищают только свою шкуру, а как лучше всего спасти свою шкуру? Пуститься наутек. Рыцари ваши думают только о военной добыче. Их не заботит, кто кого убьет. Все их помыслы о том, кто кому заплатит. Но я научу их драться за то, чтобы во Франции царила воля Божия. И тогда бедные англичане побегут от нас, как стадо трусливых овец. Вы с Полли увидите день, когда на французской земле не останется ни единого английского солдата. Будет один король, и не английский феодал, а Богом данный король Франции.
Роберт (Пуленгею). Все это чепуха, Полли, но войска будут слушать эту чепуху, разинув рот. Даже дофин, и тот поверит. А если она заставит драться дофина, она на все способна.
Пуленгей. Давай попробуем. В девушке что-то есть…
Роберт (Жанне). Теперь слушай меня и (с отчаянием) не прерывай, покуда я не додумаю до конца…
Жанна (шлепаясь снова на табурет, как послушная школьница). Да, капитан.
Роберт. Приказываю тебе отправиться в Шинон в сопровождении этого офицера и троих его друзей!
Жанна (сияя, сжав от восторга ладони). Ах, сеньор! Вокруг вашей головы – сияние, как у святого.
Пуленгей. Как она проникнет к королю?
Роберт (с опаской глядя наверх, нет ли над ним и в самом деле нимба). А как она проникла ко мне? Если дофин сумеет ее не пустить – я его недооценивал. (Встает.) Пусть едет в Шинон и скажет, что послал ее я. А там будь что будет.
Жанна. А латы? Можно мне надеть солдатскую одежду, капитан? Можно?
Роберт. Надевай что хочешь. Я умываю руки.
Жанна (в бешеном возбуждении). Идем, Полли, скорей! (Бросается вон из комнаты.)
Роберт (пожимая руку Пуленгею). Прощай, дружище, видишь, на что я отважился? Мало кто на это был бы способен. Но ты прав, в ней что-то есть.
Пуленгей. В ней что-то есть. Прощай. (Выходит.)
Роберт, все еще сомневаясь, не оставила ли его в дураках какая-то сумасшедшая, да еще из низов, отходит от двери, почесывая затылок. Вбегает Управитель с корзинкой.
Управитель. Сеньор, сеньор…
Роберт. Ну, что там еще?
Управитель. Куры несутся как оглашенные! Шесть десятков яиц!
Роберт (судорожно замирает, крестится, с трудом разжимает бледные губы). Боже милостивый! (Громко, задыхаясь.) Воистину, она – посланец Божий!
Картина вторая
Замок Шинон в Турени. Часть тронного зала, отделенная занавесью. Дофина ожидают архиепископ Реймский – дородный князь церкви, у которого нет ничего духовного, кроме властной осанки, и лорд-канцлер – монсеньор де ла Тремуйль – заносчивое чудовище, не человек, а винная бочка. Справа от них обоих – дверь. Солнце давно перевалило за полдень 8 марта 1429 года. Архиепископ хранит величавое достоинство, а стоящий от него по левую руку Канцлер просто пышет яростью.
Ла Тремуйль. Какого черта дофин заставляет себя ждать? Ну и терпеньице же у вас – стоите как каменный истукан!
Архиепископ. Конечно. Я – архиепископ, а что такое архиепископ? В некотором роде истукан. Наше ремесло приучило нас к выдержке – ведь нам приходится имело дело с таким политическим дураком! Да к тому же, любезный мой канцлер, у дофина есть привилегия королей: заставлять себя ждать.
Ла Тремуйль. Будь он проклят, этот дофин, не при вас будь сказано! Знаете, сколько он мне должен?
Архиепископ. Видимо, куда больше, чем мне, – вы ведь богаче.
Ла Тремуйль. Двадцать семь тысяч он у меня вытянул напоследок. Двадцать семь тысяч чистоганом.
Архиепископ. Но куда все это девается? Ни разу не видел на нем костюма, который я решился бы кинуть последнему из моих служек.
Ла Тремуйль. За обедом он довольствуется цыпленком или обрезком баранины. (В дверях появляется Паж.) Наконец!
Паж. Увы, ваша светлость, это не его величество. Сюда идет господин де Рец.
Ла Тремуйль. Этот молокосос Синяя Борода? А почему ты нам докладываешь?
Паж. Кажется, что-то случилось. С ним капитан ла Гир.
Входит Жиль де Рец, молодой человек 25 лет, очень франтоватый и очень самоуверенный. Бросая вызов двору, где все гладко выбриты, он кичится своей вьющейся бородкой, выкрашенной в синий цвет. Ему во что бы то ни стало хочется быть приятным, но он не вызывает симпатий, поэтому одиннадцать лет спустя, когда Жиль де Рец попытается восстать против могущества церкви, его обвинят в том, что он получал удовольствие, совершая чудовищные жестокости, и повесят. Пока что виселица еще не бросила на него свою тень. Он весело приближается к Архиепископу. Паж выходит.
Синяя Борода. Ваш смиренный агнец, святейший. Добрый день, монсеньор. Знаете, что случилось с ла Гиром?
Ла Тремуйль. Наверно, так чертыхался, что потерял голову.
Синяя Борода. Наоборот. Франк-Сквернослов, единственный человек в Турени, который даст ему по этой части пять очков вперед, услышал от какого-то солдата, что человеку негоже сквернословить на краю могилы…
Архиепископ. И в других случаях тоже. Но разве Франк-Сквернослов надумал умереть?
Синяя Борода. Он только что свалился в колодезь и утонул. Ла Гир совсем обезумел от страха. (Входит капитан Ла Гир – старый вояка, который чувствует себя куда привольней на бивуаке, чем при дворе.) Я как раз говорю о тебе. Архиепископ тоже думает, что ты – человек пропащий.
Ла Гир (не глядя, шагает мимо Синей Бороды и останавливается между архиепископом и Ла Тремуйлем). Нечего шутить. Дело дрянь… То был совсем не солдат, а переодетый ангел.
Архиепископ, Ла Тремуйль, Синяя Борода (вместе). Ангел?!
Ла Гир. Самый настоящий ангел. Он пробился сюда из Шампани с горсточкой солдат мимо англичан, дезертиров, разбойников и еще невесть кого. Я знаю одного из его спутников – де Пуленгея. Он-то и говорит, что это – ангел. Будь я проклят на веки веков, если я еще хоть разок выругаюсь!
Архиепископ. Весьма благочестивое начало, капитан.
Синяя Борода и Ла Тремуйль смеются. Возвращается Паж.
Паж. Его величество.
Придворные небрежно принимают приличествующие позы. Раздвинув занавес, входит дофин, держа в руках бумагу. Ему 26 лет, и по существу, после смерти отца, он король Карл VII, хотя еще и не коронован. По внешности это довольно жалкое существо, и последняя мода – бриться наголо и прятать как мужчинам, так и женщинам все до последнего волоска под головным убором – отнюдь не делает его красивее. У него небольшие, близко посаженные узкие глазки, длинный нос, который уныло свешивается на вздернутую толстую губу, и выражение лица щенка, привыкшего к тому, что его пинают, но упрямого и трудновоспитуемого. Однако он не глуп и не вульгарен, а задорный юмор дает ему перевес в словесных поединках. Сейчас он взволнован как дитя, получившее новую игрушку. Он подходит к Архиепископу слева. Синяя Борода и Ла Гир отступают к занавеси.
Карл. Архиепископ, знаете, что Роберт де Бодрикур прислал мне из Вокулёра?
Архиепископ (презрительно). Меня давно не забавляют ваши новые игрушки.
Карл (с негодованием). Это совсем не игрушка!
Архиепископ. Ваше высочество напрасно обижается.
Ла Тремуйль (грубо). Хватит ворчать. Что тут у вас?
Карл. А вам какое дело?
Ла Тремуйль. Мое дело знать, какие у вас связи с гарнизоном в Вокулёре. (Выхватив бумагу из рук дофина, не без труда принимается ее читать, водя пальцем по строчкам и разбирая письмо по слогам.)
Карл (чувствуя свое унижение). Вы считаете, что можете обращаться со мной как вам вздумается, потому что я ваш должник и не умею драться. Но в моих жилах течет королевская кровь.
Архиепископ. Ваше высочество, люди сомневаются даже и в этом. В вас так трудно узнать внука Карла Мудрого…
Карл. Я не желаю больше слышать о моем деде! Он был так мудр, что на него пошла мудрость пяти поколений его потомков. Вот я и родился жалким дурнем, которым помыкает, кто хочет.
Архиепископ. Возьмите себя в руки, ваше величество. Такие ребяческие вспышки недостойны вашего сана.
Карл. Снова проповедь? Хоть вы и архиепископ, к вам в гости не приезжают ни святые, ни ангелы.
Архиепископ. О чем вы говорите?
Карл. Ага! Спросите вон этого мужлана. (Показывает на Ла Тремуйля.)
Ла Тремуйль (с яростью). А ну-ка помалкивайте! Понятно?
Карл. Еще бы! И нечего кричать… на весь замок. Лучше бы вы кричали на англичан. И побили бы их для разнообразия.
Ла Тремуйль (подняв кулак). Ах ты, ничто…
Карл (прячась за спину архиепископа). Не смейте поднимать на меня руку! Это измена родине!
Ла Гир. Спокойно, герцог! Спокойно!
Архиепископ (решительно). Послушайте, нельзя же так! Лорд-канцлер, помилуйте, прошу вас! Надо же соблюдать хоть какие-то приличия! (Дофину.) А если вы, ваше величество, не можете владеть королевством, постарайтесь владеть хоть самим собой.
Карл. Опять проповедь?
Ла Тремуйль (передавая бумагу архиепископу). Нате, прочтите мне эту проклятую писанину. У меня вся кровь бросилась в голову, не различаю букв.
Карл (подходя и заглядывая ему через плечо). Дайте я прочту. Я-то умею читать.
Ла Тремуйль (нисколько не уязвленный этой шпилькой, с величайшим презрением). Ну да, больше вы ни на что и не способны.
Архиепископ. Вот не ждал, что у де Бодрикура так мало здравого смысла. Он посылает сюда какую-то деревенскую юродивую…
Карл (прерывая его). Нет, святую, ангела! И она едет ко мне, к королю, а не к вам, архиепископ, при всей вашей святости. Она знает, в ком течет королевская кровь. А вот вы – нет. (Надменно прогуливается вдоль занавеси.)
Архиепископ. Нельзя позволять, чтобы вы увиделись с этой безумной мужичкой.
Карл (оборачиваясь к нему). Но я – король, и такова моя воля.
Ла Тремуйль (грубо). А мы ее не пустим, вот и все.
Карл. Я настаиваю…
Синяя Борода (смеясь над ним). Ай-ай-ай, как нехорошо! Что скажет ваш премудрый дедушка?
Карл. Вот и видно, какой вы невежда. У деда была своя святая; она, бывало, парила по воздуху, когда молилась и рассказывала деду все, что он хотел знать. У несчастного отца было целых две святых: Мария из Майе и Гасконка Авиньонская. У нас это наследственное. Имейте в виду, что бы вы ни говорили, и я заведу себе святую.
Архиепископ. Да она совсем не святая. И даже не носит юбки. Одевается как солдат и скачет верхом с солдатами. Неужели вы думаете, что подобная особа может быть допущена ко двору вашего высочества?
Ла Гир. Обождите! (Подходит к архиепископу.) Вы говорите, что эта девушка носит латы, как солдат?
Архиепископ. Так пишет де Бодрикур.
Ла Гир. Клянусь всеми исчадиями ада – Господь милостивый, прости мне мое богохульство! Клянусь Пресвятой Девой и всеми святыми, что это и есть тот ангел, который поразил насмерть Франка-Сквернослова.
Карл (с торжеством). Видите! Это чудо.
Ла Гир. Она нас всех может отправить на тот свет. Берегитесь!
Архиепископ (строго). Глупости! Никто никого не отправлял на тот свет. Пьяный негодяй, которого тысячу раз попрекали тем, что он сквернословит, свалился в колодец и утонул. Простое совпадение.
Ла Гир. Не знаю, что такое совпадение. Знаю, что парень умер, а она предупреждала его, что он умрет.
Архиепископ. Все мы умрем, капитан.
Ла Гир (крестясь). Надеюсь, не все. (Смолкает, не желая дольше участвовать в разговоре.)
Синяя Борода. Совсем не трудно узнать, ангел она или нет. Когда она придет, давайте сделаем вид, будто дофин – это я.
Карл. Согласен. Если она не поймет, в ком течет королевская кровь, я не буду иметь с ней дело.
Архиепископ. Только церковь производит в святые. Это решать не Бодрикуру. Говорю вам, девица не будет сюда допущена.
Синяя Борода. Но…
Архиепископ (сурово). Я говорю от имени церкви. (Карлу.) Посмейте только ослушаться…
Карл (испуганно, но с недовольством). Если грозите мне отлучением – что я могу сказать? Но вы не дочитали письмо. Де Бодрикур пишет, что она снимет осаду с Орлеана и побьет англичан.
Ла Тремуйль. Белиберда!
Карл. А вы можете спасти Орлеан? При всем вашем хамстве?
Ла Тремуйль (в бешенстве). Вы мне не суйте в нос этот Орлеан! Я больше воевал на своем веку, чем вам и во сне приснится. Но я не могу поспеть повсюду.
Карл. Слава богу хоть за это.
Синяя Борода (становясь между архиепископом и Карлом). В Орлеане во главе войск – Жак Дюнуа, смелый Дюнуа, обольстительный Дюнуа, изумительный, непобедимый Дюнуа, любимец женщин, незаконнорожденный Дюнуа. Неужели какая-то деревенщина совершит то, чего не может он?
Карл. А почему же он не снимет осаду с Орлеана?
Ла Гир. Ветер дует не в ту сторону.
Синяя Борода. Причем тут ветер? Там суша, а не море.
Ла Гир. Крепость стоит на Луаре, а англичане держат мост. Чтобы зайти врагу в тыл, Дюнуа надо переправить войска через реку выше по течению. Он не может побороть и течение, и ветер, а этот дьявол дует в другую сторону. Дюнуа надоело платить священникам за молебны о западном ветре. Ему может помочь только чудо. Вы говорите, что девушка не сотворила с Франком-Сквернословом никакого чуда? Но ведь она его прикончила, правда? Если она пошлет западный ветер, может, и это не будет чудом, но Дюнуа прикончит англичан.
Архиепископ (дочитав письмо). Де Бодрикур и в самом деле весьма воодушевлен…
Ла Гир. Де Бодрикур – страшный осел, но он – солдат, и если он считает, что девица может побить англичан, вся армия будет думать так же.
Ла Тремуйль (архиепископу, который уже колеблется). Пусть будет по-ихнему. Что бы Дюнуа ни делал, его войска отступят, если кто-нибудь не придаст им духу.
Архиепископ. Святая церковь должна проверить девицу, прежде чем принять какое бы то ни было решение. Однако, если его высочество этого желает, допустите ее ко двору.
Ла Гир. Сейчас я ее разыщу. (Выходит.)
Карл. Пойдем, Синяя Борода. Давай-ка сделаем так, чтобы она меня не узнала. (Выходит за занавес.)
Синяя Борода. Мне представиться таким ничтожеством!.. Пресвятая Богородица! (Идет вслед за дофином.)
Ла Тремуйль. Интересно, отгадает она или нет!
Архиепископ. Конечно, отгадает.
Ла Тремуйль. Как? Почем она будет знать?
Архиепископ. Разве она не знает того, что знают все в Шиноне? Что дофин самый невзрачный и хуже всех одетый человек при дворе, а что синюю бороду носит Жиль де Рец?
Ла Тремуйль. Черт, я об этом не подумал.
Архиепископ. Я больше привык к чудесам, чем вы. Она входят в мое ремесло.
Ла Тремуйль (недоумевая). Но какое же тогда это чудо?
Архиепископ. А почему бы и нет?
Ла Тремуйль. Послушайте, что такое чудо?
Архиепископ. Чудо, друг мой, это такое событие, которое укрепляет веру. В этом цель и смысл всяких чудес. Они кажутся необыкновенными тем, кто их видит, и незамысловатыми – тем, кто их совершает. И все же это настоящие чудеса!
Ла Тремуйль. Даже если это жульничество?
Архиепископ. Жульничество обманывает. Явление, которое укрепляет веру, не может обманывать, значит, это не жульничество, а чудо.
Ла Тремуйль (почесывая затылок). Ну что ж, вы ведь архиепископ – вам лучше знать. Мне лично все это кажется делом темным.
Архиепископ. Вы хоть и не священник, но зато – человек государственный, воин. Разве заставишь обывателя платить военные налоги или солдата – жертвовать жизнью, если скажешь им правду?
Ла Тремуйль. Конечно, нет, клянусь Богом! Сразу дым пойдет коромыслом.
Архиепископ. А разве так трудно сказать им правду?
Ла Тремуйль. Господи помилуй, да они вам все равно не поверят.
Архиепископ. Именно. Что ж, церковь правит людьми для блага духовного, вы же правите ими для блага телесного. И путь у нас один: крепить веру при помощи поэтического вымысла.
Ла Тремуйль. Вымысла? Вернее сказать, обмана.
Архиепископ. Неверно, друг мой. Притча – не ложь, хоть и рассказывает о событии, которого не было. Чудо не жульничество, хоть оно порою – не скажу, что всегда, – простое и невинное средство, которым пастырь поддерживает веру своей паствы. Когда эта девушка отыщет среди вас дофина, это не будет чудом, ибо я буду знать, как оно произошло, и, следовательно, вера моя не станет сильнее. Что же до остальных, то если они почувствуют восторг, увидят нечто необыкновенное, – значит, воистину произошло чудо, и слава ему! И вы увидите: девушка будет тронута им больше кого бы то ни было. Она позабудет, что просто отгадала дофина. Может, забудете и вы тоже.
Ла Тремуйль. Не могу понять, чего в вас больше – слуги Божьего или самой хитрой лисы в Турени. Пойдемте, не то мы опоздаем на представление, а я желаю на него поглазеть, все равно, чудо – это или не чудо.
Архиепископ (удерживая его). Вы только не думайте, что я любитель нечестной игры. Будь я простым монахом, которому не надо править людьми, я искал бы утешения у Аристотеля и Пифагора, а не у святых со всеми их чудесами.
Ла Тремуйль. А кто такой, черт побери, этот Пифагор?
Архиепископ. Мудрец, утверждавший, что Земля кругла и вращается вокруг Солнца.
Ла Тремуйль. Вот идиот! Или он был слепой и ничего не видел?
Выходят, откинув занавес, который вскоре совсем раздвигается, открывая тронный зал, где собрался весь двор. Справа на возвышении двойной трон; рядом, красуясь, стоит Синяя Борода; он изображает дофина. И он, и придворные явно увлечены этой забавой. Позади трона – завешенная арка, но главный вход, который охраняют часовые, находится в другом конце зала. От трона к двери открыт проход, по обе стороны которого стоят придворные. Среди них – Карл. Справа от него Ла Гир, слева Архиепископ; он стоит у края возвышения. По другую сторону трона – Ла Тремуйль.
Герцогиня де Ла Тремуйль, представляющаяся королевой, сидит на троне, предназначенном для супруги короля. Ее окружают несколько придворных дам.
Придворные, болтая, подняли такой шум, что никто не замечает появления Пажа.
Паж. Герцог… (Никто его не слушает.) Герцог… (Шум не стихает. Негодуя, что он не может овладеть вниманием придворных, паж выхватывает у ближайшего стражника алебарду и ударяет ею об пол. Болтовня прекращается, и все молча на него смотрят.) Внимание! (Возвращает алебарду стражнику.) Герцог Вандомский просит разрешения представить его величеству Деву Жанну.
Карл (прижимая палец к губам). Тсс! (Прячется за спиной соседа, но выглядывает оттуда с любопытством.)
Синяя Борода (величественно). Пусть приблизится к трону.
Жанну в солдатской одежде, с коротко остриженными волосами, густо обрамляющими ее лицо, смущенно и молча ведет за руку придворный. Она отдергивает руку и нетерпеливо ищет глазами дофина.
Герцогиня (ближайшей придворной даме). Милочка! Поглядите на ее прическу!
Дамы разражаются безудержным хохотом.
Синяя Борода (сдерживая смех и помахивая рукой в знак недовольства их неуместным весельем). Тсс-с! Дамы! Дамы!
Жанна (нисколько не смутившись). Я ношу такую прическу потому, что я – солдат. А где дофин?
Идет к возвышению. По рядам проносится легкий смешок.
Синяя Борода (снисходительно). Вы находитесь в присутствии дофина.
Жанна мгновение смотрит на него недоверчиво, разглядывая его с головы до ног, чтобы не ошибиться. Мертвая тишина. Все глаза следят за ней. На лице ее медленно расплывается улыбка.
Жанна. Ну-ну, Синяя Борода! Ты меня не проведешь. Где дофин?
Взрыв хохота, и Жиль, пожав плечами, присоединяется к общему смеху. Спрыгнув с возвышения, он становится рядом с Ла Тремуйлем.
Жанна, осклабившись во весь рот, поворачивается и, внезапно нырнув в толпу придворных, вытаскивает оттуда за руку Карла.
Жанна (отпуская его и слегка присев в знак приветствия). Добрый мой маленький дофин! Меня послали к тебе, чтобы я прогнала англичан из Орлеана, а потом из Франции, и короновала тебя в Реймском соборе, где коронуют всех истинных королей Франции.
Карл (с торжеством, обращаясь ко всем придворным). Видите? Она сразу узнала, в ком течет королевская кровь. Кто посмеет теперь сказать, что я – не сын своего отца! (Жанне.) Но если ты хочешь короновать меня в Реймсе, договорись об этом с архиепископом. Вон он стоит. (Показывает на архиепископа, стоящего позади Жанны.)
Жанна (поспешно оборачиваясь, вне себя от волнения). Ваше преосвященство! (Падает перед ним на колени, опускает голову, не решаясь взглянуть ему в лицо.) Ваше преосвященство, я всего-навсего бедная деревенская девушка, а вы исполнены благостью Божьей, и вас осеняет слава Господня. Прикоснитесь ко мне и дайте мне свое благословение!
Синяя Борода (шепотом, Ла Тремуйлю). Старая лиса покраснел.
Ла Тремуйль. Вот это чудо!
Архиепископ (растроганно, положив руку ей на голову). Дитя мое, сердце твое отдано церкви.
Жанна (в изумлении подняв на него глаза). Вы думаете? А разве это плохо?
Архиепископ. Это совсем не плохо, дитя. Но это опасно.
Жанна (поднимаясь, с лицом, озаренным отвагой и счастьем). Опасности ждут нас повсюду, покуда мы на земле. Ах, преосвященный, вы вселили в меня такое мужество! Как, наверно, чудесно быть архиепископом!
Придворные не скрывают улыбок, кое-кто из них даже фыркнул.
Архиепископ (почувствовав это, выпрямился). Господа, ваше суесловие посрамлено верой этой девы. И я, видит Бог, – тварь недостойная, но ваши насмешки – смертный грех.
Лица вытягиваются. Мертвая тишина.
Синяя Борода. Ваше преосвященство, мы ведь смеемся над ней, а не над вами.
Архиепископ. Что? Вы смеялись не над моим несовершенством, а над ее верой? Жиль де Рец! Дева уже раз предсказала, что богохульник потонет в грехе своем…
Жанна (с большим огорчением). Нет, что вы!
Архиепископ (заставляет ее замолчать движением руки). А я предсказываю вам, что ежели вы не поймете, когда можно смеяться, а когда должно возносить молитвы Богу, вас повесят.
Синяя Борода. Ваше преосвященство, простите меня. Но если вы предрекаете, что меня все равно повесят – увы! – я никогда больше не смогу противиться искушению. Ведь семь бед – один ответ.
Придворные чуточку ободрились. Слышно, как они перешептываются.
Жанна (с возмущением). И бездельник же ты, Синяя Борода! Ну не срам ли так разговаривать с архиепископом?
Ла Гир (радостно ухмыльнувшись). Молодец, девка. Ловко отбрила.
Жанна (нетерпеливо, архиепископу). Ваше преосвященство, неужели вы не можете отослать все это дурачье, чтобы я могла поговорить с дофином наедине?
Ла Гир (добродушно). Намек ясен. (Отдает честь, поворачивается кругом и выходит.)
Архиепископ. Пойдемте, господа. Дева прибыла сюда с благословения Божьего, ей нужно оказывать помощь.
Придворные выходят, кто через арку, кто через двери, напротив.
Архиепископ шествует к двери, за ним следуют герцогиня и Ла Тремуйль. Когда его преосвященство проходит мимо Жанны, она падает на колени и с жаром целует край его одежды. Архиепископ, покачав головой, отнимает у нее подол сутаны и выходит. Жанна так и остается коленопреклоненной, мешая пройти герцогине.
Герцогиня (холодно). Разрешите пройти.
Жанна (поспешно встает и отступает в сторону). Простите великодушно, госпожа, виновата.
Герцогиня проходит. Жанна смотрит ей вслед, потом шепчет Дофину.
Жанна. Это и есть королева?
Карл. Нет, но воображает, что она – королева.
Жанна (продолжая смотреть герцогине вслед). У-у-у!.. (Ее изумление при виде этой разряженной дамы не слишком-то восторженно.)
Ла Тремуйль (очень угрюмо). Я попрошу, ваше высочество, не насмехаться над моей женой. (Уходит. Все придворные уже разошлись.)
Жанна (дофину). А кто этот старый ворчун?
Карл. Герцог де ла Тремуйль.
Жанна. Чего он делает?
Карл. Делает вид, что командует армией. А стоит мне найти друга, как он тут же его убивает.
Жанна. А почему ты это ему спускаешь?
Карл (капризно, отходя от нее поближе к трону, чтобы не поддаваться обаянию ее сильной личности). Как я могу ему помешать? Он меня совсем запугал. Все они меня травят.
Жанна. Небось боишься?
Карл. Да, боюсь. И нечего меня этим корить. Легко этим дылдам в доспехах, которые слишком тяжелы для меня; с мечом в руках, которого мне не поднять; сильным, громогласным, сварливым… Они любят драться – большинство из них просто дуреет, когда им не с кем подраться. А я – тихий, спокойный, я никого не хочу убивать, лишь бы меня не трогали и дали бы жить в свое удовольствие. Я ведь не просил, чтобы меня делали королем. И если ты попробуешь мне сказать: «Сын святого Людовика, опояшь себя мечом твоих предков – веди нас к победе!», – лучше побереги язык, чтобы пробовать им кашу. Я все равно на это не способен. От рождения. И бери меня таким, какой я есть.
Жанна (резко, властно). Не хнычь! Все мы такие от рождения. Но я вселю в тебя отвагу.
Карл. Не желаю я, чтобы меня вселяли отвагу. Я хочу спать в своей постели, не дрожа от страха, что меня убьют или ранят. Вселяй отвагу в других, пусть они воюют, сколько их душе угодно, а меня оставь в покое.
Жанна. Зря ты все это говоришь, Карлуша. Не сумеешь стать королем, будешь нищим, – на что ты еще способен? Давай-ка лучше посиди на троне. Я давно мечтала на это поглядеть.
Карл. Какой толк сидеть на троне, когда распоряжаешься не ты, а другие? Но если хочешь… (усаживается на трон – очень жалостная фигура)…вот тебе и король! Полюбуйся всласть на беднягу.
Жанна. Да ведь ты еще и не король, парень. Всего-навсего дофин. А ты этим здешним не поддавайся. Напялят на себя шелка да бархаты, а голова все равно как пустой горшок. Я знаю народ – настоящий народ, который дает тебе хлеб твой насущный. И уж ты мне поверь: народ никого не признает королем Франции, покуда голову этого короля не смажут священным маслом, а его самого не коронуют в Реймском соборе. И не мешало бы тебе принарядиться, Карлуша. Неужто королеве недосуг за тобой присмотреть?
Карл. Мы так бедны. Каждый лишний грош она предпочитает тратить на себя. Да и какая разница, что я ношу? Все равно урод.
Жанна. У тебя в голове кое-что есть, Карлуша. Но нет у тебя королевского духа.
Карл. Ну, знаешь!.. Я совсем не так глуп, как выгляжу. Имей в виду: выгодный договор стоит десятка выигранных сражений. Эти драчуны теряют на договорах все, что они выигрывают в битвах. Если бы мы могли заключить договор, англичане здорово бы на этом проиграли, ведь они куда хуже соображают, чем дерутся.
Жанна. Если англичане победят, они тебе навяжут договор по своему вкусу, и тогда пиши пропало, наша бедная Франция. Хочешь – не хочешь, а тебе придется воевать, Карлуша. А чтобы тебе не было страшно, я пойду впереди. Только не трусь. Да и помолиться надо как следует.
Карл (слезая с трона и снова отходя в дальний угол зала, чтобы не поддаваться ее упорству и воле). Брось ты эти разговоры насчет божественного. Терпеть не могу святош. Мало тебе молитв в положенное время?
Жанна (исполнена к нему искренней жалости). Ах ты, бедняжечка, видно, ты никогда не молился как следует. Придется учить тебя с самых азов.
Карл. Я не мальчик. Я взрослый мужчина, у меня ребенок. Я не хочу больше учиться.
Жанна. Знаю, когда ты помрешь, твой сынишка будет королем Людовиком Одиннадцатым. Ты не хочешь повоевать хотя бы за него?
Карл. Гадкий мальчишка! Он меня терпеть не может. Злюка, эгоист, настоящий звереныш. На что мне сдались эти дети? Не желаю я быть хорошим отцом и еще меньше хочу быть хорошим сыном. Особенно сыном Людовика Святого. Хочу быть самим собой. Занимайся своим делом и дай мне жить, как мне хочется.
Жанна (снова с презрением). Заниматься своим делом, это все равно что заботиться о своем здоровье – лучший способ заболеть. А какое такое у меня дело? Помогать матери по хозяйству? А у тебя? Чесать болонок и сосать сласти? Чушь все это. Говорю тебе: нам поручено не наше с тобой, а божеское дело. У меня к тебе поручение от самого Господа Бога, и ты его должен слушаться.
Карл. Не желаю я выполнять Его поручений. А ты можешь открыть мне какую-нибудь тайну? Излечивать болезни? Превращать свинец в золото?
Жанна. Я могу превратить тебя в короля, в Реймском соборе, а это, видно, не такое уж простое чудо.
Карл. Если мы поедем в Реймс и затем устроим эту коронацию, жене понадобятся новые платья. Нам это не по карману. Мне хорошо и без этого.
Жанна. Тебе и так хорошо? А как это – так? Хуже, чем последнему пастуху у нас на ферме. Ты не будешь законным владельцем твоей страны, покуда тебя не помажут на царство.
Карл. Да я все равно не буду владеть моей страной. Разве помазанием заплатишь по закладным? Ведь я заложил все, до последнего акра, архиепископу и этому жирному хаму. Я должен деньги всем, даже Синей Бороде.
Жанна (серьезно). Карлуша, я ведь от земли. И сила моя оттого, что работала я на земле. Говорю тебе: земля дана королям, чтобы справедливо ею править и хранить на ней мир, а не таскать ее в заклад к ростовщикам, словно пьяная баба – одежду своих детишек. Господь велит тебе вручить царство твое в руки Его. И тогда земля французская станет святой землей. Воинство ее будет воинством небесным; мятежные бароны – отступниками божьими; англичане падут ниц и будут молить тебя отпустить их с миром восвояси. Неужто ты станешь жалким Иудой, предашь меня и Того, кто меня к тебе послал?
Карл (наконец-то соблазнившись). Эх, если бы я только посмел!
Жанна. А я посмею, посмею, и снова посмею, именем Божьим. Со мной ты или против меня?
Карл (в волнении). Рискнем. Предупреждаю: не надейся, что я доведу дело до конца, но рискнем. (Бежит к главному входу и кричит.) Эй вы! Идите сюда! (Бежит к арке напротив, Жанне.) А ты поддержи меня, не давай им мной помыкать! (Кричит в дверь.) Ступайте ко мне, слышите! Все, весь двор. (Садится на тронное кресло. Придворные, толпясь, входят в зал, переговариваясь и недоумевая.) Ну, теперь я пропал, но делать нечего! (Пажу.) Пусть замолчат.
Паж (снова выхватывая алебарду у стражника и несколько раз ударяя ею об пол). Замолчите! Слушайте его величество короля. Король будет говорить! (Наступает тишина.)
Карл (поднимаясь). Я передал командование войсками Деве. Пусть делает с ними, что хочет. (Сходит с возвышения.)
Все изумлены. Ла Гир в восторге ударяет железной рукавицей по закованному в латы бедру.
Ла Тремуйль (оборачивается к Карлу с угрозой). Это еще что такое? Войсками командую я.
Жанна поспешно кладет руку на плечо Карлу, который инстинктивно отшатнулся от страха. Карл, в трагикомическом усилии настоять на своем, неожиданно щелкает пальцами прямо в лицо канцлеру.
Жанна. Вот тебе, старый воркотун! (Вдруг выхватывает из ножен меч, почувствовав, что час ее настал.) Кто за Бога и Деву? Кто за мной? На Орлеан!
Ла Гир (захваченный ее порывом, тоже выхватывает меч.) За Бога и Деву! На Орлеан!
Все рыцари (с жаром следуя его примеру). На Орлеан!
Сияющая Жанна падает на колени в благодарственной молитве. Все опускаются на колени, кроме Архиепископа, который осеняет их крестом, и Ла Тремуйля, который разражается проклятиями.
Картина третья
29 мая 1429 года. Орлеан. Дюнуа – рыцарь 25 лет – шагает по южному берегу серебристой Луары. И в ту, и в другую сторону далеко видно, как плавно она течет. Копье Дюнуа воткнуто в землю; на верхушке его на сильном восточном ветру развевается флажок. На земле под ним лежит щит с гербом. Герб с косой полосой незаконнорожденного: слева вверх-направо. В руках у Дюнуа жезл полководца. Рыцарь хорошо сложен и легко носит свои доспехи. Просторный лоб и суженный книзу подбородок придают его лицу треугольную форму. По нему видно, что он немало повоевал, частенько решал людские судьбы, сохраняя при этом добрый нрав, трезвый рассудок, ничего из себя не корча и простившись с ребяческими мечтами. Паж его сидит на земле, подперев кулаками щеки, и бесцельно глядит на воду.
Вечереет. И рыцарь, и мальчик покорены тихой красотой Луары.
Дюнуа (на мгновение переставая шагать, чтобы поглядеть на развевающийся флажок и, устало покачав головой, зашагать снова). Западный ветер… Западный ветер… Западный ветер… Зефир, ах ты, повеса, – верен, когда должен быть изменчивым; вероломен, когда от тебя просят постоянства. Вздымает зефир серебристые волны Луары. Какую бы рифму придумать к Луаре? (Снова поглядев на флажок, грозит ему кулаком.) Переменись, будь ты проклят, дуй в другую сторону, ты, английская шлюха! Нужен западный ветер, слышишь? (Застонав, продолжает шагать, теперь уже молча. Но скоро произносит снова.) Западный ветер, предательский ветер, своенравный ветер, прихотливый, как женщина, изменчивый ветер, неужели никогда не задуешь с того берега?
Паж (вскакивая на ноги). Погляди! Вон! Вон он!
Дюнуа (пробужденный от задумчивости, живо). Где? Кто? Дева!
Паж. Да нет! Зимородок! Сверкнул, как синяя молния. Спрятался в том кусте.
Дюнуа (жестоко разочарован). Только и всего? Ах ты, чертов сын! Вот я выкупаю тебя в речке!
Паж (зная, с кем имеет дело, и нисколько не испугавшись). Так было здорово. Блеснул, как бирюза! Погляди! Другой!..
Дюнуа (подбегая к самой воде). Где? Где?
Паж (показывая). Вон летит мимо тех камышей.
Дюнуа (в восторге). Вижу! Вижу!
Следят за полетом птицы, покуда та не скрывается из глаз.
Паж. Вы напали на меня в первый раз потому, что не поспели увидеть его сами?
Дюнуа. Ты ведь знал, что я дожидаюсь Деву, а поднял крик. Я тебе покричу в другой раз.
Паж. Какой он красивый! Вот бы поймать.
Дюнуа. Попробуй только расставить силки, я тебя самого посажу в клетку, почувствуешь, как сидеть за решеткой.
Паж смеется и снова усаживается на корточки.
Дюнуа (шагая). Синяя птица… Синяя птица, я тебе друг. Перемени для меня ветер вдруг. Нет, плохая рифма. Тот, кто измерил жизни круг… Это лучше, но смысла маловато. (Видит подле себя пажа.) Ах ты, противный мальчишка! (Отворачивается от него.) Мария в голубом хитоне, цвета перышек зимородка, неужели тебе жаль подарить мне западный ветер?
Голос дозорного. Стой! Кто идет?
Голос Жанны. Дева.
Дюнуа. Пропусти! Дева, сюда! Ко мне!
Жанна в сверкающих доспехах вбегает, пылая яростью. Ветер стихает, и флажок чуть приметно вьется вокруг рукоятки копья. Однако Дюнуа слишком занят Девой, чтобы обращать внимание на ветер.
Жанна (прямолинейно). Это ты – незаконнорожденный из Орлеана?
Дюнуа (холодно, показывая на свой щит). Вот мой герб. Ты – Дева Жанна?
Жанна. А кто же еще?
Дюнуа. Где твои войска?
Жанна. Далеко, позади. Меня обманули. Привели не на тот берег реки, куда нужно.
Дюнуа. Я так велел.
Жанна. Почему? Англичане на другой стороне.
Дюнуа. И на той, и на этой.
Жанна. Но Орлеан на том берегу. Мы должны драться с англичанами там. Как переправиться через реку?
Дюнуа (мрачно). По мосту.
Жанна. Так давай перейдем мост и нападем на них!
Дюнуа. С виду это легко. И тем не менее невозможно.
Жанна. Кто это сказал?
Дюнуа. Я говорю. Да и люди поумнее меня тоже такого же мнения.
Жанна (прямодушно). Тогда эти люди болваны, они тебя обвели вокруг пальца, а теперь хотят и меня одурачить. Ты разве не знаешь, что я принесла такую подмогу, какой не видывали ни одна крепость и ни один полководец?
Дюнуа (со снисходительной улыбкой). Себя?
Жанна. Нет. Помощь Царя Небесного. Где дорога к мосту?
Дюнуа. Маловато у тебя терпения, Дева.
Жанна. Теперь не время терпеть. Враг у ворот, а мы стоим, опустив руки. Почему ты не дерешься? Послушай, я избавлю тебя от страха. Я…
Дюнуа (хохочет от всего сердца, отмахиваясь от нее обеими руками). Ну уж нет, моя милая! Если ты избавишь меня от страха, я стану чудным героем романа, но очень плохим полководцем. Ладно, дай я научу тебя нашему солдатскому делу, а то ты, видно, его еще и не нюхала. (Подводит ее к воде.) Видишь два бастиона на той стороне у самого въезда на мост?
Жанна. Да. Это наши или англичан?
Дюнуа. Помолчи и слушай. Если бы я занимал хотя бы один из этих фортов с десятью людьми, я бы устоял против целой армии. У англичан там больше чем вдесятеро раз десять солдат, чтобы удержать от нас мост.
Жанна. От нас, но не от Бога. Бог не давал им земли, на которой стоят эти форты, они ее у него украли. Бог дал эту землю нам. И я возьму форты.
Дюнуа. Одна?
Жанна. Ваши солдаты возьмут их. А я поведу войска.
Дюнуа. За тобой не пойдет ни один человек.
Жанна. Я не обернусь, чтобы проверить, идут они за мной или нет.
Дюнуа (поняв ей цену, с азартом бьет ее по плечу). Молодчина! Из тебя выйдет хороший солдат. Ты отдала свое сердце войне.
Жанна (с изумлением). Ты думаешь? А вот архиепископ говорил, что я отдала свое сердце церкви.
Дюнуа. Да простит меня Бог, я и сам неравнодушен к войне, хоть она и страшна, как сущий черт! У меня словно две жены. А ты хотела бы иметь двоих мужей?
Жанна (спокойно). Я никогда не возьму себе мужа. Один парень подал на меня в суд за то, что я будто бы сбежала из-под венца. Но ей-богу же, я ему ничего не обещала. Я – солдат, мне не нужно, чтобы ко мне относились как к женщине. Я и юбки никогда не надену. Женщины только и думают, что о любовниках да о богатстве. А мне всего этого не надо. Я мечтаю повести в бой отряд всадников и ударить по врагу из больших пушек. Разве вы знаете, как обходиться с пушками? Было бы побольше грохота да дыму, а одним этим сражения не выиграешь.
Дюнуа (пожимая плечами). Что правда, то правда. Артиллерия нам чаще бывает только помехой.
Жанна. То-то и оно, парень. Но против каменных стен с одними конями не повоюешь. Нужны пушки, и пушки побольше наших.
Дюнуа (дружелюбно осклабившись, передразнивает ее). То-то и оно, девушка. Но смелость и крепкая лестница перекинут тебя через наикаменнейшую стену.
Жанна. Я первая взойду на стену форта, Незаконнорожденный. Смотри, не отставай.
Дюнуа. Не подзадоривай генерала. Только младший командир имеет право щеголять личной отвагой. И не забудь, ты мне нужна не как солдат, а как святая. У меня в войсках и без тебя хватит сорвиголов!
Жанна. Я – не сорвиголова, я – слуга Божья. Меч мой священен, я нашла его возле алтаря в церкви святой Екатерины, куда положил его для меня сам Господь. Сердце мое полно отваги, а не гнева. Я поведу твои войска, и они пойдут за мной, вот и все, что я могу сделать. Но сделать это я должна, и ты меня не остановишь.
Дюнуа. Все в свое время. Наши солдаты не могут взять форты прямой вылазкой через мост. Они должны подойти по воде и ударить англичанам в тыл.
Жанна (в которой проявляется военный талант). Так сбей плоты, поставь на них пушки, и пусть твои солдаты переправятся через реку.
Дюнуа. Плоты готовы и войска погружены. Дело только за Богом.
Жанна. Как? Бог давно их дожидается, дело за ними.
Дюнуа. Пусть Бог пошлет нам ветер. Лодки мои стоят внизу, они не могут идти и против течения, и против ветра. Пойдем, я провожу тебя в церковь.
Жанна. Не пойду. Я люблю ходить в церковь, но англичане не сдадутся на молитвы, им понятно, только когда их бьют.
Дюнуа. Ты должна пойти, у тебя там есть дело.
Жанна. Какое?
Дюнуа. Ты должна помолиться, чтобы подул западный ветер. Я уже молился и даже пожертвовал на церковь два серебряных подсвечника; но мои молитвы не были услышаны. А твои молитвы помогут – ты молода и невинна.
Жанна. Это правда. Ладно, я помолюсь святой Екатерине, чтобы она похлопотала за меня перед Богом; пусть пошлет мне западный ветер. Покажи, как пройти в церковь.
Паж (громко чихает). Апчхи!
Жанна. Будь здоров, мальчик. Пойдем, Незаконнорожденный.
Они уходят. Паж встает, чтобы последовать за ними. Он поднимает с земли и вытаскивает копье, но вдруг замечает, что флажок относит ветром к востоку.
Паж (роняя щит, кричит в волнении им вслед). Сеньор! Сеньор! Мадемуазель!
Дюнуа (вбегает назад). В чем дело? Зимородок? (Жадно смотрит на реку.)
Жанна (подбегая к ним). Ну? Зимородок? Где? Где?
Паж. Ветер! Ветер! Ветер! (показывает на флажок.) От него-то я и чихнул.
Дюнуа (глядя на флажок). Ветер переменился. (Крестится.) Бог выразил свою волю. (Падая на колени и передавая жезл Жанне.) Ты поведешь королевские войска. Я – твой воин.
Паж (глядя вниз по реке). Лодки отчалили. Они несутся против течения, как одержимые.
Дюнуа (поднимаясь). Теперь вперед, на форты. Ты подзадоривала меня следовать за собой. Хватит ли у тебя мужества пойти впереди войска?
Жанна (разражается слезами и, закинув руки вокруг шеи Дюнуа, целует его в обе щеки). Дюнуа, дорогой ты мой товарищ, помоги мне. Глаза мои застланы слезами. Поставь мою ногу на лестницу и скажи: «Вперед, Жанна!»
Дюнуа (тащит ее за собой). Наплевать на слезы. Скажешь, что это от орудийной вспышки.
Жанна (горя отвагой). Хорошо!
Дюнуа (тащит ее за собой). За Бога и Францию!
Паж (отчаянно). Дева! Дева! За Бога и Деву! Ур-р-ра!! (Хватает щит и копье и, словно обезумев, несется вскачь за Дюнуа и Жанной.)
Картина четвертая
Палатка в английском лагере.
50‑летний английский капеллан сидит на табурете за столом и усердно пишет. По другую сторону стола, в красивом кресле сидит важный вельможа и с удовольствием листает иллюминированный часослов. Капеллан с трудом сдерживает гнев. Слева от вельможи свободный табурет, обитый кожей. Стол справа от него.
Вельможа. Вот это, я понимаю, мастерство. Нет ничего изысканнее красивой книги с правильными колонками черных букв, красивыми полями и умело размещенными цветными миниатюрами. Но нынче люди не разглядывают книги, а читают. И книга может быть вроде вашей – с заказами на бекон и отруби.
Капеллан. Должен сказать, милорд, вы очень спокойно воспринимаете наше положение. Очень спокойно.
Вельможа (надменно). А в чем дело?
Капеллан. Дело в том, что мы, англичане, терпим поражение.
Вельможа. Это, знаете ли, бывает. Врага всегда побеждают только в исторических книжках и балладах.
Капеллан. Но нас бьют снова и снова. Сначала в Орлеане…
Вельможа (фыркнув). А, в Орлеане!
Капеллан. Я знаю, что вы скажете, милорд: там явно пахло колдовством и чародейством. Но нас и дальше бьют. Жарго, Менг, Божанси – то же, что в Орлеане. А теперь нас разгромили в Пате, и сэр Джон Толбот взят в плен. (Бросает перо, почти в слезах.) Я переживаю это, милорд, глубоко переживаю. Не могу видеть, как моих соотечественников громит ватага иностранцев.
Вельможа. А! Так вы англичанин?
Капеллан. Отнюдь нет: я дворянин. Но, как и вы, милорд, я родился в Англии. А это кое-что значит.
Вельможа. Привязаны к земле, а?
Капеллан. Изволите насмехаться. Ваш титул позволяет вам делать это безнаказанно. Но ваша светлость отлично понимает, что я привязан к земле не в низменном смысле, как крепостной. И все же у меня к ней сильное чувство, и я этого не стыжусь. (Порывисто вскочив.) Если это будет продолжаться, ей-богу, скину рясу, ко всем чертям, сам возьмусь за оружие и задушу чертовую ведьму собственными руками.
Вельможа (с добродушным смехом). Так и надо, капеллан, так и надо, если ничего лучше не придумаем. Но подождем пока, подождем.
Капеллан мрачно садится.
Вельможа (беспечно). Я бы не стал волноваться из‑за ведьмы. Видите ли, я совершил паломничество на Святую Землю, и силы небесные, к их чести, вряд ли допустят, чтобы меня разбила деревенская колдунья, но Орлеанский бастард – орешек покрепче. Он тоже был на Святой Земле, так что в этом смысле мы на равных.
Капеллан. Но он всего лишь француз.
Вельможа. Француз! Где вы подцепили это выражение? Ох, все эти бургундцы, бретонцы, пикардийцы, гасконцы уже называют себя французами, как наши себя – англичанами? Называют своими странами Францию или Англию. Своими – слыхали! Что станет с вами и со мной, если такое отношение войдет в моду?
Капеллан. А что, милорд? Чем это нам повредит?
Вельможа. Нельзя служить двум господам. Если все начнут болтать о службе своей стране, прощай тогда власть сюзеренов, и прощай власть церкви. То есть наша с вами власть.
Капеллан. Считаю себя верным слугой церкви, и не будь у меня шестерых двоюродных братьев, я был бы бароном Стогамбером – титул учрежден еще Вильгельмом Завоевателем. Но значит ли это, что я должен стоять и смотреть, как англичан громит французский ублюдок и ведьма из их паршивой Шампани?
Вельможа. Не горячитесь, любезный: придет час, мы сожжем ведьму и разобьем бастарда. Я как раз жду епископа Бове, чтобы договориться с ним о сожжении. Ее клика выжила его из епархии.
Капеллан. Для этого ее надо поймать, милорд.
Вельможа. Или купить. Я предложу царскую цену.
Капеллан. Царскую цену! За какую-то девку!
Вельможа. Скупиться нельзя. Кое-кто из приближенных Карла продаст ее бургундцам; бургундцы продадут нам. И будут, наверно, еще три или четыре посредника, они захотят своих комиссионных.
Капеллан. Чудовищно. Всё эти мерзавцы евреи: ни одна сделка без них не обходится. Будь моя воля, ни одного живого еврея не оставил бы в христианском мире.
Вельможа. А почему? Евреи торгуют честно. Деньги сдерут, но и товар доставят. Вот кто задаром хочет что-то получить, так это непременно христианин.
Появляется паж.
Паж. Его преосвященство епископ Бове, монсеньор Кошон.
Входит Кошон, ему лет шестьдесят. Паж удаляется. Оба англичанина встают.
Вельможа (сама учтивость). Дорогой епископ, как мило, что вы пришли? Позвольте представиться: Ричард де Бичем, граф Уорик, к вашим услугам.
Кошон. Слава о вашей светлости дошла до меня.
Уорик. Его преподобие Джон де Стогамбер.
Капеллан (бойко). Джон Боуйер Спенсер Невилль де Стогамбер, к вашим услугам, милорд, бакалавр теологии и хранитель личной печати его высокопреосвященства кардинала Винчестерского.
Уорик (Кошону). У Вас, кажется, его называют кардиналом Английским. Дядя нашего короля.
Кошон. Мессир Джон де Стогамбер, я всегда был хорошим другом его преосвященства. (Протягивает руку капеллану, и тот целует его кольцо.)
Уорик. Благоволите присесть. (Уступает Кошону свое кресло, ставит его во главе стола.)
Кошон принимает почетное место с важным кивком. Уорик небрежно подносит кожаный табурет и садится на прежнем месте. Капеллан занимает свое. Хотя Уорик почтительно уступил главное место епископу, роль ведущего он берет на себя. Он по-прежнему радушен, но в голосе его уже слышна деловая нотка.
Уорик. Ваше преосвященство, вы застали нас в тяжелую минуту. Карла будет короновать в Реймсе молодая женщина из Лотарингии, и – не буду обманывать вас, вселять напрасные надежды, – предотвратить это мы не в силах. Полагаю, это сильно изменит положение Карла.
Кошон. Несомненно. Это мастерский ход Девы.
Капеллан (с волнением). Нас нечестно победили, милорд. Ни одного англичанина нельзя победить честно.
Кошон слегка приподнимает бровь, но тут же снова придает лицу невозмутимость.
Уорик. Наш друг придерживается мнения, что эта молодая женщина – колдунья. Полагаю, монсеньор, вы сочтете своим долгом передать ее в руки инквизиции, дабы ее сожгли за ее преступления.
Кошон. Да, если бы ее захватили в моей епархии.
Уорик (чувствуя, что в этом они единодушны). Верно. Так, видимо, нет сомнений, что она колдунья?
Капеллан. Ни малейших. Отъявленная ведьма.
Уорик (мягко укоряя его за вмешательство). Я хотел услышать мнение епископа.
Кошон. Вы должны учитывать не только наше мнение, но мнения – предрассудки, если угодно, – французского суда.
Уорик. Католического суда, милорд.
Кошон. Католические суды состоят из смертных, как и все другие суды. Сколь бы святы ни были их функции и побуждения. А поскольку суд состоит из французов, как теперь принято их называть, и французская армия разбила английскую, сам по себе этот факт вряд ли убедит в том, что все дело тут в колдовстве.
Капеллан. Что! Когда разбит сам знаменитый сэр Толбот и взят в плен какой-то лотарингской шлюхой!
Кошон. Все мы знаем, что сэр Джон Толбот – грозный и неукротимый воин. Но я не убежден, что он умелый полководец. Мы склонны думать, что его победила эта девица, а кое-кто из нас полагает, что в этом есть некоторая заслуга Дюнуа.
Капеллан (с презрением). Орлеанского бастарда!
Кошон. Позвольте мне напомнить…
Уорик (перебивает). Я знаю, что вы скажете. Дюнуа нанес мне поражение под Монтаржи.
Кошон (с поклоном). Это лишь доказывает, что сеньор Дюнуа весьма способный военачальник.
Уорик. Ваше преосвященство – образец любезности. Признаю, со своей стороны, что Толбот – просто драчливое животное, и, если попал в плен, так поделом ему.
Капеллан (вспыхнув). Милорд, под Орлеаном этой женщине проткнула шею английская стрела, и у всех на глазах она плакала от боли, как ребенок. Это была смертельная рана, и, однако, она сражалась весь день. А когда наши солдаты отбили все ее атаки, как подобает англичанам, она одна подошла к стене нашего форта со знаменем в руке. И наши были парализованы, не могли ни стрелять, ни рубиться, и французы обрушились на них и загнали на мост, который тотчас загорелся и рухнул, сбросив их в реку, где они тонули дюжинами. Это что – полководческий гений вашего бастарда? Или это было адское пламя, вызванное колдовством?
Уорик. Вы простите мессиру Джону его горячность, но он изложил нашу позицию. Дюнуа – отличный командир, мы признаем; но почему он ничего не мог сделать, пока не появилась ведьма?
Кошон. Я не говорю, что на ее стороне не было сверхъестественных сил. Но на ее знамени были не имена сатаны и вельзевула, но благословенные имена Господа нашего и Его Непорочной Матери. А ваш утонувший командир, Глас… как вы его зовете…
Уорик. Гласдейл, сэр Уильям Гласдейл.
Кошон. Гласдейл, благодарю вас. Он был не святой, и многие из наших думают, что утонул из‑за кощунственных речей против Девы.
Уорик (с сомнением на лице). Как прикажете это понимать? Уж не обратила ли вас Дева?
Кошон. Если бы обратила, вряд ли бы я рискнул прибыть сюда и очутиться в вашей власти.
Уорик (с добродушным упреком). Ну, что вы, монсеньор!
Кошон. Если дьявол использует эту девицу, – а я думаю, что да…
Уорик (успокоенный). А! Слышите, мессир Джон? Я знал, что ваше преосвященство нас не подведет. Извините, что перебил. Продолжайте.
Кошон. И если это так, то дьявол смотрит дальше, чем вы полагаете.
Уорик. В самом деле? Каким же образом? Послушайте, мессир Джон.
Кошон. Если бы дьявол хотел погубить душу деревенской девушки, стал бы он так трудиться, выигрывать одно за другим сражения? Нет, милорд, любой чертенок справился бы с этим проще. Князь тьмы не снисходит для таких пустяшных, кропотливых занятий. Когда он наносит удар, он наносит удар по католической церкви, чье царство – весь духовный мир. Если он губит душу, то не одну, а всего рода человеческого. Против этого ужасного замысла церковь и стоит на страже. А девицу я считаю одним из орудий в этом замысле. Она вдохновлена, но вдохновлена дьяволом.
Капеллан. Я же говорил, она ведьма.
Кошон (с яростью). Она не ведьма, она еретичка.
Капеллан. Какая разница?
Кошон. И это спрашиваете вы, служитель церкви! Вы, англичане, на удивление тупы в таких вопросах. Для того, что вы называете колдовством, всегда найдется естественное объяснение. Чуда она и с кроликом не сотворит – да она и не называет их чудесами. Ее победы доказывают только, что голова у нее лучше работает, чем у ваших сквернословов Гласдейлов и бешеных быков вроде Толбота, и что мужество веры, пусть даже ложной веры, всегда пересилит мужество гнева.
Капеллан (не веря своим ушам). Ваше преосвященство сравнивает сэра Джона Толбота, трижды губернатора Ирландии, с бешеным быком?!
Уорик. Вам бы не пристало так говорить, мессир Джон, поскольку вы в шестиюродном родстве с баронами. Я же, однако, граф, а Толбот – всего лишь рыцарь, а потому возьму на себя смелость согласиться с этим сравнением. (Епископу.) Хорошо, о колдовстве забудем. Тем не менее, ее надо отправить на костер.
Кошон. Я не могу. Церковь не может отнимать жизнь. И мой первый долг – спасти душу этой девушки.
Уорик. Безусловно. Но вы иногда сжигаете людей.
Кошон. Нет. Когда церковь отсекает упорствующего еретика как сухую ветвь от древа жизни, его передают светским властям. А как поступит с ним светская власть, церкви это не касается.
Уорик. Совершенно верно. И здесь светская власть – я. Хорошо, милорд, передайте мне вашу сухую ветвь, а я уж приготовлю костер. Вы отвечаете за церковную сторону дела, а я за светскую.
Кошон (распаляясь). Я ни за что не отвечаю. Вы, властительные господа, склонны пользоваться церковью как всего лишь политическим инструментом.
Уорик (с пленительной улыбкой). Только не в Англии, уверяю вас.
Кошон. В Англии больше, чем где бы то ни было. Нет, милорд, душа этой деревенской девушки так же ценна перед Божественным престолом, как и вашего короля, и мой первейший долг – спасти ее. Я не потерплю, ваша светлость, чтобы вы улыбались мне в лицо, как будто я занимаюсь привычным пустословием, а на самом деле, мы оба знаем, что я передам вам девушку. Я ведь не политический епископ: для меня моя вера то же, что для вас – честь, и, если есть такая лазейка, через которую это крещеное дитя Божье может пробраться к спасению, я проведу ее туда.
Капеллан (в ярости встает). Вы предатель.
Кошон (вскочив). Ты лжешь, пес! (Дрожа от гнева) Если осмелишься, как эта женщина, поставить свою страну выше святой церкви, – пойдешь на костер вместе с ней.
Капеллан. Ваше преосвященство, я… я был несдержан, я… (с покорным жестом садится.)
Уорик (он встревоженно встал). Простите мессира де Стогамбера. В Англии это слово не имеет того смысла, что у вас во Франции. На вашем языке предатель – это изменник, человек вероломный, неверный, коварный. У нас в стране – предатель просто тот, кто не предан всей душой английским интересам.
Кошон. Извините, я не знал. (Величественно садится.)
Уорик (с облегчением занимает свое место). Должен и сам принести извинения за то, что слишком легкомысленно отнесся к сожжению этой несчастной девушки. Насмотревшись на то, как целые округи сгорают в ходе военных действий, становишься толстокожим. А иначе сойдешь с ума. Во всяком случае, у меня только такой выбор. Однако и вам время от времени приходится смотреть, как жгут еретиков, – и у вас, верно, тоже выработалось профессиональное отношение к такому зрелищу? Вполне отвратительному.
Кошон. Да, это мучительная обязанность и даже, как вы говорите, отвратительная. Но по сравнению с мерзостью ереси, это совершенный пустяк. Я думаю не о теле этой девушки, которое промучится всего несколько минут, да и в любом случае, погибнет более или менее мучительным образом, но о ее душе, которую могут ждать вечные муки.
Уорик. Верно. И дай Бог, чтобы ее душа была спасена! Но практическая задача состоит в том, как спасти ее душу, не спасая тело. Будем откровенны, монсеньор: если культ Девы будет длиться, наше дело пропащее.
Капеллан (голос у него прерывается, как будто он плакал). Можно мне сказать, милорд?
Уорик. Лучше вам помолчать или постарайтесь сдерживаться.
Капеллан. Только одно. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Дева лицемерна, она притворяется набожной. Молится и исповедуется без конца. Как можно обвинить ее в ереси, если она исполняет все обязанности верной дочери церкви.
Кошон (вспыхнув). Верная дочь церкви! Сам папа не осмеливается притязать на такое. Она приносит Божью весть Карлу, а церковь должна стоять в стороне. Она будет короновать его в Реймском соборе – она, а не церковь! Она шлет письма английскому королю, передает ему Божье повеление – вернуться на свой остров под страхом Божьей кары, которую исполнит она. Скажу вам, что подобные письма писал нечестивый Магомет, антихрист. Упомянула ли она хоть раз церковь во всех своих речах? Ни разу, там только Бог и она.
Уорик. А чего еще ожидать? Из грязи в князи. Вот и голова закружилась.
Кошон. А кто ее вскружил? Дьявол. И с далеко идущей целью. Он распространяет эту ересь повсюду. Ян Гус, которого сожгли в Констанце всего тринадцать лет назад, заразил ею всю Богемию. Уиклиф, сам священник, распространил это поветрие по Англии, и вы, к вашему стыду, позволили ему умереть в своей постели. У нас во Франции тоже есть такие – я знаю эту породу. И, если заразу не искоренить, не затоптать, не выжечь, она испортит на весь людской род, ввергнет его в грех, обречет гибели. С нею арабский погонщик верблюдов изгнал Христа и Его церковь из Иерусалима и, как дикий зверь, ринулся на Запад. Только Пиренеи и милость Божия встали между Францией и погибелью. Но что такого сделал погонщик, чего не делает эта скотница? Он слышал голос архангела Гавриила, она – голоса Святой Екатерины, Святой Маргариты и архангела Михаила. Он объявил себя Божьим посланцем и от имени Бога писал царям земным. Ее письма приходят к ним что ни день. Теперь не у Матери Божией мы должны искать заступничества, а у Девы Жанны. Что станет с миром, если нажитые церковью знания, опыт и мудрость, советы ученых, почтенных и набожных людей будут выброшены на свалку землекопом или скотницей, которых дьявол надул самомнением, внушив им, что они вдохновлены небом. Это будет кровавый мир, царство разрухи, где каждый бьется только за себя, и, в конце концов, мы вновь погрузимся в варварство. Сейчас у нас только один Магомет, и те, кто им обманут, а что станет с миром, где каждая девка будет считать себя Жанной, а всякий мужлан – Магометом? Холод пробирает меня до костей, когда я об этом думаю. С этим я сражался всю жизнь и буду сражаться до конца. Да простятся ей все грехи, кроме этого одного. Ибо это грех против Святого Духа. И если она не отречется во прахе перед всем миром, не отдаст свою душу церкви, всю без остатка, то быть ей на костре. Если попадется мне в руки.
Уорик (не тронут этой речью). Вы принимаете это близко к сердцу. Оно и понятно.
Кошон. А вы – нет?
Уорик. Я солдат, не священнослужитель. Будучи паломником, я повидал магометан. Они не так дурно воспитаны, как меня убеждали. Кое в чем их поведение выгодно отличается от нашего.
Кошон (недовольно). Я уже замечал. Люди отправляются на Восток обращать неверных. А неверные их совращают. Крестоносец приезжает домой наполовину сарацином. Не говоря уже о том, что англичане все прирожденные еретики.
Капеллан. Англичане – еретики! (Взывает к Уорику.) Милорд, неужели мы должны это слушать? Его преосвященство не в своем уме. Как может быть ересью то, во что верит англичанин? Это логическая нелепость.
Кошон. Я прощаю вас, мессир де Стогамбер, по причине вашего несокрушимого невежества. Мутный воздух вашей страны не рождает теологов.
Уорик. Вы бы так не сказали, если бы слышали наши споры о религии. Жаль, что вы считаете меня либо еретиком, либо тупицей. Но я повидал свет и знаю, что последователи Магомета весьма почитают нашего Господа и гораздо охотнее прощают святому Петру то, что он был рыбаком, чем вы Магомету то, что он был погонщиком верблюдов. Давайте, по крайней мере, обсудим наше дело без фанатизма.
Кошон. Когда верность христианской церкви люди называют фанатизмом, я знаю, что о них думать.
Уорик. Это просто западная и восточная точки зрения на один и тот же предмет.
Кошон (ядовито). Просто западная и восточная! Просто!
Уорик. Да я же не спорю с вами, ваше преосвященство. Церковь, вы, конечно, привлечете на нашу сторону, но надо привлечь и знать. И, по-моему, против Девы можно выдвинуть обвинение посерьезнее того, которое вы так ярко изложили. По правде говоря, я не боюсь, что эта девица станет новым Магометом и подорвет церковь великой ересью. По-моему, вы преувеличили опасность. Вы не заметили, что в этих своих письмах она предлагает всем европейским владыкам – а Карла она уже успела уговорить, – сделку, которая подорвет всё здание христианского мира?
Кошон. Подорвет церковь. Я же говорил.
Уорик (теряя терпение). Да забудьте вы на минуту о церкви. Вспомните, что на земле есть еще и светская власть, не только духовная. Вы представляете церковь, я и такие, как я, – феодальную аристократию. Мы и есть светская власть. Вы не понимаете, чем нам грозит идея этой девушки.
Кошон. Почему же именно вам? Грозит всем, поскольку грозит церкви!
Уорик. Она желает, чтобы короли вручили свои владения Богу, а затем распоряжались там как его управители.
Кошон (без интереса). Звучит богословски, милорд. Но королю это безразлично, лишь бы править. Абстрактная идея. Слова и только.
Уорик. Отнюдь нет. Это хитрая уловка, чтобы сместить аристократию и сделать короля единственным и абсолютным властителем. Когда король уже не первый среди равных, а их господин. Этого мы не потерпим: над нами нет господ. Номинально наши земли и титулы – от короля, потому что в арке общества должен быть замковый камень. Но мы держим наши земли в своих руках, защищаем их своими мечами и мечами наших вассалов. А Дева хочет, чтобы король забрал наши земли – наши! – и преподнес их Богу, и Бог вручит власть над ними королю.
Кошон. А надо ли вам этого бояться? Вы ведь сами назначаете королей. Йорки или Ланкастеры в Англии, Ланкастеры или Валуа во Франции – они правят с вашего соизволения.
Уорик. Да, но лишь покуда народ слушается своих феодальных господ и знает, что король – лишь декоративная фигура, владеющая только трактами, которые принадлежат всем. Если мысли и сердца людей обратятся к королю, господа в их глазах станут всего лишь королевскими слугами, и король переломает нас через колено, одного за другим. Кем мы станем тогда? Его придворными в ливреях?
Кошон. И все же бояться нечего, милорд. Кто-то король от рождения, кто-то прирожденный государственный деятель, и это редко совмещается в одном человеке. Где еще король найдет советников, чтобы продумывать и вести за него политику?
Уорик (с не слишком дружелюбной улыбкой). Возможно, в церкви, монсеньер?
Кошон с такой же кислой улыбкой пожимает плечами и не возражает ему.
Уорик. Укротите баронов, и всё будут решать кардиналы.
Кошон (примирительно, оставив полемический тон). Милорд, мы не победим Деву, если станем бороться друг с другом. Я отлично знаю, что есть воля к власти. Знаю, что, пока она есть, император будет бороться с папой, герцоги с политическими кардиналами, бароны с королями. Дьявол нас разделяет и властвует. Я вижу, вы не друг церкви. Вы, прежде всего, граф, я, прежде всего – церковник. Но неужели мы не забудем наши разногласия перед лицом общего врага? Я вижу, вас заботит не то, что эта девушка ни разу не упомянула церковь, а говорит только о себе и Боге. Вас заботит, что она ни разу не упомянула об аристократии, а думает только о короле и о себе.
Уорик. Совершенно верно. По сути, обе эти идеи – одно и то же. У них один и тот же корень. Это протест души против вмешательства священника или господина в отношения частного человека с его Богом. Если бы надо было найти этому название, я бы назвал это протестантизмом.
Кошон (строго глядя на него). Вы всё отлично поняли, милорд. Поскобли англичанина, и увидишь протестанта.
Уорик (с убийственной учтивостью). Сдается мне, монсеньор, вам не вполне чужда светская ересь нашей Девы.
Кошон. Ошибаетесь, милорд. Я не сочувствую ее политическим идеям. Но как священник, я изучил умонастроение простых людей. И тут вы встретите еще одну опаснейшую идею. Выразить ее могу только в таких фразах: Франция для французов, Англия для англичан, Италия для итальянцев, Испания для испанцев и так далее. Порой в этом столько узости и озлобления, что удивляюсь: как эта деревенская девочка возвысилась над идеей: деревня для наших деревенских. Но возвысилась. Угрожая прогнать англичан с французской земли, она, безусловно, имеет в виду все земли, где говорят по-французски. Для нее все, говорящие по-французски, – один народ, как его понимает Библия. Если угодно, назовите эту сторону ее ереси национализмом. Лучшего названия я не вижу. Скажу только, что эта идея антикатолическая и антихристианская, ибо католическая церковь знает только одно царство – царство Христа. Разделите это царство на нации, и вы низложите Христа. Низложите Христа, и кто защитит ваши глотки от меча? Мир погибнет в кровопролитии.
Уорик. Ну, если вы сожжете протестантку, я сожгу националистку. Хотя мессир Джон вряд ли меня поддержит. Англия для англичан ему по вкусу.
Капеллан. Конечно, Англия для англичан. Само собою, разумеется. Таков закон природы. Но эта женщина хочет отнять у Англии ее законные завоевания, данные ей Богом за особую способность управлять менее цивилизованными народами для их же блага. Я не понимаю, что вы говорили о протестантах и националистах: вы люди умные и ученые, а я простой священник. Но здравый смысл говорит, что эта женщина – бунтовщица, и этого для меня достаточно. Она бунтует против законов природы, одеваясь в мужской наряд и сражаясь. Она бунтует против церкви, посягая на божественную власть папы. Она бунтует против Бога, заключив союз с сатаной и его присными, против нашей армии. Но всё это лишь прикрытие ее великого бунта против Англии. С этим нельзя примириться. Пусть умрет. Пусть сгорит. Чтобы не заразила стадо. Это разумно – чтобы одна женщина умерла за народ.
Уорик (встает). Милорд, полагаю, мы договорились.
Кошон (тоже встает, но протестуя). Я не возьму грех на душу. Пусть ее судит церковь. Я же сделаю всё, чтобы спасти ее душу.
Уорик. Мне жаль бедную девушку. Терпеть не могу эти жестокости. Я отпущу ее, если смогу.
Капеллан (непреклонно). Я сжег бы ее своими руками.
Кошон (крестит его). Святая простота!
Картина пятая
Притвор Реймского собора, неподалеку от входа в ризницу. На колонне – одна из перекладин креста Господня. Звуки органа провожают народ из храма после коронации. Жанна на коленях молится возле креста. Она очень красиво одета, но все еще в мужском платье. Орган смолкает, когда в притвор из ризницы входит так же пышно разодетый Дюнуа.
Дюнуа. Хватит, Жанна, довольно молиться. Ты так наплакалась, что непременно простудишься, если будешь стоять здесь на холодных камнях. Все кончилось, храм опустел, зато улицы полны народа. Он требует Деву. Мы сказали, что ты осталась помолиться, но они хотят поглядеть на тебя еще разок.
Жанна. Не надо. Пускай все почести достаются королю.
Дюнуа. Бедняга, своим видом он может испортить любое торжество. Нет уж, милая, раз ты его короновала, доведи дело до конца. (Жанна неохотно слушает его, качая головой. Дюнуа поднимает ее с колен.) Идем, идем! Еще часок-другой, и все будет кончено. Да и сейчас нам куда легче, чем на мосту в Орлеане, правда?
Жанна. Дорогой ты мой, как бы я хотела очутиться с тобой снова там, на мосту. Тогда мы жили вовсю!
Дюнуа. Да, клянусь Богом! И умирали вовсю тоже.
Жанна. Странное дело, Жак, ведь я такая трусиха. Перед битвой боюсь, слова не могу вымолвить. А потом, когда опасность уже позади, становится так тоскливо. Нудно, нудно, нудно.
Дюнуа. А ты, дитя мое Божие, приучайся к воздержанию в войне. Как в питье и пище.
Жанна. Милый, ты меня и вправду любишь… Как товарища по оружию, конечно.
Дюнуа. А тебе ведь нужна моя любовь, бедное ты, простодушное дитя. У тебя не много друзей при дворе.
Жанна. Почему они меня ненавидят, все эти придворные, рыцари, священники? Что я им сделала? Ведь я ничего для себя не просила. Только чтоб сняли с моей деревни военные подати. Зато я принесла им победу и удачу, научила их поступать правильно – ведь прежде они делали столько глупостей! Я короновала Карла и превратила его в настоящего короля. Все почести, которые он раздает, идут ведь им! За что же они меня не любят?
Дюнуа (дразня ее). Эх ты, простота! Хочешь, чтобы глупцы тебя любили за то, что ты показываешь им их глупость? Да разве отжившие свой век старики-военные любят молодых полководцев, которые приходят им на смену? А честолюбивые политики бывают благодарны новичкам, которые отнимают у них бразды правления? Разве архиепископам нравится, когда их сгоняют с алтаря, хотя бы и святые? Да я и сам, будь я тщеславен, ревновал бы к твоей славе!
Жанна. Ты лучше их всех, Жак, единственный мой друг среди всей этой знати. Бьюсь об заклад, что мать твоя была деревенская. Вот я возьму Париж и тоже вернусь к себе на ферму.
Дюнуа. А я не уверен, что они позволят тебе взять Париж.
Жанна (поражена). Как?
Дюнуа. Многие из них, мне кажется, предпочтут, чтобы Париж взял тебя. Берегись.
Жанна. Знаешь, Жак, мир слишком подл для меня. Если меня не прикончат англичане, со мной расправятся французы. Если бы не мои голоса, я бы совсем пала духом. Поэтому я и спряталась здесь после коронации, чтобы побыть одной. Я тебе вот что расскажу, только тебе одному. Голоса мои я слышу в колокольном звоне. Не сегодня, конечно, когда бьют во все колокола, от этого получается один только гам. Но вот тут, в уголке, куда звон проникает словно с небес и долго-долго отдается под сводами храма, или в полях, куда музыка приходит издалека, сквозь тишь лугов, в ней я слышу мои голоса. (Соборные часы отбивают четверть.) Тихо! (Она натянута как струна от восторга.) Слышишь? «Дитя Божье» – совсем как ты меня зовешь… Когда пробьет полчаса, они мне скажут: «Будь смелой, иди вперед». Пробьет три четверти, и я услышу: «Я твоя опора». Но только тогда, когда пробьет час, – большой колокол ударит: «Бог спасет Францию». И вот тогда…
Дюнуа (прерывает ее хоть и беззлобно, но довольно решительно). Тогда, моя милая, мы и услышим то, что захотим услышать в колокольном звоне. Меня мороз пробирает по коже, когда ты разговариваешь о своих голосах. Я бы решил, что ты тронутая, если бы не слышал от тебя вполне здравых суждений. Хотя другим ты и рассказываешь, что всего-навсего выполняешь заветы святой госпожи Екатерины.
Жанна (сердито). Конечно, мне приходится рассуждать, ты ведь не веришь в мои голоса!
Дюнуа. Жанна, ты рассердилась?
Жанна. Да. (Улыбаясь.) Да нет, не на тебя. Мне часто хочется, чтобы ты был одним из наших деревенских ребят…
Дюнуа. Зачем?
Жанна. Я бы тебя немножко понянчила.
Дюнуа. Вот в тебе и проснулась женщина.
Жанна. Нет! Неправда! Я – солдат и больше ничего. Разве солдаты не нянчат детей, когда им это удается?
Дюнуа. Конечно! (Смеется.)
Из алтаря, где он разоблачался, выходит король Карл. Справа от него Ла Гир, слева – Синяя Борода. Жанна прижимается к стенке за колонной. Дюнуа оказывается между Карлом и Ла Гиром.
Дюнуа. Ну вот, ваше величество, наконец-то вы – помазанник Божий. Вам это нравится?
Карл. Если бы мне предложили стать императором вселенной, я не пошел бы снова на эти муки! Одежды тяжелее вериг! Мне казалось, что я вот-вот свалюсь, когда на меня напялили эту корону. А знаменитый елей, о котором столько говорят, – он просто воняет! Фи! Архиепископ чуть не отдал Богу душу: облачение весило чуть не тонну. Его еще раздевают в ризнице.
Дюнуа (сухо). Вашему величеству надо почаще надевать доспехи. Это вас приучит носить тяжести.
Карл. Опять издеваетесь? А я вот не буду носить доспехи, и все. Война – не моя специальность. Где Дева?
Жанна (выходя вперед и падая на колени между Карлом и Синей Бородой). Ваше величество, я сделала вас королем, мой долг выполнен. Я возвращаюсь к отцу, на ферму.
Карл (с облегчением, хотя он и удивлен). В самом деле? Вот прелестно!
Жанна встает, глубоко обескураженная.
Карл (продолжает, ничего не замечая). В деревне ведешь такую здоровую жизнь.
Дюнуа. Унылую, ваше величество.
Синяя Борода. После такого перерыва вы будете путаться в юбках.
Ла Гир. Вам будет скучно без сражений. Война – это плохая, но очень увлекательная привычка. От нее труднее всего избавиться.
Карл (с беспокойством). И все же, если вы решили ехать домой, мы не смеем вас задерживать.
Жанна (с горечью). Я знаю: никто из вас не опечалится, когда я уеду. (Поворачивается к Карлу спиной и отходит к более близким ей Дюнуа и Ла Гиру.)
Ла Гир. Теперь я смогу чертыхаться, сколько мне вздумается. Но порой мне тебя будет недоставать.
Жанна. Знаешь, Ла Гир, несмотря на все твои грехи и богохульство, мы с тобой встретимся на небе, ведь я люблю тебя так же, как я люблю Питу́, мою старую овчарку. Питу мог убить волка. Ты ведь будешь бить английских волков, пока они не покинут нашу землю, правда?
Ла Гир. С тобой вместе – да.
Жанна. Нет. Мне отпущен всего один-единственный год.
Все. Как?
Жанна. Так. Я уж знаю.
Дюнуа. Чепуха!
Жанна. А ты, Жак, сможешь их выгнать, как по-твоему?
Дюнуа (со спокойной решительностью). Да, я выгоню их из Франции. Они били нас потому, что война казалась нам рыцарским турниром или рынком, где торгуются из‑за добычи. Мы валяли дурака, англичане же дрались серьезно. Но я получил урок, теперь я знаю им цену. Они не пустили здесь корней. Я бил их раньше, и я буду бить их снова.
Жанна. Но ты не будешь с ними жесток, Жако?
Дюнуа. Англичане ласкового обращения не понимают. Вольно было им лезть в драку.
Жанна (внезапно). Жак, давай-ка возьмем Париж, прежде чем я поеду домой, а?
Карл (в ужасе). Нет! Нет! Мы потеряем все, чего добились. Не надо больше воевать. Мы можем заключить с герцогом Бургундским очень выгодный договор.
Жанна. Договор?! (Она топает ногой от нетерпения.)
Карл. А почему бы и нет, раз меня уже короновали и помазали. Ох, этот елей.
Из ризницы выходит Архиепископ и присоединяется к стоящим.
Карл. Архиепископ! Дева опять хочет драться!
Архиепископ. А разве мы кончили войну? Разве у нас уже мир?
Карл. Да кажется, еще нет, но давайте довольствоваться тем, чего уже достигли. Заключим договор. Нам слишком везло, так долго продолжаться не может. Пока удача не отвернулась от нас, давайте кончать войну.
Жанна. Удача! За нас сражался Бог! А ты зовешь это удачей! И хочешь кончить войну, хотя на святой земле нашей Франции еще держатся англичане?
Архиепископ (сурово). Дева, король обратился ко мне, а не к тебе. Ты забываешься. Ты слишком часто забываешься.
Жанна (ничуть не смутившись и довольно грубо). Тогда скажите ему вы, скажите ему, что Бог не велит ему опускать руки.
Архиепископ. Я не так щеголяю именем Божьим, как ты, потому что я выражаю его волю властью церкви и моего священного сана. Когда ты пришла, ты его почитала и не смела разговаривать так, как говоришь теперь. Ты явилась сюда в покрове смирения, а после того, как Господь вознаградил тебя, даровав победу, ты запятнала себя гордыней. И будешь наказана за гордыню.
Карл. Ну да, ей кажется, что она все знает лучше всех.
Жанна (с огорчением, но по наивности не понимая, что они против нее имеют). Но я и на самом деле знаю лучше вас. И совсем я не возгордилась; когда я не знаю, что я права, я молчу.
Синяя Борода, Карл (вместе). Ха-ха! Видите!
Архиепископ. А почем ты знаешь, что ты права?
Жанна. Знаю. Голоса…
Карл. Голоса, голоса! А почему я не слышу никаких голосов? Ведь я – король, а не ты.
Жанна. Голоса говорят и с тобой, но ты их не слышишь. Ты ведь никогда не сидел вечерком в поле, прислушиваясь, не прозвучат ли голоса. Когда позвонят к вечерне, ты перекрестишься, и дело с концом. Но если бы ты прислушался к трелям, которые несутся над полями уже после того, как колокола отзвонили, и сам услышал бы голоса не хуже меня. (Резко от него отворачиваясь.) Но какие нужны голоса, чтобы сказать то, что знает любой кузнец: куй железо, пока горячо. Говорю тебе, мы должны прорваться к Компьену и освободить его, как мы это сделали с Орлеаном. Тогда Париж откроет нам свои ворота, а если нет, мы их изломаем! Чего стоит твоя корона без твоей столицы?
Ла Гир. Вот и я это говорю. Мы пробьемся сквозь вражеские ряды, как раскаленная дробь сквозь сливочное масло. Как ты думаешь, Незаконнорожденный?
Дюнуа. Если бы пшеничные ядра были так горячи, как твоя голова, и у нас было их побольше, мы покорили бы весь мир. Храбрость и пыл – добрые слуги в войне, но дурные командиры; они отдавали нас в руки англичанам всякий раз, когда мы на них полагались. Мы никогда не видим, что мы биты, вот в чем наша беда.
Жанна. Ты не видишь, что ты победил, а это – беда почище. Так бы и сидели в Орлеане в осаде, если бы я не заставила вас наступать. Вам бы с зеркальцем в бой ходить – может, тогда увидите, что англичане вам нос не отгрызли. Надо всегда наступать, наступать – только так остановишь врага. Вы не знаете, как начинать бой, вы не знаете, как вводить пушки. А я знаю.
Садится на церковные плиты, скрестив ноги и надув губы.
Дюнуа. Будто я не знаю, мой генерал, что ты о нас думаешь?
Жанна. Скажи лучше, как ты относишься ко мне.
Дюнуа. Бог, видно, и в самом деле был на твой стороне. Я ведь не забыл, как переменился ветер и совсем по-другому забились наша сердца, когда ты появились. Клянусь, я никогда не откажусь от того, что победили мы благодаря тебе. Но говорю, как солдат: Бог человеку не поденщик, не нанимался он к нему в батраки. Если ты достоин, он порою вырвет тебя из когтей смерти и поставит снова на ноги – вот и все. А став на ноги, твое дело драться изо всей мочи, со всей доступной тебе хитростью. Ведь Бог должен печься и о твоем враге – ты этого не забудь. Что ж, благодаря тебе он поставил нас на ноги в Орлеане, и эта победа пронесла нас через несколько сражений. Но если мы и дальше будем пользоваться плодами все той же победы – нас разобьют, и туда нам и дорога!
Жанна. Но…
Дюнуа. Тсс! Я еще не кончил. Не думай, что наши победы были завоеваны без помощи полководческого искусства. Король, в ваших воззваниях вы ни словом не помянули о моем участии в этой кампании, да я и не жалуюсь – ведь народ бежит за Девой и ее чудесами, а не за мной и моей черной работой. Да и надо же кому-нибудь собирать для Девы войска и кормить их… Но я точно знаю, что именно сделал для нас Бог через Деву и что оставил доделать мне – своим умом. И поверьте: время чудес отошло, теперь выиграет войну тот, кто лучше играет в эту игру, – если счастье на его стороне.
Жанна. Все «если», «если» да «если»! Если бы да кабы… (Вскакивая в порыве.) Говорю тебе, что твое воинское искусство ни черта не стоит – рыцари твои не годятся для настоящей войны. Она для них – игра, они выдумывают для нее разные правила – что честно да что нечестно, напяливают на себя и на своих бедных кляч доспехи, чтобы, не дай Бог, их стрелой не задело! А когда они падают, то не могут сами подняться и ждут своих слуг, чтобы те поставили их на ноги и договорились с обидчиком, скинувшим их с коня, о выкупе. Разве ты не видишь, что все это – вчерашний день? Куда годятся латы против пороха? И те, кто дерется за Бога и за родину, разве они станут торговаться о выкупе? Нет. Они дерутся, чтобы победить. И в бою вручают свою жизнь Богу, как я. Простому народу не по карману ни латы, ни выкуп! Они полуголые лезут за мной в крепостной ров и по лестницам на стену. Для них война идет не на жизнь, а на насмерть, и Боже помоги правому! Ладно, можешь качать головой, пусть Синяя Борода поглаживает свою козлиную бородку и задирает нос. Ты вспомни день, когда твои рыцари не пошли за мной в атаку под Орлеаном. Заперли ворота, чтобы не выпустить меня. А простые люди за мной пошли – сломали ворота и показали вам, как воевать всерьез.
Синяя Борода (обиженным тоном). Тебе мало быть папой, ты хочешь быть еще и Александром Македонским.
Архиепископ. Гордыня тебя погубит.
Жанна. Причем тут гордыня? Права я или нет?
Ла Гир. Права. Половина из нас боится повредить свой профиль, а остальные думают только о том, как бы заплатить по закладным. Дюнуа, может, у нее не хватает учености, но она знает, где собака зарыта. Война теперь совсем не та, что раньше.
Дюнуа. Но и я-то ведь не воюю по старинке. Я понимаю, во сколько жизней обойдется каждое мое выступление, и если игра стоит свеч, я на нее иду. А вот Жанна, она не считает; в надежде на Бога она прет напролом, ей кажется, что Бог у нее на аркане. Покуда что сила была на ее стороне, и она победила. Но я знаю Жанну, настанет день, и она ринется вперед с десятью людьми вместо сотни. И поймет, что Бог на стороне больших батальонов. Ее возьмут в плен. И счастливец, который ее захватит, получит шестнадцать тысяч фунтов от графа Уорика.
Жанна (она польщена). Шестнадцать тысяч! Э-э, парень, да неужели они столько за меня дают? Неужели в целом свете найдется столько денег?
Дюнуа. А теперь скажите мне: кто из вас пошевелит пальцем, чтобы спасти Жанну от англичан? Начнем с армии. В тот день, когда какой-нибудь англичанин стащит ее с коня и его не поразит за это молния; в тот день, когда ее запрут в темницу, а решетки и засовы не отворятся сами собой, словно по мановению ангела; в тот день, когда противник поймет, что она так же уязвима, как я, – жизнь ее не будет стоит жизни рядового солдата, и я не пожертвую им, как бы мне ни была дорога Жанна.
Жанна. Я на тебя, Жак, не в обиде. Ты, наверно, прав. Если Бог позволит, чтобы меня одолели, я и впрямь не стою ни единого солдата, но, может, Франция найдет меня достойной выкупа.
Карл. Говорю же тебе, что у меня нет денег. Вот и эта коронация – тоже ведь твоя затея! – на нее ушло все, что я мог взять в долг, до последнего гроша!
Жанна. Что ж, тогда я понадеюсь на церковь. Церковь куда богаче тебя.
Архиепископ. Женщина! Тебя поволокут по улицам и сожгут как ведьму!
Жанна (подбегая к нему). Ваше преосвященство! Что вы, разве так можно? Я – ведьма?
Архиепископ. Пьер Кошон знает свое дело. В Париже уже сожгли женщину только за то, что она говорила, будто ты поступаешь по велению Божьему.
Жанна (ничего не понимая). Почему? Не могли же они сжечь женщину за то, что она говорила правду?
Архиепископ. Могли.
Жанна. Но вы-то знаете, что она говорила правду! Меня вы не позволите сжечь.
Архиепископ. А как я им помешаю?
Жанна. Вы будете говорить от имени церкви. С вашим благословением мне нигде не страшно.
Архиепископ. Нет тебе благословения – ты горда и непокорна…
Жанна. Зачем вы говорите такие вещи? Да разве я горда и непокорна? Я – бедная девушка, темная, деревенская. Чем же мне гордиться? И разве я не выполняю покорно то, что мне велят мои голоса? Ведь они от Бога?
Архиепископ. Глас Божий на земле – это глас воинствующей церкви, а все голоса, которые слышишь ты, – лишь эхо твоего своеволия.
Жанна. Неправда.
Архиепископ (сердито покраснев). Ты смеешь говорить архиепископу в его храме, что он лжет?
Жанна. Я и не думала говорить, что вы лжете. Это вы говорите, что врут мои голоса. Когда же они врали? Даже если вы в них не верите, даже если они – лишь эхо моего здравого смысла, разве они не доказали свою правоту? А ваши советчики постоянно не ошибались?
Архиепископ (с негодованием). Что тебя убеждать? Пустая трата времени.
Карл. Всегда одно и то же. Она права, а все кругом неправы.
Архиепископ. Предупреждаю тебя в последний раз. Если ты погибнешь, настаивая на своем и пренебрегая указаниями твоих духовных наставников, церковь от тебя отречется. Дюнуа сказал тебе, что если ты возомнишь себя судьей в военных делах и не будешь слушаться военачальников…
Дюнуа (прерывая его). Говоря точнее: если ты попробуешь снять осаду с Компьена, не имея такого же численного превосходства, какое было у нас при Орлеане…
Архиепископ. Армия отречется от тебя и не станет тебя вызволять из беды. А его величество король сказал тебе, что у державы нет средств тебя выкупать.
Карл. Ни гроша.
Архиепископ. Ты осталась одна, совершенно одна, полагаясь на свое самомнение, невежество, упрямую самонадеянность, безбожие. Когда ты выйдешь из этого портала на солнечный свет, люди будут приветствовать тебя. Они поднесут к тебе своих младенцев и своих больных, чтобы ты их исцелила; они будут лобызать твои руки и ноги и сделают все в простоте своей души, чтобы еще больше вскружить тебе голову и быстрее привести к погибели. Но ты все равно будешь одна – народ тебя не спасет. Мы и только мы можем уберечь тебя от костра.
Жанна (подняв глаза к небу). У меня друзья и советчики получше вас.
Архиепископ. Бесполезно говорить с жестоковыйной. Ты отвергаешь наше покровительство и хочешь, чтобы все обратились против тебя. Так защищайся дальше сама. А не сможешь – пусть смилуется над тобой Господь.
Дюнуа. Он прав, Жанна. Ты его слушайся.
Жанна. Где бы вы сейчас были, если бы я вас слушалась? Нет, ни от кого из вас не дождаться мне ни помощи, ни доброго совета. Да, я одна как перст на всей земле, и всегда была одна. Отец приказал братьям утопить меня, если я не стану пасти его овец, в то время как Франция истекала кровью. Пусть пропадет родина, лишь бы наши ягнята были целы. Я надеялась, что у Франции найдутся друзья хотя бы при дворе французского короля, но я увидела здесь только волков, которые грызутся из‑за клочьев ее истерзанного тела. Я надеялась, что у Бога наверняка повсюду друзья, ведь он-то друг всем и каждому, и по наивности своей верила, что вы – те, кто сейчас отринули меня, – будете защищать меня, как крепостные стены, от всякой напасти. Но я поумнела, а немножко мудрости никому не мешает. Не пытайтесь меня запугать, говоря о моем одиночестве. И Франция – одна, и Бог – один, а чего стоит мое одиночество в сравнении с одиночеством моей страны и моего Бога? Я поняла теперь, что в одиночестве Бога – Его сила. Кем бы Он был, если бы слушался ваших жалких, завистливых советов. Что ж, одиночество мое будет и моей силой. Лучше быть одной и с Богом. Его дружба мне не изменит, Его совет не обманет меня, любовь не оставит. И я буду дерзать, дерзать, дерзать до самой смерти. Я пойду к простому народу, и любовь, которая светится в его глазах, заставит забыть ненависть, которая пылает в ваших. Вы все обрадуетесь, когда меня сожгут, но если я пройду через огонь – я войду в сердца народа на веки вечные. Да будет со мной Господь!
Уходит от них. Они глядят ей вслед в тяжком молчании.
Синяя Борода (покручивая бородку). Ей-богу, эта женщина невыносима. У нее несносный характер.
Дюнуа. Видит Бог, если бы она свалилась в Луару, я прыгнул бы за ней, не задумываясь, в самых тяжелых доспехах. Но если она вздумает валять дурака у Компьена и ее схватят, мне придется предоставить ее собственной судьбе.
Ла Гир. Тогда прикажи заковать меня в цепи. Я пойду за ней хоть в ад.
Архиепископ. Она смущает и мой дух, в ее вспышках опасная сила. Но пропасть разверзлась у ее ног, а мы не в силах заставить ее свернуть с пути.
Карл. Ах, если бы она утихомирилась или вернулась домой!
Они следуют за Жанной в полном унынии.
Картина шестая
Руан, 30 мая 1431 года. В большом каменном зале руанского замка закончены все приготовления к суду; но его будут вершить не присяжные, а церковь, во главе с епископом и при участии инквизиции. Два кресла для епископа и для инквизитора стоят рядом на возвышении. От них под тупым углом расходятся ряды стульев, предназначенных для каноников, докторов права и богословия, а также для монахов ордена доминиканцев, участвующих в процессе в качестве заседателей. Внутри угла, образуемого стульями, – стол и табуреты для писцов. Неподалеку стоит тяжелый грубый табурет для подсудимой.
Все это находится на передней части сцены. Дальний конец зала соединен арками со двором замка. В непогоду арки завешиваются занавесями.
Если смотреть в глубину огромного зала с авансцены, то кресла судей и стол писцов окажутся справа, а табурет подсудимой слева. Справа и слева – сводчатые двери.
Солнечное майское утро.
Уорик входит через дверь справа; за ним Паж.
Паж (бойко). Ваша светлость, вы-то, верно, знаете, что нам здесь не место. Тут – церковный суд, а мы всего лишь – власть мирская.
Уорик. Знаю. Не угодно ли вам, ваше нахальство, отыскать епископа Кошона и намекнуть ему, что ему не мешало бы со мной поговорить до начала процесса.
Паж (уходя). Бегу, милорд.
Уорик. И веди себя как следует. Не смей его называть Постным Питером.
Паж. Ладно. Я его пощажу. Ну и всыпет же Дева нашему Постному Питеру перца под хвост!
Из той же двери навстречу ему появляется Кошон, за ним идут доминиканский монах и каноник, который держит обвинительное заключение.
Паж. Его преосвященство высоко преподобный Пьер Кошон, епископ из Бовэ, и еще два не менее преподобных господина.
Уорик. Убирайся и смотри, чтобы нам не мешали.
Паж. Бегу, милорд. (Убегает вприпрыжку.)
Кошон. С добрым утром.
Уорик. С добрым утром. Простите, я не имею удовольствия знать ваших спутников…
Кошон (представляя монаха, который стоит от него справа). Брат Жан Леметр из ордена Святого Доминика. Заместитель главного инквизитора, искореняющего ересь во Франции. Брат Жан, это – граф Уорик.
Уорик (Леметру). Добро пожаловать, ваше преподобие. К несчастью, у нас в Англии нет инквизитора, хоть его нам очень не хватает, особенно в таких случаях, как этот.
Инквизитор снисходительно улыбается и отдает поклон. Это кроткий с виду пожилой господин, но под мягкой внешностью скрывается жесткая властность.
Кошон (представляя каноника, который стоит от него слева). А это каноник Жан Д’Эстивэ. В гражданском суде его назвали бы прокурором.
Уорик. А, прокурор. Отлично. Рад с вами познакомиться.
Д'Эстивэ кланяется. Он еще молод, у него изысканные манеры, но за его внешним лоском есть что-то лисье.
Уорик. Вот уже больше девяти месяцев, как бургундцы взяли Деву в плен под Компьеном. Вот уже четыре месяца, как я купил ее у бургундцев, чтобы предать в руки правосудия. Вот уже почти три месяца, как она находится у вас в тюрьме по обвинению в ереси. Позвольте заметить, что вы слишком долго распутываете это совершенно ясное дело. Неужели процесс никогда не кончится?
Инквизитор (с улыбкой). Он еще и не начинался.
Уорик. Не начинался! Но вы занимались им одиннадцать недель!
Кошон. Все это время мы не бездельничали. Мы допросили Деву пятнадцать раз: шесть раз публично и девять с глазу на глаз.
Инквизитор (все с той же терпеливой улыбкой). Я, правда, присутствовал только на двух допросах. Сперва я не думал, что тут замешана ересь, и полагал, что это дело политическое, а Дева – военнопленная. Но, побывав на ее допросах, я должен признать, что это одно из самых крупных дел о ереси в моей практике. Теперь все в порядке; суд состоится сегодня утром. (Направляется к судейскому креслу.)
Кошон. Сию минуту, если вы, конечно, не возражаете.
Уорик (любезно). Что ж, это приятная новость. Не стану скрывать, наше терпение начало истощаться.
Кошон. Я так и понял – ваши солдаты открыто угрожают утопить тех, кто потворствует Деве.
Уорик. Неужели? К вам они, во всяком случае, расположены.
Кошон (строго). Напрасно. Я сделаю все, чтобы эту женщину судили беспристрастно. Суд церкви не фарс.
Инквизитор (вернувшись). Следствие велось со всей беспристрастностью, милорд. Деве не нужны адвокаты: Деву будут судить ее лучшие друзья, и они жаждут только одного – спасти ее душу от погибели.
Д'Эстивэ. Сэр, я обвинитель, и мой тяжкий долг – выступать против этой девушки. Но поверьте: я бы отказался и поспешил на ее защиту, если бы люди, далеко превосходящие меня в мудрости, учености, набожности и красноречии не пытались остеречь ее, объяснить, какая ей угрожает опасность и как просто ее избежать. (Внезапно увлекшись судебным красноречием, к отвращению Кошона и Инквизитора, которые слушали его до сих пор со снисходительным одобрением.) Некоторые смеют утверждать, будто мы действуем из ненависти. Бог свидетель, они лгут. Разве мы ее пытали? Разве не просили пожалеть себя, не умоляли: вернись в лоно церкви как заблудшее, но любимое дитя? Разве…
Кошон (сухо). Осторожней, каноник. Все, что вы говорите, – правда, но, если его сиятельство в нее поверит, я не отвечаю за вашу жизнь – да и за свою.
Уорик (с укором, но не отрицая сказанного). Вы несправедливы к нам, бедным англичанам. Но мы, действительно, не разделяем вашего благочестивого желания спасти Деву. Скажу откровенно: Дева должна умереть; этого требует политика. Очень жаль, но тут ничего не поделаешь. Если церковь ее отпустит…
Кошон (надменно). Если церковь ее отпустит – горе тому, кто тронет ее пальцем, будь он хоть сам император!
Инквизитор (деликатно). Граф Уорик, вам нечего беспокоиться об исходе процесса. У вас – непобедимый союзник; он решил еще тверже вашего, что она взойдет на костер.
Уорик. Разрешите узнать, кто этот драгоценный союзник?
Инквизитор. Сама Дева. Если не заткнуть ей рта, она сама вынесет себе десять смертных приговоров.
Д’Эстивэ. Совершенно верно. Волосы шевелятся на голове, когда я слышу, как богохульствует сия отроковица.
Уорик. Что ж, спасайте ее, если вы так уверены, что это ни к чему не приведет. (Глядя в упор на Кошона.) Будет жаль, если нам придется действовать без благословения церкви.
Кошон (презрение борется в нем с циническим восхищением.) А еще говорят, что англичане – лицемеры! Вы защищаете свои интересы даже с риском погубить свою душу. Я восхищаюсь вашим рвением, но побоюсь зайти так далеко. Ад меня пугает.
Уорик. Боясь ада, нельзя править Англией.
Кошон. Если вы удалитесь, суд приступит к делу.
Уорик круто поворачивается и выходит. Кошон садится в одно из судейских кресел; Д’Эстивэ занимает место у стола для писцов, перечитывая обвинительное заключение.
Кошон (усаживаясь поудобнее, небрежно). Ну и подлецы же эти английские вельможи!
Инквизитор (устраиваясь на втором судейском кресле слева от Кошона). Люди, обладающие светской властью, легко делаются подлецами. У них нет нужной подготовки и апостолической преемственности. А разве наши вельможи лучше?
В зал спешат заседатели епископального суда; впереди – капеллан де Стогамбер и де Курсель, молодой священник лет тридцати. Писцы садятся за стол; место против Д’Эстивэ остается свободным. Некоторые из заседателей рассаживаются, другие беседуют стоя, в ожидании начала суда. Возмущенный Стогамбер остается стоять, каноник – тоже, справа от него.
Кошон. Доброе утро, мессир де Стогамбер. (Инквизитору.) Капеллан кардинала английского.
Капеллан. Винчестерского. Я должен заявить протест, милорд.
Кошон. Опять? Вы только тем и занимаетесь.
Капеллан. Не я один. Меня поддерживает магистр де Курсель, парижский каноник.
Кошон. Ну, в чем дело?
Капеллан (сердито). Говорите вы, магистр де Курсель, я, видно, не заслужил доверия его преосвященства. (С обидой опускается на стул.)
Курсель. Мы с превеликим усердием составили обвинительный акт против Девы из шестидесяти четырех пунктов. А теперь мы узнали, что его сократили, даже не посоветовавшись с нами.
Инквизитор. Моя вина. Я глубоко восхищен усердием, которое вы вложили в эти шестьдесят четыре пункта; но, даже обвиняя еретика, надо знать меру. Вот почему я и счел за благо сократить ваши шестьдесят четыре пункта до двенадцати…
Курсель (точно громом пораженный). До двенадцати?!!
Инквизитор. Поверьте, и двенадцати пунктов вам будет совершенно достаточно.
Капеллан. Но самые важные пункты сведены чуть не к нулю. Вот, например, Дева сама заявила, что не только святые Маргарита и Екатерина, но и архангел Михаил говорили с ней по-французски. Это очень существенное прегрешение.
Инквизитор. Вы считаете, что они должны были говорить по-латыни?
Кошон. Нет, он думает, что им следовало говорить по-английски.
Капеллан. Конечно!
Инквизитор. Но все мы, кажется, согласились, что голоса, которые слышала Дева, были голосами злых духов; с нашей стороны было бы невежливо предполагать, что английский язык – родной язык дьявола. Итак, не будем на этом настаивать. Садитесь, господа, и давайте приступим к делу.
Все садятся.
Капеллан. А все-таки я протестую. Имейте это в виду.
Курсель. Неправильно, что вся наша работа пошла насмарку. Вот вам лишний пример колдовства, которое влияет даже на суд. (Садится справа от капеллана.)
Кошон. Вы намекаете, что и я подпал под влияние дьявола?
Курсель. Я ни на что не намекаю. Но мне кажется, что есть заговор: хотят скрыть, что Дева украла лошадь епископа Санлисского.
Кошон (с трудом сдерживая раздражение). Здесь не полицейский участок. Зачем нам тратить время на такую ерунду?
Курсель (встает, потрясенный). Вы называете ерундой лошадь епископа?
Инквизитор (вежливо). Магистр де Курсель, Дева уверяет, что щедро расплатилась за лошадь епископа, и не ее вина, если он не получил этих денег. Возможно, что это правда, и по этому пункту Дева может быть оправдана.
Курсель. Ну да, если бы лошадь была обыкновенная. Но ведь это лошадь епископа! Как же она может быть оправдана? (Садится, совершенно обескураженный.)
Инквизитор. Если мы будем обвинять Деву по пустякам, в которых она может оправдаться, – она ускользнет от нас по главному обвинению: в ереси. Поэтому прошу вас: Когда Деву приведут, не говорите обо всех этих кражах лошадей, плясках с детьми вокруг волшебных деревьев, молитвах над заколдованными колодцами и прочих пустяках, которые вы так усердно расследовали. Во Франции любую деревенскую девушку можно в этом обвинить: все они пляшут вокруг деревьев, молятся над заколдованными колодцами. А кое-кто не прочь бы и у папы лошадь украсть, представься им такой случай. Ересь, господа, ересь – вот за что мы ее судим. Держитесь за ересь, господа, и не беспокойтесь обо всем остальном.
Кошон. Мы посылали людей в ее родную деревню; они не нашли против нее ничего предосудительного.
Капеллан, Курсель (вскакивают, в один голос). Ничего предосудительного… Как!
Кошон (потеряв терпение). Молчите или говорите по очереди! (Испуганный Курсель падает на стул.)
Капеллан (садясь, дуется). То же самое утверждала и сама Дева в прошлую пятницу. Это ее слова.
Кошон. Жаль, что вы ей не вняли. Когда я говорю «ничего серьезного», это значит, что на вашем месте люди, мыслящие широко, не усмотрели бы ничего серьезного. Я согласен с моим коллегой инквизитором: нас должно занимать только обвинение в ереси.
Ладвеню (молодой, аскетического вида доминиканец, который сидит справа от Курселя). Но так ли уж много вреда в ереси этой девушки? Может, все дело в ее простодушии? Ведь и другие святые говорили то же, что и Жанна.
Инквизитор (отбрасывая вежливость, сурово). Брат Мартин, если бы вы сталкивались с ересью столько, сколько я, она не показалась бы вам такой невинной – даже в самом привлекательном и благочестивом наряде. Зачинщиками ереси всегда бывают люди, с виду хорошие. Добрая девушка, юноша, который, раздав все имущество бедным, живет в нищете и воздержании, делая людям добро, – вот они-то и распространяют ересь, которая погубит церковь и государство, если не будет без пощады искоренена. Архивы святой инквизиции полны историй, которых мы не открываем миру, потому что ни один честный человек, ни одна чистая женщина в них не поверит. И все начинается вот с таких святых простаков. Сколько раз я это видел. Запомните мои слова: женщина, которая одевается мужчиной, подобна мужчине, который сбрасывает с себя меха и ходит в одежде Иоанна Крестителя. А за ним неизбежно, как ночь за днем, следуют толпы исступленных мужчин и женщин, вообще ни во что не одетых. Если девушки отказываются от замужества и не идут в монастырь, а мужчины избегают брака и, обуянные похотью, принимают ее за божественное откровение, неизбежно, как лето за весной, идет за этим сперва многоженство, а потом и кровосмешение. Ересь сначала кажется невинной и даже похвальной, но кончается таким чудовищным омерзением и противоестественным грехом, что даже самые мягкосердечные из вас, увидев ее, как я ее видел, возмутились бы милосердием церкви в обращении с ней. Избегайте обычной ошибки – не считайте этих простаков лжецами и лицемерами. Они искренне верят, будто дьявольское вдохновение ниспослано небом, Так что не поддавайтесь естественному чувству сострадания, будьте начеку. Все вы, надеюсь, люди милосердные, иначе не посвятили бы себя служению нашему милосердному Спасителю. Вы увидите девушку чистую и набожную, ибо то, что говорят о ней наши английские друзья, не подтверждается уликами, между тем как есть масса свидетельств, что излишества ее – излишества благочестия и доброты, а не суетности и распутства. Она не из тех, чьи грубые черты говорят о бессердечии, а бесстыдство и непристойное поведение уличают их раньше, чем их обвинят. Дьявольская гордыня, приведшая ее на край преисподней, не отразилась на ее внешности. Как ни странно, вам это покажется, не исказила и ее натуры, если не считать этого особого предмета ее гордости. Так что вы увидите дьявольскую гордыню и природное смирение соседствующими в одной душе. Поэтому будьте бдительны. Не призываю вас ожесточить ваши сердца – упаси Бог. Ибо если осудим ее, наказание ей будет ужасным, и не видать нам милости Божией, коли сделаем это, допустив хоть каплю злобы в наши сердца. Если вы ненавидите жестокость – а всякому, кто не питает к ней ненависти, я приказываю, во имя спасения души своей, покинуть сей суд; если вы ненавидите жестокость, помните: нет ничего более жестокого по своим последствиям, чем терпимость к ереси. И помните, что ни один суд не бывает так жесток, как простой народ, заподозривший кого-то в ереси. В руках Святой Инквизиции еретику не грозит надругательство. Ему обеспечен справедливый суд, и, даже виновный, он избежит смерти, если раскается в своем грехе. Множеству еретиков инквизиция сохранила жизнь, забрав их у народа – народ же отдавал их в уверенности, что им воздастся по заслугам. Прежде, когда не было Святой Инквизиции, да и теперь в местах, где она еще не действует, людей, заподозренных в ереси, порой ошибочно и по невежеству, побивали камнями, рвали на куски, топили, сжигали в домах вместе с невинными детьми – без суда, без исповеди, без погребения, как собак. Сии дела жестоки и противны Богу. Господа, я милосерден по натуре и по своей профессии; и хотя она может показаться жестокой, я лучше сам взойду на костер, чем буду заниматься ею без веры в ее необходимость и высшее милосердие. Прошу вас проникнуться тем же духом. Гнев – плохой советчик; проститесь с гневом. Жалость порою еще опаснее; откиньте жалость. Но не забывайте о милосердии. Помните только, что справедливость превыше всего. Монсеньер, желаете вы что-нибудь сказать, прежде чем мы приступим?
Кошон. Вы все сказали и сказали лучше, чем мог бы я. Не представляю, чтобы кто-то в здравом уме не согласился с каждым вашим словом. Добавлю только одно. Грубые ереси, о которых вы говорили, отвратительны, но они подобны чуме: они свирепствуют какое-то время и затихают, потому что разумные люди ни под чьим влиянием не опустятся до наготы, многоженства и кровосмешения. Но сегодня в Европе ересь распространяется среди людей не скудоумных, не безумных. Наоборот, чем крепче ум, тем упорнее еретик. Ее не компрометируют ни дикие крайности, ни плотский разврат, но и она ставит личное мнение отдельного смертного выше мудрости и опыта церкви. Могучее здание католического мира не сотрясти ни голому безумцу, ни грехам Моава и Аммона. Но его может подорвать изнутри и низвергнуть в варварство архиересь, которую английский командующий называет протестантизмом.
Заседатели (шепотом). Протестантизм? Что это? О чем он? Новая ересь? Он сказал, английский командующий? (И т. д.).
Кошон. Какие меры принял граф Уорик для обеспечения порядка во время казни, на случай, если Дева не раскается, а народ возмутится из жалости к ней?
Капеллан. Можете не беспокоиться. У графа восемьсот вооруженных солдат – они охраняют ворота. Ей не ускользнуть из наших рук, даже если весь город будет на ее стороне.
Кошон (с отвращением). Не хотите прибавить: дай Бог, чтобы она раскаялась и очистилась от греха?
Капеллан. По-моему, это к делу не относится, но не буду спорить.
Кошон. Заседание суда объявляется открытым.
Инквизитор. Введите обвиняемую.
Ладвеню (кричит). Обвиняемую! Введите ее.
В сводчатую дверь позади места для подсудимой английская стража вводит Жанну. На ногах у нее кандалы. За стражей следуют палач и его подручные. Они подводят Жанну к табурету, снимают с нее кандалы и становятся за ее спиной. На Жанне черный костюм пажа. Долгое заключение и мучительные допросы оставили на ней след, но сила ее духа непоколебима: она предстает перед судом без смущения, без малейшего трепета, которого, казалось бы, требует от нее торжественная обстановка.
Инквизитор (ласково). Садись, Жанна. (Она садится на табурет.) Ты сегодня бледна. Тебе нездоровится?
Жанна. Благодарю вас, вообще-то я здорова. Но епископ прислал мне карпа, и мне от него стало нехорошо.
Кошон. Я приказал, чтобы рыба была свежей.
Жанна. Знаю, вы хотели мне добра, но я этой рыбы не перевариваю. А вот англичане думают, что вы хотели меня отравить…
Кошон, Капеллан (вместе). Что! Ничего подобного, ваше преосвященство!
Жанна (продолжая). Они-то сами решили сжечь меня, как ведьму; поэтому прислали врача. Лечить он меня не мог: ведьму ему лечить не дозволено, он все больше обзывал меня нехорошими словами. Зачем вы отдали меня в руки англичан? И почему меня приковали цепью к деревянной колоде? Вы боитесь, что я улечу?
Д’Эстивэ (резко). Женщина, тебе не положено задавать вопросов; вопросы будем задавать мы.
Курсель. Разве ты не пыталась бежать, когда не была закована, и не прыгала с башни высотой в шестьдесят футов? Как же ты осталась в живых, если не можешь летать, как ведьма?
Жанна. Тогда башня не была такой высокой. Она растет с каждым днем с тех пор, как вы меня об этом допрашиваете.
Д’Эстивэ. Зачем ты прыгнула с башни?
Жанна. Почем ты знаешь, что я прыгала?
Д’Эстивэ. Тебя нашли во рву. Почему ты хотела бежать?
Жанна. Почему люди бегут из тюрьмы, если им это удается?
Д’Эстивэ. Ты признаешь, что пыталась бежать?
Жанна. Конечно; и не в первый раз. Птица улетит, если оставить клетку открытой.
Д’Эстивэ (вставая). Она признается в ереси. Прошу суд обратить на это внимание.
Жанна. Какая же это ересь? Я – еретичка потому, что хочу бежать из тюрьмы?
Д’Эстивэ. Конечно. Если ты попала в руки церкви и хочешь самовольно из них вырваться, ты предаешь церковь. А это – ересь.
Жанна. Чепуха! Ну и дураком же надо быть, чтобы в это поверить!
Д’Эстивэ. Слышите, ваше преосвященство, как эта ведьма меня поносит за то, что я выполняю мой долг? (Садится в негодовании.)
Кошон. Я предупреждал тебя, Жанна: твоя дерзость тебе повредит.
Жанна. Но почему вы не хотите говорить со мной разумно? Тогда и я буду отвечать вам толком.
Инквизитор (прерывая). Процесс ведется неправильно. Допрос может быть начат лишь после того, как подсудимая поклянется на Священном Писании сказать всю правду.
Жанна. Вы требуете от меня этого который раз. А я повторяю снова и снова: я скажу только то, что относится к делу. Я не могу открыть вам всей правды. Вы ее и не поймете. Помните старую поговорку: тот, кто говорит слишком много правды, непременно будет повешен. И клясться вам я не стану.
Курсель. Ваше преосвященство, ее надо подвергнуть пытке.
Инквизитор. Слышишь, Жанна? Вот до чего доводит упрямство. Подумай, прежде чем отвечать. Ей показали орудия пытки?
Палач. Они готовы. Она их видела.
Жанна. Оторвите мне руки и ноги, оторвите душу от тела – больше, чем я сказала, я вам не скажу. Как еще вам объяснить? Я не выношу боли; если вы сделаете мне больно, я скажу все, что угодно. А потом от всего отрекусь; какая вам от этого польза?
Ладвеню. Пожалуй, она права. Лучше действовать милосердно.
Курсель. Но пытка у нас освящена обычаем!
Инквизитор. Не следует применять ее без разбору. Если обвиняемый кается добровольно, применение пытки не обязательно.
Курсель. Но это противоречит обычаям и нарушает порядок! Обвиняемая отказывается дать присягу.
Ладвеню (с отвращением). Вы хотите пытать эту девушку просто так, для своего удовольствия?
Курсель (сбитый с толку). Какое же это удовольствие? Таков обычай. Закон. Так всегда поступают.
Инквизитор. Так поступают те, кто не знает своего дела.
Кошон. Сегодня так не поступят, если в этом не появится необходимость. Пусть никто не посмеет сказать, будто мы судили ее на основе показаний, исторгнутых пыткой. Мы посылали к ней лучших проповедников и врачей, убеждали, умоляли ее спасти свою душу и тело от пламени. И не пошлем сейчас палача, чтобы он ее в это пламя бросил.
Курсель. Ваше преосвященство полны милосердия. Но какую ответственность вы на себя берете, отступая от обычной практики!
Жанна. Ну и балда же ты, магистр. Видать, у тебя один закон: делать все по старинке?
Курсель (вскакивая на ноги). Беспутная! Как ты смеешь называть меня балдой?
Инквизитор. Терпение, магистр, терпение: боюсь, что скоро вы будете отомщены, – и даже слишком сурово.
Курсель (бормочет про себя). Я тебе покажу балду! (Садится, расстроенный.)
Инквизитор. А пока что не надо обижаться на грубую речь этой пастушки.
Жанна. Вовсе я не пастушка, хоть и помогала пасти овец, как и все. Я могу потягаться в домашней работе с любой руанской дамой – я умею и прясть, и ткать…
Инквизитор. Не время тешить себя тщеславием, Жанна. Ты на краю гибели.
Жанна. Да разве я не наказана за тщеславие? Не будь я дурой и не носи в бою камзол из золотой парчи, тот бургундский солдат не стащил бы меня с коня, и я не сидела бы здесь перед вами.
Капеллан. Если ты так искусна в рукоделии – почему ты не сидела дома и не занималась им?
Жанна. Мало на свете женщин, чтобы заниматься рукоделием? Мое же дело могу сделать я одна.
Кошон. Довольно! Мы тратим время по пустякам. Жанна, я задам тебе очень важный вопрос. Не торопись с ответом: от него зависит твоя жизнь и спасение души. После всего, что ты сказала и сделала, дурного и хорошего, признаешь ли ты суд Божией церкви на земле? В особенности касательно тех слов и дел, которые вменяет тебе в вину обвинитель. Примешь ли вдохновленный свыше приговор над ними воинствующей церкви?
Жанна. Я верная дочь церкви. Я покорюсь ей…
Кошон (с надеждой). Покоришься?
Жанна. …если она не потребует невозможного.
Кошон с тяжелым вздохом откидывается в кресле. Инквизитор поджимает губы и хмурится. Ладвеню сокрушенно качает головой.
Д'Эстивэ. Она обвиняет церковь в безрассудстве, в том, что церковь требует невозможного.
Жанна. Если скажете: признай, что все твои слова и поступки, все твои видения и откровения – все они не от Бога, я не признаю этого ни за что на свете. Что повелел мне сделать Бог, от этого я не отрекусь. Что прикажет мне сделать еще, я сделаю вопреки любому и каждому. Вот про какую невозможность я говорю. Если церковь потребует, чтобы я пошла против Божьего веления, не покорюсь ни за что.
Заседатели (возмущенно). Церковь против воли Божией! Что ты городишь? Явная ересь. Это ни в какие ворота не лезет! (И т. д.)
Д'Эстивэ (бросив бумаги). Монсеньер, вам мало этого?
Кошон. Женщина, ты наговорила столько, что хватило бы на десять костров. Ты не слышишь наших предостережений? Не желаешь понять?
Инквизитор. Если воинствующая церковь говорит тебе, что твои видения и откровения посланы дьяволом, дабы обречь твою душу вечному проклятью, неужели не веришь, что церковь мудрее тебя?
Жанна. Верю, что Бог мудрее, и его веления исполню. И преступления мои, как вы их называете, я совершила по Его воле. Говорю вам: совершила по его приказу, и ничего другого сказать не могу.
Ладвеню (умоляюще). Ты не понимаешь, что говоришь. Хочешь погибнуть? Слушай. Ты веришь или нет, что должна подчиняться церкви Божией на земле?
Жанна. Да. Разве я это отрицала?
Ладвеню. Хорошо. Это значит или нет, что ты должна подчиняться нашему Господу, папе, кардиналам, архиепископам, епископам, которых здесь представляет его преосвященство?
Жанна. Да, но раньше всего Господу.
Д'Эстивэ. Так твои голоса велят тебе не покоряться воинствующей церкви?
Жанна. Они не велят ослушиваться церкви, но велят раньше всего служить Богу.
Кошон. И судить об этом не церкви, а тебе самой?
Жанна. А как мне еще судить, если не самой?
Заседатели (скандализованы, не находят слов). Ах!
Кошон. Ты осудила себя своими собственными устами. Мы стремились к твоему спасению, даже рискуя сами впасть в грех; мы снова и снова отворяли перед тобой двери, а ты захлопывала их перед лицом нашим и перед лицом самого Господа. Как смеешь ты притязать, будто находишься в состоянии благодати?
Жанна. Если нет, пусть Господь мне его ниспошлет, если да, пусть Он мне его сохранит.
Ладвеню. Это превосходный ответ, ваше преосвященство.
Курсель. Может быть, на тебя снизошла благодать, когда ты украла лошадь епископа?
Кошон (поднимаясь, в ярости). Черт бы побрал эту лошадь епископа! Мы должны рассудить дело о ереси, но стоит нам подойти к самой его сути, как нас отводят в сторону идиоты, которые не видят дальше лошадиного хвоста. (Дрожа от ярости, заставляет себя сесть.)
Инквизитор. Господа, господа! Цепляясь за мелочи, вы, не ведая того, становитесь защитниками Девы. Неудивительно, что его преосвященство потерял терпение… Что скажет прокурор?
Д’Эстивэ. Я почтительно позволю себе указать на сугубую важность двух страшных и богопротивных грехов, которых она и сама не отрицает. Во-первых, она общается со злым духом и потому является ведьмой. Во-вторых, она носит мужское платье, что непристойно и противоестественно; несмотря на все ваши уговоры, она не хочет сменить одежду, даже чтобы причаститься.
Жанна. Разве святая Екатерина – злой дух? А святая Маргарита? Или архангел Михаил?
Курсель. Почем ты знаешь, что дух, который являлся тебе, был архангелом? Разве он не являлся тебе нагим?
Жанна. Вы думаете, Богу не на что купить ему одежду?
Заседатели не в силах сдержать улыбок.
Ладвеню. Хорошо сказано, Жанна.
Инквизитор. Злой дух не настолько глуп, чтобы явиться молодой девушке в непотребном виде и тем себя выдать. Церковь говорит тебе, Жанна: эти духи были демонами – они хотели погубить твою душу. Признаешь ли ты слово церкви твоей?
Жанна. Я признаю слово посланцев Божьих.
Кошон. Несчастная, я снова спрашиваю: сознаешь ли ты, что говоришь?
Инквизитор. Напрасно вы боретесь за ее душу, ваше преосвященство: она сама отказывается от своего спасения. Перейдем к вопросу о мужской одежде. В последний раз: снимешь ты этот бесстыдный наряд и станешь одеваться, как подобает твоему полу?
Жанна. Не стану.
Д’Эстивэ. Это грех неповиновения, ваше преосвященство.
Жанна. Но голоса говорят мне, чтобы я одевалась как солдат.
Ладвеню. Жанна, Жанна, разве это не доказывает, что голоса твои – голоса злых духов? Да разве ангел Господень может дать такой бесстыдный совет?
Жанна. Ну конечно, это же говорит здравый смысл. Я была солдатом и жила среди солдат. Теперь я в плену, и меня стерегут солдаты. Если бы я одевалась как женщина, они бы и думали обо мне, как о женщине, и тогда что бы со мной стало? А когда я одеваюсь как солдат, они и видят во мне только солдата, и я могу жить с ними бок о бок, как жила дома со своими братьями. Вот почему Святая Екатерина говорит мне, чтобы я не одевалась в женское платье, пока она не разрешит.
Курсель. Когда же она разрешит?
Жанна. Когда вы заберете меня у английских солдат. Я должна быть в руках у церкви, а не сидеть день и ночь под охраной четырех солдат графа Уорика. Хотите, чтобы я в юбках перед ними щеголяла?
Ладвеню. Видит Бог, то, что говорит эта простушка, возмутительно, но в ее словах есть крупица здравого смысла.
Жанна. Если бы мы в деревне были такими же простаками, как вы в ваших дворцах, – скоро у вас не стало бы хлеба.
Кошон. Вот вам благодарность за то, что вы стараетесь спасти ее, брат Мартин.
Ладвеню. Жанна, мы все стараемся спасти тебя. Его преосвященство старается спасти тебя. Инквизитор не мог бы быть справедливее даже к родной дочери. Но ты ослеплена чудовищной гордыней и самомнением.
Жанна. Зачем вы так говорите? Не понимаю: разве я сказала что-нибудь дурное?
Инквизитор. Святой Афанасий сказал, что непонимающие обречены на вечные муки. Простоты мало. И даже доброты мало, такой, как ее понимают простаки. Простота помраченного не лучше простоты животных.
Жанна. В простоте животных, скажу вам, большая мудрость, а в ученой мудрости бывает большая глупость.
Ладвеню. Мы знаем это, мы не так глупы, как ты думаешь. Постарайся воздержаться от дерзких ответов. Видишь того, кто стоит у тебя за спиной? (Указывает на палача.)
Жанна (поворачивается и смотрит на палача). Палач? Но епископ сказал, что меня не станут пытать.
Ладвеню. Тебя не станут пытать – ведь ты призналась во всем, что нужно для твоего осуждения. А палач не только пытает: он исполняет смертный приговор. Палач, готово ли у тебя все для сожжения еретички?
Палач. Да, господин мой.
Ладвеню. Костер сложен?
Палач. Да. На рыночной площади. Англичане возвели его так высоко, что я не смогу приблизиться к ней и облегчить ей конец. Смерть будет мучительной.
Жанна (в ужасе). Вы хотите меня сжечь? Сейчас?
Инквизитор. Наконец-то ты это поняла.
Ладвеню. Восемьсот английских солдат дожидаются, чтобы отвести тебя на рыночную площадь, как только судьи произнесут приговор об отлучении тебя от церкви. Всего несколько мгновений отделяют тебя от твоей судьбы.
Жанна (озирается в отчаянии). О, Господи!
Ладвеню. Не отчаивайся, Жанна. Святая церковь милосердна. Ты еще можешь спастись.
Жанна (с надеждой). Да, мои голоса обещали, что меня не сожгут.
Кошон. Женщина, ты совсем рехнулась! Разве ты не видишь, что твои голоса тебя обманули?
Жанна. Это невозможно.
Кошон. Невозможно? Они привели тебя прямо к отлучению и костру, – он ждет тебя.
Ладвеню (настойчиво). Разве твои голоса сдержали хотя бы одно обещание с тех пор, как ты попала в плен под Компьеном? Дьявол предал тебя. А церковь открывает тебе свои объятия.
Жанна (в отчаяньи). Правда, правда: мои голоса меня обманули. Дьявол надо мной надсмеялся; нет во мне больше веры. Я старалась быть мужественной. Но только глупец сам пойдет в огонь. Господь от меня этого не потребует: ведь он одарил меня здравым смыслом.
Ладвеню. Да будет благословен Господь – он спас тебя в твой одиннадцатый час! (Спешит к свободному месту за столом писцов, хватает лист бумаги и принимается торопливо писать.)
Кошон. Аминь!
Жанна. Чего вы от меня хотите?
Кошон. Ты должна подписать торжественное отреченье от ереси.
Жанна. Подписать? Я не умею писать.
Кошон. Но ты подписывала немало писем.
Капеллан (прислушиваясь к разговору с нарастающим беспокойством). Ваше преосвященство, что это значит? Вы позволите этой женщине ускользнуть от нас?
Инквизитор. Закон есть закон, капеллан де Стогамбер. А вы знаете закон.
Капеллан (вскакивая от места, красный от ярости). Я знал, что нельзя доверять французам. (Общий шум. Он старается его перекричать.) Я знаю, что сделает граф Уорик, когда услышит, как вы его предали. Восемьсот солдат стоят у ворот – они позаботятся о том, чтобы сжечь эту проклятую ведьму, несмотря на все ваши уловки.
Заседатели (одновременно с ним). Что такое? Что он сказал? Он обвиняет нас в измене? Возмутительно! Нельзя доверять французам?! Слыхали?! Кто он такой? Он спятил! Он пьян!
Инквизитор (поднимаясь). Тише! Господа, прошу вас, потише. Капеллан, вспомните о вашем священном сане, о том, где вы. Приказываю вам сесть.
Капеллан (упрямо скрестив руки, с подергивающимся лицом). Я не желаю садиться.
Кошон (Инквизитору). Этот человек не первый раз обзывает меня предателем.
Капеллан. А ты и есть предатель. Все вы предатели. Вы чуть не на коленях молите эту проклятую ведьму отречься от ереси.
Инквизитор (садясь, невозмутимо). Если вы не желаете сесть, вам придется стоять, вот и все.
Капеллан. Я не желаю стоять. (Бросается на стул.)
Ладвеню (поднимаясь с листом бумаги в руке). Ваше преосвященство, вот отреченье, которое должна подписать Дева.
Кошон. Прочтите ей его.
Жанна. Не утруждайтесь. Я подпишу и так.
Инквизитор. Женщина, ты должна знать, к чему прикладываешь руку. Читайте, брат Мартин. А вы помолчите.
Ладвеню (читает, не торопясь). «Я, презренная грешница, Жанна, по прозвищу Дева, признаю, что тяжко провинилась по следующим статьям. Я уверяла, что получаю откровение от Бога, ангелов и блаженных святых, и нечестиво отвергала советы церкви, которая предупреждала меня, что меня искушает нечистая сила. Я впала в богопротивное кощунство, нося неподобающее платье наперекор церковным канонам. Я остригла волосы наподобие мужчины и, нарушив долг женщины, подняла меч, подстрекая людей убивать друг друга, богохульно приписывая грехи свои Всемогущему Господу. Признаю, что согрешила, призывая к мятежу, поклоняясь идолам, отказывая в повиновении властям, предаваясь гордыне и ереси. От всех этих грехов я ныне отрекаюсь, смиренно воздавая благодарность вам, ученые богословы, наставившие меня на путь истины и благодати Господней. Я никогда более не возвращусь к заблуждениям своим и останусь под сенью святой церкви, в послушании святейшему отцу нашему римскому папе. Во всем этом клянусь именем Бога всемогущего и Священным Писанием, в чем и подписываюсь».
Инквизитор. Ты поняла, Жанна?
Жанна (не слушая). Чего ж тут не понять?
Инквизитор. И все это правда?
Жанна. Кто его знает? Если бы это не было правдой, на рыночной площади не разложили бы костра.
Ладвеню (беря со стола перо и книгу, спешит к ней, чтобы она не успела снова себя оговорить). Позволь, дитя мое, я буду водить твоей рукой. Бери перо. (Она берет перо, и они вместе пишут, пользуясь книгой как столом.) Ж. А. Н. Н. А. Так. Теперь сама поставь свой знак.
Жанна (ставит свой знак и возвращает перо; ее мучает внутренняя борьба: дух ее восстает против рассудка и тела). Вот!
Ладвеню (кладя на стол перо и с поклоном вручая отреченье Кошону). Благослови Господь, заблудшая овца вернулась к своему стаду; Пастырь наш радуется ей больше, чем девяноста девяти праведникам. (Возвращается на свое место.)
Инквизитор (принимая бумагу от Кошона). Объявляем, что тебе больше не грозит отлучение от церкви.
Жанна. Спасибо.
Инквизитор. Но поскольку ты тяжко согрешила против Господа и святой церкви, мы дадим тебе возможность покаяться и оградим тебя от новых искушений. Для блага души твоей приговариваем тебя к пожизненному заключению: до скончания земных дней ты будешь вкушать хлеб горести и пить из чаши скорби.
Жанна (поднимаясь в изумлении и страшном гневе). Пожизненное заключение! Значит, меня не отпустят на свободу?
Ладвеню (удивленно и слегка обиженно). Освободить тебя, дитя мое, после всего, что ты натворила! Как ты могла это подумать?
Жанна (бросается к столу, хватает отречение и рвет его в клочья). Зажигайте костер. Лучше умереть, чем жить, как крыса в норе!
Ладвеню. Жанна! Жанна!
Жанна. Голоса мои были правы, говоря, что вы глупцы (все глубоко оскорблены), что я не должна верить вашим красивым словам, вашему милосердию. Вы обещали мне жизнь; и вы солгали. (Возмущенные возгласы.) Вы думаете, жить – это значит не быть покойником? Меня не страшит жизнь на хлебе и воде; когда я требовала большего? Вода сладка, если она из чистого источника. Но вы хотите отнять у меня светлое небо, поля и цветы; вы хотите заковать мои ноги в цепи, чтобы я никогда больше не могла скакать на коне и взбираться на горы; вы хотите, чтобы я дышала смрадной тьмой. Я могу расстаться с боевым конем; влачить жизнь, одетая в юбку, и, как другие женщины, глазеть на знамена и трубы, на рыцарей и солдат, которые едут мимо меня на войну, если мне только дано будет слышать шелест ветра в ветвях, песнь жаворонка в сияющем солнечном небе, блеяние ягнят в морозное утро и колокольный звон, несущий на крыльях ветра ангельские голоса. Вот без этого я не в силах жить. А если вы хотите все это отнять у меня, я знаю: дело ваше – дело дьявола! А мое дело – дело божеское.
Заседатели (в великом смятении). Кощунство! Кощунство! В нее вселился дьявол. Она говорит, что мы – орудие дьявола! Чудовищно!
Д’Эстивэ (покрывая общий шум). Она закоренелая еретичка и недостойна нашего милосердия. Я требую ее отлучения.
Капеллан (палачу). Зажигай костер. В огонь ее, в огонь!
Палач и его подручные поспешно уходят во двор.
Ладвеню. Нечестивая, если дело твое – дело божеское, почему Бог не освободит тебя?
Жанна. Я – дитя Его, а вы – недостойны, чтобы я жила среди вас. Вот мое последнее слово.
Ее хватают солдаты.
Кошон (поднимаясь). Погодите.
Все замирают. Мертвое молчание. Кошон поворачивается к Инквизитору и смотрит на него вопросительно.
Инквизитор кивает головой. Стоя, они торжественно один за другим произносят слова отлучения.
Кошон. Объявляем тебя закоренелой еретичкой.
Инквизитор. Отверженной от единой церкви.
Кошон. Отсеченной от ее тела.
Инквизитор. Зараженной проказой ереси.
Кошон. Орудием дьявола.
Инквизитор. Объявляем тебя отлученной.
Кошон. Ныне мы изгоняем тебя, предаем светской власти.
Инквизитор. И призываем светскую власть проявить умеренность и обойтись без отсечения членов. (Садится.)
Кошон. Но если ты подашь знак истинного раскаяния, мы разрешим брату Мартину дать тебе святое причастие.
Капеллан. На костер ведьму! (Бросается к ней и помогает солдатам вывести ее из зала.)
Жанну уводят во двор. Заседатели поднимаются в беспорядке и следуют за солдатами – все, кроме Ладвеню, который сидит, закрыв лицо руками.
Кошон (собиравшийся сесть, снова приподнимается). Нет, это не по правилам. Светские власти должны прийти сюда и принять ее от вас здесь.
Инквизитор (тоже встал). Этот человек неисправимый дурень.
Кошон. Брат Мартин, проследите, чтобы все было сделано по правилам.
Ладвеню. Мое место возле нее. (Поспешно уходит.)
Кошон. Англичане просто невозможны: они сейчас бросят ее в огонь без всяких околичностей. Смотрите! (Он указывает на двор, где теперь можно разглядеть мерцающее зарево, которое румянит майский день. В зале остались только Кошон и Инквизитор.) Надо их остановить.
Инквизитор (спокойно). Да, но не будем торопиться.
Кошон (не двигаясь с места). Нельзя терять ни минуты.
Инквизитор. Мы действовали по правилам. Если англичанам хочется их попирать, не наша вина. Как знать – маленькое нарушение процедуры может нам очень пригодиться в будущем. А сейчас – чем скорее все кончится, тем лучше для нас всех. И для этой несчастной тоже.
Кошон (с облегчением). Вы правы. Увы! – придется взглянуть на это тягостное зрелище.
Инквизитор. Ко всему привыкаешь. Привычка – великое дело. Я привык к кострам: они быстро догорают. Однако горестно видеть невинное существо, раздавленное двумя жерновами: церковью и государством.
Кошон. Невинное?!
Инквизитор. Конечно, она совершенно невинна. Она ни слова не поняла из всего, о чем мы здесь говорили. Страдают всегда невинные. Пойдем, не то мы опоздаем к концу.
Кошон (идет вместе с ним к выходу). Не огорчусь. Я не так привычен к этим зрелищам, как вы.
Навстречу им входит Уорик.
Уорик. Я помешал? Мне казалось, что все уже кончено. (Делает движение к двери.)
Кошон. Не уходите, милорд. Все и в самом деле кончено.
Инквизитор. Казнью распоряжаемся не мы, но желательно, чтобы мы присутствовали при кончине. Так что, с вашего позволения… (Кланяется и уходит через двор.)
Кошон. У нас есть сомнения, граф Уорик, соблюдены ли англичанами все формальности казни.
Уорик. А у нас были сомнения, епископ из Бовэ, имеете ли вы право судить. Ведь этот город не в вашей епархии. Но если вы готовы нести за это ответственность, я согласен ответить за все остальное.
Кошон. Мы оба ответим перед Богом. До свиданья.
Уорик. До свиданья.
С минуту они смотрят друг на друга с нескрываемой враждой. Потом Кошон уходит вслед за Инквизитором. Уорик оглядывается и, заметив, что он один, зовет слуг.
Уорик. Эй, слуги! (Тишина.) Эй, вы там! (Тишина.) Эй! Брайан, маленький мошенник, где ты? (Тишина.) Стража! (Тишина.) Все пошли любоваться, как она горит, даже мальчишка.
Тишина нарушается чьим-то плачем и воплями.
Уорик. Какого черта?..
Со двора, весь в слезах, шатаясь, словно умалишенный, появляется Капеллан; это он издает жалобные звуки, поразившие Уорика.
Капеллан спотыкается о табурет, на котором сидела, подсудимая, и падает на него с душераздирающим рыданием.
Уорик (подойдя к нему и похлопывая его по плечу). Что случилось, мессир Джон? В чем дело?
Капеллан (хватая его за руки). Христа ради, помолитесь за мою грешную душу.
Уорик (успокоительно). Ладно, ладно, помолюсь. Успокойтесь. Тише…
Капеллан (рыдая). Я ведь не злой человек.
Уорик. Никто этого и не говорит.
Капеллан. Я не знал, что это такое.
Уорик (холоднее). Вот оно что! Значит, вы были там?
Капеллан. Я не понимал, что делаю. Распалился как дурак. И теперь буду проклят на веки вечные.
Уорик. Чепуха. Конечно, это угнетает, но ведь не вы ее приговорили.
Капеллан (жалобно). Я это допустил. Если бы я знал, я вырвал бы ее у них из рук. Вы ничего не знаете, вы не видели. Легко болтать, когда сам не видишь, легко взвинчивать себя словами – так приятно подливать масла в огонь. А когда ты наконец увидел своими глазами, когда это зрелище обожгло твою душу, перехватило дыхание, разорвало сердце, тогда… тогда… (Падает на колени.) Господи, дай мне забыть! Помнишь, как она взывала к тебе из пламени?
Уорик (решительно поднимая его на ноги). Послушай, ты! Возьми себя в руки. Не то об этом будет болтать весь город. (Грубо швыряет его на стул.) Если у тебя не хватает духу глядеть на такие вещи, почему ты не поступаешь, как я, и не держишься в тени?
Капеллан (потрясенный и покорный). Она попросила дать ей крест. Какой-то солдат протянул ей связанные крест-накрест палочки. Слава Богу, он хоть был англичанин. И я бы мог это сделать, но я трус, дурак, остервенелый пес… Но он… он был англичанин…
Уорик. Глупец! И его сожгут, если попы его схватят.
Капеллан (его сотрясают рыдания). Над ней смеялись. Их было немного. Но это были французы. Я знаю, это были французы.
Уорик. Молчи! Сюда идут. Возьми себя в руки.
Ладвеню возвращается со двора; он несет золотой крест, взятый им из церкви. Лицо его словно застыло.
Уорик. Говорят, все кончено, брат Мартин?
Ладвеню (загадочно). Нам не дано знать. Может быть, это только начало.
Уорик. Что вы хотите сказать?
Ладвеню. Я взял крест из церкви, чтобы она смотрела на него до самого конца; у нее ведь были только палочки, которые она положила себе на грудь. Когда огонь подобрался к ней совсем близко, она увидела, что и я могу сгореть; тогда она сказала мне, чтобы я поберег себя и сошел с костра. Думать в последнюю минуту об опасности, грозящей другому… Когда мне пришлось отойти с крестом, она подняла глаза к небу. И не верю, что там было пусто. Я твердо верю, что Спаситель явился ей во всей своей милосердной славе. Она воззвала к Нему и умерла. Нет, она не может быть во власти дьявола! Вы увидите: это не конец, а начало. (Уходит вслед за рыдающим капелланом.)
Уорик. Боюсь, на людей это скверно подействовало.
Ладвеню. Да, на некоторых. Я слышал смех. Простите меня за такие слова, но подозреваю, что смеялись англичане.
Капеллан (вскочив). Нет! Здесь лишь один англичанин опозорил свою страну – бешеный пес де Стогамбер. (С криком бросается к выходу.) Пусть его пытают! Пусть его сожгут! Пойду молиться над ее прахом. Я Иуда! Удавлюсь!
Уорик. Брат Мартин, скорее за ним. Он что-нибудь с собой сотворит, Скорее.
Ладвеню, подгоняемый Уориком, устремляется вон.
В дверь позади судейских кресел входит палач. Повернувшись, Уорик сталкивается с ним лицом к лицу.
Уорик. Кто ты такой?
Палач (с достоинством). Вы меня, милорд, не тыкайте. Я – главный палач Руана, а быть палачом – большое искусство. Я пришел доложить, что ваши приказания выполнены.
Уорик. Простите, господин палач. Постараюсь, чтобы вы не остались в накладе, лишившись, так сказать, сувениров. Вы ведь дали слово, что от нее ничего не останется: ни волоска, ни ноготка, ни косточки?
Палач. Да, но сердце ее не хотело гореть в огне. Все, что от нее осталось, брошено в реку. Вы больше о ней не услышите.
Уорик (вспомнив слова Ладвеню, с кривой усмешкой). Ничего о ней не услышу? Гм… Кто знает!
Эпилог
Тревожная ветреная ночь в июне 1456 года. После долгой жары в небе полыхают зарницы. В одном из своих замков в постели лежит король Франции Карл VII, – прежде – дофин, а ныне – Карл Победоносный, 51 года от роду. Кровать, к которой ведут две ступеньки, стоит на возвышении и не заслоняет высокого стрельчатого окна посредине комнаты. На балдахине вышит королевский герб. Если бы не балдахин и не огромные пуховые подушки, кровать ничем бы не отличалась от застеленной на ночь широкой тахты с валиком у изголовья. Таким образом, лежащий в постели отлично виден с ее подножья.
Карл не спит, он читает, а вернее, разглядывает картинки в Боккаччио, переведенном Фуке, подтянув колени повыше и положив на них книгу. Возле кровати слева – столик с изображением Мадонны, освещенным свечами из цветного воска. Стены от потолка до пола завешены разрисованными панно, которые время от времени колышутся от сквозняка. Красные и желтые тона этих панно кажутся отсветами пожара, когда складки оживают под порывами ветра.
Дверь в спальню находится слева от Карла, в самом дальнем от него углу. Под рукой у короля красиво сделанная и ярко раскрашенная колотушка.
Карл переворачивает страницу. Дальние куранты негромко отбивают полчаса. Карл захлопывает книгу, отбрасывает ее, хватает колотушку и с силой ее вертит, поднимая оглушительный треск. Входит постаревший на 25 лет Ладвеню; вид у него странный и словно застывший; в руках по-прежнему все тот же золотой крест.
Карл явно его не ждал: он выскакивает с той стороны кровати, что подальше от двери.
Карл. Кто вы? Где мой постельничий? Что вам надо?
Ладвеню (торжественно). Я принес тебе счастливую весть. Возрадуйся, король, ибо корона твоя теперь не запятнана. Справедливость наконец восторжествовала.
Карл. О чем вы говорите? Кто вы?
Ладвеню. Я – брат Мартин.
Карл. А кто такой, да простит мне ваше преподобие, этот брат Мартин?
Ладвеню. Я держал этот крест, когда Дева гибла в огне. С тех пор прошло двадцать пять лет – почти десять тысяч дней. И каждый из этих десяти тысяч дней я молил Бога воздать должное дочери Своей на земле, как Он воздал ей на небе.
Карл (успокоившись, садится на край постели). А-а, теперь припоминаю. Я о вас слышал. У вас, говорят, пунктик насчет Девы. Вы были на следствии?
Ладвеню. Я дал свидетельские показания.
Карл. Все кончено?
Ладвеню. Кончено.
Карл. Благополучно?
Ладвеню. Пути Господни неисповедимы.
Карл. Поясните.
Ладвеню. На том суде, где святую отправили на костер, как еретичку и колдунью, говорили правду, закон соблюли, милосердие проявили небывалое, и не было допущено никаких несправедливостей – кроме одной, последней и страшной. Лживого приговора и безжалостного пламени. На том слушании, с которого я сейчас пришел, были бесстыдные лжесвидетельства, бесчестные судьи, клевета на умерших, которые выполняли свой долг, как им велела совесть, трусливые увертки, показания, основанные на пустопорожних сплетнях, которым не поверил бы и подпасок. И вот из этого судебного фарса, позорящего церковь, из этой оргии лжи и глупости, как солнце из‑за горы, выплыла истина: белые ризы невинности очищены от копоти костра, безгрешная объявлена святой, сердце, уцелевшее в пламени, названо святыней, великая ложь похоронена, несправедливость исправлена перед всеми людьми.
Карл. Друг мой, важно одно: теперь они больше не смогут твердить, что меня короновала ведьма и еретичка. Все хорошо кончилось, чего же еще? Ее полностью реабилитировали? Я им ясно сказал: чтобы без дураков.
Ладвеню. Было торжественно объявлено, что судили ее злобные и продажные судьи нечестиво и пристрастно. Но ведь это неправда!
Карл. Какая разница? Ведь судьи мертвы.
Ладвеню. Приговор, вынесенный ей, отменен, аннулирован и опровергнут, признан никогда не существовавшим, не имевшим ни цели, ни смысла.
Карл. Отлично. Никто теперь не сможет опорочить мое помазание. Подумай только, что это для меня значит.
Ладвеню. Я думаю о том, что это значило бы для нее.
Карл. Вот и зря. Никто не знал, что для нее имеет значение. Она ведь была так не похожа на других. Но вот что я тебе скажу. Если бы ты мог вернуть ее к жизни, не прошло бы и полугода, как ее сожгли бы снова, хоть ее сейчас и обожают. И ты бы снова протягивал ей крест… Поэтому… (Крестится.) Упокой Господи ее душу! А мы с тобой давай-ка лучше займемся своими делами.
Ладвеню. Отныне путь мой будет лежать вдали от дворцов, и я не стану больше беседовать с королями. (Поворачивается и решительно выходит из комнаты так же, как он в нее вошел.)
Карл (провожая его до дверей, кричит ему вслед). Тем хуже для тебя, святоша! (Возвращается на середину комнаты и говорит с иронией.) Забавный тип! Как он сюда попал? Где мои слуги? (В нетерпении подходит к постели и вертит трещотку. Порыв ветра, ворвавшийся в окно, беспокойно шевелит занавеси. Свечи гаснут. Он кричит в темноту.) Эй, вы! Ступайте сюда и затворите окна. (Вспышка зарницы освещает стрельчатое окно. В нем виден чей-то силуэт.) Кто здесь? Кто это? На помощь! (Гром. Карл вскакивает в постель и прячется под одеялом.)
Голос Жанны. Спокойно, Карлуша, не бойся! Чего это ты расшумелся? Все равно тебя не услышат. Ты ведь спишь. (Она неясно видна в зеленоватом сиянии возле кровати.)
Карл (выглядывая из-под одеяла). Жанна! Ты – привидение, а, Жанна?
Жанна. Едва ли даже и привидение, Карлуша. Разве бедная сожженная девушка может кому-нибудь привидеться? Я только сон, который тебе снится. (Свет становится ярче, теперь они оба явственно видны. Карл садится.) Э, да ты постарел, милый.
Карл. Я стал старше. Я и в самом деле сплю?
Жанна. Ты заснул над этой глупой книжкой.
Карл. Вот смешно!
Жанна. А то, что я умерла, разве не смешно?
Карл. А ты и правда умерла?
Жанна. Мертвее не бывают, парень.
Карл. Подумайте! А тебе было больно?
Жанна. Что именно?
Карл. Когда тебя жгли.
Жанна. Ах, это! Хорошенько не помню. Сначала, кажется, было больно, а потом все спуталось, я была уже не в себе… Но ты-то не вздумай играть с огнем, не воображай, будто не обожжешься! Как ты тут жил?
Карл. Да не так уж плохо. Можешь себе представить – ведь я теперь хожу в походы, выигрываю сраженья… Лезу в ров, по пояс в грязи и крови, а потом по крепостной лестнице, под градом камней и потоками горячей смолы. Совсем как ты.
Жанна. Не может быть! Неужто я и вправду сделала из тебя мужчину?
Карл. Теперь я – Карл Победоносный. Пришлось стать храбрым. Из‑за тебя. Да и Агнесса тоже вселила в меня немножко мужества.
Жанна. Агнесса? Какая такая Агнесса?
Карл. Агнесса Сорель. Женщина, в которую я влюбился. Она мне снится часто. А вот ты мне раньше ни разу не снилась.
Жанна. И она умерла, как я?
Карл. Да. Но она была не такая, как ты. Она была красивая.
Жанна (смеясь от всего сердца). Ха-ха! Да, меня никто не мог назвать красоткой. Я была грубая, ничего не попишешь: такое уж наше солдатское дело. Лучше мне было бы сразу родиться мужчиной. Вам бы со мной было меньше хлопот. Но я парила в облаках, и будь я даже мужчиной, все равно не дала б вам покоя, покуда вы копошились в пыли. Ты мне расскажи, что тут у вас случилось после того, как вы, умники, не придумав ничего лучшего, превратили меня в кучку пепла?
Карл. Судебная палата объявила, будто твои судьи были злобны, продажны, нечестивы, пристрастны.
Жанна. Они-то? Ничего подобного. Такие же честные, но жалкие идиоты, как и все, кто сжигает людей только за то, что они лучше их самих.
Карл. Приговор твой отменен, уничтожен, аннулирован и опровергнут, признан никогда не существовавшим, не имевшим ни цели, ни смысла.
Жанна. Да, но меня-то сожгли! Разве они могут меня оживить?
Карл. Вряд ли они поторопились бы тебя оживлять. Но они постановили воздвигнуть на том месте, где был твой костер, красивый крест, в знак вечной памяти и спасения твоей души.
Жанна. Память и душа делают крест святым, а не крест освящает память и душу. (Отворачивается, словно забыв о его присутствии.) Я переживу этот крест – меня будут помнить и тогда, когда люди забудут, где стоял город Руан.
Карл. Опять ты со своим самомнением! Ничуть не переменилась. Могла бы сказать мне спасибо за то, что я восстановил наконец справедливость.
Кошон (появляясь в окне). Лжец!
Карл. Вот благодарю вас!
Жанна. Уж не Пьер ли это Кошон? Как ты поживаешь? Здорово тебе везло с тех пор, как ты меня сжег?
Кошон. Нет справедливости на земле.
Жанна. Все еще мечтаешь о справедливости? Погляди, что твоя справедливость сделала со мной. Но ты-то жив или помер?
Кошон. Умер. Обесчещен. Меня преследовали и в могиле. Посмертно отлучили от церкви, выкопали мой труп и бросили в яму.
Жанна. Твой труп не страдал от лопаты так, как страдало мое живое тело от огня.
Кошон. Но то, что они сделали со мной, наносит удар авторитету правосудия разрушает веру, подрывает устои церкви. Когда невинных убивают именем закона и причиненное им зло пытаются исправить клеветой на прямодушных, тогда земная твердь под ногами у людей и духов превращается в трясину…
Жанна. Ладно, Пьер, надеюсь, что люди станут лучше, вспоминая обо мне. А они, может, и не запомнили бы меня, если бы ты меня не сжег.
Кошон. Но они будут помнить не только о тебе, но и обо мне. Во мне они будут видеть, как зло торжествует над добром, ложь над правдой, жестокость над милосердием. Мужество будет пробуждаться при мысли о тебе и никнуть при мысли обо мне. Но, видит Бог, я делал то, что считал нужным, и не мог поступить иначе.
Карл (вылезая из-под одеяла и горделиво усаживаясь на краю кровати). Ну да, это вы, высоконравственные люди, всегда причиняете больше всего неприятностей. Возьмите меня. Я не Карл Добрый, не Карл Мудрый и не Карл Храбрый. Почитатели Жанны могут назвать меня даже Карлом Трусливым за то, что я не вытащил ее из огня. Но я причинил вреда куда меньше вас. Вы выдумываете, как бы вам весь мир поставить дыбом, а я принимаю его таким, как есть, и крепко стою на земле обеими ногами. Скажите, был ли когда-нибудь во Франции лучший король? В своем, конечно, роде.
Жанна. Ты, Карлуша, и в самом деле король? Разве англичане ушли?
Дюнуа (выходя из‑за панно слева от Жанны. В этот миг свечи загораются снова и бросают веселые блики на латы и камзол Дюнуа.) Я сдержал свое слово. Англичане ушли.
Жанна. Благодарение Богу! Теперь моя прекрасная Франция стала райской землей. Расскажи мне, как ты сражался, Жак. Ты вел в бой войска? До последнего вздоха?
Дюнуа. Я не умер. Тело мое почивает мирным сном в моей постели, но дух мой с тобой.
Жанна. Но ты дрался по-моему, Жак? Рискуя жизнью и смертью, с сердцем, полным душевного подъема, хоть и смиренным, и лишенным всякой злобы, с одною мыслью о Франции свободной и французах счастливых… Ты воевал по-моему, Жак?
Дюнуа. Я воевал как мог, чтобы победить. Но победа приходила, когда я воевал по-твоему, Жанна. Ты была права, девочка. Может, я не должен был позволять попам тебя сжечь, но я был так занят войной и не хотел лезть в церковные свары. Да и кому было бы легче, если бы нас сожгли обоих?
Кошон. Ну да, вините во всем священников. Меня уже не тронут ваши похвалы и порицания, и потому говорю вам, что мир спасут не священники и не солдаты, а Господь и Его святые. Воинствующая церковь послала эту женщину на костер, но пламя ее костра обратилось в сияние церкви торжествующей.
Часы бьют три четверти. Грубый мужской голос поет солдатскую песню.
Трам пам пам пополам Солонину я вам дам. Не тяни кота за хвост, Поспешай за ней на мост.Отодвинув занавес, входит довольно разбойничьего вида английский солдат.
Дюнуа. Какой бездарный трубадур научил тебя этой дурацкой песне?
Солдат. И вовсе не трубадур. Мы сами сочинили ее на ходу. Мы не благородные господа и не трубадуры. Наша песня, можно сказать, народная, она от сердца. Смысла чуть, а шагать помогает. Слуга покорный, господа и дамы. Кто тут поминал святого?
Жанна. А ты разве святой?
Солдат. Да, госпожа, прямехонько из ада.
Дюнуа. Святой в аду?
Солдат. Да, ваше превосходительство. Меня отпускают на день в отпуск. Каждый год. Награда за доброе дело, которое я совершил.
Кошон. Негодяй! Неужели за всю свою жизнь ты совершил только одно-единственное доброе дело?
Солдат. Право, не знаю, не считал. Но это дело мне зачли.
Карл. Какое же именно?
Солдат. Да ерунда, сущая ерунда, вы даже не поверите…
Жанна (прерывает его, подходя к кровати, на которую она усаживается рядом с Карлом). Он связал две палочки и дал их одной бедной девушке, которую собирались сжечь.
Солдат. Верно. Кто тебе это сказал?
Жанна. Неважно. А ты бы ее узнал, если бы встретил снова?
Солдат. Вот уж нет. На свете столько девчонок! И все они хотят, чтобы их помнили. Но эта была, наверно, очень славная девушка, не зря ведь меня пускают за нее каждый год в отпуск. И вот ровно до двенадцати часов ночи я – святой, к вашим услугам, благородные дамы и господа.
Карл. А после двенадцати?
Солдат. После двенадцати мне надо назад, туда, где держат таких, как я.
Жанна (поднимаясь). Назад! Тебе, тому, кто дал девушке крест?
Солдат (извиняясь за слабость, недостойную солдата). Она меня попросила. А они собирались ее сжечь. Что ж, разве у нее было меньше прав на крест, чем у них? Ведь похороны-то были ее, а не их. Что ж я сделал плохого?
Жанна. Я тебя не упрекаю. Мне просто невтерпеж думать о том, как тебя мучают.
Солдат (весело). Да разве это муки, барышня? Нам бывало и хуже.
Карл. Как? Хуже, чем в аду?
Солдат. Пятнадцать лет войны с французами. Это вам похуже, чем ад. (Жанна, воздев руки у изображения Божьей Матери, прячется от зрелища человеческого горя.) Теперь мне ничего, подходяще. А раньше отпускной день тянулся как дождливое воскресенье. Потом вроде как привык.
Карл. А как там у вас в аду?
Солдат. Да ничего, вам даже понравится. Весело. Словно ты всегда пьян, а пить не надо и деньги целы. И компания высший сорт – разные там императоры, папы, короли… Дразнят меня – зачем я дал этой молоденькой бабочке крест, да мне что? Я за словом в карман не полезу: ежели бы она, – говорю я им, – не имела больше прав на этот самый крест, чем вы, быть бы ей с вами в аду! Что на это скажешь? Они только глазами хлопают да зубами скрипят от злости – мода у нас в аду такая… Эй, кто там у вас стучится?
Все прислушиваются. Слышен негромкий, но настойчивый стук.
Карл. Войдите.
Дверь отворяется, и входит старенький священник, седой, сгорбленный, с глуповатой, беззлобной улыбкой. Шаркая, он мелкими шажками подходит к Жанне.
Пришелец. Простите меня, добрые господа и дамы. Не обращайте на меня внимания, прошу вас. Я всего-навсего бедный английский приходской священник. Прежде, правда, я был капелланом. У самого кардинала, лорда Винчестера. Разрешите представиться: Джон Стогамбер, к вашим услугам. (Оглядывает их всех вопросительно.) Вы что-то сказали? К несчастью, я туговат на ухо. И временами – как бы это выразиться? – немного не в своем уме. Но ведь деревня у нас маленькая, живет в ней немного народа, и всё люди простые.
Жанна. Бедный старый Джон! До чего ты дошел.
Капеллан. Я своим говорю: будьте осторожней. Говорю: когда увидите глазами то, о чем думаете, думать станете по-другому. Вас это потрясет. Сильно потрясет. А они отвечают: «Да, батюшка, мы знаем, что ты добрый человек, мухи не обидишь». Меня это очень утешает, ведь я по натуре совсем не жесток.
Солдат. А кто сказал, что ты жестокий?
Капеллан. Видите ли, когда-то я совершил очень жестокий поступок, ведь я не знал тогда, что такое жестокость. Не видел ее воочию, понимаете? Все дело в том, чтобы увидеть жестокость своими глазами.
Кошон. Разве страданий Господа нашего Иисуса Христа для вас было мало?
Капеллан. Что вы, что вы! Конечно, мало. Я их видел на картинке, читал о них в книжках, разве этого достаточно! Меня спас не Христос, а одна молодая женщина, которую на моих глазах сожгли дотла. Ах, как это было ужасно, просто ужасно. Но меня это спасло. С тех пор я стал другим человеком, хотя немножко и не в себе.
Кошон. Неужели же Христос должен в муках погибать каждые сто лет, чтобы спасать души тех, у кого нет воображения?
Жанна. Что ж, если я спасла не только его, но и всех тех, к кому он был бы жесток, если бы не был жесток ко мне, значит, меня сожгли не напрасно.
Капеллан. Причем тут вы? Глаза мои ослабели, я не могу различить ваши черты, но вы совсем не та – ведь ее превратили в пепел. Она почила вечным сном, умерла, уснула, умерла…
Палач (выходя из‑за балдахина кровати). Она куда живее тебя, старик. Сердце ее не хотело гореть, и оно не хотело тонуть. Я был мастером своего дела, но я не мог убить Деву. Она и сейчас ходит по свету живее всех живых.
Уорик (выходя из‑за занавеса с другой стороны кровати и подходя к Жанне). Мадам, разрешите поздравить вас с реабилитацией. Боюсь, что должен перед вами извиниться.
Жанна. Какая чепуха! Не стоит извинений.
Граф Уорик (любезно). Костер был мерой чисто политической. К вам лично, поверьте, у нас не было никаких претензий.
Жанна. Я не питаю к вам злобы, милорд.
Уорик. Вот и отлично! Очень любезно с вашей стороны, сразу видно хорошее воспитание. Но я все же настаиваю на своем; я должен глубоко перед вами извиниться. Надо сказать, правду – политические мероприятия часто становятся политическими ошибками; в данном случае это был просто скандал! Ваш дух победил нас, мадам, несмотря на весь наш хворост. Из‑за вас и я попаду в историю, хотя обстоятельства, которые нас с вами связывают, нельзя назвать слишком для меня лестными.
Жанна. Да уж прямо сказать, не очень, смешной ты человек.
Уорик. А все же, когда вас произведут в святые, вашим нимбом вы будете обязаны мне, точно так же, как своей короной этот удачливый монарх обязан вам.
Жанна (отворачиваясь от него). Я никому ничем не обязана. Но подумать только: я – святая! Что скажут святые Катерина и Маргарита, если с ними рядышком взгромоздится какая-то деревенщина?
Перед ними, в углу, внезапно появляется господин духовного вида, в черном фраке и цилиндре по моде 1920 года. Все они смотрят на него с изумлением, а потом разражаются громким смехом.
Господин. Чему приписать, господа, ваше неуместное веселье?
Уорик. Поздравляю вас. Вы изобрели необыкновенно смешной наряд.
Господин. Не понимаю. Вот вы действительно вырядились словно на маскарад. Я же – одет как подобает.
Дюнуа. Всякая одежда – это маска, кроме собственной шкуры.
Господин. Простите, я пришел по серьезному делу, и мне недосуг вести фривольные разговоры. (Вынимает бумагу и принимает сухой официальный тон.) Меня послали объявить вам, что дело о Жанне д'Арк, известной под именем Девы, будучи подвергнуто специальному рассмотрению под эгидой епископа Орлеанского…
Жанна (прерывая). А! Меня еще помнят в Орлеане.
Господин (подчеркнуто, чтобы показать, как он возмущен тем, что его прервали). …епископа Орлеанского, в связи с притязаниями оной Жанны д'Арк быть канонизированной в святые…
Жанна (прерывая его снова). Да никогда я не имела на это никаких притязаний!
Господин (как прежде). …церковь рассмотрела эти притязания тщательно и в обычном порядке и, присовокупив оную Жанну последовательно к числу Почитаемых и Благословенных…
Жанна (хихикнув). Это я-то – почитаемая!
Господин. …в конце концов признала, что, будучи наделенной высокими добродетелями и лично удостоенной видениями свыше, означенной Почитаемой и Благословенной Жанне всесильная церковь наша дарует право называться Святой Жанной.
Жанна (вне себя от восторга). Святой Жанной!
Господин. И каждого тридцатого дня, мая месяца, в годовщину смерти сей благословеннейшей дщери Господней, в каждой католической церкви отныне и вовеки будет отслужено в память о ней специальное молебствие; разрешается также посвящать ее памяти особые часовни и помещать на алтаре каждой такой церкви ее изображение. А также преклонять колена и возносить молитвы…
Жанна. Нет, нет, это святая должна преклонить колени. (Падает на колени. На лице ее по-прежнему восторг.)
Господин (прячет бумагу и отступает назад). Ватикан. Мая шестнадцатого дня, тысяча девятьсот двадцатого года.
Дюнуа. (поднимает Жанну). Эх ты, бедная моя святая! Понадобилось полчаса, чтобы тебя сжечь, и четыреста лет, чтобы восстановить справедливость.
Капеллан. Сэр, когда-то я был капелланом кардинала Винчестерского. У вас его почему-то называли кардиналом английским. Очень порадовало бы меня и моего господина, если бы в Винчестерском соборе тоже поставили хорошую статую Девы. Как думаете, поставят?
Господин. Поскольку здание временно находится в руках приверженцев английской ереси, я ничего не могу обещать.
За окном возникает видение статуи в Винчестерском соборе.
Капеллан. Смотрите, смотрите! Винчестер!
Жанна. А это я, что ли? Нет, я покрепче стояла на ногах.
Видение гаснет.
Господин. Власти, правящие Францией в текущий момент, просили меня упомянуть, что злоупотребление установкой памятников Деве угрожает уличному движению. Я выполняю эту просьбу из уважения к названным властям, но в интересах церкви считаю своим долгом указать, что конь Девы не служит большей помехой уличному движению, нежели любой другой конь.
Жанна. А! Я рада, что они не забыли моего коня. (Появляется видение статуи перед Реймским собором.) Неужели вон та девчонка – это я?
Карл. Это – Реймский собор, где ты меня короновала. Значит, там должна быть и ты.
Жанна. А кто сломал мой меч? Мой меч не мог быть сломан. Это – меч Франции.
Дюнуа. Не расстраивайся. Меч можно починить. А вот душа твоя не сломлена, а ты – душа Франции.
Жанна. Меч мой еще победит, меч, который никогда не проливал крови. Люди сожгли мое тело, но я увидела Бога в душе своей.
Кошон (став перед ней на колени). Девушки в полях славят тебя; ибо ты обратила их взоры ввысь, и они увидели, что нет ничего между ними и небом.
Дюнуа (на коленях). Умирающие солдаты славят тебя, потому что ты щит славы между ними и божьим судом.
Архиепископ (на коленях). Иерархи славят тебя, потому что ты спасла веру, втоптанную в грязь из‑за их суетных устремлений.
Уорик (на коленях). Хитроумные советники славят тебя, потому что ты рассекла путы, которыми они оплели свои души.
Капеллан (на коленях). Слабоумные старики славят тебя на смертном одре, потому что их грех против тебя стал им благословением.
Инквизитор (на коленях). Судьи в слепоте и оковах закона славят тебя за то, что отстояла зоркость и свободу души.
Солдат (на коленях). Грешники из ада славят тебя – ты показала им, что огонь негасимый – это святой огонь.
Палач (на коленях). Пытающие и казнящие славят тебя, ибо ты показала, что их руки неповинны в смерти души.
Карл (на коленях). Скромные славят тебя – ты взяла на себя героическое бремя, которое им не по плечу.
Жанна. Чего это вы? Слишком уж вы меня славите. Не забудьте, я – святая, а святые умеют творить чудеса. Вот теперь и скажите: восстать мне из мертвых и вернуться к вам снова живой? (Внезапная темнота скрывает стены комнаты. Все вскакивают на ноги в полнейшей растерянности. В полумраке видны только контуры фигур и очертания кровати.) Чего ж вы молчите? Неужто мне снова гореть? Неужто никто из вас не хочет моего воскресения?
Кошон. Еретики должны быть мертвы. А кто из смертных отличит святого от еретика? Не испытывай нас. (Уходит так же, как пришел.)
Дюнуа. Прости нас, Жанна, но мы еще недостаточно для тебя хороши. (Уходит.)
Уорик. Мы искренне раскаиваемся в нашей маленькой несправедливости, однако государственная необходимость, даже тогда, когда она толкает нас на ошибки, все же превыше всего… Вы меня уж извините… (Бочком незаметно уходит.)
Архиепископ. Если даже вернешься, я все равно не стану таким, каким ты меня считала. Одно могу сказать: благословить тебя не смею, но надеюсь когда-нибудь сподобиться твоего благословения. А пока что… (Уходит.)
Инквизитор. Я, ныне мертвый, свидетельствовал в тот день, что ты неповинна. Но не вижу, как можно в нынешних обстоятельствах обойтись без инквизиции. Так что… (Уходит.)
Капеллан. Пожалуйста, не возвращайтесь, вы не должны возвращаться! Я хочу умереть с миром. Даруй нам мир во дни наши, Господи. (Уходит.)
Господин. Возможность вашего воскресения не была предусмотрена при вашей канонизации. Я должен съездить в Ватикан и получить новые указания. (Чопорно кланяется и удаляется.)
Палач. Я мастер своего дела и не должен ронять честь профессии. И, в конце концов, главное для меня – жена и дети. Мне надо подумать.
Карл. Бедная моя старушка! Все они от тебя убежали. А что остается мне? Пойду-ка я назад в постель. (Ложится.)
Жанна (печально). Спокойной ночи, Карлуша.
Карл (бормочет в подушку). Спокойной ночи… (Засыпает. Кровать окутывает темнота.)
Жанна (солдату). Ты один остался со мной, мой верный товарищ. Чем утешишь ты Святую Жанну?
Солдат. Чего они все сто́ят, эти короли и полководцы, епископы, стряпчие и все прочие. Бросят вас, не моргнув, во рву истекать кровью. Но что бы они из себя ни корчили, дорога им одна: в ад. Видишь ли… (Усаживается, чтобы разъяснить ей свои взгляды поподробнее, но часы вдалеке начинают бить полночь.) Прости, пожалуйста, но меня ждут… (Выходит на цыпочках.)
Последние лучи света собираются в белое сияние, одевающее Жанну. Часы продолжают отбивать полночь.
Жанна. О Боже, создавший эту прекрасную землю, скажи мне, когда наконец она будет годна для своих праведников? Сколько еще ждать, о Боже, сколько еще ждать?

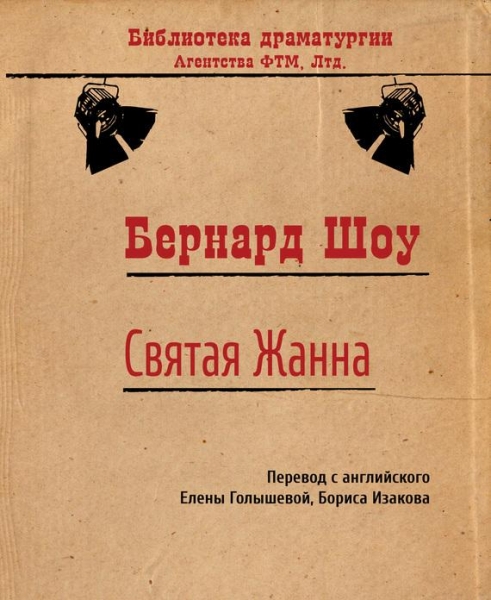



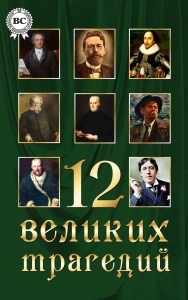
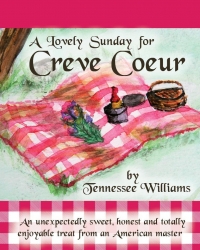

Комментарии к книге «Святая Жанна», Бернард Шоу
Всего 0 комментариев